Русская мифология: Мир образов фольклора [Неонила Артемовна Криничная] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Неонила КРИНИЧНАЯ РУССКАЯ МИФОЛОГИЯ: МИР ОБРАЗОВ ФОЛЬКЛОРА
Памяти Владимира Яковлевича Проппа



Российская Академия наук Карельский научный центр Институт языка литературы и истории Рецензенты: Кандидат филологических наук Э. С. Киуру Кандидат исторических наук А. П. Косменко Доктор филологических наук, профессор Е. М. Неёлов Книга иллюстрирована рисунками В. И. ПУЛЬКИНА Полевые зарисовки выполнены в экспедициях 1960–1980-х гг., прорисовки — по материалам древнерусской иконографии Форзац художника Тамары ЮФА © Криничная Н. А., 2004 © Пулькин В. И., 2004 © Академический Проект, оригинал-макет, оформление, 2004 © Гаудеамус, 2004

Часть I Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт
Н. Заболоцкий «Голубиная книга»
Введение

Русская мифология — совокупность изначальных представлений наших предков о тайнах бытия. Представления эти определили формирование образов и символов в различных видах и жанрах фольклора, по-своему отразили повседневный уклад крестьянской общины. В мифологии — смысл обрядов, обычаев, верований. Ею во многом определяется менталитет русского народа. Древние представления, подчас нами не узнаваемые, пульсируют в сознании современного человека, в литературе и искусстве. Целостная система мифологических символов мировосприятия наиболее полно отражена в устной речи. Если до сих пор объектом нашего рассмотрения служили предания, или народная историческая проза[1], то данная книга посвящена изучению смежного жанра — мифологических рассказов. Имеются в виду былички, бывальщины, легенды, поверья.
Теоретические предпосылки
Общность той и другой жанровых систем несказочной фольклорной прозы — преданий и мифологических рассказов — коренится, на наш взгляд, в общности их истоков и прежде всего в архетипе, сформировавшемся в недрах ритуализированного повествования о тотемном предке, давшего мощный импульс для развития названных жанров. В одной из своих ипостасей — первопричины, творящей человека и определенную общность — тотемный предок имеет такие функции, которые в трансформированном виде отчасти унаследованы персонажами народной исторической прозы. Вместе с тем аналогичными функциями оказались наделенными и мифические существа: духи-«хозяева», сопряженные с ними божества судьбы, соотнесенные с теми и другими ведуны и чародеи. Они даруют новых членов семейно-родовой общины, программируют судьбу людей, покровительствуют или противодействуют им. Эти же мифические существа следят за соблюдением установленного порядка в социуме и универсуме и — в случае нарушения — вновь и вновь воссоздают его из хаоса. В качестве другой первопричины, связанной преимущественно с природой, тотемный предок дает жизнь, начало определенной разновидности животных, растений и даже предметов, с которыми он идентифицируется и в которые воплощается. Он же заботится о воспроизводстве того или иного вида в природе. Как мы уже отмечали[2], возможности тотемного предка, представленного в ипостаси первопричины, творящей природу, наиболее последовательно разовьются в быличках и бывальщинах о духах-«хозяевах» различных стихий или о людях, обладающих способностью к оборотничеству. Связь с животными и растениями, воплощение в них и управление каждого своей стихией станет существенным наполнением этих мифологических образов. Животные и растения фигурируют в быличках и бывальщинах как эманации духов-«хозяев» и оборотней или как их атрибуты. Аналогичные элементы обнаруживаются и в преданиях, которые не утратили признаков общности истоков и былого синкретизма с мифологическими рассказами. В древнейших мифах место, куда погрузился в конце своего жизненного пути тотемный предок, осмысляется как центр средоточия душ тотемов (животных, растений) и — соответственно — душ людей, т. е. потенциальных членов определенной тотемической группы. В мифологических рассказах и поверьях, преемственно связанных с древнейшими мифами, такому тотемическому центру в известном смысле уподобляются сакральные локусы, маркированные знаками духов-«хозяев», божеств судьбы или медиаторов между мирами, равно как и их христианизированных дублеров. В качестве сакральных локусов в быличках, бывальщинах, легендах и поверьях могут фигурировать баня, домашний очаг, передний угол, порог, перекресток, лесной «маточник». Это места инкарнации душ предков в будущих потомков. Дух-«хозяин», прежде всего домашний, осмысляется как своеобразное коллективное вместилище, родовое хранилище душ. Он же и их распорядитель. Дух-«хозяин» оказывается причастным к рождению каждого нового члена семейно-родовой общины. В предании аналогичные представления едва ли не полностью изжиты, однако рудименты их при специальном анализе подчас узнаваемы. Несмотря на то, что предания и мифологические рассказы как основные составляющие народной несказочной прозы имеют общие истоки и в процессе бытования активно взаимодействуют, все же они функционируют как достаточно самостоятельные жанровые системы, каждая из которых имеет свой аспект и способ изображения, каждая из которых отвечает различным общественным запросам — историческим и религиозным (без строгой дифференциации между ними). Самоопределение мифологических рассказов начинается с периода преодоления тотемистических и нарастания иных, пришедших на смену языческих верований, в которых обожествляется уже не тотемный предок, а собственно предок-родоначальник, глава семейно-родовой общины, состоящей из многих поколений сородичей, живых и умерших; со временем обожествляются и сами умершие. Культ предков, по словам Н. И. и С. М. Толстых, является «единственно всеобщим, полно и хорошо представленным, повсеместно довольно четко реконструируемым у славян»[3]. В свое время этот культ стал одной из важнейших частей всех мировых религий. Самоопределение былички и бывальщины закрепляется по мере формирования в традиции образов духов-«хозяев» и сопряженных с ними персонажей, преемственно связанных с образом тотемного предка. Этнографическим субстратом мифологической прозы послужило и обожествление основных элементов природы: воды, огня, воздуха, земли, — которые в мифологии и фольклоре, равно как и в ранних философско-медицинских учениях, осмысляются в качестве первоэлемента всего сущего, в том числе и человека, обожествляемых и почитаемых, о чем нам доводилось писать ранее [4]. В основе становления мифологических рассказов лежит и развитая сеть анимистических представлений, отчасти уже утративших тотемистические признаки, хотя до конца так и не преодолевших их. С анимистическими верованиями тесно связаны представления о жизненной силе, или душе, и ее вместилищах[5], о возможности инкарнаций и реинкарнаций[6], о смерти как предпосылке к новому рождению и о рождении как акте воскресения, о двойнике человека, или его духе-хранителе, душе, и, наконец, представления о духах стихий, животных, растений, предметов. Формирование мифологических рассказов происходит и под влиянием представлений о взаимопроницаемости двух миров, «того», параллельного, «тонкого», откуда являются духи-«хозяева», и «этого», населенного людьми, которым также при определенных условиях удается преодолеть границы иного мира и даже возвратиться из него. Причем эманациями мифического существа, заключающего в себе магическую и некую энергетическую силу, или же знаками-символами его локуса могут служить в «этом» мире вполне материальные вещи, содержащие в себе, однако, ту или иную духовную субстанцию. Мифологические рассказы в известной мере основываются и на космогонических воззрениях. Не случайно явление некоторых духов-«хозяев», активизация ведунов и чародеев обусловлены определенными фазами луны, положением созвездий, стимулированы тем или иным солнцеворотом. На формирование мифологических рассказов оказали влияние и верования, связанные с календарными праздниками, изначально языческими, затем в своем большинстве христианизированными. Годовому циклу, и особенно солнцевороту, подвластны не только люди, но и духи-«хозяева», медиаторы между мирами, пришельцы из небытия. Активизация мифических существ наблюдается в период Святок, Великого (Чистого) четверга, Пасхи, Ивана Купалы. С обрядово-мифологической точки зрения наибольшую значимость приобретают отрезки времени, отмеченные знаком перехода-«порога», что соответствует концепции переходных обрядов, разработанной А. ван Геннепом[7] и В. Тэрнером[8]. Причем различные уровни лиминальности нередко наслаиваются друг на друга. Становление мифологической прозы происходит в контексте разнообразных обрядов и обычаев: календарных, семейных, бытовых, промысловых, аграрных, лечебных, мантических, метеорологических и пр. Основные идеи и образы вербального творчества дублируются в других видах народного искусства, реализуясь в декоре домов, в орнаментике вышивки, в резьбе и росписи предметов домашнего обихода, а также в сюжетах иконописи и в облике культовых памятников. Былички и бывальщины подпитываются мощной языковой стихией, сохранившей в своих диалектах наименования даже тех мифологических персонажей, которые со временем были утрачены фольклорной традицией[9]. Нельзя недооценивать и некоторого влияния литературы, и особенно древнерусской, на мифологию, хотя оно несоизмеримо с противоположным воздействием. Формирование мотивов и сюжетов народной мифологической прозы происходит в контексте общего фольклорного процесса, отчасти определяемого одними и теми же истоками, отчасти последующим межжанровым взаимодействием, как и спецификой каждого из компонентов этого процесса. Вот почему аналогичные образы, мотивы, коллизии можно встретить и в былине, и в сказке, и в причитании, и в частушке, а также в загадке, пословице, поговорке, приговоре, присловье. И все же по своему этнографическому субстрату наиболее близкими мифологическим рассказам оказались заговоры, где, по сути дела, действуют те же, хотя уже и христианизированные персонажи. Если былички, бывальщины призваны актуализировать верования, обосновать необходимость соблюдения определенных обрядов и объяснить их смысл, то заговоры, заклинания, приговоры называют адресата, к которому обращаются за помощью, содержат описание магических действ и их назначения. Кроме того, на формировании быличек, бывальщин, легенд, поверий сказался весь кодекс этических норм и запретов, сложившийся в условиях большой патриархальной семьи и спроецированный на мифического предка-родоначальника, проявившегося, в частности, в образах духов-«хозяев». Взаимоотношения человека с тем или иным языческим божеством строго регламентировались. Существовали четко определенные, фиксированные традицией и освященные обрядом (обычаем) правила поведения, при которых каждое слово, движение, действующие лица и атрибуты, пространственные и временные показатели, вплоть до знаков-символов соотнесения важнейших актов крестьянской жизни с космосом, приобретают магический характер. На становление мифологических рассказов повлиял и весь комплекс народно-философских представлений о мироустройстве и месте человека в мироздании (своего рода концепция микрокосма в макрокосме, основанная на идее всеединства сущего), о судьбе, предопределении, роке и жизненном цикле. На формирование образов оказали влияние древнейшие дуалистические представления, переосмысленные и перекодированные в эпоху христианства. И, наконец, содержание мифологических рассказов в значительной мере определяется традиционным крестьянским бытом. Таким фоном обеспечивается видимость реальности контактов с духами-«хозяевами», поддерживается вера в господство ведунов над бытием человека — социума — универсума.Вопросы терминологии
Помимо теоретических предпосылок следует рассмотреть и вопрос о терминологии и связанных с ней понятиях, которыми нам предстоит оперировать в процессе исследования мифологической прозы. В первую очередь речь пойдет о термине быличка. Э. В. Померанцева, открывшая названную тему в отечественной фольклористике, приводит следующее определение: «Былички — суеверные рассказы о сверхъестественных существах и явлениях»[10]. Такое определение, на наш взгляд, может быть уточнено и дополнено. Былички — это мифологические рассказы, основанные на вере в возможность инкарнации потусторонних мифических существ в условиях сакрального хронотопа и явлении их из «того» мира в «этот» либо, наоборот, проникновения людей в мир духов. Вместе с тем они же основаны на представлениях о людях, обладающих магическими способностями. Так или иначе эти мифологические рассказы повествуют о последствиях подобных контактов для бытия человека и мира, социума и универсума. И в том и в другом случае персонажи обладают совокупностью функций, особенностью реализации которых определяется специфика сюжета фольклорного произведения и, в первую очередь, мифологического образа. Само собой разумеется, что этнографическим субстратом быличек являются языческие верования и обряды, хотя переплетение их с христианскими, напластование их друг на друга в условиях двоеверия встречается довольно часто. Вслед за Э. В. Померанцевой мы различаем былички и бывальщины[11]. Если былички — это мемораты, основанные на личных впечатлениях самого рассказчика от встречи со сверхъестественным существом, то бывальщины — это уже фабулаты, изначальные сюжеты которых освоены и трансформированы (иногда довольно существенно) фольклорной традицией. К быличкам и бывальщинам примыкают поверья. Мы характеризуем их как суждения, основанные на суеверных представлениях и заключающие в себе тот или иной этнографический субстрат: чаще всего это предписание из кодекса общения с мифическими существами. Будучи бессюжетными вербальными текстами, они тем не менее заключают в себе потенцию к развертыванию мифологического сюжета, в котором, однако, мотивировка действия может быть уже утрачена, тогда как в поверье она сохраняется. Сложнее обстоит дело с легендами. Они формируются с принятием христианства и содержат новации, обусловленные соответствующими верованиями. Само слово «легенда» обозначает «собрание литургических отрывков для ежедневной службы»[12]. Однако надо учитывать, что в легенде отразились не столько христианские, сколько народно-христианские представления. И последние подчас не только не соответствуют, но даже противоречат христианским заповедям, представляя собой сложный конгломерат элементов старой и новой веры. Формируясь вслед за быличкой, бытуя рядом с ней, наслаиваясь на нее, легенда использует в процессе своего сюжетосложения уже готовые стереотипы, разработанные традицией модели, хотя, несомненно, и привносит в свою структуру те сугубо специфические признаки, по которым легенда и быличка всегда различимы. Повествуя о Боге и святых, апостолах, пророках, мучениках, утверждая народно-христианские этические нормы, легенда предстает как жанровая разновидность, которая наряду с быличкой или бывальщиной, равно как и этиологическим рассказом, входит в единую систему мифологической прозы, взятой в целом. Архетипы мотивов, активно реализующихся в быличках, бывальщинах, легендах, зарождались в древнейшей мифологии и развивались преимущественно уже в рамках фольклорной традиции. Со временем они оказались способными преодолеть и ту грань, которая отделила язычество от христианства. Претерпев, по выражению А. Н. Веселовского, «христианскую перелицовку» и постепенно все более наполняясь обытовленным содержанием, они вошли в фольклорную практику. Разумеется, этот процесс не был прямолинейно поступательным: контуры архетипа иногда отчетливее обозначаются в легенде, чем в быличке и бывальщине, или подчас в поздних произведениях они могут оказаться более различимыми, чем в ранних, и т. п. Архетипы не просто первообразы. Это универсальный язык человечества, представленного всеми поколениями, которые когда-то жили, ныне живут и которые будут жить в новом тысячелетии. В самом становлении и бытовании архетипов, с неизбежной закономерностью осуществляющих идею преемственности, варьирующуюся лишь в определенных пределах, есть нечто мистическое. Это язык вне времени и пространства. Быть может, именно он и уподоблен Богу в известном изречении апостола Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн. 1.1). Ведь, согласно Евангелию от Луки, «Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у него все живы» (Лука. 20. 38). Действие определенных архетипов, скорректированное на новом уровне человеческого сознания, распространяется и на мифологическую прозу, независимо от ее принадлежности к той или иной локальной либо этнической традиции. Географические, социально-экономические, исторические условия, этнокультурные традиции лишь привносят в конкретные воплощения стереотипов соответствующие реалии, которыми и определяется национальный или локальный колорит данного фольклорного произведения. Структура же и семантика сюжетообразующих мотивов остается в сущности неизменной, хотя в силу господства тех или иных реалий и может подвергаться некоторой корректировке.История собирания и изучения
Мифологическая проза, как и любой другой фольклорный жанр, имеет свою историю собирания, неотделимую от истории изучения. Наиболее ранними по времени фиксации из интересующих нас материалов можно считать те отголоски мифологических сюжетов и образов, которые дошли до нас в летописях, в житиях святых, в сочинениях, проповедях, посланиях, поучениях и доношениях древнерусских церковных деятелей, а также в документах судебных процессов и прочих письменных источниках. Начало же последовательного освоения рассматриваемых нами материалов было положено лишь в XVIII в. Именно тогда были предприняты первые попытки привести в систему накопившиеся к тому времени сведения о мифологических персонажах и сюжетах, обрядах и верованиях, расположив их «в азбучном порядке». По сути освоение мифологической прозы началось с составления словарей по славяно-русской мифологии. Так, в 1767 г. М. Д. Чулков издал «Краткий мифологический лексикон». В дополненном виде этот «Лексикон» появился в 1782 г. под названием «Словарь русских суеверий». При новом переиздании он получил наименование «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных и простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч.» (М., 1786). Аналогичный словарь под названием «Описание древнего славенского языческого баснословия, собранного из разных писателей и снабденного примечаниями» (СПб., 1768) опубликовал М. В. Попов. Наряду с материалами, почерпнутыми из «Древней Российской истории» М. В. Ломоносова (СПб., 1766), он использовал и другие книжные источники. Традиция создания такого рода справочников была продолжена и в начале XIX в. В 1804 г. в Геттингене на немецком языке, а в 1807 и 1810 гг. в Москве на русском языке вышел словарь «Славянская и российская мифология» А. С. Кайсарова. Новый шаг в направлении классификации накопившегося материала был сделан Г. А. Глинкой. Именно ему принадлежит попытка сгруппировать славянских богов в зависимости от соотнесенности с природными стихиями, распределив их по рубрикам: «Боги выспренние», «Боги земные», «Преисподние или подземные боги», «Водные боги». Остальные мифологические персонажи были отнесены к рубрикам: «Полудухи», «Богатыри». Характеризуя названные издания, отметим, что все они черпают материал главным образом из различного рода письменных источников, а не из бытующей в то время живой традиции, как хотелось бы. Признаем и то, что интересующим нас в первую очередь персонажам так называемой «низшей» мифологии они уделяют не так уж много места. Основное же внимание обращено на официальных дохристианских богов (Перуна, Дажьбога, Хорса и пр.), которые, как заметил уже Е. В. Аничков, автор книги «Язычество и Древняя Русь», не имели глубоких корней в народной традиции. И тем не менее была осуществлена классификация и типологизация имеющегося материала: он был соотнесен с античными мифами, с верованиями других народов. Благодаря названным работам как раз и создается хронологическая дистанция длиной в два и более столетия, которая отделяет раннюю и позднюю фиксацию тех или иных мифологических сюжетов и образов, равно как и обрядов, верований. В результате мы имеем уникальную возможность не только заглянуть в глубь мифологической традиции, но и реконструировать утраченные элементы в структуре анализируемого сюжета или образа либо, наоборот, констатировать их устойчивость на протяжении столь длительного периода. Факты, свидетельствующие о дальнейшем освоении русской мифологической прозы и, еще в большей степени, ее контекста, обнаруживаются и в трудах И. П. Сахарова, И. М. Снегирева, А. В. Терещенко, вышедших в свет в 30–40-е гг. XIX в.[13] Основываясь преимущественно на описании традиционного крестьянского быта с его календарем, обрядами, обычаями, праздниками, играми, верованиями и поверьями, они содержат и некоторые сведения, подчас уникальные, о характере того или иного мифического существа, о временно´й приуроченности его активизации и проявлениях. Использование собственно фольклорных текстов, услышанных в живой традиции, для описания различных мифических существ: домовых, водяных, русалок, ведьм, знахарей, оборотней и прочих персонажей и явлений — наблюдается в публикациях В. И. Даля, относящихся к 40-м гг. XIX в. Его работа «О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа» выходит вначале частями в журнале «Иллюстрация», а затем, в 1880 г., отдельным изданием[14]. В ней не только пересказываются сюжеты быличек и бывальщин, сгруппированные вокруг того или иного мифологического персонажа, но и предпринимается попытка их материалистического истолкования, хотя многие из рассказов причисляются к сфере непознанного. Большой фактический материал, принадлежащий русской устно-поэтической традиции и соотнесенный с мифологией других народов, содержится в капитальном труде А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 1865–1869)[15]. Выполненное в духе «мифологической школы», формированием которой заявила о себе становящаяся русская фольклористика, это трехтомное издание и сегодня не утратило своего значения, и не только по обширности привлеченных фольклорно-этнографических материалов, накопившихся к тому времени. Выдержала испытание временем и обоснованная в нем концепция, согласно которой возникновение мифологических персонажей обусловливается культом природных стихий (огня, воды, земли) и культом предков. Правда, значение небесных явлений, обожествление которых, по мнению А. Н. Афанасьева, послужило предпосылкой к зарождению поэзии и обрядов, связанных с древними мифами, с точки зрения современной фольклористики, оказалось преувеличенным. Тем не менее эта работа значительно предвосхитила последующие разыскания в области мифологии. С середины XIX в. публикация быличек, бывальщин, легенд, поверий, как и описаний соотнесенных с ними обрядов и верований, заметно активизируется. Различные периодические издания: «Губернские ведомости», «Памятные книжки», краеведческие сборники, центральные журналы — содержат на своих страницах тексты или пересказы произведений народной мифологической прозы. Попытка систематического и целенаправленного собирания материала, характеризующего быт русского крестьянства, в том числе и его мифологические представления, относится к концу XIX в. Тогда было основано Этнографическое бюро кн. В. Н. Тенишева и разработана программа, в соответствии с которой фиксировались «факты народной жизни». К собирательской деятельности подключилась местная интеллигенция, рассредоточенная в губерниях Центральной России: учителя, врачи, священники, чиновники и пр. В результате их усилиями был накоплен огромный материал. Систематизировать и интерпретировать его было поручено С. В. Максимову как знатоку крестьянского быта, автору книг «Крылатые слова», «Год на Севере», «Сибирь и каторга» и др. Классифицируя оказавшийся в его распоряжении материал и работая над книгой, вышедшей в 1903 г. (уже после смерти автора) под названием «Нечистая, неведомая и крестная сила»[16], С. В. Максимов привлек и свой собственный материал, собранный им в давних поездках непосредственно у носителей традиции. Изданная стараниями В. Н. Тенишева книга отнюдь не является сборником фольклорных текстов. Скорее это их изложение, систематизированное по персонажам языческой и народно-христианской мифологии. Подлинные же материалы из Этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева хранятся в архиве Русского этнографического музея (СПб.). Запись произведений, относящихся к мифологической прозе, в то время редко является самоцелью. Чаще она осуществляется наряду с описанием крестьянского быта, верований, обрядов либо попутно с собиранием сказок. В изданиях, предпринятых А. Н. Афанасьевым, Н. Е. Ончуковым, А. М. Смирновым, Б. М. и Ю. М. Соколовыми и др., среди текстов сказок встречаются и бывальщины[17]. Несколько забегая вперед, отметим, что такая традиция будет продолжена и в дальнейшем: запретные рассказы о нечистой силе замаскируются под волшебные сказки. Параллельно со сбором и публикацией интересующего нас материала продолжалось и его исследование. В начале XX в. мифологические рассказы в качестве источника по народным верованиям рассматривались преимущественно этнографами: речь идет прежде всего о работах Д. К. Зеленина «Очерки русской мифологии. Вып. 1: Умершие неестественной смертью и русалки» (Пг., 1916) и Е. Г. Кагарова «Религия древних славян» (М., 1918). Последний связывал происхождение мифологических образов с древними анимистическими представлениями, дифференцируя духов по четырем категориям: духи предметов и явлений природы; духи — покровители отдельных областей хозяйственной деятельности; духи родовые или семейные; демоны болезней, кошмаров, безумия. Темные силы: черт, дьявол, сатана, — как утверждает Е. Г. Кагаров, сформировались с принятием христианства. Корни мифологических образов оба исследователя видят и в культе предков, в культе мертвых. Причем Д. К. Зеленин особое значение придавал, и прежде всего при рассмотрении образа русалки, почитанию заложных, т. е. умерших неестественной смертью или преждевременно, покойников. Однако, несмотря на заметную предысторию накопления и научного освоения произведений, относящихся к мифологической прозе, источниковедческая база для фронтального исследования быличек, бывальщин, легенд, поверий к началу XX в. да и, пожалуй, к его середине оставалась явно недостаточной. И тому есть разные причины. Отчасти это объясняется устойчивым на протяжении XIX–XX вв. тяготением научных интересов фольклористов преимущественно к былине, затем, особенно в XX в., к сказке, вследствие чего мифологические рассказы оказались на периферии внимания собирателей и исследователей. Мало того, на протяжении всей истории своего бытования они не только не занимали равноправного положения в фольклористике, но даже, как это ни удивительно, не осмыслялись в качестве самостоятельного фольклорного жанра и вследствие этого, естественно, не были объектом специальных научных разысканий. Немаловажную роль здесь сыграл и взгляд на былички как на средоточие языческих верований, что повлекло за собой дискредитацию мифологических рассказов со стороны церкви (это, однако, не мешало священникам выступать иногда в качестве их собирателей и публикаторов). Еще более решительное неприятие названные произведения претерпели уже в советское время, в период господства атеизма, когда былички расценивались как источник невежества и суеверий. И все же, начиная с первых десятилетий XX в., мифологические рассказы постепенно приобретают статус самостоятельного фольклорного жанра, за которым, в частности, закрепляется термин «быличка». Такое наименование небольших рассказов о нечистой силе зафиксировали в среде белозерских крестьян Б.М. и Ю. М. Соколовы. В своем предисловии к сборнику сказок, вышедшему в 1915 г., они обосновали его использование — и этот термин вошел в научный оборот[18]. Несколько ранее название «бывальщина», также услышанное в среде самих носителей традиции применительно к мифологическим рассказам, зафиксировал Н. Е. Ончуков[19]. В связи с наметившимся самоопределением жанра возникла необходимость в его теоретическом осмыслении. Эту задачу взяла на себя, в частности, Э. В. Померанцева. В своей статье «Жанровые особенности русских быличек», вышедшей в 1968 г., она узаконила использование обоих терминов «быличка» и «бывальщина» и внесла определенную упорядоченность в их употребление[20], о чем уже говорилось выше. Работу в этом направлении вслед за Э. В. Померанцевой продолжил В. П. Зиновьев, опубликовав результаты своих разысканий в исследовании «Жанровые особенности быличек» (Иркутск, 1974). В нем он осветил ряд важных для понимания данных произведений вопросов: определение жанра, отношение былички и бывальщины к действительности, их назначение и взаимодействие функций. Основное внимание он уделяет анализу поэтической системы мифологических рассказов. Автор рассматривает характерные признаки сверхъестественных существ и очевидцев невероятного происшествия, устойчивые в рамках отдельного цикла либо всего жанра в целом. В его поле зрения оказываются и такие аспекты, как морфология сюжета, своеобразие кульминации, особенности развития конфликта, «механизм» соединения реального и ирреального, стилистические приемы. Основываясь на полевых наблюдениях, В. П. Зиновьев рассматривает фигуру рассказчика, выявляет его отношение к рассказываемому, описывает манеру исполнения. Вместе с тем автор очерчивает проблему соотношения рассказчика и слушателей. В имеющемся в его распоряжении материале различает былички, псевдобылички и антибылички. Останавливает свое внимание на особенностях трансформации мифологических рассказов. В 1975 г. выходит книга Э. В. Померанцевой «Мифологические персонажи в русском фольклоре». В соответствующих главах данной монографии, опирающейся прежде всего на материалы архива Этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева, хотя привлекаются и другие источники, рассматриваются пять тематических циклов мифологических рассказов, повествующих о лешем, водяном, русалках, домовом и черте. Рассказы, связанные с народными верованиями, предстают как произведения устно-поэтического творчества, имеющие свой круг сюжетов, образов, коллизий. Этнографическому же освещению они подверглись лишь в самых общих очертаниях: рассмотрение этого аспекта было оставлено за этнографами, главным образом за С. В. Токаревым, который «в последние годы изучение русской демонологии как бы подытожил»[21]. [И все же по этому поводу нельзя не заметить, что в подходе к одному и тому же материалу у фольклористов и этнографов есть существенная разница: если первые обращаются к этнографии с целью раскрыть истоки и семантику фольклорных явлений, то последние используют фольклор для воссоздания общей картины верований.] Рассматриваемая работа завершается наблюдением над трансформацией рассказов о мифических существах в сказку и анекдот, что отчасти служит данью времени. Монография снабжена «Указателем сюжетов русских быличек и бывальщин о мифологических персонажах», составленным С. Айвазян под руководством Э. В. Померанцевой. Это первый опыт классификации русской мифологической прозы по основным, далеко не всем, персонажам. Такой принцип систематизации материала является уже традиционным в отечественной и зарубежной фольклористике (ср., например, с «Указателем типов и мотивов финских мифологических рассказов» Л. Симонсуури[22]). Указатель Айвазян — Померанцевой выдержал испытание временем и поныне не утратил своей ценности. Позднее по его образцу и на его основе составлен «Указатель сюжетов сибирских быличек и бывальщин» В. П. Зиновьева[23], соотнесенный уже с конкретным материалом в рамках сборника текстов, о котором пойдет речь ниже. Однако рассматриваемый указатель не избежал типичных для такого рода изданий погрешностей. За единицу измерения в нем принят сюжет, который нередко представляет собой варьирующееся сочетание нескольких мотивов, чем сразу же обусловливается некоторая расплывчатость выделенных рубрик. Кроме того, избранный принцип классификации не всегда последовательно выдерживается: в результате в одном случае выделен сюжет, в другом — мотив, в третьем — элемент мотива. Или же в одном случае дана модель сюжета (мотива), в другом — конкретная реализация той или иной модели. Решение этой проблемы окажется возможным лишь по завершении фронтального изучения быличек, бывальщин, легенд, поверий, аспектами которого станет выявление всей совокупности мифологических персонажей, освещение вопроса о распределении, перераспределении, совмещении присущих им функций, выяснение обстоятельств, при которых активизируются различные мифические существа, и т. д. Причем должен учитываться не только синхронный, но и диахронный ряд мотивов, не только типологические параллели, но и типологическая преемственность. Лишь при этих условиях можно выйти на новый уровень систематизации текстов, относящихся к данному жанру, что в свою очередь послужит мощным стимулом для дальнейшего его изучения. Продолжая разговор о фольклористических исследованиях мифологической прозы, относящихся к 70–90 гг. XX в., упомянем и ряд брошюр, принадлежащих автору этих строк. В них апробируются основные положения данной монографии. Имеются в виду следующие работы: «Дом: его облик и душа (к вопросу о тождестве символов в мифологической прозе и народном изобразительном искусстве)». Петрозаводск, 1992; «Домашний дух и святочные гадания (по материалам севернорусских обрядов и мифологических рассказов)». Петрозаводск, 1993; «Лесные наваждения (мифологические рассказы и поверья о духе-„хозяине“ леса)». Петрозаводск, 1993; «На синем камне (мифологические рассказы и поверья о духе-„хозяине“ воды)». Петрозаводск, 1994; «Нить жизни: реминисценции образов божеств судьбы в мифологии и фольклоре, обрядах и верованиях». Петрозаводск, 1995; «„Сынове бани“ (мифологические рассказы и поверья о духе-„хозяине“ бани)». Петрозаводск, 1995; «Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов»: В 3 т. СПб., 2001. Т. 1.; Петрозаводск, 2000. Т. 2, а также серия научных статей, опубликованных в центральной и местной печати. В этот же период развивается и этнолингвистическое направление в изучении русской и — шире — славянской мифологии. Его определяют работы Н. И. и С. М. Толстых, Л. Н. Виноградовой, А. В. Гура, А. Ф. Журавлева[24]. К этому же направлению относятся исследования В. В. Иванова и В. Н. Топорова, Б. А. Успенского[25] и других ученых. В них содержатся основополагающие суждения относительно духовной культуры славян. Особо следует сказать о монографии О. А. Черепановой «Мифологическая лексика Русского Севера» (Л., 1983), так как она в значительной степени основана непосредственно на материале мифологической прозы. Книга представляет собой этнолингвистическое исследование, в котором автор, помимо решения многих других задач, выявляет и систематизирует по определенному набору дифференциальных признаков, и прежде всего по характеру ирреального, всю совокупность мифологических персонажей. Одни из этих персонажей активно бытуют в фольклорной и языковой (диалектной) традиции; другие же сохранили о себе память лишь в наименованиях, которые в названной книге систематизируются по определенным мотивирующим признакам и функционально-стилистическим характеристикам. Опыт лингвистического изучения мифологической прозы полезен и при осуществлении собственно фольклористических разысканий. Если исследования, посвященные быличкам и бывальщинам, вопреки определенным идеологическим установкам смогли пробиться в свет уже к середине 70-х гг. XX в., то публикация самих фольклорных текстов, квалифицируемых в эпоху атеизма как рассадник суеверий, отодвинулась до конца 80-х гг., когда цензурные препоны были сняты. Первым изданием быличек и бывальщин явился сборник «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири» (Новосибирск, 1987), составленный В. П. Зиновьевым. Он включает в себя 444 текста: это расшифровки магнитофонных записей, произведенных в основном в 1966–1980 гг. на территории Забайкалья и Иркутской области. Материал систематизирован по персонажам, однако этот принцип до конца не выдерживается. В результате тексты дифференцированы по следующим рубрикам: «О духах природы (леший, водяной, русалка)», «О домашних духах (домовой, банник, кикимора)», «О змее, черте, проклятых», «О людях, обладающих сверхъестественными способностями», «О покойниках (ведьма, колдун, покойник)», «О кладе», «О предсказаниях судьбы», «О предзнаменованиях». Издание снабжено комментариями, всевозможными указателями, в том числе и «Указателем сюжетов-мотивов быличек и бывальщин», о котором упоминалось выше. В самом начале 1990-х гг. выходит сборник «Былички и бывальщины» (Пермь, 1991), составленный К. Э. Шумовым. В нем публикуются 328 мифологических рассказов, записанных в Прикамье большей частью на магнитную ленту в 1985–1989 гг. Тексты систематизированы по персонажам: это былички и бывальщины о змее, о полуднице, о водяном и русалках, о лешем и лешачихе, о домовом и домовихе, о баннике, о духах гумна и овина, о черте, сатане, дьяволе, о вышедшем кладе, о блазни и знамениях, о мертвецах, о колдунах, ведьмах, векшицах, о пастухах. Внутри рубрик они систематизированы строго по сюжетам или сюжетообразующим мотивам. Недавно вышел из печати очередной сборник интересующих нас произведений — «Мифологические рассказы и легенды Русского Севера» (СПб., 1996). Составитель и автор комментариев О. А. Черепанова. В него включено 425 текстов, также представляющих собой расшифровки магнитофонных записей: они производились в 1970–1990 гг. в различных областях названного региона. Классификация текстов достаточно условна, скорее она носит тематический характер: «Культ предков и представления о потустороннем мире», «Проклятые и обмененные» (о людях, побывавших в ирреальном мире), «Народная демонология. Черт, бес», «Магия: колдовство и гадания», «О змеях, поклонении стихиям, кладах» и другие (разного содержания), «Народные сюжеты христианства». В сопровождающем корпус текстов «Очерке традиционных народных верований Русского Севера», самим своим названием предопределяющем этнографический подход составителя к рассмотрению публикуемого материала, содержатся комментарии к быличкам, бывальщинам, легендам. В приложении приводятся фрагменты памятников древней славяно-русской письменности и литературы, в основе которых лежит тот или иной мифологический мотив. С выходом сборников, в которых представлены тексты, зафиксированные непосредственно в живой традиции и отвечающие современным требованиям записи, существенно укрепилась база источников, способных обеспечить надежность результатов, полученных в процессе исследования мифологической прозы. Вместе с тем некоторые из наиболее ценных публиковавшихся ранее материалов, так или иначе связанных с данным жанром, ныне обрели как бы вторую жизнь. Появившиеся некогда либо в разрозненных дореволюционных периодических изданиях, либо в сборниках, вышедших преимущественно в конце XIX — начале XX в., либо представлявшие собой самостоятельные публикации, они давно стали библиографической редкостью. Эти материалы, извлеченные из разных источников, ныне переизданы в рамках сборников: Даль В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа / Сост. Н. Ушаков. СПб., 1994; Русское колдовство, ведовство, знахарство / Сост. М. Северов, Н. Ушаков. СПб., 1994. Впрочем, это не исключает необходимости в некоторых случаях обращаться непосредственно к первоисточникам, где данные материалы представлены в полном виде, и особенно когда речь идет об исследовании. Примечательно, что на новом витке изучения русской и — шире — славянской мифологии возникла потребность в ее новом «словарном» освещении. Пиком такого рода изданий явился 1995 г. Почти одновременно выходят «Новая абевега русских суеверий» М. Н. Власовой (СПб., 1995) и «Русский демонологический словарь» Т. А. Новичковой (СПб., 1995), где на огромном материале, накопленном со времен первых «лексиконов», с учетом достижений современной фольклористики вновь составляется «реестр» мифологических персонажей, синкретических и дифференцированных, самостоятельных и «отпочковавшихся» от основных, бытующих поныне в традиции либо сохраняющихся в ней лишь в виде мифологических лексем или «осколков» языческих представлений. Славянский, и прежде всего восточнославянский, материал систематизирован в энциклопедическом словаре, который так и называется «Славянская мифология» (М., 1995). В нем представлены образы и символы традиционной духовной культуры, принадлежащей родственным этносам. Среди них персонажи «низшей» и «высшей» мифологии, языческие и народно-христианские, собственномифологические и сказочные, эпические. Здесь же имеет место мифология животного, растительного и предметного мира, природных стихий и явлений. Приводится описание и истолкование обрядов, обычаев, праздников славян. Итогом более чем векового изучения не только мифологии, но и языков, фольклора, этнографии, народного искусства славян, несомненно, явится пятитомный этнолингвистический словарь «Славянские древности» (М., 1995), первый том которого вышел под редакцией акад. Н. И. Толстого. Это первый в славистике опыт энциклопедического словаря традиционной духовной культуры всех славянских народов. Как пишут Н. И. и С. М. Толстые, задача словаря — на основе реликтов прошлого, собранных воедино и получивших научную трактовку, воссоздать по возможности целостную традиционную «картину мира», систему мировоззрения древних славян, «выявить содержательные категории средневековой славянской народной культуры, отраженные в ней ментальные, моральные, социальные стереотипы и ценности, ее символическую систему» (с. 5). Это издание, подготовка которого ныне осуществляется под руководством С. М. Толстой силами учеников школы акад. Н. И. Толстого и его коллег, по своему завершению предстанет как словарь «языка» культуры славян, где мифологии отведено основополагающее место. Русская и — шире — славянская мифология представлена и на фоне этнокультурных традиций, принадлежащих народам мира. Речь идет о ранее вышедших и получивших признание энциклопедиях: Мифы народов мира/ Гл. ред. С. А. Токарев. М., 1980. Т. 1; М., 1982. Т. 2.; Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1991. Такова в общих очертаниях история собирания и изучения произведений, относящихся к мифологической прозе.Цели и материал исследования
Оглянувшись на путь, пройденный фольклористикой в течение трех столетий в данном направлении, и отметив ее основные вехи и достижения, мы убеждаемся, что в ней и на сегодняшний день отсутствует фронтальное монографическое исследование быличек, бывальщин, легенд, поверий, рассматриваемых в единстве и взаимодействии. В тех же работах, которые имеются на сегодняшний день, персонажи рассматриваемой жанровой системы представлены преимущественно не столько как мифологические, сколько как демонические (в современном значении этого слова) существа. Сложившаяся ситуация объясняется «прочтением» в основном лишь позднего слоя дошедших до нас мифологических рассказов, где былые языческие божества уже подверглись негативному переосмыслению, трансформируясь в нечистую силу, тогда как более ранние слои остались нереконструированными и — соответственно — «непрочитанными». Кроме того, в некоторых работах предшественников интересующие нас персонажи (нередко в силу специфики самого жанра исследования) выглядят достаточно дифференцированными друг от друга, тогда как в живой традиции они продолжают оставаться в большей или меньшей степени синкретическими. И еще на одно немаловажное обстоятельство хотелось бы обратить внимание: в собственно фольклористических работах подчас не достает, казалось бы, закономерного выявления того этнографического субстрата, на почве которого либо параллельно с которым вырастает вербальное произведение. Или же остаются вне поля зрения этнографические реалии, в контексте которых оно бытует. Вот почему наше намерение сосредоточить свое внимание на истоках и полисемантизме мифологических образов отнюдь не безосновательно. Избранный аспект исследования предполагает рассмотрение персонажей в их синкретическом единстве с учетом последующей дифференциации, «разветвления», «отпочкования», перераспределения ролей и, возможно, новой, качественно иной синкретизации. Этим же аспектом исследования обусловливается рассмотрение мифологических персонажей в их первоначальной ипостаси, определяемой генетическими истоками образов, равно как и в их последующих неизбежных трансформациях, происходящих в процессе бытования традиции, что обнаруживается при определенного рода реконструкциях. Целью предпринимаемого нами на данном этапе фронтального исследования мифологической прозы является анализ быличек, бывальщин, легенд, поверий о духах-«хозяевах» (баеннике, домовом, лешем, водяном и сопряженных с ними персонажах) — в первой части и о божествах судьбы, реминисценции образов которых обнаруживаются в дошедших до наших дней фольклорных персонажах, о людях, обладающих магическими способностями (ведьмах, колдунах, знахарях и приравненных к ним чародеях, относящихся к единому типологическому ряду), — во второй части. Эти персонажи предполагается рассмотреть по единым параметрам: характер и природа их инкарнаций и реинкарнаций; сакральный хронотоп как предпосылка к появлению и активизации названных мифических существ; важнейшие функции этих персонажей (покровитель семейно-родовой общины, ее здоровья, плодовитости, благосостояния; средоточие «домашнего счастья», пастушьей, охотничьей и рыбацкой удачи; вершитель жизненного цикла, предначертатель судьбы, прорицатель будущего; медиатор между мирами и, наконец, устроитель бытия не только социума, но и универсума, поддерживающий определенный, установленный порядок в микроколлективе и природе, и т. п.). В третьей части исследования речь пойдет о посетителях загробного мира и искателях «далеких земель», представленных в легендах в свете христианского вероучения. Впервые ставится задача соотнести данные фольклорные произведения со всей совокупностью верований, обрядов, обычаев, реалий крестьянского быта, послуживших этнографическим аналогом либо фоном для формирования связанных с ними сюжетов, мотивов, элементов, коллизий, что как раз и позволит в конечном итоге выявить истоки и полисемантизм рассматриваемых образов. Вместе с тем предполагается представить произведения, относящиеся к данному жанру, в контексте общего фольклорного процесса. Отметим также, что мифологическая проза может быть всесторонне изучена лишь в рамках комплексного исследования, для проведения которого мы предполагаем использовать данные не только смежных, но и отдаленных дисциплин: этнографии, религиоведения, искусствознания, архитектуры, лингвистики, литературоведения, археологии, ботаники, народной медицины, географии и т. д. Используя в своем исследовании весь накопленный на протяжении трех столетий материал, мы, тем не менее, подразделяем его на опорный и контрольный. Опорный материал должен представлять собой определенного рода целостность. В качестве такового была избрана севернорусская мифологическая проза, известная своей архаичностью и сохранностью. Ее анализ составляет костяк исследования. Весь остальной материал в значительной степени служит контрольным. Однако и общерусский материал мы стремились привлечь по возможности широко, тем более, что и на сегодняшний день число источников, содержащих непосредственно тексты мифологических рассказов, продолжает оставаться достаточно обозримым. Наряду с печатными привлечены и неопубликованные материалы. В первую очередь собственные магнитофонные записи, произведенные автором этих строк совместно с В. И. Пулькиным на территории Карелии и сопредельных областей, Архангельской и Вологодской. В исследовании использованы и тексты, зафиксированные в Мурманской обл. Д. М. Балашовым, а также записи, осуществленные на территории Карелии А. П. Разумовой, Т. И. Сенькиной, Н. Ф. Онегиной, Ю. А. Новиковым и другими (материалы хранятся в Архиве Карельского научного центра РАН). Всем собирателям автор выражает свою признательность. Слова благодарности адресуются коллегам, принявшим участие в обсуждении рукописи, и особенно к.и.н. М. В. Пулькину, который дал ценные советы и консультации по проблемам религиозного сознания русского народа. Появлением этой книги мы обязаны творческой инициативе, глубокому профессионализму и вдохновению коллектива издательства «Академический Проект». Ее выход в свет стал возможным благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Глава I Баенник как прообраз домашних духов
Без бани нам, Как телу без души.А. Толстой
Баня в крестьянском быту и верованиях

Традиционная паровая баня, упоминаемая уже в начальной русской летописи, в сообщении о путешествии апостола Андрея Первозванного к новгородским славянам, а также при описании событий середины X в. (древляне на дворе княгини Ольги в Киеве), сохранилась в севернорусских деревнях вплоть до наших дней. Не будучи хозяйственной постройкой, она являлась неотъемлемым компонентом едва ли не каждой крестьянской усадьбы, располагаясь на задворках неподалеку от дома, на пригорке или под ним, чаще около речки или озера.
Устройство и интерьер
Это сравнительно небольшая рубленая постройка, редко превышающая 8 м в длину и 5 м в ширину с фасадом от основания до крыши в 3,5 м[26]. В основе ее клеть, признанная начальной формой славянского жилья[27]. Крыша двускатная или односкатная, изредка встречалась плоская, крытая дерном. Полы настилались толстыми тесаными плахами, неплотно пригнанными (для стока воды). Потолки и стены бревенчатые. Банная клеть — в сущности полутемная изба. Обычно она строится с предбанником. Интерьер бани прост. Основной ее частью является печь, сложенная из неотесанных валунов либо представляющая собой полусферический свод, сделанный из глины, на который накладываются округлые камни, причем так, чтобы между ними проходил снизу дым. Подобная печь называется каменкой. Она не имеет трубы. При топке дым выходит из бани в отверстие — дымоволок, сделанное в стене или в потолке; по окончании топки оно задвигается волоковой дощечкой. Такая баня известна под названием черной, т. е. дымовой или курной. Вода нагревается в котле, который устанавливается непосредственно на печи либо рядом с ней: в последнем случае в воду с помощью кованых клещей опускаются раскаленные камни. Для образования пара на горячую каменку льют воду. При паренье обычно используют березовый веник, а если он засох, то размачивают в холодной воде и бросают на каменку. Размягченным веником «хвощутся». Горячую воду разбавляют холодной в шайках (деревянных глубоких тазах). Холодной водой заранее наполняют кадки, бочки, ушаты. Помимо каменки, которая, как и русская печь в избе, чаще находится слева от входа, занимая «печной угол», интерьер бани составляют также деревянные лавки, предназначенные для мытья, и полки — широкие, высокие, почти до самого потолка помосты, установленные на столбах и снабженные одной-двумя, иногда тремя ступенями. Настланные осиновыми плахами (для предохранения от ожогов), они устраивались возле глухой стены, рядом с каменкой, специально для паренья[28].Синтез функций
Функции бани в крестьянском быту весьма разнообразны. Помимо своей непосредственной функции, баня имела множество других — утилитарных и обрядовых, рациональных и иррациональных. Часто те и другие находятся в синкретическом единстве. Из утилитарных функций важнейшими являются санитарно-гигиеническая и лечебная, не лишенные, однако, некоторой мифологической окраски. В бане лечатся паром с применением различных лекарственных растений. Об этом обычае сообщил в начальной русской летописи Нестор, повествуя о путешествии апостола Андрея Первозванного к славянам, жившим в местности, «идеже ныне Новгород»: «Дивно видех Словеньскую землю идучи ми семо. Видех бани древены, и пережьгуть é рамяно, и совлокуться, и будуть нази, и облеются квасом уснияным, и возмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами, и того ся добьють, едва слезуть ле живи, и облеются водою студеною, и тако ожиуть. И то творять по вся дни, не мучими никим же, но сами ся мучать, и то творять мовенье собе, а не мученье»[29].
Рис. 1. Русские резные ковши
Спустя века, 13 ноября 1709 г., датский посланник в России Юл Юст запечатлел едва ли не аналогичную древнерусской картину: «За городом мне случилось видеть, как русские пользуются своими банями. Несмотря на сильный мороз, они выбегали из бани на двор совершенно голые, красные, как вареные раки, и прыгали в протекавшую поблизости реку. Затем, прохладившись вдоволь, вбегали обратно в баню, но прежде чем одеться, выскакивали еще и долго, играя, бегали нагишом по морозу и ветру. В баню русские приносят березовые веники в листах, скребут и царапают себе тело, чтобы в него лучше проникала теплота и шире отворялись бы поры. В России ото всех болезней <…> первый доктор — это русская баня»[30]. Данный обычай русские сохраняли и находясь за границей. Как вспоминает А. К. Нартов, инженер, сподвижник Петра I, в 1717 г., находясь в Париже, царь «приказал сделать в одном доме для гренадеров баню на берегу Сены, и чтоб они в оной после пару купались. Такое необыкновенное и, по мнению парижан, смерть приключающее действие произвело многолюдное сборище. Они с удивлением смотрели, как солдаты, выбегая разгоряченные банным паром, кидались в реку, плавали и ныряли. Королевский гофмейстер Бертон, находящийся при услугах императору, видя сам сие купание, Петру Великому докладывал (не зная, что то делается по приказу государя), чтоб он солдатам запретил купаться, ибо де все перемрут. Государь, рассмеявшись, отвечал: „Не опасайтесь, господин Бертон! Солдаты от парижского воздуха несколько ослабли, так закаливают себя русскою банею. У нас бывает сие и зимою. Привычка — вторая натура“»[31]. Нет необходимости доказывать, что этот обычай в какой-то мере сохранился и до наших дней. Наряду с санитарно-гигиенической и лечебной баня имела и хозяйственную функцию. В крестьянском быту она подчас превращалась в своеобразную мастерскую-трепальню и чесальню (льна)[32]: «А тут одна баба чесала лен тоже. Лен-то у нас по вечерам чесали. Ведь дни-то коротеньки осенью, дак»[33]; «Баню натопят — все в баню в одну: девки, молодые бабы (старые, пожилые-то уж не ходили). Вот там, знаешь, и лен чешут, лучина горит — не было и фонарей да ничего, песни поют все, а другая сидит, дремлет там…»[34]. Некоторыми крестьянами баня использовалась и в качестве овина: в ней сушили снопы, что было весьма небезопасно и нередко заканчивалось пожаром[35]. Эта постройка в исключительных случаях служила и жильем: для прохожего, застигнутого ночью в пути, баня становилась пристанищем. Согласно поморским обычаям, странник, проходящий через село, но не принятый на ночлег, мог смело располагаться в любой бане: здесь он считался полным хозяином, и никто не позволял себе изгнать его оттуда[36]. Молодежь использовала баню в качестве своего рода клуба, где устраивались известные «беседы» («бесёды»)[37]. В результате в некоторых локальных традициях (например, в Калужской области) сами молодежные посиделки назывались банями, хотя и проводились в обычном доме[38].

Рис. 2. Заонежская баня. Из кижской коллекции архитектурных памятников
Помимо утилитарных, баня имела и различные религиозно-магические обрядовые функции. Ритуальная баня являлась обязательным компонентом родильной, свадебной и похоронной[39], — одним словом, семейно-родовой обрядности, что было обусловлено определенными языческими верованиями. Более того, бани и омовения входили в общественно-религиозный быт многих народов. Так, уже библейский пророк Моисей заповедал своим последователям омовения и очищения. Традиции почитания бани и соотнесения ее с храмом продолжены в Новом Завете: «Чтобы освятить ее (церковь. — Н. К.), очистив банею водною, посредством слова»[40]. В Коране омовения вменяются правоверным как обязательное религиозное отправление. Древние храмы Индии, Египта и Греции включали в себя помещения для ритуальных омовений: «банным» ритуалом предусматривалось принятие водных, паровых, воздушных ванн, сопровождавшихся возжиганием ароматических веществ[41]. Банные традиции естественно вошли в гражданскую жизнь Древнего Рима. «Баня же, как известно, была не только местом омовения наших предков, но и молитвы. Угощение Роду-Рожаницу ставится в бане или предбаннике»[42], — отмечает Ю. Миролюбов. В бане локализуется магическое воздействие на человека со стороны сверхъестественных сил, причем оно стимулируется словами заговоров, т. е. языческих молитв, и соответствующими действами. Здесь, например, пытался излечить «пациента» знахарь, что подчас не исключало использования приемов психотерапии: «…а иногда и сам знахарь топит ночью баню и в ней парит больного (причем баня приготовлялась специально для больного, для одного. — Н. К.); бывает ли лучше после такого лечения или нет, — о том молчат»[43]. В этой, казалось бы, будничной постройке произносились магические слова любовных и семейных заговоров, также сопровождаемые магическими действами. В ней же могла происходить и передача колдовского искусства (об этом пойдет речь во второй части данной книги). Баня осмыслялась в качестве того сакрального пространства, где определялось и программировалось будущее. Здесь, и особенно в Святки, гадали перед зеркалом, ожидая появления в нем изображения суженого. Сюда приходили «слушать», т. е. угадывать свою судьбу на будущий год по звукам, доносящимся время от времени в тишине и определенным образом интерпретированным гадающими. Использовались и другие способы ворожбы. Баня оставалась излюбленным местом гаданий даже тогда, когда многие связанные с ней представления и верования были уже утрачены: «В бане девки гадали. Почему именно там, не знаю», — сообщает одна из современных рассказчиц[44]. Именно в баню направлялись и для того, чтобы обрести магические предметы: шапку-невидимку, разрывную кость, имеющую свойства разрыв-травы, четверговую соль, обладающую особой целебной силой, или четверговый шнурок, спасающий его обладателя в течение всего года от происков колдунов и пр. Как видим, с баней связан целый комплекс языческих верований. Своего рода знаком-символом, объединяющим, одухотворяющим и персонифицирующим их, служит образ баенника[45] — персонажа мифологических рассказов и поверий.
Мифический дух-«хозяин»: его инкарнации
Сведения о баеннике почерпнуты нами прежде всего из быличек и бывальщин, рассматриваемых на фоне общего фольклорного процесса с привлечением некоторых этнографических материалов. Они фрагментарны, во многом противоречивы, однако это лишь кажущаяся противоречивость. Неоднозначность представлений о баеннике объясняется отчасти его полисемантизмом, характерным для него изначально либо приобретенным в процессе длительной эволюции. Так или иначе, в образе баенника есть черты, присущие и другим мифологическим персонажам.Зооморфный облик
В архаическом облике данного мифического существа обнаруживаются некоторые зооморфные признаки. Есть факты, свидетельствующие о том, что баенник может появиться в виде змеи (змея). В таком случае змея локализуется в бане, связана с каменкой, ее слюна (эквивалент: кровь, пот) заключает жизненную, физическую и магическую, силу[46], которую можно в какой-то мере воспринять через дыхание, поцеловав ее: «„Увидишь ты в байне змею, поцелуй ее — половину узнаешь. Слюну у ней возьмешь — все узнаешь“. Увидел мужик змею, испугался и отказался от слов. Так змея такой шип устроила, что еле ее в каменку (здесь и дальше курсив мой. — Н. К.) загнал»[47]. Аналогичные представления о баеннике сохранились не только в севернорусской, но и в других локальных традициях: «Пришел раз в избу прохожий солдат и просится ночевать. Ему говорят, что в избе негде, да и ребенок не спокоен, а не хочет ли он в баню, только там у них неладно, водится нечистая сила. Солдат устал, согласился спать и в этаком месте. Пошел в баню, очертил около себя круг и лег. Вдруг в полночь зашипела змея и бросается на него, чтобы ужалить, подползет к черте, а дальше не может»[48]. В первом из приведенных примеров заметны признаки, обнаруживающие связь змеи с очагом, огнем, что служит одним из многих значений этого образа[49]. В записанной нами севернорусской быличке баенник предстает в виде белой кошки: «На полка´х (в бане. — Н. К.) сидит как белая кошка, глаза сверкают-сверкают такие у ей. Я ска[зала]: „Кис, кис, кис“ Киска не двигается»[50]. Однако в контекст представлений и образов, соотнесенных с баней, чаще вписывается черная кошка. В карельских и финских мифологических рассказах моющийся в бане поздним субботним вечером, накануне праздника, видит черную кошку в роли банщика (ее эквиваленты — различные антропоморфные персонажи)[51]. В ингерманландской мифологической традиции дано гиперболизированное изображение подобной «кошки»: «Один мужчина поздно пошел в баню. А там вышло огромное безобразное существо в виде кошки. И мужчина голый прибежал из бани домой»[52]. Или: «Отец спал в нашей собственной бане ночью. Светила луна. Через дверь вошли два огромных черных существа, как кошки. Глаза блестели так ужасно, как огонь. Они лязгали белыми зубами»[53]. Иногда сущность баенника раскрывается через его атрибут, который некогда сам был этим мифологическим персонажем: согласно севернорусскому поверью, в ночь под Пасху или в Святки в бане варят совершенно черную, без единого белого волоска, кошку, чтобы добыть из нее «разрывную кость», или же кость, которая делает человека невидимым. Кошку варят до тех пор, пока мясо не отстанет от костей. Собрав все кости, усаживаются ночью перед зеркалом и перебирают их одну за другой. Как только, посмотрев в зеркало, себя не увидишь, — значит, кость-«невидимка» (или «разрывная кость») в твоих руках[54]. Известно, что в ряде мифологических традиций образ кота, кошки выступает как воплощение божественных персонажей[55] либо их атрибутов. Так, в русской фольклорной традиции, например, в сказке М. М. Коргуева «Остров золота» кошка осмысляется как чудесный помощник героя. В качестве такового этот зооморфный персонаж трактуется и в древнерусской литературе: «Нои же помолися Богу и прысну лютыи зверь, выскочиста из ноздри его кот и котка и скочивши удависта диявола мышью и не сбыстся дияволе злохитрство»[56]. В севернорусских мифологических рассказах баенник принимает и облик некоего напрямую не соотносимого с реальным животным существа, имеющего, однако, некоторые признаки кошки, отчасти гиперболизированные: «И какой баенник-от страшный: весь мохнатый и рука-то у него такая большая и тоже мохнатая»[57], но эта мохнатая рука при иных обстоятельствах превращается в «когтистую лапу»[58]. В других быличках баенник принимает облик собаки, чаще черной: «Мы с Шурой <…> пришли раз в байну <…>, а черная собачка, така ма-аленька, выбежала тут. У нас собаки-то взрослые были, а тут такое — дворянка зовется <…>. „Ой, тут собака разве была бы? — говорит (бабушка. — Н. К.). — Не собака, а хозяин, наверно, был, баенны хозяин“»[59]. Аналогичные представления о зооморфном облике баенника сохранились и в соседствующей ингерманландской традиции: «Это рассказывала моя тетя. Она пошла топить баню и, уходя, закрыла дверь бани на щеколду. Через полчаса она пошла посмотреть, прогорели ли дрова. Она рассказывала: „Я открыла дверь — и тут навстречу мне из бани выскочила огромная черная собака. <…> Я громко закричала — и она побежала в направлении из Руусава“. <…> Когда тетя пришла из бани домой и собиралась перекусить, тут баня уже полыхала ярким пламенем. Они подумали: дух бани ушел из бани, покинул ее — и она сгорела»[60]. В одной из севернорусских быличек отражены некоторые смутные представления о воплощении баенника в белой корове: «<…> а банник и выступил коровой белой: шшоки едры-то, а рога как у коровы»[61]. Отголоски подобных представлений зафиксированы и в ингерманландской традиции: «Говорят всегда, что в бане есть дух. Я пошел его искать — и никого не увидел. Тогда я рукой пошарил под полком: там ощутил что-то, как мягкая коровья кожа, со всех сторон мягкая»[62]. Такое восприятие баенника ввиду отсутствия достаточного количества вариантов можно было бы и вовсе оставить без внимания, если бы этот зооморфный образ не служил устойчивой метафорой каменки, осмысляемой не только как жилище баенника, но и как его эманация. Подобная метафора особенно характерна для карельских загадок: «Корова черная каменная уперлась рогами в стену, выпьет все, что дашь»; «Черная коровушка — рогов сто, корней тысяча, что даешь — все выпьет»; «Черная комолая корова ушат воды выпивает, охапку дров сгрызает»; «Черная комолая корова воду выпивает, тучу поднимает, все места опаляет, тело прогревает»[63]. Исключительно редкое явление в дошедшей до нас традиции представляет собой изображение рассматриваемого мифического существа в виде лошади, хотя некогда, судя по распространенности культа коня и присутствию этого зооморфного образа в народном декоративно-прикладном искусстве, оно было, несомненно, более характерным: «В баню две девки побежали и в бане хохотали. И вдруг конина голова: „И-и-и…“ И не мылись! Они домой! А голова и укатилась»[64]. Одна из возможных зооморфных ипостасей баенника по-своему закодирована в обряде, зафиксированном еще в XIX в.: построив после пожара новую баню, закапывают в землю под ее порогом черную курицу, причем неощипанную и задушенную (а не зарезанную), стараясь подогнать время под Чистый (Великий) четверг[65]. Разумеется, набор зооморфных признаков данного мифологического персонажа в различных локальных традициях может варьировать. Впрочем, известны рассказы, в которых баенник предстает как некое аморфное мифическое существо, имеющее к тому же весьма неопределенные зооморфные признаки: он весь в шерсти, но без лица, рук, ног или волосатый и с хвостом. И все же сакральный характер баенника маркируется образами божественных либо священных животных. Цвет же этих зооморфных персонажей является в известном смысле знаковым: белый цвет соотносится с положительным началом[66] и, на наш взгляд, определяет божество, вера в которое еще не утрачена; черный же цвет символизирует отрицательное начало[67]: им отмечен наделенный вредоносной силой персонаж либо негативно переосмысленное, сниженное, переходящее в разряд «нечистых» божество. Представления о кошке, например, претерпели не одну трансформацию, прежде чем превратились в поверье, согласно которому перешедшая дорогу черная кошка приносит неудачу либо предвещает несчастье. Что касается черного цвета баенника («и в бане есть хозяин <…>. Этот, что жук черный»[68]), то, справедливости ради, нельзя полностью сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что он воплощение именно черной бани, и потому общая семантика черного цвета применительно к рассматриваемому персонажу может быть в ряде случаев скорректирована. Мало того, противопоставление белый — черный известно и в других вариантах: светлый — темный, красный — черный[69]. В народном искусстве, вербальном, изобразительном, а также в верованиях, обрядах, обычаях оно осмысляется как борьба положительного начала с отрицательным, света и тьмы, жизни и смерти.Фитоморфные и огневые признаки
Помимо зооморфной, баенник может обрести огневую, древесно-огневую (головня, обугленное полено, уголь) либо древесную форму. Эмблемой баенника нередко оказывается синий огонь, образ которого служит воплощением представлений о «живом» огне: «Шел и вдруг на дороге, — тут на Бобыке были много бани настроены, — грит, в окно кто-то постучал, он, грит, увидел синенький огонек в бане (курсив мой. — Н. К.). Зашел — там никого. Когда двери стал закрывать, ему кто-то из бани сказал: „Не уходи. Ты нам нужен“»[70]. Фольклорной традиции известны и превращения данного мифического существа в уголь[71] и, наоборот, инкарнация углей в «маленьких чертенят» (сниженный и «разветвленный» образ баенника), совершающаяся в полуночное время в бане: «Пришла в баню, углей с собой взяла, а то ведь не видать ничего. Сидит и раздувает их. А полуночное время <…> смотрит, а в корчаге уголья маленькие чертенята раздувают и около нее бегают»[72]. Правда, перевоплощение носит здесь уже трансформированный и потому завуалированный характер. Вместе с тем баенник подчас воплощается в венике либо ассоциируется с кучей свежих неопаренных веников[73]. На связь этого персонажа с названным атрибутом, равно как и поленом, в том числе обугленным, или головней (последние осмысляются как его древесно-огневые эманации) указывает то обстоятельство, что, подменяя своим детенышем ребенка, оставленного матерью без креста на полке´ (эквивалент: проклятого), мифический хозяин подкидывает взамен похищенного голик (веник с обтрепавшимися листьями)[74], чурку[75], осиновое полено[76]. Причем соотнесенность с осиной носит знаковый характер: это отрицательно отмеченное, проклятое дерево, связанное с нечистой силой, хтоническими персонажами, прежде всего женскими[77]. Похищая младенца, баенник может оставить вместо него и головню[78], обугленное полено[79]. Все эти древесные или древесно-огневые «обменыши», естественно, принимают антропоморфную форму и обретают соответствующие свойства. Подобные огневого, древесно-огневого или древесного происхождения предметы, будучи атрибутами баенника и его воплощением, широко вошли в фольклорно-этнографическую традицию как обереги и как эманации чудесных героев. Так, например, головня, согласно древним верованиям, имеет апотропейную силу «против дьявола». В XIX в. на Русском Севере был зафиксирован обычай, в соответствии с которым ее носили по полям перед севом хлебов. Головня в качестве важного магического атрибута использовалась и во время гаданий: существовала вера, что за очерченный ею круг не может проникнуть нечистая сила[80]. Это нашло отражение в мифологических рассказах, повествующих о гадании. Как следует из быличек, бывальщин, поверий, в головню, обугленное (иногда осиновое) полено, чурку перевоплощаются в момент смерти (смертельной опасности) антропоморфные мифические существа, которые в данном случае представлены уже в сниженном плане — в качестве «нечисти»: «„Разрешите, — говорит, — этого ребенка бросить наопахишу (наотмашь), — говорит. — Я брошу, и он, — говорит, — боле плакать не будё“. — „А, — говорит, — возьми“. Вот она взяла да бросила наопахишу — и очудилась головня»[81]. Чем иным, как не пульсирующей в традиции мифологемой можно объяснить ассоциацию девушки с головней, сохраняемую даже частушкой:
Рис. 3. Русские резные ковши
Эквивалентом головни, обугленного полена, чурки, в которые превращаются мифические существа, является и веник (голик): «У их в избе зыбка виснет. А в зыбке такой ребенок, что больша´ голова, а тулова нет почти, а ело оно по крынке молока и по житнику в час. Молодка-то подошла к зыбке-то, да взяла робенка да об пол бросила. Тут робенок сделался голиком. Молодка-то и говорит: „Вот, родители, кого вы кормили вместо меня, обменила меня обдериха“»[83]. Представления о банном венике как об одушевленном существе типичны для фольклорной традиции. Особенно пронизана ими загадка. В ряду идентичных, функционально тождественных персонажей, действия которых символизируют паренье в бане веником, есть место и зоо-, и фито-, и антропоморфному персонажу: «Маленький, мохнатенький, всех людей перебил и царю не спустил»; «Вечор меня зеленушка уползал, уерзал и спать уклал»; «В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец (курсив мой. — Н. К.), играет в щелкунец, всех перебил и царю не спустил»[84]. Антропоморфизация фитоморфного персонажа запечатлена и в одном из вологодских поверий, в котором баенник фигурирует в виде голого старика, покрытого грязью и листьями от веников[85]. Эманацией баенника в мифологических рассказах может в какой-то мере служить и камень из каменки: «Один говорит: „Тебе не сходить в баню“. А другой говорит: „Схожу в баню“. — „Возжьми, — говорит, — камишок с камници, большы нициво и не надо“. Потом он стал камишок от стал брать, дефка (банник) и говорит: „Не тронь меня, не тронь камешка (курсив мой. — Н. К.)“»[86]. Или: «берет этот там с каменки камень <…>. „Не камень бери, а меня (курсив мой. — Н. К.) бери“»[87].
Невидимость
Вместе с тем в быличках, бывальщинах, поверьях есть немало свидетельств о том, что баенник — невидимое существо[88]. Он принимает некое воплощение, появляясь перед находящимся в бане человеком, при пересечении сакрального времени с адекватным пространством. Это условие сохраняется и в тех случаях, когда баенник уже низведен в ранг нечистой силы. Остальное же время он хотя и невидим, но зато слышим[89]. В одном из сибирских мифологических рассказов не лишенный человеческих слабостей баенник остается невидимым даже, казалось бы, в сугубо бытовой ситуации: «Вдруг слышит: водка наливается. Он (отец. — Н. К.) повернулся, а никого не видит. Смотрит, а рюмка уже пустая»[90]. Согласно некоторым поверьям, сама невидимость баенника не лишена определенного воплощения: она достигается посредством шапки-невидимки. Эту шапку можно добыть таким способом: «в ночь на Великий день Пасхи», после того, как обойдут вокруг церкви с плащаницей, либо «во время христовской заутрени» нужно прийти в баню, причем с горящей свечой и снять со спящего баенника шапку, надев на себя. Однако если свеча случайно погаснет или похититель не успеет добежать до церкви прежде, чем баенник проснется, его неминуемо постигнет мучительная смерть[91]. В данной ситуации оборот «погасла жизнь, как свеча» обретает свое буквальное, досимволическое значение. Ср. с одной из версий святочного гадания: чей огарок погаснет скорее — тот раньше и умрет. Это связано с древними представлениями о свече-свете (жизни) в его противопоставлении тьме (смерти). В случае же удачи смельчак становится обладателем чудесного предмета[92]. Согласно другому поверью, баенник один раз в год кладет шапку-невидимку на каменку для просушки — и в полночь ее якобы можно взять, но в какое время года — неизвестно[93]. Соотнесение шапки-невидимки, принадлежащей баеннику, с каменкой как его жилищем служит предпосылкой для метафорического отождествления шапки (шляпы) с каменкой, имеющего место в загадках: «Архирейская шляпочка, вся она в заплаточках»; «Бесова шапка из кусков собрана»; «Шипящая шапочка, сто заплат на ней»[94]. Изредка в архаических мифологических традициях (например, в водской) встречается представление, согласно которому, даже принимая некое воплощение, банный дух остается в известном смысле бесплотным, как бы разреженным: «И только он (старик, мывшийся в бане субботним вечером. — Н. К.) хотел схватить это существо (начавшее колотить его в бане. — Н. К.), как оно проскользнуло сквозь пальцы (курсив мой. — Н. К.). Оно было волосатое»[95]. Возможно, что в состоянии невидимости баенник остается до тех пор, пока, явившись «оттуда», он не приобретет «здесь» определенного статуса. В этом смысле невидимость в момент «перехода» оказывается эквивалентной раздетости. Однако в формировании образа невидимого мифического существа нельзя сбрасывать со счетов и роли анимистических представлений, в соответствии с которыми мифологический персонаж — это в первую очередь дух.Антропоморфизация персонажа
В поздних быличках и бывальщинах баенник чаще принимает антропоморфный облик. Иногда это женский персонаж, называемый в севернорусской традиции «обдерихой»: «<…> в этой бани дверь отворена и сидит на средине пола женщина, волосы до полу, моэтца (банник). Ну, конечно, от такого видения они испугались»[96]. Или: «Потом он стал камишок от стал брать, дефка (банник) и говорит <…>: „Возьми меня в замуш“»[97]. То же и в других локальных традициях, например, поволжской: «А как наступит весна, все видят то утром, то в полдни, то вечером бегает по саду здоровенная нагая баба. Бросятся с дубьем ее ловить — она убежит в баню. Ищут, ищут — нет!»[98] Этот персонаж, как и галерея других женских образов, восходит (разумеется, опосредованно) к архетипу, сложившемуся еще в недрах материнского рода. Несмотря на то, что женский персонаж по сравнению с мужским более архаичен, оба этих образа в поздней традиции сосуществуют при заметном превалировании «хозяина» бани. Последний зачастую настолько похож на самого обычного человека, что не возникает особой необходимости в описании его внешности: «Да меня, — говорит, — туда (в каменку. — Н. К.) какой-то дядька затянул»[99]. Иногда лишь отмечается, что баенник — старик[100] и что «ростом он мал»[101]. Таков же он и в сибирских мифологических рассказах: «<…> а под лавкой (в бане. — Н. К.) сидит маленький старичок! Голова большая, борода зеленая! И смотрит»[102]. Невольно возникает ассоциация с веником, в который, как уже говорилось, может перевоплощаться баенник. В некоторых быличках и бывальщинах мифического «хозяина» принимают за родственника либо знакомого, убеждаясь в ошибке лишь по возвращении из бани в избу: «Приехал в деревню торгош. Просится ночевать. И была у хозяев байня топлена, и в той байне чудилось. Торгош пошел с мужиками: вымылись, выпарились, дома чай сели пить, а потом и спать легли. После мужиков пошли две невестки и девка, а старуха та дома осталась с мужиками. Приходят в баню, разделись в предбаннике, входят в самую баню, а там на полку кто-то лежит и ноги раскорячил. Видят, торгаш. „Ах ты, бессовестной, озорной!“ — говорят бабы. И домой. Пришли, на торгоша жалуются: тот спит себе и с избы не выходил. А показался-то под видом торгоша баенной»[103]. В некоторых локальных традициях образ баенника «разветвляется» на целый ряд персонажей: например, изображается банное семейство, адекватное человеческому, но пребывающее в ином, ноуменальном мире: «И пошли вдвоем мать с ребятишками, ли че ли. Налила, говорит, воды, начинает мыть. А под полком — полок кверху поднимается — ребенок ревет: „Увяк, увяк…“ А тут кто-то и говорит: „Ну, погоди, я тебя счас помою“»[104]. Или: «„А вы обе невестки тут? А тут кто-то у вас моется!“ Но, побегут туды, в баню, — ребенок ревет в этой бане. А человечьего голосу нет, а ребенок ревет по-человечьи. Как стукнут — никого нет, токо зашипит. Вот они бились-бились, как вечером баня — то и есть, как вечером баня — то и есть! Потом им пришлось эту баню убрать оттудава. Когда убрали — больше этого маячить не стало. Потом вот эта чуда-то и вышла: на берегу женщина»[105]. В изображении облика баенника наблюдается тенденция к антропоморфизации, что характерно не только для мифологической, но и для ранней исторической прозы.Персонаж в пространственно-временном измерении
Локусы «хозяина»
Представления о локусах баенника, нашедшие отражение в фольклорной традиции, неоднозначны. Отчасти это объясняется полисемантизмом самого образа, отчасти эквивалентностью семантики локусов, фигурирующих в мифологических рассказах и поверьях. В качестве жилища-вместилища баенника представлена чаще всего каменка. Сведения об этом можно обнаружить в различных источниках: «Жилище его собственно печка — каменка в бане»[106]. Данный персонаж «поселяется во всякой бане за каменкой»[107]. Его голос доносится из-под каменки[108]. Из-за нее же раздаются ужасное храпенье, вой, хохот и свист, которыми баенник пугает женщин[109]. Именно на каменке он сушит свою шапку-невидимку[110]. В нее загоняютбанную змею (баенника)[111]. В то же время в каменку засовывает «хозяин» пришедшего «на третий или четвертый пар» в баню[112]. Вместе с тем, спасая преследуемую нечистой силой девушку, обдериха ее «камышком прикрыла, паром запарила»[113]. Иногда камень («камишок с камници»[114]) ассоциируется с самим баенником либо является его атрибутом. Похваставшегося тем, что принесет в полночь камень из каменки («В каменьци камешок возьму»[115]), неизбежно ждет испытание (сюжет «Невеста из бани») либо жестокое наказание. Моющегося после двенадцати часов «хозяин» убивает камнем[116] либо запускает в пришедшего сюда поздним вечером камнями (они летят со стороны каменки): «Пришла, говорит, в байну, дак так вот каменьем кидат»[117]. Возможно, что именно представлениями об антропоморфизированном баеннике и его связи с каменкой и камнями вызвана к жизни загадка: «Старичок неказистый, кошель с камнями на спине, по сто ушатов воды выпивает»[118]. Особое отношение к банной каменке и тому, что с ней связано, прослеживается во всем фольклоре, но наиболее концентрированно оно выражено в свадебных причитаниях, поскольку каноны обряда способствовали консервации архаических представлений. По словам причитаний, для кладки каменки берутся необычные камни: например, те, которые с горы на гору «катались»[119]. Ритуальный огонь для каменки добывается из камня же: «Ты добудь, моя сестрица, из камени пламени (курсив мой. — Н. К.)»[120]. Дрова для нее выбираются с учетом их магических свойств и соответствующего воздействия на судьбу того, для кого обрядовая (не только свадебная) баня специально предназначается. Согласно севернорусским причитаниям, для топки ее наиболее пригодны березовые дрова, хотя в сущности полностью не исключаются дубовые и кленовые[121]. И это не случайно: в восточнославянской мифологии береза — священное дерево, ее образ часто символизирует женский персонаж[122]. При топке обрядовой бани обычно отвергаются осиновые, сосновые, еловые дрова[123]. В карельских же причитаниях к числу исключаемых добавляются березовые[124] и явное предпочтение отдается ольховым либо таким, которые почти не связаны с флорой Карелии: дубовым, кленовым, липовым[125] (возможно, под влиянием соседствующей русской фольклорной традиции[126]). Несмотря на то, что в севернорусских, как и в карельских, верованиях к числу наиболее почитаемых деревьев относятся ель и сосна, в обрядах, связанных с баней, они почти не присутствуют и если все же упоминаются, то чаще для того, чтобы быть отвергнутыми: в поздней традиции это эманации лешего. Дрова следует приготовить из такого дерева, которое никак не связано с символами беды и печали, иначе жизнь человека, для которого топится баня, будет несчастливой:
Рис. 4. Русские резные ковши
Из деревьев, которые используются в качестве дров, обычно изготовляется и банный веник: в русских причитаниях (как и в реальности) — из березы, в карельских — из ольхи в сочетании с иными, одной или двумя, породами деревьев: с березой, рябиной, подчас и осиной[131]. Адекватностью исходного материала для дров и для веника определяется известное тождество головни (обугленного полена) и веника как возможных эманаций баенника или же его атрибутов. Поскольку каменка — вместилище магического огня и вместе с тем жилище, локус баенника, можно утверждать, что названный мифологический персонаж связан с огнем, дымом, очагом. Об этом свидетельствует, в частности, записанная нами бывальщина: «Теща у меня раз приходит в баню. Стала баню затоплять. Она, значит, затычку снимает — дым хоть некоторый выходит. Она раз выдернула затычку — не выходит, другой раз — ни черта. На третий раз выдернула она — а из трубы показались пальцы сизые, длинные»[132]. Аналогичные представления проявляются и в одном из способов гадания: «В баню в дымник руку пихают: если голой рукой хватит — бедный (жених), мохнатой — богатой»[133]. В финских мифологических рассказах присутствует персонаж, адекватный баеннику, а точнее, не слившийся с ним или отпочковавшийся от него, напрямую связанный с огнем: «В бане <…> видели часто маленькую девочку, похожую на „хозяина“, которая, как замечали, заботилась об огне в бане (в каменке)»[134]. Определенным образом соотносится с каменкой, а значит, и с баенником, предназначенная для обрядовой бани вода. Ее полагалось нагревать в деревянном корыте раскаленным камнем. В севернорусских причитаниях воду берут проточную, из третьей струи, пропуская две предшествующие[135], в карельских — из источников, отмеченных различными знаками святости[136]: она должна быть чистой, прозрачной, это «живая вода», «веселая водица»[137]. Согласно карельским и финским мифологическим рассказам, такая вода при определенных условиях обнаруживает загадочные свойства: поздним субботним вечером накануне праздника в бане, на полке´ (как раз хронотоп баенника), сама по себе закипает, превращается в кровь[138]. По-видимому, она имеет животворящую силу. Отсюда понятен запрет, согласно которому «пить в бане воду, приготовленную для мытья, хотя бы она была чистая, — нельзя»[139]. Вода, используемая в обрядовой бане, обладает магической силой. Об этом свидетельствует поверье: поддавая в свадебной бане на каменку пивом, обеспечивается сладкая жизнь молодым[140]. Иначе говоря, посредством воды или ее эквивалента также программируется будущее. Следовательно, каменка, осмысляемая в качестве жилища, вместилища баенника, образует некий единый комплекс, включающий в себя огонь, дерево, камень, воду (возможно, в какой-то мере и воздух: пар) — основные элементы природы и человекотворения, как и атрибуты, посредством которых программируется жизнь моющегося в обрядовой бане. Другой распространенной локализацией баенника является полок, причем независимо от того, имеет ли «хозяин» бани зоо- либо уже антропоморфный облик: «На полка´х (курсив здесь и далее мой. — Н. К.) сидит как белая кошка»[141]; «Хозяин байны выскочил из-под полка´»[142]; «Ко мне из-под полка человек выходит». «<…> а из-под полка страшной старик и вылез. Работник им веники распарил, оба они и мылись, а потом старик скатился под полок»[143]. Баенник «поселяется во всякой бане за каменкой, всего же чаще под полком, на котором обычно парятся. <…> движения его всегда можно слышать в ночной тишине — и под полком, и за каменкой, и в куче свежих неопаренных веников»[144]. Именно здесь наблюдаются признаки некоего подпространства и параллельной жизни, выходящих за рамки привычных измерений: «У нас была старуха; вошла в баню не перекрестилась, повесила около полка „повязку“ (платок) и села мыться. Видит, из-под полка просовывается рука к повязке и тянет. Ведь утянула, не могли на другой день найти и под подполком»[145]. С полком связано не только пребывание баенника, но и наказание моющегося, нарушившего тот или иной банный запрет: «<…> а когда полез на полок париться, то никак не мог оттуда слезть подобру-поздорову»[146]; «А баенник у ней взял кожу снял, посадил взял на полок и на голову взял положил шайку»[147]. Особый сакральный характер полков обнаруживается в более архаической, карельской традиции, где они названы «священными (созданными предками) настилами»[148]. По-видимому, семантика полка приближается к семантике каменки, и вместе взятые они представляют собой единый древесно-огненно-водяной комплекс, что подкрепляется и архитектурно-этнографическими материалами: «и тут же у каменницы всю остальную длину стены занимает полок»[149]. Банное пространство заполнено предметами, казалось бы, сугубо бытового назначения. Это всевозможные тазы, кадки, ушаты, шайки, ковши. Так или иначе они связаны с водой — при определенных условиях живой, превращающейся в кровь. Эта стихия, в известной мере являющаяся и эмблемой водяного, заключает в себе очистительную, целебную, жизнетворную силу. Предметы, относящиеся к банной утвари, служат как бы дополнительными координатами сакрального, принадлежащего баеннику пространства. Они же при случае превращаются в атрибуты баенника: вспомним бывальщину, в которой данный мифологический персонаж, посадив моющуюся женщину на полок, надевает ей на голову шайку. В поздней традиции все, из чего моются, равно как и сама баня, считается нечистым[150]. Но это уже связано с постепенным переосмыслением бани, обусловленным дискредитацией самого ее «хозяина», с низведением его из домашних божеств в нечистую силу. Баенник обычно локализуется в замкнутом, ограниченном стенами сруба пространстве. Каменка, полок — излюбленные места его нахождения. Лишь изредка этот персонаж локализуется на чердаке: «Только начала мыться, а ей с потолка на голову словно грабли тянутся. <…> А это ее банник страшшал за то, что поздно в баню пошла»[151]. Банное пространство в какой-то мере ограничивается углами сруба: «Слышу, когда мама ушла, шестом — раз! — по углу, раз! — по другому, третьему, четвертому — раз! — кирпичи от трубы падают»[152]. Вместе с тем оно может приобретать как бы четвертое измерение: «хозяин» поднимается из-под пола, вернее, из-под половицы: «Поднялась той порой половица — и вышел сам баенник»[153]; «Вдруг в бане все ходуном заходило, начали ворочать мост под ногами»[154]. Банное пространство может продолжаться и за пределами самой постройки, подчас оказываясь «на росстани» стихий: берега и водоема, земли и неба, жизни и смерти. Так, в сказке «Виноград Виноградович», рассказанной М. М. Коргуевым, с помощью трех банных половиц («трех десничин») удается проехать, как по мосту, до самой середины моря[155]. В локализации баенника немаловажное значение имеет и порог. На основе севернорусских этнографических материалов П. С. Ефименко заключает: «Порог — как бы стража. На нем сидеть или стоять нельзя. Подавать, брать или разговаривать через него тоже нельзя»[156]. Аналогичные верования обнаруживаются и при рассмотрении карельских материалов[157], равно как и традиций народов мира[158]. «В большинстве приведенных примеров запрещение сидеть на пороге или прикасаться к нему является всеобщим и абсолютным: никому никогда и ни при каких обстоятельствах не разрешается, по-видимому, нарушить этот запрет»[159], — заключает Дж. Дж. Фрэзер (Фрейзер). Однако севернорусские материалы с достаточной определенностью показывают, что моменты, когда такие запреты все же нарушались, на самом деле имели место. Прежде всего, это могло произойти во время гадания: «В бане слушают, сидя на пороге или стоя (курсив здесь и далее мой. — Н. К.). В этом случае нечистого (баенника. — Н. К.) редко увидишь. Чаще слышишь его голос, глухо раздающийся из-под каменки»[160]. Нарушение запрета наблюдалось и во время колдовства: «выходя из бани, (девушка. — Н. К.) правой ногой стоит за порогом на земле, держа левую на пороге»[161], и произносит магические слова заговора — присушки, призванные оказать желаемое воздействие на ее возлюбленного. Порог фигурирует и в представлениях, связанных с верой в возможность вызова баенника по своему желанию: «Говорят, что если есть охота увидеть черта (сниженный образ интересующего нас персонажа. — Н. К.) в бане, надо зайти в нее в ночное время и, заступив одною ногою за порог, скинуть с шеи крест и положить его под пяту ноги»[162]. Как видим, в приведенных поверьях человек, вступающий в баню либо выходящий из нее, оказывается одновременно в двух мирах и двух измерениях: одной ногой он стоит в сакральном банном пространстве либо на его границе (порог), другой — за пределами этого пространства. Цель гадающего или колдующего не столько сохранить покой мифического существа, связанного с порогом, сколько, наоборот, потревожить его, чтобы вызвать появление этого духа, заручиться сверхъестественной помощью и магической силой. Подобные представления объясняются, по словам С. А. Токарева, верой в духов, обитающих под порогом, — духов предков[163]. К аналогичному выводу в сущности ранее пришел Дж. Дж. Фрэзер: в «языческой России» под порогом ютились домашние божества, души умерших людей или души животных[164]. Такие верования непосредственно связаны с обычаем хоронить у входа, под семейным порогом, умерших[165]. У некоторых народов зафиксированы факты погребения мертвых под полом своих жилищ[166]. В этом свете следует повнимательнее присмотреться и к упомянутому выше обряду, в соответствии с которым под порогом новой бани, в земле, хоронят черную курицу, причем ее не режут, а душат, не ощипывая перьев. Поскольку, согласно анимистическим верованиям, в крови и волосах (эквивалент: перья, шерсть) содержится душа, жизненная сила, становится совершенно очевидным, что цель этого обряда, как и обряда принесения строительной жертвы, — заполучить душу, дух для новой постройки[167]. Связано ли принесение в жертву курицы с древнейшими представлениями о тотемных или священных животных либо речь идет уже о заместительной (вместо человеческой) жертве, не столь важно: мыслительная основа обряда остается, в сущности, неизменной. Отмечая обособленность баенников для каждой отдельной семьи, Н. Н. Харузин предположительно связывает представления об этих мифологических персонажах с культом предков, быть может, в бане и похороненных[168]. Как соотносятся между собой верования, связанные с очагом (каменкой) и порогом? С точки зрения Л. Я. Штернберга, они тождественны: «Пережитком хоронения возле дома является культ порога и культ очага, ибо это было местом погребения, и, хотя эта форма погребения уже исчезла, мы встречаемся с поверьем, что под очагом покоится предок, „хозяин“ очага, „хозяин“ порога»[169]. Совмещались ли функции «хозяина» того и иного локуса изначально или они объединились в процессе эволюции двух самостоятельных образов? Мы предполагаем последнее. Итак, банное пространство принадлежит названному мифическому существу полностью. «Банник <…> недоволен всяким, покусившимся на его права, хотя бы и временно»[170], — отмечает С. В. Максимов. В некоторых традициях (например, вологодской) он владеет этим пространством настолько безраздельно, что крестьяне в баню вообще не ходят, предпочитая париться в русских печках, которые занимают треть избы[171]. Использование же бани по ее прямому назначению сопряжено с определенной регламентацией, нарушение которой чревато для посетителей незамедлительным наказанием. В результате подобных представлений и сама баня осмысляется как некое мифическое существо.
Сакральный час
Баенник имеет определенные координаты не только в пространственном, но и во временном измерении. Время его появления (его инкарнации) можно определить как «пороговое», причем оно связано с переходами разного уровня и разной значимости. Часто это «порог» (рубеж) между сменяющими друг друга временами суточного цикла: «в полночь»[172], «в двенадцать часов ночи»[173], «после полуночи», «после полуночного часа»[174]. Днем же мифические существа встречаются редко, а если и встречаются, то именно в полдень: «В летнее время, в двенадцатом часу дня, все бесы сходятся вместе на берегах рек, озер; поэтому народ в упомянутый час дня боится купаться в реках и мыться в банях (курсив мой. — Н. К.) из опасения, чтобы не погибнуть от бесов»[175]. Причем под бесами понимаются «лесовики, домовики, баенники, овинники». Семантика «полудня» в севернорусской традиции почти стерта. Она обнаруживается в восточнославянской, в частности белорусской, мифологии, где полночь и полдень не только в известном смысле эквивалентны, но даже персонифицируются[176]. «Вообще полдень и полночь считаются моментами таинственными и критическими»[177], — замечает Д. К. Зеленин. Иногда аналогичную семантику имеет время перед закатом или восходом солнца. Баенник появляется и на рубеже недельного цикла, будничного и воскресного дней, иначе говоря, на стыке недель: «поздно под воскресенье»[178], «поздно субботним вечером»[179]. Его видят в течение годового цикла, накануне крестьянских календарных праздников, начинающихся с вечера предыдущего дня и посвященных божеству (Богу)[180], «перед праздником, <…> после полуночного часа»[181], и особенно «в святочную ночь»[182], «о Святках»[183], в рождественский и крещенский сочельник[184]. [Святки зимние продолжаются 12 дней: с 25 декабря/7 января по 6/19 января, от Рождества до Крещения; в канун этих праздников отмечается рождественский и крещенский сочельник.] Святки представляют собой, по сути дела, довольно продолжительное «пороговое» время. Этим народным зимним праздником оканчивается один год и начинается другой[185]. Данный переход связан с состоянием природы. Ведь Святой вечер, совпадающий с рождественским сочельником, означает к тому же «перелом» зимы[186]. Святки осмысляются как праздник возрождения солнца, канун же Нового года (ночь на Новый год) — как время встречи возродившегося солнца[187]. Вместе с тем прослеживается связь рождественских праздников с культом предков[188], к которому имеет отношение и рассматриваемый нами баенник. И лишь с укреплением христианства Святками в просторечии стали называться дни праздника Рождества Христова. Столь же возможно, по мифологическим рассказам и поверьям, появление баенника и «в ночь на Великий день Пасхи»[189] (Пасха, Великий день, Светлый день). Этот праздник также связан с «пороговым» временем: само слово «Пасха» происходит от древнееврейского глагола passah, что значит «переходить», и празднуется в первое воскресенье после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния[190] (приходится на период с 22 марта по 25 апреля по ст. ст.). Есть свидетельства, что появления баенника можно ожидать и в ночь на Ивана Купалу, празднование которого связано с летним солнцеворотом. Эти крестьянские праздники — сложный конгломерат элементов, принадлежащих языческой и христианской обрядности. Так или иначе они соотносятся с традиционными представлениями о рождении, крещении, смерти и воскресении божества (Бога) как проявлениях всеобновляющего круговорота в природе и человеческой жизни. Баеннику в поздних мифологических рассказах и поверьях выделено в основном ночное время (четверть суток): его приход связан с полночью, а исчезновение — с восходом солнца, с пением петуха[191]. Между тем его присутствие в бане, в иное время уже невидимое, предполагается постоянно. Не случайно, например, входя в баню, у ее «хозяина» спрашивают позволения попариться и благодарят его по выходе[192]. И все же контакты «того» и «этого» миров активизируются именно в «пороговое» время[193]. Итак, в мифологических рассказах и поверьях баенник появляется, получив то или иное воплощение, при пересечении сакральных времени и пространства как определенных координат пребывания его в «этом» мире, когда он оказывается за пределами привычного «параллельного», «тонкого» мира. Образ баенника — в данном случае воплощение представлений, связанных с этими координатами. К сказанному остается лишь добавить, что необходимым условием появления баенника служит вера в его существование.Вершитель жизненного цикла
Осмысление полисемантического образа баенника в мифологической прозе прежде всего в качестве предка-родоначальника[194] обусловливает его появление в быличках, бывальщинах и поверьях, этнографическим субстратом которых так или иначе служат семейные обряды: родильные, свадебные, похоронные. Известные в науке как переходные, они знаменуют собой своего рода «переломы», равно как и круговорот, в общественной, семейной жизни коллектива и в природе.«Сынове бани»
Функции баенника в этих мифологических рассказах и поверьях довольно разнообразны. В них, например, прослеживается определенная связь между баенником и новорожденным: «Все твердо убеждены, что баенник очень любит, когда приходят к нему жить родильницы до третьего дня после родов, а тем паче на неделю»[195], — отмечает С. В. Максимов. Баенник имеет несомненную власть над новорожденным, появлением которого эта власть, в сущности, и обусловлена: баенник поселяется в бане после того, как в ней побывает роженица[196]: «Раньше еще как говорили: если роженица не сходила в баню, то и обдерихи нет, а если пошла, ну роженица, родит и мыться пойдет, и там потом обдерихи»[197]. В суждениях же о самом соотношении новорожденных и «хозяек» бани мифологические рассказы довольно противоречивы. С одной стороны, новая обдериха появляется после рождения каждого младенца в семейно-родовой общине, связанной своими культами с конкретной баней: «Сколько вымыто, как родились, столько обдерих»[198]. В таком случае этот женский персонаж выступает в роли своеобразного двойника новорожденного. С другой стороны, обдериха появляется в бане только после рождения сорокового ребенка[199], т. е., по сути, с формированием целой семейно-родовой общины. Власть духа-«хозяина» над новорожденным следует рассматривать сквозь толщу позднейших наслоений, трансформаций и переосмыслений, которые претерпевает образ баенника, снижаясь с высот домашнего божества до уровня нечистой силы (черта). В общерусской традиции распространены мифологические рассказы о том, как баенник (баенница) похищает младенца-девочку и растит ее до совершеннолетия, обычно оставляя взамен унесенного ребенка обугленное полено, чурку, веник, принимающие соответствующий антропоморфный облик, а то и самого «банного дитенка» как эквивалент новорожденного: «В бани-то воды не хватило, мать оставила дитё, а пришла с водой, а ребенок будто тот — а не тот»[200]. Такой «омменыш» выглядит как хозяйский ребенок, только голова у него оказывается вытянутой («как череп у рыбы длинный»), глаза становятся большими-большими, а руки-ноги тонкими и кривыми. Будучи необычайно прожорливым, он не растет, не ходит и живет недолго. Чтобы определить обменыша, надо смотреть на его лицо «сбоку», в профиль: «спереди» он может ничем не отличаться от человеческого дитяти[201]. Принимая же изначальный облик, он превращается в веник-«голик»: «Молодка-то подошла к зыбке-то, да взяла робенка да об пол бросила. Тут робенок сделался голиком. Молодка-то и говорит: „Вот, родители, кого вы кормили вместо меня, обменила меня обдериха“»[202]. Во власти мифического похитителя оказываются, как правило, проклятые или некрещеные (неперекрещенные) дети: «Когда мать меня мыла в бане, то заругалась и сказала: „Хоть бы баянник взял тебя“. И вот я с тех пор очутилась в бане и семнадцать лет уже прошло»[203]; «У царя жонка принесла девушку, да не перекрестясь в бане повалила на полок. Ее нечисты и забрали»[204].
Рис. 5. Севернокарельская баня. Д. Вокнаволок
Обычай рожать в бане зафиксирован у многих народов, в том числе и у русских, что нашло отражение, например, в причитании Ирины Федосовой:
«Невеста из бани»
Мифологические рассказы и поверья о баеннике генетически связаны с различными семейными ритуалами. Есть единичное свидетельство, что появление духа-«хозяина» в каждой конкретной бане обусловлено совершением не только родильных, но и свадебных обрядов: «Обдериха-то, в новой бани нет ее. Пока невесту не сводят, нету обдерихи. А как невесту заведут, дак заходит»[235]. Однако в мифологической прозе преобладают рассказы, в которых к моменту обряда дух-«хозяин» бани уже наличествует. Согласно бывальщинам, похищенная в младенческом возрасте девочка может оставаться во власти баенника вплоть до совершеннолетия, в конечном счете до свадьбы. В поздней традиции мотивировкой такого заточения служит проклятие матери наподобие приведенного выше: «Хоть бы баянник взял тебя»[236]. Или: «Вот это мать прокляла ее, послала к черту, а черт это услышал, взял ее и забрал, эту девочку. Забрал ее и ростил до восемнадцати лет, до совершеннолетия. Воспитывал. <…> Он не черт был, а вот этот банник самый»[237]. Однако здесь нетрудно рассмотреть знакомые нам по сказке очертания архаического мотива, в котором достигшая половой зрелости девушка подвергается изоляции, предшествующей браку[238]. Причем в бывальщине местом заточения служит баня, каменка — то мифологическое пространство, которое принадлежит баеннику, сочетающему признаки предка-родоначальника и домашнего божества. Баенник сам определяет время перехода своей подопечной в мир людей, сопровождаемого сменой ее состояния и статуса. Своего рода порогом служит в данном случае свадьба, о чем заботится сам баенник либо соответствующий женский персонаж — обдериха: «Ну, ты уже совершеннолетняя. Тебя, гыт, нужно замуж выдавать»[239]. При этом он обнаруживает определенную настойчивость по отношению к озадаченному жениху: «Сулился, так бери…»[240]. Иногда инициатива принадлежит самой «невесте из бани»: она ловит парня, зашедшего ночью в баню, в момент, когда он хочет взять из каменки «камешок», и не без угрозы предлагает себя в жены. Исход обычно предрешен: «у обдерихи-то жонился»[241]. Отказ невозможен: он грозит бедой. Из сказанного следует, что изоляция девушки в бане обусловлена не столько похищением ее в небытие мифологическим персонажем, сколько необходимостью выдержать определенный срок, в течение которого невеста преодолевает состояние лиминальности, обретая облик, а затем и статус. Какие же признаки лиминальности ей предстоит преодолеть? В некоторых вариантах рассматриваемого сюжета не имеющая облика девушка совершенно невидима и может остаться таковой навсегда, если в означенный срок не выйдет замуж:: «Она в бане росла до восемнадцати лет, но только невидимая была. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, он (баенник. — Н. К.) ее видимой сделал и говорит: „Вот если придет, — говорит, — сюда парень молодой, если он откажется жениться на тебе, то ты вообще не выйдешь замуж и будешь такая же невидимая. Никто тебя не увидит, и вообще ты будешь одна“»[242]. «Невеста из бани» не просто невидима: она не имеет ни формы, ни внешнего облика, ни одежды, некогда носившей знаковый характер, ни определенного статуса. Не имея своего облика, она ничем не отличается от себе подобных: «Приходи в двенадцать часов ночи в баню со сватами. Выйдет нас двенадцать девок, а чтобы ты меня отметил из всех нас одинаковых (курсив мой. — Н. К.), я ленточку на плечо себе пришью»[243]. Все это признаки лиминального существа, которое лишь по мере завершения переходного («порогового») периода шаг за шагом обретает человеческие свойства, вступая в качественно новое состояние: «В воротах стретил ю и крест наложил, и она нагой женщиной оцутилась. И она не идет нагой в избу. „Принеси мне кабот“, — говорит. Вот она жонкой еговой сделалась»[244]; «„Давай мне платье, нижнее белье — все“. Взял, чтобы, значит, одеть-то полностью. Пришел туда, в баню. Опять в такое же время, ночью. В это же самое время пришел. Она ждет. — „Пришел, — говорит, — принес мне одежду?“ — „Принес“. Она одевается. Он еще не видит, как она оделась. Она была совершенно голая. Девушка. Он ее ведет, видит очертанья, а лица сам не видит. Когда завел ее в избу, она оказалась такой красавицей! Вот писаная красавица»[245]. Обычно же «невеста из бани» обретает облик лишь после венчания: «В церковь пришли, окрестили, поставили к венцу, обвенчались. Приехали, смотрят: красавица девка, статна така»[246]. Знаки отсутствияу невесты формы, внешнего облика и последующего затем ее воплощения обнаруживаются и в свадебных обрядах: если в моменты, значимые с мифо-ритуальной точки зрения (по выходе из бани, на пути к венчанию и после него), невеста покрыта с головы до колен темным, даже черным платком, то в доме молодого она освобождается от покрывала, обретая в качестве символа своего нового статуса головной убор — повойник, с которым не расстается всю жизнь[247] (эквивалент: обретение формы, облика). Вообще, лиминальное состояние невеста переживает в период от просватанья до венчания, иногда и позднее. Знаками его является черная/темная или старая/поношенная одежда.
Рис. 6. Бани в д. Вокнаволок. Северная Карелия
Возможно, что в рассматриваемом мотиве бывальщины из-под толщи наслоений просвечивают и некоторые рудименты мотива женских инициаций. Их признаками служит осмысление бани как некоей могилы и одновременно утробы, где девушка подвергается длительной изоляции, и совершеннолетия как перемены ее состояния, вследствие чего она получает право на брак. Знаками, маркирующими инициируемую, служит ее невидимость, раздетость[248]. Связь свадебной бани с обрядом инициации обнаружил, основываясь на коми фольклорно-этнографических материалах, Ф. В. Плесовский: именно в бане происходит «обрядовое общение девушки с тотемом», после чего она получает право на брак[249]. Аналогичные представления отражены и в свадебной поэзии, где каждая выдаваемая замуж девушка — по сути дела «невеста из бани». Только в мифологических рассказах и свадебных (банных) причитаниях происходящее освещено как бы в разных ракурсах: в бывальщине в фокусе оказывается действие (либо последствие действия) прежде всего баенника, в лирическом произведении — ритуальное поведение невесты (баенник полностью остается за кадром). Как и в бывальщине, в причитании девушка переживает временную смерть[250]. В мифологических рассказах это похищение и изоляция в потустороннем мире; в лирике — это потеря имени, волос, воли[251] как вместилищ души, жизненной, физической и магической, силы. Не случайно в некоторых локальных русских традициях зафиксирован обычай, в соответствии с которым подруги невесты, находясь с ней в бане, ударяют ее веником со словами: «Бросай девицью волю»[252]. Семантика этого обычая легко прочитывается: невеста должна оставить свою душу в семейно-родовом святилище, в качестве которого выступает баня. Такое прочтение данного элемента обряда подкрепляется и зарегистрированным у многих народов (не только славянских) обычаем, в соответствии с которым невесту подвергали строгому длительному (иногда сорокадневному) посту, в результате чего она не могла ходить и ее переносили на руках[253]. Воскресение же (восстановление, воплощение) изображается практически лишь в мифологических рассказах («Когда завел ее в избу, она оказалась такой красавицей!»), оставаясь завуалированным в причитаниях. Признаки намечающегося воскресения можно, однако, усматривать в характерном для свадебных причитаний мотиве переодевания невесты после обрядовой бани. Такое переодевание символизирует в народной поэзии перевоплощение, обретение нового облика. Ведь одежда, которую собирается обновить невеста, маркирована знаками перехода. Она сшита и вышита в шестидневный период, особо значимый в мифолого-семантическом отношении — от Иванова до Петрова дня (24–29 июня по ст. ст.)[254], освящена причастностью к ней языческих и христианских божеств. Надевший подобную одежду человек являет собой уменьшенную копию макрокосма, занимая свое место в общем мироустройстве в качестве микрокосма:
На краю бытия
С баенником в мифологической прозе связана и смерть человека. Наиболее часто она мотивируется нарушением определенных запретов. Одно из них — появление в бане в неурочный час: «Про банника говорят, что он не любит того, кто позднее двенадцати часов ночи моется в бане. Если этот моющийся один в бане, то банник убивает его камнем»[268]; «Пошел какой-то мужик поздно, под воскресенье, в баню. Ждали, ждали домашние, а его все нет. Наконец, приходят туда, а он уже растянут на горячей каменке. Мужик был мертв. Положили, что это устроил с ним баянник»[269]. Особенно опасно для человека появление в бане, да еще одного, в «третий (четвертый) пар», принадлежащий самому баеннику (обдерихе): «а задавить он может <…> и всякого человека, идущего в четвертую смену, но непременно в полночь»[270]; «Как вот сказано — в байне одной мытца нельзя, обдериха сгубит, так оно и есть. У нас жонка одна шустрая говорит: „Пойду одна в байну на третью смену, когда обдерихи моюца“. И пошла. И час нету, и другой нету. А пошли за ею, а она под пол в шилья загнана, а кожа на каменке виснет. Обдериха ободрала»[271]. Властен баенник и над жизнью человека, оказавшегося в бане без креста. Согласно одной из быличек, крестьянин, запоздав в дороге, пошел в баню перед праздником, после полуночного часа, т. е. в момент активизации ее духа-«хозяина». Раздеваясь, он вместе с рубахой «прихватил» с шеи крест, связанный с христианской символикой и представленный в данном случае как оберег от негативно переосмысленного мифического существа. Последствия не заставили себя долго ждать. Его, забравшегося париться на полок, стали сами по себе хлестать по бокам веники, в которых нетрудно усмотреть эманацию самого банного духа-«хозяина». Когда же крестьянин попытался «сунуться» в дверь, то она оказалась так плотно закрытой, «что и не отдерешь». А веники, между тем, все продолжали его хлестать[272]. В некоторых бывальщинах гнев баенника, ведущий к гибели человека, носит нравственно-морализаторский характер: с бабы, которая бранила и посылала своих детей к черту, «байнушко» сорвал кожу с ног до головы. Имеется, однако, немало мифологических рассказов, где смертельный исход встречи человека с баенником никак не мотивируется, являясь как бы закономерным. Исходя из сказанного, формы расправы с человеком довольно разнообразны: дух-«хозяин» может вошедшего в баню убить камнем, задавить, распять (растянуть) на горячей каменке, содрать с него кожу, загнать в щель, затянуть в каменку, исхлестать веником. На тех, кем баенник недоволен, он считает себя вправе навести угар либо плеснуть крутым кипятком («четвертого пара все боятся: „он“ накинется — станет бросаться горячими камнями из каменки, плескаться кипятком»[273]; «вдруг обдериха окатит неожиданно кипятком»)[274]. Иногда баня изображается как своего рода домовина либо вместилище для гроба: «Один бесстрашный тоже в баню пошел, да долго оттуда и нейдет. Пошли к дверям звать его, а его не пускают. Стали в дверь стучать, а ему только больнее от этого. Зовут его, а он и говорит: „Вот, — говорит, — мне сейчас гроб делают“. И слышат снаружи, что в бане пилят и стругают, и топором стучат. Он кричит: „Вот теперь, — говорит, — заколачивают!“ И слышно, как гвозди вбивают. Утром вошли, а он мертвый, в гробу, середи бани»[275]. Лишь «знающим» людям (знахарям, колдунам) подчас удается проникнуть в ставшее замкнутым и смертоносным банное пространство, чтобы спасти погибающего в нем: «Спохватилась баба, что долго нет мужа, стала в оконце звать — не откликается, начала ломиться в дверь — не поддается. Вызвонила она ревом соседей. Эти пришли помогать: рубили дверь топорами — только искры летят, а щепок нет. Пришла на выручку баба-знахарка, окропила дверь святой водой, прочла свою молитву и отворила. Мужик лежал без памяти, насилу оттерли его снегом»[276]. Избавиться от смерти в бане удается подчас посредством переодевания. Как повествуется в одной из бывальщин, некая «девка бесстрашная» пошла ночью в баню, похваставшись, что сошьет там рубаху и обратно вернется. Ее обступили вокруг чертенята, как бы замкнув магическое пространство, и стали в подол сарафана вколачивать гвозди. Тогда девушка, спустив с себя одежду, которая была на ней, и надев новую, только что сшитую рубаху, выскочила из бани. Так она избавилась от неминуемой смерти: когда наутро вошли в баню, то увидели одни только клочья от ее сарафана[277]. В этом трансформированном мотиве заметны, однако, черты мифологемы, этнографическим субстратом которой служит обряд перехода: сбрасывание прежней одежды и переодевание в новую в данном контексте — знак перевоплощения, изменения облика. В бане же человек расстается со своей душой. Встречаются поверья, в соответствии с которыми тяжело болеющего, но долго не умирающего крестьянина переносят в баню, крышу которой приподнимают осиновым колом, чтобы дух бани скорее взял его душу. Правда, в данном случае подобное поверье уже трансформировалось: умирающий «вел дурную порочную жизнь», душу его забирает «черт»[278], но это не меняет сущности самой коллизии и ее локализации. Осмысление бани в качестве домовины или вместилища для гроба поддерживалось соответствующими архаическими верованиями и обрядами, подобными тем, которые были зафиксированы, например, в Ингерманландии, где умершего помещали (хоронили) именно в бане[279]. Согласно одной из среднерусских (смоленских) бывальщин, умершую девушку отпевают первые три ночи именно в бане: «Jон (солдат. — Н. К.) узяў с сабою свячей, ладану и книгу, пашоў ў баню (курсив мой. — Н. К.), сеў на стаўбе и давай книгу читать»[280]. А затем «караулят» ее три ночи в церкви. И баня, и церковь осмысляются как тождественные локусы, связанные в данном случае с похоронным обрядом. Только первый из них храм языческий, а другой христианский. Назначение совершаемых в том и другом локусе действ — обеспечить воскресение умершей, что в буквальном смысле и происходит в рассматриваемой бывальщине. Баня в мифологических рассказах предстает как своего рода «медиативный центр» между мирами. Здесь возможна встреча живых и мертвых: «Стояла у нас на Курмышке (в Симбирске) баня в саду. Осталась после хозяйки умершей дочь-невеста. Все она об матери плакала. И пронесся слух, что мать к ней по ночам змеем летает. Прилетит это к полуночи и над трубой рассыплется. Похудела бедная, иссохла, ни с кем не говорила и все в полдни в баню ходила. Стала за ней тетка подсматривать, зачем это Душа в баню ходит. Раз досмотрела и услыхала, что она с матерью-покойницей говорит, и обмерла со страху»[281]. Однако для такой встречи необходимы определенные предпосылки. Прежде всего переходное, «пороговое» время: полночь, полдень. С покойной матерью, прилетающей в баню в облике змея (и сам баенник может воплощаться в змея), встречается «дочь-невеста», т. е. девушка, близкая к «пороговому» (лиминальному) состоянию между «уже не-жизнью» и «еще не-жизнью»,[282] либо претерпевающая это состояние. Аналогичная по своей сути коллизия прослеживается и на этнографическом материале: «а после бани водят невесту на могилу к родителям, если таковые умерли»[283]. По сравнению с описанным в бывальщине действие в данном случае имеет противоположную направленность и локализацию: девушка сама идет к покойным родителям. Взаимосвязь миров осуществляется как бы за пределами бани, хотя ею обусловливается и освящается. Контакты в бане с мертвыми (и особенно при нарушении запретов) могут закончиться для живых трагически: погибает «девушка-невеста», выдавшая тетке тайну общения со своей покойной матерью. Чудом остается в живых женщина, истопившая баню для покойника («глаза оловянные и зубы железные»), пришедшего в дом в облике ее мужа[284]. Возможность появления в бане умерших некогда предусматривалась обычаем, по которому в Чистый четверг (т. е. четверг на последней, Страстной, неделе Великого поста, предшествующей Пасхе и посвященной воспоминаниям о страданиях Спасителя), осмысляемый в народных верованиях как день выхода мертвых. Поминая усопших, им топили баню: «И приходят топившеи мовници и глядають на попеле следа и егда видять на попели след и г(лаго)лють: приходили к нам навья мытся»[285]. Причем навья появляются в птичьем (курином) облике, возможно, в соответствии с принесенной при строительстве бани жертвой: «и порплются в попели том, яко и кури след свой показають на попеле». Но с пеплом же в народных поверьях часто связан и дух очага (домовой или баенник). Значит, покойники и домашние духи в известном смысле эквивалентны. Об обычае топить баню навьям, сохранившемся в оболочке двоеверия, упоминается еще в Слове «к невежам», Слове Златоуста и Слове святого Григория[286]. Еще в памятниках XI в. содержатся рассказы о бане, которую в Чистый четверг топят для предков[287]. Этот день также связан с представлениями о переходном, «пороговом» времени: с ним в старину совпадало празднование Нового года, который раньше отмечался в начале марта[288]. Соотнесенность Чистого четверга с «пороговым» временем раскрывается и во включенности этого дня в период Великого поста, называемого иначе Четыредесятницей и — соответственно — исчисляемого опять-таки сорока днями. В течение их верующие готовились к празднованию Пасхи, отмечаемой в первое воскресенье после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния и осмысляемой как воскресение (обновление) после временной смерти, лиминального состояния. Поздне´е появление в бане покойников может быть и не связано с поминальными обрядами: «Про эту баню ходили страшные слухи, что будто бы в полночь сюда приходили с погоста мертвецы. А погост от бани был недалеко»[289], — что усиливает соотнесенность образа баенника с культом предков. Как видим, в мифологических рассказах и семейных обрядах баня и баенник связаны с рождением, инициациями, свадьбой и смертью человека. Из века в век и из года в год бани приготовлялись и накануне больших праздников, перед именинами или с дороги, не говоря уже о еженедельных, чаще субботних, банях[290]. Вместе с тем в мифологических рассказах и поверьях по мере их эволюции все отчетливее обозначается конфликт между языческим по своему происхождению обычаем мытья в бане накануне языческих же праздников и запретом на ее посещение перед христианскими праздниками и воскресными днями, исходящим уже от церкви. Баня осмысляется как некое сакральное пространство (благожелательное и вредоносное), где совершается таинство перехода к важнейшим этапам жизненного цикла. Здесь властвует идея круговорота, стирающая грани между жизнью и смертью, бытием и небытием, реальным и потусторонним мирами, между сиюминутным и мифическим, профанным и сакральным временем, между прошлым, настоящим и будущим.
Рис. 7. Дверные кольца со стукальцами
Из мифологических рассказов и поверий баня предстает как некое вместилище, средоточие душ (своего рода тотемический центр), откуда эти души, воплощаясь, появляются и куда они со временем возвращаются. В постоянном, всеобновляющем круговороте баеннику отведена роль медиатора между мирами, вершителя жизненного цикла.
Дух-устроитель «банных чар»
Исцеление
Дух-«хозяин» бани выступает и в качестве дарителя здоровья. Мифический целитель в силах избавить человека от недуга, но может и напустить на него болезни. В русском фольклоре роль баенника как дарителя здоровья обычно уже завуалирована, хотя подчас и угадывается в некоем женском персонаже, фигурирующем в заговорах: «Бабушка Соломония мыла парила раба Божия N в парной байне. <…> Пойдите, грыжи, из сеньцей воротми, из байни дверьми, в чистое поле»[291]; «Встану благословясь, выйду перекрестясь, из ворот в ворота, во чистое поле, в восточную сторону. В восточной стороне стоит золотой столб, в золотом столбе золотая баня, в золотой бане золотой стул. В золотом стуле сидит золотая баба и держит золотой веничек, шелкову шириночку. Веничком попарит, шириночкой помажет чес, вороб и всякую болезнь. Во веки веков. Аминь»[292]. Эквивалентом банного целителя нередко оказывается и наделенный магической силой герой волшебной сказки: «После обеда Ивашко-Медведко истопил баню, и пошли они париться. Вот Усыня с Дубынею да с Горынею моются и все норовят стать к Ивашке передом. Говорит им Ивашко: „Что вы, братцы, от меня свои спины прячете?“ Нечего делать богатырям, признались, как приходила к ним баба-яга да у всех по ремню вырезала <…>. Ивашко сбегал в чулан, отнял у бабы-яги те ремни, приложил к ихним спинам, и тотчас все зажило»[293]. Исцеление баней подчас приписывается даже историческому лицу, наследующему функции мифологического персонажа, что наблюдается в преданиях: взяв воды из родника, Рокаччу облил Петра в бане — и тот сразу же выздоровел[294]. В более архаических традициях (например, в мордовских заговорах) роль баенника как дарителя здоровья достаточно очевидна: «Властелин-хозяин, хозяйка бани, мы обращаемся с молитвой к вам <…>: уберегите нас, когда мы моемся в бане, от всякого вреда и всякой болезни»[295]. Именно дух бани советует больному целебные средства, важнейшие из которых — вода и огонь: «Вода как мазь, пары как жир, а бог как целитель»[296]. Причем под богом подразумевается не кто иной, как баенник. В народной медицине особое значение придается «живому», «святому» огню, т. е. добытому посредством трения дерева о дерево, и особенно на пороге бани. Для лечения пользуются также «живой» водой, зачерпнутой из «святых ключей», «живого родника»[297], из порога реки, т. е. водой, только что пробившейся из-под земли. И то, и другое, и третье осмысляется как новая, непочатая, ранее не использованная стихия. Особые целебные свойства вода приобретает в день Крещения (отсюда крещенские купания)[298], на Ивана Купалу, а также в Великий, или Чистый, четверг[299], т. е. в переходный («пороговый») период, связанный с началом нового года либо с солнцеворотом, зимним и летним. В некоторых севернорусских деревнях в качестве целебного средства используют собранный накануне Ивана Купалы (23 июня) пук разных трав и цветов, особенно папоротника. Свежим пучком обтирают тело в бане, истопленной в тот день как можно жарче. После такой процедуры, согласно поверьям, никакая болезнь не пристанет в течение всего года[300]. Целебно и «хвостание» веником: оно имеет не только магическое, но и реальное лечебное воздействие на организм[301]. Вместе с тем существовал обычай «отпугивать» болезнь, размахивая голиками-вениками[302]. Укрепить здоровье можно используя в лечебной бане щепки от разбитого грозой дерева[303]. Излюбленным целительным средством служит и зола, взятая из «каменцы» (банной печи)[304] и осмысляемая как соединение огня и дерева. И в данном случае, по сути дела, реализуется все та же выявленная нами фольклорная формула человекотворения, представленная в различных сочетаниях и вариациях: вода («живая» вода) + огонь («живой» огонь); дерево (щепки от разбитого грозой дерева) + огонь (каменка; как можно жарче натопленная баня), т. е. в конечном счете зола. Лечение осмысляется и как изгнание болезни, происходящее в бане и обусловленное ее воздействием, санитарно-гигиеническим, лечебным, магическим: «Цехота-сухота, пойди, цехота, пойди из избы дверьми, по байни дымишком, по улицы ветром-вехорём, пе´рвом прокатись». Этими магическими словами сопровождается действие, троекратно совершающееся в бане: «Моешь да обкациваешь до трех раз. Перва баня утром, другая в полдень, третья вецером»[305]. Одухотворяет же этот процесс человекотворения (в данном случае лечения, осмысляемого как возрождение, восстановление, обновление), а также изгнания болезни дух-«хозяин» бани. Однако баенник не всегда благосклонен к человеку. Особенно к тому, кто непочтительно с ним обошелся. В таких случаях, представленный уже в качестве «баенной нечисти», он может наслать болезни, вследствие чего на тело «придут» всевозможные сыпи и чирья[306] или иной недуг. В одной из севернорусских быличек повествуется о том, как у девушки, пнувшей ногой в бане черную собачку, в облике которой явился моющимся сам баенник, чернеет и надолго заболевает нога[307]. Распространен сюжет, этнографическим аналогом которого является просьба пострадавшего о прощении. Так, в одной из быличек парень, идущий в армию, просит «знающую» бабушку вылечить его от коросты (тело у парня было как «у плотвы»): вымолить прощения у бани. И бабушка ходила «тревожить» баню, говорила с ее «хозяином» и «хозяйкой»[308]. В другом случае женщина, упавшая в бане и долго после этого болевшая (ушиб ноги), тайком ходила в баню, т. е. именно туда, где произошло с ней несчастье, и просила прощения у духа: «Хозяин и хозяйка. Простите меня, чё я думала, чё я делала…»; «Хозяин да хозяюшка, я ведь плохого ничего не делала, я упала, досадила, вы простите меня, возьмите обратно свою горе-печаль!» При этом рассказчица добавила: «Как будто стало хорошо»[309]. Значит, по мифологическим рассказам и поверьям, во власти баенника не только жизнь, судьба, но и здоровье каждого члена данной семейно-родовой общины.Укрепление магической силы
Если в русской фольклорно-этнографической традиции исцеление в бане осмысляется в основном как восстановление утраченного физического здоровья, то в более архаической карельской традиции еще не стерлись из памяти представления о том, что, помимо здоровья, можно укрепить и магическую силу человека. И сделать это посредством определенных банных процедур. Рудиментом подобных представлений служит, на наш взгляд, обряд поднятия девичьей славутности («лемби»), совершаемый преимущественно в бане[310]. Так же как и укрепление здоровья, этот обряд исполняется в зимние и летние Святки, особенно в дни накануне Ивана Купалы, Петрова дня и Крещения. Например, накануне Иванова дня (23 июня по ст. ст.) девушки ходят в лес, приготовляют из свежих березовых прутьев или полевых цветов веник и парятся им в бане. Магические свойства этого веника в сочетании с другими чудесными предметами как бы «консервируются» для дальнейшего использования. Вот почему после упомянутой бани веник, которым парились, не выбрасывают, а вместе с кусочком мыла, коровьего масла, с полотенцем, со старинной серебряной монетой, солью, горсточкой ржаной муки, иногда и лентой с косы укладывают в берестяной короб, заворачивают в холщовую тряпочку, уносят обратно в лес и кладут незаметно в ржаном поле так, чтобы никто не мог найти. Этот берестяной короб лежит там в течение всех шести суток между Ивановым и Петровым днями. В последний вечер данного периода, характеризующегося как промежуточный, девушка тайком отправляется в поле и берет оттуда чудесный предмет, пропитанный росой святых дней, приносит его домой и прячет в сундуке либо другом укромном месте. Отныне, идя на праздник или на гулянье, а то и просто на посиделки, девушка моется этим самым мылом, парится веником из заветного короба, утирается взятым из него полотенцем, намазывает волосы маслом и вплетает в косу ту самую ленту. Теперь она уверена в своей привлекательности[311]. Таким образом, расхожее в бытовом обиходе присловье: «вымыться в бане — будто заново родиться», — таит в себе определенный мифологический смысл.Программирование судьбы
Существовала вера, что баенник может повлиять и на человеческую судьбу. К нему обращаются за помощью, чтобы придать магическую силу словам заговора и обеспечить их действенность. Так, например, формулируя свое желание в заговоре-присушке, девушка, вопреки запрету, нарушает покой этого мифического существа. Ступив по выходе из бани правой ногой за порог на землю, а левую держа на нем, т. е. как бы оказываясь на пороге между «тем» и «этим» мирами, она произносит магические слова присушки: «Я девица брава, стою на ноге правой, головой шатну, тоску пущу по всему свету, своему богосуженому в сердце и душу; не мог бы он без рабы Божьей меня ни дня дневать, ни часу часовать»[312]. Иногда при произнесении заговора девушка встает на веник, являющийся в определенном контексте, как мы уже говорили, эманацией или атрибутом баенника: «Выйду из парной байни, стану своим белым бумажным телом на шелков веник, дуну и плюну на четыре ветра буйные…»[313]. Баня, таким образом, осмыслялась как некое биополе для колдовского искусства, успех которого был во власти духа-«хозяина». Кстати, усвоение этого искусства, согласно бывальщинам, происходило именно в черной бане. По сути это был обряд инициации: обучающийся должен был в двенадцать часов ночи пролезть в пасть огромного дышащего огнем мифического животного (чаще всего собаки), которое сидело на полке´, и вылезть из его зада. Прошедший испытания обретал колдовские способности. Впрочем, в поздней традиции банное колдовство уже не всегда соотнесено с баенником. Из всех семейных магических обрядов наиболее активно бытуют обряды-присушки, некогда обязательно сопровождаемые соответствующими заговорами, а в дальнейшем отчасти оторвавшиеся от своего вербального сопровождения: «В бане выпаритьця, на полку тряпочкой вытеретьця, всюду, со всего тела. С этой тряпочки в чай и в винцо. Слоф никаких»[314]. Этот обряд, связанный с любовной магией, может иметь и иные версии: невесту обдают в бане молоком и скармливают его жениху. Или: девушка надевает под свою сорочку рубашку, сшитую для жениха, и старается в ней вспотеть. После свадьбы, «в первой бане», новобрачная дарит рубашку, пропитанную ее потом, молодому[315]. Возможна и другая версия подобного магического действа-присушки. Невесту ведут в баню. Когда девушка вспотеет, ее обмазывают тестом. То тесто, которое упадет, подбирают и кладут в пирог, предназначенный жениху[316]. Семантика любовной магии, связанной с баней, отчетливо раскрывается в карельской традиции, где обряд и заговор зафиксированы в органическом единстве. Приведем примеры. Прихватив с собой сковороду, девушка идет в баню; моется, сидя на сковороде; скопившуюся на ней мыльную воду она несколько раз вращает от краев со словами: «Как эта вода вращается около сковороды, так пусть такой-то парень ходит постоянно около меня». На этой воде пекут пироги для присушиваемого парня[317]. Или: знахарка, приглашенная в свадебную баню, натирает тело невесты солью со словами: «Как эта соль около меня ходит, так пусть и такой-то (имя) будет около меня во все дни, месяцы и во всю здешнюю жизнь. Как пот на моем теле сохнет, так пусть и душа его (имя) по мне сохнет». Затем «наговоренная соль» кладется в пирог, предназначенный для жениха[318]. Подобные действа основаны одновременно и на гомеопатической, или имитативной, и контагиозной магии. Аналогичные меры, как явствует из вологодских материалов, иногда предпринимаются и парнем. Парясь в бане, он произносит слова заговора-присушки:Предсказание
Как следует из мифологических рассказов и поверий, баенник обладает магической способностью предсказывать будущее, определять судьбу гадающего(-их); «Пойдемте, девки, слушать к бане, что нам баенник скажет»[323]. К нему подступают с особым приговором, сопровождаемым определенными действами, кидая на каменку землю, взятую из-под девяти кольев забора: «Байничек-девятиугольничек! Скажи, за кем мне быть замужем?»[324] В другом случае, чтобы потревожить мифического «хозяина» бани и вызвать его на контакт, гадающие наступают на порог, сознательно нарушая известный запрет, — и слышат голос «нечистого», глухо раздающийся из-под каменки (сам дух обычно остается невидимым)[325]. Особенно благосклонен к гадающим «хозяин» бани в период Святок, в течение 12 дней, с 25 декабря/ 7 января по 6/19 января, совпадающих, по народной традиции, с празднованием Нового года и «переломом» зимы, т. е. опять-таки с переходным, «пороговым», временем: «Вообще, шутить с собой баенник не позволяет, но разрешает на Святках приходить к нему завораживаться»[326]. Причем сам мантический обряд совершается следующим образом: девушка просовывает в двери бани голую спину, а «хозяин» либо бьет ее когтистой лапой — к беде, либо нежно гладит мохнатой и мягкой, как шелк, большой ладонью — к счастью[327]. Вариант: девушки отправляются в полночь в баню; завернув подол на голову, обнажают ягодицы; пятясь, входят в баню и приговаривают: «Мужик богатый, ударь по ж… рукой мохнатой!» Если к телу прикоснется волосатая рука, жених будет богатым, если безволосая и жесткая, он будет бедным и лютым, если мягкая — у него будет мягкий характер[328]. Или: если девушка чувствовала руку мохнатую, то предполагался богатый жених, который должен посвататься в этом году, а холодная, голая рука «предвещала» бедного суженого; шершавая же — «характерного»[329], т. е. с характером, своенравного. В соответствии с другим способом гадания девушка засовывает руку в дымник: если ее схватит голая рука — бедный жених, мохнатая — богатый[330]. «Мохнатая рука» эквивалентна шерсти, которая, подобно волосам или перьям, осмысляется как средоточие жизненной силы, магической и физической, и потому является знаком-символом предстоящего благополучия. Вообще, девичьи гадания о суженом получили в фольклоре наиболее частое отражение. В записанной нами в Вытегорском крае бывальщине повествуется и об ином способе святочного гадания, давшего, однако, неожиданный и загадочный результат: девушка вечером топит баню («растопочки кинула — <…> чтобы только чад прошел»), принесла воды и произнесла: «Богосуженый-богоряженый, приходи в баню мыться!» Уходит домой, ложится спать. Слышит, кто-то колотится под окном, требует: «<…> топила байну — пойди в байну». Девушке приходится идти. Там никого нет, лишь «каменьем кидат». Гадающая считает, что в роли богосуженого ей являлся сам баенник[331]. Только на этот раз, поскольку, по-видимому, не все условия ворожбы были соблюдены, он так и не принял облик «богосуженого-богоряженого», иначе говоря, бог (божество) не стал рядиться в суженого (жениха). Иногда роль баенника в предсказании судьбы оказывается завуалированной, однако она легко угадывается благодаря хронотопу гадания (баня, Святки, ночь): «Была в девках, так гадала. На Святки. Обязательно ночью и в бане. Ставили два зеркала, одно спереди, другое — сзади, чтобы зеркало в зеркало было. А перед собой ставили стакан с чистой водой, а на дне кольцо обручальное. Терпение нужно было большое, чтобы ждать. Мне в кольце парень появился в белой рубахе с накладенными рукавами, в шкирах и босиком. Совсем незнакомый. Это мне муж явился. Потом так и было»[332]. Подобный способ гадания зафиксирован и в севернорусской традиции: «Под Новый год гадают в бане. Ставит деушка два прибора один против другого, сама сидит задом к столу. Зеркало наводит на приборы и говорит: „Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать“»[333]. Сюжет — святочное гадание в бане — распространен в различных локальных традициях. Неоднократно использовался в поэзии, классической и современной. Например, в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» собирается гадать в святочную ночь в бане Татьяна, но, устрашившись, отказывается от этой затеи (Гл. 5.Строфа X). Осуществленное святочное гадание в бане изображено в полном соответствии с бытующим в фольклорно-этнографической традиции сюжетом в поэме Л. Мартынова «Домотканая Венера»:Банный этикет
Баенник, равно как и одухотворяемая им баня, согласно языческому мировосприятию, играет немаловажную роль в жизни, здоровье, судьбе человека. Вот почему отношение к этому духу-«хозяину» строго регламентировано определенными табу и правилами, соответственно которым обеспечивался идущий от «начала времен» порядок, предотвращалось нарушение привычного течения человеческой жизни, освященного законом и традицией. Строгий этикет соблюдался уже с момента постройки бани: «В бане тоже хозяин есть — баенный хозяин. Баню новую поставишь, обновлять будешь — у него разрешение спросить надо»[344]. Срубив баню, обычно сразу же договаривались с ее «хозяином», сколько смен в ней будет ходить париться. Входящий в баню должен соблюдать определенные запреты, многие из которых обусловлены позицией христианства по отношению к языческому божеству: «В бане не бывает икон и не делается крестов»[345]; «<…> в бане никогда не вешают икон и не делают крестов страстной свечкой»[346]; «В банях не вешают образов и с грудным крестом в нее не входят»[347]. С крестом нельзя входить в баню даже для мытья полов, его нужно снять и оставить дома[348]. «В Чистый понедельник <…> моются в банях — очищаются <…>. После мытья в бане в церковь в тот день не ходят, ибо это грешно»[349]. Такого рода запреты обусловлены представлениями, согласно которым языческим божествам (в том числе и баеннику) чужда и враждебна сама символика и атрибутика христианства, как-то: крест, икона, церковь, молитва. И потому всякий направляющийся во владения языческого божества (в данном случае — в баню) должен отрешиться от знаков своей христианской принадлежности и объектов христианского почитания. Вместе с тем входящий в баню оставит, по обычаю, за ее порогом и обереги от нечистой, вредоносной силы, тем более, что изначально баенник к таковой не принадлежит. Сказанное относится прежде всего к поясу: «Он считается и теперь священным предметом и талисманом против нечистой силы и не снимается ни днем, ни ночью, исключая тех случаев, когда нужно идти мыться в баню (курсив мой. — Н. К.)»[350]. Оберегом, который нельзя вносить в баню, является и крест. Полисемантизм этого атрибута в фольклоре раскрывается, в частности, в заклинательной поэзии: «Крест — хранитель всей вселенной, крест — красота церковная, крест — царем держава, крест — верным утверждение, крест — ангелам слава, крест — бесом язва (курсив мой. — Н. К.)»[351]; «Стану я с крестом и лягу я с крестом, поклонюсь кресту: крест креститель, крест хранитель, крест небесна вышина, крест церковна красота, крест ангелам слава, крест царям держава, бесям отступление (курсив мой. — Н. К.)»[352]. Входя в баню без оберегов, человек как бы выказывает свое доверие баеннику, полностью отдаваясь его власти, приобщаясь к прежней, языческой вере. Особенно это типично для архаических мифологических рассказов, где образ баенника не подвергся дискредитации. Часто запрет налагается на появление в бане в «третий (или четвертый) пар». Нарушение этого запрета и как следствие гибель нарушителя — тема многих бывальщин. Формирование данной коллизии обусловлено определенными верованиями: «А говорят, когда байну топят, на третий или четвертый жар баенной приходит»[353]. Согласно традиции, зафиксированной в Карелии, «в первую очередь дети мылись, потом — мужчины, потом — женщины»[354]. После всех, обычно распределяющихся на три очереди, моется, по рассказам, сам баенник[355]. В других локальных традициях ему принадлежит «третий пар»: «третий пар оставляется байнушку, который будто бы тоже и моется, и парится»[356]. Иногда в урочный час моется не только сам баенник, но и весь сонм языческих божеств — домашних и природных, почитаемых и развенчанных, вплоть до тех, кто низведен в ранг нечистой силы («чертей»): «Этот час дух считает своим и позволяет мыться только чертям <…>. После трех перемен посетителей в бане моются черти, лешие, овинники и сами баенники»[357]. Причем, как повествуется в быличках, «черти» моются с неменьшим азартом, чем люди: проходя ночью мимо бани, иные слышат, с каким озорством и усердием хлещутся там «черти»; при этом они жужжат, словно бы разговаривают, но без слов[358].
Рис. 8. В бане. Светец, бочка, ковш, ушат, ведро
По той же причине запретным считается и появление в бане после двенадцати часов ночи, особенно если оно сопряжено с нарушением и других табу: «Пошел мужик в байну после двенадцати часов. Помылся. Вдруг женщина приходит — хлоп его. Он спугался и сбежал. „Больше, — говорит, — никогда не пойду“. Наверное, что-то подумал. Она ему и говорит: „Ты моих детей скоблил. Вот тебе за это!“ Не надо было на полатях обливаться»[359]. В некоторых локальных традициях существуют ограничения и на состав моющихся в бане. Так, во Владимирской губернии зафиксировано поверье, по которому мытье в бане разрешается лишь замужним женщинам, в то время как для девушек и вдов оно считается грехом[360]. С нашей точки зрения, подобная дифференциация зависит от степени включенности женщины в конкретный семейно-родовой культ. Существовал запрет и на шум в бане: «В бане нельзя стучать и говорить громко. Иначе байнушка рассердится и напугает»[361]. Ругань в бане совершенно исключалась: как уже говорилось, с бранящейся бабы «байнушко» сорвал кожу с ног до головы. Запрещалось здесь и смеяться[362]. Чревато своими последствиями и проклятие, произнесенное в бане. Согласно мифологическим рассказам, оно тотчас же сбывается. Проклятая в младенческом возрасте девочка может навсегда остаться у баенника, если только не воспользуется единственным шансом вернуться к людям, вступив по достижении совершеннолетия в брак. Ни в коем случае нельзя хвастаться перед баенником (обдерихой) своим бесстрашием: зашедший в баню с похвальбой да еще «в третий пар» либо в полночь живым оттуда не выйдет. В лучшем случае он отделается сильным испугом. Мотивировка подобной коллизии содержится в самих бывальщинах: «<…> похвальное слово ни Бог, ни черт не любят»[363]. Нельзя пить в бане воду, приготовленную для мытья, хотя бы она была чистая. Напомним, что вода осмысляется как животворящая сила, которая при определенных обстоятельствах приравнивается к крови. Поэтому после бани следует обмыться чистой водой. Само собой разумеется, в бане нельзя оправляться[364]. Этикет поведения человека в бане не только исключает какое бы то ни было нарушение запретов, но и требует оказания ее «хозяину» всяческого почтения, покорного смирения, учтивости, внимания к его нуждам и запросам. Такие нормы поведения крестьянина в известной мере объясняются тем обстоятельством, что баенник, помимо всего прочего, осмысляется как старший в условной, состоящей из многих поколений семейно-родовой общине и на него с определенными коррективами проецируются нормы взаимоотношений членов большой патриархальной семьи со своим старейшиной. Собираясь топить баню, у «хозяина» спрашивают разрешения: «Придете баню топить, баенных попросите: „Хозяин-батюшка, хозяйка-матушка с малыма детушкамы, пустите нас баенку топить“. И водичку носите, и в угол поклонитесь туда в этот большой, и начинайте баню топить. А когда баню вытопите, тогда скажите: „Хозяин-батюшка, хозяйка-матушка с малыма деточкамы, мойтесь-парьтесь и нам оставьте“. Тогда уже всегда будет хорошо в бане»[365]. Банная пора в деревнях устанавливается с учетом времени, принадлежащего баеннику. В баню идут «около пяти-семи часов по полудни»[366]. По словам рассказчицы, «В баню после солнышка не ходили никогда, до солнышка справляли баньку. (Соб.: А если пойдешь?). Может почудиться, банник выскочит напугает»[367]. Для тех, кто поздно идет мыться, баня подчас просто не открывается, («нас не пустили»), хотя, придя наутро, легко открывают дверь[368]. При входе в баню у «хозяина» спрашивают позволения попариться, а по выходе благодарят его: «В байну идешь, говоришь, просишься: „Баенна хотерка (квартирка. — Н. К.), баенна хозяйка, пусти нас помыться, погреться, пожариться, попариться“. А как помылись, скажешь: „Байна хозяюшка, спасибо за парную байну. Тебе на строеньице, нам на здоровьице“»[369]. Тот, кто моется после всех, не должен ничего крестить, а все кадки, бочки, ушаты, шайки оставить «на опашку» и сказать: «Мойся, хозяин». Как утверждают крестьяне, он всегда бывает доволен, когда оставляют ему воды и пару. В противном случае это мифическое существо, и особенно в женской ипостаси, выражает недовольство, принимающее обытовленную форму: «А одна воду не оставила, ни капли. Ей банная староста и привиделась во сне: „Зацем, — говорит, — воду ни капли не оставила, у меня ведь тоже дети есь“»[370]. Нуждается баенник также в мыле и венике, о чем имеются многочисленные свидетельства: «Всегда в кадушках оставляют немного воды и хоть маленький кусочек мыла, если только не мылись щелоком; веники же никогда не уносят в избу»[371]; «<…> никто не уйдет из бани, не оставив немного теплой воды в кадушке и кусочка мыла для обдерихи»[372]. В иной локальной традиции (например, в Смоленской губернии), выходя из бани и оставив на полке ведро воды и веник для «хозяина», произносят, перекрестившись: «Цебе, баня, на стояние, а нам на здоровье»[373]. Пренебрегшего этими правилами постигает неминуемая кара[374]. Расположение баенника можно заслужить «относом» — угощением: чаще в виде куска ржаного хлеба, круто посыпанного солью (хлеб-соль). Но особенно он благосклонен к тем, кто приносит ему в жертву черную курицу. Даритель уходит из бани задом наперед, беспрестанно отвешивая поклоны «хозяину» до тех пор, пока не окажется за порогом[375]. Однако в своих взаимоотношениях с баенником крестьянин не всегда полагается лишь на соблюдение запретов и определенных правил поведения. В том случае, когда баенник осмысляется уже в качестве нечистой силы, вступает в действие оппозиция свой — чужой, изначально присущая фольклорной традиции, что привносит в образ баенника элементы вредоносного, враждебного человеку мифического существа и усложняет взаимоотношения крестьянина с баенником, которые и без того достаточно противоречивы. В этих условиях соблюдение запрета не входить в баню с крестом или свечкой оказывается далеко не безопасным. Мы приводили примеры того, что происходит с человеком, который, находясь в бане, нечаянно снимает с шеи вместе с рубахой крест, либо с ребенком, оставленным на полке´ без креста. Этот атрибут христианства играет роль оберега от нечистой силы: «Вдруг банник крикнул мужику: „Сыми крест, да хлещи его (овинника. — Н. К.)“. Поднялся я кое-как, стал хлестать — оба они и пропали»[376]. Накинув крест на девушку, которая была в детстве проклята и невидимой жила во власти баенника, парень возвращает ей человеческий облик. Даже обдериха, когда парень надевает на нее крест, превращается благодаря этому «в простую женщину»[377]. Согласно поволжским быличкам и бывальщинам, человек может даже париться вместе с «чертями» и они не тронут его, так как боятся креста[378]. Эквивалентом его служит крестное знамение или молитва. Наряду с принятыми в христианстве атрибутами продолжают функционировать и собственно языческие обереги. В числе их прямое обращение к баеннику с требованием уступить место моющемуся человеку: «Хрещеный на полок, нехрещеный с полка»[379]. Из арсенала язычества взяты и заговоры от банного пара, осмысляемого как проявление действий мифического существа. Так, поморский заговор «На жару», зафиксированный в 1924 г., состоит из следующих словесных формул и действ: «Положить веник в бане на каменницу, плеснув на него немного воды и поворачивая его на горячих камнях каменницы, говорят: „Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Веник большой, брат — камень большой, брат — огонь большой, брат — раб Божий (имя) больше тебя, жару не боится. В девять дыр поди, а из десятой вон выходи“. Когда начинаешь этим веником хвостаться, говори: „Хлеб ем, уголь ем, а тебя, жару, раб Божий (имя) не боюсь. В девять дыр поди, а из десятой, жар, вон выходи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь“. При этом нужно веником ударить в пятку ноги»[380]. Или: «Как будешь веник парить на каменнице в байны, возьми воды в ковш и правой рукой наотмашь плесни трижды на веник и каждому плеску проговори: „Есть у меня, раб Божий (имя), девять дыр, а из десятой вон выходи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь“. Когда будешь хвостаться, говори: „Тело у меня, раба Божия (имя), как камень, тело у меня, у раба Божия (имя), как кремень. Кремня нет. Ангел Божий жгет и палит баенну нечисть…“»[381]. Если же угроза быть ошпаренным становилась неотвратимой, наиболее надежным и испытанным средством оказывалось бегство из бани. Однако и бежать отсюда надо умеючи, т. е. задом наперед, иначе баенник мог и «совсем зашпарить»[382]. Как видим, молитвы являются функционально тождественными заговорам и в процессе бытования часто переплетаются и совмещаются друг с другом. Эквивалентом же кресту служит в известном смысле петух — священная птица, пением которой, согласно языческим верованиям, изгоняются враждебные человеку мифические силы. Природа баенника проявляется и при рассмотрении его взаимоотношений с другими мифическими существами. Судя по тому, что «в третий (или четвертый) пар» в бане, помимо ее «хозяина», моются овинники, лешие, а также другие мифологические персонажи, именуемые «чертями», отношения с ними баенника можно охарактеризовать как родственные, во всяком случае добрососедские. Каждый из них, и особенно «хозяева» других бань, не прочь захаживать в гости к баеннику. В бывальщинах подчас возникает картина, полная умиротворения, когда далеко за полночь в бане склоняется над ткацким станком женщина-мать. Это был бы обычный, будничный эпизод из крестьянской жизни, не сиди за «кроснами» «дамаха» («хозяйка» дома): «Хозяйка забиваитца кросны ткеть, тольки цеўка звизжить у чiўнаку, як ина пракидываить — так и гримить, як ина прибиваить дужа бердами»[383]. И спохватывается, когда ей говорят, что в доме «дети кричать нечии. „Ти ни мае ета дети?!“ Згарнула кросны нахапык и паперла, патуль и была»[384]. В мифологических рассказах нередко заходит в баню и овинник: «Вдруг входит в баню такой мужик, ровно бы подовинник, и говорит: „Эй, хозяин. На беседу к себе меня звал, а сам пущаешь ночлежников“»[385]. Однако в случае, когда человек ищет у баенника защиты от других мифических существ, тот, как правило, приходит на помощь преследуемому: «Кости догоняют, съесть хотят. Забежала она в байню, заплакала, замолилася: „Обдериха-матушка, спрячь меня“. Обдериха ее и спрятала»[386]. Иногда баенник, спасая жертву, вступает в единоборство с ее преследователем: «Прибегает к байне, видит, один (парень, явившийся на беседу из озера. — Н. К.) гонится за ней — догоняет, и она сейчас в байну. Вбежала в байну и говорит: „Господин-хозяин, оборони от напрасной смерти!“ Сама скокнула на полок. Вот в то время хозяин байны выскочил из-под полка драться с парнем»[387]. Баенник может рассориться даже со своим приятелем — овинником, приглашенным на беседу, когда тот начинает угрожать ночлежнику, нашедшему себе приют в бане: «Я вот его задушу». «Хозяин» бани предстает как блюститель древнего обычая гостеприимства: поднявшись из-под половицы, он вступает в борьбу со своим приятелем и ни за что не дает в обиду человека, находящегося под его кровом, и особенно если тот у него «попросился». Правда, в другой бывальщине баенник и овинник как бы меняются ролями: «Банник мужыка хотел отдуть. А мужык-от побежал от нево, а банник за jим. Мужык побежал мимо овина: „Подовинник, батюшка, спаси меня!“ Подовинник выскоцил, начил банника хлестать»[388]. Весьма характерно, что и покровитель человека, и семантически эквивалентный ему антагонист исчезают при пении петуха: «Дрались-дрались, потом спел певун. Эти оба („хозяин“ бани и парень из озера. — Н. К.) пропали»[389], равно как и под воздействием креста: «Поднялся я кое-как, стал хлестать (крестом. — Н. К.). Оба они (баенник и овинник. — Н. К.) и пропали»[390]. Из таких фактов очевидно, что баенник в каких-то своих проявлениях эквивалентен другим домашним духам-«хозяевам», которые в свою очередь строго не дифференцированы от остальных духов-«хозяев». И все эти персонажи, представленные в соответствующей архаической ипостаси, не всегда отличимы от своих развенчанных двойников. Таким образом, баенник — фигура неоднозначная: «Нет зляе банника, да нет его добряе», — утверждают жители Белозерского края[391]. Действительно, банника в поздней традиции часто относят к нечистой силе. Его боятся: «Даже днем страшно идти в баню одному, и женщина или девушка, посланная вперед, чтобы приготовить баню, идет туда с замиранием сердца»[392]. Ведь он может убить камнем, ошпарить, задушить угаром — одним словом, это «дух злой, от него добра ждать нечего»[393]. Вот почему, как повествуется в мифологических рассказах, своим внезапным появлением он приводит в ужас целую компанию парней, нашедших в себе смелость войти в полночь в баню: «У молодых мужиков на головах волосы повыстали, все мужчинья были разрознены, только один остался, все мужчинья побежали друг дружку давя, чтобы скорее выбраться на улицу, все повыскакали…»[394]. Даже у прохожего, который посоветовал хлещущимся в бане «чертям» поприбавить пару, когда в ней в ответ внезапно все затихло, «мороз побежал по телу, и волосы встали дыбом»[395]. По-своему реагируют при появлении баенника молодые девушки: «Ну, мы пошли заревели»[396]; «Ну, конечно, от таково видения они испугались, пробегли быстро»[397]. Заслышав в бане, за каменкой, вой, ужасное храпенье или хохот и свист, женщины с «вопом и визгом» выскакивают из бани в чем мать родила[398]. Соответственно осмысляется и сама баня: она признается нечистым местом, а после полуночи опасным и страшным. Таким же считается и «банище». Вот почему, если оно освобождается от постройки (например, в случае пожара), ни один крестьянин не решится поставить себе избу на этом месте. Однако справедливости ради нужно сказать, что баенник обычно бывает суров не без причин, он жестоко карает нарушителей запретов и ритуала. Формирование же мифологических рассказов, где мотивировка гибели человека в бане отсутствует либо оказывается завуалированной, обусловлено преимущественно былой связью бани с похоронными обрядами. Нельзя сбрасывать со счетов и то немаловажное обстоятельство, что дискредитация баенника, как и других языческих божеств, вызвана к жизни принятием христианских верований и усиливалась по мере их закрепления. Однако даже христианство не смогло стереть в традиции изначальный облик этого божества.
Еще раз о семантике образа
Баенник причастен к рождению, инициациям, свадьбе и смерти членов семейно-родового коллектива. Он предсказывает и предопределяет судьбу человека. Обладает магической силой и магическими предметами. Это своего рода медиатор между жизнью и смертью, грань между которыми стирается представлениями о смерти как перевоплощении, о рождении как воскресении, а также тождеством осмысления свадьбы и похорон[399]. Баенник представлен в центре извечного, всеобновляющего круговорота в семейно-родовой общности людей. Каждый баенник — дух, имеющий отношение к той семье, которой баня принадлежит, это дух семейный, домашний[400]. Не случайно в фольклорно-этнографической традиции он получил по-домашнему ласково-уменьшительное наименование «байнушко», а место его обитания прославляется как «баенка», наделяясь всевозможными эпитетами: парная, теплая, неугарная, мыльная (в русских причитаниях); славная, обильная, довольная, красивая (в карельских). При рассмотрении мифологических рассказов и поверий о баеннике остаются невыясненные вопросы. Почему именно он, а не какой-либо иной домашний мифологический персонаж оказывается столь тесно связанным с человеческой жизнью? Почему именно баня, а не какие-либо иные постройки является помещением, где традиционно исполняются семейно-родовые обряды? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к истории жилища. Ведь первоначально четырехстенный сруб с определенным внешним и внутренним устройством служил у многих народов одновременно и жилищем, и баней. Это подтверждается и лингвистическими данными: слово изба (уменьш. истопка) восходит к древнерусск. истьба (истобка), что означает «дом, баня»[401]. Отпочковавшись в процессе длительной эволюции от собственно жилища в качестве самостоятельной постройки[402], баня сохранила за собой признаки былого почитания жилища. По этому поводу Н. Н. Харузин пишет: «Священным характером наделяются обыкновенно те хозяйственные постройки народа, которые некогда служили ему жилищем, так как с последним связан культ домашних духов, причем при переходе народа к новой форме жилья культ нередко продолжает совершаться в жилище прежнего типа, вследствие чего оно и сохраняет свой священный характер»[403]. Подводя итоги сказанному, мы определяем баенника как древнейшего домашнего духа, дифференцировавшегося вместе с домовым, дворовым, овинником, гуменником, ригачником из синкретического домашнего духа по мере развития жилища[404]. (Таким синкретическим прообразом домашних духов, к примеру, могли служить часто обнаруживаемые в местах заселения антропоморфные изображения из песчаника периода каменного века, подобное найденному в Рованиеми[405].) Этим обстоятельством обусловлены важнейшие проявления и функции баенника. Причем влияние на него сопредельных персонажей полностью не исключается.
Глава II Домовой как синтез духов крестьянского подворья
Поместья мирного незримый покровитель, Тебя молю, мой добрый домовой, Храни селенье, лес и дикий садик мой, И скромную семьи моей обитель!А. С. Пушкин
Знаки-символы духа-«хозяина» в декоративной домовой резьбе

«Не добро дом без ушей, а храм без очей», — утверждает древнерусская пословица. В ней хоромы (изба) приравниваются к храму. Ведь храм — это тоже дом, только Дом Божий (Мк. 2.26), Дом Господень (Пс. 121.122). А изба — тот же храм, со своим религиозным культом, своей обрядностью. В приведенной пословице сконцентрировались представления о постройке, будь то хоромы или храм, как о живом существе. Сама постройка либо ее дух может иметь зоо- (в том числе орнито-), фито- и антропоморфные черты или совокупность тех, и других, и третьих. Такие представления проявляются прежде всего в декоративной домовой резьбе, как и в пластически оформленных конструктивных деталях. Они же обнаруживаются и в мифологических рассказах о домовом, рассматриваемых в контексте обрядов, верований, всего традиционного крестьянского быта с привлечением данных из области лингвистики и археологии. Попытка комплексного решения обозначенной проблемы предпринимается по сути дела впервые. Мы исходим из того, что в разных видах народного искусства присущими им средствами выражена единая в своей основе концепция осмысления жилища, соотнесенная с представлениями о мироустройстве, иначе говоря, с идеей микрокосма в макрокосме.

Рис. 9. Фронтон («чело») севернорусского дома. Каргополье
Прежде чем обратиться к рассмотрению фольклорных персонажей, остановим свое внимание на образах пластического искусства, составляющих декор севернорусской крестьянской избы.
Зооморфные образы
Среди принятых в архитектуре понятий выделяется наиболее древний слой, соотнесенный с зооморфными, иногда и с фитоморфными образами. Истоки его уходят в тотемистические представления, позднее — в верования, связанные со священными животными и растениями. Известно, что древнейшее жилище, имеющее некоторые зооморфные признаки, вписывалось в определенный контекст обрядов и верований. Его символом служило то или иное животное либо растение, почитаемое в данной локальной или этнической традиции. Так, например, на Русском Севере исследователями отмечен один из архаических типов жилища — это дом «конем»[406]. В других регионах, у иных этносов очертаниям жилища присуща своя форма и — соответственно — специфический локальный или национальный колорит. Былые зооморфные признаки дома дошли до наших дней лишь в рудиментах, относящихся, однако, к числу характерных его атрибутов. Архаические черты в севернорусской архитектурной традиции наиболее устойчиво проявляются в скульптурном завершении охлупня (князька, шелома), т. е. выдолбленного бревна, закрывающего верхний стык двух скатов кровли. Это скульптурное завершение и осмысляется в качестве «головы» дома. (В Польше паздур — резной шпиль, прикрепленный к коньку крыши, так и называется головой — glowa.)[407]. С представлениями о голове (главе) крестьянской избы соотносятся и другие наименования охлупня: «князек», «шелом». Не случайно в свадебной поэзии «князем» величается жених — будущий глава семьи. «Князьком» называется и часть женского головного убора — сороки, обычно соединяющая кончики рогов. «Шеломком» же в некоторых диалектах именуется другой женский головной убор — кокошник[408]. Формы скульптурной обработки охлупня разнообразны. Правда, некоторые из зооморфных знаков-символов, определявших декор традиционного крестьянского жилища, живут лишь в памяти наших рассказчиков. Так, А. Ф. Касьянов, 1919 г. р., родом из деревни Большой Бор Онежского р-на Архангельской обл., поведал нам: «Он же (Я. Е. Алешин. — Н. К.) мастерил больших петухов, которых ставили на коньке крыши двускатной избы. Такие же фигуры ставились и на крыше крыльца еще, если оно было двускатным. Здесь можно было найти и медведя, и можно увидеть какую-то птицу, можно увидеть и коня»[409]. В севернорусской архитектурной резьбе преобладает пластическое решение охлупня в виде части торса и головы коня[410]. Есть свидетельства, что деревянному изображению некогда предшествовала настоящая лошадиная голова[411].
Рис. 10. «Кони» на охлупне избы. Русский Север (прорисовка)
На Русском Севере, помимо одинарного, встречаются и двуглавые коньки, чаще смотрящие врозь, реже обращенные друг к другу. Изба может быть увенчана тремя, четырьмя и более лошадиными головами, вырубленными из корней ели, росших веером[412]. Изображение коня на охлупне иногда фланкируется резными лошадиными головами на концах причелин — досок, закрывающих наружные торцы горизонтальных бревен, образующих подкровельную конструкцию. Так оформлены, например, причелины на церкви в дер. Самина Вытегорского р-на Вологодской обл. Охлупень в виде конька может иметь и крыльцо дома. Фантастические формы конской головы нередко придавались и концам куриц — скульптурным «окручьям», изготовлявшимся из корневища и части ствола ели, естественно загнутых под прямым углом. Эти конструктивные детали традиционной безгвоздевой кровли народного жилища (или храма) служили для поддержания скатов и колоды «потоков», в которые упираются нижние концы кровельного теса. [Заметим попутно, что курицы, получившие семантически значимое декоративное оформление, осмысляются в похоронных причитаниях и верованиях как одно из мест, где в последний раз показывается воплотившийся в птицу умерший, точнее его душа, перед тем, как покинуть навсегда этот мир. Аналогичен курицам конек крыши, на котором, согласно свадебным причитаниям и верованиям, остается воля, т. е. душа, невесты, покидающей родительский дом. Причем конек оказывается семантически эквивалентным порогу дома: умирающего колдуна втаскивают на крышу и укладывают вдоль по князьку, а затем переносят его к порогу дома, где он и расстается с душой[413]. Ту же семантику несет на себе и печной столб (на него садится душа, отделяясь от тела), а также передний угол: здесь, под потолком, на образе, задерживается на какое-то время душа, прежде чем вылететь из жилища[414]. Следовательно, конек крыши и курицы в свете обрядов и верований приравниваются к порогу, переднему углу, печному столбу.] Фигуры вздыбленных коней или львов и единорогов нередко фланкируют вазон с цветами на росписи фронтонов изб, крылец, в интерьерах крестьянского жилища (как и на прялках). Среди образцов скульптурных коней-охлупней встречаются и «гибридные существа — это кони со змеиной головой, с заячьими ушами, с широкой оскаленной пастью, с крыльями, с вытянутой гусиной шеей, с птичьим туловищем и пр. Часто вместо головы фигурирует волютообразный (спиралевидный. — Н. К.) завиток, квадратный выступ или зубчатый гребень»[415]. Подобными архитектурными деталями по-своему очерчивается лошадиное «обличье» дома, которое, однако, отнюдь не сводится к какому-то одному символу (во всяком случае на позднем этапе развития жилища). Символ коня многократно дублируется и в интерьере дома, вследствие чего усиливается закодированный в этом образе смысл. Так, в середине XIX в. в Вологодской и Новгородской губерниях на боковых дощечках божниц, которые устраиваются в переднем углу и предназначаются для христианских икон, были зафиксированы резные пропильные конские головы. Разумеется, иконы сменили здесь, как выяснил А. Н. Афанасьев, «священные изображения пенатов»[416], или древнего «кутного бога», «беса хороможителя» — домового[417]. В результате былые атрибуты язычества соседствовали с христианскими иконами. Аналогичные конские головы (иногда парные, обращенные друг к другу) наблюдались и на правой стороне шестка у печи[418]. Такой же фигурой завершался и свободный конец лавки, расположенной в избе под полатями у самых дверей[419], т. е. близ порога. По существу этот коник представлял собой кронштейн из толстой широкой доски (бруса), соответствующей ширине лавки и возвышающейся над ней примерно на 35 см: он завершался наверху резным коньком. Отсюда выражение «посидеть на конике», а также утверждение рассказчика, что вошедший в дом дворовой «стал дли (подле. — Н. К.) двери на конику»[420]. Заметим, что изображение конской головы встречается в местах, особо значимых с обрядовой точки зрения: в переднем углу, у печи, у порога, у стены скотного двора. Подобный коник, но уже предназначенный для коновязи, зафиксирован в начале XX в. в кокшеньгской деревне: это прируб у стены скотного двора, завершающийся коньком и расположенный с внешней стороны, у входа. Позднее его сменили деревянные крюки, оформленные в виде конька или птицы[421]. Такого рода изображение служит знаком, маркирующим локализацию здесь мифического существа — духа.

Рис. 11. «Конские» элементы в декоре божницы (прорисовка)

Рис. 12. «Конские» элементы в оформлении «очелья» печи. Русский Север (прорисовка)

Рис. 13. «Конские» элементы в декоративной резьбе в интерьере избы. Русский Север (прорисовка)
Его знак можно обнаружить и на предметах домашнего обихода. К числу их относятся прялка, в конце лопастки которой, при переходе ее в шейку, помещается сдвоенное контурное изображение коней; рубель, увенчивающийся головкой коня: при работе (глажении) стук рифленой поверхности рубеля о валек с накрученным на него бельем имитирует конский топот; деревянный конь, со временем используемый лишь в качестве детской игрушки, но некогда занимавший определенное место в системе обрядов и верований. Мотивы, включающие в себя образ коня, являются излюбленными не только в декоре дома или деревянной домашней утвари, но и в традиционной вышивке, керамике (игрушке). Изображение коня отнюдь не исключает присутствия в народном прикладном искусстве других зооморфных персонажей. Например, формой скульптурной обработки охлупня может послужить и фигура оленя с ветвистыми рогами, вырезанными из отростков корня. Такое изображение зафиксировано, в частности, на берегах Вычегды и Пинеги. Его стадиальный предшественник, а затем и эквивалент — настоящие оленьи рога[422]. Фигура оленя встречается в росписи севернорусских прялок, она узнаваема и в геометризованном рогатом персонаже мезенской вышивки[423]. Разумеется, в декоративном убранстве дома могли быть представлены и другие животные, образы которых уже исчезли из архитектурной традиции. Зато они оставили свои следы в интерьере жилища. Например, в некоторых локальных русских традициях передний угловой столб фундамента печи носит название «тур», «турок». В числе других его наименований (особенно в белорусской традиции) фигурирует конь[424]. Этот факт свидетельствует об известном тождестве осмысления коня и тура и о возможности их взаимозаменяемости в народном прикладном искусстве. Изображения змееподобных голов, существ со звериными рогами наряду с волютами или луковицами отмечены в декоративной обработке потоков-водопусков, в частности, в Архангельской и Вологодской губ[425]. Фантастические формы змеи с разинутой пастью или некоего чудовища с рогами, со стоячими ушами, помимо превалирующих изображений в виде птичьей или конской головы, придавались и концам куриц[426].

Рис. 14. «Конские» элементы в декоративной резьбе в интерьере избы. Русский Север
Судя по новгородским археологическим материалам X–XI вв., на конструкциях домов и ручках ковшей некогда фигурировали и некие тератоморфные существа, напоминающие, на наш взгляд, очертания собаки. (Правда, Б. А. Колчин считает их мордами драконов, а не соглашающийся с этой трактовкой акад. Б. А. Рыбаков — головами ящеров, хотя и признает, что подобного персонажа ни в мифологии, ни в фольклоре нет[427].) К тому же в Восточном Прионежье, на р. Модлоне, в одном из неолитических памятников второй половины III тыс. до н. э. найдены остатки деревянного ковша с ручкой, в очертаниях которой археологи усматривают голову собаки[428]. Встречаются в наружных резных украшениях домов и фигуры морских котов, похожих на львов[429]. Зооморфные черты жилища отражены в соответствующей терминологии архитектурных деталей. Например, верхний стык двух скатов кровли, прикрытый охлупнем, или шеломом, независимо от его конкретной скульптурной формы получил название «конька», «коня», вследствие чего данный термин стал тем суммарным символом, собирательным образом, в котором растворились все другие зооморфные фигуры[430], как дошедшие до нас, так и навсегда утраченные традицией. Знак быка[431] или козла запечатлен в названиях стропил, служащих основой крыши, попарно сведенных под углом и несущих в точке своего пересечения коневой брус[432]. Именно на этих представлениях основывается известная загадка: «Стоит бычище,проклеваны бочища». Образ же собаки закодирован в названии «собачья шея», которым обозначается прием соединения бревен, бытовавший у вепсов и карелов[433]. Некий звериный персонаж зашифрован и в слове «мурлат» (южнорусск.), обозначающем поперечный брус поверх стены, на который кладутся концами стропила[434], хотя в конкретных реализациях этой архитектурной конструкции никаких признаков «мурла» обычно уже не наблюдается. Можно лишь предположить, что к рассматриваемому ряду относится и термин «самцы»: им, по определению В. И. Даля, обозначаются «бревенчатые обрубки, один одного короче, замыкающие треугольником чело и охлуп избы»[435]. О зооморфных персонажах напоминает и название способа рубки «в лапу», когда торцы бревен выпускаются наружу.
Орнитоморфные образы
В круг зооморфных образов севернорусской архитектуры входят и орнитоморфные персонажи. В скульптурных украшениях выступающего конца охлупня здесь встречались изображения петуха, курицы, утки, гуся, лебедя, других более условных, стилизованных птиц. В локальных (например, в верхневолжской) традициях также фигурировали утка, петушок, курочка[436]. Причем каждой этнокультурной традиции присущ свой «набор» соответствующих орнитоморфных персонажей (у немцев, например, наряду с общераспространенными петухами, лебедями фигурируют аисты и пеликаны[437]). Орнитоморфные мотивы жилища многократно подкрепляются очертаниями домашней утвари (ковшей, солонок) либо семантически значимых головных уборов (сорока, кокошник), они отражаются в орнаментике и т. п. Изредка форму птицы имеет и печной столб[438]. Орнитоморфный символ закодирован в самом словосочетании «курная изба». Слово «курная» происходит от прилагательного «курный», образованного от слова «кур», что означает «петух», как и от глагола «курити» (раскладывать огонь, разжигать), в котором заключена метафора огня, ассоциируемого с петухом, что подтверждается и фразеологизмами типа «пустить петуха» или загадками: «красный кочеток по жердочке бежит».
Рис. 15. Стамики на шеломе кровли
Орнитоморфные образы обнаруживают себя и в наименованиях некоторых архитектурных деталей жилища. В их числе название «курицы», употребляемое применительно к скульптурным «окручьям», которые, по-видимому, изначально имели именно птичьи очертания, преимущественно курицы, петуха. Кстати, сюда же относится и название «кокошник», происходящее от слова «кокошь», что означает «курица», «петух»[439]. «Кокошником» именуется украшение на фасадах каменных зданий в виде полукруглого щитка, напоминающего по форме старинный женский головной убор, известный под тем же названием[440]. Композиция храмового завершения в виде ярусов «кокошников» является характерной особенностью древнерусского зодчества[441]. К этому же ряду архитектурных терминов принадлежит и наименование «сорока», встречающееся в обиходе, например, в Заонежье (также ассоциируется с женским головным убором). Им обозначается конструктивная часть кровли, деревянный нагель — стержень, скрепляющий коневое бревно с охлупнем. Эти нагели — стержни, зафиксированные как в орнитоморфном, так и в антропоморфном оформлении, выполненном с различной степенью условности[442], вплоть до геометризованных объемных фигур, сохранили свое «птичье» наименование, обнаруживающее изначальную семантику стоящего за ним образа. «Сорокой» же называется и угловатый аркатурный пояс, окружающий повалы восьмерика шатровых церквей прионежского типа «кораблем» и декорирующий выходы потоков-водосбросов внутренней кровли. Такая «сорока» отмечена, например, в декоре Кижской Покровской или Кондопожской Успенской церквей XVIII в. Очертания аркатурного пояса перекликаются с орнаментикой шитья головного убора — «сороки», представляющего собой разновидность круглого закрытого кокошника. Как и в народной поэзии, в архитектурной лексике встречается наименование «сокол», обозначающее в некоторых локальных традициях (например, в Поморье) первую хребтовую стропилину дома[443]. Очередной термин из орнитоморфного семантического ряда — «гребень»: так называется часть, символизирующая целое, в котором опять-таки угадывается прежде всего значение «петух», «курица». Имеется в виду ребро двускатной крыши, продольный брус или решетка, идущие по самому ее верху. Нередко в качестве резного узорного украшения оно протягивалось между «сороками». Названия частей птицы и ее свойств закодированы и в ряде других архитектурных терминов или их диалектных эквивалентов. Так, в числе названий, обозначающих причелины — доски фасада дома, которые идут по краю обоих скатов крыши от конька и обычно украшаются резьбой, Д. К. Зеленин приводит наименование «перо». Им же указаны и «подперки», которые спускаются с крайних досок, как концы вышитого полотенца[444]. С пером птицы ассоциируются и перила, переное крыльцо (ср. с древнерусским «перити» — снабжать оперением[445], с церковнославянским «переть» — лететь, двигаться: от него происходит «перила»[446]; дополнительное значение лексемы «перо» раскрывается в родственном ей слове древнеиндийского языка, где оно означает «крыло, перо, сень»[447]). «Крыльцо» («крыльце») в древнерусском языке — это и уменьшительная форма слова «крыло», и «крыльцо, площадка перед входом со ступенями и кровлей»[448]. (Правда, в древнерусском языке, как и в севернорусских диалектах, крыльцо — это и человеческое заплечье, лопатка[449]). «Крыльями» же, или «закрылинами», называются иногда и причелины[450]. Есть у дома и свои «подкрылки» — расположенные под кровлей вертикальные резные доски, которые прибивались на торцы бревен (или резные доски, прикрывающие повалы[451]). Подобные «подкрылки» зафиксированы, например, в Заонежье и Верхнем Поволжье. Наряду с «подкрылками» в крестьянском зодчестве известны и «малые подкрылки» — короткие резные доски, которые прикреплялись перпендикулярно причелинам и предохраняли от сырости торцы верхних бревен сруба[452]. Примыкая непосредственно к полосе резного подзора и находясь с ним в одной плоскости, они составляли законченное художественное обрамление фронтона[453]. Если избушка Бабы-Яги удержала за собой лишь «курью ногу», то изба крестьянина сохранила до наших дней и птичью голову, и гребень, и крылья с подкрылками, и перья с подперками. Избе-птице соответствуют и предметы домашнего обихода. Это ковши и солонки с птичьими головами вместо ручек. Сама же их форма напоминает очертания птичьего туловища. Композиции, включающие в себя орнитоморфные образы, устойчивы в росписях прялок, в орнаменте вышивки, в керамике.

Рис. 16. Дымница и конек кровли
Как видим, образы коня и птицы занимают заметное место в декоративном убранстве жилища. Д. К. Зеленин связывает их с воспоминанием о черепах животных, приносившихся в жертву[454]. Эти образы, по мнению А. К. Чекалова, «оказались своего рода легальными канонизированными масками, под которыми таились запретные языческие тотемы»[455]. Вытеснив из архитектурной традиции других зооморфных персонажей, они вобрали в себя черты отошедших на задний план либо и вовсе исчезнувших двойников. Следствием этого вторичного синкретизма отчасти послужило и формирование «гибридных» существ, занимающих определенное место в народном декоративном искусстве. Разумеется, не все древние зооморфные символы, веками формировавшиеся в крестьянском зодчестве, дошли до наших дней. Сообщения о рудиментах некоторых из них находим лишь в старых публикациях, где, например, речь идет о резанных «в чешую» старых избах, зафиксированных в Важском крае, или об обитой «чешуйным обиваньем» церкви Ильи Пророка в с. Ростовском Вельского у. Вологодской губ[456]. Какова семантика этой чешуи? Исходя из общего контекста верований, связанных и с архитектурным декором, и с мифологическими рассказами, мы склонны видеть здесь символику змея. Это подтверждается и археологическим материалом. Судя по дошедшим до нас изображениям энеолитических жилищ, их стены покрывались узорами, в которых преобладал мотив ужа — покровителя («гоподарика»)[457].
Фитоморфные образы
Орнамент резных украшений избы не обходился и без фитоморфных образов. По своей семантике они тождественны зоо- и антропоморфным фигурам архитектурного декора. Не случайно при возведении стропил на месте будущего конька укреплялось деревце (изредка с иконкой на нем), которое ранее, на протяжении всего сооружения бревенчатого сруба, находилось внутри него[458]. Причем иногда не просто внутри, а на месте будущего переднего, или красного, угла, что усиливает тождество осмысления символов, связанных с красным углом и коньком. Особая роль в таких обрядах и верованиях отводилась березе и хвойным деревьям. Подобные образы могли фигурировать как сами по себе, так и в сочетании с зоо- или антропоморфными персонажами: птицами, конями, змеями, людьми, — с различными космологическими идеограммами. Например, стилизованное изображение «елочки» отмечается на коньке дома (у тверских карелов), в резьбе наличников (у русских). Этот символ повторяется в орнаментах на вышитых полотенцах, на глиняной посуде[459]. Образ «елочки» подчас закодирован и в оформлении церкви или часовни. По наблюдениям В. П. Орфинского, формы такой главки, обнаруженные, в частности, в карельской традиции, являются стилизованными изображениями шишки и символизируют хвойное дерево. Растительные узоры присутствуют и в росписи дома: фронтона, наличников окон, ставен. Это условные изображения деревьев и трав[460]. Аналогичная роспись по дереву зафиксирована и внутри дома: на дверях, опечке, сундуках, шкафах, прялках и прочих предметах домашнего обихода. Однако наиболее полное выражение растительные мотивы находят в традиционной вышивке. К фитоморфным атрибутам, участвующим в своеобразном оформлении облика дома, по-видимому, можно отнести и веник (знак березы). Его резное изображение в подкровельной части одного из домов обнаружено, правда, не в русской, а в немецкой традиции (в северном Ганновере)[461]. Было ли подобное изображение когда-либо присуще и русской традиции, сказать трудно. Но тот факт, что в ней присутствуют некоторые его семантические эквиваленты, является, на наш взгляд, несомненным. Так, известно употребление веника на шесте избы наверху[462]; зафиксирован некогда существовавший обычай садиться в Чистый четверг верхом на конек крыши и хлестать себя веником[463]. Предположение о существовании семантической связи между изображениями конька и веника высказал уже В. В. Стасов, анализировавший немецкие материалы[464].Антропоморфные образы
Несмотря на активное бытование зоо- и фитоморфных образов, процесс антропоморфизации мифологических персонажей, который происходил во всех областях народного искусства в течение их длительной эволюции, коснулся и внешних очертаний традиционного крестьянского жилища, связанных с ним терминов и фольклорных образов. В результате этого процесса облик дома приобретает все новые антропоморфные признаки, не утрачивая до конца и своих древнейших животных, растительных черт. Символы антропоморфизации крестьянского жилища довольно разнообразны. Многие из них своими корнями уходят в эпоху энеолита. Об этом свидетельствует обнаруженное археологами «схематичное изображение треугольного фронтона дома, увенчанного человеческой фигурой с поднятыми к небу руками»[465]. Женские фигуры с воздетыми руками (иногда в сопровождении птиц) на месте конька кровли, известные с глубокой древности, встречались на южнорусских и украинских хатах еще в XIX в.[466] Антропоморфный же вид имел у белорусов и вертикальный столб-рассоха в 2–3 м высотой: он ставился на верхний конец избы, над жилой частью дома, и поддерживал «князевую слегу», упираясь концом в верхний угол кровли. Антропоморфность этому столбу, отнюдь не случайно называвшемуся «дедком», придавали два развилка, державшие сволок двускатной крыши, — «руки» дедка, поднятые к небу, а также торец князевого бревна, воспринимавшийся смотрящими на него снизу как голова деда-предка[467]. Характерно, что в польской архитектурной традиции воспоминания о былых антропоморфных очертаниях паздура сохранились в наименовании его «паненкой» (panienka), т. е. барышней[468]. Ср. с севернорусским названием «крулевка» — так в различных местах Прионежья называют резной декоративный балкончик, расположенный на фронтоне и прикрывающий слуховое оконце девичьей светлицы — мансарды. Антропоморфными образами, символизирующими всю постройку, пронизаны и ее архитектурное убранство, и ее духовная аура. Например, в некоторых севернорусских деревнях (в частности, Сольвычегодского уезда), поверх охлупня, на всем его протяжении, вместо «сорок» или иных «птичек» (деревянных стержней, скрепляющих коневое бревно с охлупнем), нередко устанавливались так называемые «мужички» — вертикальные деревянные скульптуры с круглым основанием и с подобием человеческого бюста в верхней части[469]. В тотемских, вельских и шенкурских деревнях им соответствовали «солдатики» либо резные столбики[470]. Этот антропоморфный символ жилища многократно дублировался в очертаниях иных архитектурных деталей: балясин на балконах и балконах-галереях[471], балясин и колонок на крыльцах северных изб[472], воротных столбов[473]. Схематичные человеческие фигуры узнаваемы в оформлении волютообразных наверший наличников домов Прионежья и Заонежья. В поздней традиции о былом их присутствии в резьбе напоминают так называемые стамики. Более отчетливо антропоморфность этих фигур вырисовывается в вепсской традиции[474]. По внешнему облику с вертикалями «мужичков» и стамиков перекликаются массивные столбы, которыми поддерживаются перила у основания бревенчатого пандуса-«взъезда», ведущего на поветь. Иногда они, «оглавленные» грубо выполненными личинами, называются «стариками». (Кстати, «стариками» именуются и вертикальные столбы, к которым крепится канатами клеть с соймой перед спуском ее на воду — «вдейкой».) Сходны с ними и обработанные в виде стилизованных антропоморфных фигур-идолов столбы пандуса-«взъезда». Прямыми аналогами «мужичкам», стамикам, «старикам» являются, на наш взгляд, панки[475] — антропоморфные деревянные скульптуры, которые служили объектом семейно-родового культа: почитаемые в качестве изображений предков, они хранились обычно в божнице за иконами, уживаясь с христианскими святыми и в известном смысле предшествуя им.
Рис. 17. Фрагмент «очелья» крестьянского дома. Обонежье
Включаясь в общую канву декора, выполненная в дереве человеческая фигура сочетается с объемными изображениями коней, птиц, деревьев, всевозможных «гибридных» существ, с различными космогоническими знаками-символами. Она вписывается в общий контекст мироздания. Причем в архитектурном убранстве жилища по-своему дублируются композиции, темы и образы традиционной крестьянской вышивки, в которой, однако, преобладает более архаический по своему происхождению женский персонаж. Например, в навершиях ярославских наличников иногда встречаются прямые аналоги древнерусского орнаментального мотива «женщина-дерево со спутниками, в котором кони заменены птицами»[476]. Заметим, что убранство хором и храмов, унаследованное позднейшей традицией из искусства Древней Руси, — те же вышивки, кружева, золотное шитье, роспись. Только на сей раз они воплощены в деревянной или каменной резьбе, подчинены замыслу зодчего.

Рис. 18. Резные балясины на балкончиках-«крулевках». Южное Прионежье

Рис. 19. Резные балясины на балкончиках-«крулевках». Южное Прионежье
Признаки антропоморфизации традиционного жилища особенно отчетливо проявляются в терминологии, обозначающей те или иные его конструктивные части. Выясняется, что у крестьянской избы есть «череп» — так называется в архангельских говорах потолок или крыша, «надчерепок» — поперечная переводина над потолком, «черепной» венец — это верхний венец, в котором выбирают паз для настилки черепа-потолка и на котором лежит череп-кровля[477]. Отмечено у дома и «чело»(лоб): это и фронтон избы, и наружное отверстие русской печи[478]. Отсюда «причельный», т. е. находящийся при челе, и «причелины», т. е. резные доски, которые прикрывали торцы слег крыши и обрамляли чело[479]. Семантическими эквивалентами слову «чело» являются «лоб»[480], «лобяк», «лбище», «залобник»[481]. Вспомните выражение «лобовая сторона» избы, т. е. ее фасад[482]. У деревянной рубленой избы есть и «лицо», но оно прикрыто «наличником» (-ами). В этом слове содержится несколько значений, обнаруживающих полисемантизм соответствующей архитектурной детали. Так, в древнерусском языке наличник — это забрало, щиток, прикрывающий лицо; лицевая сторона, фасад; фигурное накладное украшение по краям кровли по фронтону здания[483]. Согласно диалектам русского языка, наличник — это и человек, имеющийся налицо, и накладное украшение на лице предмета, строения или утвари, и накладная планка в виде рамы, окаймляющей двери и окна, и ставень с прибором, наконец, маска, «личина», суконный лоскут с прорезью для глаз, забрало[484]. В современном русском языке это слово, утратившее свой былой полисемантизм, употребляется преимущественно в одном значении: накладная планка вокруг окна, двери[485]. Дом предстает как зрячее существо. Его глаза (очи) — окна (праславянск. okъno — из око)[486]. Не случайно в некоторых севернорусских диалектах слово «глаз» означает «окно на фасаде дома» («У его глазами дом к его дому стоит»[487]). Не лишена жилая постройка и «ушей» — под таким названием известны конструктивные выемки в стропилах. Мало того, у нее могут быть и женские, и мужские черты. Привлекая более широкий — восточнославянский — материал, можно сказать, что дом-«мужчину» отличают прежде всего «усы» — затесанные концы верхнего бревна сруба и, по всей вероятности, «чуб» — архаическая форма четырехскатной крыши, сохранившаяся в белорусской традиции[488]. Обнаружены в декоре домов (особенно храмов) и указания на женские признаки: головной убор — уже упомянутые «кокошники» и «сороки», украшение — «сережки»[489] (то же, что подперки), которые спускаются от очелья, прикрывая торцы бревен верхних венцов сруба, или обрамляют крулевку-балкончик.

Рис. 20. Наличники окон крестьянских изб. Обонежье
Именно красавицей-крестьянкой видел традиционное жилище певец и знаток Русского Севера Н. Клюев:
«Избу строят»

Рис. 21. Часовня в д. Котчура. Южная Карелия
Храм же — прежде всего деревянный — во многом подобен хоромам. Это сходство заметно в отношении домов, еще и сегодня определяющих облик северного села. Но особенно близкими предстанут формы гражданского и церковного зодчества, если мы обратимся к архитектуре деревянных палат Древней Руси, с многообразием кровель (шатровых, кубоватых, бочечных и прочих), крылец, галерей, переходов, с цветением богатого декора. Соответственно храм также имеет антропоморфные черты, о чем свидетельствуют памятники древнерусской литературы: «Да у Спаса святаго у каменой церкви верх огорел до плечь (курсив мой. — Н. К.)»[492]; «От низу от плечь церкви пошло аки широко, а к верху поуж, а верх не покрыт подобно бысть аки колпак на главе (курсив мой. — Н. К.) без верху»[493]. Заметим, что термин «колпак» поныне сохранился в лексике севернорусских плотников: в отличие от шатра, имеющего вытянутые вверх пропорции, колпак — невысокое, приземистое покрытие пирамидальной формы с высотой, меньшей или равной диаметру основания. Антропоморфной может быть изображена культовая постройка и в иконописи. В связи с этим вспоминается исполненная по всем канонам икона из новгородского храма св. Софии: в абрис главки, венчающей церковь, древнерусский иконописец гармонично вписал фигуру святого в крещатых ризах, держащего в воздетых над головой руках крест. Таким способом утверждаются антропоморфные очертания культового сооружения, изображенного на этой иконе. Храм предстает как воплощение святого, во имя которого он построен, чей дух в нем обитает, оказывая покровительство входящему в церковь. Так, по слову св. Димитрия, митрополита Ростовского, «по своей чистоте телесной и душевной сделалась достойной быть церковью и храмом Святого Духа» сама Божия Матерь. Вместе с тем в облике храма как бы материализовался снизошедший на земного человека Дух Святой, определивший его новую сущность — близость к Богу. [Заметим, что в архаических культурах антропоморфные признаки дома или храма представлены отчетливо. Таков, например, кхмерский средневековый храм Байон с его знаменитыми гигантскими башнями-ликами Локешвары (будущего Будды), обращенными к четырем сторонам света[494].] Можно даже сказать, что храм — это средствами архитектуры воссозданный облик того или иного святого, образ, икона.

Рис. 22. Часовня в Кижах. Фрагмент причелины жилого дома. Заонежье
Понятию «храм-человек» в верованиях соответствует обратное суждение «человек-храм». Вот как об этом говорится в Библии: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа (курсив мой. — Н. К.), которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Коринф. 6.19). Лексика, связанная с культовым вариантом дома — храмом, обусловлена антропоморфизацией постройки. Как отмечает акад. Д. С. Лихачев, «антропоморфические черты храма обнаруживались в названиях отдельных его частей: глава, шея (барабан), плечи, подошва, бровки над окнами»[495]. К сказанному остается лишь добавить, что у храма может быть несколько (иногда множество) голов (глав) и на каждой его шее нередко фигурировали «воротники» — лемеховые зубчатые пояса, охватывающие шейку в местах сопряжения ее с главкой и шатром[496]. В декоративном убранстве храма, повторим, заметное место принадлежит кокошникам и сорокам, как и колпакам. Мало того, шатровая церковь или часовня нередко одета «в юбку»: так называется напуск одного ряда кровельного теса на другой, образующий горизонтальную полосу-подсечку, нарядно резную. Антропоморфные признаки дома наслоились на зоо- и фитоморфные его очертания, не вытеснив полностью последних, наоборот, органически сочетаясь с ними. В результате в дошедшей до нас традиции дом чаще всего предстает как некое «гибридное» существо, маркированное зоо- (в том числе орнито-), фито- и антропоморфными символами. Подобные символы были некогда присущи не только крестьянскому, но и городскому жилищу. Как говорится в «Стоглаве», в Москве «над вратами домов у христиан поставлялись <…> звери и змии и неверные храбрые мужи»[497]. Осмысление жилища в качестве «гибридного» существа прослеживается и в традиционной вышивке: в ее орнаментике выявлено, например, изображение дома-дерева с признаками женской фигуры[498], причем сакрализацию постройки символизирует крест или дерево-крест[499]. (Разумеется, такое изображение должно иметь и варианты в рамках определенного семантического ряда, где найдется место и для зооморфных персонажей.)
Космогонические образы
Согласно мифологическому сознанию, дом не просто сооружается — он вписывается в определенную систему мироустройства. Кстати, это очень тонко подметил прекрасный знаток крестьянского быта Н. Клюев:«Земля и железо»

Рис. 23. Домовая резьба. Причелина. Обонежье Рис. 24. Домовая резьба. «Полотенце» и ветреницы. Обонежье
В сущности, эти узоры дублировали семантику образа петуха, также занимающего заметное место в декоре жилища и связанного с солнцем, огнем. Символика же «живого» огня заключена, по-видимому, в наименовании резной «красной» доски «огниво» (этой доской скреплялись со стороны фронтона концы гнетов-шестов, лежавших горизонтально в середине плоскостей старинной крыши и прижимавших тесовые скаты)[502]. Семантика этой детали в декоративном убранстве жилища раскрывается посредством привлечения аналогов из архаических этнокультурных традиций. Например, у эвенков с деревянным огнивом, огнивной доской отождествляется сама мифическая хозяйка — дух[503]. Соответственно владетель дома, владетель очага, как это известно из истории русского языка, назывался огнищанин[504]. В системе архитектурного убранства солярные знаки обычно сочетаются с символами земли, иногда воды. В результате возникает целостная картина мира, являющаяся повторением макрокосма в микрокосме славянского жилища. «Этот, созданный руками человека, микрокосм повторял картину мира, возникшую в представлениях предков славян (да и многих других народов) где-то в глубинах бронзового века»[505], — отмечает акад. Б. А. Рыбаков.

Рис. 25. Подвесной потолок — «небо» — Преображенской церкви в Кижах (1714 г.). Вид сверху
Солярные знаки, сочетающиеся с символами воды и земли, находят свое выражение и во внутренней росписи хором и храмов. Не случайно церковь приравнивает храм к небу: «В храме стояще <…> на небеси стояти мним», — говорится в одном из тропарей, исполняющемся в конце утрени во св. Четыредесятницу. «Церковь есть земное небо», — утверждает св. Алексий, митрополит Московский (Троицкие Листки. Вып. XXI. № 833)[506]. Известная нам роспись потолков-«небес» (иногда и стен) насыщена христианской символикой, которой, однако, отнюдь не стирается языческая подоснова этой космогонической композиции: «Возле того к середнему окну Палаты был изображен Огненный, т. е. Солнечный, круг, поддерживаемый четырьмя Ангелами. В нем написаны Кони впряжены в одноколесную (т. е. двухколесную) колесницу, в которой сидит Ангел, держит Солнце. Далее меньший круг изображал Лунный круг, поддерживаемый также Ангелом и в котором в такую же колесницу впряжены волы, а в колеснице дева держит Луну и погоняет плетью волов. <…> Далее следовал Земной круг, изображавший посредине круга девицу простерту (лежащую), над нею солнце, а внизу, в полукруге, — воды и рыбы (курсив мой. — Н. К.)»[507]. Изображения звезд на голубом фоне нам доводилось видеть на главках новгородских храмов и в росписи крыльца церкви в с. Лядины Каргопольского р-на Архангельской обл. Былое же господство космогонических символов в росписи хором (палат) нашло отражение в емкой былинной формуле:
Облик домового: тождество вербальных и пластических образов
Ряд образов, сформировавшихся в рамках пластического искусства, по закону всеединства определился и в недрах вербального творчества. И это вполне естественно. Принесенная при строительстве жертва запечатлена, с одной стороны, в основных деталях декора крестьянской избы, а с другой — в соответствующих фольклорных образах. Если тело жертвы, по народным верованиям, становилось той плотью, из которой «выводилась» постройка[508], то душе этой жертвы была уготована роль духа сооруженного жилища[509], т. е. домового. Жертвой могло быть почитаемое животное, дерево или человек, позднее их заместительные эквиваленты. Обратившись в домового, души этих животных или людей не утрачивают своих прежних привычек. Внешний облик дома по-своему дублируется в его «внутренних» формах. Имеются в виду те формы, которые в сакральный час и на определенный срок примет дух-«хозяин» постройки, т. е. домовой. Такого рода соответствие, по всей вероятности, некогда было более последовательным. Однако эта модель, бытующая в поздней традиции лишь в рудиментах, не могла не сохранить хотя бы признаков былых семантических связей.Зооморфные образы
Дошедшие до наших дней образы народного пластического и вербального искусства не всегда развиваются синхронно и не адекватны друг другу в количественном соотношении. Подчас они дополняют друг друга. Причем скульптурные образы более консервативны, чем фольклорные. Например, образу коня, широко представленному в декоре жилища, соответствует довольно редко встречающийся в мифологической прозе образ домового, в котором удерживаются рудиментарные признаки его былого лошадиного обличья. Согласно мифологическим рассказам и поверьям, домовой, приняв «вид самих хозяев», не может упрятать своих лошадиных ушей[510]. Он же уподобляется лошадям и цветом своей шерсти: бывает гнедым, вороным, белым или пегим[511]. Причем домовой желает иметь в хозяйстве лошадь соответствующей масти[512], которая подчас должна совпадать и с цветом бороды главы дома[513]. Имея уже человеческий облик, он может «заржать по-кониному», дразня лошадей[514]. Изначальная сущность этого образа проявляется и в особой любви домового к лошадям, а также в локализации этого духа не только в жилище, но и в конюшне. Даже пожелавший увидеть домового старается по мере возможности прикинуться лошадью: засев в урочный час в конюшне между лошадьми, он надевает себе на шею хомут[515]. Хомут же, равно как и лошади, куры, в обрядах гадания заменяет хлевника и дворового[516], образы которых находятся в синкретическом единстве с образом домового. Отождествление лошади и домового наблюдается и в белорусских материалах: вслед за появлением в крестьянском хозяйстве лошади определенной масти (в данном случае пегой) в хлеве водворяется и сам хлевник[517], образ которого вначале дифференцировался от образа домового, а затем слился с ним. Известное соотнесение домового с конем отнюдь не случайно. В строительных обрядах и верованиях различных народов (славянских, германских, финно-угорских) коню отводилось особое место. Обращает на себя внимание его роль в обряде определения места для поселения и для постройки объекта культового назначения (изначально, по-видимому, и самого жилища): там, где останавливается «молодой неезженый жеребец», везущий «первое строевое бревно» или — позднее — икону, и закладывается планируемое сооружение[518]. В качестве священного животного он использовался и в обряде принесения строительной жертвы[519]. Факт подобного жертвоприношения отмечен в археологических материалах, датированных XII в.: при постройке дома-пятистенка в Старой Руссе богатый ювелир «подложил под нижний венец четыре лошадиных черепа»[520]. В других локальных традициях лошадиную голову зарывали под воротами[521]. Напомним, что использование черепа, точнее настоящей конской головы, в оформлении жилища предшествовало скульптурной обработке конька-охлупня. Согласно древним верованиям, череп осмысляется одним из вместилищ души, или жизненной силы[522]. И потому закладка черепа (-ов) под возводимую постройку эквивалентна заполучению ею души, духа[523], в данном случае — домового. Представления о функции коня в обрядах отчасти дополняются, а отчасти расшифровываются фольклорными материалами. В сказке и былине данный зооморфный персонаж — двойник героя (позднее — его чудесный помощник), посредник между мирами и стихиями. В мифологии это божественный предок-родоначальник тотемного характера. В числе животных, знак которых засвидетельствован в декоре жилища, фигурирует и змея (гадюка, уж). Как видно из мифологических рассказов и поверий, змеевидный облик может принимать домовой, дворовой, хлевник[524]: «Старожилы рассказывают, что в „досельное время“ на улицах Сумского Посада в один прекрасный день появилось большое количество жировых змей, которые скрылись в некоторых дворах, и с тех пор хозяева тех домов разжились и сделались богатеями»[525]. Следы почитания змеи сохраняются почти у всех народов мира. Зафиксированы они и в русской традиции. Это подтверждается, в частности, поверьем: поселение ужа в доме считается счастливым предзнаменованием. Согласно белорусским поверьям, если в доме развелись «вужаки» и освоились настолько, что вместе с детьми пьют молоко из миски, то это предвещает жильцам всяческое благополучие[526]. В Польше и Литве ужам позволяли селиться в домах под печкой и чтили их как пенатов[527]. В Ингерманландии змею, проползшую под калиткой и скрывшуюся под кучей жердей, могли принять за домового[528]. Подобные воззрения в стадиальном отношении недалеки от древнегреческих верований: в соответствии с последними змеи содержались в афинском акрополе и почитались в качестве родовых пенатов[529]. Культ змеи обусловлен отчасти тотемистическими представлениями и анимистическим мировосприятием, согласно которому души предков продолжают жить в этих рептилиях[530], отчасти верой, что домашний очаг, огонь (особенно небесный) находится во власти змеи, связан с ней. Змея почитается и как хтоническое существо[531]. «Во многих традициях хтоническая природа змея отражается в его названии, образованном (как и в славянских языках) от названия земли»[532], — утверждает В. В. Иванов. Позднее утративший змеиное обличье домовой все же сохраняет за собой способность менять шкуру[533]. В украинской бывальщине он, изображенный уже в антропоморфном виде, тем не менее сидит на большом змее[534]. Эти атрибуты маркируют изначальное змеиное обличье данного персонажа. В пластическом искусстве, связанном с оформлением жилища, образ змеи в его реалистическом исполнении практически отсутствует. Вместе с тем, изображения змееподобных голов (возможно, и «чешуйное обиванье») удержались в традиции как символы названного персонажа. В этом свете заслуживают более пристального рассмотрения и волютообразные (спиралевидные) фигуры в декоре жилища. Хотя известно, что их появление в крестьянской архитектуре обусловлено влиянием городской культуры, тем не менее вопрос о той «ячейке», в которую вписалась, вытеснив былое ее содержание, новая фигура, еще не решался. На наш взгляд, образ змеи в качестве изначального наполнения данной «ячейки» наиболее вероятен.Орнитоморфные образы
В скульптурном оформлении архитектурных деталей построек прослеживаются, как мы помним, и орнитоморфные образы, в том числе курицы, петуха. Сказать, что им напрямую соответствуют аналогичные персонажи мифологической прозы, известной нам в основном на поздней стадии ее развития, было бы явной натяжкой. Однако признаки изначального присутствия подобных персонажей в русской фольклорной традиции обнаруживаются на ее периферии, как и в обрядах, связанных с закладкой жилища и вхождением в него. Петух уже непосредственно не осмысляется в качестве воплощения домового. И все же иногда он считается «хозяином в дому»[535] либо самой любимой птицей домового[536]. Согласно чешскому поверью, петух приносит в дом счастье и оберегает его от вредоносной силы[537]. В немецкой же традиции петух — эманация домового[538]. Как повествуется во многих быличках и бывальщинах, своим пением на рассвете он изгоняет нечистую силу — ту самую, в которую под влиянием христианства отчасти трансформировался домовой, ту самую, архаическим предшественником или эквивалентом которой он некогда сам и был. Вот почему бытуют поверья, по которым домовой побуждает петуха к пению[539] и сам, в отличие от других духов, обычно не страшится этого пения[540]. Покровитель дома, генетически связанный с солнцем и огнем, с подземным миром и воскресением из мертвых, вечным возрождением жизниtitle="">[541], петух обретает былую сакральную сущность уже в качестве антагониста «нечисти». Отчасти утраченная образом изначальная семантика обнаруживается лишь в некоторых обрядах, обычаях, верованиях. Так, при постройке новой избы во избежание всяких бед закапывают куриную либо петушиную голову или целую зарезанную птицу под передним, или красным, углом. «Изба у славян-язычников строилась на петушьей голове»[542], — отмечает А. Н. Афанасьев. Функционально тождественны упомянутому и другие обряды. При переселении в новый дом на его пороге отрезают голову курице. Для изгнания «лихого» (пришлого, чужого) домового режут петуха, выпускают его кровь на голик и обметают все углы избы и двора[543]. В своем трансформированном виде обряд закапывания петуха под передним углом или отрезания головы у курицы на пороге сводится к обычаю, в соответствии с которым до вселения хозяев в новую избу первыми пускают петуха или кошку. Семантика подобного обычая обусловлена определенными верованиями. Считалось, что первый вошедший в новый дом должен был вскоре умереть, после чего его душа становилась духом дома, домовым. Чтобы предотвратить скорую кончину ближнего, прибегали к упомянутой заместительной жертве или ее имитации. Назначение описанных обрядов, обычаев, поверий как раз и заключается в том, чтобы заполучить для возведенной постройки душу, вместилищем которой служит голова (череп) или кровь принесенной жертвы. Голик же, обмоченный в крови жертвы, осмысливается как усиленная и обновленная эманация домового, благодаря чему он в состоянии изгнать из подвластного ему жилища приблудного «лихого» собрата. В систему представлений, связанных с крестьянским жилищем и — шире — двором, вписывается и такой орнитоморфный персонаж, как сорока. По-видимому, эта птица изначально также осмыслялась в качестве эмблемы домового. Но в дошедшей до нас традиции ей принадлежит, главным образом, роль оберега от него. Об этом свидетельствуют поверья: застреленная на лету и подвешенная на конюшне сорока способна отвадить домового, мучающего по ночам нелюбимых лошадей[544]. Разумеется, из верований и обрядов, связанных с орнитоморфными мифологическими персонажами и орнитоморфной жертвой, и «прорастают» соответствующие скульптурные оформления деталей жилища, так же как и семантически эквивалентные им образы вербального творчества.«Гибридные» образы
В качестве домового нередко фигурирует и некое гибридное существо с признаками птицы, змеи и огня. Это крылатый огненный змей[545]. Согласно русским, известным в различных локальных традициях, и — шире — восточнославянским поверьям, он может вылупиться из яйца, снесенного петухом. Мифологическая природа такого орнитоморфного персонажа маркирована многими признаками: его черный цвет свидетельствует о связи с подземным миром; он поет на третий день после своего появления из яйца; возраст петуха, снесшего яйцо, определяется обычно сакральными числами — семью, девятью, двенадцатью годами (вариант: петухи несутся по одному яйцу раз в три, семь, сто лет); петух кладет яйцо в день и час своего выхода из яйца и тут же умирает — такая смерть служит предпосылкой к новому рождению, точнее, возрождению и реинкарнации, что осуществляется посредством снесенного им необычного яйца: «это яйцо кругленькое, маленькое, называется спорышок»; это «сносок (маленькое яйцо, величиной с голубиное)»; «яйцо, напоминающее будто бы по форме раковину обыкновенной улитки». В мифологии яйцо осмысляется как средоточие жизненной силы, вместилище основных элементов природы. Причем вода заключена в белке, огонь — в желтке, земля — в скорлупе, воздух — в мембране. Для воплощения содержащейся в яйце жизненной силы необходима совокупность условий. Его надо выдержать в течение определенного срока: обычно это шесть недель, или сорок дней, которыми в семейных обрядах исчисляется период инкарнации (варианты: шесть недель, шесть месяцев, три года). Для вызревания такого яйца, согласно поверьям, нужна и соответствующая питательная среда. В течение означенного срока его нужно носить (в одном из вариантов: зашив в мешочек) под мышкой (иногда «под левой мышкой»: левая сторона обычно связана с «нечистой силой»). Как повествуется в других поверьях, яйцо носят в паху, за пазухой либо закапывают в навоз. Напомним, что, согласно древним представлениям, такие акты, как потение, испражнения и др., «совершаются на границах тела и мира или на границах старого и нового тела»[546]. Потение и экскременты участвуют в творении мифического существа в качестве содержащей жизненную силу влаги. Вынашивает яйцо или закапывает его в навоз будущий владелец появившегося из него мифического существа (иногда он же колдун). В некоторых поверьях обладатель петушиного яйца уподобляется квочке: проквоктав тайком от всех около недели, он кладет яйцо «под паху», после чего перестает мыться, причесываться, менять белье, т. е. накапливает необходимый для сотворения пот. Вместе с тем он отрешается от какой бы то ни было христианской обрядности («перестает ходить в церковь, молиться дома») и даже от человеческих проявлений (перестает разговаривать). Через определенный период из яйца вылупится (образуется, выходит) маленький змееныш («писклёнык-змей», огненный змей). Его предстоит держать в тепле и кормить исключительно яичницей (эту пищу огненный змей потребляет и по достижении зрелого возраста): такая еда осмысляется как знак происхождения этого крылатого мифического существа. Хотя он и имеет крылья, но «выглядит, как обыкновенный уж, только гораздо больше его». Вместе с тем змей «весь золотой, горит, как жар», его полет обозначается особенным шумом, огненной полосой позади и огненным решетом впереди. Упоминания о проникновении крылатого змея в дом через дымовую трубу, о поселении его за печкой не оставляют сомнений относительно связи с огнем этого синтетического зооморфного персонажа, который и по внешним признакам, и по своей локализации, и по присущим ему функциям оказывается идентичным домовому.Расхождение зооморфных символов
При параллельном рассмотрении зооморфных символов, связанных с жилищем и бытующих в вербальном и пластическом искусстве, выясняется, что они не всегда соответствуют друг другу. Некоторые из них на определенном этапе развития русской мифологической прозы и народного изобразительного искусства развиваются как бы самостоятельно либо консервируются лишь в одной из этих областей народного творчества. Каждый такой факт требует своего изучения, и прежде всего в плане выяснения временного диапазона того или иного явления, круга животных, почитаемых в той или иной локальной либо этнической традиции, степени взаимодействия этнокультур и т. п. Так, например, изображение льва, фигурирующее в росписи фасада жилища и его интерьера, как и в вышивке, совсем не наблюдается в русских быличках и бывальщинах, основанных на живой вере. И наоборот, столь часто встречающийся в мифологической прозе образ кошки как воплощения домового, баенника либо овинника практически отсутствует в декоре крестьянской избы или орнаментике вышивки. И это отнюдь не случайно. Ведь кошка проникла в Европу довольно поздно (в античной басне ее место занимает ласка). Так что появление кошки в народных верованиях явилось в свое время новообразованием, освоение которого в вербальном творчестве регулировалось, однако, прежними традиционными формами, соотнесенными с представлениями о животном — душе[547]. В силу подобных верований кошка оказалась эквивалентна ласке и даже отчасти вытеснила последнюю из быличек и бывальщин. В архитектурном же декоре, более консервативном по своей природе, подобное новообразование, по-видимому, не нашло соответствующей ниши. Зато в мифологической прозе этот образ дал различные версии и варианты. Причем в одних быличках и бывальщинах домовой, баенник, овинник появляется в виде обычной кошки: «Мужик же потом видел своего выгнанного домового в лесу, где он скинулся котом, ходил вокруг мужика и сильно голосил»[548]. Или мужик сквозь сон слышит страшную возню на току и открывает глаза. Он видит двух дерущихся кошек, которых он принимает за своего и чужого домового[549]. Отождествление кошки и домового встречается и в метафорическом иносказании загадки: «Как у нас-то домовой носит шубку бархатну; у него-то, него глаза огненные, нос курнос, усы торчком, ушки чутки, ножки прытки, когти цепки. Днем на солнышке лежит, чудны сказки говорит, ночью бродит, на охоту ходит»[550]. Причем кошка-домовой преимущественно черная, иногда сверхъестественной величины[551]. В других же мифологических рассказах это некое «гибридное» зооантропоморфное существо, в котором есть признаки кошки, человека и огня. Подобная «кошка» изображена в одной из вологодских быличек: «<…> да как поглядел, а у меня на груди сидит кто-то с виду и не величек, а как будто десятипудовый куль на грудь-то поставлен. Всего на все только немного кошки побольше, да и тулово похоже на кошкино, а хвоста нет; голова-то как у человека, нос-от горбатый-прегорбатый, глаза большущие, красные, как огонь, а над ними брови черные, большие, рот-от широкущий, а в ём два ряда черных зубов, язык-от красный да шероховатый; руки как у человека, только когти загнулись, да все обросли шерстью, тулово тоже покрыто шерстью, как у серой кошки, ноги-то у его тоже, как у человека. Как это только я его увидел, то так испугался, что инда пот прошиб»[552].
Рис. 26. Резьба и роспись фронтона дома в с. Ошевенском. Каргополье

Рис. 27. Роспись на фронтоне дома в с. Пелусозере. Пудожье
Домовой может появиться и в облике собаки, с длинными черными «волосами», с темными глазами, с огромными когтями. Она вылезает из подполья и плывет «поземь» к находящейся в избе роженице[553]. Даже антропоморфный дух-«хозяин» жилища часто изображается в сопровождении собак (либо собаки считаются его друзьями), напоминая о прежнем облике данного мифологического персонажа. Причем независимо от того, является ли домовой в виде кошки, собаки или человека, цвет его шерсти или волос одного цвета с хозяйскими волосами[554]. Иногда домовой имеет признаки козла: «Когда я выстроился, то не пригласил его (домового. — Н. К.) в дом, и он целую осень проходил кругом двора козлом. Когда же сказал ему: „Иди, хозяин, с нами жить“, после того не стало козла. Значит, он, то есть наш-то хозяин, вошел во двор»[555]. О былом почитании этого животного свидетельствует некогда существовавший запрет на употребление его мяса в пищу[556]. В процессе трансформации связанного с ним образа козлиные очертания нередко совмещены уже с антропоморфными признаками: «<…> он мохнатый, оброс мягкой шерстью, <…> ею покрыты даже ладони рук его, совершенно таких же, как у человека, <…> у него, наконец, имеются, сверх положения, рога и хвост»[557]; «у него чуть заметные рога и подогнутый еле заметный хвост»[558]; «по двору идет что-то черное, как человек, но только с рогами на голове»[559]. В процессе бытования подобный персонаж, с одной стороны, снижается до уровня нечистой силы (черта): «<…> домовой близок к черту, <…> он черный, рогатый и холодный»[560]. С другой же стороны, в какой-то мере сохраняя свою прежнюю сущность, он постепенно все чаще осмысляется как оберег от нечистой силы. Чтобы избавиться от козней последней либо проказ домового в избе или на дворе, зарывают под полом (в землю) козлиный череп и окуривают жилище, хлев, конюшню козьей шерстью. Вариант: на скотный двор пускают козла либо привязывают на шею лошади лоскуток от козлиной шкуры — и домовой перестает ее мучить. И козлиный череп, и козья шерсть в качестве вместилища жизненной силы, или души, осмысляется как эманация самого домового, имеющего соответствующие зооморфные признаки: ведь не случайно, по поверьям, козью шерсть этот дух-«хозяин» очень любит. По мере развенчания домового былой его облик сохраняется за атрибутом, посредством которого мифический «хозяин» изгоняется в качестве вредоносной силы. Теперь козел удаляет или задабривает домового, уже утратившего козлиные очертания[561]. Лишившись последних, домовой, тем не менее, подобно скандинавскому Тору, ездит на козле; такой атрибут раскрывает изначальную сущность «всадника». Домовой появляется и в облике коровы: «Один крестьянин погорел и на время, пока строился, жил у соседа. К нему его домовой приходил каждый вечер, в виде черной телушки»[562]. Не случайно в загадке и дом ассоциируется с коровой (или быком): «Снаружи рогата, изнутри комола». При этом вспоминаются некие рогатые существа, фигурирующие в декоре жилища. В редких случаях домовой может показаться в виде теленка, барана, свиньи, крысы, ласки, иногда в облике медведя, зайца или белки, что скорее всего свидетельствует об изначальном синкретизме домашних и природных духов. Приведем пример подобной инкарнации домового. Два брата разделились: один перешел в новое жилище. Вскоре после этого соседи заметили, что из прежнего дома выскочил заяц, ударился бежать по «порядку» и пропал в новом жилище. Это был, по их мнению, хозяин-домовой. Брат, который остался на старом месте, вскоре овдовел и переселился к брату, ранее отделившемуся[563]. Те или иные инкарнации домового зависят от того, какое из священных животных (либо снятая с него мерка) было принесено в качестве строительной жертвы и зарыто под углом при закладке фундамента будущего строения: ведь, повторяем, его душа становится духом возведенного здания. А сооружение наследует все те качества, которыми при жизни обладала жертва[564]. Например, если домовой был прежде кошкой или собакой, то в полночь жильцы будут часто слышать мяуканье или лай.
Фитоморфные образы
Поскольку эквивалентом зооморфной служит фитоморфная жертва, следует ожидать, что домовой может появиться и в виде персонажа, имеющего некоторые признаки дерева (обычно такое дерево относится к числу священных): «<…> престрашенная женщина, — ростом что твоя столетняя береза (курсив мой. — Н. К.), голова — чисто разметанная копна сена: клок направо, клок налево, оттуда торчит колтун, словно перекати-поле, отсюда глядит чертополохом длинная косма, а глаза так и пялит! <…> „Ты зачем занял мое место, а?“ — закричал страшным голосом домовой (это он сам и был)»[565]. Рудименты фитоморфного облика домового обусловлены включенностью в строительные обряды определенных древесных атрибутов. Так, при закладке нового дома крестьяне на предназначенном для него месте прежде всего втыкают в землю или просто сажают с корнем какое-нибудь дикорастущее деревце, например, березку или рябинку[566]. Иногда местом, где устанавливается такое дерево, является будущий красный угол[567], который в верованиях связан и со строительной жертвой, и с культом предков, и с домашним духом, и, наконец, с атрибутом христианской обрядности — иконой. А по окончании строительства под князек избы подтыкают березку, принесенную из церкви в Троицу, — вершинкой на восток, комлем на запад, — чтобы крышу не сносило ветром[568]. Неудивительно, что и сам домовой может иметь некоторые, правда, весьма завуалированные и трансформированные признаки березы или ассоциироваться с ней. Не случайно в некоторых локальных русских традициях сосновая или еловая ветка с густой разросшейся хвоей, именуемая в народе «матка, матошник, матерник, шапка, курина лапа», подвешивалась во дворе, осмысляясь в качестве эманации домового[569]. А подвешенная во дворе «мохнатая, пушистая елочка» или «густой-прегустой» сосновый веник, фигурирующие, как мы помним, и в декоративном оформлении жилища, служит эмблемой дворового[570], чей образ, в сущности, неотделим от рассматриваемого нами домашнего духа. Аналогичную символику, на наш взгляд, имеют и хвойные ветки, положенные под всеми четырьмя углами дома при его закладке[571]. Рудиментарные фитоморфные признаки можно обнаружить и в домовом, который выглядит, «словно обрубок или кряж», хотя, казалось бы, уже едва ли не полностью антропоморфизирован: это маленький неповоротливый старичок с большой седой бородой[572]. Согласно бытующим поверьям, даже лес, который выбирается для строительства жилища, должен быть «живым». Пригодным для строительства считается лес «рудовый», т. е. содержащий кровь (руда означает кровь[573]), либо «сердцевой», т. е. заключающий в себе сердце (сердцевой — к сердцу относящийся[574]). И кровь, и сердце в соответствии с анимистическим мировосприятием осмысляются как вместилища жизненной силы, или души, которая, подобно душам животных, также по завершении постройки становится ее духом, наследуя все качества «живого» дерева. Чтобы не заполучить себе недоброжелательного домового, старались исключить при строительстве употребление деревьев, маркированных отрицательными знаками. Подобными анимистическими представлениями обусловлен и запрет на рубку огромных деревьев (березы, сосны, дуба, липы), растущих около старых крестьянских усадеб и оберегаемых крестьянами из боязни навлечь на себя гнев домового[575]. Следовательно, ранее такое «подселибное» дерево осмыслялось как эманация домового. Впрочем, дух-«хозяин» может воплотиться и в траву (клочок сена), катящуюся клубком посреди избы[576].Антропоморфные образы
Хотя домовой и имеет некоторые зоо- или фитоморфные признаки, в поздней традиции это все же антропоморфный персонаж, в редких случаях женский: «Зимой темно, вижу: идет из-под голбца маленькая бабка в сарафане и рубахе, в платочке. Подходит, берет прялку и начинает прясть, потом положила и пошла. Я поползла за ней на четвереньках, она ушла под голбец»[577]. Но чаще в дошедшей до нас традиции это мужской персонаж. При этом во многих быличках и бывальщинах отмечается его сходство с хозяином дома: «Дядька похож на папу, высокий ростом, с погонялкой, как цыгане… Красный кушак повязан, черный»[578]; «он (домовой. — Н. К.) предпочитает <…> принимать на себя вид самих хозяев»[579]; «Домовые с виду похожи на людей; некоторые полагают, что у них сходство с хозяином дома»[580]. Такой же облик имеет и дворовой: «Домовик и дворовик видом оба в хозяина»[581]; «Дворовой похож на хозяина»[582]. Причем в одних мифологических рассказах за хозяина принимает домового или дворового кто-либо из домашних: «Пошла баба на двор давать корм скотине и видит, что старик в рубахе и портках кладет лошади охапку сена. Думала, что это свекор, вошла в избу, а тот сидит там. „Батюшко, ведь ты сейчас давал корм лошадям; как же ты раньше меня пришел?“ — спрашивает его сноха. А старик не выходил. Поглядели на дворе, а там уж никого нет: домовой ушел в свое место»[583]; «Он (семинарист. — Н. К.) видел домового в образе отца своего, несшего мешок с овсом кормить лошадей»[584]; «Кучеру показалось, что хозяин его ходит по конюшне, а хозяина в то время и дома не было»[585]. В других же самому хозяину встречается похожий на него домовой или дворовой (для прочих он обычно остается невидимым): «Тот (свояк. — Н. К.) вышел ночью, а там на него похожий человек лошадь гладит»[586]. Семантика образа домового, принимающего облик хозяина дома, вплоть до одежды и манер, определяется анимистическими верованиями, согласно которым у каждого человека от рождения есть свой двойник — это его душа, дух-хранитель: «<…> домовые часто являются двойниками хозяев»[587]; «<…> по своему внешнему облику он представляет из себя чистый двойник действительного хозяина»[588]. Бытуют поверья, что домовых (дворовых) в избе (дворе) столько, сколько членов семьи живет здесь[589]. Причем эти двойники могут быть зооморфного облика: в виде змей, петухов, куриц, кошек. По поверьям, гибель одной из змей влечет за собой смерть соотнесенного с ней члена семьи[590]. А приведенная в дом молодуха будет весь год, как говорят, «клохтать» (хворать), если при этом посадить наседку для высиживания цыплят[591]. Такое отождествление членов семьи (рода) с зооморфными персонажами раскрывает тотемистические истоки образов двойников, антропоморфизировавшихся уже в процессе длительного бытования в фольклорно-этнографической традиции. В мифологических рассказах, выросших на почве подобных верований, данного человека видят не в том месте, где он на самом деле находится, а в совершенно ином, либо названный человек видит самого себя, т. е. своего собственного двойника. И то и другое, по поверьям, предвещает ему смерть[592]. Дух-двойник тождествен, с одной стороны, хозяину дома, а с другой — домовому. Ведь домовой — покровитель семьи, олицетворение души предка[593]. Его голос и привычки бывают похожи на голос и привычки одного из прапрадедов[594]. Во всяком случае, он определяет одну из семантических граней образа домашнего духа — включенность его в семейно-родовые связи. Антропоморфные признаки этого полисемантического персонажа в известной мере закодированы в соответствующих скульптурных композициях, отмеченных нами при рассмотрении архитектурной домовой резьбы. Они же узнаваемы в небольших схематичных деревянных фигурках бородатых мужичков в шапках, найденных археологами в ранних слоях Новгорода (X–XI вв.) и справедливо считающихся изображениями домовых (см. зарисовки домовых из раскопок А. В. Арциховского)[595]. Эти старички вполне соответствуют упомянутым нами выше антропоморфным деревянным скульптурам, куклам-«панкам», символизирующим собой предков. (Кстати, резные деревянные фигуры домовых — «деда Саши» и «тети Маши», найденные в 1930-х гг. под Чарондой, близ Ферапонтова монастыря, хранятся в собрании Череповецкого краеведческого музея[596].)
Рис. 28. Куклы-«панки». Архангельская область

Рис. 29. Домовые. Деревянные фигурки домашних божеств (Новгород. Раскопки А. В. Арциховского)
Бородатость (шире: волосатость) — постоянный признак домового и в мифологических рассказах: «<…> волоса на голове и на бороде у него длинные, свалявшиеся»; «с большой седой бородой»[597]; «он представляется многим очень старым почтенным старичкам и с длинною бородою»[598]. Иногда домовой изображается обросшим шерстью, пухом: «Лет пятнадцать тому назад мучили меня два маленьких хозяина, малые, как дети, но шерстистые»[599]; «Домовой весь оброс мягким пушком, даже ладони и подошвы у него мохнатые; только лицо около глаз и носа нагое»[600]. Эта шерсть может быть того или иного цвета: «тело покрыто шерстью белого цвета»[601]. Она напоминает шерсть определенного животного (завуалированная ассоциация с ним домового): «руки у него шершинатые, такие, как будто овчиной поволочены»[602]. Волосы, шерсть, пух, равно как и перья, чешуя, — эквиваленты в народных верованиях. Они осмысляются как средоточие жизненной, физической и магической, силы не только самого домового, но и всей семейно-родовой общины, предком-родоначальником и покровителем которой он является. В украинских поверьях сохранились представления, согласно которым благополучие живущей в данном доме семьи зависит от «шерстистости» его мифического «хозяина»: если он в шерсти, то хозяин будет богат; если одна сторона в шерсти, а другая голая, то хозяин не будет богат, но не будет и беден; если же домовой весь голый, то хозяина ждет нищета[603]. Эквивалентом волосатости, «шерстистости» домового служит его шапка, огромная, мохнатая, лохматая: «На голове у него („хозяина“. — Н. К.) была огромная шапка, которую он не снял и в избе»[604]. Так же как и у баенника, подобная шапка — средоточие жизненной силы домового, вместе с тем она служит неким материальным воплощением его невидимости (эта шапка, согласно украинским поверьям, шьется из брошенных обрезков ногтей[605], также осмысляемых в народных верованиях как вместилище души): «Во время же Христовой заутрени <…> прийти в пустой дом, спуститься там в подполье, где и покажется домовой в шапке-невидимке. Также можно видеть его во время крестного хода вокруг церкви: тогда он снимает шапку-невидимку (курсив мой. — Н. К.)»[606]. Известны, однако, поверья, где домовой появляется с непокрытой головой и в обычные дни, что считается дурным предзнаменованием (впрочем, в качестве такового изредка осмысляется и появление его в шапке).
Огневые образы
Одежда «хозяина» напоминает «мужицкую». Тем не менее ее описание в мифологических рассказах и поверьях, как правило, метафорично. Нередко в нем закодированы огневые признаки домового: «Лежит фигура, похожая на человека, черная, как уголь»[607]. Домовой показывается «в свитке желтого сукна»[608] (эквивалент: имеет «жовту шерсть»[609]), «в синем балахоне, красном кушаке»[610] (в украинской традиции: и в красной сорочке[611], «в красной рубашке или в красной шапочке»[612]). Подчас образ домового — явное олицетворение огня: «маленький старичок в красной рубахе <…>, глаза огненные, как два каленые угля»[613]; над красными огненными глазами большие черные брови. Из широкого рта видны два ряда черных зубов (знак магической силы), высовывается красный шершавый язык — язык пламени[614]. Как видим, при описании облика домового используется та палитра красок, которая необходима для изображения огня. Это варьирующиеся сочетания красного, синего, желтого, черного цветов. При всей своей антропоморфизации домовые в одном из мифологических рассказов напоминают мерцание горящего синими и красными языками пламени: «Дык суседка видела двоих (домовых): один у синей рубахе, другой — у красной, ды пиримётываютца. <…> Ды тахта абнимутца, ды павалютца абои; а потом ускочуть, схватютца, да опять повалютца: играють»[615]. Синий огонь служит эмблемой духа: «Чую, как ввернет по полу веретенушко. А ишшо синенький маленький огонек (курсив мой. — Н. К.) горит. Я чё-то взяла и голову высунула — так все и пропало»[616]. В поздней традиции синий огонь — атрибут домового: дух добывает его для своих нужд с помощью огнива и кремня[617]. Добытый таким способом огонь считается «живым» и называется царь (князь) — огонь[618], что соотносится с «князьком» — «головой» дома и «князем» — женихом, становящимся отныне главой семьи. С ним домовой обходит дозором хлевы и конюшни или изгоняет болезни («Синий огонь, раскладзися, и рана залячися»[619]). В подобных случаях сам домовой появляется в виде обычного человека (родственника либо знакомого). Вместе с тем, как бы напоминая о своей былой связи с очагом, он может предстать и в виде трубочиста[620].Невидимый персонаж
По утверждению рассказчиков, «разновидные личины»[621], которые принимает домашний дух, — лишь временные его оболочки. Вышедшее из нижнего мира мифическое существо чаще невидимо и неуловимо в своей телесности[622]. О нем обычно говорят: «незримый хозяин», «невидимка», «невидимая сила», «невидимый дух»[623]; «Домовые нас видят, а мы их нет»[624]. К невидимым домовым относится и полтергейст, который, однако, шумом и стуком обнаруживает свое присутствие: «Домовой очень любит иногда шуметь в доме, стучит, топает, хлопает дверьми, бросает чем попало, никогда, впрочем, не попадая в человека»[625]. Проявлением домового служит и его тень: «Сколько он мне показывал, что ему эта корова не нравится, а я ничего, думаю, свыкнется. Вот как я ее привел, так в ту ночь и навалилась на меня тень (курсив мой. — Н. К.)»[626]; «Говорят также, что ночью иногда давит, душит домовой <…>, объясняют это тем, что находит будто бы тень домового (курсив мой. — Н. К.), сам же он не посмеет подойти к крещеному человеку»[627]; «Стал когда закрывать ворота, то с задней стены за ним пошла какая-то тень (курсив мой. — Н. К.), расширила руки и — сзади»[628]. Согласно анимистическим верованиям, отраженным, в частности, в архаических языках и мифологии, тень эквивалентна душе: например, в эвенкийском языке названия «душа», «тень», «отражение» являются синонимами[629]. Душа (а следовательно, и тень) в народных верованиях представляется как нечто материальное, но более тонкое, чем осязаемые предметы; она подобна пару[630]: «Есть такой „постень“ — черт, нечистая сила. Входит он в щель окна, в форточку. Лежишь в темной избе, а он тут и войдет. <…> Я раз держала его в руках, так словно ноги собачьи, а тает как воск. <…> Постень (курсив мой. — Н. К.) приходил к нам часто, когда мать болела»[631]. О тождестве тени, постеня и домового свидетельствуют некоторые областные говоры, где домового и называют «постень», что означает «тень от человека» (ср. с выражением: тени усопших)[632]. Душа (дух) может оставаться невидимой либо принимать различный облик[633]. Новая оболочка души представляется в виде легкого, утонченного, эфирного тела. Отсюда ведет начало и вера в привидения: «Дефка ходила в нынешнем году коровам давать. Вышла на поветь и видит: женщина в белом, сидит (курсив мой. — Н. К.)»[634]. Причем душа человека, исключительно с ним связанная, может переживать его и переходить на потомков. В таком случае предполагается, что члены семьи имеют одну коллективную душу (жизненную силу), идущую от общего предка-родоначальника[635] и персонифицированную домовым.Сакральный хронотоп как условие инкарнации духа
«Изба была первым языческим храмом»[636], — писал в 1851 г. А. Н. Афанасьев, анализируя религиозные представления славян. Исследователь рассматривает крестьянское жилище как своего рода капище, где совершались обряды в честь пената, персонифицирующего домашний очаг. Спустя едва ли не полтора столетия, на новом витке науки, эта тема вновь стала актуальной. Так, например, А. К. Байбурин, рассматривая структуру осваиваемого (освящаемого) жилого пространства, отмечает, помимо прочего, особо значимые в ритуальном отношении части жилища, в том числе и домашний очаг[637]. В русле данной концепции написана и статья К. К. Логинова, во многом опирающегося на собственные полевые наблюдения в Заонежье[638]. Заметим, однако, что интерьер крестьянской избы до сих пор рассматривался преимущественно этнографами, изучавшими жилище в контексте обрядов, верований, и в частности тех, которые связаны с представлениями о домовом. Наша задача прямо противоположная — выявить семантику образа домового, проявляющуюся в его пространственных, а также во временны´х координатах. Свое внимание мы сконцентрируем на сакральных локусах крестьянского жилища, где в сакральный же час, согласно народным верованиям, как бы образуются «дыры» из нематериального, параллельного, «тонкого» мира, некоего «физического поля» в реальное жилое пространство, из одного временно´го измерения в другое.Локусы домашнего духа
Представления о локализации домового довольно часто связаны с печью — семейным очагом и прилегающим пространством. По некоторым мифологическим рассказам и поверьям, домашний дух пребывает в самой печи, что усиливает огневые элементы в этом полисемантическом образе. Вот почему при переезде в новый дом бросают в печь лапоть и кричат: «Домовой, выходи!» Затем лапоть заворачивают в полотенце и приносят в новое жилище. Там берут кусок черного хлеба, наливают стакан воды и вместе с лаптем кладут в печь[639]. Иногда связь домового с огнем обнаруживается еще отчетливее. В мифологических рассказах и поверьях данный персонаж подчас инкарнируется в углях (огне): «Жена же его еще раньше, переходя с угольком из старого жилища на новое, пригласила себе хозяина. <…> да и я ведь тоже пригласила с угольком хозяина (курсив мой. — Н. К.)»[640]. Подобного рода идентификация дублируется и в обрядах: при переходе в другую избу хозяева, призывая домового на новоселье, берут из печи старого своего жилища горячие угли и переносят их в новый очаг. Судя по указанной версии обряда, воплощенный в горячих углях домовой — это одновременно и дух очага, огня. Признаки последнего закодированы и в описании внешнего облика данного духа-«хозяина», и в резных образах архитектурного декора[641]. Вот почему при разорении дома и очага мифический «хозяин» находит себе пристанище именно на пепелище: если при переходе из старой развалившейся избы во вновь отстроенную не сумеют переманить прежнего домового, то он остается жить на старом пепелище среди развалин[642].
Рис. 30. Курная изба. Каргополье
Излюбленное место домового также на печке, за печкой, под печкой: «Так рассказывала одна бобылка. Она была больная и не слезала с печи. Домовой ее толкал, только она все время упирается: „Не пущу, родимый, самой некуда“. Ну, он взял ее да и сбросил — сам на печку полез»[643]; «В доме старушка-домовушка живет. Маша была дома и пела песни. Из-за печки вылезла домовушка и сказала: „Перестань!“ <…> Маша закричала, а старушка испугалась и обратно за печку убежала»[644]. Знаком домового отмечен и подпечек — внутренняя часть деревянного основания печи, которая зимой нередко служит курятником[645]: «Из-под печки вдруг вылетит — и под зыбку, и под лавку — одна курица и вторая. А кто их гонял? И никто не гонял. Я сколько жила, такое не видела. Суседко, не иначе»[646]; «Спать легли на печку, ветер задул, раздался мужской голос: „Что вы делаете!“ И кто-то курицу из-под печки выкинул в угол комнаты»[647]. С подобными мифологическими рассказами перекликается загадка: «Вышла мара из-под печи, семьдесят одежек, а все гузно поло»[648], где мара (один из домашних духов) имеет куриный облик. Не случайно, переходя в новый дом и приглашая с собой «хозяина», «знающие» опять-таки именно из-под печки насыпают нечто на лапоть[649].

Рис. 31. Печь с курятником в подпечье. Каргополье
Пристанищем духу служит и печурка (небольшое углубление в печной стенке под шестком): «Живет он (домовой. — Н. К.) в жилых домах, где-нибудь в щели за печью, в печурке, под шестком <…> раз в год стряпают ему лепешки и кладут их в печурку»[650]. Этот же локус фигурирует и в обрядах перехода в новый дом: приглашая с собой домового, приготовляют для него угощение, которое уносят в новую избу и кладут именно в печурку[651]. Сюда же, по утверждению А. Н. Афанасьева, ставились и священные изображения домашних пенатов (дедов), все тех же домовых. Отсюда их приносили на стол в обеденное время для участия в семейной трапезе[652]. Зооморфный символ домового, живущего в печурке, зафиксирован и поговоркой: «Была и кошурка, да ушла в печурку»[653]. Его семантические эквиваленты содержатся и в других паремиях: «Вылез, как чура из печуры»[654], а также в загадках: «У нас в печурочке золотые чурочки» (отгадка: дрова в печи)[655]. Поскольку Чур («чур меня!») или Щур («пращур») — по мнению некоторых исследователей, предок, дед, все тот же домовой, а «чурка» — его деревянное изображение, появившееся, очевидно, тысячу лет тому назад[656] (эквивалент: полено средних размеров), локализация «чурок» («чурочек») в печурке усиливает отождествление названных персонажей. Не случайно в одном из заговоров наряду с царем и царицей полевыми, лесными, водяными упоминаются и «все чурочки, все палочки»[657], призываемые охранять домашний скот от различных вредоносных сил и осмысляемые в качестве символа домового. Вместе с тем рассматриваемый персонаж может обнаружить свое присутствие и в печной трубе. Так, по рассказам, одна баба, заслышав перед рассветом, как в трубе нечто «застукотало» заслонками, осмелилась спросить: «Кто там такой?» — и получила из трубы ответ: «Я домовой»[658]. Печная труба, а также дымоволок в курных избах у заонежан считались одним из путей, по которому в жилище проникает нечистая сила (т. е. дискредитированный домовой. — Н. К.), но через трубу же проникали в избу и души предков[659]. Подобное отождествление мифологических персонажей, на наш взгляд, служит средством известной идентификации домового с предком, покойником. Есть свидетельства и о локализации духа-«хозяина» в припечном пространстве, в частности, под голбцом. Голбец — это невысокий ящик (ларь) у русской печи, имеющий горизонтальную опускающуюся дверь, или чулан (пристройка) со спуском в подполье, а также само подполье. Причем надземная часть называется верхним, а подполье — нижним голбцом[660]. Мифологические рассказы связаны как с тем, так и с другим: «Открыл одеяло, гляжу — на голбец лезет на печку старик в синей рубахе, кряхтит. <…> Начали смотреть — никого нет»[661]. Но чаще домового видят в нижнем голбце, подполье: «Пришла она (старуха. — Н. К.) в голбец, спущается туда, а там старик сидит бородатый и вот так вот ладонями муку трескает»[662]; «Я не спушшусь в голбец — задавит, задавит. Мне этот сусед приснился во сне, борода вот так, большушшая»[663]. По утверждению рассказчиков, домовой иногда выходит «из голбесу» в виде кошки или подобного ей существа, которое может заметить далеко не каждый из жильцов дома; такой пришелец вскоре бесследно исчезает, например, под столом[664]. О локализации домового в голбце свидетельствует и обряд перехода в новый дом, вернее, одна из его версий: приглашая «соседушку-братанушку» в новое жилье, хозяин подходит к голбцу и отворяет дверь в подполье, а придя в новую избу, опять-таки открывает голбец и произносит: «Проходи-ко, суседушко, братанушко!»[665]. Слово «голбец», или «голубец», означает и надгробие в виде избушки, представляющей собой продолговатое четырехугольное сооружение, чаще покрытое положенными под углом досками или плоской крышей[666]. В древнерусских письменных источниках это и ларец, где хранятся священные предметы (ковчег), и подземный резервуар[667]. Голбец (имеется в виду и припечная пристройка, и надгробие), повторяя своими очертаниями контуры архаического жилища, осмысляется как уменьшенная копия и вместе с тем как прообраз позднейшей традиционной крестьянской избы, как и надмогильного памятника. А соотнесенные с ним домовой, умершие предки и священные предметы в определенном смысле функционально тождественны и семантически эквивалентны. Персонификацией же печи (равно как и жилища в целом) служит передний угловой столб ее фундамента (печной столб), обычно составляющий с голбцом конструктивное единство. Этот зачастую украшенный резьбой и росписью столб мог иметь зооморфные очертания, уподобляющие его «коню» и даже «туру» (вероятно, данному атрибуту печи некогда были присущи и иные формы). Вспоминаются строки А. Н. Островского из «Снегурочки»:

Рис. 32. Крестьянский дом в д. Клещейла. Кижская архитектурная коллекция
В русских и украинских мифологических рассказах дается объяснение подобной актуализации переднего угла: здесь нередко появляется домовой. Приведем примеры: «<…> за иконами в переднем углу можно будто бы увидеть седенького в красной шапочке старика, который и есть домовой»[680]; «<…> и в святим вугли налапала шось похоже на вивцю, все в шерсти. Ото ж був домовый»[681]. Этого духа-«хозяина» подчас обнаруживают в переднем углу не только самой избы, но и чердака или подполья[682]. Передний угол представляется в народных верованиях как бы включенным в трехчленную структуру мира. Та или иная его часть символизирует соответственно 1) верхний, обращенный к небу мир, 2) средний, где находится обжитое, освоенное людьми пространство, 3) нижний, подземный мир. Это своего рода мировое древо. Аналогичную, хотя и ослабленную семантику имеют в мифологических рассказах и поверьях и другие углы избы (прежде всего задний, печной). Причем угловое пространство может выходить за пределы жилища: в таком случае домовой «жмется где-нибудь за углом»[683] или же, идентифицируясь с хлевником либо дворовым, вообще обитает в углах хлева, двора. В дошедших до нас обрядах, обычаях, поверьях домовой, локализующийся в пространстве, ограниченном углами дома, верхом и низом, осмысляется преимущественно как дух жилища, постройки. Тем не менее он обычно отождествляется с духом огня, очага. Возможно, эти грани в образе домового сформировались в результате слияния с ним некогда самостоятельных божеств — духа огня и духа постройки. Так, в 1989 г. в с. Спасская Губа Кондопожского р-на Карелии нам удалось записать от 79-летней карелки B. C. Потаповой следующее поверье: «Есть хозяйка комнатная и печная. Они между собой не ссорились: жили дружно». Обычно же эти персонажи в дошедшей до нас традиции представлены в своем синкретическом, уже нерасчленимом единстве. Напомним, что одним из основных значений полисемантического образа домового служит осмысление его в качестве коллективной души, или средоточия душ, принадлежащих определенной семейно-родовой общине, о чем мы уже говорили выше. Вследствие этого домашний дух оказывается в известном смысле вездесущим, как бы наполняя и ограждая собой находящееся под его покровительством жилое пространство, о чем, в частности, свидетельствует обряд перехода в новый дом: старшая в семье женщина топит печь в старом доме; затем выгребает весь жар в печурку; ровно в полдень кладет в горшок горячие угли, накрывает его скатертью, растворяет двери и, обращаясь к печке, говорит: «Милости просим, дедушка, к нам на новое жилье!» И отправляется с горшком в новый дом. Там старушка ставит его на загнетке, снимает скатерть и трясет ею по всем углам, как бы выпуская домового. Затем высыпает принесенные угли в печурку. Горшок же разбивают и ночью зарывают под передний угол[684]. Если с горячими углями ассоциируется домовой, то с горшком — погребальная урна с прахом сожженного предка (факты использования горшка-урны в похоронных обрядах зафиксированы у многих европейских народов, в том числе и славянских[685]). Отождествление домового, с одной стороны, с огнем (очагом), а с другой — с предком-родоначальником прослеживается в данном случае достаточно отчетливо. Излюбленным местом домового, по уверениям рассказчиков, является и чердак (подволока, верх, вышка): «<…> а как зашел домовой, слышит: шаги, на чердаке кто-то ходит. Поднялся, а там небольшой мужичок в красном колпаке. Домовой дом охранял, пока он робил»[686]; «А по подволоке там у нас ходило, все ходило будто, по подволоке, стукатело — стукатело, и по лестнице спускалосе, в сини»[687]; «<…> домовой, или „хозяин“, или еще „милак“, — живет на чердаке — на потолоке, — но ходит по всему дому и двору»[688], как бы совмещая функции домового и дворового, хлевника. Одновременно прослеживается и его связь с печью: домовой сидит на чердаке за трубой или около трубы[689]. Иногда на чердаке обнаруживается и присутствие полтергейста, в какой-то мере отождествляемого с домовым: «Ну вот, потом сели чай пить — на чердаке заходило. Ну, попадьюшка говорит: „Пойдем-ко туда со мной“. — „Пойдем“. Ну, и пошли на чердак. Открыли двери <…>. Эта корзина опрокинулася на их, опружилася. У работника была борода длинная очень. Этот сущик весь на работника этого слетел, все ему глаза заслепило и бороду всю сущиком. И попадьюшка то же само — вся в сущике»[690]. В мифологических рассказах в качестве обиталища домового наравне с чердаком фигурируют и полати — высокий и широкий настил для спанья, тянущийся обычно от печи (верхушек печных столбов) до противоположной стены. Полати делают на расстоянии 80 см от потолка[691] (приблизительно на высоте верхней поверхности печи): «Часто его (домового. — Н. К.) видят <…> спускающегося на пол с полатей или с бруса (балка посреди избы, которая служит для складывания ношебного платья)»[692]. Если сакральное пространство крестьянской избы ограничивается в длину и ширину ее углами, то сверху и снизу — чердаком и подпольем, так или иначе маркированным и знаком домового. В мифологических рассказах и поверьях домовой нередко локализуется и под полом жилища (эквиваленты: подполье, подызбица, подклет). Подполье представляет собой яму, округлую или угловатую, разнообразную по размерам и глубине, но никогда не занимающую всей площади под полом и не превышающую роста человека. Вдоль боковых стен подполья устраиваются широкие земляные уступы наподобие полок. Из избы или голбца на дно подполья спускается дощатая лесенка. Вход в него захлопывается особым люком (дверцей)[693]. Именно из подполья доносятся, например, плач и стоны домового или «доможирихи», предвещающие несчастье[694]. Оттуда же раздаются и звуки свадьбы, справляемой домовыми: «Потом и пошло там, танцы да гармонь заиграла да пела. <…>. Ну, танцевали, да выли, да плясали, да ходили»[695]. Наиболее часто в быличках и бывальщинах повествуется о появлении мифического «хозяина» или «хозяйки» из подполья: «Говорит, подполенка отвориласе — вот так (некто. — Н. К.) ползет, а волосы…»[696]; «Лет сорок это было назад (т. е. около 1900 г. — Н. К.), приехал я на Пудожгору. Сижу в избе, слышу, кто-то говорит в подполье, а я и не верю. А была уже ночь. Вот потом открывается в полу дыра и оттуда выходит человек — это он, значит, подпольщик (здесь: таинственный обитатель подпола. — Н. К.)»[697]. На этих представлениях основаны некоторые элементы обряда, соблюдаемого при переходе в новый дом: женщины при наступлении вечера с зажженной свечой в руках открывают люк подполья и, наклоняясь над темным отверстием, приглашают его мифического обитателя на новоселье: «Дедушка-домовой, пойдем с нами жить!»[698]. В быличке аналогичная коллизия развертывается в сюжет: «Суседушко у меня хороший был, доброй. Я вот, когда переезжала в этот дом, в старом доме подпол открыла и сказала: „Суседушка-браток, пошли со мной!“ Сейчас он со мной в этом доме живет»[699]. Пространство под полом жилища, так же как и печное или околопечное, занимает важное место в культе предков и формирующемся на его основе культе мертвых. Это обстоятельство, по-видимому, обусловлено архаическими верованиями, зафиксированными у многих народов, и в частности, обычаем погребать мертвых под полом своих жилищ или под печью[700]. О подобном захоронении говорится в одном из памятников древнерусской литературы XVII в., в «Повести об Улиянии Осорьиной», использующей стереотипы агиографического жанра: «Потом над нею поставили церковь теплую во имя архистратига Михаила. Случилось, что над могилою ее была поставлена печь. <…> на краю гроба лежало печное бревно. А от гроба под печь проходила скважина. И по ней гроб тот из-под печи (курсив мой. — Н. К.) пошел на восток, пока, пройдя сажень, не остановился он у стены церковной»[701]. Разновидностью захоронений под полом, постройкой в сущности являются гробницы-часовни. Семантически значимую роль в определении координат домового играет и порог. Вошедший в дом мифический «хозяин» останавливается у порога: «дли двери на конику»[702]. Порог, печь и угол избы, согласно народным верованиям, эквивалентны: «Любимое местопребывание домового порог и печь»[703]; «На зиму забирается под печку и там живет или у порога, или под углом избы»[704]. В основе подобных поверий лежит некогда существовавший обычай хоронить под очагом, полом, семейным порогом умерших предков[705], а в поздней традиции — мертворожденных младенцев[706]. И углы (особенно передний), и печь, и подполье, и порог так или иначе связаны с погребением, будь то строительная жертва либо предок, «хозяин» очага, «хозяин» порога, восходящие в своих истоках к тотемным персонажам, почитанием которых было положено начало культу предков. «Таким образом, в домовом видим олицетворение очага. Но сверх того, с домовым связывается еще поклонение душам умерших предков»[707], — отмечает А. Н. Афанасьев. При этом он добавляет, что почитание предков обусловлено патриархально-родовым бытом крестьянства. Справедливости ради надо заметить, что локализация домового не ограничивается лишь самой избой. В таких случаях мы имеем дело с неким суммарным персонажем, объединившим в своем лице едва ли не всех домашних духов: домового, дворового, хлевника, овинника, ригачника и, возможно, других мифических существ, представления о которых уже утрачены русской традицией. Вот почему излюбленным местом домового во многих быличках и бывальщинах оказывается двор, чаще всего конюшня, где он «любит сидеть на перемете»[708], либо хлев и поветь (сенник), что, впрочем, не мешает ему «разгуливать и по всему дому»[709]. Существует даже поверье, что в избе или сенном сарае он поселяется лишь в том случае, если в хозяйстве нет лошадей[710]. Факт, усиливающий наше предположение о присвоении домовым функций хлевника. Это расширяющееся пространство данный персонаж обретает по мере вытеснения из живой традиции духов-«хозяев» надворных построек, которые на каком-то этапе в развитии синкретического образа домового-баенника дифференцировались от него, а затем вновь слились с основной фигурой домашнего пантеона: «Стоит только взять фонарь и осмотреть четыре угла двора, — непременно в каком-либо углу увидишь его (домового. — Н. К.): он будет лежать, свернувшись калачиком, как собака, и похожим на нее»[711]. Однако и углами крестьянского двора владения домового в расширительном значении этого образа не ограничиваются. Они распространяются также на земельный надел (поля и пашни), расположенный за определенной межой[712]. Наследуя функции Чура, почитаемого у славян, по мнению некоторых ученых, в качестве бога меж[713], домовой продолжает охранять границы владений рода или семьи[714]. Вот почему обряды, связанные с данным духом-«хозяином», совершаются не только в доме или во дворе (преимущественно по углам[715]), но, очевидно, и за его пределами. Сакральный характер крестьянской избы определяется постоянным невидимым присутствием в ней духа-«хозяина», и особенно в местах, наиболее значимых с обрядовой точки зрения, но еще в большей степени визуальным явлением домового перед жильцами дома. Инкарнация обычно не имеющего плоти духа возможна, согласно народным верованиям, лишь при пересечении сакрального (маркированного знаком домового) пространства с сакральным же (переходным, «пороговым») временем.
Сакральный час
Явление домового в крестьянской избе предусмотрено прежде всего обрядом, связанным с новосельем: «А в первую ночь в новом доме домовой является непременно»[716]. Кульминационным моментом, или «пороговым» временем, разделяющим прошедшие и наступающие сутки, служит в мифологических рассказах полночь. Именно в этот час домовой и дает о себе знать: «Вот и лежу на пецке. Нигде никого нет в комнате, у меня было все закрыто. И вот слышу, кто-то говорит: „Скоро двенадцать часов“. А в комнате нет никого. „Почудилось“, — думаю. Заснула. А тут меня как за боцок-то съездит, тут я и проснуласи. Видно, какой-то хозяин есть»[717]. В двенадцать часов ночи, в полночь, особенно в полнолуние, домового можно увидеть не только случайно, но и преднамеренно. Как повествуется в поверьях, бытующих в различных локальных традициях, для этого существует немало способов. Например, стоит только остаться в полночь одному в избе и смотреть в зеркало — домовой в нем и покажется[718]. Или: если в полночь, во время всеобщей тишины и покоя, забраться в хлев или овин, то можно стать свидетелем драки домовых[719]. Существуют и более замысловатые способы, посредством которых, по рассказам, и опять-таки в полночь, удается увидеть «хозяина». Например, нужно забраться за прислоненную к стене какой-либо постройки борону и смотреть через нее (варианты: через три бороны, составленные шалашиком; через хомут и борону; через хомут с гужами)[720]. Выбор подобных атрибутов рассказчики объясняют тем, что «борона вся состоит из крестов»[721], а хомут с гужами также образуют крест. С помощью этих освященных знаком христианства атрибутов и удается, по их мнению, увидеть духа-«хозяина». Однако, на наш взгляд, здесь не исключена символика, связанная с лошадью как эмблемой хлевника-дворового. Вот почему, слившись с последним, домовой фигурирует за пределами крестьянской избы. Впрочем, домашнего духа можно вызвать в полночь, при луне, и с помощью словесной формулы, подкрепляемой обещанием особого, обладающего магической силой подарка (обычно это «красное яичко»[722]). Подвести итоги сказанному можно репликой самих рассказчиков: «Показываются домовые большею частию в полночь»[723]. Временем, чреватым встречей с духом, считается в народных верованиях и полдень. Именно в такой момент крестьяне боялись оставаться в одиночку[724]. В этот же час брань незамедлительно наказывалась, а проклятие сбывалось: «В полдень следует остерегаться брани, крупного разговора, клятвы (проклятия. — Н. К.) в особенности. В полдень сбывается клятва матери»[725]. Мотивировка последствий подобной «клятвы» вполне определенная: «Две минуты бывают худые во дню, когда лембои и удельницы доступают к человеку: одна в самый полдень, другая — по закате солнца (курсив мой. — Н. К.)»[726]. Причем от образов духов-«хозяев», появляющихся перед людьми на стыке основных частей суток, со временем отпочковывались, по-видимому, персонифицированные духи полуночи и полудня, которые нередко олицетворялись, принимая человеческий облик. В заговорах они называются «ночной полуночницей, денной полуночницей»[727]. Полдень и полночь осмысляются как наиболее благоприятное время для перехода домового из старого в новое жилище. Приглашая его на новоселье, хозяева дожидаются полудня либо полуночи, когда пропоют первые петухи, когда на небе высоко встанет созвездие Стожары (Плеяды)[728]. Связь духа с космосом (луной, звездами) эпизодически проявляется в дошедших до нас народных верованиях. Домового можно увидеть и в переходное («пороговое») время, отмеченное наиболее значительными календарными праздниками, первоначально языческими (прежде всего тотемическими), затем освященными христианством. В быличках, бывальщинах, поверьях домашнего духа нередко видят на Страстной неделе, предшествующей Пасхе, и особенно в Великий, или Чистый, четверг. Согласно одному из поверий, в этот день берут в церкви на вечерне зажженную свечу и направляются с ней домой, оберегая пламя от дуновения ветра. Придя домой, поднимаются с горящей свечой на чердак, где видят духа-«хозяина» в облике голого человека[729]. В народных верованиях «четверговая свеча» обычно служит оберегом от вредоносных сил. К таковым в поздней традиции причисляется и домовой. Но это лишь с позиций христианских представлений. С позиций же язычества «четверговая свеча» стимулирует встречу человека с духом, одной из эманаций которого является огонь. Ведь изначально домовой не считается нечистой силой. Он не менее чист, чем позднее сменившие его персонажи народно-христианской мифологии. Вот почему явление этого духа в храме либо в крестном ходе в условиях двоеверия столь же естественно, как и в хоромах (не случайно названные локусы именуются однокоренными родственными словами). Анализ обрядовых действ, приуроченных к Великому четвергу и адресованных домовому, позволяет обнаружить в рассматриваемом персонаже языческое божество: «<…> в Чистый четверг втыкают на дворе можжевельник, под верею (столб, на который навешивается створка ворот. — Н. К.) льют святую воду, курят ладаном — все это домовой очень любит»[730]. В названный день домашний дух, в котором совмещены признаки домового и дворового и который локализуется в данном случае под воротным столбом, как бы подпитывается и обновляется природными стихиями. Дух-«хозяин» освящается святостью дерева (можжевельник), воды и воздуха, совмещенного с огнем («курят ладаном»). Добавим сюда и освященную в церкви свечу, при свете которой как раз и обнаруживается, а скорее всего, стимулируется появление этого мифического существа: «Можно также увидеть его на Святой неделе, смотря по углам со свечой от светлой заутрени: от этой свечи домовой не может укрыться»[731]. Концентрация представлений об инкарнации домового на Страстной неделе, и особенно в Великий четверг, закономерна. Многочисленные обряды, соблюдаемые в Великий четверг, заставляют предполагать, что с ним совпал прежний день Нового года[732]. Отсюда ведет начало осмысление его в народных верованиях как «порога» между уходящим и наступающим годом, равно как и между «тем» и «этим» мирами. Вот почему в некоторых этнокультурных традициях Великий четверг называется «днем выхода мертвых»[733]. В этот (иногда и в какой-либо иной) день Страстной недели покойники (умершие предки) отпускаются из могил на волю и приходят в жилища своих сородичей (потомков), где в их честь совершается всеобщее поминовение[734]. Закономерное совпадение: именно тогда же полагалось угощать и домового — «налить миску борща с кашею, взять хлеб и все это отнести на чердак»[735]. Подобное отождествление актов почитания умерших предков и домового, совершаемых в Великий четверг, свидетельствует о том, что домовой — покойник, умерший предок. Явление духа-«хозяина», по рассказам крестьян, происходит и на Пасху примерно при тех же обстоятельствах, что и в Великий четверг. Крестьянин, возвращаясь от Христовой утрени с зажженной свечой, освященной в церкви, видит в переднем углу своей избы, за иконами, домового[736]. Вероятность встречи с ним повышается благодаря дублированию одного и того же действия посредством одного и того же атрибута. Согласно поверью, с этой целью нужно скатать такую свечу, которой бы хватило, чтобы с ней простоять в Страстную пятницу у Страстей, а в субботу и в воскресенье у утрени; тогда в Светлое воскресенье, между утреней и обедней, зажигают эту свечу и идут с ней домой, прямо в хлев или коровник, — там можно увидеть «дедушку», совмещающего роль домового и хлевника, и даже поговорить с ним[737]. Атрибуты, стимулирующие явление данного мифологического персонажа, могут варьироваться. Так, вместо свечи (сниженный эквивалент: фонарь) используется частица просфоры, полученной в церкви во время причастия: спустившись с ней в подполье пустого дома во время Христовой утрени или крестного хода вокруг церкви, мужик видит домового[738]. Функционально тождественным свече, просфоре можно считать и пасхальное («красное», «христовское») яйцо, осмысляемое в народных верованиях как средоточие жизненной силы. Иногда явление домового или эквивалентного ему персонажа происходит вследствие специального обряда, цель которого — вызов духа. Причем исполняется этот обряд наиболее часто на Пасху. К числу его составляющих относятся и освященные атрибуты, и магические действа, и заклинания. Так, крестьянин, возвращаясь с пасхальной утрени, приносит в свое жилище свечу, которую держал в церкви все то время, пока шла служба, и «красное яйцо», которое он первым (или «как можно скорее») получил от священника. Поднявшись ночью, «до петухов» (вариант: в полночь), крестьянин берет в одну руку зажженную свечу, а в другую — «красное яйцо» и, став перед отворенной дверью хлева (вариант: выйдя во двор и став лицом к месяцу), произносит: «Дядя дворовый, приходи ко мне не зелен, как дубравный лист, не синь, как речной вал, приходи таким, каков я, — я тебе христовское яичко дам»[739]. Вариант: «Хозяин, стань передо мной, как лист перед травой — не черен, не зелен, но таков, каков я. Я принес тебе красное яичко»[740]. И появляется домашний дух в облике мужика — хозяина дома. По утверждению рассказчиков, пришельца из потустороннего мира можно повстречать на Пасху и в церкви. Желающий его там увидеть одевается во все новое, обувается в новую же обувь, мажет голову маслом, сбитым из молока от семи перводойных коров, и направляется в церковь. Оглянувшись во время службы, он видит домового в его «настоящем» облике[741]. Иногда признаки сакральности времени, ознаменованного появлением данного персонажа, дублируются: по материалам Заонежья, его можно увидеть и даже поговорить с ним на пасхальной утрене, если зажечь свечу, освященную еще в утреню Великого четверга[742]. Впрочем, в Великий четверг или в Светлое Воскресенье (на Пасху), особенно между утреней и обедней[743], домового подчас встречают и случайно. Мифический «хозяин» показывается в излюбленных местах своего пребывания. Упоминания рассказчиков о том, что даже в названные праздничные дни наиболее благоприятно для появления домового время «между утреней и обедней» или «ночью, до петухов», позволяют предположить, что речь опять-таки идет о часе, близком к полудню или полуночи. Встреча с домовым (во всяком случае, по дошедшим до нас мифологическим рассказам) небезопасна для человека. Крестьянин, видевший духа на Пасху в церкви, болел в течение шести недель, т. е. сорока дней, — именно того срока, когда человек, будучи в лиминальном состоянии, находится как бы между двумя мирами («ни здесь ни там»). Осмысление подобного состояния совпадает с представлениями о Пасхе как переходном, «пороговом», времени, связанном с весенним воскресением природы и воскресением из мертвых. И потому такое заметное место в пасхальной обрядности занимает культ мертвых, генетически восходящий к культу предков[744]: «На Пасху и на Радоницу родные идут на могилки христосоваться со своими покойничками. Говорят им „Христос воскрес“, крестик на могилке целуют, яичко на могилке три раза прокатят и раскрошат его на могилке для птичек (наутро смотрят, поклевано ли яйцо). <…> а все же они слышат нас, когда мы с ними христосуемся, видят нас и на нас радуются»[745]. Но, обратим внимание, к этому же культу предков отчасти восходит в своих истоках и почитание домового. Вот почему выход на землю душ умерших[746] и появление в «этом» мире духа-«хозяина» в контексте пасхальной обрядности едва ли не эквивалентны друг другу. Несмотря на опасность для людей, исходящую от таинственного пришельца с «того света» («кто его увидит, долго не проживет»[747]), ему все же предназначается пасхальное яйцо как символ воскресения. Помимо Страстной недели (особенно Великого четверга) и Пасхи, домового, согласно поверьям, можно увидеть и под Рождество Христово. Названным праздником также знаменуется переход: это день зимнего солнцеворота и возрождения. По другим рассказам, домовой появляется на Новый год или под Крещение, которым завершается единый комплекс святочной обрядности как определенного «порогового» периода. В некоторых поверьях отражен обычай потчевать домового наряду с поминовением умерших в течение этого времени. Так, перед Рождеством, или Крещением, или под Новый год ему ставят на чердак борщ с кашей и кладут хлеб[748]. Вариант: в ночь накануне Рождества духу-«хозяину» в каждом доме оставляют рождественскую кашу, табак и одежду[749]. Как и в Великий четверг или на Пасху, угощение домового и в данных случаях совершается в рамках поминальной обрядности, при отправлении которой наряду с другими мифологическими персонажами, олицетворяющими духов из «иного» мира, приглашаются на «кормление» «дзеды» либо «хозяин», уже напрямую соотносимые с домовым[750]. Вместе с тем нельзя не признать, что былички, бывальщины, поверья об инкарнации домашнего духа под Рождество, Крещение и на Новый год, т. е. святочные рассказы, концентрируются преимущественно вокруг баенника, в то время как мифологические рассказы о воплощениях «хозяина» на Страстной неделе и на Пасху связаны в основном с домовым. Правда, четкой грани между тем или иным решением данной коллизии в фольклорной прозе нет, как нет ее и между самими персонажами. Таким образом, локализация домового в рамках сакрального хронотопа, связанного с особо значимыми в обрядовом отношении частями избы и «пороговым» временем, осмысляется как необходимое условие воплощения духа-«хозяина» и явления его в крестьянской избе — языческом храме. Именно в рамках сакрального хронотопа образуются те «дыры» во времени и пространстве, благодаря которым осуществляется контакт жильцов «хором» с эфирным пришельцем из потустороннего мира.«На роду написано…»
Архетипы, связанные с представлениями о судьбе и жизненном цикле человека: о рождении, свадьбе, смерти — довольно часто определяют сюжеты мифологических рассказов о домашнем духе-«хозяине».Богоданный (-ая)
Одним из значений полисемантического образа домового служит, как уже говорилось, осмысление его в качестве коллективной души, или средоточия душ, принадлежащих определенной семейнородовой общине. Этот персонаж, так же как и баенник, причастен к рождению каждого нового члена этой своеобразной общины, представленной многими поколениями сородичей, живых и умерших. Судя по мифологическим рассказам и поверьям, между домовым и женщиной, ждущей или родившей ребенка, существует некая таинственная связь. Например, в Заонежье в качестве сниженного и, следовательно, уже вредоносного духа, ведающего младенцами, выделилась из сонма домашних божеств «другодольная удельница»: она может вынуть младенца прямо из утробы матери, изуродовать его или подменить новорожденного, положив вместо него голик[751]. В общерусской же традиции отмечена забота домового о ребенке с момента, когда он только собирается появиться на свет: «Мама моя в положении Андреем ходила. Приходить к ней по ночам стал молодой мужичок, небольшой, без бороды (новый дух-„хозяин“. — Н. К.). И живот правит — руки-то мягонькие»[752].
Рис. 33. Колыбель. С. Шелтозеро. Южное Прионежье
Не оставляет домовой без своего внимания и роженицу с появившимся на свет младенцем: «Вот с этого подполья (вот как теперь с места не сойти) подпольницу высвистнуло — и из подполья вылезло и вот плывет по земь ко мне, волосы черные и долгие, вот такие черные и долгие, и плывет, вот такие когти, ко мне, вот так плывет — во, из подполья-то. Будто бы как собака така, с темными глазами, так ко мне плывет»[753]. Или: «Я родила, часов в одиннадцать, а где-то в двенадцать слышу: с печки спрыгнул кто-то и ко мне идет. Я крикнуть-то хочу и не могу. А потом как-то рукой его схватила… Рука-то моя — как в пух: мягко че-то тако, пушисто!»[754] Облик (явно зооморфные признаки) и хронотоп (подполье, печь; полдень, полночь) выдают в этом посетителе мифического «хозяина» жилища. Реакция роженицы — всегда страх, или неопределенный («вдруг что-нибудь сотворится»), или же вполне конкретный (боязнь быть задушенной). Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала показывает, что былички и бывальщины о домовом, задушившем роженицу, — результат переосмысления этого образа. Представления же о связи роженицы и новорожденного с домовым изначальны. Утраченные мифологической прозой, они выявляются при обращении к народным верованиям, связанным, в частности, с очагом. Последний в архаических традициях осмысляется как место инкарнации душ предков в будущих потомков рода[755]. Пылающий очаг, а значит, и ассоциирующийся с ним домовой, дарует детей. Не случайно у индийцев было принято воссылать гимны к Агни — богу огня, «главе рода»[756] с просьбой о ниспослании детей:

Рис. 34. Интерьер крестьянской избы. Южное Прионежье
В состав рассматриваемого сюжета может входить и мотив «домовой (дворовой, гуменник, ригачник, овинник) подменяет похищенного ребенка чуркой (поленом, обрубком дерева, головней, голиком)». (В этом же сочетании оба мотива имеют место и в мифологических рассказах о баеннике). Чурка (полено, головня, обрубок, голик), принявшая антропоморфный облик, — своеобразный двойник человеческого ребенка: она появляется в зыбке с похищением младенца и так или иначе исчезает с его возвращением. Впрочем, эта причинно-следственная связь обычно завуалирована. Приведем пример. В одной из бывальщин странник, ночевавший у крестьянина,заметил, как «дьявол» (здесь: сниженный домовой), украв в доме дитя, положил взамен него полено. Но странник оказался знахарем: он отобрал ребенка и спрятал его в торбу. Наутро странник перерубил и бросил в огонь «обменыша», т. е. полено, имеющее «безжизненный вид дитяти», а пришедшим в отчаяние родителям возвратил живого ребенка[777]. И все же в традиции обе части мифологемы нередко получают и самостоятельное развитие. Так, в некоторых быличках и бывальщинах повествуется о похищении ребенка (оставленного без присмотра, некрещеного, проклятого родителями либо посланного ими к черту, лешему, лембоям) тем или иным мифическим существам и о попытках людей возвратить его, удачных или безрезультатных. Для спасения младенца используются различные способы: «относы», сопровождаемые заговором: «Царь домовой, царица домовая, возьмите хлеб-соль…»[778], либо всевозможные манипуляции с крестом: если выстричь крестообразно волосы на темени похищенного или вовремя осенить его крестом, то унесенный мифическим «хозяином» вновь сделается земным человеком. Впрочем, по мнению рассказчиков, это мало кому удается: «В деревне Середке мать выбранила мальчика, и мальчик пропал. Месяца через два после того Леонтий Богданов <…>, подходя к дому, видит, на воротах что-то колышется, ан сидит на воротах младенец. Только бы его взять да крест надеть, с рук-то бы его не взяла нечистая сила. Но пока Леонтий Богданов прохлаждался, рассуждаючи таким образом, мальчик сгинул из виду»[779]. В других же мифологических рассказах речь идет об «обменыше», тощем и уродливом, с огромным брюхом и головой, но с тонкими ногами и повисшими плетью руками. Несмотря на свою прожорливость, это существо совершенно не растет, непрерывно плачет, изводя своих «родителей». Обычно «обменыш» недолговечен: чаще он сам умирает, иногда же от него избавляются особыми магическими способами, известными лишь «знающим» людям. Недолговечны и дети, рожденные женщинами от огненных крылатых змеев, отождествляемых с домовыми: «Как родился, так и ушел под пол»[780]. Представления, связанные с домовым, сопутствуют и обряду крещения. В нем наряду с христианскими есть место и чисто языческим атрибутам: это кусочек печины (глины из печки), уголь. Обряд соотнесен с порогом дома, на котором передают ребенка — мальчика — куму и куме[781]. Как видим, согласно мифологическим рассказам и поверьям, во власти домашнего духа дать людям ребенка, но в его же власти и забрать. Домашний дух — своеобразное коллективное вместилище, родовое хранилище душ. Он же и их распорядитель.
Суженый (-ая)
Языческие божества, подобные Роду и Рожаницам или урисницам, помимо всего прочего, предопределяют с самого рождения человека, с кем ему предстоит вступить в брак. Образ этих мифических существ, олицетворяющих собой судьбу, и в данном случае сливается в процессе долгого бытования мифологической традиции с образом домового. И сам «хозяин», и его атрибуты фигурируют в быличках, бывальщинах, поверьях, связанных со свадебными обрядами и обычаями. Как повествуется в этих рассказах, именно домовому принадлежит решающая роль в выборе невесты для жениха. Мифический «хозяин» даже сообщает, где искать суженую: «И они вошли в дом. Подполье открывается — невесту подали и приданое тоже. Потом подполье закрылось. Взяли невесту и пошли»[782]. Суженая (богосуженая) послана самим языческим божеством (позднее — Богом) — вершителем жизненного цикла, устроителем брачного союза. Подобно баеннику, домовой растит девочку до совершеннолетия. И только накануне свадьбы, когда невеста находится в лиминальном состоянии, он позволяет своей подопечной перейти из «того» мира в «этот», где она обретает телесное воплощение и социальный статус: «так ён уж больше не мог ее держать — взял да отдал»[783]. Из присловья, зарегистрированного, в частности, в среднерусской традиции (Смоленской губ.), домовой принимает и само решение о свадьбе: «А ти сватушка домовой задумаў едакыга чартенка жанить?»[784]. Эта коллизия имеет аналоги в мифологии других народов мира. Например, у индийцев жених получает невесту из рук бога Агни, под покровительством которого она выросла[785]. Фольклорные материалы, свидетельствующие об участии домашнего духа в судьбе молодых, подкрепляются данными этнографии. Характерно, что многие атрибуты, используемые в свадебных обрядах и обычаях, оказываются на поверку эмблемами домового. В их числе огонь, очаг, печь, печной столб, помело, кочерга, зола (пепел), уголь и пр. Ведь очаг у славян почитался устроителем семьи, защитником брачных и родственных связей, хранителем домашнего счастья[786]. То же наблюдается и в традиции других народов. Так, у немцев зарегистрировано присловье, посредством которого девушки просят печь послать им поскорее жениха: «Lieber Ofen! Ich bete dich an, gieb mir doch bald einen Mann»[787]. У славян при сватовстве невесты обращаются к ее семейному очагу и получают от него разрешение взять девушку из-под домашней опеки[788]. Вот почему уже в обряде сватовства так много внимания уделяется и печи, и ее атрибутам. В восточнославянской традиции отмечены обычаи, по которым отец жениха или сват с целью успеха предпринимаемого дела связывает помело с кочергой[789] (в полном соответствии с правилами имитативной магии, основанной на подобии действий) либо выламывает из печи кирпичину и держит ее в кармане[790]. В доме невесты свата усаживают перед печью[791], либо сам он берется рукой за печной столб, либо греет руки (независимо от времени года), подойдя к печи, чтобы задуманное удалось[792]. В соответствии с обычаем ведет себя и девушка, которую сватают: она «колупает» печь[793]. Покидая родной дом, невеста кланяется до земли домашнему очагу, на котором в это время должен гореть огонь[794]. Аналогичными обычаями обставлено расставание с очагом в литовской традиции. Оплакивая разлуку с родительским кровом в последний день своей девичьей жизни, невеста называет очаг «милым святым огнем»[795]. Согласно севернорусским обычаям, когда жених уезжает за невестой, то в его доме печь должна быть закрыта. Этот же обычай соблюдается и в доме невесты, когда жених увозит ее в церковь для венчания из-под родительского крова[796]. В белорусской традиции невеста, покидая отцовский дом, причитает: «Добрая доля, да идзи за мной с печи пламенем, с хаты каминем»[797]. В данном случае судьба (доля) и домашний очаг отождествлены между собой так же, как бог — домовой — домашний очаг в одной из белорусских купальских песен: «Ходили детушки богу помолиться, стоўб обнимали, печь (курсив мой. — Н. К.) целовали…»[798]
Рис. 35. У припечка. Каргополье
При вступлении новобрачной в дом мужа сам дух-«хозяин» («суседко» или «суседиха»), согласно одной из быличек, выходит взглянуть на молодую: «Поженились мы с мужем недавно и в новый дом пошли. Только зашли, тут вышла баба и на меня глядит, маленькая такая бабочка. Руки в боки уперла, глаза выпучила и не мигает. Я испужалась-то, стою, за мужнин рукав схватилась. Говорю ему: „Гляди, гляди! Что это баба на меня смотрит?“ А она исчезла. Вот это суседиха была»[799]. Представлениям, отраженным в быличке, соответствуют определенные обычаи и обряды. Так, например, известно, что вошедшая в дом новобрачная должна обратиться с приговором к домовому, чтобы он принял и кормил-поил ее. При этом она кладет ему по всем четырем углам гостинец — «щепоточек сахару, три-четыре чаинки. Возьмет, не возьмет — его дело»[800]. Но наибольшее количество обычаев и обрядов при вступлении новобрачной в дом мужа опять-таки связано с очагом и его атрибутами. В этом случае полагалось возжечь огонь. Молодая должна была трижды обойти (или же ее обводили) вокруг очага, в котором горел огонь, что иногда сопровождалось молитвенными благословениями[801]. То же отмечено у германских народов, у австрийских и балканских славян, в древности — у римлян и индийцев[802]. Например, согласно сербской традиции, новобрачная, вошедшая в дом после венца, трижды обходит вокруг очага, потрясая при этом зажженным поленом, которое, напомним, в народных верованиях осмысляется как эманация домового. Известна и другая версия: по приезде из церкви молодая глядит на печь или печной столб и затем трижды обходит с новобрачным вокруг стола, двигаясь по солнцу[803]. Зафиксированы и иные способы установления контактов с семейно-родовым божеством того дома, в который вступает после венца молодая. Например, она кланяется очагу и прикасается к нему руками (кстати, то же делает и примак)[804]. При этом иногда, чтобы задобрить нового духа-«хозяина», она, судя по восточнославянским материалам, совершает своего рода жертвоприношение: бросает в печь вязку баранок либо кусок мяса и масла, кладет на припечке булку, случается, брызгает на огонь брагой[805]. Кроме того, на Руси издавна существовал обычай, по которому новобрачная, входя в дом мужа, бросала свой пояс на печь. Аналог находим в чешских обычаях, в соответствии с которыми она обязана была принести в жертву огню три волоса из своей косы[806]. И то и другое действо осмысляется как акт вручения себя (своей жизни, жизненной силы) под покровительство нового домашнего божества. Не случайно в сербской традиции зафиксирован обычай, по которому свекровь обвязывает поясом новобрачную после того, как она совершит ритуальный обход вокруг очага. Это символический знак прикрепления к новому роду[807]. То же самое исследователи отмечают еще у древних греков и римлян: приведенная в дом жена или купленный раб посвящались в религию своего мужа или господина, порывая с прежними пенатами[808]. Со временем функцию домового как покровителя брака и устроителя семьи взяли на себя женские персонажи народно-христианской мифологии, в первую очередь Богородица и Параскева Пятница, а подчас и сам Бог: «Господь на наковальне колотит молотком, а иде старец и говорит: „Ну, бог помоць. Цто ты делашь, молодой целовек?“ (У него, у Бога, бороды не было). — „А ты не знаешь, цто я делаю, — говорит Господь. — Я двух суженых на наковальне вместе волосами кую“. (Два суженых сковать, дак они хорошо живут.)»[809].
«Бог взял»
Будучи предначертателем судьбы, домовой выступает и как ее вершитель, принося человеку в урочный час различные перемены, в том числе и смерть, осмысляемую как похищение в параллельный мир. В этом случае дух-«хозяин» сближается со Смертью, образ которой распространен в фольклорной традиции: «Раньше Смерть ходила в виду: к кому идет, так все видят. Ну вот. Придет и скажет, что вот „забираю тебя“. И человек умирает — и все. Хоронят»[810]. Осмысляемый подчас как источник, причина, потенция смерти, домовой в одной из быличек изображается в белом одеянии; он смотрит на дом, где ожидается покойник, пронзительным, леденящим взглядом: «как будто морозяным (веяньем) потянуло на меня»[811]. Тот, кому предстоит умереть, ощущает приближение и прикосновение домового: «„Милый сын, я скоро умру: ко мне вчерашнею ночью, когда я только что лег, но еще не заснул, кто-то подошел, я ясно слышал шаги, и вдруг „он“ приложил холодную руку к моим губам, и я также ясно чувствовал прикосновение руки неведомого вошедшего“. Действительно, через несколько времени отец мой умер от удара»[812]. В одной из бывальщин повествуется, как под монотонные, магические речи «нечистого» (развенчанного домового) мужик начал постепенно терять слух, глаза его закрылись, тело одеревенело, от шеи до пяток пробежали мурашки, пальцы свело судорогой — он как будто умер[813]. Однако находящийся в лиминальном состоянии человек, когда он еще «ни здесь ни там», может все же остаться «здесь». Начавшаяся в этот критический миг петушиная перекличка спасла мужика от неминуемой смерти — он проснулся и встал как ни в чем не бывало. Само явление домового во многих местностях считается предвестником смерти, оно гибельно для людей: «Кому покажется — тот и году не выживет»[814]; «Кто его увидит — долго не проживет»[815]. Впрочем, в поздней традиции данная коллизия зачастую вуалируется психологическими мотивировками: например, смерть наступила в результате сильного испуга и потрясения от встречи с таинственным пришельцем. Особенно значимо явление домового в виде двойника одного из жильцов дома, т. е. души, духа-хранителя этого человека: «Перед смертью хозяина он (домовой. — Н. К.) садится иногда на его место, работает его работу, надевает его шапку»[816]. Причем если двойник будет застигнут хозяином в своей комнате или будет идти впереди него, то это означает близкую кончину; если же двойник идет следом за хозяином, то он лишь предостерегает человека[817]. Заметим попутно, что публикации о духах-двойниках стали появляться в настоящее время даже в периодической печати. Так, в газете «Пограничник» (1992 г. 01.07. № 50), приводятся следующие исторические «свидетельства»: Екатерина II за два дня до смерти видела в зале, освещенном каким-то странным зеленоватым светом, сидящий на троне призрак — другую Екатерину. (Факт приведен в «Воспоминаниях» французского императора Людовика XVIII). А итальянский король Умберто I в 1900 г., за день до смерти, встретил своего двойника-тезку, владельца ресторана. Оба они родились в Турине в один день — 14 марта 1844 г., оба женились 2 апреля 1866 г. на женщинах по имени Малгоржата, у обоих родилось по сыну Викторио. И тот и другой участвовали в одних и тех же битвах и получили одинаковые медали за храбрость. 8 января 1878 г. Умберто I стал королем, а его двойник открыл свой ресторан. Оба трагически погибли в один день. Аналогичные представления зафиксированы и в архаических фольклорных традициях, например, у коми: перед смертью человека родственникам является его двойник — орт[818]. В ранних же русских мифологических рассказах двойник, все еще не изжив былых своих тотемических признаков, сохраняет зооморфный облик (петуха, кошки, змеи и пр.). Его гибель или исчезновение влечет за собой и смерть соответствующего члена семьи. Домовой приносит смерть и домашним животным: «В нашем суседстве ночи три так растворял дверь — потом лошадь околела: он повещевал»[819]. Раскрытие дверей осмысляется как магическое действо, приведшее к убытку, потере в хозяйстве. Домовой представлен в традиции и как средоточие семейно-родовой жизненной силы, откуда каждый сородич появляется и куда он в означенный срок возвращается. Знаком приобщения умершего к предкам и прежде всего к домовому, локализующемуся, в частности, под порогом жилища, служит следующий еще недавно бытовавший обычай: «Когда гроб выносили, то три раза на пороге каждом опускали»[820]. Если же домовой как вместилище жизненной силы рода, его коллективная душа покидает жилище или его место занимает чужой домовой, смерть людей и животных, живущих в данной крестьянской усадьбе, становится неотвратимой, но уже по иной причине. Вместе с тем в традиции широко бытуют мифологические рассказы, где домовой в роли предка-родоначальника предсказывает смерть одного из сородичей. Многие из них получили свое концентрированное выражение в приметах. Например, к смерти, к покойнику трещат углы дома[821] (углы, напомним, — один из локусов домового). Когда же кто-нибудь из членов семейства умирает, мифический предок «воет» ночью, выражая тем свою родственную печаль[822]. Если же кто-то из них погибает на чужбине или вне дома, он дает знать об этом семье[823]. Как видим, домовой одновременно и беспристрастный вершитель судьбы, и предок-родоначальник, сочувствующий горю сородичей. Соответственно своему духу-«хозяину» и дом осмысляется в качестве «домовины»: «Выглядела во снях. Будто дом старый, черный, невысокий, а окошечка вот таки (показывает: очень маленькие). Я иду и на эти окошечки и гляжу: „Ой, не в этом ли дому мой Саша погинул?“ И он рыкнул: „Мама, я здесь!“ А я говорю: „Надолго ли ты, Сашенька, опять попал-то?“ — „Навек!“»[824]. Отождествление дома с гробом выявляется и в разгадке вещего сна: «Если привидится, что кому-то дом новый строят, значит, точно человек умрет»[825]. В силу подобного отождествления дом осмысляется как некое замкнутое пространство, выход из которого известен лишь «знающим» людям. Чтобы помочь душе, покидающей тело, поскорее выбраться из него, нужно «открыть отдушину», т. е. буквально дать выход душе, или «вынуть девятую потолочину», а то и просто «выдрать из потолка доску»[826]. Итак, трактовка мифологической коллизии «домовой и смерть» в значительной степени зависит от преобладания той или иной семантики в каждой конкретной реализации данного образа. В ряде случаев эта трактовка позволяет выявить языческую основу выражений типа: «Бог душу взял», «Богу душу отдал», либо, наоборот, «черту душу отдал (продал)» и т. п. Своими корнями они уходят в дохристианские верования, связанные с домовым. В легендах же в роли вершителя судьбы выступает Бог: «Потом старик спросил его опять: „У вас, — говорит, — мысль остра. Можешь ли ты знать, кому как жизь буде“. Бог и писал и ковал, кому где буде смерть. У него книга така толста»[827]. Предназначенное свыше свершается неотвратимо. Сбывается и то, что нарекли новорожденному ночующие в амбаре старцы, легенду о которых мы уже цитировали выше: «Поехали венчаться, домой приехали, за столы сели. Купец вышел, замкнул колодец. Пришло время парню к колодцу идти, свадьба сидит. Вышел он, а колодец закрыт, и он на колодце умер»[828].«Прости и помоги»
Во власти домового не только жизнь, но и здоровье людей. Разгневанный «хозяин» может наслать на человека болезнь, хотя в основном недуги предопределены судьбой. Так, мужик, оскорбивший домового, назвав его черным именем («ти домового, ти черта якого понесло в воду!»), тотчас же «почувствовал себя нехорошо и расхворался»[829]. Вот почему вернейшим средством исцеления больного в крестьянском быту считалось умилостивление своего домового. Для этого в традиции сложился особый обряд «прощания», включающий в себя относ (угощение, жертвоприношение) домовому; покаяние виновных, которые встают на колени на том месте, где прегрешили перед «хозяином»; произнесение заговора, обращенного к нему за исцелением: «Хазяин батюшка домовой и хазяюшка матушка домовая (далее перечисляются „хозяева“ леса, воды, поля. — Н. К.)! Простите мене, грешную и недостойную. (Кланяется на все четыре стороны.) Помогите и пособите от внутренних наносных и от нудных переговорных; дайте доброго здоровья. (Больного умывают наговорною водою.)»[830]. Впрочем, адресатом таких заговоров может быть наравне с домовым и печь, к примеру, печное чело: «Ахти мати-белая печь! Не знаешь ты себе ни скорби, ни болезни, ни щипоты, ни ломоты; так и раб Божий (имярек) не знал бы ни хитки, ни притки, ни уроков, ни призороков…»[831]. В удмуртской традиции в аналогичной роли фигурирует печная труба: в нее выкрикивают различные имена, чтобы укрепить здоровье хилого ребенка, и называют его тем, при котором он перестает плакать[832]. Ведь вместе с именем ребенок получает от локализованного там домашнего божества и свою жизненную силу. Для лечения больного подчас используются лишь атрибуты, символизирующие печь (очаг), в конечном счете домового: это огонь, добытый посредством трения дерева о дерево (иногда его называют живым, синим[833]), дым, уголь, зола (пепел), тлеющее помело. Эквивалентом печи в обрядах исцеления людей служит, как и следовало ожидать, порог: «Больных детей умывают от сглаза на пороге избы, чтобы с помощью обитающих здесь пенатов прогнать болезнь за двери»[834]. С этой же целью окачиваются водой, стоя на третьей ступени лестницы, ведущей в подполье. Соотнесенность с домовым имеет и обычай обливаться для здоровья водой под куриным нашестком, т. е. под тем местом, где сидит петух с курами[835]. Этот обычай соблюдался в Великий четверг, имеющий определенную семантику, связанную, как мы помним, с началом нового года, т. е. переходным («пороговым») периодом, равно как и с культом мертвых и культом предков (изначально: тотемных), включая домового. К числу его трансформаций относится обычай умываться водой с красного пасхального яйца, гладить им скот, особенно лошадей[836]. Считалось, что этими способами обеспечивается здоровье людей и домашнего скота. В эпоху же утверждения народно-христианской мифологии на помощь больному вместо домового стали призывать новых целителей, чаще всего Илью Пророка: примчавшись «на черной облаке и на огненной колеснице», он избавляет своего раба «от жильне-трясущих ударов»[837]. Избавившись от болезни, человек опять включается в круговорот жизни, пока не исполнится все то, что с самого начала предопределено, «на роду написано». По завершении предначертанной судьбы его душа возвращается к душам рода, чтобы затем вновь возродиться для очередного жизненного цикла. Такова логика наших предков в мифологическом осмыслении человеческого бытия.«Бог даст»
Иные вехи в жизни человека программируются, в частности, тем, что домовой давит спящего, манипулируя его дыханием и жизнью. Подобного рода персонаж известен различным этнокультурным традициям. В некоторых из них данное мифическое существо получило даже специальное название, производное от соответствующей его функции. Например, в немецкой мифологии это Alp, Mahr, в финской — painajainen, в карельской — kettnenkegno, во французской — conchemare. У русских же о таком персонаже говорят: «постень», «тень домового», а чаще — «домовой душил». В Олонецкой губернии его называли Гнедке (Гнетка) или Заженик[838]: «<…> вот гнетка гнет. Спросишь: „Перед хорошим ты меня душишь или перед плохим?“ Он ответит»[839]. Мифологические рассказы, взятые в совокупности, воспроизводят некоторые проявления этой функции домового. Некое загадочное существо вскакивает, садится, наваливается на спящего, упирается коленями в живот или грудь, хватает за горло, прижимает к койке — одним словом, давит, душит, трясет его. Мужик чувствует, как на его тело налегает нечто «шерстлявое», жаркое — он не может «ни дыхнуть, ни охнуть»[840], ни вскрикнуть, ни пошевелиться, испытывая «тяжелое стеснение в груди»[841], прилив крови, удушье. Ему делается «тошно»[842]. Например: «Сегодня ночью показалось, что мужик на меня навалился, я даже пошевелиться не могу»[843]. Иногда дело принимает не предусмотренный мифологической традицией оборот: «Да какой-то черт пришел, меня, — говорит, — до того задавил, дак я выскочил, его ляпнул»[844]. Впрочем, домовой, как утверждают, всегда отпускает душу на покаяние и никогда не душит насмерть[845]. Происходит это обычно в сакральное время, чаще в Чистый четверг. В качестве душащего духа фигурирует не только домовой, но и мара, кикимора, иногда тень домового, или постень, т. е. душа. По утверждению Э. Тэйлора, в верованиях так называемых первобытных народов тень и душа отождествляются: «Дух, или призрак, являющийся спящему или духовидцу, имеет вид тени, и, таким образом, последнее слово вошло в употребление для выражения души»[846]. И все же остается неясным, зачем домашний дух душит крестьянина. Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к различным вариантам данного сюжета. «Если на кого навалится кто ночью и ничего ты сделать не можешь, спросить надо: „Перед чем навалился?“»[847] — утверждают даже в наше время рассказчики. Так или иначе человек, которого душит домашний дух, собирается с силами и спрашивает: «К добру или к худу?»[848] Вариант: «Дедушка-буседушка, к чему меня душишь?»[849] Если домовой ответит «к добру», то в ближайшее время случится что-нибудь приятное. Например, девушка выйдет в ту же зиму замуж, и за хорошего жениха. Если же он завоет глухо «к ху-у-ду», значит, быть беде: или разорится хозяин дома, или он заболеет, или потеряет животину, или же постигнет еще какое-нибудь несчастье[850]: «Одна женщина от домового видела три напасти, а перед каждой напастью он ночью на нее наваливался. В первый раз она родила мертвого мальчика, во второй — сгорели, а в третий — корова околела и овцы начали падать»[851]. Причем в качестве средоточия доброго или злого начала душащий дух может быть теплым — холодным, шерстистым — голым. В зависимости от того, каким он оказывается на ощупь, домовой сулит человеку соответственно радость — печаль, богатство — бедность. В качестве некоего средоточия тех или иных жизненных потенций данное мифическое существо реализует их через своего рода удушение подопечного, которое, однако, осмысляется как магическое действо: «Первого мужика в армию отправила. Ночью было. Вижу, сшумело только за печью, испужалася, чую, как копна катится ко мне. Дак вдруг че-то надавит на колени, на ноги-то, и в рот мне дунет. А я-то: „К худу ли, к добру ли?“ Мне в рот-то и дунуло (курсив мой. — Н. К.): „К худу“. И вот похоронка пришла»[852]. В данной быличке заключена целая совокупность эквивалентных представлений, связанных с духом, душой, дыханием, которые в архаических языках (например, у западных австралийцев) называются одним и тем же словом. Дух (душа), входящий посредством дыхания (дуновения) домашнего мифического существа в рот спящего, когда его душа отсутствует, овладевает этим человеком и воздействует на него в соответствии с предначертанной судьбой, с тем, что ему «на роду написано», что суждено. От домового (домашнего духа), по уверениям рассказчиков, происходит «все добро и зло хозяину и домашнему скоту»[853].Дух-пряха и предопределение судьбы
Образ домового в значительной степени сопряжен с образом божества судьбы. На основе представлений о персонаже, совмещающем функции того и другого, сформировались былички и бывальщины о прядущих мифических существах. В архаической севернорусской традиции домовой-пряха более известен в женской ипостаси: «Есть, говорят, суседиха-то. На пряснице она прядет. Было раз у меня. Я прясницу не перекрестясь поставила, она села и прядет, а веретешко так выговаривает: жар-р, жар-р»[854]. В качестве духа-пряхи судьбы в мифологических рассказах может быть изображен и домовой в мужской ипостаси: «А еще пряха он (домовой. — Н. К.). Спали я да Татаркиных сестра. Вместе лежим. Она мне и говорит: „<…> Слышишь, за пряхой шерсть прядут?“ Пошли мы посмотреть. А суседко-то уже много на веретешко напрял. Намусолил сильно»[855]. Эквивалентом прядущему домовому в быличках, бывальщинах, поверьях, присловьях часто оказывается мара. О нерасчленимости этих образов свидетельствуют данные различных языков. Так, у русских мара — «дух, появляющийся в доме», «привидение»; у украинцев мара — «призрак, привидение, злой дух»; у сербов-хорватов мора — «домовой»; древнесеверное mara — «домовой, дух-мучитель»; нижненемецкое диалектное mahr — «домовой»[856] и т. д. О ее былом зооморфном (в данном случае: орнитоморфном) облике напоминает, в частности, загадка: «Вышла мара из-под печи, семьдесят одежек, а все гузно поло» (отгадка: курица)[857]. По белорусским поверьям, облик ее меняется в сторону усиления то животных, прежде всего птичьих, то человеческих признаков. Суммируя все известное об облике этого мифического существа, можно сказать, что мара подобна женщине ростом с недельного младенца; она голая или покрыта редкими, короткими перьями (как в севернорусской загадке, где мара — курица), иногда шерстью[858]. В русских же поверьях мара редко наделяется зооморфным обликом (куриным, мышиным, змеиным). Чаще она выглядит как старое маленькое существо женского пола, по другим сведениям — как «малютка». Прядение и шитье — основные занятия этого «запечельного» («запечного») персонажа в лунную ночь: «Мара — как человек. Оставят прялку ночью, так мара прядет. Благословить, чтобы мара не пришла»[859]. В мифологических рассказах и поверьях мара отождествляется с кикиморой (шишиморой), которая иногда именуется женой домового. Так или иначе она преимущественно локализуется в жилище, хлеву, курятнике. Это образ неустойчивый, многозначный. Но связь и с домашними духами, и с божествами судьбы прослеживается достаточно определенно. Так же как и мара, кикимора обнаруживает некое «куриное» происхождение: она может локализоваться в курятнике, щипать перья у кур. Впрочем, она же выстригает шерсть у скота, особенно у овец, и даже волосы у хозяев. Этот женский персонаж может появиться и в облике другого животного, например, кошки. Однако чаще кикиморой становится младенец, умерший некрещеным, мертворожденный, недоносок, или ребенок, проклятый своими родителями и вследствие этого похищенный «нечистой силой»[860], т. е. подвергшимся негативному переосмыслению домовым, или это дитя, зачатое девицей от огненного змея и, по слову родительского проклятия, пропавшее прямо из ее утробы[861], или же искусственно созданное колдуном (нередко плотником) и напущенное им на людей существо: оно возникает из сучка, отломанного от «коряжины» (дерева с корнем), когда она плыла по воде, а затем незаметно воткнутого за печку дома[862]. Формула сотворения кикиморы в данном случае та же, что и человека[863]: дерево (сучок от «коряжины») + вода («коряжина» плывет по воде) + огонь (очаг, печь).
Рис. 36. Расписная прялка. Пудожье
По некоторым рассказам и поверьям, кикимора — это малютка-невидимка женского пола, обитающая в доме за печкой, где она по ночам не только прядет (или ткет, вяжет, плетет кружево), но и стучит, шумно ступает ногами, свистит, гремит посудой, звенит чашками, бьет горшки и плошки, бросает в жильцов камнями, кирпичами, ломает мебель, выворачивает полы и печи. Впрочем, к утру все оказывается на своих местах целым и невредимым[864]. Иногда у такой малютки голова с наперсток, а туловище — тонкое, как соломинка[865]. Вместе с тем кикимора изображается и девушкой в белой рубахе или женщиной, одетой «по-бабьему», но с распущенными волосами, а то и вовсе старухой[866]. Наружность старухи уродлива. Скрюченность, горбатость, хромота, сухощавость, малорослость, неопрятность, рваная одежда, лохмотья — все это признаки принадлежности данного мифического существа к хтоническому миру. Кикимора, подобно домовому или маре, может ночью наваливаться на хозяев (детей или взрослых) и душить их. Она же, как и домовой или хлевник, заезживает по ночам лошадей, оставляя их к утру в яслях взмыленными. Но главное занятие этого мифического существа — прядение и вязание. И в этой роли кикимора оказывается в одном ряду с другими прядущими персонажами: домовым, марой, Мокошью, позднее — с Параскевой Пятницей и Богородицей. Истоки образа кикиморы те же, что и других домашних духов. «В лице кикиморы мы имеем остаток какого-то низшего божества древних славян. Вера в них, вероятно, находится в связи с культом душ усопших предков»[867], — отмечает В. Н. Перетц. Однако в этом же персонаже, несомненно, есть признаки и божества судьбы. Не случайно кикимора наравне с другими семантически родственными персонажами столь тяготеет к прядению, плетению, вязанию, посредством чего программирует и предопределяет человеческую судьбу и жизнь. О магии рукоделия и семантике причастных к ней персонажей мы подробно говорили в работе «Нить жизни…»[868] и вновь скажем об этом во второй части данной монографии.
Предсказатель будущего
Домовой и — шире — домашний дух не только предопределяет, программирует, но и предсказывает будущее. В этом отношении «хозяин» подобен терафиму — библейскому идолу, почитавшемуся домашним божеством и выступавшему в роли оракула. В некоторых же архаических традициях (например, в коми мифологии) предвестником радостных и печальных событий является особый дух (у коми это урес[869]). Согласно быличкам, домовой иногда «вещует», не прибегая к иносказанию и символике, непосредственно предрекая судьбу: «В положении была. Лежу, ни о чем не думаю. Вдруг из-под подпола старушка выходит в красной кофточке. — „Ага! Лежишь“, — говорит. — „Ну и что. Лежу! А тебе какое дело? А что вам нужно?“ А она говорит: „Скоро не будете здесь жить, и мужа у тебя не будет. Останешься одна — одинока и без мужа“. <…> То перед войной было. <…> В конце сказала: „Потом хорошо будешь жить“. Так оно и вышло»[870]. И все же предсказание мифического прорицателя чаще выражено в символической форме. Это может быть сон, который, согласно народным верованиям, насылается домовым и является идентичным его предсказаниям: «После войны сон снился. Муж в армии был. Мне дали валенки черные и говорят: „Немного носи — и опять возьмем“. А как с войны вернулся, две недели жили, а потом и разошлись. Уважать перестала: гулять стал»[871]. Знаки-символы судьбы, посылаемые домовым, могут передаваться разными способами. Некоторые из них воспринимаются посредством осязания. Например, щиплет дух-«хозяин» спящего человека — быть несчастью. Или погладит голой, «шершавой, как щетка», холодной рукой — также следует ждать беды. Если же мягкой, «как соболий мех», или косматой, теплой рукой — это предвещает счастье, богатство. Ведь в «шерстистом», мохнатом домовом много жизненной силы, физической и магической. Переданная крестьянину перед важными переменами в его жизни, причем в сакральное время (нередко в Чистый четверг), посредством поглаживания, эта жизненная сила обеспечивает ему богатство и благополучие. От голого же или шершавого домового такой силы не исходит (или почти не исходит) — потому хозяина дома ждут одни беды и убытки. Здесь, как и в некоторых других случаях, предсказание эквивалентно предопределению, предназначению, предначертанию судьбы. В связи с этим, естественно, что мотивы «домовой давил» и «домовой погладил» часто разворачиваются в одном и том же мифологическом рассказе. Предсказание может быть выражено и в форме звуковых сигналов. В зависимости от характера перемен, ожидающих крестьянскую семью, домовой пляшет на «лаве», смеется или плачет (воет) где-нибудь в излюбленном месте своего обитания: «Под печкой (у нас там подпечья назывались) кур держали. Плакал. Плачет, нападет плакать, дак как невеста булайдат. Ревит-ревит. <…> Он предвещал нам уехать, он нас жалел, плакал»[872]. К этим сигналам относятся и стук, грохот, треск, а также иные непонятные звуки, доносящиеся «оттуда», из некоего нематериального мира, материальными локусами которого служат передний угол, порог, печь, матица, стены, подполье и пр.: «Слышит: хорчит и так страшно хорчит! Просто вот как животину колют бывает харчание. <…> я голову подниму, мне кажется, как с переднего угла»[873]. Впоследствии выясняется, что в этот день у женщины, слышавшей в переднем углу «харчание», был убит муж — и «хозяин» дал ей знак. Подобные мифологемы, развернутые в быличках и бывальщинах в сюжетные повествования, объясняющие символику предсказаний, со временем обрели емкое выражение в приметах, утративших прежние мотивировки. Трещит передний угол (углы), матица или стол, слышен стук в стенах дома или в сарае — все это предвестья несчастья, пожара, смерти кого-либо из жильцов. Лишь сопоставив такие приметы с мифологическими рассказами и поверьями, можно выяснить, что это таинственные удары «дедов», призывающих к себе одного из потомков[874], или сигналы домового. Слышимый же людьми шелест веника предвещает скорое переселение, а треск в заднем углу означает, что из дому кто-то выживается. В приметах уже зашифрованы представления о зооморфном домовом, подающем весть людям: собака завыла под окном (ср.: домовой воет, плачет, тяжело вздыхает) — с членом семьи, живущим в этом доме, случилась или случится беда; кошки не водятся в доме — не будет здесь благополучия; запел петух — к хорошим вестям; если же он запел в необычное время, надо пощупать у него ноги: окажутся теплыми — к гостям, холодными — к покойнику; если петух, внесенный в новый дом, запоет, это предвещает хозяевам счастливое и веселое будущее; если же молчит, то ждет какое-нибудь горе. Напомним, собака, кошка, петух — животные, которые наиболее часто служат эманацией домашнего духа или его атрибутом. Широко распространены и приметы, связанные с огнем как эмблемой домового. Так, если огонь горит весело, это хороший знак. Если из печи с треском выскакивают горячие угли — это предвещает скорое прибытие желанного гостя[875]. Причем если уголь выпал из печи во время топки на середину избы и к «куту» или «попал в кушанье», то именно с той стороны и прибудет гость; если же уголь упал к порогу и за порог избы, то в доме будет покойник[876]. В Сербии под Рождество, в сочельник, смотрят, как горит в печи дубовый обрубок — «бадняк», и в зависимости от того, как «жевриют» угли от него, определяют, насколько плодородным будет предстоящий год[877]. В этих атрибутах, отражающих нематериальный невидимый мир, согласно народным верованиям, действует через саму материю некая духовная сила. Приступая к рассмотрению мифологических рассказов и поверий о предсказателе судьбы, предпринимаемому в рамках данного цикла, мы предполагаем проанализировать их параллельно с самими мантическими обрядами, смысл которых в значительной мере раскрывается через прочтение вербальных текстов. Причем под мантическими обрядами, или гаданием, мы подразумеваем совокупность магических действ с использованием магических же атрибутов, посредством которых в сакральное время и в сакральном пространстве обращаются к духу-предсказателю, получая от него знаки-символы, знаменующие будущее и расшифровываемые гадающими. При этом мифический оракул в процессе обряда остается как бы «за кадром». Однако он появляется в быличках, бывальщинах, поверьях, соотнесенных с гаданиями. Этот же мифологический персонаж обнаруживает свою суть в семантике (символике) локусов, атрибутов обряда и знаков-предзнаменований. К исследованию не привлекаются сны-гадания, поскольку их, на наш взгляд, необходимо рассматривать в рамках сновидений и снотолкований в целом (онейроскопии). В мифологических рассказах и поверьях предвестником нового этапа в свершении жизненного цикла (рождение, свадьба, смерть), важных перемен в человеческой судьбе часто выступает домашний дух (домовой, дворовой, хлевник, овинник, гуменник, ригачник, баенник). Иногда он предсказывает будущее по собственной инициативе, но чаще — по просьбе гадающих. На вопрос собирателя, у кого надо спрашивать о будущем, рассказчик ответил: «Надо спросить у „хозяина“»[878]. И это отнюдь не случайно: ведь домашний дух, как мы уже отмечали, является вершителем жизненного цикла и человеческой судьбы. Заметим, что по вопросу о семантике образа предсказателя ранее была высказана несколько иная точка зрения. Так, Л. Н. Виноградова, исследуя на основе славянских материалов девичьи гадания в контексте календарной обрядности и функции произносимых при этом приговоров, связывает их с культом предков[879]. Гадают чаще всего в канун Нового года, Рождества, Крещения — одним словом, в Святки. Вот почему в Олонецкой губернии сам дух-предсказатель получил имя Святке[880]. В это сакральное время, в полночь (редко: в полдень), по народным рассказам и верованиям, «чудится и все бывает», «о Святках чудится»[881]: домашний дух является из «того» мира в «этот». Такое перемещение, нередко сопровождаемое инкарнацией, возможно в переходные («пороговые») периоды, связанные с солнцеворотом (рождественский сочельник — перелом зимы, ночь на Ивана Купалу — перелом лета[882]), и вместе с тем ко времени, маркированному культом предков, культом мертвых. В некоторых местностях (например, в Архангельской губернии) принято гадать и на Масляной неделе (проводы зимы), и в перелом Великого поста, т. е. в ночь со среды на четверг четвертой недели[883]. Гадали также и в Семик-Троицу, т. е. в «зеленые Святки»,празднование которых приурочено к концу весны — началу лета. И тот и другой период характеризуется как «размыкание» времени, вследствие чего в «этот» мир проникает некое мифологическое время, в котором есть элементы прошлого, настоящего и будущего. Вот почему, чтобы узнать будущее, гадают именно в урочный час, соблюдая при этом определенные условия. Если дело происходит в избе, то в ней завешиваются или закрываются ставнями окна, заранее убираются иконы[884]. Гадают, не творя молитвы, «без креста, без пояса и не благословясь»[885]. Иная даже снимает с шеи крест и кладет его под пяту. Ведь «с крестом ничего не почудится»[886]. Случается, что даже вслух отрекаются от своей христианской принадлежности, приговаривая: «Не властен Бог, не благослови, Христос»[887]. Обращаются к языческому божеству, и только к нему, несмотря на то, что последнее в значительной степени трансформировалось в нечистую силу. Тем не менее в некоторых местностях девушка, распоясанная, с расплетенной косой, демонстративно отказываясь от каких бы то ни было оберегов, иной раз даже проклянет самое себя[888], чтобы полностью отдаться во власть языческих сил, чтобы обеспечить контакт с ними.Домовой
О том, что ответ на вопросы желающих узнать свое будущее может дать именно домовой, свидетельствуют сами мифологические рассказы: «Иногда в различных частях жилья слышится — и слышится всегда только одному лицу — плач ребенка: это плачет дитя домового; в этом случае можно покрыть платком то место, откуда слышится плач (скамью, стол, куст, если дело происходит вне избы), и „домовичка“, мать, не находя скрытого ребенка, отвечает на задаваемые ей вопросы, лишь бы только открыли ребенка; спрашивать в этом случае можно все что угодно (курсив мой. — Н. К.)»[889]. Однако в гаданиях фактически фигурирует не сам домашний дух, а его атрибуты, представляющие собой эманации этого языческого божества. Имеются в виду прежде всего огонь (пламя, искры, дым), угли, головня, сажа, зола, пепел, кочерга, ухват, сковородник, сковорода и пр.[890] Известно и гадание по искрам, вылетающим из печи, когда она топится, что предвещает гостей. Таким же атрибутом служит и зола, называемая в «Авесте» покрывалом огня, равно как и сажа, которой во время рождественских гаданий мажут себе лицо[891]. Своего рода вместилищем подобных атрибутов является печь, которой принадлежит заметное место в обрядах, в том числе и мантических. Например, согласно немецкой традиции, девушки в ночь под Новый год заглядывают в нее, надеясь увидеть там облик своего суженого[892], т. е. предназначенного судьбой. В гаданиях эквивалентом печному считается лучинный или свечной огонь. Известно поверье, в соответствии с которым девушку готовили к смерти, если у нее во время ворожбы гасла лучина. Ясное же горение — знак долгой жизни, с рассыпающимися искрами — предвестие будущих болезней[893]. В мантических обрядах семантически значимыми являются и локусы, маркированные знаком домового: передний угол, равно как и стоящий в нем стол, названный в народе божьей ладонью, а также печь, матица, подполье, порог и пр. Рассмотрим наиболее распространенные гадания, которые исполняются посредством названных атрибутов и вписываются в систему сакральных локусов. Рассеивают по полу (в избе или, как мы помним, в бане) золу с приговором: «Суженый богатый, ступи сапогом; суженый бедный, — лаптем». На другой день определяют по следу обувь жениха как знак его имущественного положения[894]. Известна и несколько иная версия этого же гадания: посыпают башмаки золой и ставят их на ночь под кровать — на чьих башмаках к утру останется больше золы, той девушке предстоит счастливая жизнь[895]. Зола в качестве атрибута фигурирует и в других разновидностях обряда. На стол, помещенный под матицей, ближе к двери, и застланный белой скатертью, ставят тарелку с печной золой и накрывают белым же платком. По бокам ее устанавливают две свечи, а поверх — стакан (тонкий) с водой, в который бросают обручальное кольцо (гадание посредством кольца — дактиломантия), причем так, чтобы оно лежало в центре дна. Выйдя из избы, гадающая произносит магический приговор: «Если есть суженый-ряженый, приди покажись». Вернувшись в избу, она не до конца затворяет за собой дверь (иная версия: открывает трубу). В полночь садится за стол и смотрит в кольцо, лежащее в воде, пока не покажется лицо суженого[896]. По рассказам одних, его даже можно узнать: «Она гадала на суженого. Немного посидела — „идите!“ Мы смотрим: видно лик его и узнать можно — Александр Павлович!»[897] Впрочем, по заверениям других, изображение довольно расплывчато: «кто в шанели, кто в пинжаке, кто в одной рубахе. Лица-то не увидишь, а только увидишь одежду»[898]. Иной способ гадания — посредством зеркала (катоптромантия) — может исполняться и на столе, и в переднем углу, и на печи, и в других местах, осмысляемых в качестве локусов домового. В обряде может фигурировать и определенная совокупность подобных локусов. Гадающая девушка, в одной сорочке, с непокрытой головой и распущенными волосами (знак исходящей от нее магической силы), в самую полночь (часто в сочельник и в ночь на Ивана Купалу) устанавливает зеркало на столе либо на печи, иногда кладя его в хомут. Возможно использование двух зеркал и — соответственно — двух столов, или двух частей печи, или печи и переднего угла. Наблюдаются и другие сочетания локусов. У зеркала либо в переднем углу зажигается свеча (-и). В начале гадания девушка, выйдя на крыльцо, приглашает посредством приговора: «Суженый-ряженый, приди в зеркало смотреться, себя показать и меня посмотреть», оставляя для него, так же как и в гадании с кольцом, приоткрытыми двери[899]. После этого, дождавшись полуночи, она, не мигая, смотрит в зеркало, причем если оно установлено на столе, то сидя, а если на печи, то чаще лежа. Возможны различные версии и варианты данного обряда. Первая версия. При теплящейся в переднем углу лампаде садится гадающая. Находясь впереди своих подруг «сажени на две», девушка наводит на них зеркало и сообщает, что´ ей показывается над головами, за плечами и спинами каждой из них[900]. Вторая версия. Посередине комнаты ставят два стола, на них — по одному большому зеркалу, перед каждым из которых зажигаются восковые свечи (иногда фигурирует один стол, одно зеркало и одна свеча или же один стол, два зеркала, большое и маленькое, несколько свечей и т. п.). Гадающая садится посередине между столами и дожидается полуночи, когда в зеркалах появится тень жениха[901]. Третья версия. Положив одно зеркало на шесток, девушка просовывает голову в печную трубу, в отверстие, где вкладываются «вьюшки»: туда же она просовывает и руку, в которой держит над головой другое зеркало. Глядя в первое, приговаривает: «Тьма, расступись, а ты, суженый, покажись»[902]. Вариант: гадающая кладет перед устьем печи на плиту зеркало и зажигает свечу; поднявшись на печь, ложится на спину головой в сторону плиты и, закинув голову, смотрит в него: увидит суженого — значит, скоро выйдет замуж; не увидит ничего — свадьба еще нескоро; покажется гроб и похоронная процессия — ее ожидает смерть[903]. Четвертая версия. Чтобы увидеть своего суженого, нужно сесть на воронец, глядя через левое плечо (место «нечистого», т. е. сниженного домового) в зеркало[904]. Нередко, однако, наблюдается совмещение различных версий этого гадания. Например: две девушки (вариант: одна) садятся в передний угол, где зажигают свечу, а третья (вариант: другая) — на печь, спиной к ним; держа перед собой зеркало, она смотрит на сидящих в углу подруг: у которой из них «рядник смешается», т. е. станет незаметным пробор в волосах, та непременно вскоре выйдет замуж. Или же сообщает девушкам о других увиденных ею знаках-символах[905]. Последствия таких гаданий — тема многих быличек и бывальщин: «Девушка одна гадала. И видит в зеркале: военный с шашкой. Шашечку повесил, шинель — на кровать и подходит. Она закричала, зеркало разбила в куски. Он-то сгреб шинель, а шашку-то и оставил. И через много лет они поженились. Признала его, а она ему и рассказывает, и шашку эту показала — а оказалась его: у него пропала»[906].
Рис. 37. Подсвечник. Резьба по дереву. Северная Двина
Отражение, будь оно в воде (стакане) или в зеркале, эквивалентно тени, осмысляемой в народных верованиях как душа, дух, домовой. Вот почему в доме, где есть покойник, «чтобы не чудилось», закрывают полотном зеркало[907]. Кстати, такова же семантика другого гадания: в новогоднюю ночь девушки жгут бумагу (аналоги: топят воск — керомантия — или же льют олово, свинец, а в некоторых локальных традициях — яичный белок)[908] и по тени, отбрасываемой на стену перегоревшей бумагой либо растопленным воском, оловом или свинцом (по фигуркам, застывшим на воде и как бы материализующим все ту же тень), угадывают будущее: если появится изображение, похожее на гору с деревом, — это означает смерть отца; если яма — к смерти; если нечто наподобие лошадей — к свадьбе[909]. Семантику отражения подсказывает и атрибутика гадания: зола (пепел), огонь, свечи, лампада, — а местом магического действа служит передний угол, стол, печь (шесток, труба) и пр. Это знаки эманации или локализации домового. Считается, что в облике суженого гадающей показывается сам дух-«хозяин». Вот почему девушка, пригласившая накануне сочельника в нежилую избу «суженого-ряженого» и, наконец, дождавшаяся призрака, севшего рядом с ней, торопится, по обычаю, крикнуть: «Чур, тово, полно, чур не хочу», иначе он задавит ее[910]. О включенности мифического существа в процесс гадания свидетельствуют и сопутствующие ему восклицания: «Чур ко мне! Чур меня!»[911] Участие домового в гаданиях завуалировано, хотя и маркировано определенными знаками (в данном случае это печной столб и дым-«чад», равно как и время действия — Святки): на печном столбе жгут сено, украденное у попа или дьякона; в которую сторону пойдет «чад», — туда и отдадут девушку замуж[912] (своего рода капномантия). В мантических обрядах чердак (потолок, «вышка») как локус домового может быть соотнесен с печью. Ее эмблемой в данном случае служит «пёкло» — деревянная лопата, которой сажают хлебы в печь. Этим «пёклом» считают потолочины со словами «пришел — вышел». Если последняя потолочина совпадет со словом «вышел», то гадающая, по поверью, выйдет замуж, а если со словом «пришел», то останется дома. Или же считают со словами «молодец — вдовец». Если счет потолочин закончится словом «молодец», то девушка выйдет замуж за парня, а если словом «вдовец», то, разумеется, за вдовца[913]. Эманацией домового является и полено, чурка. Вот почему и полено используется в качестве атрибута святочных гаданий. Его берут из поленницы наугад, пятясь к ней задом, или в темноте, а затем рассматривают дома или на беседе: окажется гладкое полено — будет муж добрый, «хороший на лицо», «чистый лицом», «красавчик»; суковатое либо шершавое — злой, буйного характера, некрасивый, с нечистым лицом: угреватым, в пятнах, в веснушках; кривое — кривой, хромой и т. п.[914] Тот же смысл, оказывается, таит в себе и хворостина, выдернутая из вороха хворосту: если попадется гладкая и прямая — жених будет красивый; суковатая — «корявый», т. е. рябой[915]. Сколько на полене сучков — столько будет и людей в семействе, куда суждено войти гадающей; если полено без сучьев — жить предстоит в бедности и одиночестве; если же шероховатое — в богатстве[916]. В некоторых локальных восточнославянских традициях гадают также по кольям в плетне, в конечном итоге по последнему из них, на которое приходится счет «молодец — вдовец» или же «чет — нечет»[917]. Эквивалентом полена в народных верованиях и обрядах служат предметы из него: например, «скалка», которой раскатывают сочни. Облитую водой, ее ставят в передний угол, а утром, в сочельник, замечают, кто первым войдет в избу: если девушка или женщина, то гадающей в этом году замужем не бывать; если же мужчина, то повезут к венцу, а имя у жениха будет такое же. Причем если первый вошедший в избу окажется вдовцом, то и замужем быть за вдовцом[918]. Аналогом полену считается и лучина. К этому же типу гаданий относится следующее: в Святки, подметая избу, выносят утром «сметье» и бросают его на дорогу, а затем смотрят, кто первым пройдет по этому сору. Если парень — у жениха будет такое же как у него имя, нрав, облик, положение; если же «дефка» — в этом году гадающей замужем не бывать. Замечают также, откуда на сор прилетят птицы, набегут собаки, — оттуда и сваты приедут[919]. Или же девушки на Крещение носят сор под передний угол. Садясь на «сметье», слушают, по звукам гадая о своей судьбе[920]. Особый тип гаданий, связанных с пророчеством домашнего духа, составляют «слушанья», т. е. кледономантия. Суть его, по мнению Н. Ф. Сумцова, заключается в том, что каждое слово, фраза, отдельное восклицание становится для слушателей кледоном: между мыслью слушателя и словом говорящего, которые внешне никак не связаны, обнаруживается неожиданная семантическая связь[921]. Атрибутами таких гаданий являются обожженная лучина либо пирог — в канун Рождества, блин — в Рождество, во время заутрени. Идя «слушать», кладут блин на лицо, прокусив в нем отверстие для глаз и рта[922], что, по мнению исследователей, осмысляется как маска покойника, с которым, заметим, в известной мере ассоциируется и домашний дух. «Слушают» под окнами чужого дома или у дверей, под матицей, под крестами воронца или под полицей у печки, под столом, «на вышке» у трубы, в подворотне, а также у церкви (напомним, храм осмысляется в народном мировосприятии как хоромы и, наоборот, хоромы как храм), у бани, в хлеве, у риги, овина, гумна и даже за пределами крестьянской усадьбы (на перекрестке дорог, в поле, на реке). Таким же способом гадают и в Новый год, и в крещенский сочельник, во время крещенской обедни или перед ней[923]. «Слушают», что «поцюдится», придавая символический смысл тому, кто первый заговорит и что скажет[924]. Например, первое произнесенное в подобном случае имя будет именем жениха гадающей[925]. Все услышанные слова истолковываются как предсказания. Скажут «сядь» — гадающая не выйдет замуж, «поди», «бежи» — быть просватанной. Если первым заговорит молодой, то и суженый будет молодой; если же заговорит в тот момент старик или старуха, то жених будет старый: «Несколько лет тому назад одна девушка, слушая под окнами соседей, услышала голос старой бабы, которая сказала: „Тушите свет!“ Девушка сошла за другоженца, т. е. за вдовца»[926]. Если же слышится речь детей — в тот год у гадающей родится ребенок; если говорят о поездке, — будет дальняя дорога; если поют — в предстоящем году будет веселая жизнь[927]. Если в избе идет веселый разговор, то — соответственно — и «слушающего» ждет в супружестве беспечальная жизнь; если же в избе слезы, плач, то впереди у него несчастья и горе[928]. Обряду гадания — «слушания» соответствуют многие мифологические рассказы, где дух-«хозяин» дает ответ на вопросы людей, подчас не прибегая к иносказаниям и символике: «Три парня собралисе и пошли слушать о Святки к пустому дому. Никто в ем не жил, потому что чудилось. Оне и подошли под окошко. И очертили (три черты) и в середках стоят. Вот один и говорит: „Ты задумай!“ Первый и задумал: „Что со мною будет: али я женюся, али в солдаты отдадут?“ Не успел только задумать, вдруг в этом пустом доме человеческим голосом говорит: „Тебя в солдаты отдадут!“ — „Ну, думай!“ — говорят другому. Вот он и думает: „Али я женюся, али в солдаты отдадут?“ (молодые люди — чего больше надо?). А тому говорят: „Тебя в Сибирь сошлют!“ А третей-от парень хороший-расхороший, красавец, да только бедный: ни отца, ни матери, округ сирота. „Я не буду, — говорит, — и слушать!“ Товарищи его и принуждают: „Задумай, задумай, чего-нибудь и тебе скажут!“ Ну вот он тоже задумал: „Как я этот год проживу: женюсь я или меня в солдаты отдадут?“ Там говорит: „Ты, — говорит, — женишься!“»[929]. А «слушающему» в одиночку «на вышке», у трубы, может явиться сам домовой, освещенный как будто лунным светом, чтобы срочно сообщить о грозящей крестьянской семье опасности[930]. Заметим, что при лунном свете появляется и богосуженый[931] как эквивалент домового, принявшего его облик.

Рис. 38. Наличники окон. Обонежье
Знаковую роль играло и бросание старых лаптей — «осметков» «черз варата»: в какую сторону ляжет «абарками» (веревками) лапоть[932], соотносимый в поверьях и обрядах с домовым и осмысляемый как материализация следа, отражения, тени, души, туда и выйдет замуж гадающая девушка. Со временем лапти в крестьянском быту все чаще вытеснялись башмаками. Но обычай все же сохранился. Теперь уже башмак, а то и сапог бросали «через ворота» левой рукой через правое плечо назад, прямо на улицу, и по-прежнему определяли: в какую сторону окажется обращенным носок — там и быть замужем; если же он будет повернут к воротам дома, — значит, в этом году придется «сидеть в девках»[933]. Вот в чем смысл известной формулы В. А. Жуковского: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Впрочем, в Олонецкой губернии зафиксирован иной способ этого же гадания: девушка, повертывая сапог то носком вперед, то пяткой, отмеривает пространство избы от лицевой стены до порога: если в последний раз сапог окажется носком к порогу, — девушка выйдет замуж, а если пяткой, — останется под родительским кровом[934]. Аналогичным способом гадали парни о солдатчине. Определенную семантику, связанную с домовым, имеет и хлеб или хлеб-соль (пирог, блин, зерно), локализуемый в переднем углу либо на столе (возможно использование и других атрибутов). Одним из святочных гаданий является следующее: ночью девушка кладет на стол краюшку хлеба и соль, подметает избу; взявши сор, она выходит на крыльцо и трижды произносит: «Богосуженой-богоряженой, приди ко мне ужинать — кромочки дойдать». Иногда девушке представляется, что кто-то вошел в избу, сел за стол, поел и удалился[935].

Рис. 39. Церковь с. Хотеново. Каргополье
Многие гадания призваны определить виды на будущий урожай. Так, накануне Нового года пекут особый каравай хлеба, взвешивают его и кладут на ночь «к образам», в передний угол. Наутро каравай снова взвешивают: если вес прибавился, то наступающий год ожидается урожайным, если же убавился — готовься к недороду[936]. Вместо хлеба в некоторых локальных русских традициях гадающими используется зерно, а передний угол с иконами заменен столом, покрытым чистой белой скатертью: если на ней утром первого новогоднего дня появится какое-либо зернышко, то именно этот хлеб уродится в наступившем году[937]. Посредством хлеба гадают и о продолжительности жизни: под Новый год кладут ломти на окно. Чьего куска утром не окажется на месте, тот в предстоящем году умрет, остальные переживут его[938]. Функцию домового в качестве оракула разделяет и дух церкви: «Пришел к замку´ (церковному. — Н. К.) — уж не знаю, как они спрашивают — и вот в паперти заперебирает пол, прямо по одной половице. Сначала там, в церкви, потом под ним, все крыльцо заперебирает, все мостинки ребром станут. А дед был не трусливого десятка. И вот человек-то к нему выходил. Или через замок говорили? Через замок. И ему все говорили оттуда. И он про всех узнал, какая жисть у всех будет и кто когда умрет»[939]. Заметим, что половицы в мифологии — символ дороги-судьбы. У церкви обычно «слушают», причем чаще вдвоем-втроем, стоя на крыльце у дверей или на колокольне. Раздастся в церкви веселое пение — к свадьбе, заунывное — к смерти, упадет что-либо посередине — к несчастью, например, к пожару[940]. Возможны варианты. Если почудится, что в церкви поют: «Положим на главы их венцы…» или «Исаия ликуй…» — жениться либо выйти замуж в предстоящем году. Если послышится «Елицы во Христа креститеся…» — девушке родить, «Со Святыми упокой», «Святый Боже…» или «Вечная память» — к смерти[941]. Лучшим временем для «слушанья» считается тот момент, когда народ выходит из церкви по окончании рождественской заутрени. Притаившись незаметно у ограды и вслушиваясь в разговор первых проходящих мимо, можно, согласно поверьям, многое узнать о своей судьбе[942], если овладеть языком традиционных иносказаний и символов. Впрочем, церковное и околоцерковное пространство использовалось и при иных способах гадания, о чем свидетельствует одна из быличек: «Ходили это тогда в Рождество (это Святки у нас заводятся) узнать, как жениха зовут, в церковь. К заутрены как колгонут — ну, пошла я в церковь <…>. Пришла в церковь, тогда еще плели, знаешь, эты гасники (цветные шерстяные кушаки. — Н. К.), у порога так кладовали, где народ-то ходит, ведь не за дверью, а тут… в паперть где заходишь. Ну вот, прошел мужик, звали Михайлой — и такой же и жених стал Михайлой»[943].
Дворовой
В роли персонажей, которые отвечают на вопросы гадающих, выступает и дворовой, часто отождествляемый как с домовым, так и с хлевником. В быличках и бывальщинах дворовой-хлевник фигурирует в качестве оракула довольно часто: «Ходила вызывала дворового как-то, ночью ходила <…>. Придет да станет с хозяйкой во двор, во хлев, и вот встанут они спинами в одно место. Вот хозяйка и заразговариват — и там, в углу, разговаривав <…> И вот спрашивают про мужьев, что каки на войне были убиты, что живой ли муж, дак ен там в углу, говорят, ответит, что ж-и-ив, ж-и-ив»[944]. Локализация дворового, а подчас и домового именно в хлеву достаточно устойчива. Находясь в синкретическом единстве с хлевником, оба эти персонажа в мифологических рассказах и поверьях изображаются не только в антропоморфном, но и в зооморфном облике: в виде коня, коровы, овцы, свиньи, и особенно петуха или курицы и пр. Поведение этих животных в процессе гадания осмысляется как знак-символ судьбы. Приведем примеры зоомантии. На Святки девушки встают в ряд и кормят лошадей житом из колен: та, у которой конь взял корм раньше всех, скорее других выйдет замуж[945]. Или на лошадь (выбирают обычно белую[946]), которой завязывают глаза передником (надевают мешок на голову и завязывают его на шее), садятся поочередно девушки (иногда задом наперед, взяв в зубы хвост) и примечают, куда пойдет лошадь: если к воротам, то девушку вскоре выдадут замуж; если же в конюшню или к забору, то в нынешнем году ее никто не посватает[947]. Или же лошадь переводят через оглоблю (шест): если она зацепится ногами, то муж у гадающей будет злой, а жизнь ее несчастливой[948]. В подобных обрядах следует искать истоки приметы: конь спотыкается к несчастью. В качестве символа лошадь фигурирует и в других видах гадания, например, в «слушанье», что отражено и в быличке: «Идут два мужика, и один говорит другому: „Поди знай, какая у меня лошадь. Дошла до горы, остановилась, никак нейдет в гору. Уж я ее и бил-то и лаской-то пробовал, нейдет, хоть убей…“ И что же вышло? Хотел меня сватать один хороший жених и непременно взял бы. Вот он и пошел к тетке звать ее сватать меня. Пришел. Как сказал про меня, она и давай меня хулить: „Что ты, — говорит, — с ума сошел? Ведь она старше тебя на десять лет, у ней ничего нет“. И пошла и пошла. Отговорила. А тетка-то эта жила под горой, а я на горе. Вот тебе и лошадь»[949]. Знак лошади закодирован и в других гаданиях, практикуемых в Святки. Так, надев себе на шею хомут, забираются ночью в хлев, встают под отверстием, в которое дают корм скоту, и «слушают». Или же: забравшись на печь и надев на шею хомут, девушка смотрит в зеркало, ожидая появления суженого. Иная версия: высматривают суженого «сквозь хомут», сидя под столом или на печи. В другом случае в хомут, который ставят на печь (на стол), кладут зеркало и смотрят, «как на картину». Если «привидится», что человек идет по ступеням под пение «Святый Боже, святый крепкий», гадающая умрет в том же году; идущая же с песнями молодежь — доброе предзнаменование[950]. Для гаданий используется также корова (овца). Например, вечером, накануне Рождества или под Новый год, девушки ходят в коровник (хлев) и обвязывают вокруг шеи своими поясами находящихся там животных, а наутро смотрят: если обвязанная той или иной из гадающих корова (овца) стоит головой к дверям, девушка в наступающем году выйдет замуж; если же задом либо боком — придется ей еще год просидеть в ожидании женихов[951]. Гадают по домашним животным и в ночь на Ивана Купалу. Так, в Заонежье девушка завязывает свою косоплетку на рога корове. Если косоплетка развяжется — это к замужеству[952]. Здесь в Ивановскую ночь гадали и иным способом: поймает девушка впотьмах в хлеву корову (овцу) — сидеть в девках; быка (барана) — быть замужем[953]. В общерусской традиции известны различные версии этого гадания: если первая пойманная в хлеве овца — мохнатая, то и жених будет богатый, а если стриженая — бедный[954]. Ср. с «шерстистостью» домового. Иная версия гадания связана с внешностью суженого: если овца, перевязанная ленточкой с вечера, в темноте, наугад, окажется черной — жених будет брюнет, а если белой — блондин. Как сообщила одна из рассказчиц, ее сестра перевязывала белую овцу и петух у нее клевал овес — и та «сошла замуш» за смирного работящего парня с белыми волосами[955]. Аналогичная роль в некоторых гаданиях принадлежит и свинье. Кочергой (знак домового) забрасывали кость в хлев к свиньям: если они в это время захрюкают, то семья суженого окажется недружной («будут у сямьи бранитца»), молчание же предвещает согласие в ней[956]. В севернорусской традиции распространена была и орнитомантия. Пожалуй, самым могущественным оракулом считается петух (курица) — птица, посвященная домовому (дворовому) и олицетворяющая его. Наиболее распространенный способ гадания с участием петуха состоит в следующем. Вначале определенными средствами организуют сакральное пространство. Для этого в избе на полу чертят углем или мелом круг. Иная версия: девушки связывают свои пояса и кладут их на пол в виде круга. Иногда для гадания использовался и стол или же пространство под ним. После этого в разных местах образовавшегося магического локуса (в круге, на столе, под столом) размещают тот или иной набор атрибутов гадания: например, насыпают горсти овса, причем на одну из них кладут кольцо, на другую — щепку, на третью — монету, на четвертую — землю, на пятую — золу и т. д. Поскольку гадания с петухом чаще концентрируются вокруг представлений о женихе и свадьбе, этим обстоятельством определяется и набор соответствующих атрибутов. В числе их ломти хлеба, рюмки, луковицы, кольца, деньги, гребень и зеркало. Или: щепотка крупы, кусок хлеба, ножницы, зола, уголь и миска с водой. Или: сыпали овес и ставили воду. Иногда же гадающие девушки ограничивались тем, что клали свои кольца на пол и обсыпали их особым овсом, украденным у «славильщиков» (если круг образован из поясов, то каждая из девушек насыпает зерно около своего пояса). Когда все будет готово к гаданию, в 12 часов ночи, под самый Новый год, достают с «нашести» петуха или выпускают его (иногда двух, старого и молодого) из голбца, вносят в избу и, поставив его (их) в середине круга, дают полную свободу, наблюдая, к какой горсти «оракул» подойдет. Если он дотронется до кольца, — это предвещает брак; до щепки или земли — смерть; до монеты — богатство[957]. Если петух начнет клевать хлеб или деньги — суженый будет богатый; если рюмку или лук — будет горький пьяница; начнет смотреть в зеркало — «модный», щеголеватый; то же означает внимание его к гребню. (Старый же и молодой петух предвещают, соответственно, возраст суженого[958].) Если петух клюнет крупу или хлеб — суженый будет из богатой семьи; если ножницы — портной; если золу — «табашник»; станет пить воду — муж будет пьяница, а если клюнет уголь — девушка вовсе не выйдет замуж[959]. В том случае, когда под столом сыпали овес и ставили воду, получался следующий результат: если петух в первую очередь брался за овес — муж будет «завистной земледелец», в противном случае — пьяница, а если петух полетит в открытую печку, судьба сведет с человеком, который «будя печи класть хорошо»[960]. Возможен и такой вариант: чье кольцо, склевывая зерна, петух отбросит прежде, та девушка раньше всех выйдет замуж; в какую сторону отлетит кольцо — оттуда и ждать сватов[961]. Или: чью кучку зерна (кусочек хлеба) станет он клевать в первую очередь — та выйдет замуж скорее других[962]. Распространен был также обычай ходить в полночь в курятник, ловить петуха на «нашесте» и по цвету его перьев определять цвет волос будущего мужа[963]. Известны и другие способы гадания, связанные с петухом и курицей. Так, в некоторых местностях их сажают под решето (коскиномантия), связывая хвостами. Если петух потащит курицу, то муж возьмет верх над женой; если же курица — петуха, верховодить будет жена[964]. Разновидностью гадания по курице или петуху служит ооскопия, т. е. ворожба по яйцу[965], и в частности по белку, выпущенному в стакан с водой, о чем уже говорилось выше.Овинник, гуменник, ригачник
В качестве персонажей, способных предсказать будущее, в мифологических рассказах и поверьях фигурируют овинник, гуменник, ригачник. Благодаря этому высвечивается их роль в гаданиях, происходящих в локусах названных духов-«хозяев». Впрочем, тот или иной персонаж подчас является, чтобы изгнать пришедших гадать в его владения: «Мы по овинам-то лазали в Сусае-то, девки-то ворожили. <…> в аккурат было Рождество. Девки пошли туда, залезли в этот овин-то, он, грит, такой чумазой вылазит: „Вы зачем сюда пришли?“»[966]. Гадание не может состояться, если со стороны «хозяина» овина нет благоволения и если не все условия были соблюдены: «Вдруг выходит с этого овина человек, нечистый дух, наверно. Ну вот, взял эту кожу (а хвоста они не обчертили), взял эту кожу за хвост, раз-два махнул — и этые мужчины улетели с этой кожи, да»[967]. Замкнутое магическое пространство, в котором должно было совершаться таинство постижения будущей жизни, оказалось не до конца созданным. И потому гадание не состоялось, а потревоживший понапрасну «хозяина» наказан. Несмотря на столь устрашающие рассказы, ворожба в овине и в подовине, на гумне и в риге все же происходила. Гадающая влезала в овине на полицу, открывала «садило» — окно, в которое «сажают снопы», и всматривалась во тьму его до тех пор, пока ей не показывалось лицо суженого. Или же, ставши в подовине, девушка глядела вверх сквозь колосники — и ей спустя какое-то время показывалось, как сквозь дым или паутину, лицо жениха[968]. В овине могло происходить и другое гадание: девушка просовывала ночью руку в окно или становилась к нему задом, подняв сарафан, и произносила: «Суженый-ряженый, погладь меня». Если никто не тронет, — «сидеть в девках»; если голой рукой погладит, — за бедным быть; мохнатой — за богатым[969]. Аналогично этому происходило и гадание в бане. В мифологических рассказах и поверьях дать ответ на вопросы гадающих может и гуменник. И потому гумно также излюбленное место ворожбы: «Ходили мы слушать в Святки, против Рождества. Вышли к гумнам к нашим. Пять человек нас было. Вышли к гумнам и зачертили круг — как на деревне визг!.. Мы вышли из черты — тихо. Вошли опять в круг — опять визг. Вот одна: „Наверно, мой брат погибнет в этом году: это как я плачу“. На следующий год вышла она замуж самоходкой. Была на беседе — братья ищут. И эти братья пришли к жениху и потащили ее через всю деревню домой — так такой визг по деревне стоял!»[970] Для гадания в сакральное время («в Святки, против Рождества») магическими способами (особым очерчиванием, приговорами) создается сакральное же, качественно отличное от обыденного, пространство — круг (отсюда выражение: «кружить ходили»). Очерчивание его, иногда троекратное, производится первой лучиной, которой зажгли огонь в канун Рождества, или углем, взятым из печи, вытопленной в Страстной четверг до восхода солнца, равно как и головней, либо кочергой, сковородником, ухватом. (В подобного рода гаданиях магическим путем созданный круг эквивалентен очерченной коже.) Призыв же участвовать в процессе гадания, обращенный к мифическим существам, выражен в формулах: «Черти к нам, чертенки к нам!» Далее следуют слова оберега: «Вокруг круга ходите, к нам не заходите»; «Черта в черту, черт за черту. Стань тын железный от земли до неба…»[971]; «Будь стена каменная от земли до неба, зверю непроходима, птице непролетима и Святку незаходима»[972] или «Чур меня!» Зачураться — значит провести магическую черту. Оказавшись в сакральном пространстве в переходный («пороговый») период, гадающие (обычно их собирается 4–5–7 человек, хотя требование нечета подчас является обязательным) получают таким способом возможность «слышать» сигналы из будущего, оставаясь при этом в безопасности от воздействия сил из параллельного мира, хотя подчас и подвергаясь некоторым испытаниям с их стороны. Иногда звуки доносятся как бы издалека. Но случается, что слышится приближение свадебного поезда или похоронной процессии, звуки становятся все яснее и яснее, чудится, что кто-то подъезжает либо подходит и, наконец, оказывается совсем рядом с кругами, а затем начинает удаляться, звон колокольчиков, пение, плач постепенно замирают[973]. Возвратившись домой, рассказывали: одной слышалось бряцание бубенчиков на такой-то дороге, — значит, к ней наедут с той стороны сваты; другой явственно «почудилось», как между домами крестьян Андреева и Сомова с треском упало дерево, — значит, в одном из них умрет хозяин; третья слышала, как в избе вдовы Фомичны тесали топором и стругали доски, — верный знак, что в сей год умрет; иная сообщала: в доме Белоусова хлопали дверями, раздавались крики, шум, беготня — не миновать пожара, и т. д.[974] На эти темы в фольклорной традиции сложилось немало быличек: «Мне выслушали девки: „Едет с Салмы (соседняя деревня) на лошади через всю деревню с гармошкой и с колокольцами. И завернул к вам“. Зашли в Новый год к Агране чаю (попить. — Н. К.), приходит мать: „Дунька, иди домой — сваты приехали“»[975]. В период Святок сакральным пространством является и само гумно, освященное присутствием здесь мифического «хозяина». Не случайно это одно из излюбленных мест совершения мантических обрядов. Основным атрибутом в данном случае является колос (хлеб). Сюда направляются, чтобы, зажмурив глаза, зубами выдернуть из скирды колосья: если попадется зернистый — в замужестве гадающая будет жить богато, если пустой — бедно[976]. Причем сколько в колосе окажется зерен, столько будет членов в семье жениха[977]. Вариант: отстояв обедню, крестьяне уходят на гумно и зубами выдергивают «из кладушек» колосья. Если колос окажется полным зерна, то год будет урожайным, а если пустой — голодным[978]. Есть и иной способ гадания с подобной же целью. В ночь под Новый год глава семьи втыкает на гумне в снег колосья различных злаков. Утром смотрит: на каком из них лег иней, тот хлеб и уродится в наступающем году[979]. На гумне «слушают» так же, как и под окнами дома: если почудится дружный «стукоток», — значит, девушке предстоит идти в большую семью; если же молотит один, — замуж выйдет за одинокого[980]. Примерно так же «слушают» и у риги. Если почудится, что в ней кто-то метет метлой, — это к бедной жизни; если же лопатой пересыпают зерно — к обилию и богатству. При этом один из гадающих держится за дверную тягу, второй — за первого, третий — за второго. Иногда рассказы о ворожбе перерастают в былички и бывальщины, повествующие о том, как «хозяин» гумна или риги направляется из дальнего угла, от печки, к двери, за которую держатся «слушающие», и с чудовищной силой открывает ее, вызывая панический страх и обращая в бегство гадающих[981]. Давно исчезли из крестьянского быта овины, гумна, риги, а мифологические рассказы об их духах-«хозяевах» и связанных с ними гаданиях хотя и потускнели, но не исчезли полностью из фольклорно-этнографической традиции. Таким образом, домашний дух предстает как медиатор между прошлым и будущим, которое под его воздействием может в сакральный момент и в сакральном пространстве включиться в сегодняшний день и обозначить последующую веху человеческой судьбы, новый этап жизненного цикла, новый статус.Покровитель семьи и домашнего хозяйства
«Хозяин» дома
Домашний дух — персонификация прошлого в настоящем. Он унаследовал многие признаки своего архаического предшественника — родового божества, точнее тотемного предка-родоначальника. В процессе бытования этот персонаж воплотил в себе также души предков и — шире — души усопших, которые, сбросив с себя телесные формы, не порвали связей со своими потомками, участвуя во всех их повседневных делах и заботах. В то же время, как уже говорилось, — это двойник хозяина дома, дух-покровитель, данный ему с самого рождения. Домовой словно вылит в хозяина дома — так на него похож. Он даже ходит в хозяйской одежде, но успевает положить ее на место, прежде чем она понадобится «на´большому в семействе»[982]. В связи с этим в некоторых местностях существует поверье: когда меняется хозяин дома — появляется и новый домовой (дворовой)[983]. В тех локальных традициях, в которых сложились представления о семье домового, можно услышать утверждения, что домовых в жилище столько, сколько членов семьи, живущих в этом доме[984]. Представления об антропоморфных двойниках людей наслоились на соответствующие верования в зооморфных дублеров или тотемов. В отдельных традициях зафиксировано поверье, что в каждом доме живут две большие змеи, окруженные детенышами, — это двойники глав крестьянской семьи. Если убивают змея-самца, то немедленно умирает хозяин дома, если же самку — смерть настигает хозяйку[985]. Будучи божественным предком-родоначальником, домовой связан с семьей узами родства и крови. В качестве же духа постройки и духа огня он объединяет всех ее членов общим кровом, общим домашним очагом. Как глава большой патриархальной семьи, состоящей из многих поколений, живущих и ушедших, он радеет о целостности и сохранности семейно-родового коллектива. Заранее зная о предстоящей утрате, домовой плачет, сочувствуя горю прежде, чем оно пришло: «Как в дому несчастье будё, так доможириха под полом плачё. Уж ходи — не ходи, уж роби — не роби, уж спи — не спи, а все слышать будешь. Вот как у меня хозяин-то помереть должон, все я слышала, будто плачет кто, так жалобно. Знамо доможириха цюла»[986]. Выражает он свою родственную печаль и по поводу вынужденной длительной отлучки одного из членов семьи, например, в связи с рекрутским набором: «Мая сяструшка сказывала: как узять ие мужа у салдаты, дык хозяин па ём голосил. Вот завтря иго везть, а нынча ани пашли у клетку (клеть. — Н. К.) спать. Муж-то выпил — то-то прошшалси с сваими, — храпить; а сяструшка тольки стала дремать и слыша: хтой-та у клетку дверь растворил и лезя им по ногах, потам зли стеначки прашел, у галавах астанавилси и начал галасить. Слов не выговаривая, а тольки голосом: у-у-уу, у-у-уу… как вот бабы галосють»[987]. Домовой изображен и как хранитель нравственных устоев семьи. По утверждению рассказчицы, дух-«хозяин» щипал ее невестку до черных синяков за то, что она была «нехорошая баба», «балыматная», легкого поведения[988]. Не любит он также «в дому ссоры», не терпит сварливых баб и строго наказывает зачинщиков семейных распрей. Ему по душе дружная семья: делай все согласно — и в хозяйстве будет ладно[989]. Тем не менее, как это явствует из мифологических рассказов, домовому все же нет-нет да и доводится быть немым свидетелемдрак и даже сообщать родным о местонахождении потерпевшего в них: «Поднимается такого роста, как я, в костюме сером, в таком, какой у меня был. Поднимается, смотрю, парень по крыльцу. И вот уже около этих дверей остановился, только ногу так положил и так вот рукой показал. А как закричу, испугался. А он в эту щель растворился. <…> А в это время зять сестру гонял. Она ночевала за домом в стогу здесь. Мать говорит: „Наверно, хозяин подсказал, где сестра“»[990]. Домашний дух, или мифический предок-родоначальник, является, естественно, и покровителем домашнего хозяйства. С ним типологически сходны лары и пенаты римлян, альруны или руны скандинавов, Ио или Чжо китайцев и т. д. В мифологических рассказах домовой изображен идеальным хозяином, блюстителем порядка в доме: «Мать моя частенько тоже поговаривала, мол, уйдет куда-то, вернется — а в избе-то уж все прибрано»[991]. Обычно утверждают, что он чистит, метет, скребет и прибирает по ночам в доме. Домовой гневается на тех, кто нарушает заведенный порядок. Хозяйка, забывшая убрать на ночь нож со стола, слышала, как дух, позвенев ножом, швырнул его на пол[992]. Домовой, как рачительный крестьянин, расхаживает по всему жилью, хозяйничает, присматривает за всем в доме, стучит, занимаясь разными поделками. Подгулявшему или проспавшему на сеновале рабочую пору или вообще лентяю он задает трепку. Домашний дух способствует плодородию полей, обилию жатвы, отчасти присвоив себе, по-видимому, функции растворившегося в традиции, особенно в севернорусской, полевого духа. Впрочем, то же наблюдается и в славянском фольклоре. Например, среди лужицких сербов бытовало поверье, что в полдень по полям и лугам прохаживается Мара, заботясь о том, чтобы все хорошо росло, особенно травы[993]. В украинских мифологических рассказах домовой уходит в поле с ранней весны на все лето и возвращается с наступлением длинных осенних вечеров[994]. Согласно белорусским бывальщинам, домовой (разгневанный или чужой) останавливает рост деревьев. Молодая яблонька после того, как на нее навалился этот дух, жалобно зашумела листьями и перестала расти, плодоносить[995]. Обычно же свой домовой заботится об урожае. Вместе с овинником он разделяет и заботу о просушке и провеивании зерна, пересыпая его горстями, от чего оно «спорнеет». Молотит же зерно и подметает гумно нередко сам овинник, особенно у «знающих» людей[996]. Во время сушки хлеба ночью он будит хозяина, просыпающего «тепленку», сказав ему в нужный момент на ухо: «Проснись, погасло в печке»[997].
Рис. 40. «Быль о хлебе». Мастер традиционной каргопольской глиняной игрушки А. П. Шевелев показал в этой сюите весь цикл полевых работ крестьянской семьи
Домашний дух заботится и о здоровье, плодовитости скота: от его поглаживаний скот становится бодрым и выносливым. О хлевнике пойдет речь ниже. Одновременно домовой — сторож хозяйского двора. В случае кражи он ходит в дом вора и воет там в переднем углу до тех пор, пока тот не возвратит похищенное[998]. Домовой всячески предотвращает убытки в хозяйстве: «Спит, вдруг кто-то его (мужика. — Н. К.) за плечо встряхнул: „Хозяин-хозяин! А быки-то твои стамовик разбили, ушли вверх по паде!“ Соскочил он. Выбежал: правда, дворы пусты. Он — на коня и вверх по паде. И уже в вершине догнал, заворотил»[999]. В другой раз точно так же было спасено зимовье от пожара[1000]. Мало того, домовой приумножает богатство и благополучие семьи, живущей под его покровительством. Этот персонаж — некое концентрированное средоточие магической силы, способной осуществить желания, выраженные хозяевами прежде всего при закладке дома и, в сущности, при «проецировании», «создании» самого домового. Не случайно в некоторых деревнях крестьянин, прежде чем начинает класть сруб, закапывает в переднем углу несколько монет и ячменных зерен, чтобы в новом доме не переводились ни деньги, ни хлеб. Туда же кладет и шерсть — чтобы водился домашний скот, чтобы приумножалось благополучие. После же закладки первого венца, когда хозяйка ставит посредине начатого сруба стол и устраивает угощение, «старший тесель», взяв в руки рюмку, произносит магические слова заклинания, адресованные хозяину дома, мифическому и реальному: «<…> а яму долго жици! Каб у яго родзили волы, кони и коровы и мужчинские головы!»[1001]. Соответствующий обряд совершается и при входе в новый дом. Чтобы в нем жилось весело и богато, крестьянин вносит петуха, а также дежу с тестом и помещает их в красном углу[1002]. И тот и другой атрибут символизируют вселение духа-«хозяина». Домовой, согласно мифологическим рассказам и поверьям, способствует богатству и благополучию в доме: «Однажды вечером, когда жаловался он (бедняк. — Н. К.) на свою нищету, дидько достал из печки и подарил ему целый котел денег»[1003]. У белорусов существует поверье, что в Великий четверг (напомним, это время активности духов и душ умерших) человек может при соблюдении определенных условий «чистосердечно открыть домовому свои нужды» — и тот постарается помочь ему[1004]. Уподобляется домовому в своих благодеяниях ригачник: он отдает мужику зарытый под углом риги пивоваренный котел, полный серебра[1005]. В белорусской мифологии приносит в дом много денег и всякого добра гуменникова дочь[1006]. И все же самый желанный для крестьянина подарок — это неразменный, или неизводный, т. е. никогда не переводящийся, серебряный рубль, который, по рассказам, удается получить от домового или эквивалентного ему мифического существа различными способами: например, в качестве платы за угощение (миски борща, каши, хлеба), которое хозяин ставит в Великий четверг в излюбленном месте пребывания домового (например, на чердаке), или за жареного гусака, проданного «нечистому» на перекрестке в полночь, или в обмен на куриное яйцо, лежавшее в пасхальную ночь под престолом в церкви, а затем отданное «лешему» (домовому), или взамен черного одномастного кота, врученного «нечистому» в полночь, и т. д. А для крестьянки столь же желанный подарок — неубывающая трубка полотна, полученная от «домахи» за оказанные ей услуги[1007]. Крестьянину, дружному с домовым, сопутствует удача за удачей: торгует ли он скотом или зерном — непременно с выгодой и прибылью; отправится ли на рыбный промысел — за день наловит столько, сколько соседи за две недели. В хозяйстве такого крестьянина всегда обилен урожай и ухожен, плодовит домашний скот. Не случайно в народе домового называют «жировик» (от слова «жира»— привольное богатое житье), «кормилец», «доброхот», «доброжил», но наиболее часто «хозяин» — и этим все сказано. Разновидностью домового, приумножающего богатство мужика, который, как мы помним, сам его и создал-«выносил», является в мифологических рассказах и поверьях крылатый огненный змей. Он приносит в дом золото, серебро, деньги. От этого змея зависит изобилие в крестьянском хозяйстве — хороший урожай, обильный удой коров, плодовитость домашнего скота. Он обеспечивает своего хозяина хлебом, маслом, молоком, яйцами, медом, дорогими вещами, одеждой и пр. Лужичане различали даже три рода таких змей: zmij penezny, zitny, mlokowy: один из них приносит золото, другой — хлеб, третий — молоко[1008]. Таков же домовой цмок в белорусской традиции: он снабжает своего хозяина деньгами, делает его нивы плодородными, а коров дойными, обильными молоком[1009]. Эти же функции распространяются на змей и ужей, обычных по своему внешнему облику, но живущих в крестьянской избе или в хозяйственных постройках и почитаемых в качестве домашних духов. Отсюда множество примет и поверий, связанных с подобными зооморфными «хозяевами». Когда в крестьянском жилище или усадьбе появляются змеи, разводятся ужи, это предвещает благополучие. Видеть во сне змей и ужей означает то же самое. Эквивалентом покровителя домашнего хозяйства, равно как и локусом домового, осмысляется в фольклорной традиции и народных верованиях сама печь: это символ домашнего очага, эмблема сытости и богатства. Об этом свидетельствует, в частности, присловье, произносимое при кладке печи: «Печник с огнем да дымом, хозяин с вином да пивом (курсив мой. — Н. К.)»[1010]. Аналогичные представления распространяются на огонь. Не случайно у сербов существует обычай ударять кочергой по горящему полену (напомним, и огонь, и полено символизируют домового), приговаривая: «Сколько искр, столько бы коров, коней, коз, овец, свиней, ульев, счастия и удачи»[1011]. Считается, что огонь (печь, домашний очаг) дарует семье богатство и благосостояние. Вот почему в народе огонь иногда называют «богач», «богатье»[1012]. Он оберегает имущество хозяина, приумножает его доходы и прибыль. В этих представлениях коренятся поверья типа: нельзя давать огонь в чужое жилище (особенно, когда кто-нибудь из домашних выезжает сеять в поле), ибо с огнем туда перейдет и благополучие; у тех, кто не отказывает соседям в горячих углях, убывает счастье и плодородие. Поэтому существует обычай, по которому взявший горячие угли по разведении в доме огня возвращает их обратно[1013]. Приумножающими хозяйское добро изображаются и другие домашние духи. В числе их наряду с ригачником, гуменником выступает и овинник: по ночам, до самых петухов, носит он на плечах хозяину мешки ячменя — потому мужику, к удивлению его работника, и удается намолотить на току из нескольких «коп» («копа» — 60 снопов) столько ячменя, что и девать его некуда[1014]. Обеспечивает в изобилии хлебом подружившегося с ним мужика и гуменник, так что хозяин в течение зимы и весны не только не прикупает жита, но еще и сам продает излишки на базаре[1015]. На страже интересов крестьянина стоит также «клецьник» — хранитель домовых клетей и кладовых, образ которого сохранился в белорусской мифологии[1016].

Рис. 41. Б. купеческий склад в с. Ошевенском. Каргополье
К покровителям домашнего хозяйства относятся подчас и природные духи, которые благосклонны к мужику вместе с домовым: у такого хозяина рожь на полосе продолжает цвести, в то время как у соседей расцветшая рожь побита градом[1017], а на промыслах, рыбных или охотничьих, ему неизменно сопутствует удача. В этом, как и в ряде других случаев, домашние духи представляют некое синкретическое единство с природными. Такое единство восходит еще к тотемистическим представлениям. Например, почитаемый у белорусов в качестве тотема козел со временем предстает и как домовой, и как дух урожая. Тот, кто поладил с домовым или иным домашним духом, по сути дела обрел нечто такое, что в иных фольклорных традициях зовется «домашним счастьем»[1018]. И это сказывается в любом деле. Но стоит мифическому «хозяину» рассердиться, а хуже того, уйти из дома, как вместе с ним счастье покидает живущую здесь семью. Ее уделом отныне станут болезнь и смерть, падеж скота, неурожай в полях, пожары и прочие беды, неудачи. Из мифологических рассказов и поверий, воссоздающих ситуацию, обратную процветанию, опять-таки вырисовывается образ домового как духа, приумножающего благосостояние крестьянской семьи. Со временем языческий покровитель сменился христианским. Это очевидно, например, из заговора «для богатства дома»: «Наша изба о четыре угла, во всяком углу по ангелю стоит. Сам Христос среди полу стоит, со крестом стоит, крестом градит, хлеб и соль, скот и живот и всю нашу семью»[1019]. Однако и в новом облике покровитель семьи сохранил за собой прежнюю локализацию — пространство, ограниченное четырьмя углами с центром в нем (своего рода пятиглавие), и прежние функции, суть которых — в ниспослании благополучия.
Домовой — дух конюшни, коровника, хлева
В дошедших до нас мифологических рассказах и поверьях домовой имеет, пожалуй, едва ли не большее отношение к домашнему скоту, чем к людям. Выясняется, что представленный в данной своей ипостаси дух-«хозяин» живет лишь в тех домах, где «держат скотину»: «Старуха Авдотья из Тендикова рассказала, что когда сын ее отделился и увел скотину, то она однажды вышла на двор и видит, как беспокойно домовой шевелится в кошеле. „Взяла я его и снесла к Кирюшке: иди, мой батюшка, у меня теперя нет никого, ни коровушки, ни лошадушки (курсив мой. — Н. К.)“»[1020]. В русской традиции домовой — дворовой обычно неотделим от хлевника. В других, более архаических традициях (например, в белорусской, а также в карельской, финской) хлевник часто выступает в качестве самостоятельного персонажа. О связи домового с хлевником в русских быличках и бывальщинах свидетельствует повсеместно встречающаяся локализация этого синкретического персонажа в конюшне, «под колодой» или «на перемете», в коровнике и овечьих хлевах, под яслями, а чаще в яслях, наполненных сеном. Иногда его видят барахтающимся в кошелке с сеном. Излюбленным местом этого мифологического персонажа является и клеть над хлевом: «<…> и всё чудится мне, ровно кто охает в сельнике»[1021]. Так или иначе его обнаруживают в Чистый четверг или на Светлое Воскресенье в хлеве или коровнике притаившимся в углу. При переходе на новое жительство из старого двора брали лукошко навоза и переносили его на новый. Поскольку экскременты осмысляются в народных верованиях как одно из вместилищ жизненной силы[1022], то смысл обряда вполне очевиден: вместе с навозом переносили на новое место самого домового-хлевника либо некую субстанцию, обеспечивающую его восстановление и реализацию содержащихся в нем потенций. Древние семантические ассоциации акта дефекации с оплодотворением и принесением потомства выявляет на лексическом уровне А. Ф. Журавлев: «испражняться» — «плодиться, рожать»; «дерьмо, навоз» — «сперма» и т. п.; ср. помёт «кал» — помет «единовременный приплод (животного)»; котях «комок дерьма» — котить(ся) «рожать» (о животных) и т. д.[1023] Этот мифологический персонаж наделяется и антропоморфными, и зооморфными признаками. Такое «гибридное» существо представляют в виде человека, но с конскими ушами и копытами. Упоминается и его лошадиное ржание. Архаическим предшественником этого домового-хлевника, несомненно, был персонаж, имеющий полностью лошадиный облик. Об этом, в частности, свидетельствует поверье: вслед за «стрыкатой», или «пялёсой», т. е. пегой, лошадью в хозяйстве водворяется и сам дух-«хозяин» хлева[1024]. Не случайно и сербская мора обладает способностью обращаться в коня. Покровители же других животных некогда имели соответствующие зооморфные признаки, изначально — полностью зооморфный облик. Однако в дошедшей до нас фольклорной традиции известен преимущественно лишь обобщенный дух-хранитель домашних животных: лошадей, коров, коз, овец, свиней, кур и даже пчел. Вот почему домовой-хлевник может либо воплощаться в то или иное животное, либо иметь признаки одного из них: «Вдруг видит, бежит по двору свиньюшка и прямо к лошади, вскочила на спину, похрюкивает да ножками лошадь топчет»[1025]. Вместе с тем, согласно мифологическим рассказам и поверьям, домовой — дворовой — хлевник покровительствует не всем животным данного вида, а только тем, масть которых приходится ему по вкусу. Нередко свое пожелание относительно масти заводимой в хозяйстве лошади домовой-хлевник выражает формулой: «хоть малиньку да пегашечку»[1026] или «хоть бы худую да пегую»[1027]. И в конце концов одобряет «ледащую», но зато пегую клячу: «Вот это лошадь — так лошадь! Не прежним чета!»[1028]. И крестьяне стараются держать лошадей, коров, овец, вплоть до собак и кошек той масти, которую любит домовой и которая вследствие этого идет ко двору. Чтобы определить желательную масть, в народе существует множество способов. Вот один из них. На ночь в сарае, на косяке, на котором навешивается полотно ворот, кладут клочок бумаги с хлебом-солью. К утру на нем оказывается шерстинка того цвета, который любит дух-«хозяин»: считается, что он сам ее и кладет[1029]. Или же берут на Светлое Христово Воскресенье кусок кулича, завертывают его в тряпицу и вешают в конюшне, а через шесть недель смотрят: какого цвета завелись в куличе черви — такой масти и лошадей следует заводить[1030]. Или определяют любимую домовым-хлевником масть по голубям, живущим во дворе: какого цвета большинство из них, такого цвета домашние животные и придутся ему по нраву[1031]. И наконец, чтобы получить ответ на данный вопрос непосредственно от духа-«хозяина», нужно, соблюдая определенные условия, смотреть через хомут[1032]. Почему же именно тот, а не иной цвет шерсти устраивает домового-хлевника? Оказывается, сам покровитель домашних животных может быть, согласно поверьям, гнедым, вороным, белым, пегим. Любимой же им скотиной является именно та, которая одной с ним масти, которая на него похожа. Такая соотнесенность не случайна. Она свидетельствует о том, что в генетических истоках покровитель и покровительствуемое им животное в известной степени отождествлялись. Но и это еще не все. Цвет шерсти домашнего скота должен совпадать и с цветом волос (бороды) хозяина дома[1033], что вполне закономерно: волосы или шерсть домового совпадают по цвету с хозяйскими волосами. Факты подобной взаимообусловленности позволяют утверждать, что покровитель животных (домовой-хлевник), человек (глава семьи, родоначальник) и животное некогда дифференцировались из единого синкретического персонажа, имеющего зоо- и антропоморфные признаки, восходящие к образу тотемного предка. Существовал и целый набор обрядов, направленных на приведение новоприобретенного животного под покровительство домового-хлевника: «В хлеву свой хозяин. У него разрешение тоже надо спрашивать, когда в новый хлев входишь или новую скотину заводишь»[1034]; «В каждом хлеве хозяин есть. Скотину приведешь — надо разрешение спросить, слова определенные сказать»[1035]. В соответствии с обычаем «новокупку» проводили во двор через сковородник[1036] или другие атрибуты, осмысляемые как эмблема печи, домашнего очага, домового. Или вешали у печи (вариант: привязывали к дымоходу) веревку (поводок, недоуздок), на которой привели купленное животное[1037], что в семантическом отношении эквивалентно предыдущему магическому действу. Или выстригали у «новокупки» (коровы или лошади) на «репице» пучок шерсти и подтыкали его под матицу либо затыкали в хлеву, в стенные пазы[1038], сообразуясь с представлениями о локусах домового-хлевника. Чтобы приобщить купленную скотину к духу-«хозяину», использовался и иной способ: ее ударяли задом о ясли, где, по поверьям, как раз и находится дворовой[1039]. Обрядовому введению во двор приобретенного животного нередко сопутствовала вербальная магия. Так, «новокупку»-лошадь пускали сюда без узды со следующим приговором: «Нехай уже домовой сам найде для ней место»[1040]. Считалось, что лошадь остановится там, где ее желает поместить сам «хозяин». Были случаи, что ради соблюдения этого обряда переносили конюшню на новое место. Вводя купленную животину в стойло, «знающие» низко кланялись, обращаясь к каждому из четырех углов конюшни или коровника и произнося приговор типа: «Дедушко-отаманушко! Полюби моего чернеюшка (или пестреюшка, смотря по шерсти), пой, корми сыто, гладь гладко, сам не шути, и жены не спущай, и детей укликай (унимай)»[1041]. Или: «Дедушка Романушка и бабушка Доманушка, пустите во двор коровушку (имя), пойте, кормите сыто, дроцыте гладко, сами не обитьте и детоцкам не давайте обидеть»[1042]. Вербальная магия сопровождается обрядовым действом — угощением духа-«хозяина»: «Хозяин с хозяюшкой, малыми детками, няньками, служанками, примите глупую скотину. Поите, кормите — вот вам гостинец»[1043]. На основе подобных заговоров нередко формируются сюжеты быличек: «Я замуж вышла, дал мне отец корову. Скажут: надо корову привести на двор, так надо (произнести. — Н. К.): „Хозяин с хозяюшкой, берегите мою скотинушку…“ А мы не сказали ничего, дак знаешь, корова… дак неделю стонула»[1044]. Пережитки подобных обрядов долго удерживались в традиции. В их числе приведение новорожденного животного под покровительство домового: внося теленка в избу, ударяли его «рыльцем» о шесток печи, об угол голбца, о печной столб или терли мордой о «чилисник» — сажу в кожухе печи и «пихали» в ее устье. «Общей для обрядов, связанных с приплодом, и обрядов, сопровождающих куплю-продажу скота, чертой является „приобщение“ скота к печи или голбцу как частям дома, имеющим непосредственное отношение к домовому»[1045], — пишет А. Ф. Журавлев. Напомним, что к устью печи подносили и новорожденного ребенка в знак приобщения к духу-«хозяину»[1046]. Посредством особого обряда программировалась и привязанность животного к собственному двору. Она обеспечивалась гомеопатической магией. Так, например, новорожденного теленка полагалось прикладывать к печной заслонке, приговаривая: «Как эта заслонка держится печки, так же крепко держись и ты своего двора», — после чего оставляют животное на одну-две недели в избе[1047]. С помощью специальных обрядов покровительство духа-«хозяина» домашнему скоту поддерживалось и в дальнейшем, когда теленок, жеребенок, ягненок уже вырастали. Перед первым выгоном скота на пастбище ему скармливали хлеб, смоченный в соли, а затем намазанный сажей в печи. Этим магическим действом обеспечивалось своевременное возвращение животного домой[1048]. В хлебе-соли, как и в саже из печи, нетрудно опознать устойчивые эмблемы домового. Подобные обряды и обычаи чаще остаются «за кадром» мифологических рассказов о домовом — дворовом — хлевнике. Однако именно они оказываются тем этнографическим субстратом и тем контекстом, на котором основывается и без которого не может быть прочитан тот или иной сюжет. В ряду таких сюжетов былички и бывальщины о любимой — нелюбимой лошади духа-«хозяина», пожалуй, наиболее распространены: «В детстве, бывало, иду и вижу: идет мужик в красной рубахе с кушаком и несет сена охапку. Я еще так посмотрела на него, а он похож на моего братана, на Алешу. Прихожу домой, а Алексей сидит. — „Разве ты был сейчас у кобылы?“ — „Нет“, — говорит. — „Да как же нет, ты сейчас сено кобыле дал“. — „Да не был“, — говорит. А я говорю: „А кто же был сейчас в красной рубахе?“ — „Да у меня-то рубаха не красная, ты что“. — „Да с поясом был“. — „А у меня-то нету пояса“. — „А кто же это был?“ А он: „Это дворовой хозяин. Он нашу кобылу любит“»[1049]. Из рассматриваемого цикла мифологических рассказов и поверий вырисовывается цельная картина хозяйственной деятельности данного духа-«хозяина» как покровителя домашнего скота. В своих заботах о нем домовой-хлевник уподобляется рачительному крестьянину. Он задает животным корм. Носит вязанками сено с гумна или повети. Охапками раздает его лошадям, коровам, овцам. Любимой «животине» он подсыпает овса побольше, иной раз отнимая у нелюбимой. Не считает особым грехом и утащить корм для своего скота с чужих, соседних сеновалов. На этой почве между приверженными каждый своему двору домовыми случаются драки. Чтобы напоить «гнедуху» или иное животное, домовой-хлевник ходит с хозяйскими ведрами за водой или возит ее в бочке[1050]. Как следует из быличек и бывальщин, хозяева запросто могут уехать из дома, оставив скотину полностью на попечении рачительного мифического покровителя животных: «Глянули они (соседи. — Н. К.) во двор, а там домовой с домовихой катаются. Вот и поняли, почему скотина не ревет, кто ее поит, кормит»[1051]. Любимую лошадку домовой гладит по спине, отчего та «с приятностию вытягивает шею, становится на колени и ложится»[1052]. Когда мифическому покровителю хозяйство приходится по нраву, то лошадь у него вымыта, вычищена скребницей, уши и щетки у нее подстрижены, хвост подвязан «так, что ай-ну»[1053], грива заплетена в мелкие косички («то же делает он и с бабьими косами, и с бородами мужиков»[1054]): «Я сама видела, как у лошади косичек наплетено всяких-всяких <…>. Косичек наплетено по всей гриве. Много, везде. <…>. Хозяин хлевушки любит такую лошадку»[1055]. «Косичками» в народе называется сбившаяся в войлок грива. Распутывать ее, согласно поверьям, нельзя, чтобы не рассердить домового-хлевника и не накликать беды на лошадь: так она и ходит с колтуном. Плетение «косичек» имеет магический смысл: благодаря ему обеспечивается безмятежное течение жизни[1056]. Магическую роль играет и поглаживание животных, приписываемое данному мифическому существу. От домового-хлевника исходит такая жизненная сила, что от его прикосновения скот становится бодрым и выносливым[1057]. Во всяком случае, любимая им лошадь всегда «и сыта, и гладка, и дюжа»[1058]. Она сама, в свою очередь, оказывается неким средоточием жизненной силы. Вот почему от этой лошади, будь она ранее хоть «ледащей клячей», водятся кони, «да еще какие славные»[1059]. Согласно народным верованиям, от домового-хлевника как источника потенций зависит и плодовитость, приплод домашнего скота. Не случайно при совершении обряда, цель которого — приобщить животину к мифическому покровителю, его, в частности, просят: «<…> да нас животом дари»[1060]. Домашних же птиц, особенно кур, «хозяин» переманивает к себе и из чужого двора. Рассматриваемый мифологический персонаж осмысляется и как средоточие удойности коров. Чтобы задействовать это качество домашнего духа и повысить молочность своей животины, крестьяне соблюдали ряд обычаев и обрядов: молочные кринки ставили на пол, да так, чтобы их дно занимало две половицы, а образовавшаяся между ними щель приходилась как раз посередине их дна; выпарив подойник, мыли его у дверной пяты, а затем ставили на воротный столб или поленницу. Для повышения же жирности молока у коровы срезали концы волос от хвоста, сжигали их на шестке, на углях. При этом над ними полагалось держать подойник, да так, чтобы его отверстие оказалось направленным в чело печи[1061]. Вариант: хозяйка, подойдя с определенными атрибутами обряда вначале к печному столбу, а затем уже к корове, произносит магические слова приговора: «Как скоро насыпается в мешок зерно, так скоро наливайся у коровушки молочко»[1062]. Все приведенные в данном случае локусы: щель между половицами (по сути, щель в подполье), дверная пята, воротный столб, поленница, печной столб, шесток с углями, «чело» печи — маркированы знаком домашнего духа, сосредоточившего в себе обилие, которое теперь направлялось посредством обрядовых действий и вербальной магии на определенный объект.
Рис. 42. Жилой дом и домовая часовенка в Колодозере. Восточное Пудожье
Домовой — дворовой — хлевник оберегает животных от болезней, хранит от хищных зверей, когда домашний скот ходит в стаде или в табуне. В данном случае домовой разделяет попечительство с лешим. Одним словом, от забот своего покровителя скот «свитеет». Между животным, пришедшимся по нраву духу-«хозяину», и самим этим «хозяином» (они одной масти) существует неразрывная, мифологическая по своей природе связь, напоминающая о былом синкретическом единстве названных персонажей: ведь и покровитель животных изначально имел зооморфный облик. Так, крестьянину, продавшему любимую лошадь домового, по сути, предписывается ее возвратить: «В одной деревне Череповецкого уезда (Новгородская губерния) домовой, навалившись ночью на мужика и надавливая ему грудь и живот, прямо спросил (и таково сердито!): „Где Серко? Приведи его назад домой“»[1063]. В свете мифологических представлений о магических действах духа-«хозяина», рассмотренных нами выше, исход коллизии предопределен: слитность обоих персонажей запрограммирована изначально. Однако в поздней, дошедшей до нас традиции такая нерасчлененность носит уже сугубо обытовленный характер. Формирование же образа нелюбимой животины обусловлено прежде всего несоответствием по видовой принадлежности между ней и духом-«хозяином», равно как и преодолением их изначального синкретизма. В таких случаях отношение домового-хлевника к подопечному животному характеризуется как негативное: «В Меленгах (Владимирская губерния) один домохозяин спрятался в яслях и увидел, как домовой соскочил с сушила, подошел к лошади и давай плевать ей в морду, а левой лапой у ней корм выгребать. Хозяин испугался, а домовой ворчит про себя, но так, что очень слышно: „Купил бы кобылку пегоньку, задок беленькой!“»[1064]. Значит, здесь речь идет о лошади, масть которой не совпадает ни с цветом волос (шерсти) домового, ни с цветом волос (бороды) хозяина. К тому же, возможно, она была введена во двор без соблюдения определенных обрядов и обычаев. Такая животина не вписывается в систему локального мироустройства. И последствия этой неупорядоченности не замедлят сказаться. Прежде всего домовой-хлевник не дает нелюбимой скотине есть: «обирает» весь корм из ясель или не позволяет к нему притронуться. Поэтому животина постоянно кричит от голода, хотя, по мнению хозяина, она «кругом обихожена». Однако крестьянин видит, что овес и сено у нее остались почему-то нетронутыми или вместо корма в колоде лежит навоз. Вдобавок ко всему домовой-хлевник еще и мучает животных: «Нетель была затолкнута в угол головой. Чуть не задохнулась. Хозяин выручил. Хорошо, что пришел, сбавил. Знать, не любил ее хозяин хлева»[1065]. Он же запихивает коров и овец в ясли, заталкивает лошадь под ясли или закидывает в них кверху ногами; заваливает нелюбимую скотину в корыто или чан, да так, что ее с трудом удается освободить; иной раз протащит лошадь в подворотню, а то и перебьет у нее зад; ухватив за уши, мотает ее голову и вертит в стойле или просто бьет; наконец, щиплет скот и птиц, кусает кошек и собак. Хромота домашнего животного также приписывается проискам недовольного домового-хлевника: «<…> у меня коза была. Утром пришла во двор — чудо: сено было как-то оплетено и к ноге привязано. Я думаю, че это у меня коза ногу волочит? Посмотрела: веревка навязана, ее ведь и не развяжешь, так выплетено было. Пришлось разрезать. Но так руками не сделать. Че-то это есть!»[1066]. Нелюбимую скотину «хозяин» не чистит. Наоборот, он пачкает ее в навозе с ног до головы. Ее, не пришедшуюся ко двору, домовой-хлевник непременно заездит. На такой животине он скачет верхом всю ночь, до рассвета: «Однажды увидел хозяин, как домовой гоняет по двору на пегашке, да так-то борзо гоняет, ажно в мыле сердечная»[1067]. При этом он «не хуже цыгана сбивает рысь на иноходь или в три ноги»[1068]. Лошадь бьется, мечется, пытается сбросить недоброго всадника, но безуспешно. Она ржет, зовет на помощь хозяина, тот придет — никого нет. То же происходит, как следует из белорусских бывальщин, и с коровой. От такого обращения скот худеет, спадает с тела. Он всегда запачканный. Шерсть на животном «лямчится». Лошадь выглядит утомленной, изнуренной, взмыленной, будто только что вышла из воды. Корова перестает давать молоко, все плачет, глаза у нее гноятся. Скотина еле дышит, хворает, случается и совсем пропадает: «У суседки лошадь стояла, невзлюбил ее хозяин. Утром придет в хлев — лошадь вся в мыле. Это на самом деле так: невзлюбит хозяин хлева скотину — замучает все равно»[1069]. А если и остается в живых, то не дает хорошего или же вообще никакого приплода. Мало того, считается, что дух-«хозяин» может убить телят, жеребят, ягнят при самом их рождении. Иначе говоря, жизненная сила, исходящая от домового-хлевника, не распространяется на животное, не пришедшееся ко двору. Впрочем, коллизия «хозяин хлева невзлюбил», несмотря на внешние признаки мифологемы, подчас получает сугубо материалистическое объяснение: крестьянин два года не вывозил из конюшни навоз — и лошади стали беспокойными; сосед воровал у лошади овес — и животное стало худеть; кучер без спроса ездил ночью на коне верхом — и тот к утру был в мыле и т. п. Однако обычно крестьянин принимает меры в соответствии с мифологическим мировосприятием. Нелюбимую домовым скотину безропотно сбывает со двора: продает или обменивает. Приобретая взамен другую, он действует со всей осторожностью и осмотрительностью, сообразуясь с традиционными обрядами и верованиями. Если он не сможет обменять животину незамедлительно, то просит мифического покровителя об отсрочке: «Дедушка-домовой, я купил себе лошадь, если тебе эта шерсть не нравится, подожди до лета (или до зимы) — я ее продам»[1070]. Не менее распространен в таком случае и обычай «прощаться», т. е. просить прощения за всевозможные прегрешения у мифических сил. В соответствии с существующим обычаем крестьянин, кланяясь на закате солнца по всем четырем углам, произносит: «Хозяин-батюшко и хозяйка-матушка! Простите, не троньте милой скотинушки»[1071]. Кстати, такого рода «прощание» используется и при лечении заболевшего скота. С этой целью крестьянин в течение 9 или 12 дней, на заре, встает на повети лицом к востоку и трижды произносит заговор: «Хозяин-батюшко, прости живота, чем он тебе досадил!» При каждом произнесении этих магических слов дуют и плюют через правое плечо[1072], т. е. отнюдь не в направлении «нечистой силы», в которую мог трансформироваться и домовой-хлевник. Одним из средств умилостивления мифического покровителя животных являются и «относы». Согласно обычаю, крестьяне кладут по четырем углам хлева хлеб-соль, точнее, посоленные ломти хлеба, сопровождая приношение словами: «Хозяин-батюшка, вот тебе хлеб да соль да добрый живот: пой да корми, да нас животом дари»[1073]. Затем смотрят: не окажется спустя некоторое время хлеба на месте — значит, домовой-хлевник полюбил ранее не пришедшуюся ко двору скотину, в противном случае нужно быть готовым к новым напастям. Причем этот «относ» совершался сверх ежегодных обязательных приношений в виде горшка каши, имевших место 28 января.

Рис. 43. Крестьянский дом, с. Колодозеро. Восточное Пудожье
С целью же вызвать активизацию духа-хлевника, почитаемого в качестве покровителя свиней и других животных, устраивалась ритуальная совместная трапеза. Она совершалась в Васильев день (1/14 января), называемый иначе «Кесаретским»: от имени Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В этот день было принято колоть, зажаривать и поедать «кесаретского» поросенка. Перед едой старший в семье трижды поднимал вверх блюдо со свежезажаренным поросенком, приговаривая: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились». По окончании трапезы кости съеденного животного по одной относили в свиной закут, где, согласно мифологическим рассказам и поверьям, в это время находился дух-«хозяин», негативно переосмысленный в поздней традиции и именуемый «чертом»[1074]. Цель данного продуцирующего обряда, как и предыдущего, — воспроизводство животных, их возрождение из костей, осмысляемых в качестве одного из вместилищ жизненной силы. (Ср. с соответствующими охотничьими обрядами.) Заметим, что такую же продуцирующую функцию имело и закапывание коровьих (овечьих) костей (рогов) в углах двора или хлева либо втыкание конского черепа на кол во дворе или на углу постройки. Успеху в скотоводчестве способствовали и лошадиный праздник, отмечаемый в день святых Флора и Лавра (18/31 августа), и именины коров — в день святого Власия[1075] (11/24 февраля). Для домового же, выступающего в роли покровителя кур, устраивался — соответственно — куриный праздник, или куриные именины[1076]. Он отмечался 1/14 ноября, в день святых Кузьмы и Демьяна, которые унаследовали от своих языческих предшественников, помимо всего прочего, функцию защиты кур. Ритуальное поедание их мяса, забрасывание отрубленных куриных лап на избы, одаривание друг друга курами — эти магические действа были направлены на то, чтобы куры водились. Этой же цели предполагалось достичь и посредством соответствующей молитвы Кузьме и Демьяну, ранее — посредством заговора, адресованного языческому божеству — домовому. По некоторым сведениям, чтобы сохранить кур, духа-«хозяина» задабривали жертвой и 2 января. Напомним, что покровительство этой птице приписывалось также и кикиморе. Не случайно в облике обоих персонажей подчас обнаруживаются рудиментарные куриные признаки. На основе анализа разрозненных и фрагментарных фактов можно все же утверждать, что изначально, в соответствии с тотемистическим мировосприятием, у каждого вида животных был свой покровитель, имевший к тому же соответствующий зооморфный облик. Правда, в поздней традиции такая соотнесенность оказывается уже трансформированной. Например, козью шерсть с разными приговорами кладут в щели хлева, а для мифического «хозяина» вяжут рукавицы из белой овечьей шерсти, и обе на левую руку. Но чаще былая устойчивая соотнесенность эманации духа-«хозяина» с определенным видом животных уже нарушена. Так, в конюшне, согласно обрядам и обычаям, полагалось держать белого козла, над станком лошади подвешивали убитую сороку, а под порогом постройки закапывали полено. (Причем былые эманации языческих божеств теперь стали фигурировать в качестве апотропеических средств, способных удержать негативно переосмысленных «хозяев» от происков по отношению к домашнему скоту.) В то же время конский череп, символизирующий в поздней традиции покровителя пчел, следовало, по обычаю, повесить среди пасеки[1077]. В крестьянском быту использовались и другие способы умилостивления домового-хлевника: 20 августа (по ст. ст.) поили лошадей «через серебро», а затем скрытно клали монету в конюшне, под яслями[1078], где, напомним, как раз и локализуется дух-«хозяин». Магической силе сокровищ в данном случае предписывалась некая связь между животными и их покровителем. Вместе с тем крестьянину, по рассказам и поверьям, приходится прибегать и к мерам психологического воздействия на это мифическое существо. Случается, что домового удается «оговорить», т. е. пристыдить, примерно такими словами: «А зачем лошадей заезжаешь? Кто тебя просил?»[1079]. Или: «Зачем бросаешь? Разве это хозяйство? Нам без кошки прожить нельзя; хорош хозяин!»[1080]. Хотя в ответ укоряемый персонаж может и поленом запустить в «оговаривающего», тем не менее он обычно перестает мучить животное. «Лихого» же домового — дворового — хлевника укрощают или даже изгоняют в «куриный праздник». Для этого садятся на лошадь, нелюбимую «хозяином», ездят на ней по двору и машут помелом по воздуху, приговаривая: «Батюшка дворовой! Не разори двор и не погуби животину»[1081]. Впрочем, просьбой мера воздействия подчас не ограничивается: «Ежели в хлеву хозяин, погонялку надо сделать из маленького кусочка смолы, что с лодок. Прийти в хлев и стены все вымазать и сказать: „Ты издеваешься над скотиной — я над тобой буду“. И три раза по углам стукнуть, а то хозяин хлева покоя не даст»[1082]. Вариант: обмакивают в деготь полено и отмечают на «лысине» дворового «зазубрину», после чего он убегает со двора. Есть и другие способы избавиться от «хозяина», мучающего животину. Как повествуется в одной из белорусских бывальщин, крестьянин вывел ночью в поле нелюбимую домовым лошадь, выломал с однолетней осины прут и стал бить ее, приговаривая при каждом ударе «раз». Через некоторое время со спины лошади свалился «корч», обернувшийся при падении в черного зайца — и тот быстро скрылся из виду. Как оказалось, это и был домовой. С тех пор он перестал мучить коня[1083]. Постоянно же вредящий крестьянской семье дух-«хозяин» (чужой или разгневанный) изгоняется с помощью специальных обрядов, о которых речь пойдет ниже. Со временем функции домового — дворового — хлевника унаследовал св. великомученик Власий, представший в народных верованиях как «скотий бог», в первую очередь покровитель коров. Судя по заговорам, этот святой зачастую с дублирующим его функции «Федосием» («Медосием») ниспосылают благополучие на веде´ние домашнего скота — дают «счастье на гладких телушек, на толстых бычков»[1084]. Они отправляют скотину на пастбище и благополучно возвращают ее домой («чтобы со дворашли — играли, а с поля шли — скакали»[1085]). Они же кормят — поят ее: дают «травушку шелковую, водушку медовую»[1086]. Берегут животину от лютого зверя, от лихого человека на все лето «сугрёвное». Укрощают ее, чтобы корова не лягалась, рогами не бодалась, хвостом «не махалась». Но — самое главное — обеспечивают удойность: «отмыкают у Божьей коровушки большо молоко, толсту сметану»[1087]. Вот почему икону Власия ставили в коровниках и хлевах. Непочитание же святого, по народным верованиям, немедленно сказывалось на домашних животных. Так, крестьяне одной из сибирских деревень объясняли начавшийся падеж скота тем, что, будучи недавно причисленными к приходу Спасской церкви, они перестали «праздновать» Власию и Медосию[1088]. Покровителем рабочего скота в народно-христианских представлениях был признан Георгий Победоносец. Вся совокупность мифологических персонажей, от которых зависит благополучие того или иного вида домашних животных нередко фигурирует в заговорах, варьирующихся в определенных пределах: «Попаси же ему Господь Бог, Хлор-Лавер — лошадок, Василий — свинок, Власий — коровок, Мамонтий — козок, Терентий — курок, Зосима Соловецкий — пчелок, стаями, роями, густыми медами!..»[1089]. Подобные заговоры также подтверждают, что животные каждого вида некогда имели своего покровителя. Коллизия, являющаяся трансформацией тотемистических мифов.

Рис. 44. Двухъярусная кровля алтарного прируба церкви в с. Самино. Вологодская область
На ранних стадиях своего становления христианство, и особенно народное, приспосабливая к новой вере старую, еще зафиксировало в язычестве многообразие божеств — покровителей животных и распределило их роли между персонажами христианизированной мифологической системы. Причем обоснование такой специализации чаще всего отнюдь не вытекало из жития самого святого. Например, прикрепление функции покровителя коров к Власию обусловлено, видимо, созвучием его имени с именем «скотьего бога» Волоса. Однако новые «хозяева» домашних животных лишь отчасти потеснили из мифологической традиции своих архаических предшественников. Основную власть над ними, согласно быличкам и бывальщинам, продолжал удерживать за собой домовой — дворовой — хлевник, разделивший заботу о животных преимущественно с лешим, который выступает одновременно и в роли дублера, и в роли предшественника домашнего духа-«хозяина» как покровителя скота.
Домашний дух и хозяин жилища: этикет взаимоотношений
Согласно поздним мифологическим рассказам, не лишенным уже психологической характеристики персонажей, домовые, как и люди, оказываются разными по характеру. Среди них встречаются злые и добрые, мрачные и веселые, спокойные и неугомонные, шутливые, озорные. Они не лишены добродетелей, равно как и человеческих слабостей. Среди домовых всегда найдется картежник, матюжник и даже любитель выпить. Предполагается, что дух-«хозяин» наследует те черты характера, которые имел при жизни предок-родоначальник, осмысляемый со временем в качестве домашнего божества. Соответственно на той стадии мировосприятия, когда предок-родоначальник представлялся в виде почитаемого животного, он с неизбежностью сохранял повадки и нрав последнего. Рудименты древних воззрений можно обнаружить в дошедших до наших дней поверьях. Так, если домовой — кошка, жильцы дома, находящегося под его покровительством, слышат по ночам мяуканье или же встают утром исцарапанными. Если же домашний дух — свинья, то он хрюкает и юлит вокруг хмельного человека, иной раз и с ног его собьет и пр.[1090] В любом случае, судя по мифологическим рассказам и поверьям, взаимоотношения хозяина жилища с домовым строго регламентируются. Они определяются этикетом, под которым мы подразумеваем совокупность четко обозначенных, фиксированных традиций и освященных обрядом (обычаем) правил поведения, вследствие чего каждое слово, движение, действующие лица и атрибуты, пространственные и временные показатели, вплоть до знаков-символов соотнесения важнейших актов крестьянской жизни с космосом, приобретают магический характер. Этими правилами регламентируются и многие стороны повседневного быта (в плане реальном и мифологическом) как внутри определенного микроколлектива, так и за его пределами. Наша задача — рассмотреть некоторые аспекты в этикете взаимоотношений внутри крестьянской семейно-родовой общины. Последняя, согласно народным верованиям, состоит из многих поколений сородичей, живых и умерших, восходящих к единому мифическому предку-родоначальнику. Речь пойдет о соблюдении правил, без которых, по древним представлениям, невозможно поддерживать равновесие, гармонию между предком и потомками, духом-«хозяином» и людьми, между «тем» (параллельным, потусторонним) и «этим» (земным) мирами. Без него, по верованиям, тщетны будут попытки вписаться в мироустройство, попасть в природный ритм, пережить состояние обновления. Ведь только тот, кто соблюдает освященный традицией этикет, непременно обретает «домашнее счастье». А пренебрегшего тем или иным правилом ждет наказание. Напомним, домовой участвует в обрядах жизненного цикла, вершит человеческую судьбу. Вот почему уже с самого начала, когда еще только определяется место для строительства, стараются узнать у духа-«хозяина», правильно ли оно выбрано. С этой целью совершается каузальный мантический обряд, результат которого служит знаком-символом воли домового. Приведем пример одного из таких гаданий, зафиксированного в восточнославянской традиции. Согласно обряду, в четырех углах будущего дома насыпается рожь. Если после прошедшей ночи она остается нетронутой, значит, домовому нравится выбранное место. В противном же случае крестьяне заключают, что домашний дух не одобряет их решения — и тогда таким же способом гадают на новом месте[1091]. Или же определенным образом обозначив углы будущего сруба, хозяин входит в его середину, обращаясь к мифическим предкам («дзядам») с просьбой помочь «облюбованной сялiбi»[1092]. По украинским обычаям и поверьям, хозяин перед началом строительства ложится спать на том месте, где планируется поставить дом. Почувствовав во сне, что его душит домовой, спрашивает: «к худу или к добру?». Ответ домового «ху» означает «худо», а «хы» — «добро». В последнем случае хозяин, не сомневаясь, строит здесь себе жилище[1093]. Если же избу поставить на месте, которое не нравится домовому, то он, по белорусским поверьям, будет ночью разгуливать повсюду с треском, стуком и портить вещи[1094]. Различные восточнославянские гадания, связанные с выбором места для нового жилища, были специально рассмотрены А. К. Байбуриным[1095]. Исследователь совершенно справедливо отмечает, что в этих гаданиях моделируется как само жилище с его пространственными и ценностными характеристиками, так и его существование во времени[1096], однако никак не соотносит полученный посредством подобных мантических обрядов результат с волеизъявлением домашнего духа. Каждый дом имеет своего духа-покровителя, равно как город или, скажем, монастырь — своего патрона. Этот дух проецируется в дом уже при его закладке. Духом жилища, как нам уже доводилось говорить[1097], становится душа строительной жертвы. Чтобы ее заполучить, плотник-мастер должен заложить в основание постройки человека либо животное. Эти анимистические представления нашли отражение, например, в предании об основании Новгорода, вернее, крепости: «<…> когда Славенск запустел и понадобилось срубить новый город, то народные старшины, следуя древнему обычаю, послали перед солнечным восходом гонцов во все стороны с наказом захватить первое живое существо, какое им встретится. Навстречу попалось дитя; оно было взято и положено в основание крепости, которая потому и названа Детинцем»[1098]. Со временем обряд жертвоприношения претерпел некоторые трансформации в сторону своего смягчения. Приведем примеры. Мастер выходит на место намеченного строительства «три утренних зари подряд»: чей голос он услышит, тот и станет после скорой своей смерти духом возводимого дома[1099]. Аналогичное поверье бытует у болгар. Мастер при закладке строения старается измерить толстой ниткой рост кого-либо из прохожих или в крайнем случае длину его тени. Эту нить он укладывает в специальный ящик, который замуровывается в фундамент дома. Человек, с которого снята мерка, согласно верованиям, по истечении сорока дней умирает. Его призрак и есть таласам, т. е. домовой[1100]. Это душа, новая оболочка которой представляется в виде легкого, утонченного, эфирного тела[1101]. Вера в то, что постройка каждой избы совершается «на чью-нибудь голову», служила одной из мотивировок представлений, в соответствии с которыми сам дом осмысляется как гроб. Не случайно сон, в котором «кому-то дом новый строят», означает, что этот человек вскоре умрет[1102]. И наоборот, гроб в областных диалектах называют дом, домовина, домовье, домовище[1103].
Рис. 45. Кронштейны («выпуски») кровель севернорусских домов
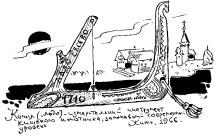
Рис. 46. «Копыл» («ладо») — измерительный прибор кижского плотника, заменявший уровень
Ослабленная форма принесения строительной жертвы закодирована в поверье: первый умерший в доме становится его домовым. Причем подчас неважно, умирает ребенок или старик. И тот и другой одинаково называется «родителем», отождествляемым с домовым[1104], поскольку душа умершего, как следует из других верований, сливается с общей, коллективной, семейно-родовой душой. В процессе своего бытования обряд принесения строительной жертвы подчас заменялся обычаем затыкать в углы и щели дома человеческие волосы и ногти[1105], содержащие в себе жизненную силу их хозяина. Если же строительная жертва вообще не была принесена, то домовым становился первый вошедший в новый дом и потому он должен был вскоре умереть. Отсюда ведет начало обычай, по которому первыми в новый дом входят старики, обрекая себя таким образом на добровольную смерть[1106]. Этому обычаю вторят поверья: в новом доме непременно и вскоре должен быть покойник[1107]; в новом жилище старый хозяин проживет недолго: «год-два да и помрет»[1108]; вошедший в дом первым «до´ году помрет»[1109]; новая стройка должна быть «новой хороминой-гробом тому, кто первый в нее войдет»[1110]; не пригласивший домового из старого жилища в новое должен вскоре умереть[1111] — лишь после этого здесь появится дух-«хозяин». С приведенными поверьями соотносится примета: «Как начнешь под старость строиться, так и помрешь, дом обновишь»[1112]. Чтобы предотвратить смерть человека, приносили заместительную, животную, жертву (разумеется, в эпоху господства тотемистических верований она была изначальной). Наиболее часто принесение в жертву животных совершалось при закладке дома, благоприятное время для которой определялось «знающими» людьми. Начиная работу с того конца, где впоследствии будет красный угол (один из локусов домового), плотники при «сплотке» первых двух бревен, при первых же ударах топора, заклинают (назначают голову, снимают мерку) или одного из членов семьи хозяина, или конкретное животное, или, наконец, ряд конкретных животных: лошадей, коров и пр., на которых закладывается здание. По верованиям, заклятые таким способом животные непременно в скором времени умирают. Впрочем, заклятие с намеченной жертвы можно снять, но для этого его нужно перевести на другое животное. Причем сделать это не позже, чем закончится работа с двумя первыми бревнами[1113]. Принесение строительной жертвы со временем может и не сопровождаться заклятием. Например, хозяин с хозяйкой приходят на место закладки дома, отрубают у петуха или курицы (черных!) голову и зарывают ее под будущий передний угол (подклеть) или кладут под угловой камень[1114]; убивают какое-либо иное животное, зарывают его в землю и кладут на том месте первое бревно[1115]. Одним словом, чтобы стены нового жилища стояли, нужно оросить его основание кровью петуха (курицы), ягненка либо другого животного[1116]. Мыслительная основа этого обряда раскрывается в архаических поверьях, например, в мордовском: из крови жертвенной курицы (добавим: или иного животного) родится патрон нового жилища — юртава[1117]. Принесение строительной жертвы дублируется при переходе в новый дом. В этом случае на его пороге отрубают у курицы (петуха) голову, которую закапывают под передним углом, а саму птицу съедают за обедом (согласно другой версии, на употребление ее в пищу существовал строгий запрет)[1118]. В своем трансформированном виде данное обрядовое действо сводится к тому, что в новый дом на одну ночь пускают черных петуха и курицу, на другую — черных кота и кошку, после чего и сами с хлебом в руках перед восходом солнца входят в избу[1119]. Возможны разнообразные версии обряда заполучения духа для построенного жилища. Например: хозяин с зажженной свечой, хлебом-солью, иконой, петухом и кошкой три раза отворяет двери нового жилища, произнося заклинание: «Смерть так будет на кошку, а не на меня», — и бросает кошку в избу[1120]. Или: впускают в дом прежде кошку или кота (черных), а затем толкают в избу поставленную на пороге «квашню в деревянной кадке»[1121]. Кошка и квашня (хлеб) в данном обряде — эмблемы домового. Известна и иная версия. Прежде чем войти в новую избу, ставят в ней корыто и на ночь впускают туда кошку: «Внесут корыто, посадят в него кошку, а потом уж сами войдут»[1122]. Поскольку корыто адекватно похоронной колоде, данное действо осмысляется в свете изложенных верований как погребение кошки и — соответственно — как акт обретения постройкой души-духа. В процессе длительного бытования обряд вхождения в новый дом подвергся дальнейшему упрощению: прежде чем переступить через порог, хозяева пускают в избу впереди себя петуха и курицу или петуха и кошку. То или иное животное, оставшееся в новом жилище на ночлег, утром своим видом покажет, как будут здесь жить хозяева: бодро оно — к благополучию, в противном случае — к нелегкой жизни. В пришедшем на смену обряду обычае все чаще в качестве его атрибутов используются различные предметы. Под передний угол, порог, в фундамент будущего дома закладываются шерсть, зерно, монеты, доставшаяся от предков вещь, крестик и пр. Так или иначе они используются вместо того «материала», из которого создается дух дома, призванный обеспечить благополучие живущей здесь семьи. Лишь изредка домовые вселяются в новое жилище как бы сами по себе (во всяком случае, мотивировка их поселения в данном мифологическом рассказе отсутствует): «Только видела: два малюсеньких звереночка выбежали и в избу забежали новую… Ну это, видно, и есть суседко и суседиха»[1123]. Или же предполагается, что домовой обосновывается в жилище раньше, чем в него вселится семья. Этим отнюдь не исключается необходимость соблюдения определенного обряда при вступлении в новый дом: «В двенадцать часов ночи в дом заходить, надо разрешения у хозяев-домовых спросить: „Хозяин, хозяюшка и малые детушки, пустите всю семью мою в дом“. В каждом доме свой хозяин есть»[1124]. В том случае, когда вся семья покидает старый дом, переселяясь в новый, достаточно лишь пригласить с собой прежнего духа-«хозяина»(ритуал приглашения и переселения домового в связи с обрядами перехода в новый дом отчасти рассматривался А. К. Байбуриным[1125]). Причем выясняется, что домовой во многих мифологических рассказах все же больше привержен к семье, живущей в данной избе, чем к самой постройке: «„А почему вы хозяина-то не пригласили с собою? А это у вас он ходить, стонае к вам“. — „Бабушка, правда, мы слышим, у нас на дворе кто-то стонае“. — „Это хозяин. Он ходить. Он на вас обижается. Вы его позовите. И курочки будуть там жить“»[1126]. Подобный мифологический сюжет основывается на представлениях, связанных с обрядом перехода семьи из старого в новый дом, включающим и приглашение с собой прежнего домового. Начинаясь в старом жилье, этот обряд завершается в новопостроенной избе. Вселяющемуся в новое жилище домовому предстоит вписаться в природный, даже космический ритм, пережить состояние обновления. Наиболее благоприятным для его перехода считается период, когда на небе высоко стоят Стожары, т. е. созвездие Плеяд, получившее в русской мифологической традиции название Волосыни (упоминается уже Афанасием Никитиным — XV в.). «Для Волосынь может быть реконструирована функция связи с миром усопших», — утверждают В. В. Иванов и В. Н. Топоров[1127].
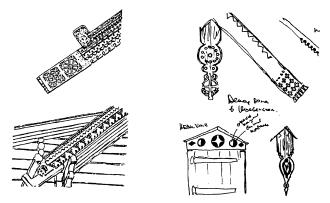
Рис. 47. Резные причелины («прибасенки») севернорусских традиционных домов и храмов Рис. 48. Декор дома в с. Ошевенском. Каргополье
Подобные представления о благоприятном для новоселья времени дублируются обычаем переходить в новую избу именно в полнолуние. В мифологических рассказах и поверьях отчетливо проявляется связь луны с потусторонним миром. От ее состояния зависит степень активизации различных мифических существ. Они инкарнируются при свете луны; любят «месячные ночи»; являются в лунном свете. И люди, обращаясь к домовому, встают «лицом к месяцу». Впрочем, в рассматриваемом обряде нередко фигурируют и солярные мотивы: переселяя домового в новое жилище, «посолонь обходили» (иногда трижды) вокруг избы[1128], его призывали, «обратившись к востоку»[1129]. Отсюда космологические мотивы и в декоре традиционного крестьянского жилища, и в росписи палат и храмов. Благоприятным для переселения считается первый день наступающего года: «Надо только сказать: „На Новый год пойду в новую квартиру“. И сам (домовой. — Н. К.) перейдет»[1130]. Этому не противоречит обычай переходить в новую избу 1 сентября: как известно, с начала XV в. и до 1700 г. именно названный месяц был первым в году (до этого таковым считался март, что также нашло свои реминисценции в мифологической прозе). Тогда же было принято гасить старый огонь в печи, а с зарей разводить новый, живой, добытый посредством трения сухого дерева и известный как царь (князь) — огонь. С наступлением нового года совершался обряд обновления домового или восстановления его жизненной силы, который мог совмещаться с обрядом перехода в новое жилище, но мог исполняться и сам по себе (в том случае, если семья никуда не переезжала). С укреплением же христианства переселение стремились приурочить к двунадесятым праздникам, особенно к Введению во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/ 4 декабря), которая, по определению протоиерея Фомы Хопко, сама стала живым святилищем и храмом Божественного Младенца, родившегося от нее, храмом Божиим[1131]. Актом перехода в новый дом, предпринятым именно в этот праздник, в народной традиции поддерживалось тождество осмысления хором и храма, а также в известном смысле постулировалась преемственность персонажей языческой и народно-христианской мифологий. Переселению, по поверьям, способствует не только благоприятное состояние космоса или наиболее удачный день, но и определенный период суток. На новое место полагалось переходить в полдень или полночь (это «порог» между основными частями суток либо самими сутками). В эти часы деятельность мифических существ достигает наивысшей активности, оказывается возможным их воплощение в зоо-, антропоморфном или «гибридном» облике и появление в «этом» мире. Подобные временные координаты выражены в мифологических рассказах и поверьях следующими словосочетаниями: перед полуночью, всегда ночью, обязательно ночью, как только пропоют первые петухи, в двенадцать часов ночи либо — что встречается гораздо реже — «в полдень по солнцу». При этом задействованы предметы, которые служат эмблемой языческого божества (а то и персонажа народно-христианской мифологии), осмысляемого в качестве покровителя крестьянской семьи. Приглашая домового в новое жилище, хозяева обращаются к переднему углу: зажигают свечу перед образами, крестятся, молятся Богу. И домовой, который обычно не боится ни креста, ни молитвы, в народных верованиях не противопоставляется Богу, а в какой-то мере предшествует, сопутствует и сливается с ним. Призывая духа-«хозяина» перейти в новую избу, жильцы апеллировали и к «заднему куту», к печке, а подчас и ко всем углам постройки. В обряде перехода актуализировались и верования, связанные с порогом. С этой же целью могли открывать люк подполья, голбца. Если же в представлениях крестьян домовой отождествлялся с дворовым и хлевником, внимание оказывалось сконцентрированным на соответствующих сакральных локусах. Таким образом, в момент перехода актуализируется та часть пространства, которая осмысляется в качестве локуса домового. В одних случаях предполагается, что после соответствующего приглашения он сам перейдет из старого жилища в новое. В других же домового переносят. Его эманацией в обряде перехода служит огонь из домашнего очага; «жар» (угли), который выгребают из печи, истопленной напоследок в старой избе, и кладут в чистый горшок, покрытый скатертью; зола, сажа, уголь, положенные в лапоть; кочерга, ухват, сковородник, сковорода, использование которых предпочтительнее в том случае, если новое жилье находится на значительном расстоянии от старого. Напомним, что эквивалентом печному в народных верованиях считается и лучинный или свечной огонь[1132]. Пригласить домового в новую избу можно, оказывается, и взяв с собой полено, веник, помело. Тот же знак-символ заключен и в перенесении «квашни с растворённым тестом», из которого на новом месте выпекается первая коврига, или же непочатого каравая хлеба с солью, взятого с собой из прежнего жилища. Кстати, из совокупности подобных представлений и ведет начало неустаревающий русский обычай встречать гостей с хлебом-солью, что служит знаком приобщения их к данному семейно-родовому культу, вступления под покровительство домашнего божества. Приглашая домового на новоселье, брали с собой на новое место и петуха, курицу или кошку, осмысляемых в качестве воплощений духа-«хозяина». Этот обычай в поздней традиции имел, пожалуй, наибольшее распространение, хотя и утратил свой первоначальный смысл. В том случае, если в призываемом мифическом существе видели прежде всего хлевника, переносили навоз из прежнего скотного двора. Символом приглашения духа-«хозяина», покровителя крестьянской семьи, в новое жилище в известном смысле служит даже икона, снятая с божницы в старой избе. С усилением христианства она вытеснила былое изображение языческого божества, древнего «кутного бога», «беса хороможителя», иначе говоря, того же домового[1133]. Однако ликам подобных языческих божеств удалось сохранить за собой место в переднем (красном) углу крестьянской избы: они затаились в орнаменте полотенец, поныне украшающих иконы, в редких случаях — в резном декоре божниц. В обряде приглашения домового задействованы и предметы, которые осмысляются как вместилища духа-«хозяина» при его переселении. К числу таковых относится, например, глиняный горшок, использовавшийся в древности как погребальная урна в обряде кремации и захоронения праха[1134]. Вместилищем домового служит и «поганое», обычно долбленое корыто, которое волокут из старой избы в новую. Такое корыто в мифологических рассказах и поверьях заменяет похоронную колоду, т. е. долбленый гроб-«домовину». И глиняный горшок, и долбленое деревянное корыто символизируют генетическую связь мифического «хозяина» с миром предков, с миром мертвых. При переселении домового подобное же назначение имели и лапти, осмысляемые в народных верованиях как материализованный след. Он эквивалентен тени или отражению: это эманация духа (души), о чем мы уже писали[1135]. В мифологических рассказах данный персонаж подчас сам и с определенной целью подбрасывает жильцам лапоть, который называют его санями: «Сядет вся семья за стол есть, а кто-то в чашку — бух! Лапоть. А кто — не видят. Это домовой перед переездом напоминал о себе, чтобы хозяева его с собой взять не забыли»[1136]. В народном этикете лаптю уготована соответствующая роль: «Вот они стали переезжать, и его надо было с собой взять. Тут они лапоть в печь бросили и кричат: „Домовой, выходи!“ Затем лапоть в полотенце обернули и на новую квартиру принесли»[1137]. Повседневные, казалось бы, предметы, которые придают быту русского крестьянина особый колорит, согласно мифологическому мировосприятию, раскрываются с неожиданной стороны, обнаруживая свою сакральную сущность, свою магическую силу. Они таят в себе некую духовную субстанцию. В условиях сакрального хронотопа названные предметы служат эманацией, материализацией, оболочкой эфирного пришельца, его атрибутом и, наконец, эмблемой, знаком-символом. Причем между предметами одушевленными и неодушевленными особой разницы нет. Так, по мнению архиепископа (и одновременно профессора хирургии) Луки Войно-Ясенецкого, «духовная энергия <…> есть источник жизни, и нет ничего мертвого. Движение в неорганической природе, как и живой, есть проявление жизни, хотя бы в минимальной, мало известной нам форме»[1138]. Собственно эти суждения являются по сути дальнейшим развитием древнейших анимистических представлений в свете христианского учения. По традиционному сценарию в качестве исполнителя обрядовых действий выступает лицо, опять-таки отмеченное знаком мифического хозяина. Имеется в виду старший член данной семейно-родовой общины: это «старшая в роде женщина», «старуха-хозяйка», «свекровь или старшая бабка»[1139]; «старший в роде»[1140], «старший в семействе»[1141]. «Старцы <…> соединяли в своих руках и власть правителей, и власть жрецов», — отмечает А. Н. Афанасьев[1142]. Тот, кто несет горшок или лапоть либо волочит корыто, идентифицируется с самим домовым, равно как и с возможным кандидатом на его роль. Напомним, по народным верованиям, душа первого умершего в новом доме или первого вошедшего в него становится духом жилища[1143]. Заметим, что культ домашнего божества, связанный с культом предков, привнес свою лепту в почитание старших в семейно-родовой общине, столь характерное для русской традиции, для русского менталитета.

Рис. 49. Традиционная каргопольская глиняная игрушка
И действия (перенесение), и субъекты, с которыми отождествляется домовой, и объекты, осмысляемые как его эманации, вместилища или атрибуты, символизируют переход самого божества. Однако мифологическое мышление оперирует тождествами. И магическим действиям, сакральным атрибутам и почитаемым исполнителям обряда, не говоря уже о сакральном хронотопе, соответствует вербальная магия, выраженная формулой приглашения домового из старого жилища в новое. Мотивировкой для ее бытования служит поверье: без надлежащего, соответствующего всем канонам приглашения домовой не переберется на новое место — в результате здесь не поселится «домашнее счастье», средоточием которого он является. Модель этой формулы (будь она вербальная или семантическая) довольно устойчива. Как правило, она содержит обращение, включающее номинации домового, сказуемое с динамическим значением (выражено глаголом повелительного наклонения единственного и множественного числа или формой вежливости) и различного рода обстоятельства, преимущественно места и цели действия: «Батюшка-кормилушка, иди со мной жить в новый дом»[1144]; «Дедушка, соседушка, пойди с нами жить»[1145]; «Хозяин, хозяин! От нас нятбивайся, пайдем с нами у новаю жилишшу»[1146]; «Соседушко, братанушко! Пойдем в новый дом»[1147]; «Хозяин, пожалуйте ко мне на новоселье»[1148]. Впрочем, языческая формула может дублироваться, а подчас и заменяться христианской. В таком случае, по словам рассказчика, читают «Отче наш…», а также «молитвы к Божьей Матери, Миколе, Прасковее Пятнице…»[1149]. Каждый из элементов формулы приглашения полисемантичен. В каждом из них сконцентрирована определенная совокупность языческих верований. Рассмотрим семантику этих элементов. В обращении к мифическому «хозяину» номинация «домовой» используется редко. На произнесение наименования рассматриваемого персонажа некогда налагалось табу[1150]: по определению С. А. Токарева, это одно из проявлений магии[1151]. Вместо слова «домовой» в формуле приглашения обычно используются определенные иносказания, своего рода метафорические замены. В приведенных примерах это «дедушка», «батюшка», «братанушка», «соседушка», «хозяин», «кормилушка» и др., о чем подробнее речь пойдет ниже. Так или иначе посредством магического обращения домовой, согласно народным верованиям, может быть вызван. Сказуемое в анализируемых формулах приглашения выражено глаголами одного семантического ряда. Вариативность их незначительна: иди, приходи, пойдем, милости просим, пожалуйте. Домового приглашают именно идти, а не ехать, что обусловлено определенными представлениями: «Если скажем: „Поедем“, то лошадь плохо будет идти. Надо говорить: „Пойдем“»[1152]. Соблюдение этого правила, как и многих других, носит строго выверенный традицией знаковый характер. Объяснение ему находим в быличках и бывальщинах. В них нередко развертывается сюжет, согласно которому к путнику, едущему на телеге или санях, в полночь усаживается некто невидимый, вследствие чего лошадь или олени не в силах тащить дальше воз либо упряжку. Возникает вопрос: как может эфирное, тонкое, парообразное или подобное тени существо оказаться столь тяжелым? Анализ верований народов мира, произведенный Э. Тэйлором, со всей очевидностью свидетельствует: по древним представлениям, дух (душа) может проявлять сверхъестественную силу и обладать необычайным весом[1153]. Как видим, подобные верования и в данном случае учитываются. Обстоятельства действия, имеющие место в формуле приглашения, обозначают прежде всего направление, в котором предлагают передвигаться домовому. Причем они усиливают ту или иную семантику его образа. Так, если интересующий нас персонаж выступает преимущественно в роли предка-родоначальника крестьянской семьи, иначе говоря, в качестве коллективной души, или средоточия душ, принадлежащих определенной семейно-родовой общине, то в анализируемой формуле преобладают словосочетания: иди со мной (с нами), пойдем со мной (с нами), пошли со мной (с нами) и т. д. Если же домовой осмысляется главным образом в качестве духа постройки, употребляются выражения типа: пойдем в новый дом, милости просим на новое жилье и т. д. Однако чаще всего в лице данного мифологического персонажа приглашается и дух семьи, и дух постройки: «милости просим <…> к нам на новое жилье!»[1154]; «иди со мной жить в новый дом»[1155]; «пойдем с нами у новаю жилишшу»[1156]; «пожалуйте ко мне на новоселье»[1157]. В том случае, если образ домового приобретает расширительное значение, сливаясь с образом дворового и хлевника, употребляются формулы, в которых используются соответствующие обстоятельства места: «пойдем в новый дом, на богатый двор»[1158]; «пойдем с нами жить на новую усадьбу»[1159]; «пойдем со мной на новый двор!»[1160]. Подобными магическими словами определяется тот локус, который призван занять на новом месте домовой. Цель же его приглашения (а значит, и передвижения) обусловлена желанием крестьянина перенести с собой из старого жилища в новое некое средоточие «домашнего счастья», прежнего благополучия: «Как жили в старом доме хорошо и благо, так будем жить и в новом»[1161]. Либо надеются заново обрести с помощью этого мифического существа богатство и долголетие. Его призывают «на житье-бытье, на богатество»[1162]; «жить, добро наживать»[1163]; «дом домить»[1164]. Причем приглашение «хозяина» в новое жилище — по мнению крестьян, гарант благополучия поселившейся там семьи «на долгие годы»[1165]. Но превыше всего (и этим также определяются особенности традиционного уклада) забота крестьянина о своем скоте: «хорони нашу скотину»[1166]; «ты люби мой скот и семейство»[1167]. Поскольку домовой, как уже говорилось, в русской традиции часто отождествляется с хлевником («скотовой-домовой, пойдем со мной»[1168]), его приглашают «скотинку водить»[1169]. Иногда, по народным верованиям, достаточно одной лишь вербальной магии, чтобы получить желаемый результат. Согласно мифологическим представлениям, между миром слов и миром вещей существует некая глубинная связь. Слово (речь) в архаических традициях предметно: оно передвигается, видит, слышит. Если магическое слово способно вызвать мифическое существо и даже обусловить возможность его предметного воплощения, то оно становится эманацией явившегося духа. Впрочем, в редких случаях вербальная магия может и отсутствовать, а точнее, оказаться утраченной, что, однако, не влияет на развитие сюжета быличек или бывальщин: «<…> поздно вечером видели, как суседиха, вся обвешанная картошкой, насобиранной на нитку до самого пола, тоже вслед за ними (жильцами дома. — Н. К.) переходила»[1170]. Второе действие обряда перехода разворачивается уже в новом доме. Если «дедушка» идет сюда «своим ходом», то хозяева в меру своих сил и разумения стараются стимулировать его скорое и благополучное вселение в новое жилище, действуя, однако, в рамках традиции. В ожидании приглашенного домового в некоторых деревнях ставят в печную трубу (предполагается, что именно здесь он и поселится) водку и закуску[1171]. Причем рюмку водки иногда наливают еще в старом доме, а затем переносят в новый[1172], чтобы у домового был дополнительный стимул перебраться на новоселье как можно скорее. Впрочем, угощение «дедушки» обычно бывает безалкогольным. В ожидании приглашенного домового перед полуночью выносят во двор первую ковригу хлеба, испеченную в новой избе, и, обратившись на восток, зовут «хозяина» на новоселье. Этот хлеб вместе с солью ставят на ночь на припечек или на стол: если они будут тронуты, значит, домовой явился[1173]. Или же хлеб-соль приносят со старого двора и кладут на верею (столб, на который навешивается створка ворот) нового[1174]. Заметим, что хлеб здесь, как и в других случаях, выступает в качестве субъектно-объектного персонажа, связанного с домовым. Если же «дедушку» переносят в новый дом, то в таком варианте обряда предусмотрен сценарий его встречи, где четко расписаны все роли. При появлении домового, эманацию которого несет старшая женщина семьи, его встречают у растворенных ворот с хлебом-солью хозяин и хозяйка. Старшая женщина, подойдя к воротам, стучится в верею и спрашивает: «Рады ли хозяева гостям?» Молодые хозяева с низкими поклонами отвечают: «Милости просим, дедушка, к нам на новое место!» После этого приглашения старшая женщина идет в избу. Впереди хозяин несет хлеб-соль, сзади провожает хозяйка[1175]. И в других случаях, напомним, первым в избу входит самый старый член семьи либо хозяин и хозяйка. При этом сюда вносят различные и вместе с тем дублирующиеся атрибуты, символизирующие домового: «В новый дом надо приходить не с пустыми руками: петуха вперед впустить, с деньгами, с поленом, хлебом-солью. Хлеб круглый, так его по полу катнуть надо»[1176]. В качестве таковых атрибутов в дом могут быть одновременно внесены икона, непочатый хлеб с горстью соли или квашня с растворенным тестом, петух, курица и кошка[1177]. Впрочем, эти же предметы могут использоваться и для «создания» духа-«хозяина» жилища, впервые построенного данной семьей. Так или иначе, приходя на новое место и принося сюда маркированные знаком домового предметы, его выпускали, вытряхивали и поселяли именно в том локусе, из которого мифический хозяин (а точнее, его воплощение) был взят в старой избе или на прежнем дворе. Если он был приглашен из печи, то и в новой избе ему уготовано соответствующее место; если же из подполья или голбца, то и в новопостроенном жилище он поселяется там же, и т. д. Вместе с тем определенное обрядовое действо символизирует установление власти домового над всем жилым пространством: входя в избу, хозяин обносит горшок с углями вдоль стен, ненадолго задерживаясь в каждом углу, и ставит его на «припечек»[1178], или старшая женщина семьи трясет скатертью, которой накрывала горшок с горячими углями, по всем углам, как бы выпуская домового, а затем высыпает принесенные угли в печурку[1179]. Внесение иконы и установление ее в божнице, а также молитва, обращенная к переднему углу, нисколько не препятствует вселению «суседушка-братанушка», или «дедушки», в открытый голбец. Наоборот, они осмысляются как эквивалентные действа. Из этого следует заключить, что с принятием христианства в языческом обряде перехода в новое жилище не произошло существенных изменений.

Рис. 50. Церковь Рождества Богородицы (1680 г.). Каргополь
Иногда символом переселения домового-хлевника служит принесенное со старого двора лукошко навоза. В этом случае господство духа-«хозяина» в новых владениях устанавливается таким образом: взяв в руки лукошко с навозом, трижды обходят вокруг дома[1180]. Посредством совмещения соответствующих координат того и иного сакрального пространства осуществлялась преемственная связь нового жилища с «родовым гнездом». И наконец, в качестве примера приведем один из вариантов полного, состоящего из обоих действий сценария перехода в новый дом, где вербальная или семантическая формула дублируется, так сказать, предметно-динамической и предметно-пространственной: «Приготовив зажженную свечу, хлеб-соль, петуха и курицу, хозяин открывает клеть под полом у печки и вызывает домового: „Суседушко-батанушко (от „батя“), пойдем в новый дом <…>“, — и затем семья идет в новый дом, причем хозяин несет петуха и курицу и нового бога — икону, а хозяйка — хлеб и соль. В новом доме открывается по приходе такая же клеть и домовой приглашается: „Приходи, суседушко-батанушко“»[1181]. Расшифровывая мифологический смысл, закодированный в этом сценарии, выясняем, что эманацией домового в данном случае послужили дублирующие друг друга зажженная свеча, хлеб-соль, курица, петух и даже в известном смысле икона. В новом доме его поселяют в такой же «клети под полом у печки», в какой он жил прежде. Вербальная магия используется при выходе из старого жилища и при поселении в новом. Элементы этого обряда могут варьироваться в рамках бытующей традиции. Если на новом месте домовому понравится, то у крестьянина все пойдет «по-хорошему» и в семье, и в хозяйстве[1182]. И все же, согласно мифологическим рассказам и поверьям, бывают случаи, когда домового забывают пригласить в новое жилище. Не получив приглашения, он остается в старой избе. Покинутый домовой жалобно плачет или ломится каждый вечер до рассвета к прежнему хозяину[1183]. Иногда, оставшись в старом доме с чужой семьей, он переводит у нее скот, людей щиплет по ночам до синяков, швыряет в них чем попало, разбрасывает по избе дрова, распахивает на морозе двери, совершает прочие проказы — одним словом, выживает из дома[1184]. В таком случае, по совету знахарей, прежние хозяева того дома, где остался неприглашенный домовой, идут в церковь, отстаивают там обедню, а затем берут свечу, хлеб-соль, открывают ворота и зовут к себе пострадавшего домового[1185]. И в данном случае церковное покаяние не только не исключает, но и предопределяет обращение к языческому божеству. Таким образом, приглашение домового с соблюдением всего церемониала — одно из важнейших правил обращения с духом-«хозяином». Этикетом, регламентирующим взаимоотношения крестьянской семьи с домовым, предусмотрен ипротивоположный случай, когда вошедший в дом мужик обнаруживает здесь не только своего, приглашенного домового, но и чужого, оставленного прежними хозяевами. Умудренные в этом деле «знающие» люди предостерегают от безоглядного вмешательства в драку таких домовых, потому что по ошибке можно принять сторону чужого «дедушки» и навлечь на себя гнев собственного[1186]. «Знающие» люди найдут способ, как усилить своего домового, чтобы тот сам смог одержать победу над чужим. По их мнению, нет более действенного средства для подкрепления сил своего «хозяина», чем щедрые «относы» — приношения, состоящие, к примеру, из яиц и сала[1187] (заметим, что яйцо занимает исключительное место в жертвоприношениях всем духам-«хозяевам»). Эта коллизия имеет место в мифологических рассказах и поверьях: «Я видела своего домового, кумыньки, надысь: жирный, прежирный, — так пугою и хлещит, а яе-то домовой худой, прехудой, чуть топаить; ина´, видна, яго ня кормить и относов ему никали ни кладет»[1188]. Заполучая домового теми или иными способами, хозяева в течение всей своей жизни поддерживают его благотворное существование. В старых публикациях мы находим разрозненные, чрезвычайно фрагментарные и подчас противоречивые сведения, согласно которым в честь этого божества ежегодно 28 января и 1 ноября по ст. ст., а может быть, и в какие-либо иные дни, устраивались праздники или же просто предпринимались всяческие меры предосторожности (2 января, 30 марта)[1189]. Дело в том, что в названные дни жильцы дома испытывали опасение, и не без оснований, за свое дальнейшее благополучие, за свое «домашнее счастье». Благодатное воздействие домового как бы иссякало в такой день — и его требовалось восстановить, обновить или, по крайней мере, устранить исходящую от него в данный момент угрозу. Это было по силам лишь «знающим» людям. Как зафиксировано в Тульской губернии, по их совету, домовому 28 января/10 февраля устраивали угощение: ставили на загнетке горшок каши, обкладывая его со всех сторон горячими углями, — считалось, что ровно в полночь «хозяин» съедал кашу. Тогда же в честь домового совершалось жертвоприношение в виде зарезанного в полночь петуха, кровью которого, выпущенной на голик, окроплялись все углы в избе и во дворе. Это действо, сопровождаемое заговором, должно было совершиться «до пения последних петухов». Оно было призвано обновить и усилить домового как доброжелательное покровительствующее существо. 1/14 ноября, как уже говорилось, повсеместно отмечались «курьи именины». В этот день одаривали друг друга курами. Такие куры содержались в почете, их кормили овсом, ячменем и никогда не убивали. Яйца от них считались целебными. Это обрядовое действо символизировало одаривание счастьем — «красным житьем». В Ярославской губернии в этот день крестьяне убивали кочета в овинах. Старший в доме выбирал «кочета» и сам отрубал ему голову топором. Кочетиные ноги бросали на избы: чтобы куры водились. Самого «кочета» варили и за обедом съедали всей семьей. Семья как бы приобщалась к телу бога, точнее, домашнего божества, обретая его магическую силу. Ведь в таком атрибуте обряда, как петух или курица, нетрудно обнаружить все ту же эманацию домового, о чем уже доводилось говорить[1190]. Важное место в этикете взаимоотношений крестьянина с домашним духом отводилось и угощениям «дедушки», которые осмыслялись как ослабленная форма жертвоприношения. Сохранились разрозненные сведения об угощениях домового в определенные моменты годичного цикла. Так, в некоторых местностях ему клали маленькие булочки и лепешки накануне крещенского сочельника[1191]. Вероятно, этот обычай соблюдался и в ночь перед Рождеством. Во всяком случае, он зафиксирован у норвежцев и шведов: накануне праздника домовому оставляли кашу, табак и одежду[1192]. Домового угощали и перед масленицей, предшествующей Великому посту и символизирующей опять-таки переходный период (проводы зимы — встреча весны). Накануне Великого поста ему выносили на заговенье остатки скоромной пищи — чаще кусок мяса или чашку молока. Причем рассказчики уверяли, что наутро от еды ничего не оставалось[1193]. Миска борща и каши с хлебом полагалась домовому и в Великий четверг[1194]. Тогда же ему преподносили одежду, которой тот прикрывал свою наготу и которая, быть может, служила средством его инкарнации[1195]. В Заонежье ежегодным и обязательным было приношение домовому на Пасху: «христосуясь» с ним, оставляли крашеное яйцо где-нибудь в сенях или в сарае. Если яйцо исчезало, считалось, что «христосование» состоялось, а жертва принята[1196]. Вспомним для сравнения, что в белорусской традиции домового угощают и на «дзяды». Считается, что предок-родоначальник в этот день не только начинает, но и едва ли не благословляет общий семейный ужин, присутствуя на нем, к примеру, в виде «кудластой собаки». При этом ему оказывается всяческий почет: дорога от места его пребывания до стола устилается белым полотном (символ дороги-судьбы), предлагаются самые лучшие яства[1197]. В севернорусской традиции символическое участие предков в общей семейной трапезе обеспечивается установлением на столе кукол-«панков», обычно хранящихся за иконами. Впрочем, сведения о приношениях домовому крайне противоречивы. Иногда сообщается, что угощение ему приготовляется лишь раз в году: испеченные по этому случаю лепешки кладут в печурку, в подполье, в конюшню и на скотные дворы[1198]. Другие же утверждают, что угощение происходит в праздники, причем в такие, когда, по поверьям, покойники выходят из «того» мира и поминаются в «этом». По мнению третьих, в «хороших семьях» после ужина всегда оставляется «харч» для домового[1199]. Причем благочестивые хозяева ставят за ужином особый прибор, предназначенный «дедушке», и откладывают для него небольшую долю от всякой еды. Считается, что ночью, когда все уснут, он приходит и ужинает[1200]. Угощение домового напоминает приношения покойникам, «святым родителям»: для них, в частности, ставят на божницах блины и горячий хлеб[1201]. Напомним, что именно здесь, в переднем углу, за иконами, после Христовой заутрени, можно, по рассказам и поверьям, увидеть домового. Многие из приведенных выше фактов угощения домового являются по сути дела рудиментами особого обряда, известного в народе под названием «относы» и соблюдаемого в поздней традиции лишь в связи с экстремальными семейными или хозяйственными обстоятельствами. Согласно крестьянскому этикету, приглашенные специально для исполнения этого обряда «знающие» люди берут кусок хлеба, посыпанный солью, т. е. хлеб-соль, и заворачивают его в чистую белую тряпку, прошитую красной ниткой (такая тряпка символизирует рубаху, жертвуемую домовому), выходят в сени или на перекресток и, положив на что-нибудь хлеб-соль, кладут земные поклоны на все четыре стороны, читают «Отче наш» наряду с заклинаниями, призывающими «хозяина» возвратиться в дом и сменить гнев на милость, потому что только его гневом и уходом могут объяснить свалившиеся на крестьянскую семью беды. Помимо «Отче наш», читают и другие молитвы: Божьей Матери, Николе-угоднику, Параскеве Пятнице, равно как и семи сестрицам или бел-горюч-камню (разумеется, ранее таким молитвам предшествовали соответствующие заговоры)[1202]. Можно предположить, что в отправлении культа домового некогда имели место и другие обряды. Так, известно, что в Великий четверг на дворе еще в XIX в. в честь домового втыкался можжевельник, почитаемый в качестве священного дерева, лилась под верею святая вода, курился ладан (такое окуривание, по поверьям, домовой очень любит), устраивался молебен, во время которого «дедушка» якобы сидел на припечке и спокойно смотрел на семейное торжество[1203]. Однако по мере снижения образа домового и вовлечения связанных с его культом языческих действ в орбиту христианской обрядности те атрибуты, которые прежде использовались как знаки почитания домашнего божества, стали осмысляться как средства изгнания «нечистого», что повлекло за собой обращение (по терминологии В. Я. Проппа) священного языческого обряда. То же самое произошло и с баенником, образ которого сохранил черты архаического предшественника домашних духов.

Рис. 51. Воспоминания о былом
Обряды, которые изначально исполнялись в честь домового-баенника, с развитием земледелия стали совершаться в честь овина и овинника, что свидетельствует о выделении последнего из синкретического домашнего духа. Вот почему «именины» овинника по своей сути не отличаются от «именин» домового. В некоторых местностях Костромской губернии в этот день в овин приносят пирог и петуха. Птице на пороге отрубают голову и ее кровью окропляют все углы[1204]. В Орловской губернии принято резать кур под овином 4/17 сентября[1205]. Вместе с тем в празднование «именин овина» привносятся и земледельческие элементы. В различных локальных традициях подобное празднование совпадает с днем окончания обмолота. В этот день хозяин с утра клал на садило хлеб-соль. По окончании же обмолота такого рода приношение обычно забирали домой и там праздновали «именины овина». Этот факт свидетельствует о том, что изначально подобный праздник был домашним и что праздник овина произошел позднее. Уходя домой, тем не менее низко кланялись овину, сопровождая поклоны заговором: «В море постоять — огня не видать, по колено стоять — воды не видать». По-видимому, этой магической формулой предотвращались и пожар, и затопление собранного зерна. Другой же заговорной формулой, произносимой по окончании обмолота, обеспечивался будущий урожай: «Уроди, Господи, на новый год больше и дольше». Обеспечение будущего урожая дублировалось и в весеннем обряде христосования, связанном с овином. Суть его в следующем: на Пасху хозяин забирался на садила и в момент, когда проходили по селу с иконами и священник восклицал: «Христос воскресе», хозяин с садила отвечал: «Воистину воскресе!»[1206] В образе овинника проявляются черты духа-«хозяина», заботящегося об урожае. В белорусской традиции обряд, посвященный овиннику (евнику), направлен на сохранение собранного урожая от пожара. При этом когда кладут снопы ржи для просушки («насаживают евню»), то бросают сноп в огонь, а по окончании молотьбы оставляют сноп в овине, чтобы его «хозяину» «была занятка»[1207]. На произнесение имени домового, как и любого другого языческого божества, накладывается своего рода табу, и особенно ближе к ночи. Крестьяне вообще боятся много говорить о домовом и никогда его не бранят[1208]. Упоминая же «хозяина», они используют различные синонимические замены, акцентирующие внимание на той или иной семантике его образа. Анализ последних позволяет выявить семантический спектр стоящего за ними образа. Чаще всего этот персонаж осмысляется как дедушка, батюшка, или батанушка (от «батя»), иначе говоря, как предок, родоначальник, глава крестьянской семьи, данной семейно-родовой общины. С жильцами избы он находится в кровнородственных отношениях, о чем свидетельствует также наименование братанушка, браток. Этому мифическому существу принадлежит главенствующее место в социальной иерархии, сложившейся в рамках данного микроколлектива, — отсюда наименование его хозяином и даже господином. Рассматриваемый персонаж предстает и как средоточие благоденствия живущей под его покровительством крестьянской семьи, что выражено в номинациях: кормилец, кормилушка, кормильчик. Однако это не только дух семьи, но и дух постройки. О связи его с крестьянской избой напоминают диалектные наименования: доможил, доможирушка. Впрочем, последние встречаются больше в мифологических рассказах, чем в анализируемых приговорах. Вместе с тем, некоторые наименования домового напоминают о локализации его в параллельном мире: сусед, соседка, соседушка, соседушка Потапушка. В мифологических рассказах, в отличие от приговоров, домовой может носить и название постень, обозначая призрачное, бестелесное, подобное тени существо, или же другая половина: в последнем случае он осмысляется как двойник человека. В силу полисемантизма этого образа возможны различные сочетания его наименований: хозяин-батюшка, батюшка-кормилушка, дедушка-соседушка, соседушка-братанушка и пр.[1209] Соответственно называется домовой в иных этнокультурных традициях: маны (души предков) от manes (тени) — у римлян; mara — у шведов; Hausmann, Poltergeist, Kobold — у немцев; Hobgoblin — у англичан; le lutin, furfadet — у французов; pajnajainen (гнетущий, давящий) — у финнов; Siemi dewas Koboli — у литовцев и т. д.[1210] При обращении к домовому как к языческому божеству в некоторых местностях стараются избегать какой бы то ни было атрибутики христианства, что является свидетельством позднего снижения данного архаического образа. С другой стороны, в том случае если языческое божество не подверглось негативному переосмыслению, то языческий обряд приглашения домового в новый дом не исключал использования иконы, молитвы, церковной службы: «„Его“ забыли перевезти. Каждый вечер до рассвета ломился к ним, а наутро все затихало. Отправились женщины к набожному старику, а он им и посоветовал: „Пойдите в церковь, отстойте обедню, а затем возьмите свечу, хлеб, соль, откройте ворота и зовите к себе „хозяина““. Так они и сделали»[1211]. Как видим, в данном случае языческие и христианские элементы сочетаются в системе одного обряда. В условиях двоеверия сохранялись представления о сакральной силе домового. Впрочем, это не исключает бытования рассказов о том, как с помощью креста, молитвы или молебна изгоняется данное мифическое существо. Домашнему божеству, как впоследствии и христианским святым, принято было (и особенно на закате солнца) кланяться и «прощаться»[1212], т. е. просить прощения за явные и предполагаемые прегрешения, сказавшиеся на благополучии крестьянской семьи. За домовым же, осмысляемым в качестве предка-родоначальника, старшего в семейно-родовой общине, надлежало ухаживать, оказывая ему всевозможные знаки уважения. При входе в жилище, в том числе и в лесную промысловую избушку, полагалось по этикету «проситься» у ее «хозяина» на ночлег. Лишь при этом условии вошедший сюда оказывался под покровительством домашних духов и охранялся законом гостеприимства. В противном же случае вошедший проводил всю ночь без сна, пребывая в мистическом страхе и нередко обращаясь в паническое бегство. Домовой и леший в таких рассказах взаимозаменимы, а подчас и не дифференцированы друг от друга. Нельзя укладываться на месте, где любит спать домовой. Так, например, живущий под голбцом «хозяин» не прочь на нем и полежать. Пренебрегшего же этим советом «он» защиплет ночью[1213]. Согласно тому же этикету, запрещается располагаться и там, где невидимо пролегает дорога «хозяина»: «Ты зачем занял мое место, а? — закричал страшным голосом домовой (это он сам и был). — Смотри, брат (так-таки братом и назвал), если я тебя застану здесь в другой раз — не сдобровать тебе!»[1214]

Рис. 52. Улочка в с. Шелтозеро. Южное Прионежье
Необходимо соблюдать физическую и нравственную чистоту: регулярно, и прежде всего на ночь, мести полы; держать в надлежащем порядке чердак; еженедельно обмазывать заново печь и пр., т. е. держать в чистоте пространство, где локализуется домовой. В избе (во дворе) нельзя браниться, сквернословить, ссориться, ибо домовой (дворовой) этого не любит и может навсегда покинуть жилище. Тогда вместе с ним уйдет и «домашнее счастье»: «<…> вся беда ваша оттого, <…> что во время стройки больно ругались, ну „он“-то и ушел от вас, „он“ ругань не любит»[1215]. Это, однако, не исключает приписываемое подчас домовому употребление «выражений чисто народных»[1216], «крепких». В жилище нельзя свистеть, потому что свистом можно напугать и «высвистать» из избы домового — хранителя семейного благополучия[1217]. Вместе с тем в жилище нельзя курить, т. к. домовой, согласно изначальным представлениям, не выносит не только курения, но даже табачного запаха. Обычно «хозяин» не одобряет и пьянства: выпившему он может задать встрепку и натыкать в его волосы «черт знает какого бурьяну»[1218]. Впрочем, сниженный, дискредитированный домовой иногда изображается в мифологических рассказах табачником и пьяницей (табак и водка в таких случаях входят даже в состав «относов»). Подобно главе большой патриархальной семьи, мифический предок требует от домочадцев прилежания в ведении крестьянского хозяйства. Это также одно из правил этикета, определяющих нормы взаимоотношений данного социума со своим мифическим покровителем. В хозяйстве нужно подбирать все сообразно личным вкусам домового. Для благотворного воздействия данного покровителя на семейную и хозяйственную жизнь крестьянина с ним на определенных условиях заключают договор, о чем речь шла выше. Факт общения и договора с домовым следует хранить в строгой тайне. А в случае ссоры постараться восстановить с ним добрые отношения. Однако нельзя проявлять к духу-«хозяину» излишнего любопытства и настойчивости в стремлении его увидеть — «он» этого не любит. Таким образом, домовой в своей основе дух добрый, семейный. И недоброжелательным по отношению к человеку он оказывается лишь при нарушениях этикета, регламентирующего правила общения с ним как медиатором между мирами. Суров он бывает и в роли исполнителя предначертанной человеку судьбы. Вредоносным этот персонаж осмысляется в том случае, когда из духа-покровителя он трансформируется в нечистую силу. Аналогичны по своему характеру и овинник, гуменник, ригачник, равно как и дворовой, дифференцировавшиеся от домового по мере развития жилища (формирования крестьянского подворья) и являющиеся его разновидностями. Позднее, в силу ослабления языческих верований, эти персонажи подверглись вторичной синкретизации, что повлекло за собой и дополнительный полисемантизм обрядов. Быть может, в этой соотнесенности персонификаций, объединенных общей идеей одухотворенности всего, что традиционно составляет быт крестьянской семейно-родовой общины, и заключены те основы, которые в какой-то мере определяют особенности мировосприятия всего этноса, его менталитет.

Глава III Леший: тотемические истоки и полисемантизм образа
То тяжкий филина полет, То вранов раздается рокот; То слышится русалки хохот; То вдруг из-за седого пня Выходит леший козлоногий.В. А. Жуковский
Лес в крестьянском быту и верованиях

Появление лесных мифических существ в быличках, бывальщинах, поверьях изображается на сугубо бытовом фоне, в значительной степени определяемом ритмами крестьянского календаря. С лесом была связана и от него зависела вся жизнь охотника, рыбака, земледельца. Не случайно одно из племен, известных нам по «Повести временных лет» и влившихся затем в состав русской народности, называлось древлянами. Взаимоотношения человека с конкретным ареалом леса, как и с его духом-«хозяином», начинались с отторжения от природной стихии и освоения определенной территории: «Далеко от всякого жилья, в лесу, была у одного мужика земля, на ней усадьба поставлена, и жил он совсем один»[1219]. Когда же из починка вырастала деревня, а деревня превращалась в село, лес хоть и отступал, но все-таки соседствовал с освоенным человеком культурным пространством. Он оставался природной стихией, хаосом, где единственным организующим началом был его дух-«хозяин» и другие «отпочковавшиеся» от него божества. В бытовых реалиях, приближающих мифологему к обыденному повествованию, отражен труд крестьянина, выбирающего в лесу место для поселения, заготавливающего бревна для строительства жилья либо запасающего дрова для отопления избы, впоследствии — труд на лесоразработках, на сплаве или на вывозке леса: «Мужик был работящий по казенным подрядам, вывозил из леса к реке мачтовые деревья; попеньщины брал хорошие, работа посильная, не постылая, денежки горячие: что дерево представишь, то подставляй кошель — и отсчитывают…»[1220]. Или: «Мы были девчонками на сплаву»[1221]. К лесным промыслам издавна относились и гонка дегтя, смолы, выжигание древесного угля и пр. С лесом связана и целая отрасль домашних деревообрабатывающих промыслов. К ним относятся бондарный, тележный, санный, судостроительный, а также выделка традиционной деревянной посуды и т. п. Испокон веков лес для крестьянина — это и охотничьи угодья. У каждого охотника были свои места и «ухожаи», свой «путик», ведомые ему «по старине», т. е. участок, где он занимался промыслом без ущерба для других: «Вот однажды он справился на охоту идти в лес на неделю, наклали кошель берестяной хлеба и взял двух собак. Верст десять от деревни лесом он шел и дорогой набил дичи и белок»[1222]. Другой распространенный способ охоты — посредством всевозможных силков, слопцов, капканов, ловушек на зверьков и птиц: «Тут у меня силья стояло, куроптей ловил, дак. <…> Четыре куроптя в силках вынул…»[1223]. Здесь обозначился путь, проторенный зверьком или птицей, оставившими на земле свои следы. И здесь же пролегала тропа охотника, по которой он прошел, стараясь не обнаружить никаких признаков своего присутствия. Одновременно лес с небольшими озерками и речками был и местом рыбного промысла: «Век свой по лесам ходил, за рыбой да за птицей, птицу ловил, да зверьев ловил, да…»[1224]. Неподалеку от воды строились и лесные избушки, которые служили пристанищем не только для рыбаков или охотников, но и для работающих на пожне или нивке. Лес привлекал человека и своими грибными, ягодными угодьями, на которые отправлялись в основном женщины и дети: «Было с сестрой мы ходили за грибами. Идем за грибами уже вечером»[1225]; «На следующий день мы пошли в это же место за ягодами. За ягодами мы втроем пошли…»[1226]. В лесу совершался и весь цикл земледельческих работ. Разумеется, там, где сохранялось огневое подсечное земледелие. Но даже тогда, когда поле «вышло» далеко за пределы леса, оно, по народным верованиям, продолжало находиться во власти лешего, пока не получило собственного духа-полевика: оказавшись недолговечным, последний вскоре растворился в мифологической традиции, слившись с лешим. Об отождествлении обоих персонажей на Русском Севере писал еще П. С. Ефименко: «Тот же дьявол называется еще лесным, лесовиком, лешаком и полевиком (курсив мой. — Н. К.)»[1227]. Цикл земледельческих работ в лесу начинался с огневой «пожоги»: «подсеки-то сикли»[1228]. На месте «пожоги» разрабатывалась нивка для выращивания зерновых. Изображение пахоты на ней встречается в мифологической прозе довольно часто: «Пахала паленину за шесть километров ночью в одно время. Приехала, говорит, пахать. Пашу все — нива така долга, узенька. Пашу, пашу, затемнело уж, и ночь уж стала, с середки ночи. <…> приехала на край, повернулась да опять и поехала»[1229]. Или: «там дедко пахал ихный, старый. Старый лес, все пахали раньше, дак. „Ой, — говорит, — придьте, там ягод много, я вам ягоды покажу“»[1230]. Этот цикл заканчивался осенью, когда в лесу, на нивках, шла уборочная страда: сюда, «на паленину», приходило жать много народу, но, случалось, жали и в одиночку. А летом, и опять-таки в лесу или близ него, была сенокосная пора: «Сено косили мужики на отхожем лугу вблизи большого леса, жили тут табором дня три каждый у своей телеги»[1231]. В мифологических рассказах сенокос (впрочем, как и пахота или уборка урожая) описывается со всеми бытовыми деталями: кто работал и где, когда косили последнюю упряжку и кому была дана попользоваться «грабля», и т. п. С весны, начиная с Егория или Николы, и до поздней осени длился пастбищный период. И тоже в лесу. Скот отдавали на попечение пастуха, но случалось, что он пасся и сам по себе: «А у нас там за пять километров — Ручей назывался — было пастбище, и все там — и пахали, косили, все там»[1232]. Или: «Здесь кони в лисях ходили, до того пускали»[1233]. Из мифологических рассказов подчас доносятся житейские сетования крестьянина, что скотину держать тяжело, поскольку кругом лес, и в нем «животина» то заблудится, то ее зверь задерет. В лес отправлялись в разное время года и по другим крестьянским нуждам: то вывезти строительный лес, то материал для промыслов, то дрова, то собранный урожай, то сено: «Отец поехал за сеном, километров пять надо ехать за сеном, поехали за сеном всей деревней, чтобы дорогу вместе топтать»[1234]. С этой же стихией встречался человек, отправляясь в дорогу: «Ехал (или шел. — Н. К.) мужик лесом»[1235]. Эта фраза в быличках и бывальщинах довольно устойчива. И, наконец, в лесу совершались многие языческие обряды. Или же отсюда брали магические атрибуты, чтобы исполнить определенные действа или обряды у себя дома, в избе, во дворе, в деревне. Причем персонажем, к которому апеллировали участники ритуалов, к которому они обращались за покровительством, часто оказывался дух-«хозяин» лесных угодий, именуемый в народной традиции лес, лес праведный, лес честной, лесной, лесной дедушка, лесной дядя, лесной житель, лесной хозяин, лесовик, но чаще всего леший[1236].
«Не серым волком, не елью жаровою…»
В дошедших до нас мифологических рассказах и поверьях леший нередко изображается в виде дерева, куста, пня и даже самого леса. Правда, эти представления трансформированы, переосмыслены, подчас закодированы в поэтических тропах. Снимая позднейшие наслоения, обнаруживаем, что леший довольно часто уподобляется хвойным деревьям: его голова покрыта длинными кудрями, так что напоминает верхушку сосны[1237]. Он с сосну ростом. После встречи с лешим женщина обнаруживает в своем коробе вместо ягод сосновые шишки. Леший может быть и подобным елочке: «Сам весь еловый, и руки и голова»[1238]. В таком виде он бежит вслед за проезжим. К ветвям же ели или сосны привешены и люльки, в которых лежат голенькими дети лесовых. Дух-«хозяин» этой стихии может иметь также облик березы: ударившего топором по ней так швырнуло, что дровосек (свекор рассказчицы) вскоре умер. В другом случае оттого что пришедший в лес сказал неправду, шум пошел по березам. А у крестьянина, кладущего под березу, которая на него «глянула», гостинец в виде яйца, «все будет хорошо»[1239]. Иногда такая береза имеет в своем облике некоторые человеческие признаки: «Он (дедушко Михайло. — Н. К.) вышел, выдернул оленя на дорогу да взглянул вперед-то, а там куст березовый и в кусту женская голова, и волосы долгие по ветру развеваются. Ну, он и хлопнулся в обморок на сани»[1240]. В других этнических или локальных традициях в этом персонаже заметны признаки почитаемых там деревьев: руки и ноги его «толсты и крепки, как стволы дубов»[1241]. Иногда леший одет в армяк, словно обросший мхом, темного, будто дубового, цвета[1242]. Даже мальчик, возвратившийся от лешего, оказывается покрытым таким армяком (иные версии: толстой, как кора, кожей[1243]; в одежде из ткани, напоминающей бересту; с лицом, поросшим мхом[1244]). Леший, вставший в этом армяке под корявый дуб, невидим для людей: он как бы сливается с деревом. Повествуя об этой способности лешего, рассказчик сообщает: «Там шляповатка (лесина такая без сучьев, только с вершинкой), до этой шляповатки добежал — и не стало его»[1245]. В карельской традиции возможен и иной вариант: «Стоит он, примерно, подле высокой ели, и кажется тебе, что подле ели стоит еще другая ель, а между тем на самом-то деле — это и есть леший»[1246]. В подобных проявлениях лешего есть определенная закономерность: и сосна, и ель, и береза, и дуб относятся к почитаемым в той или иной местности деревьям. Осмысляясь же в качестве сниженного демонологического персонажа, леший ассоциируется с осиной: «Видит, сидит на осиновом пне (курсив мой. — Н. К.) женщина (лешачиха. — Н. К.), волосы длинные, да и говорит: „Чего ты ходишь?“ — „Ищу коров“. — „Да вона твои коровы“»[1247]. Или же пастух, вызывая лешего, «садится на осиновый пень»[1248]. И даже дорога, по которой завлекает леший едущего на телеге человека, оказывается устланной поперек «осиньями»[1249].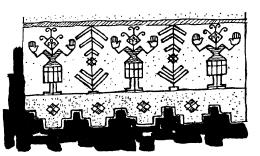
Рис. 53. Подзор. Традиционная севернорусская вышивка
Повествуя о внешнем облике данного мифологического персонажа, рассказчики не всегда конкретизируют породу дерева, персонифицирующего этот дух. Иногда леший изображается ростом с большое дерево, толщины такой, «что девки вокруг его хоть хороводы води»[1250], а лесовиха — стоящей с краю полянки старухой, опершейся на палочку и качающейся, словно бы в дремоте[1251]. Подчас эти персонажи, имеющие как будто уже человеческий облик, могут вернуться к изначальному своему состоянию и обратиться в пень: «вокруг стога бегает лешачиха, а за ней-то мужики с крестом. А как крест-то накинули, думали — баба, а она — пень» (курсив мой. — Н. К.)[1252]. Вообще, пень в качестве эмблемы лешего встречается в мифологических рассказах довольно часто. И не только в русской традиции. Так, в карельских и финских бывальщинах леший выглядит спереди, как человек, а сзади — как еловый пень, покрытый бородатым лишайником[1253]. Названный дух-«хозяин» бывает похожим и на куст, густо покрытый ветвями. Случается, что былую древесную форму духов леса символизируют лишь их атрибуты: жены леших — на вид обыкновенные женщины с распущенными волосами, в которые, однако, вплетены зеленые ветви. А леший, имеющий уже человеческий облик, изображается с дубиной (батогом) в руках[1254]. За ним сохраняются такие характерные признаки, как зеленая борода и зеленые глаза[1255]. Так или иначе это фитоантропоморфные персонажи с перевесом тех или иных признаков в каждой конкретной реализации образа. И все же в их истоках обнаруживается полностью фитоморфный архетип. В этом образе персонифицируется и сам лес. Вот почему в больших лесах дух-«хозяин» огромен, а в малых — пониже ростом. Уже М. Д. Чулков писал: «Когда ходят они (лешие. — Н. К.) между травою, то становятся с ней равны, а когда бегают по лесам, сравниваются с высотою оных»[1256]. Вместе с тем данный персонаж то возвышается над лесом, то уменьшается по сравнению с ним, то сливается с деревьями, то выделяется из них: «Лес зашумел. Идет лес, вершинами нагибается до земли. Пришел лесовик и стал выше лесу. — „Стань меньше“. Ен стал, как мужик. <…> Лесовик и поднялся лесом, и засвистал, и пошел. Зашумел лес — как и спервоначалу»[1257]. По рассказам, лес может даже передвинуться на другое место, например, «выше в гору»: его переводит туда сам дух-«хозяин»[1258]. Согласно белорусским бывальщинам, он высовывает из своей чащобы покрытую мхом громадную руку и удерживает коня под уздцы у проезжего человека[1259]. Даже в своих обращениях к лешему «знающие» люди в сущности призывают на помощь «лес праведный». Растительная ипостась этого персонажа раскрывается в поверье: с 4 октября (по ст. ст.) он перестает бродить по лесу, проваливаясь на Ерофея-мученика сквозь землю[1260]: «Бух леший о землю: земля-то расступилась, туда и леший попал»[1261]. И лишь когда земля оттает от снега, он возрождается к новой жизни: «Небось, весною опять выскочит из земли, как ни в чем не бывало. Вишь, их такая порода»[1262]. Соотнесенность лешего с растительностью проявляется и в изображении его в виде сенной кучи, имеющей одновременно признаки деда в армяке[1263]. Ассоциацию с лесом вызывает и динамический портрет рассматриваемого персонажа. Леший «и хлещет по ногам, и вицей бьет вот сзади»[1264]. Или: «Как прутья зашумели, да меня ими и захлестало»[1265]. Его дополняет звуковой портрет. Леший идет — шум раздается по лесу, деревья гнутся, лес «аж гудит», трещит, гремит. Он ухнет — все грохочет, заплещет в ладоши — треск по лесу. Иногда в этом персонаже обнаруживаются некоторые признаки бога грозы Перуна: «Леший как ухнет, покатил к лесу, еще больше грохочет и пропал»[1266]; «рассердился, пошел, три столба телефонных повалил, как в бурю»[1267]. Поет он с такой силой, «как шумит лес в бурю»[1268]. Хохот лешего напоминает раскаты грома: «да как захохочет. Только по лесу раздалось, покатилось. Потом повторилось и пошло опять той же дорогой. Пошло и пошло и ушло»[1269]. К тому же леший, повторяя сказанные ему слова, уподобляется эху: «Она его спросит: „Куда пошел, Демид Алексеевич?“ Он и застучит батогом: „Куда Демид пошел? Куда Алексеевич пошел?“»[1270]. И потому эхо считается в народе откликом лешего. Подчас «хозяин» напрямую изображается в качестве повелителя стихий: «Потом он достал рукавички и замахал ими так, что даже лес гнулся»[1271]. Бог грозы, уже исчезнувший из русской мифологической традиции, дает неожиданные отголоски в образе «хозяина» леса, равно как и в преданиях о великанах[1272]. Вместе с тем леший, естественно, изображается и в зооморфном виде. Причем его эманациями в дошедшей до нас традиции могут быть как дикие, так и домашние животные. Зооморфные черты лешего в значительной мере уже стерты, но могут быть реконструированы по совокупности его атрибутов. Например, леший одет в медвежьи шкуры; он рычит, как медведь; в его стаде, помимо других зверей, есть и медведи. Оттого что медведь вытащил сома на берег, загрыз его и сам помер, раздружились леший с водяным[1273], как бы стоящие за этими зооморфными фигурами. Появление «хозяина» в виде медведя не удивительно: ведь в русской традиции он относится к числу наиболее почитаемых животных, и это почитание восходит к культу тотемных предков.

Рис. 54. Традиционная каргопольская глиняная игрушка
Не менее характерно и изображение лешего в виде волка. Он показывается серым волком; одет в волчьи шкуры; волком воет; гонит стадо, полностью или частично состоящее из волков. Трансформация этого образа происходила в определенном направлении. В поздних мифологических рассказах леший — «сивенький старичок, с предлинной бородой, пасущий волков»[1274]. Это его любимые звери, и «старичок» — хозяин преимущественно над ними. В иных вариантах данного сюжета в стаде волков, которых пасет старик, есть белый, как снег, волк. И, наконец, в самых архаических рассказах стадом предводительствует белый волк, в облике которого появляется сам леший. Такой персонаж восходит к своему архетипу — к образу предка-родоначальника, покровительствующего той группе животных, к которой он сам относится, и людям той родовой общины, у которых почитается в качестве тотема. Со временем его может заменить христианский святой: «Костер разложен, а кругом волки сидят и с ними сам Егорий Храбрый»[1275]. В различных локальных традициях фигурируют те или иные животные, ставшие эманацией лешего либо его атрибутами. В числе их, например, стада зайцев, крыс, мышей, иногда и белок, которых леший, проиграв в карты, перегоняет с места на место[1276]. Другой вариант: «хозяин» выступает в роли пастуха этих животных. Причем он щелкает кнутом с такой силой, что у случайного свидетеля темнеет в глазах. В свите лешего и пушные звери: «костер горит, тута леший лежит. Коло него и лисиц, и куниц да костерок дров»[1277]. Впрочем, стадо лешего может состоять из всякого «зверья лесного»: волков, медведей, лис, лосей, зайцев[1278]. Иногда леший выглядит как лягушка: «Вдруг из лесу к нашей теплине идет голая образина вроде лягушки, а ростом с человека. Подходит к теплине греться и ляпает себя по брюху лапами, брюхо-то все желтое, а пупок зеленый. <…> а „он“ стоит да хохочет у костра»[1279]. Известны и орнитоморфные проявления лешего: он сорокой «цокочет»; показывается черным вороном; глаза у этого персонажа горят, как у совы. Сорока и ворона — эквиваленты лешего: «Ен натащит коды хлеба; когда сорока, когда ворона (курсив мой. — Н. К.) тащат»[1280]. Под воздействием представлений, связанных с домашними духами и обусловленных их общими истоками, леший может принимать и облик домашних животных, причем наиболее часто собаки. Леший лежит, свернувшись в виде собаки величиной с теленка; лает собакой; идет по лесу с одной или двумя собаками; вначале видят «черную собачку», а затем кого-то, который «смотрит-смотрит, да как захохочет»[1281]. Иногда о былом собачьем облике напоминают лишь «закрюченные когти» на руках и ногах, похожие на собачьи. В мифологических рассказах леший появляется и в виде кошки, «мохнатой, черненькой, маленькой, курцявой»[1282]. Он лежит, свернувшись «котейком»; кричит по-кошачьи. Нередко леший принимает и облик лошади: «А это кака же кобыла? Это он и блазнился»[1283]. Дух-«хозяин» появляется как призрачное, перевоплощающееся, меняющее свой облик видение в образе то коня, то человека: «Мост перешел, смотрит: стоит конь. То конь как конь, то вроде как человек. Дошел он до того места — ни коня, ни человека нет»[1284]. Реинкарнируется и в «гибридное» существо: «Стоит, грит, дедко, не просто дедко: вверху-то дедко, а внизу конь-то»[1285]. Это своего рода китоврас, или полкан. Присутствие коня-лешего обнаруживается в жеребячьем ржании, которое может предваряться птичьим пением: он «наперво цокотал, а потом заржало»[1286]. Тем самым в данном случае леший — птице-лошадь. О былом лошадином облике уже антропоморфного лешего напоминает и его появление с «уздами» (или кнутом) — его магическими атрибутами: «Мы шли по дороге, а „он“ в лес шел. У „него“ было много уздов. У нас Маруська Карпина была бойка. Она и говорит: „Дяденька, что, ищешь коней?“ А он во весь-то лес: „Ха-хо-ха-ха! Дяденька, ищешь коней?“»[1287]. По своему виду леший подчас напоминает козла: он весь покрыт черной блестящей шерстью, которая кудрявится на нем, с небольшими загнутыми «витком» рожками, с копытами, но со взглядом, как у доброй собаки[1288]. Встречаются и представления о лешем как полукозле-получеловеке, мохнатом, с длинными «волосами» на голове и с такой же бородой[1289]. Со временем, по мере дискредитации языческого божества леса, рога и копыта стали неотъемлемыми признаками черта. Некоторые зооморфные формы лешего восстанавливаются из присловья, произносимого при его появлении: «овечья морда, овечья шерсть»[1290]. В редких случаях данный мифологический персонаж имеет вид ягненка, теленка или козленка: «А за ней не рыженький козленочек, а все красненький теленочек ходил (в лесу. — Н. К.)»[1291]. Рудименты животного с раздвоенными бычьими копытами обнаруживаются в лешем, закинувшем ногу на ногу, хотя в остальном он ничем не отличается от некоего соседа Ксенофонта[1292]. Встречается упоминание о лешем, принявшем облик поросенка. Единичны свидетельства, что эманацией данного духа-«хозяина» может быть петух (красный) или курица[1293]. Итак, в качестве зооморфного персонажа леший изображается довольно редко. Чаще это зооантропоморфное существо, причем с перевесом собственно человеческих признаков. Об изначальном его облике напоминает лишь волосатость, шерстистость, мохнатость, которая в поздней традиции вытесняется одеждой из звериной шкуры, да разве еще хвост.

Рис. 55. Традиционные каргопольские глиняные игрушки
И все же в дошедшей до нас традиции преобладает антропоморфный образ лешего. По сравнению с обычнымчеловеком данный мифологический персонаж нередко имеет некоторые гиперболические признаки: он высокий, долгий, «длиннушший», большущий-пребольшущий, огромного роста, больше сажени, необъятных размеров и т. д. Оставленный им след вдвое и более превосходит обычный человеческий. «Хозяин» леса свободно переступает через реку: «Вот в одну прекрасную ночь ехал с лучом и встретил лешего: стоит одной ногой на берегу, второй — на другом»[1294]. О величине шага лешего можно судить по присловью, которое он приговаривает, «шатаясь» по окрестностям: «Из Анфаловской рощи шасть на Маленькую дорожку (урочище), а оттуда на Дмитриево болото»[1295]. Или: «Ой, — говорит, — через Онего ступил-ша´гнул, дак погузёнок лопнул!»[1296]. Как и другие духи, этот персонаж может быть необыкновенно тяжелым: лошадка едва тащит телегу или сани либо вовсе останавливается, когда на них садится леший, и никакие усилия кучера не в состоянии сдвинуть ее с места[1297]. Рука лешего также сверхъестественно тяжела: «Руку мне положил на плечо, я сразу бух! Настолько тяжелая рука, что сразу на сыру землю сел, а вода была, я так на воду и сел»[1298]. Этот персонаж обладает необыкновенной силой: один поднимает наверх сразу несколько толстых кряжей[1299]. Нам уже доводилось говорить, что «хозяину» леса присущ набор признаков (зооантропоморфных и гиперболических), которым определяется и образ великана, чье формирование в известной степени обусловлено представлениями о горах, скалах, камнях. Такое сходство, на наш взгляд, отнюдь не случайно: оно объясняется преемственной связью данных персонажей («хозяина» леса и великана) с одним и тем же предшественником (тотемным предком), а общность генетических связей в какой-то мере — тождеством семантики образов леса и горы в мифологии[1300]. Вследствие этого произошла частичная гиперболизация зооморфного в истоках персонажа — «хозяина» леса[1301]. Наряду с этим образом в мифологической традиции сложился и другой: леший по своему облику ничем не отличается от обычных людей и бывает настолько похож на родственника, соседа, знакомого, что видевший его в лесу человек убеждается в своей ошибке лишь по возвращении домой, где выясняется, что встреченный им вообще в этот день никуда не ходил или же был в совершенно ином месте. Подобный сюжет один из самых распространенных: «Мы все увидели, что это Василий Данилович Савин наш. И мы домой обратно, что надо убедиться, что он где… У него уехано было на рыбалку, был в озере»[1302]. Лешие могут появиться и в виде «народа»: «Во время Покрова, называется лешевский сенокос, иногда день хороший. Дак тоже. Много косцов шло. А шли мы за ягодами. <…> им бабы и говорят, постарше-то нас: „Ой, да и косыньки-то каки хороши!“ А эти тоже: „Хо-хо-хо! Ой, да и косыньки… Ой, да и косыньки…“ И так в лес пошли и все кричали и кричали. А это лесовики, наверно, были. А показалися они народом»[1303]. Впрочем, за лешего часто принимали и просто прохожего[1304]. Вместе с тем при внимательном рассмотрении в облике лешего обнаруживаются и некоторые необычные признаки. Он не показывает своего лица: «стоит рожу не кажыт <…>, личо-то все худо кажет»[1305], «лицо не видать»[1306]. (Точно так же гадающая девушка не может рассмотреть появившееся в зеркале или в стакане с водой лицо суженого.) Иногда дается обытовленное объяснение этого обстоятельства: «Он (леший в облике мужика. — Н. К.) не близко стоял от меня»[1307]. Тем не менее известно, что бровей и ресниц у него нет или же их не видно. Этот признак довольно устойчивый и сохраняется в разных локальных традициях: «он (леший. — Н. К.) всегда без бровей»[1308]; «он руками лицо вытер, отец и увидел, что бровей у него нет»[1309]; «бровей и ресниц у него не видно»[1310]. То же самое утверждают и относительно ноздрей[1311]. Глаза у лешего зеленые. Проходя мимо, он не глядит на людей, как бы не видит их, будто оставаясь в своем потустороннем мире, случайно открывшемся человеческому глазу: «Мы, говорит, как посмотрели на него, он на нас не посмотрел»[1312]. Или: «Мама ей говорила, что лешие не смотрят на людей, когда они говорят с ними. „А он на нас и не смотрел, а в сторону, — заметила старшая. — Это был леший“»[1313]. А если и взглянет, то через левое плечо[1314]. Есть единичное свидетельство, что данный персонаж «карноухий», т. е. у него нет правого уха[1315]. «Хозяин» леса с длинной седой (иногда зеленой) бородой и с длинными волосами, что символизирует полноту его магической силы и власти: «Волосье-то на голове долгое-долгое, а все эдак растрепалось, как холмина»[1316]; «волосы у него ниже плеч и длиннее, чем у попов», к тому же они зачесаны налево[1317]. Вообще, левая сторона — характерный знак-символ лешего. Например, левую ногу он накидывает на правую[1318]. Левая пола кафтана у «хозяина» обычно запахнута за правую (или левая пола наверху), а не наоборот, как все носят. При этом правая пола может быть «подтыкнута». Правый лапоть у него надет на левую ногу, а левый — на правую. Вообще, вопрос о соотношении правого и левого как символов чистого и нечистого, доброго и злого применительно к лешему решается с перевесом последнего, и особенно в поздней дошедшей до нас традиции.

Рис. 56. Традиционные каргопольские глиняные игрушки
«Хозяин» леса отливает синеватым цветом, поскольку кровь у него синяя (ср. с синим огнем как эманацией домового). Отголоском подобных представлений является изображение лешего как человека в синей одежде: «„Что этот за человек в синем?“ — „Кто лешакается, я и тут“»[1319]; «Мужик в синем армяке, левая пола наверху»[1320]. Иногда лешего видят совершенно голым: «идет голая образина»[1321]; «леший обыкновенно волосатый и нагой»[1322]; «голый, вот как есть человек»[1323]. Подчас нагой он не только сам, но и ребенок, которого он несет: «Дедушка пахал в дальнем поле. Смотрит: идет большой-большой мужчина, такой вот будет. Идет мужик и несет на руках ребенка, сам голый, и ребенок голый… пошел-пошел-пошел туда, по болоту, и пошел-пошел, вода захлопалась-захлопалась»[1324]. Нагой же изображается и лешачиха[1325]. Раздетость мифологического персонажа, по В. Тэрнеру, — знак его лиминальности (от limin — «порог»), пребывания между «тем» и «этим» мирами, когда он не там, но и не здесь. Знаковый характер обычно носит и его одежда. Правда, на первый взгляд может показаться, что одежда лешего ничем не отличается от человеческой. Особенно распространено в поздней традиции (по-видимому, не без отождествления лешего с лесничим) представление о том, что он одет в шинель с блестящими пуговицами в два ряда и в шапке с кокардой. И такое представление чрезвычайно устойчиво, хотя и варьируется в известных пределах: «Вдруг с узких лядинок идет человек, шагает: черная шинель така длинная, пуговицы в два ряда, блестят-блестят, как чертов глаз! Шапка с кокардой, как цилиндр, высокая! Трость блеснет так, как будто золотом отливат! А как шаги дават, так один тут, другой тут!.. <…> „Он“ идет-то»[1326]. По аналогии рассказчики иногда утверждают, что видели лешего в солдатской одежде. Часто «он» появляется в черном костюме, одетый чисто так, нарядно, «не в рабоче», хотя на плечах у «хозяина» коса и грабли[1327]. Соответственно выглядит и лешачиха: «Увидели в пятнадцати метрах от себя сидящего на пне мужчину необъятных размеров в черном костюме и рядом с ним — женщину в черной юбке и розовой кофте таких же огромных размеров»[1328]. Рудименты этих представлений закодированы даже в частушке:
Локусы «хозяина» и время его появления в «этом» мире
Место обитания лешего, как явствует из восточнославянской мифологии, — это середина пущи, так называемый «маточник». Магическую древесную ограду вокруг него создает непроходимый лес и валежник; водную же — засасывающие болота, которые не замерзают даже суровой зимой. Это обиталище духа-«хозяина», живущего здесь со своими зверями и птицами. Сюда же по ведомым только им тропам идут умирать животные[1347]. Если вспомнить, что леший в своем изначальном виде напоминает тотемного предка с таким же зооморфным окружением, то в этом «маточнике» нетрудно усмотреть подобие тотемического центра, где в конце своего жизненного пути погружается в землю тотемный предок и где сосредоточены души данной тотемической группы, о чем нам уже доводилось писать[1348]. В дошедшей до нас традиции такого рода представления фрагментарны и разрозненны. Тем не менее они достаточно устойчивы: «А ен (леший. — Н. К.)… вот такое с наволока болото, дак, ой, Господи, он прогнал (коня. — Н. К.), зараза, туды, на тайник (на парусе ездить — тайник), и поставил стоя. Вот»[1349]. Вспомним и уже упомянутого нагого лешего, который с голым ребенком на руках «пошел-пошел-пошел туда, по болоту, и пошел-пошел, вода захлопалась-захлопалась…» Представления о локусе «хозяина» запечатлены, в частности, в некоторых топонимах. К их числу относится, например, Лешево болотце[1350]. В свое тайное, огражденное водной «стеной» обиталище леший возвращается, избавляясь от временной оболочки, в которой он являлся в «этом» мире. В поздних поверьях сообщается, что леший живет преимущественно в лесах и болотах, хотя его владения распространяются на поля и луга. Последнее утверждение свидетельствует, что образ лешего уже вобрал в себя представления о духах поля и луга, некогда выступивших самостоятельными мифическими существами. Жильем лешего может служить и вековая ель: срубивший ее был наказан самим «хозяином». Иногда леший располагается в дупле дерева. Излюбленным его логовом считаются в народе и кочка, и «вывороть», т. е. сваленное бурей и вывороченное с корнями дерево (знак бога грозы!). От такого дерева бывает трудно отойти: сколько ни ходишь, а к нему вернешься. Это вполне согласуется с поверьями о том, что есть такие места, где человек непременно плутает. Вместе с тем леший живет и в роще: «Иду, просто кажется что-то. Шел по дороге — ну, мелкий лесок, и вот гнет-гнет его и как свист какой-то или шорох, черт его поберет. Потом выхожу на дорогу — кончилось»[1351].
Рис. 57. «Громовое дерево». Ель, пораженная молнией
О том, что лешие живут под землей или же уходят туда на день, свидетельствуют русские и — шире — восточнославянские поверья[1352]. Изредка в качестве «жировы» данного духа-«хозяина» фигурирует и «пещора» (пещера), которая видна лишь тем, кто на заре не перекрестил глаза[1353]. А в одной из бывальщин леший, приняв облик племянника мужика, ведет его прямо в скалу и в результате сам уходит в нее[1354]. Скала (гора, пещера) как локус мифического существа более характерна для горного духа. Однако в данном случае лесной дух сливается с горным, что обусловлено тождеством семантики образов леса и горы в фольклоре[1355]. В ряде мифологических рассказов как бы пунктиром очерчены признаки потустороннего мира, в котором пребывает «хозяин». «Тот» мир адекватен человеческому. Лешие живут в лесах с женами, детьми, отцами и матерями. У каждой семьи своя изба, крытая кожей (знак зооморфного персонажа). И каждая изба стоит в особом лесу. Жилище охраняют собаки (они же и спутники лешего). В хозяйстве такой семьи водится скот. Контакт человека с лешим в той или иной форме происходит не только в лесу, но и на перекрестке дорог — «на росстани». Здесь собираются лешие. Сюда приносят им «относы». На этом же сакральном месте гадают, посредством заговора вызывают лешего и даже «колдуют» («отведывают»): «„Баба Дуня, у нас потеряласе там или корова, там или лошадь“. Вот она это ходит на росстани, там колдует»[1356]. Подобная семантика перекрестка — «росстани» обусловлена древними верованиями, обрядами и обычаями, связанными с похоронами. Известно, что некогда у славян было принято сжигать труп, собирать кости в небольшой сосуд — и устанавливать его «на столпе на распутии»[1357]. Из этого следует, что дух захороненного на перекрестке в какой-то мере эквивалентен духу леса. Такие представления восходят к культу предков и к культу умерших. Временны´е координаты явления лешего в «этом» мире, судя по мифологическим рассказам и поверьям, достаточно размыты. В быличках и бывальщинах редко оговаривается, в какой период суток происходит контакт человека с данным сверхъестественным существом. Чаще фигурируют расплывчатые временны´е обозначения: ночью, особенно лунной, месячной, вечером, ранним утром. Возможны и дальнейшие конкретизации: «И ночь уж стала, с середки ночи (курсив мой. — Н. К.)»[1358]. Леший дает о себе знать в полночь, около 12 часов ночи: «если позже 12 часов едут, полны сани насадятся кого-то, что олени и не замогут тащить»[1359]. С различной степенью определенности упоминается и противоположное время суток: утром рано (на утренней заре) нельзя идти в лес на охоту, но зато в эту пору следует выходить для контакта с лешим «на росстань». А в полдень (в 12 часов дня) особенно опасно проклинать ребенка: леший, равно как и домашний дух, тотчас унесет его. В названные часы «этот» мир оказывается доступным для леших. Так, существует поверье, что в полночь лешие выходят поиграть. После «первых петухов» они кончают «потеху» и бегут в «ближайший вершок», где поднимается крик, шум, гам, которые продолжаются «до вторых петухов», после чего все стихает и лешие разбегаются. Согласно другому поверью, во время бури (знак бога грозы) по ночам и в полдень дети лешего выбегают играть, а лешачиха следит за ними из-за кустов. И лишь в единичных рассказах (вероятно, не без влияния образа домашних духов) леший является человеку под Новый год и вообще в Святки: «Мужик Кузьмин рассказывал мне и божился: выхожу я каждый год в лес на Святки, и он (леший. — Н. К.) выйдет и спрашивает: „Что тебе надо?“»[1360]. Его появление возможно и на Ивана Купалу: «Вот когда в лес пошли купаться. Вот, ска, только мы купаться не купаться воду взяли, как по лесу шарахнуло — бежит коней табун целый, и до нас добежали… А мы, скаже, свалились, стали воскресные молитвы читать (тогда ведь еще знали). И до нас, скаже, добежало и говорит: „Рано схватились!“ Не то бы всих задавило тут. Ночью в лес ходили, дак. <…> Это седьмого июля, верно»[1361]. Крестьянин, желающий заключить договор с лешим, также отправляется в лес «пред Ивановым днем»[1362]. Таким образом, сакральное время маркируется знаком лешего в той же степени, что и знаком домашнего духа, равно как и других мифических существ.
«Лес праведный»
Согласно мифологическим рассказам и поверьям, одной из многочисленных функций лешего является охрана и защита леса. Подчас он не позволяет человеку даже въехать в свои владения: встает впереди коня — и тот до самого рассвета не может сдвинуться с места, несмотря на молитвы и крестные знамения путника[1363].
Рис. 58. Наши рассказчики
Остающегося же ночевать в лесу «хозяин» старается изгнать любыми способами: например, бросая в него сучьями, пугая. Особенно недоброжелателен леший по отношению к дровосеку: прячет у него топор, чтобы сократить время губительной деятельности человека[1364]. Мужики же, которые, вопреки всем препятствиям, чинимым им со стороны «хозяина», все-таки срубают березку, не могут благополучно выехать из леса: «Леший с ними шутку сшутил: задние колеса переменил на передние, — лошади-то и тяжело было везти»[1365]. В другом случае он напускает на мужиков, приехавших воровать лес, своих собак, которые «так вот и рвут, только ударить не даются, и гнались от лесу за полверсты»[1366]. За порубку деревьев леший может даже лишить человека жизни: «Подошел леший к деду и говорит: „Зачем рубишь лес? Я тебя защекочу. <…> ты от меня не уйдешь живой“»[1367]. Но особенно опасна своими последствиями для людей рубка дерева (чаще «вековой елки»), служившего жильем лешему: за это «хозяин» не только преследовал мужика до самой деревни, но и сжег у него овин[1368]. Как стражу леса ему в народных поверьях приписывается песня «Ах, как жаль во сыром бору стройну елочку рубить»[1369]. В одной из бывальщин «лесовой хозяин», вышедший из-под корня или из земли в облике «старичка старенького», останавливает окриком ребят, не по правилам собирающих грибы: «Зачем так делаете неладно!»[1370] Вообще, покровитель леса не любит, когда здесь шумят, ругаются: «ета хазяину ня дужа приятна»[1371]. Вот почему крестьяне, отправляясь на сплав или рубку, вооружаются различного рода оберегами, чтобы «заклясть леса». В своем заговоре дровосеки, лесорубы, сплавщики жалуются на «праведного леса», причинившего им вред, и просят избавить от беды. В противном случае, по их словам, «будет послана грамотка царю в Москву и царское величество пришлет два приказа (отряда) московских стрельцов да две сотни донских казаков и вырубят они лес в пень»[1372]. Эта «грамотка» для пущей острастки кладется у корней рябины (в народных верованиях она известна своими апотропейными свойствами). Подобное дерево отыскивают на «лядине» (возвышенности, обросшей мелким лесом) и отрубают у него ветку, у которой имеется «отростелина», а также несколько рябиновых палочек. Одни кладут «против сердца», другие — «на спинной хребет». Иначе прошение, оставленное у рябины, не принесет желаемого результата[1373]. Во всех этих магических действах субъект, объект и атрибуты, отмеченные знаком священного дерева, по сути дела эквивалентны и сводятся к одному фитоморфному персонажу. Впрочем, в поздней традиции, в условиях негативного переосмысления образа лешего, дровосек избавляется от напастей со стороны этого мифического существа посредством хитрости: он защемил лохматую когтистую лапу «хозяина» в расщелине дерева[1374]. О противоборстве человека и лесной стихии, о поисках компромисса между ними повествуют многие былички, бывальщины, поверья.
Покровитель диких животных и охотников
Будучи восприемником функций тотемного предка[1375], леший нередко изображается в быличках, бывальщинах, поверьях как покровитель одного из видов диких животных: в русской традиции чаще всего волков (представления о медведе, который некогда назывался «хозяином» и отождествлялся с лешим либо был соотнесен с ним, ныне уже стерты). И это отнюдь не случайно, поскольку волку, по утверждению В. В. Иванова, отводилась особая роль в мифологических представлениях многих народов Евразии и Северной Америки[1376]. В русской мифологической прозе наблюдаются различные стадии развития этого образа. По одним поверьям, белый волк — «хозяин-царь» над всеми волками, по другим, — это лишь временная эманация лешего. Образ белого волка сохраняет архаические черты коллективной индивидуальности: в зависимости от того, как ведет себя данный зооморфный персонаж, действует и вся стая. Он кинется на человека — и остальные бросятся. Если же человек поклонится до земли белому волку — ни один зверь из стаи не причинит ему вреда. По мере антропоморфизации духа-«хозяина» леса на смену персонажу, имеющему облик животного или отдельные его признаки, все чаще появляется старик, пасущий волков с плетью в руках. Аналогами подобному лешему служит в украинской традиции лисун, в югославской — волчий пастырь: и тот и другой считается богом одних только волков. Со временем в русской мифологической традиции формируется образ волчьего пастыря Егория, преемственно связанного с образом лешего. Так, например, в различных бывальщинах о пропитании волков заботится то леший, то Егорий Храбрый. Приведем пример: «Одному крестьянину пришлось поздно ехать по лесу; вдруг он видит огонек; подъезжает ближе — видит вокруг огня целое стадо волков, а над ними — хозяин лесовой. „Оставайся, мужичок, у нас ночевать, — сказал лесовой, — все будет цело и сохранно“. <…> Мужику дали место у огня, а лошадям сена и соломы <…>. Утром мужичок стал предлагать плату за ночлег. „Мне ничего не надо, — возразил лесовик, — а вот моим волкам дай, что у тебя дома есть и чего тебе не жалко“. <…> Через несколько дней приезжает мужичок домой. „Ну, что у вас, все благополучно?“ — спрашивает у домашних. — „Все-то все! Да вот на другой день, как ты уехал, погнали на водопой коров, и нашу лучшую корову разорвали волки — никак отбить не могли…“»[1377]. В другой бывальщине «лесовик» просит у человека кусочек шаньги, которая «у него не меньшится», пока он кормит зверей. Бегущие навстречу этому крестьянину волки не трогают его: «Мою шаньгу кушали, а меня не троньте»[1378]. Наряду с приведенными бытуют мифологические рассказы, где аналогичная коллизия связана уже с Егорием Храбрым: «Егорий ему (мужику. — Н. К.) и говорит: „Зачем, — говорит, — у волка овцу отнял?“ — „Да она, — говорит мужик, — ко мне бросилась, мне ее жаль стало“. — „А чем же волки-то кормиться будут? Вот эти, видишь, сытые лежат, а этот голодный, зубами щелкает. Я их кормлю: все довольны, только один жалуется. Брось ему овцу, тогда укажу дорогу. Ведь эта овца была волку обречена, так чего ты ее отнял?“»[1379]. В дошедшей до нас традиции однородный зооморфный фон, на котором выступает леший, могут создавать и другие животные: например, белки или зайцы. Именно их перегоняет дух-«хозяин» из своего владения в чужое, проиграв соседу в карты, о чем сложился «бродячий» сюжет[1380]: «кажный год ждали охотники, где будет дичь. И было такое поверье: как за рекой появится, значит, выиграл в карты заречный (леший. — Н. К.) дичь, а если в Семенково дичь появится, значит, семенковский»[1381]. По поверьям, такие игры наиболее часто имеют место в ночь на Воздвижение[1382]. Стремясь дать наблюдаемому явлению материалистическое объяснение, рассказчики видят причину миграций в неурожае на кедровые орехи и еловые шишки либо на «вересовые ягоды» и «березовые шишки», которыми, в частности, и питаются белки или полевые мыши. Однако подобное объяснение недостаточно подтверждается на практике[1383]. В некоторых из животных, подвластных лешему (например, в зайце, на произнесение названия которого некогда налагалось табу), исследователи склонны видеть имеющую зооморфный облик душу, равно как и прислужника лешего[1384]. Если сказанное верно, то леший предстает как пастырь душ. По мере поглощения образом лешего образа полевика в качестве животных, проигрываемых «хозяевами» друг другу, оказываются полевые мыши и крысы: «Леший проигранных крыс целое стадо гнал и подгоняет к кабаку (а лешие на крыс и зайцов играют в карты, все равно как мы на деньги)»[1385]. Данная мифологема в процессе бытования подвергается и иным трансформациям. Теперь уже леший оказывается покровителем совокупности различных видов животных, которые, однако, не смешиваются между собой: «Гляжу, валят из леса медведи да с ними волки, лисицы, зайцы, белки, лоси, козы, — одним словом, всякая лесная живность и каждая своей партией, с другими не мешается, и все мимо меня с лошадьми, и не смотрят даже на нас, а за зверьем и „сам“ с кнутом за плечом и рожком в руках, а величиною с большую колокольню будет»[1386]. Или же звери дифференцируются по территориальному принципу: разделенные по урочищам, они не имеют права перебраться из одного угодья в другое без ведома «хозяина»[1387]. И наконец, леший предстает в качестве властелина над всеми зверями и птицами, безотносительно к их виду или месту обитания: «Так лисавэй ганяить кучыю и птушик, и звяреў: ваўкоў, мидвядеў, зайчикыў, лисичик: над усими ион хазяин, уси яму падвластны»[1388]. Он пасет зверей, заботится об их пропитании, охраняет от охотников. Не случайно во многих мифологических рассказах повествуется о том, как «хозяин» различными способами (свист, хохот, пение, шорох, непонятные звуки, шум гнущихся и хлещущих деревьев) изгоняет из леса человека, пугая его и даже обращая в паническое бегство. Леший мешает охотнику стрелять по дичи, отводит выстрел. Принимая облик промыслового животного, он дразнит мужика, который, оцепенев, не может выстрелить или попасть в цель, хотя до сих пор не знал промаха: «Ближе, ближе затрещали кусты. Я, говорит, хотел стрелить — руки не поднимаются, отнялись и все. Ни крикнуть, ни двинуться — ничего не могу. Слышу, грит, <…> в кустах затрещало, захохотал тут таким голосом громким: „Что, — говорит, — не можешь стрелить? Не сможешь ты стрелить. Не сможешь и не убьешь!“ — Ишо раз захохотал, затрещали кусты. Он ушел»[1389]. В другом случае леший трижды появляется в виде дикого козла. Охотник стреляет в него — и всякий раз промахивается, хотя до и после этого всегда попадал в цель. «Это лесны, ему в лесу маячило»[1390], — заключает рассказчик. Подражая крику птицы, дух-«хозяин» завлекает неосторожного охотника в глубь леса, нередко губит его в трясине либо «омрацает» рассудок. Например, охотнику, идущему на белку, обнаруженную его собакой, кажется, что дорогу преграждает ручей. В поисках выхода из этой ситуации мужик рубит елку, но она падает так, что ему все равно не перебраться на другую сторону. Спустя какое-то время охотник вновь побывал на этом месте, и теперь выяснилось, что никакого ручья здесь нет, что его просто «омрацило». Опять его собака лает на белку. И охотник спешит туда. Вдруг «пришло да схохотало, да собаку выбросило за сучья верх»[1391]. По убеждению охотников, удача на промысле полностью во власти лешего. Согласно одному из мифологических рассказов, «хозяин», явившийся в полночь к лавочнику и потребовавший четверть вина, сказал, расплачиваясь: «„Си зиму много зверья буде у вас“. Сказал и ушел. И подлинно: столько зверья было, как никогда»[1392]. Леший же распределяет добычу между охотниками. По рассказу одного из них, услышав приближающийся шум, он спрятался за сосну и увидел, что старик с «вицей» в руке гонит мимо стадо лисиц. Охотник решил было подстрелить одну из них, но старик, разгадав его намерение, погрозил хворостиной. Опустив ружье, мужик попросил: «Дай одну!» — «Нельзя-нельзя! Эти отданы уж, — отвечал „дедушко“. — А тебе через неделю двух уже дам — приходи!» И действительно, через неделю мужику удается подстрелить двух лисиц на этом месте[1393].
Рис. 59. Традиционные каргопольские глиняные игрушки
Вот почему в среде охотников бытовало поверье: чтобы дух-«хозяин» постоянно «посылал зверя», нужно «войти в договор» с ним[1394]. В контакт с лешим охотник вступает в сакральное время (чаще на Пасху, на Ивана Купалу). Он, как и пастух, идет в лес и несет «первохрестное» яйцо, т. е. яйцо, которым «похристосовались» первым[1395]. По словам рассказчиков, «вот кто похристосается впереди, перво яйцо, то у священника надо яйцо это взять. И ен все доступал его, там скажет священнику, что впереди как похристосаются, ты убери то яйцо. „Вот, — говорит, — я это яйцо беру, иду в лес с этим яйцом…“»[1396]. Такое условие подчас выдвигает и сам леший: «Ты, — говорит, — о Пасхе пойдеш к заутрини, ты мне еичко и подай»[1397]. Возможны различные варианты и версии. Например, тот, кто собирается вступить в договор с лешим, не глотает во время причастия «дарочки», т. е. Святых Даров — хлеба и вина, которые обозначают тело и кровь Христа, а держит во рту, за щеками, после чего уносит домой, а затем и в лес. Или: отправляясь туда на Благовещение, охотник или пастух несет с собой кусок хлеба с солью (эквивалент «дарочки»), в который он кладет немного своих волос, иногда и ногтей. Или же договаривающийся с лешим разрезает у себя палец, чтобы пролилась кровь, осмысляемая в качестве жертвы лешему[1398]. Вариант: человек пишет договор на бумаге или листе какого-либо растения своей кровью[1399]. Таким образом, атрибутами обряда договора охотника или пастуха с лешим являются яйцо, хлеб с солью (или «дарочка»), волосы, ногти, кровь. Они эквивалентны в семантическом отношении: это «вместилища» жизненной силы, или души. В известном смысле леший действительно заполучает душу. Подобная душа может быть воплощена в мифическое существо. Об этом свидетельствует поверье, бытующее, в частности, у поморов: если куриное (петушиное) яйцо положить в пасхальную ночь под престол, а затем через колдуна передать его лешему, то из этого яйца образуется огненный змей или неразменный, т. е. никогда не убывающий, «рубль»[1400]. Лесной дух смыкается в данном случае с домашним. Принесенные в лес атрибуты обряда нужно уметь отдать по назначению. Для этого, например, охотник отыскивает дерево, вывороченное с корнями: напомним, подобного рода «вывороть» — излюбленное место пребывания лешего. На вершину этого дерева он кладет принесенное пасхальное «первохрестное» яйцо, а также пояс и крест. Причем снятие пояса символизирует отказ от оберега при общении с лешим, а креста — отрешение от своей христианской принадлежности. Затем «спихивает» их к комлю, под вывороченное дерево, отдавая себя во власть лешего[1401]. Вариант: приходит в лес, где живет «хозяин», вырубает в березке углубление, вкладывает туда «дарочку» и, забив отверстие, стреляет в нее через плечо, навсегда предаваясь «нечистому»[1402]. Известны и другие способы вызвать лешего и даже увидеть его. Причем дух-«хозяин» подчас сам советует охотнику, каким образом можно заключить с ним договор: «Если хочешь, чтобы тебе была всегда удача на охоте, то разрежь большой палец у левой руки, достань крови и вот этим пером (при этом он подал глухариное перо) напиши свое имя и фамилию на листе, тогда будешь столько ловить птицы и зверя, что скоро сделаешься богатым»[1403]. Выполнение этого условия, повторяем, эквивалентно запродаже души «черту».

Рис. 60. Коса-горбуша; сумка-полесовщика, сплетенная из бересты; деревянная правилка для косы в берестяном чехле (а); старинное ружье; огневой припас к нему; нож и берестяная солонка (б)
При заключении договора с лешим используются не только магические действа, но и заговоры. Например, крестьянин, отправляясь в лес, срубает «тупицей» (затупленным топором) сосну в обхват, причем так, чтобы при падении она уронила две, хотя бы небольших, осины. Встав на эти осины (знак сниженного лешего) и оборотясь лицом к северу, он произносит: «Лесовик-великан, пришел к тебе раб (имярек) с поклоном: заведи с ним дружбу. Коль хошь, так топеря же иди, а не хошь, как хошь»[1404]. Вариант: охотник в ночь на Ивана Купалу отправляется в лес и, найдя осину, срубает ее так, чтобы она верхушкой упала на восток, а затем, став на пень этой осины и повернувшись лицом опять-таки на восток (с этой стороны света обычно соотносятся божества), он должен нагнуться и, глядя позади себя между расставленными ногами, позвать лешего посредством определенной формулы[1405]. (Известны и иные способы увидеть лешего: с помощью бороны, хомута. Так же вызывают домового.) Ср. с белорусской версией данного обряда: придя на опушку леса, крестьянин встает лицом к востоку (в других вариантах: к северу), произносит заговор, в котором убеждает духа-«хозяина» довольствоваться человеческими волосами, не требуя человечьей головы, и, кружа хлеб около головы, бросает его наотмашь подальше в сторону[1406]. В ответ леший в определенное сакральное время (чаще в ночь на Ивана Купалу) выдает охотнику бумагу или просто укажет срок, в течение которого ему разрешается ходить на промысел. Леший пообещает охотнику нагнать «стада лисиц, куниц», навести его на «стада лесных птиц»[1407]. Мужик уславливается и о размере добычи, которую выделит для него «хозяин»: «И вот с лесным будто бы разговариват и просит там: „Сколько ты там даешь мне-ка птицы, все?“ И там скажет, что столько-то, столько. „Нет, мало, надо больше“. <…> И сколько дает, столько и заловишь»[1408]. При этом «хозяин» требует, чтобы охотник хранил тайну их договора. Однако, выходя на промысел, крестьянин старается дополнительными средствами обеспечить себе удачную охоту. Для этого преимущественно используется вербальная магия. Характерно, что в заговорах гораздо чаще, чем леший, фигурируют функционально тождественные ему мифологические персонажи, своего рода дублеры. В одном из них распорядителем лесных зверей изображен «стар-матер человек, седат, бородат», к которому охотник и обращается с просьбой: «Ну, и позаганивай ты мне птицы небесные: тетеревей, тетерок, рябей, рябушек, белых куропаток, заморских зайцев»[1409]. В другом заговоре это «от млада месяца млад молодец» (не случайно жизненный цикл лешего определенным образом соотнесен с фазами луны). В его распоряжении «чернолисицы, черноухие, черноусые, лисицы бурые, рыси и росомахи и седые волки»[1410]. Со временем в охотничьих заговорах все чаще фигурируют христианизированные преемники лешего:

Рис. 61. Промысловый амбар — «лабаз». Архангельская область
Впрочем, леший помогает охотнику и иным способом: загоняет в силки, капканы и другие ловушки (например, в клети поставные — сумеречные, вечерние, ночные, утренние, полуденные) птиц и зверей[1418]. Находящийся под его покровительством охотник всегда с добычей. С нарушением же определенных договором запретов (сохранять в тайне их общение, не оглядываться и пр.) он навсегда лишается содействия со стороны духа-«хозяина» леса и даже в некоторых случаях гибнет. Со временем, уходя на промысел, крестьяне все чаще обращаются к персонажам народно-христианской мифологии: к Матери Пресвятой Богородице, архангелам Гавриилу и Михаилу, к соловецким чудотворцам Зосиме и Савватию, к пророку Илье и другим, но особенно (по вполне понятным причинам) к Георгию Победоносцу, или, что то же самое, к Егорию Храброму, который в мифологических рассказах выступает в роли волчьего пастыря, уподобляясь архаическому лешему. Таким образом, в условиях преобладания охотничьего уклада в крестьянском быту леший прежде всего осмысляется в качестве «хозяина» промысловых угодий. Как справедливо утверждал Л. Рёрих, этот образ сформировался в охотничьем сознании и потому рассказы о лешем, различные по времени своего возникновения и по жанровой принадлежности, могут быть отнесены в своей основе к древнейшим видам народной прозы[1419], истоки которых, добавим, в тотемистических мифах.
Покровитель домашних животных и пастухов
В мифологических рассказах и поверьях леший, подобно Пану или фавну, другим персонажам античной мифологии, изображается, в частности, как покровитель домашнего скота, пастырь стад. Эта же роль в определенный период принадлежала и Волосу (Велесу). Последний упоминается уже в «Повести временных лет» под 907 г., где речь идет о договоре князя Олега с греками: «<…> и мужи его по Рускому закону кляшася оружьем своим, и Перуном, богом своим, и Волосом, скотьем богом, и утвердиша мир»[1420]. Волос принадлежал, по-видимому, к богам общерусским, его идолы стояли в Киеве (на Подоле) и в Новгороде. Со временем Волос был в известном смысле заменен христианским покровителем скота св. Власием, а также Георгием Победоносцем (Егорием) и Николаем Угодником (Николой). Однако персонажи народно-христианской мифологии не смогли вытеснить из традиции своего архаического предшественника, каким предстает из рассказов, поверий и обрядов леший. Хотя на роль лешего как покровителя пастухов уже и обращали внимание наши предшественники (например, Э. В. Померанцева[1421], В. П. Зиновьев[1422]), все же эта ипостась названного персонажа специально не рассматривалась. Восполнить существующий в фольклористике пробел — наша задача. По крестьянским представлениям, стада пасет не столько пастух, сколько леший. Поэтому совершались особые обряды, регламентирующие форму их взаимоотношений. О том, как заключался договор пастуха с лешим, сохранились разрозненные и фрагментарные сведения. Взятые в совокупности, они воссоздают картину этого языческого обряда лишь в самых общих очертаниях. Как свидетельствуют мифологические рассказы и поверья, с началом пастбищного сезона, «на Егория» (23 апреля по ст. ст.) или «около Николина дня» (9 мая по ст. ст.), после ритуального «обхода» стада «с крестами», пастух, загнав скот в лощину, усаживается на осиновый пень или на старую березу и трижды взывает к лешему посредством той или иной магической формулы типа: «Царь лесовой, всем зверьям батька, явись сюда!»[1423] Далее следует обещание приношения, которое заключает в себе определенный магический смысл: «„Иди покажысь, так еичо дам красное“. — „Великому ли показаться?“ Он (пастух) скажет: „Вроде человека кажысь“. Он вроде человека и покажется. Пастух спрашивает: „За много ли будешь пасти? Я тебе еичко дам. Каким манером тебе положыть?“»[1424]. Имеется в виду первое яйцо, полученное от попа во время христосования в первый же день Пасхи (магия начала). Яйцо преподносилось лешему и в том случае, когда он имел фитоморфный облик: «Как в лес пойдешь и кака´ береза на тебя глянет — по´д положи яйцо, гостинец. И все будет хорошо: тогда, куда скот ни пойдет, все будет возвращаться»[1425]. Пастух (или охотник) при договоре с лешим использует именно яйцо. И это не случайно. Ведь яйцо, как и зерно (хлеб, лепешки), участвует в извечном круговороте жизни, свидетельствует о ее нескончаемости. Оно сохраняет, содержит и воссоздает жизнь. Как символ воскресения применяется и в христианской обрядности, во время празднования Пасхи и после нее[1426]. Передавая лешему при договоре с ним яйцо, пастух (или охотник) как бы обеспечивал усиление и даже обновление жизненной силы «хозяина». Впрочем, иногда посредством яйца закрепляется договор пастуха с лешим. Оба «съедали» по половине яйца. Ту же семантику имеет и хлеб как эквивалент зерна (семени). Вместо яйца (или хлеба) возможна и передача лешему «одношерстной» (одной масти) скотины (обычно одной-двух коров). Шерсть (волосы) — вместилище души: и потому лешему в сущности отдавали душу животного. Вариант: при договоре с лешим особо оговаривается, какое число голов домашнего скота заберет себе леший в течение всего пастбищного сезона. Такая животина считается «завещанной», и в дальнейшем, при поисках пропавшей скотины, это обстоятельство будет учитываться. Договор пастуха с лешим заключается посредством строго определенной формулы-заговора, из которой нельзя опустить ни одного слова. Однако (и это подтверждает Н. Н. Харузин) текст подобного заговора в силу ряда причин, связанных с верованиями, никому не удалось записать[1427]. Договор пастуха, представлявшего интересы всего крестьянского «мира», подкреплялся индивидуальными прошениями каждого хозяина относительно сохранности своей скотины, особенно лошадей. При первом выгоне скота на пастбище крестьянин взывал к лешему: «Лес честной, царь богатый и многомилостивый! Спаси моих лошадок в поле, за полями, в лесу, за лесами, где оне ходят, гуляют, росу выпивают, — тем оне сыты пребывают. Вот тебе, лес честной, хлеб-соль и низкий поклон»[1428]. Так или иначе по заключении договора леший, согласно мифологическим рассказам, «поставляет» пастуху помощника: «сидит пастух на осиновом пне, а перед ним целая артель врагов (разного ранга лесных духов. — Н. К.), а посередине один такой большой-большой. И спрашивает он пастуха: „Выбирай себе любово, который взглянется“. А пастух ему: „Выбирай сам, ты лучше знаешь своих-то!“ Лесовой ему, подумавши, и говорит: „Бери вот этого, кривого, он тебе послужит“. — „Ну, ладно“. Кривой вражонок как схватит лозину, да как крикнет — и повалил скот по дороге»[1429]. Или: «За хлеб-соль поставлю я тебе пастуха: утром ты из ворот выгони, — ввечеру придут к воротам сами, только во двор загони»[1430]. В других мифологических рассказах стадо пасет лешачиха. Это высокая дряхлая старуха, опершаяся «ничком на палочку»[1431] и качающаяся, будто в дремоте, либо «жонка оборванная, ободранная»[1432]. Но изначально пастырем стад является сам леший: «Те пастухи, которые знаются с лешим, вовсе не пасут скота, сам леший пасет»[1433]; «Они (лесные. — Н. К.) ведь у нас скот охраняют. А пастухи только присматривают»[1434]. Взятую на себя обязанность леший исполняет исправно: скотина ходит целый день, а к вечеру возвращается домой сытая, молока дает много, пока какой-нибудь случай не нарушит гармонии взаимоотношений пастуха с мифическим покровителем. Наиболее распространен следующий сюжет: хозяин прячет свою скотину и объявляет, что она пропала. Пастух сообщает об этом лешему. Тот «искал, искал, искал — не мог найти»[1435] (вариант: находит похожую). На другой день мужик выпускает свою корову на пастбище. Убедившись в обмане, леший гневается: «Скотина дома, а у меня сколько трудов вышло. Я всю вселенну обежал»[1436]. Кара постигает пастуха незамедлительно: «Он (леший) ево (пастуха) вицей стегнул и опустил на землю. Он бес памети лежал»[1437]. Или: «Пастуха взял… да лесина была: надвое он ращепнул эту лесину, да в рощеп и всадил»[1438] (эта форма мести лешего в мифологических рассказах довольно устойчива, хотя есть варианты, где эти персонажи меняются местами). В другом случае мужик нарушает запрет не ходить смотреть стадо, когда оно «выгнано». После этого скот перестает сам ходить в лес. Но чаще в мифологической прозе речь идет о беззаботной жизни пастуха, которому покровительствует леший: «А он сам в лес не ходит, а коровы два километра, дальше не заходя в лес. Ен весь день дома, дак. Я нонь в одиннадцать часов пошла в магазин, а ен там, весь день кошли плетет да лапти»[1439]; «Днем? А тут просидит с намы вот тут. Мы косим, а он отдыхает тут. Чай пьет, тут это пообедает, отдохнет полежит. Он не выходил на пастбища вслед коров»[1440]. Вместе с тем пастух может в любое время вызвать ту или иную «животину» из леса: «„И вот выйду, — говорит, — куда к лесу или на лужайку; каку лошадь мне надо, таку мне и пришлют оттуда, из лесу“. Отец говорит: „А кто это пришлет?“ — „А это, — говорит, — лесные“»[1441]. В быличках подчас возникает пасторальная картина из крестьянского быта на тему возвращения пастуха со стадом: «А он пойдет, бывало, выстанет вот выша дороги туды, на крежик, и вот начнет трубить. А как трубил, там уж как вот музыкант играет на всяки (лады. — Н. К.) как сумеет, так и он тоже. Такие трели выходили, прямо даже не знаю. Вот когда он выстанет туды, на креж, протрубит, где-то с час — вот коровы… Придет и скажет: „Вот уже пошли“. Идет и идет, корова за коровой, пойдет, пойдет. А до последней как доходит: „Ну ладно, до свиданья, я с вамы насиделся. Я пойду домой“»[1442].
Рис. 62. Берестяные пастушьи трубы и рожки (основа их — долбленое дерево); берестяная солонка-«утица»
Магическую власть над скотом пастух, согласно народным верованиям, обретает прежде всего посредством особого обряда, который в различных локальных традициях называется «отпуском» или «обходом». Это языческий обряд, сводящийся к троекратному обходу стада с определенными магическими атрибутами (например, три прута рябины, ели и сосны, камень, зажженная свеча, чашка с водой, топор, серп, коса и т. п., а также пастушья труба и батог). Иначе говоря, помимо важнейших элементов природы: земли (дерево, камень), огня, воды, железа — используются сакральный музыкальный инструмент и сакральный жезл. Действо сопровождается произнесением заговора (молитвы). Этот обряд совершался при первом выгоне скота. Одной из его целей является магическое возведение различных «оград-изгородей» вокруг стада: железной, булатной, каменной, огненной, водной и т. п. Предполагалось, что животные благодаря этому будут защищены от любых вредоносных сил. Употребление же в ритуальном обходе стада веток священных деревьев как бы символизирует невидимое присутствие самого лешего, во всяком случае, посредничество между ним и человеком. Иногда «отпуском» называется и текст соответствующего пастушеского заговора, особенно закрепленный на письме. «Отпуск» — это и некое материализованное воплощение магических слов и атрибутов. Например, воск («катышек») с закатанными в него шерстинками животных, составляющих стадо; на него в процессе совершения обряда «отпуска» наговариваются особые заговоры, призванные обеспечить единство и целостность (сохранение численности) стада в течение всего пастбищного периода, согласованность действий животных с волей пастуха[1443]. Однако по мере развенчания лешего и вытеснения его персонажами народно-христианской мифологии, что особенно наглядно проявляется в заговорах, «отпуск» («обход») постепенно начинает осмысляться как оберег от былого лесного божества. Происходит обращение (по терминологии В. Я. Проппа) обряда и связанных с ним представлений. На основе этого обращения формируются поверья, что леший, воспользовавшись неточностью в произнесении заговора или несоблюдением какой-либо формальности при совершении обряда и разгневавшись на людей, желающих силой магических слов и действ ограничить его власть над скотом, нашлет диких зверей на стадо, побольше скота заведет в глубину леса, к себе[1444]. Вот почему, по утверждению Н. Н. Харузина, крестьяне предпочитают «отпуску» договор с лешим[1445]. Как видим, с течением времени одно противопоставляется другому, тогда как по своей семантике договор и «отпуск» эквивалентны, хотя в последнем случае роль лешего уже завуалирована. Так или иначе пастух — посредник между мирами, между лесом и стадом, лешим и людьми, хозяевами домашних животных. Функция покровителя зверей, которая некогда принадлежала исключительно тотемному персонажу, теперь делится между лешим и пастухом или «знающим» человеком. Уже в 70-е гг. XIX в. П. С. и А. Я. Ефименко обратили внимание на особые представления русских и карелов о «должности» пастуха. Так, П. С. Ефименко отмечает, что последний на Севере, и в частности в Архангельской, Олонецкой губерниях, воспринимается местными крестьянами как колдун[1446]. В свою очередь А. Я. Ефименко констатирует, что у карелов пастушество считается самым священным занятием[1447]. Можно говорить даже об определенной специализации, локально закрепленной за жителями конкретной местности. Так, на Севере пастухи — чаще всего ваганы, т. е. коренные жители побережий Ваги — притока Северной Двины («Ваганы жили меж Каргополем и Архангельском в захолустном месте»[1448]). Пастушество у них служило традиционным отхожим промыслом. Ваганы, память о которых жива в Обонежье и поныне, обладали особым знанием пастушеских обрядов и запретов. У карелов, по сообщению А. М. Линевского, пастухами-магами славилась Летнеконецкая волость, откуда «знающие» пастухи направлялись во многие, в том числе и в поморские, селения для совершения обряда «отпуска»[1449]. Рассматривая данный институт, А. М. Линевский в свое время отмечал, что «пастушество является ответвлением той стадии колдовства, когда оно еще не обособилось в профессию, а бытовало в каждой родовой группе»[1450]. Впоследствии в трансформированном виде этот институт сохранялся и в сельской общине. Отголосками его служат не только определенные обряды, обычаи, поверья, но и нормы, запреты, регламентирующие поведение пастуха в лесу и в деревне. Они обусловлены, во-первых, его взаимоотношениями с лесными духами и боязнью навлечь на себя гнев «хозяев», во-вторых, осмыслением каждого жеста и действия пастуха как своего рода гомеопатической (имитативной) магии, по «образцу» которой вызываются к жизни те или иные ситуации, связанные с пастушеской практикой. Приведем основные правила подобного этикета. Согласно мифологическим рассказам, сам леший налагает на пастуха запрет ходить смотреть стадо, когда «оно выгнано». В течение всего пастбищного периода нельзя «бить скот»: если «окровавить поскотину», то зверь, по наущению лешего, станет «пакостить»[1451]. Существует также запрет на продажу скота из стада в продолжение лета: «Вот летом, когда пастух пас, со стада нельзя было уж корову продать, до осени»[1452]. И это не случайно. Ведь численность стада находится под контролем лешего. Нельзя даже ненароком погубить кого-нибудь из птиц и зверей, в том числе самых мелких, — расплата последует незамедлительно: «Дак вот поди ни на кого не наступи и ничего не сделай, а как только маленько проштрафился, дак пришел — кверх ногами лежит (скотина). Нету, задавлена. (А кто задавит?) — А так кто задавит-то? Вот задавит леший»[1453]. По этой же причине пастуху нельзя ломать деревьев, даже веток; для костра он использует лишь валежник. Ему же запрещалось собирать ягоды: «Пастуху в лесу, правильно, ягоды не собирать, не рвать ничего, особенно черные ягоды, да вообще никакие»[1454]. Он может есть только ягоды, собранные другими. Нельзя нарушать и целостность изгороди: иначе на скот будет нападать зверь: «Вот изгородь когда перестават (перелезает), не надо ломать жерди. Жердь сломишь, ежели в отпуску пасешь, — и вот на тот раз пошевелит звирь»[1455]. В течение всего пастбищного периода пастух, равно как и охотник, не должен был стричь себе волосы или ногти, в которых, по народным верованиям, содержалась жизненная сила человека, магическая и физическая. Нарушитель этого запрета ослаблял свою жизненную силу: «И вот за лето у ёго ногти выростут и борода вот така выростёт. Ён больше не бриет, когда пасет»[1456]. Аналогичный запрет распространяется и на животных. Так, например, шерсть у овец не чешут, пока их пасут. Табу налагалось и на прикосновение к атрибутам пастуха — к трубе и батогу (палке, «вице», плети, кнуту, хлысту): «У пастуха труба была. Если он придет, эту трубу поставит, положит куда-нибудь, на лавку или куда-нибудь, то никому нельзя ее трогать, пока он сам не возьмет»[1457]. Ведь под берестяной обвивкой пастушьей трубы, изготовлявшейся из священного дерева, нередко закладывался «отпуск», материализующийся в восковом наговоренном «катышке» либо в рукописном пастушеском заговоре. Согласно карельским и финским поверьям, в нее впервые трубили, когда лес войдет в полную силу, иными словами, когда появится лист на дереве и трава на земле[1458]. Функционально тождественным трубе является рожок — на прикосновение к нему также налагается запрет. В одной из быличек леший «просто вот взял да голову отвернул» у пастуха только за то, что последний дал свой рожок (а в нем был положен «отпуск») поиграть милиционеру[1459]. Особое отношение наблюдалось и к батогу пастуха: «Вицу надо было беречь свою. Так вот сделают вицу, так уж эту вицу берегли. Это вица, называется хлыст. Оны делали выша себя большущую вицу, обычно с березы, конечно. А может, и рябиновая была»[1460].

Рис. 63. Снаряжение пастуха: кнут, свитые из бересты трубы и рожки (основа их — долбленое дерево), колотушка
Ветки священных деревьев, используемых в качестве кнута, символизируют участие в пастьбе самого лешего. Возможны варианты: «Придет если пастух наймоваться, спрашивают: „У тебя длинный кнут есть?..“ — „Есть!“ — „А нету, дак тебя скот не будет слушать“. Я в одно прекрасное время взял веревки — свил длинный такой (кнут), метров шесть. Там еще на самый конец привьешь конёвьего волосу там несколько волосин, десяток. И тут удар-то небольшой получается, но тут очень большой хлопок получается, так же, как из ружья, шибче»[1461]. «Конёвий волос» в данном случае — знак зооморфного персонажа, облик которого нередко принимал и леший, о чем уже говорилось выше. В целом же батог в различных этнокультурных традициях, как отмечает Ю. Ю. Сурхаско, осмысляется в качестве жезла колдуна[1462]. Представления о трубе и батоге как магических атрибутах, обеспечивающих успех пастьбы, находят отражение и в мифологических рассказах: «Стал помирать пастух и говорит другому: „Я тебе, брат, оставлю наследство. Паси коров, медведь не съест ни одной, только слушай, что я тебе накажу, — дал ему трубу да палочку (курсив мой. — Н. К.) и приказывает, — вот до такого места коров прогони, да и назад воротись, и не ходи больше в лес, а как надобно коров домой гнать, в то время пойди, потруби — придут все домой“. Он так и делал. Скот приходил сам домой, как будто его кто собирал»[1463]. Эти материальные вещи символизируют нематериальный, невидимый мир. Через них действует некая неосязаемая духовная сила. Причем эти вещи непосредственно соотносимы с магическими словами и даже взаимозаменимы. И поэтому простым смертным дотрагиваться до сакральных предметов (в данном случае трубы и батога) нельзя. Ряд предохранительных мер распространялся и на пребывание пастуха в деревне: ел он всегда из отдельной миски собственной ложкой. Хлеб брал только от «непочатого» каравая (магия начала). В баню шел всегда первым, мылся один, парился только свежим веником. Белье надевал выстиранное, никем не ношенное. Спал всегда один. Пастух не прикасался к другим людям (не здоровался за руку, не боролся и т. п.)[1464]. Известно также, что пастуху нельзя было видеть ни новорожденного, ни мертвого[1465]. Подобно жрецам, пастух некогда был обязан оставаться холостым (целибат). Во всяком случае, на весь пастбищный период он должен соблюдать половые табу. Это подтверждается и русскими, и карельскими, и ижорскими материалами. Ряд половых запретов, налагаемых на пастухов, отмечал в свое время Л. Я. Штернберг[1466].

Рис. 64. Пастух. Традиционная каргопольская игрушка. Из коллекции Государственного историко-краеведческого музея в г. Каргополе
Нарушение табу влечет за собой «порчу» отпуска, за что пастух расплачивается либо собственной жизнью, либо жизнью скотины из своего стада: «Он отпуск испортил, его леший и захлыстал. Так и захлыстал дубиной до смерти»[1467]. Или: «Я раз сделал неладно — коровы одной нет. Медведь корову задрал»[1468]. Требование строгого соблюдения всевозможных запретов, цель которого — обеспечить безопасность пастуха и сохранность «отпуска», в определенной степени распространяется и на хозяев домашних животных, пасущихся в стаде. Женщина или девушка не должна была появляться перед пастухом босоногой или «простоволосой», т. е. без платка на голове. От женщин и девушек, ухаживающих за скотом, требовалось соблюдение чистоты, особых гигиенических правил: «Когда утром вставаете и скотину пойдете гнать, сходите возьмите воды, да там обдайтесь. И все. Это самое главное для скотины, для отпуска, чтобы было все хорошо»[1469]. Судя по карельским, более архаическим материалам, женщинам не разрешалось присутствовать при исполнении обряда «отпуска». Мужчинам же полагалось стоять вокруг ограды (но ни в коем случае не заходить за нее), причем они должны быть в чистом белье, вымыты в бане и накануне дня совершения обряда не иметь coitus[1470]. Приведенные факты дополняются финскими источниками: мужчины, сопровождающие стадо в первый день выгона скота, согласно обычаю, одеты в белопятнистую одежду — тогда родившиеся на будущий год телята будут белопятнистыми[1471]. Уподобление людей и животных друг другу, имеющее здесь место, вновь напоминает о тотемистических истоках пастушеских обрядов, о преемственной связи между тотемным персонажем и образом лешего и, в конечном счете, об известном тождестве мифического покровителя стад и пастуха. Сходство последнего с лешим обнаруживается даже во внешнем облике. Как и дух-«хозяин», пастух обычно одет в серый домотканый кафтан, подпоясанный кушаком, обут в лапти. За спиной у него — котомка (холщовая сумка, берестяной кошель), за плечом — кнут, в руках — рожок или дудка. Он играет и поет (ср. с лешим): «<…> и так играет в дудку, хоть пляши, слышно версты за три <…>. Я его дразню: „славно-славно“, а он того шибче играет. <…> поиграл еще немного и затянул песню (курсив мой. — Н. К.), но только у его слов не можно понять и нет раю (т. е. эха. — Н. К.)»[1472]. Заметим, что так же, как и леший, с музыкальным инструментом изображается Волос, предстающий в украинской мифологии с сопилкой (флейтой, свирелью) в руках, или же Пан, неотъемлемой принадлежностью которого является сиринга (пастушья флейта, многоствольная пастушья труба). В роли представителя духа-«хозяина» иногда выступает «знающий» человек, который дает пастуху «отпуск» либо учит, как обрести магическую власть над стадом, соблюсти этикет во взаимоотношениях с лешим: «А потом она (бабушка. — Н. К.) взяла яйцо, пошептала на яйцо это. Говорит (пастуху): „На вот это яйцо и найди самый большой муравейник в лесу и раскопай его до самого дна, и туды это яйцо и положи“»[1473]. Правда, наряду с быличками, бывальщинами и поверьями о наступившей вследствие соблюдения подобного обряда беззаботной жизни пастуха встречаются и бытовые рассказы, в которых повествуется о его разочарованиях: «Ну, и я начал пасти — ко мне повадился медведь старый. <…> Ну, и распотрошил он у меня пять коров, не сразу, конечно, ну, сначала одну, потом другую, недели через три, потом третью и пять коров так… Так я не стал этому верить. Все оттуда вытаскал, из муравейника, все выбросил, это яйцо все выбросил, все в костре сожег»[1474]. Но это свидетельство находится уже за пределами собственно мифологической прозы. Тем не менее, заговоры крестьянина с мольбой о сохранении стад, обращенной к белому или серому волку, к «честно´му леса» и даже к св. Егорию, еще долго удерживались в традиции. В мифологических рассказах и поверьях леший, однако, не всегда предстает чудесным помощником пастуха или хозяев домашних животных. В известной мере, и особенно в поздней традиции, он выступает и как их антагонист. Может, например, похитить у людей скот, прежде всего у тех, кто сам посылает свою «животину» к лешему: «И начали гнать — эта ярочка у меня втеки. Я и скажи: „Тебя леший от меня унесе, этой ярочки моей! Хоть бы леший унес дьявола, надоела хуже горькой редьки!“ Сразу ярушка потерялася — не могу ярушки нигде найти — сра´зу»[1475]. Или: «Одна хозяйка погнала на волю овец. А они со двора не хотели выходить. Она и говорит: „Идите вы к лешему!“ Овцы вышли, а одна убежала и вечером не пришла. Искали, искали овцу — не нашли»[1476]. Похищение в мифологическом смысле эквивалентно смерти. Иногда, по заверениям рассказчиков, стоит только произнести слово, как произойдет противоположное тому, что в нем утверждается: «А ведь только сказала: „Никуды не уйдё“. А поискала дак его (теленка. — Н. К.). (Собиратель: „Так что, его леший водил?“) Будто не леший, так кто? Не леший водил, так кто же?.. Вот тако слово»[1477]. Пропажа скотины может быть вызвана и тем, что она попала на тропу лешего, на его след, — в таком случае ей ни за что не выйти из леса. По-видимому, след в народных верованиях приравнивается к тени или отражению и подобно им осмысляется как душа, дух, чем и определяется такой результат. Согласно некоторым бывальщинам, леший удерживает скотину, приняв фитоморфный облик. При этом животное стоит на одном месте, у определенного дерева, и никуда не отходит, хотя трава вокруг него давно съедена: «„Иди, — говорит, — лошадь стоит там у большой березы, на межине“. И я пошел, говорит, лошадь стоит. Траву выгрызла всю до земли, и такая, ну, выголодалася вся, шатаитсе даже»[1478]. Или: «Везде искали, нашли в лесу. Ходит возле дерева, ревет, есть хочет. Вокруг дерева земля черна стала. Она всю траву съела, а не уходит от дерева»[1479]. По поверьям, заблудившееся животное будто бы привязано к дереву, а заблудившийся человек все время возвращается к одному и тому же дереву в том случае, если оно является жилищем или эманацией самого лешего. Не случайно, по свидетельству одного из рассказчиков, остановившиеся у ели услышали, как там вдруг нечто «зачудило, зашумело» и «зачало» драть науськанную людьми собаку, а затем засвистело[1480] (свист — признак лешего). В других мифологических рассказах повествуется о том, что пропавшую «животину» никак не могут найти, утверждая при этом, что леший «закрывает»[1481], т. е. как бы помещает ее в параллельный мир: «закрыли ее, и все — не придет корова домой, закрыли (курсив мой. — Н. К.). Пока вот не сходить, чтобы это вот („отведать“. — Н. К.), ни за что не найти. Вот мимо ходишь, а не найти и все»[1482]; «А хозяйка вицей так ударит да и заругается. Вот лесовик и взял. Взял и спрятал (курсив мой. — Н. К.): „На´, пожалуйста, живи без коровы!“ Ага! Дак так плачет»[1483]. Впрочем, подобная мифологема может содержать в себе и некоторые реалистические мотивировки. «Хозяин» так «запихивает» лошадь или корову в лесную избушку, что для вызволения животного приходится разрывать землю, увеличивая проход в постройку: «Запиханы эти две коровы в избушку. Пришел к избушке — никак коров не выгонить. Потолок-то низко, а обратно-то не вывести. Я, говорит, все высыпал, все выпростал каменьем, выкопал землю, коров выгонил. Кое-некое выпихал, вывалил — и домой»[1484]. Леший уводит домашнее животное в такое глухое место, которое обычно труднодоступно, — «на тайник», куда можно добраться лишь «на парусе»[1485]. Иногда те, кто ищет пропавшую скотину, даже слышат ее колокольчик, зовут к себе — но напрасно: «Корова наша по лесу кругами ходила. Мы ее искать стали, девять часов за ней по лесу ходили. Слышали, как колокольчик звенит и кто-то посвистывает, мы за колокольчиком бежали. А свистел, видать, дедушко, вел корову за собой»[1486]. Эта корова, вернувшись домой, «чуть засвистит где — уши натопырит»[1487]. В некоторых мифологических рассказах леший напускает диких зверей (медведей, волков) на домашний скот, «когда пастух не хорош»[1488], т. е. пренебрегает нормами пастушеского этикета, в частности, бьет скотину «без толку и ругается черным словом»[1489]. Или же дикий зверь сам, без ведома лешего, заламывает «животину»: «Приходил раз лешой и говорит: „Я вашу лошадь не брал, — говорит, — а мой бык свалил (бык — это медведь)“»[1490]. Так или иначе при пропаже скотины крестьянин сам или с помощью «знающего» человека стремится вернуть даже из параллельного мира свою «животину». Как отмечает исследователь крестьянского быта Н. Н. Харузин, скотина хозяину слишком дорога, слишком большое подспорье в его хозяйстве, требующем от него так много хлопот и жертв, чтобы не решиться совершить ради нахождения ее и грех, чтобы не побороть свой страх, который он испытывает, подходя к лесу[1491]. Особенно безвыходная ситуация, когда накануне пахоты теряются лошади: «Кони ушли, все стадо ушло, за Лешево болотце, туды. <…> Людям надо кони пахать, махать, боронить, а коней найти не могут»[1492]. Помимо обычных поисков пропавшего животного, крестьянин предпринимает более действенные, с его точки зрения, хотя и греховные (но это лишь с позиции христианства) меры: совершает обряд «отведывания», или «отворачивания». Для этого сам хозяин или «знающий» человек, к которому он обращается за помощью, отправляется на переговоры к лешему. По народным верованиям, они могут состояться лишь в определенное время: «ночью пошли, ночью только ходили»[1493], «в двенадцатом-одиннадцатом часу» или же, наоборот, «рано утром на заре», «на утренню зорю», «утром до зари». Причем «отведывать» идут не просто в лес, а на росстань, перекресток, распутье, где сходятся или перекрещиваются дороги: «Выходить, что ли, на две ли, на три дороги, чтобы в лес входили и оттудова»[1494]. Это делается ради определенной цели: «след перекрыть росстани-дорожки»[1495]. Напомним, что на росстани некогда хоронили покойников. Не случайно в народе долго удерживался обычай, в соответствии с которым на распутье останавливались и обязательно крестились из какого-то суеверного страха. Кстати, представлениями о локусе лешего как о потустороннем мире обусловлен обычай, согласно которому, отправляясь на лодке, чтобы «отведывать» пропавшую скотину, ехали задом наперед, т. е. вперед кормой.

Рис. 65. Берестяной кошель
Здесь, на росстани, обычно и вызывали лешего, снимая шапку (знак лишения себя магической силы, проявления покорности) и кланяясь. При этом обращения могли иметь различную семантическую окраску. В одних подразумевался прежде всего «обитатель» росстани: «Кто этому месту житель, кто настоятель, кто содержавец…»[1496] В данном случае леший идентифицируется с покойником, что вполне закономерно: мифический тотемный предок, будучи архаическим предшественником лешего, сменяется просто мифическим предком. В иных же рассказах и поверьях к лешему обращаются как к покровителю животных: «Царь лесовой, всем зверьям батька, явись сюда!»[1497] Подчас же в образе лешего персонифицируется лес: «Не нать „лешим“ звать, а „лес праведный“ нать звать»[1498]. Вместе с тем леший осмысляется и как «главный» над всеми лесными духами: «Лесной князь, выдь сюда, помоги моей беде…»[1499]. В ответ леший либо появляется вдалеке, либо выдает себя приближающимся шумом леса, либо окликает: «Зачем пришел? Что нужно?»[1500] Первый вопрос, задаваемый в этом случае крестьянином, была ли «завещана» лешему пропавшая скотина. Если «животина» была ему «завещана», то ее хозяину остается лишь примириться со своей утратой: вернуть пропавшую корову или лошадь уже невозможно. Если же леший похитил скотину, ему не «завещанную», то у крестьянина еще есть надежда вернуть ее. С этой целью похитителю сообщаются приметы пропавшего животного: «Вот, говорит, придешь его вызывать, нать чтобы не сманить, правду сказать, какая шерсть у животного, все это!.. А как не скажешь правду, там шум пойдё по березам, по лесу, дак пойдё. А как правду скажешь, он ничего худого не скаже и скотину отдаё — найдут»[1501]. Однако чтобы добиться такого результата, хозяин совершает жертвоприношение — «относ» лешему. Взяв завернутое в тряпку или в бумагу яйцо и положив его, иногда вместе со ржаными лепешками (хлебом), на левую руку, он оставляет приношение на перекрестке. В некоторых локальных традициях этот обряд включает в себя и другие магические действа: хозяин пропавшего животного кладет «на росстани» десять яиц, ковригу хлеба, кусок сала и становится к «относу» спиной. Знахарь, проводя по земле черту вокруг крестьянина с целью обезопасить его от воздействия духов, заклинает их, подобно шаману, разными голосами, после чего хозяин, не оглядываясь, возвращается домой. Бытует и иная версия: «относ» (хлеб-соль или различные, уже трансформированные эквиваленты: пирог и вино) кладут на пень, который, как мы помним, нередко осмысляется в качестве эманации лешего. Или: «на росстань» бросают крест из лучины и кладут на дерево, на сук, «кромушку хлеба», прибавив к этому «щепотку чаю да несколько кусков сахару»[1502]. Приношения состоят в основном из яйца и хлеба, которые, как мы уже говорили, имеют определенную семантику. Причем известно, что на хлеб наговаривали магические слова заговора: «Встану не благословясь и пр. В чистом поле стоит зданье, в зданьи двенадцать нечистых духов, один старше всех, я им покорюсь: нечистые духи, пригоните милую скотину (к такому-то месту)»[1503]. Положив «относ», приговаривали: «Лесной хозяин! Вот тебе гостинцы, прими (от такого-то) и пригони милый живот скотинушку», — после чего кланялись три раза на три стороны, или девять раз по три на три стороны[1504]. Или же трижды произносили просьбу: «Это возьми, а телку отдай»[1505]; «Возьмите дар, возьмите и домой скотину спустите, нигде не задержите, не за реками, и не за ручьями, и не за водами»[1506]. Правда, в некоторых мифологических рассказах просьба вернуть животное ограничивается вербальной магией: «Вот я на этот песочек (место, откуда исчезла ярочка. — Н. К.) пришла и сказала: „Леший-батюшко, мою животину взял, дак отдай ее обратно. Я тебе ничего худого не сделала“»[1507]. Повелительная форма обращения к лешему, по мнению крестьян, усиливает магию слова: «„Что же ты меня вызываешь?“ — „А это я сама знаю! Вот у соседа коровы потерялись. Если взял — приведи к месту, на котором взял, чтобы к вечеру были коровы дома“. — „Ох, каку ты службу дала. Может, я не смогу“. — „Нет, я приказываю. Ты должен слушать. Поди ты на свое место — ты мне не нужен“. Лесовик и поднялся лесом, и засвистал, и пошел»[1508]. Коллизия рассказа подчас имеет соответствие в заговоре: «(Лес праведной), животина моя, богом упомяненная, не продана, не отдана, записи не деланы. Чтобы в эту минуту выслать ей!»[1509]. Причем мольба или приказ может сочетаться с угрозой, выраженной чаще магическими действами и словами заговора. Пришедший на росстань встает к деревне лицом, а к лесу спиной и, нанеся на «белой щепинке» крестики, произносит: «Царь лесной, царица лесная, маленькие детушки, нянюшки, служанушки! Отдайте мою милу бажону скотинушку (или чоловика там). А не отдайте, так я закрешу вам дорогу и не дам ходу по лесам, по горам, по водам и по всем сторонам. (Лучининку брось на росстань, чтоб кверху крестики были. Называется „закрестить“)»[1510]. Не менее страшной для лешего, по мнению потерпевших, может быть и угроза «завязать лес». «Знающие» люди действительно завязывают в трех местах верхушки деревьев (ольховые ветки при этом ломаются, а березовые остаются целыми), приговаривая: «Если ты корову, лесовой хозяин, не вернешь, не покажешь нам корову, мы весь лес завяжем твой»[1511]. Иногда угроза высказывается целому сонму языческих божеств: «Уведомляю я вас, что у раба Божьего (такого-то) потерялась бурая (или какая) лошадь (или корова, или другая скотина — обозначить с приметами). Если найдется у вас, то пошлите, не мешкая ни часу, ни единой минуты, ни единой секунды. А как по-моему не сделаете, буду молиться на вас святому великомученику Божью Егорью и царице Александре». Такого рода «прошения» пишут на бересте справа налево (причем обыкновенно только начало, а остальную часть заговора произносят) в трех экземплярах: один привязывают к дереву, в лесу, другой зарывают в землю, а третий бросают с камнем в воду[1512]. В данном случае за невыполнение просьбы лешему угрожает кара со стороны его же христианского дублера. Вот почему обращение за помощью к последнему, минуя языческих божеств, выглядит вполне закономерно и закреплено в обряде: поскотину обходят вокруг с иконой и служат молебен[1513]. И все же свои упования на возвращение пропавшей скотины крестьянин возлагает преимущественно на лешего. Знаком того, что прошение услышано, служит, к примеру, исчезновение «относа»: «Добрые люди подсказали, что делать. Мать состряпала пирог, вино купила. Пошли мы в лес, поставили на пенек. Отец отвернулся, три вички срубил, поворачивается, глядь, а на пеньке ничего нет»[1514]. Результаты обряда «отведывания» могут быть разными. Чаще пропавшее животное немедленно возвращается: «В этот день и коровавернулась — дедушко отпустил»[1515]; «На другой день только колоколы треща, к реке кони бежа, в один дух все. Вот как!»[1516]. Или же «знающий» человек либо хозяин узнает от лешего, в каком месте скотина находится, где и когда ее следует искать. В других мифологических рассказах «дедушко», если пропавшее животное не заклято, сообщает: «Нет в лесу. На Божьей воле ходит»[1517]; «Ен мне сказал, что твоей овцы у него нету. Овца твоя за Стрельной»[1518]. Однако от лешего доводится слышать и дурные вести: крестьянскую «животинку» загрыз дикий зверь («мой бык свалил») либо такой-то человек похитил, а затем зарезал ее и т. п. Во всяком случае леший готов обежать «всю вселенную» в поисках пропавшей скотины. Подчас он оказывает крестьянину услугу и вне всякого обряда «отведывания». В одной из быличек женщина, проискав весь день потерявшихся лошадей, но так и найдя их, встречает старика из своей деревни, Луку Яковлевича. На свой вопрос, не видал ли тот лошадей, получает ответ: кони у Ригозера. Старик объясняет, как туда попасть. Перейдя через реку, она встречает Луку Яковлевича. Выясняется, что ранее попавшийся ей на пути не Лука Яковлевич, а леший, принявший его облик. На второй день крестьянка с мужем идут к Ригозеру и находят там лошадей[1519]. Согласно некоторым мифологическим рассказам, к лешему обращаются и в том случае, если скотина возвращается с пастбища искалеченной, например, с вывихнутой или ушибленной ногой: «скачет на трех ногах». В таком случае знахарь, выявив причину, скажет: «А зачем же вы это ольховой палочкой ударили крестьянского коня? Зачем вы это сделали?» Трижды упрекнув лешего за причиненное животному зло, знахарь приступает к лечению пострадавшего: наговоренной водой моет ему больную ногу. После трех таких процедур «конь пошел бегом»[1520]. Леший, уличенный во вредоносных действиях и пристыженный, нейтрализует их последствия. Со временем функции лешего (и, разумеется, Волоса) как покровителя домашних животных (в этом качестве лесной дух сближается с домашним: имеется в виду прежде всего хлевник или домовой — дворовой — хлевник) унаследовал св. великомученик Власий, осмысляемый в народных верованиях как «скотий бог», прежде всего коровий. Не случайно его икону ставили в коровниках и хлевах, о чем мы уже говорили выше. Покровителем рабочего скота был признан Георгий Победоносец, а специально лошадей и табунов — Николай Угодник или святые мученики Флор и Лавр: их изображения помещали в конюшнях, с правой стороны над яслями. Хранителем овец считается св. Анисим (иногда Анастасия). Роль покровителя птиц, пригодных человеку, взяли на себя сорок мучеников. Защитником же домашней птицы является Сергий Радонежский. В качестве сберегателей кур выступают св. Кузьма и Демьян, а гусей — Никита-мученик и т. д. Роль же пастуха представлена как почетная уже в библейских сказаниях. Например, первым «пастырем овец» был Авель (Быт. IV. 2) — сын Адама и Евы. Это занятие не утратило своего былого значения и между потомками Авраама. Иаков и его сыновья, а также Моисей, Давид и другие вели пастушескую жизнь. Библейские сказания повествуют о царях-пастырях. Со временем слово пастырь стало употребляться в иносказательном смысле применительно к правителям народов и священнослужителям: «И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием» (Книга пророка Иеремии. III. 15).

Рис. 66. «Чудо о Флоре и Лавре». Икона XVIII в., фрагмент. Иконостас Покровской церкви в Кижах (прорисовка)
В процессе своего становления христианство (и особенно народное), преодолевая предшествующие и сопутствующие ему языческие верования, в которых значительное место принадлежит духам-«хозяевам» животных, в известном смысле перераспределило роли этих покровителей между формирующимися персонажами новой мифологической системы. Однако оно оказалось бессильным вытеснить из традиции образ языческого покровителя животных, каким предстает в быличках, бывальщинах и поверьях леший, разделивший заботу о домашнем скоте с пастухом («знающим» человеком), равно как и с домовым — дворовым — хлевником.
Насылающий лесные наваждения
Наряду с циклами мифологических рассказов, где леший покровительствует охотникам и пастухам, в традиции формируются и другие циклы, в которых объектом изображения являются взаимоотношения духа-«хозяина» и человека. Одним из самых распространенных в подобных быличках и бывальщинах является мотив «леший водит человека по лесу». Известны различные его версии, и в том числе следующая: грибники и ягодники видят идущего впереди человека, который по облику ничем не отличается от родственника, знакомого либо выглядит как обычный прохожий, хотя впоследствии выясняется, что человек, которого якобы видели в лесу, на самом деле оставался в этот день дома: «Идет мама впереди, в красном платке, в кафтане, как и всегда ходила. Мы (две девочки-сестры. — Н. К.) догоняем: „Мама уж раньше нашего наломала рыжиков. Смотри, осталась дома, а оказалось: идет с рыжиками и впереди нас“. Мы догонять»[1521]. Призрачное видение возникает в том случае, если идущий по лесу (лесной дороге) подумает: хорошо бы встретить попутчиков. И тотчас же мысль как бы материализуется: «Ну и вот, прошел я сто километров — осталось еще десять километров. И вот запала мне в голову мысль, что хоть бы кого встретить (курсив мой. — Н. К.), узнал бы я про дом! И вот я не дошел шести километров — вижу, идут обыкновенные женщины. Думаю, этих женщин догоню и спрошу. Догоняю — не могу догнать»[1522]. Маячащего впереди, по заверениям рассказчиков, догнать невозможно. Не удается остановить его и окликом: «Я кричу: „Дожидай!“ Нет, идит. Я еще кричу: „Дожидай!“ Нет, все равно идит»[1523]. Возможны и другие аналогичные коллизии. В одной из бывальщин женщина едет по лесной дороге, пока внезапно появившийся старик, которого крестьянка принимает за своего односельчанина Пешу Колобка, не предлагает ей следовать за ним, увлекая за собой по бездорожью[1524]. Такого рода видения или привидения обычно вскоре исчезают, причем при характерных обстоятельствах. Леший, принявший облик «мамы» или «обыкновенных женщин», исчезает на границе двух миров, природного и культурного, стихийного и освоенного, «того» и «этого». Знаком-символом такой границы может служить попавшаяся на пути из леса изгородь или мост: «Мы бежим-догоняем. Добежали до поля, изгородь перешли (курсив мой. — Н. К.) — мамы нет. Поле большое — должна быть среди поля, а нигде нет, не оказалось мамы. Посмотрели по сторонам — нигде никого. Думали, отдыхает, может: нет, нету»[1525]. Или: «Вот перешли они (обыкновенные женщины. — Н. К.) мост — и в олешник, сквозь забор <…>. Через мост (курсив мой. — Н. К.) горбатой иду. Тут из воды столб грязи поднялся — такого и из орудия не получалось…»[1526] Следовательно, согласно мифологическим рассказам и поверьям, лешему недоступно культурное пространство, тогда как для человека таковым оказывается природное, если только оно осмысляется им самим как неосвоенное: «А она подумала: „Нет, тут некуда дальше ехать“ (курсив мой. — Н. К.). Осинья поперек лежат. Он меж елок увертывается. Она повернулась — да и обратно. <…> Так это леший водил ее»[1527]. Леший осмысляется как первопричина блуждания по лесу: человек не может выбраться на дорогу, потому что «хозяин» замкнул его невидимой чертой круга[1528]. Леший водит человека по лесу, оставляя свои следы, запутывая их. Тот, кто наступит на такой след («перейдет след лешего»), непременно заблудится: «да еще блу´дили-блу´дили, блу´дили-блу´дили, да потом уж ены были, говорят, что на след попавши на какой-то. Вот так. Досюль будто был там какой-то след (курсив мой. — Н. К.)»[1529]; «и это идет след такой, вот два следа моих. Я ступлю: „Ой, да ище тут два следа. Кто же это такой шел?“ Думаю: „Боже ты мой, кто же такой шел?“ Шел-шел по этому следу и потерял свой след. И блуждал целый день: ни туда, ни сюда <…>. Кружится, кружится и тут придет, где следы мерял. Потом во сне, говорит, видел: человек говорит: „Ты пошел да и иди, не меряй следов (курсив мой. — Н. К.) ничьих больше“»[1530]. И в данном случае след имеет ту же семантику, что и тень, отражение: это своего рода эманация души. Не случайно, по народным верованиям, зарождение возможно уже от одного только вступания на след[1531]. Причем такую же семантику имеет и волчий след: облик волка, напомним, часто принимает леший. (Интересно, что реминисценции подобных представлений сохранены даже в агиографической литературе. Так, в житии преподобного Ионы Яшезерского чудотворца — одного из святых Олонецкого патерика приводится легенда: этот святой вступил в «следок» Богородицы, и Пресвятая Дева молвила своим спутникам: «Сей роду нашего…»). Аналогично осмысляется и тропа лешего, равно как и «лешачий переход», «окаянный крюк». Например, подросток, который ушел за рыжиками, повстречал «дядю» из соседней деревни. Вместе ходили по лесу, собирались идти домой. «Дядя» идет впереди, мальчик следом: «Еще подумал: куда он меня ведет, по какой тропинке, я по той не шел за рыжиками, — а иду вслед»[1532]. Когда подросток очнулся, то оказался стоящим в воде на противоположной стороне озера, за которым находился его дом. А в своей корзинке он обнаружил вместо рыжиков «навоз коневский». Тропа и рыжики были призрачными. Субстанция их в «этом» мире иная, чем в «том». Обычно рассказчики утверждают: «Значит, как говорят испокон век, раньше, леший меня водил»[1533]. В другой быличке крестьянин заблудился лишь потому, что ступил на перекресток летней и зимней троп. В иных мифологических рассказах охотника, расположившегося на ночлег на тропе, некто тронул за плечо со словами «двинься с дороги»[1534]. Согласно поверьям, и «перейти» тропу лешего, и ходить или лежать на ней небезопасно: «И костер-то развел в сторонке, а ноги, значит, оказались у меня на этой тропе. Ночью, понимаешь, такой пошел, как вихрь, сразу — и меня как будто кто-то за ноги бросил в сторону с тропинки. Встал, посмотрел: нигде ничего нет. <…> Лег обратно к этому костру и вдруг во сне (или мне подумалось об этом, или что) приходит, понимаешь, вот как раньше говорили, в пуговицах во этих, высокий такой, и говорит: „Скажи спасибо, что у тебя ребенок тут был. Нет, дак я тебе показал бы, как на тропе спать“»[1535].
Рис. 67. Традиционная каргопольская глиняная игрушка
Чтобы «водить» людей по лесу, его «хозяин» пользуется и иными способами. Так, например, он закрывает тропу, по которой человек углубился в лес: «Надо на тропинку мне выходить. Да пошла на тропинку — дак бурелом, дак страшный, проходу нету. А знаю, что там должна тропинка быть. Чувствую. Иду, иду, иду — нету тропинки»[1536]. Когда же посредством магических действ женщине удается снять с себя это наваждение, выясняется, что тропинка здесь и есть, а никакого бурелома нет. В результате ее вера в проделки лешего еще более усиливается: «Как не водит? Во-о-одит»[1537]. В других же мифологических рассказах имеет место обратная коллизия: пока человек следует за лешим, он идет «по глади (гладь была, дорога хорошая)». Но стоило жертве избавиться от чар, как под ее ногами обнаруживается «ломоть такая», что не пройти ни взад ни вперед[1538]. Леший закрывает не только тропу, но и самого заблудившегося человека: «„Я, говорит, слышу, — девочка-то говорит (двенадцать лет девочке было), — слышу, что кричат (те, кто ищет ее. — Н. К.)“. А дедушка говорит: „Голосу не подавай“. Дедушка со мной»[1539]. Судя по мифологическим рассказам и поверьям, человек плутает еще и потому, что леший удерживает его в определенном радиусе от своего жилища, в качестве которого, повторяем, может фигурировать то или иное почитаемое в данной локальной или этнической традиции дерево: «Назадь пойду. А к той же сосны приду, у которой я ломала рыжики. <…>. Опять уйду, хожу, хожу, хожу — к сосны и приду другой раз. Три раза к сосны пришла на одно место»[1540]. Или: «Плутали-плутали, куда бы ни пришли, все на одно место сюда и выходим»[1541]. Или: «Один пошел охотник, охотник пошел, да заблудился… Ну, ходит-ходит и все к этому месту придет»[1542]. Магическую притягательную силу имеет и весь лес: «А меня в лес потянуло. А Гаврило услыхал, что не ладно рыцю и свел меня к избушке»[1543]; «Меня все заманиват, меня все затягиват»[1544]. Дух-«хозяин» может превратиться в дерево (сосну, ель, березу), которое обычно служило приметой для находящегося в лесу. Встав в стороне от дороги, он сбивает людей с пути[1545]. Иногда леший принимает облик дерева, у которого мох либо короткие редкие сучья растут на южной стороне, тогда как им полагается быть на северной. Заблудившийся, глядя на такое дерево, выбирает неверное направление, хотя до этого шел в сторону дома, и продолжает кружиться на одном и том же месте: «Вот и выстали на лесину. Смотрим по сучью. <…> нам надо идти туда, где сучья нету на лесины. Выстали на лесину, посмотрим. <…> Не можем найти дороги»[1546]. Леший заманивает свою жертву в чащу, являясь перед ней в облике диковинного (иногда домашнего) животного. На эту приманку обычно поддаются охотники, которые углубляются в лесную глушь вслед за ускользающей «добычей». Вместе с тем «хозяин» в виде знакомого либо родственника увлекает человека в глубь леса, обещая показать ему грибные или ягодные места: «Девки, пойдемте по ягоды, я ягод очень много видела, прямо полно ягод»[1547]. Выясняется, что это было привидение, принявшее облик соседки Катерины Савватеевны, которая на самом деле уже две недели лежала в постели, не вставая. Заманивая путника, леший зовет его по имени, отвечает на ауканье. Так, в одной из бывальщин он ведет за собой женщину, окликая ее голосом мужа и называя так, как называл муж. В результате она даже не заметила, как перешла две реки и вышла к морю, хотя направлялась к деревне. Леший заманивает человека в глушь и плачем ребенка, стоном умирающего. Этот мифологический персонаж способен наслать на человека наваждение. В результате тому «почудится» («покстится»), что дорогу ему преграждает шумная река, которой раньше здесь не было. Стремясь ее обойти, человек сбивается с пути, попадает в трясину. Этой ситуации он мог бы избежать, если бы шел прямо, не замечая новоявленной, призрачной преграды[1548].

Рис. 68. На распутье. Каргополочка
Но особенно сильна власть «хозяина» над тем, кто был, хотя бы и сгоряча, послан к лешему. Стоило деду, пахавшему в лесу, послать к лешему («А понеси вас леший!») внучат, докучавших ему своими просьбами и мешающих работать, как нечистый в облике того же деда повел детей за собой в чащу. Чтобы противостоять неведомой силе, притягивающей человека в глубь леса, используются различные средства. В числе их произнесение молитвы, упоминание Божьего имени («Господи, куда нас ведешь ты?»), осенение себя крестным знамением и пр. Однако эти средства иногда не дают должного результата: леший не всегда пропадает (ведь изначально он сам божество, и молитва не изгоняет его). Более надежным способом избавиться от лешего служит брань: «заругался матерными словами»[1549]. Впрочем, он может пропасть и сам по себе. Исчезая, разражается хохотом: «А он расхохотался, говорит, впереди и потерялся»[1550]; «И вот племянник пошел от его прямо в скалу с большим смехом»[1551]. Что означает этот смех? Можно лишь предположить, что смехом завершается пребывание духа в «этом» мире, поскольку в ином мире не смеются[1552]. Смехом же обеспечивается возможность перехода из одного состояния в другое. Ведь смех обладает возрождающей, продуцирующей силой[1553]. Так или иначе, человек, заблудившийся по воле данного мифического существа в лесу (иного объяснения подобной ситуации былички и бывальщины просто не знают), оказывается в совершенно незнакомом месте: обытовленным сознанием оно осмысляется как труднодоступное и непроходимое, мифологическим же — как некий иной мир: «Птичка даже не пела, никакая птичка не пела. А места такие, что у нас тут вблизи нету. Не было таких местов, показалось. Поженьки такие чистенькие, хорошенькие… Озера-то, говорит, совсем не было»[1554]. Тем не менее, совершив определенное магическое действо и сбросив с себя чары, блуждающий в лесу неожиданно выясняет, что он находится всего лишь в двадцати шагах от того места, где пастух обычно гонит коров, и слышит их голоса. Человек как бы вновь оказывается в знакомом озвученном мире. В мифологических рассказах, повествующих о заблудившихся в лесу людях, часто фигурирует мотив, этнографическим субстратом которого является обряд переодевания, осмысляемый как средство избавления от лесных наваждений: «Значит, дед мне говорил: „В таких случаях розденься, вот, тряхни шапкой — в два счета, говорит, найдешь дорогу“»[1555]. Составные элементы этого обряда могут варьироваться в определенных пределах. Снимают с себя всю одежду, выворачивают наизнанку («на леву сторону») сорочки, платья, кофты и пр. Если дело происходит зимой, выворачивают шапку и рукавицы, а то и тулуп. (Вариант: надевают задом наперед одежду.) На ногах меняют портянки: с левой на правую и наоборот. Иные даже переобувают сапоги или лапти таким же образом. Другая версия: снимают с ног обувь и переворачивают в ней стельки, т. е. вынув из лаптей солому, кладут ее так, чтобы та часть стельки, которая лежала у пальцев, очутилась в пятках и наоборот. По мнению А. Н. Афанасьева, обувь — символ поступи, движения; переворачивая ее задом наперед, заблудившийся верит, что теперь он будет двигаться не в ту сторону, куда направляет его леший, а в противоположную и таким образом выйдет на прямую дорогу[1556]. Вместе с тем, на наш взгляд, переодевание на другую сторону — знак перехода в противоположный потустороннему мир. Эквивалент: нагнувшись смотрят позади себя меж расставленных ног (кстати, подобным же образом можно увидеть лешего). Раздеваясь догола, нужно «ругаться вовсю». Тряся снятую одежду, подчас выбивают ее о дерево (о том, что представляет собой данное дерево, сведений не имеется). Это магическое действо характеризуется глаголами: стряхнули, отряхнули, перетрясли, потрясли, вытрясли. Одеваться заново следует с молитвой, благословясь. Если же человек заблудился в лесу с телегой, то он распрягает лошадь и вновь запрягает ее, причем так, чтобы кольцо дуги приходилось не вперед, как обычно принято, а назад. Если же он ехал на двух подводах, то следует распрячь, а затем запрячь лошадей следующим образом: с задней подводы взять дугу на переднюю, а с передней — на заднюю, и обе дуги должны быть кольцами назад. При этом, как и при переодевании, читают мысленно молитвы: «Да воскреснет Бог…», «Отче наш», произнося вместе с тем слова заговора: «Избавь, моя молитва, от того, на кого я думаю: на шута, пусть шут погибнет, на всех врагов, пусть все враги погибнут. Как подкова разгибается, пусть так все враги, все шуты разорвутся»[1557]. Мыслительная основа подобного обряда следующая: иной мир такой же, как и «этот», только все в нем диаметрально противоположно: живое в нем становится мертвым, мертвое — живым[1558]. Вот почему, чтобы выбраться из потустороннего мира, нужно одеться либо запрячь лошадей наоборот, отряхнуться и отрешиться от пребывания в ином измерении. Иначе гибель в лесу неизбежна. Благодаря же описанному обряду человек спасается от неминуемой смерти: «На левую сторону повернула платье, надела. Пошла — тут тропинка и е, у которой я ходила-то»[1559]. Или: «Ну вот, наголо розделась, стряхнула одежду и сразу очутилась на том же месте, где и надо было»[1560]. Причем тотчас находятся и вещи, потерянные в лесу. В то же время домашние предпринимают свои меры воздействия для спасения заблудившегося: исполняют все тот же обряд «отведывания», или «отворачивания», посредством которого возвращали домой и потерявшееся в лесу домашнее животное. Для этого на перекрестке дорог кладется «относ»: им может служить хлеб с солью, горшок с кашей, блины или пироги, а то и кусок сала, причем вся эта снедь заворачивается в чистую тряпочку и перевязывается красной ниточкой. При исполнении обряда «отведывания» полагается кланяться на все четыре стороны, не крестясь, и произносить: «Честной леса, просим тебя: нашу хлеб-соль прими, а нашего родного возврати»[1561]. Диалог колдуна (знахаря) и лешего является одним из мотивов мифологических рассказов: «Вся волость пошла искать Ульяху. Наконец, стали колдовать. Слова дали. Рыцит колдун на заре: „Нет ли девки у тебя?“ — „Есть, да не получишь“. На другу зорю опять как сзади слова дават: „Кака у тебя девка? Вот такая?“ — говорит колдун (рисует ее наружность). — „Есть“. Колдун говорит: „Чтоб была представлена и не досажена“. — „Иди домой!“ — сказал леший девке. Девка и пошла той дорогой, какой леший указал»[1562]. В другом случае он даже доносит до реки на своих плечах «отведанных», или «отколдованных», девок. А затем одну из них перекидывает через реку, взяв за ухо и перервав у нее мочку, а другую отправляет на противоположный берег на доске. И здесь река — граница между природным и культурным пространством, между «тем» и «этим» мирами. Аналогичный результат получается и в том случае, когда домашние, стремясь вернуть заблудившегося из лесу, «в трубу (печи. — Н. К.) гаркают», обращаясь за помощью к домовому. Иногда лешему достаточно «показать» сокрытого им человека, чтобы родные сразу же его нашли, причем в том месте, в котором они до сих пор безуспешно искали. Делает это «хозяин» обычно по просьбе знахаря: «Мы под мостом сидели. Нам говорить было нельзя (ну, так и не сказали). А потом нас подбросили: „Идите, мол“»[1563]. Девочки находились «под мостом», т. е. в переходном пространстве: ни у леших, ни у людей. Но не всегда леший беспрепятственно отпускает свою жертву, особенно в тех мифологических рассказах, где его образ в какой-то мере трансформировался в образ черта: «Там нашли людей и стали их (трех девок. — Н. К.) ворочать. Ворочать как стали — и им стало плохо: вслед их бежат, на их крычат, а они плачут, все разорвались, все пришли розные. И, скаже, нас кольями, хлыстами да вичьями, да всим. Пока туда шли, манили, ска, то и всего нам надавают исть да все, кормили да все»[1564]. Впрочем, в силу тех или иных обстоятельств леший и сам может указать заблудившимся людям дорогу домой. В одной из бывальщин бабка Маня просит лешего, чтобы он помог выйти из леса. И вдруг показался старик на телеге в облике деда Бочкарева. Девушки, которые были вместе с бабкой Маней, бегут за дедом, но не могут его догнать. А старик тем временем заезжает в реку. Тут они и увидели, что это Сустрега. Идя берегом, заблудившиеся благополучно вышли на дорогу[1565]. Часто леший в виде ямщика предлагает путнику свои услуги. Если последний соглашается, то в конце концов, ухватившись за встречное дерево или усевшись на лесину, он оказывается у себя в избе держащимся за матицу, воронец или столб, а то и лежащим на печи. Но может «очудиться» и на вершине высокого дерева, на крыше мельницы, а то и «над рекой на пню» и даже в другом городе или государстве. В данном случае в лешем можно обнаружить некоторые признаки черта. Для классического лешего такие трюки в сущности не характерны. Леший не только водит человека, но может идти (бежать) позади или рядом с ним. Подобно тени (душе, двойнику), он движется, когда человек идет, и замирает, когда тот останавливается, либо бежит, поравнявшись с передовым оленем и передразнивая подвязанный у него колокольчик, пока не исчезнет бесследно. Леший может подойти к человеку, вступить в разговор, подчас даже петь вместе с ним: «Бывало, кака-то пришла жать на паленину, а народу-то много жало. А она маленько пожала да ушла в уборную или куды на край. Ушла, а мужчина пришел да и говорит: „Вот, — говорит, — давай-ка попоем песен“. И вот мы усилися да песни пели, а там не слышат, жнут. „Куда ушла баба?“ А баба сидит, песни поет, дак только звон стоит»[1566]. Совместное пение продолжается до тех пор, пока баба не вспомнила и не запела первую песню, с которой начался дуэт. Лишь после этого неизвестный захохотал и скрылся в лесу. Точно так же, согласно поверью, при разговоре с лешим нужно вспомнить и произнести первое сказанное им слово, как бы замкнув словесный круг. Леший навещает человека и в лесной избушке (стане, станке). Часто он старается выжить ночлежника. Мифологические рассказы на эту тему передают психологическое состояние охотника или рыбака, а то и крестьянки, припозднившейся в лесу за различными полевыми работами либо на сенокосе. Оставаясь на ночь в лесной избушке, в глуши, вдали от деревни, зачастую пребывая там в одиночестве, прислушиваясь к доносящимся звукам, человек невольно испытывает чувство страха. И оно передано в быличках и бывальщинах. Этнографическим субстратом подобного сюжета нередко служит поверье: «Если придется ночевать в лесу, надо попроситься у лесового хозяина, а то ночь не пройдет тебе даром. Шишко выгонит с ночлега. А угодишь ему, будешь благополучен»[1567]. Нередко это поверье присутствует и в мифологических рассказах: «А спросись у хозяина-лесового ночевать, тот и не начудил бы… Она, эта изба-то, была его»[1568]. Нужно, входя, сказать: «Пусти, лесной хозяин, укрыться до утра от темной ночки»[1569]. В образе «хозяина» в данном случае могут в различных соотношениях сочетаться признаки лешего и домового.

Рис. 69. Промысловая избушка
Если же, кроме этого, нарушены и другие запреты, последствия не заставят себя долго ждать. В одной из бывальщин леший пытается вытащить из избушки тех, кто лег не благословясь: «А лягемте „Господи, не благослови“». Причем слова отречения были произнесены в тот момент («в двенадцать часов»), когда полагалось сказать: «Господи, благослови», когда нечистая сила проявляет наибольшую активность. Тотчас послышалось некое хлопанье, затем вокруг избушки раздался стук, открылись двери — и «нечистый лесовой дух» поволок к дверям двоих (он таскал через человека), к ужасу присутствующих: «А-вой, а-вой, а-вой», пока воскресная молитва не изгнала его[1570]. В данном мифологическом рассказе молитва помогает, поскольку леший осмысляется здесь уже в качестве нечистой силы. Вместе с тем леший может всю ночь отворять двери настежь как будто и без видимой причины, хотя совершенно очевидно, что охотник не попросился на ночлег у «хозяина». В результате он слышит, что некто ходит рядом с избушкой, видит, что его собака прыгает на двери, вставая на задние лапы и упираясь в нее передними, наконец она выбегает наружу и куда-то исчезает[1571]. Рассказы о том, как леший пытался выжить из лесной избушки непрошеных ночлежников, довольно многочисленны. К ним относятся былички и бывальщины, этнографическим субстратом которых является следующее поверье: нельзя укладываться спать на излюбленном месте «хозяина», будь это в лесной избушке или на тропе: «Охотник этот охотился. Он пришел в избушку ночевать да повалился на печь. А на печи жарко. Он и перебрался на лавочку. А на лавочке сидел сам хозяин. Он и стал охотника мучить. <…>. Тот не так долго и пожил»[1572]. В другой бывальщине охотник едва не был задавлен «хозяином», который, придя ночью в лесную избушку, собирался укладываться на привычном месте, но, обнаружив там человека, начал его душить, пока тот не «стал молитву творить», после чего ночной пришелец исчез[1573]. В том же случае, когда излюбленное место «хозяина» оставалось свободным и он («та-акой мужик, дак едва эдак запихался»), придя в стан, смог спокойно занять его, охотник благополучно, хотя и не без страха, дождался утра, устроившись на другой стороне избушки[1574]. По-видимому, семантика правой и левой стороны все же остается актуальной и в подобных коллизиях. Чтобы леший больше не открывал двери настежь, используются различные средства — обереги: «Взял топор в порог воткнул, да и: „Крещеный человек входи, а некрещеный не входи“»[1575]. Или: «Только лег — опять так же обе двери открылись. Я: „Так твою мать!“ С ебухами опять встал, закрыл обе двери и ружье взял, из патрона пулю вынул, хлебом заткнул, корочкой хлеба, и положил около себя, через левое плечо. И боле никто не тревожил»[1576]. (Как видим, мат оказывается мощным оберегом против нечистой силы. Апотропейные свойства приписываются и хлебу, семантика которого обусловлена культом предков и, в частности, домового.) Иногда леший заходит в лесную избушку погреть руки: «а он через станок, леший-то, руки так спустил: „А-а-а…“ Так вот и греет. <…> И это потерялись руки и пальцы и все, огонь горит»[1577]. В другой бывальщине он проводит рукой сверху донизу, оставляя следы, по верхнему перекрытию дверного проема, через который выходит дым из курной избушки. «А ему что´ — пугать пришел»[1578], — так обычно объясняет рассказчик цель прихода «хозяина». В редких случаях леший или лешачиха уже находится в лесной избушке, когда припозднившийся крестьянин переступает ее порог. В одной из бывальщин зашедшая туда крестьянка видит сидящую «женку» («нашу»). Вместе стали готовить ужин, собирались «огонь разживить». Все шло своим чередом, пока крестьянка, у которой не зажигались спички, не упомянула Господа Иисуса Христа. Тут у «женки» котелки с бряканьем вылетели из рук — и ее как не бывало. Далее произошло то, чего обычно и добивается леший: «Ну, так сенокосница испугалась, да осередки ночи домой бежать. Дак бежит-бежит-бежит да еще подбежит. <…>. Так после, как косить, скажут: „Пойдем ночевать!“ А она: „Нет, не пойду, опять покажется“»[1579]. Впрочем, результат может быть и прямо противоположным: «Не боюсь, мне не первый снег на голову пал, я этого (проделок лешего. — Н. К.) не страшусь»[1580]. В других мифологических рассказах леший, выживая человека из избушки, то пройдет ветром над ее ветхой кровлей, то, выдернув дверь, метнет ее подальше в лес, то зашумит деревьями, то захлопает, будто крыльями, и закричит, как птица, и т. д. В этом случае, если этикет соблюден и оставшийся допоздна в лесу человек по-доброму попросил у «хозяина» крова, мифическое существо, имеющее фитоморфный облик, ни при каких обстоятельствах не нарушит закона гостеприимства: «Пришел мужик к сосенке и подавался: „Сосенка-матушка, пусти ночевать“. К сосне ночью приходит другая: „Поди, — говорит, — матушка умирает“. Сосна говорит: „Нельзя. У меня ночлежник запущен“»[1581]. Таким образом, как выясняется, все происшествия в лесу оказываются отнюдь не случайными. Они обусловлены определенными причинно-следственными связями, осмысляемыми в соответствии с традиционными верованиями и обычаями. Вот почему, чтобы избежать несчастных случаев, человек, согласно народному этикету, отправляется в лес благословясь, помолившись Богу (изначально: лесному языческому божеству). А приближаясь к лесу, должен попросить разрешения у «хозяина» войти в него: «Лес клястной, хозяин частной! Господи, Боже благослови в лес войти и с лесу выйтить»[1582]. Лишь в этом случае крестьянин чувствовал себя застрахованным от разных нежелательных ситуаций.
Похититель людей
Подобно другим демонологическим персонажам, леший предстает и в качестве похитителя людей. Мотивировкой похищения в дошедших до нас мифологических рассказах наиболее часто служит, как уже говорилось, сгоряча сказанное родительское проклятие типа «Чтоб тебя леший взял!» или нечто подобное: «Когда отец или мать, возгорчившись на ребенка, говорят недобрые слова: ой, лембой тя дери, ой, изыми-тко тя; ну тя к лешему, — лембои тут и есть: они похищают заклятых»[1583]. Такое упоминание лешего особенно чревато последствиями в урочный час (например, в полдень): младенец тотчас же оказывается в его власти. В случае, если «заклятого» удается окрестить, то леший ждет, пока ему не исполнится семь лет, после чего сманивает в лес. Эта угроза существует и для некрещеного ребенка: «Леший сказал: „И я к нему иду воровать некрещеного младенца-сына“»[1584]. Причем он подменяет унесенное дитя: «А у них зыбочка качается, ребенок малый. <…>. „Я, — говорит, — его унесу, а им подложу полено, пусть его ростят“»[1585]. Согласно поверью, леший похищает и «приспанное» дитя (оно якобы не умирает), оставляя взамен чурбан. В этой аналогии опять-таки заметны признаки отождествления смерти и похищения. Последнее изображается как состояние перехода из одного качества в другое. В упоминавшейся нами выше бывальщине «большой-большой мужчина», будучи сам нагим, уносит по болоту голого ребенка. Делает это он отрешенно, молча, не отвечая на удивленный вопрос случайного свидетеля, каковым оказался крестьянин Тихон Ковалев. Последнему и удается как бы заглянуть в некий тайный мир и даже войти в него вслед за лешим, однако не суждено вернуться оттуда. Ослабленной формой похищения можно считать и попечение, под которое леший берет дитя, оставленное родителями в лесу или в поле без благословения: «Вечер приходит, гляжу, и Пётрей приехал. „А где же ребенок?“ — спросила я. Тут он хватился, что ребенка-то и забыл. — „Охти мне, што ты сделал“, — сказала я и бросилась на заполёк. Прибежала туды, гляжу, у ребенка кто-то стоит и байкает. Я остановилась и слухаю, а он и не глядит в ту сторону, знает сам приговаривает: „Мати оставила, отец позабыл; мати оставила, отец позабыл“. Меня всю так обдало холодом»[1586]. Взамен похищенного ребенка леший обычно оставляет полено или чурбан, которые хотя и принимают облик дитяти, все же сохраняют за собой признаки хтонического, аморфного, асимметричного уродливого существа, не умеющего ни ходить, ни говорить, не обнаруживающего каких-либо признаков интеллекта. В одной из карельских бывальщин женщина, пославшая к лешему увязавшуюся за ней дочь, вернувшись домой, обнаруживает ребенка, похожего на ее девочку. Однако материнским сердцем она чувствует, что это не дочь, а «обменыш». Спустя некоторое время подозрения матери подтверждаются: «девочка» оказывается не в полном разуме, на нее смотрят как на «исчадие лешего». Достигнув определенного возраста, подобного рода «обменыш» обычно исчезает (эквивалент: умирает). Согласно поверьям, он возвращается в лес.
Рис. 70. Традиционные каргопольские глиняные игрушки
Похищенных же детей нередко приносят в лесную избушку. Их воспитывают лешие, «лесные старики», или «отцы». Дети овладевают там «тайными» знаниями: вернувшись к людям, становятся знахарями и колдунами. Вместе с тем в мифологических рассказах часто повествуется, что, будучи у лешего, ребенок постепенно дичает, перестает понимать речь, носить одежду, обрастает мхом и корой. Он утрачивает облик, становясь невидимым: «другие ребята мимо шли и их (лешего с похищенным человеческим младенцем. — Н. К.) не видали»[1587]; «Через это проклятие дочь ее сделалась невидимкой»[1588]. Родители не видят свою дочь даже тогда, когда она вместе с лешим находится совсем рядом. Водимые лешим видят лица своих родных, слышат их разговоры, разделяют их скорбь, но открыться не могут, лишь изредка им удается пройти около родных и «тирнуться краем одежды»[1589]. Пропавшие дети как бы растворяются в природе. Точно так же леший похищает и девушек: «Пришли к реке: „Садись на плецо!“ Она села, он ее перенес»[1590]. Обратим внимание, что леший (в том случае, если родителям удается «отведать» похищенную девушку) и возвращает ее, перенеся через реку на противоположный берег: «„Пойдем, девка, тебя дома ищут“. И повел. Вел-вел, к реке привел. Через реку перенес, вывел на шальску дорогу»[1591]. Вспомним также рассказ, в котором леший перебросил через реку одну из девушек за ухо, а другую отправил на доске (эквивалент: половица-«десничина», символизирующая дорогу-судьбу). В подобных эпизодах заключена мифологема перехода из «этого» в «тот» мир и обратно. Ведь река в народных верованиях осмысляется как граница между мирами, как путь в иной мир. Вот почему некогда, в соответствии с древним похоронным обрядом, покойника пускали по воде. Память об этом способе погребения сохранилась в слове навь, навье — мертвец, которое является однокоренным с navis (лат.), что значит «корабль». Не случайно у многих народов, в том числе у славянских, существовал обычай захоронения в ладье[1592], что обеспечивало покойному возможность благополучно перебраться в иной мир, находящийся за водной преградой. И леший, переправляя похищенных с одного берега на другой, уподобляется Харону, перевозящему мертвых по водам подземных рек. О том, что мифический похититель является из потустороннего мира, свидетельствует такой сюжет: унесенный вследствие родительского проклятия («Иди к лешему!») парень возвращается, как только домашние отслужили молебен по умершей бабушке (здесь: эквивалент лешего), после чего она не могла его больше удерживать. Посланные к лешему обязательно похищаются. Исключение составляют лишь те редкие случаи, когда девушка догадывается сразу после проклятия встать за чурку и призвать на помощь самого Чура, т. е. попросить защиты у домашнего божества. Согласно поверьям, похищенных девушек лешие берут себе в жены. Этот мотив, ведущий начало из мифа, повествующего о браке человека с тотемным животным, имеет место и в бывальщинах, где сохраняется подчас уже в трансформированном виде: «Один леший влюбился в бабу, и от любви так измаялся, что не мог делать ничего, и женился на ней»[1593]. Чаще этот мотив разворачивается в сюжет в более архаической, карельской, традиции: «Не бойся, — говорит, — мама, это я, твоя дочка Огуей. Меня после того разу, как ты прокляла, унес леший — метчалайнэ. Жить мне у него и хорошо бы, да скучно по дому. Мы с ним все ездим по лесу. <…> У меня с ним уже и ребенок есть…»[1594] Широко распространенным является мотив: леший возит на себе старушку «бабить новорожденного», щедро награждая ее за труды. Если же от лешего рождаются дети у женщины, живущей в деревне, то они сразу исчезают, их никто не видит: такие младенцы принадлежат иному миру. Кроме того, леший уносит душу мужика после его смерти, если дух-«хозяин» оказывал этому человеку услуги при его жизни. Как следует из мифологических рассказов, похищение можно пресечь с самого начала, используя для этого различные средства, языческие и христианские: обряд «отведывания», заговор, молитву, молебен, крестное знамение, упоминание Бога и пр. (в условиях двоеверия одно другого не исключает). Так, леший, который собирался украсть некрещеное дитя, не смог его унести, поскольку забравшийся в этот же дом вор вовремя произнес, когда ребенок чихнул: «Будь счастлив на день крещеный!»[1595]. И даже уже уносимого младенца еще можно вызволить из рук лешего посредством подобного пожелания. Пример: в избушку, куда зашел ночевать охотник, «пихается» леший: держа ребенка на руках, он поворачивает его перед очагом, желая отогреть; младенец чихает — присутствующий здесь охотник произносит: «С нами Свят Дух, яко с нами Бог»; леший бросает украденное дитя и, выворотив двери, убегает; младенец остается у мужика[1596]. В роли избавителя может подчас выступать и какой-нибудь христианский святой, например, Николай Чудотворец: «А с другой стороны иде маленький такой мужичок, такая борода, и говорит этому лешему-то: „Ты изыди прочь, отсюда уходи, чтоб тебя не было!“»[1597]. Впрочем, уводимого лешим ребенка иногда спасают лишь тем, что вовремя спохватываются и догоняют: «Он (сын. — Н. К.) как кричит, побежал как в лес и кричит: „Ой, мамушка, ой, мамушка!..“ И ты пой ведай: страшным голосом кричит. Ну, как я побежала вслед, да еще тогда молода была, — догнала. Не догнала бы — уволокли его пой ведай куды по лесу»[1598]. Вовремя спохватившись, можно вернуть и уводимых лешим девушек, используя для этого, к примеру, обряд «отведывания», после чего похитители больше не могут удерживать их — и те возвращаются домой. Поиски же сами по себе, предпринятые без совершения обряда «отведывания» или молебна, обычно не дают положительного результата: похищенные, по воле лешего, остаются невидимками или неоткликаются на зов, хотя видят и слышат тех, кто их ищет. И даже унесенного в «тот» мир можно при определенных условиях вернуть. Но такая возможность предоставляется лишь один раз: чаще по истечении срока проклятия, обычно исчисляемого семью годами, что позволяет видеть здесь отголоски обряда инициаций (в аналогичных бывальщинах, где похитителем является баенник или домовой, возвращение в «этот» мир обусловлено свадьбой). Так, в одной из бывальщин знахарка учит мать, у которой леший унес дочь Манюшку: «Ну вот, — говорит, — не плачь, а поди в такой-то день, сядь под окошко и возьми крест. Как она мимо пойдет, дак ты, говорит, как кинешь на нее крест либо хлопнешь, она останется. Ну вот, как если, — говорит, — не хлопнешь ничего, креста не кинешь на ней, то ты ей боле не видашь»[1599]. Женщина вышла и села у дороги, дожидаясь двенадцати часов. В урочный час заиграла гармошка. Идут рядами: «А в четвертом-то ряду моя, — говорит, — Манюшка идеть. А все прирвано платьишко так, все цветышком так, идет о самое-то окошко: „Мама!..“ А я крест-то кинула, ой, дак, она в артели была, спугалася. И больше только и видела»[1600]. В другой бывальщине похищенный по истечении срока проклятия и при совокупности определенных обстоятельств все же возвращается к родителям: «Раз они были в кабаке. Отец предлагал матери выпить стакан водки, а она все отказывалась и с сердца выплеснула водку через плечо прямо в глаза своей дочери, которая невидимо была в кабаке и терлась вместе с лешим подле своих родителей. Тотчас же дочь перестала быть невидимкой и появилась пред глазами удивленных и обрадованных родителей»[1601]. Символика имеющих здесь место действ и атрибутов прочитывается в соотнесении с народными верованиями: водка осмысляется как вода, очистительная и возрождающая стихия; выплескивание воды через плечо (левое), где находится нечистая сила, — знак очищения; попадание в глаза — очищение души (глаз — одно из ее вместилищ) и возрождение. Однако унесенные лешим могут вернуться лишь в том случае, если они не вкусили пищи леших. Это поверье, зафиксированное еще в XVIII в., продолжало бытовать и в XIX в. В трансформированном виде оно бытует и поныне: «А там избушка в лесу. Баба длиннушшая тама. Дедушко говорит: „Накорми его“. А он не ест. Носился, носился, прилетает: „Жрал?“ — „Нет, не трогал ничегошеньки, даже белого хлебушка не отведал“. Опять улетел. Он опять не ест. Тут дедушко налетел. „Жрал?“ — „Нет, не жрал“. Вернул он его на крылечко»[1602]. Или: «А меня (у лешего. — Н. К.) ничем не угощают, ничего и не говорят со мной»[1603]. Сущность подобного запрета была в свое время раскрыта В. Я. Проппом: приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришелец окончательно приобщается к миру умерших[1604]. В таком случае возвращение его оказывается невозможным. Вместе с тем в некоторых бывальщинах вернувшийся «оттуда» рассказывает, что «старик» кормил его хлебом, который еще и сейчас лежит у него за пазухой, но когда стал вынимать ломоть, тотчас же вместо хлеба оказались гнилушки и мох. Всякое вещество, принесенное из «того» мира в «этот», меняет свою субстанцию. Едой похищенных лешим является и пища людей, положенная ими не благословясь, просто лесные ягоды.

Рис. 71. «Пильщики». Традиционные маятниковые игрушки: резные (а, б), щепная (в). Заонежье
Так или иначе возвращение похищенного возможно, и леший выносит его на то место, откуда взял: «Стоит у крыльца лесовик и говорит: „Я, Кузьма, тебя долго жду“. Посадил на плеча Кузьму и потащил в леса и носил Кузьму долго лесовой. Стали Кузьму отворачивать, колдунов искать. И колдуны стали отколдуивать, чтобы лесовой вернул Кузьму. И Кузьму лесовой и принес, к крыльцу и кинул»[1605]. Возвращая же похищенного дровосека, леший привел его к тому дереву, где тот оставил воткнутым свой топор. Однако не исключены случаи, когда унесенный так и остается в потустороннем мире. В одной из бывальщин всем селом искали, но не нашли потерявшегося мальчика. Прошло время от весны до осени. Пошел охотник в лес и заблудился. Сколько ни ходит, а все придет к одному и тому же месту. Наконец, он перетряхнул одежду, заругался: «А мать твою так, — говорит, — ты парня увел, да и меня хочешь увести»[1606]. Обернулся, а тело мальчика лежит вниз головой. Шагах в десяти от этого места находится и река. «Так „он“ в такую даль его увел, что даже на веку птица там не пролетывала — от куда увел»[1607]. Совершив магические действа (переодевание, мат), охотник избавляется от власти лешего, тогда как мальчик этого сделать не сумел. Унесенные лешим возвращаются домой несколько иными, чем были раньше. Они дичатся общества, учатся заново говорить. Некоторые из них оказываются «поврежденными»: «Стал Кузьма жить, и Кузьму стало с ума сбивать. Кузьма стал обряжаться: зайдет Кузьма в байну, обрядится под пол — и Кузьму ищут всем селеньем. Или Кузьма в овин обрядится»[1608]. Состояние безумия, по мнению исследователей, — результат пребывания посвящаемого в лесном доме и следствие инициаций. Оно осмысляется в фольклоре как признак вселения духа в неофита и обретения им соответствующих способностей[1609]. Вот почему возвращенный в приведенной бывальщине «обряжается» (прячется) в подполье бани либо овина, т. е. в сакральных локусах. В других мифологических рассказах вернувшиеся сосредоточены и серьезны, многие из них становятся знахарями и колдунами, предсказывают свою судьбу и судьбу близких, поддерживают отношения с лешими и домовыми: «У нас, бывало, парня носил он, лесной бутто, долго, и он ворожить научился. После того было. Кто что потереить, он маленько и сказывал»[1610]. Похищенный, возвратясь домой, продолжает испытывать на себе притягательную силу леса: «Он, как вечер, просится: „Отпустите к дедушке, я у дедушки спал дак хорошо, да тепло так…“»[1611] Вернувшись из леса, меняются и девушки: «Глаза у девок вострые, как не наши глаза, не людские, как невидимки. Потом наладили. А девки и посейчас живы, замуж вышли»[1612]. Выйдя замуж, девушки утрачивают связь с прежним семейно-родовым культом, с «тем» миром, забывают и свои «тайные» знания. Побывавшие у лешего напоминают обмиравших. Их рассказы сходны с видениями последних. И, подобно обмиравшим, они сообщают не обо всем, что видели в потустороннем мире, соблюдая определенные запреты: «А одно слово мне не приказано говорить»[1613]. Нарушение запрета тотчас же наказывается: «Дома рассказал — да и онемел, и говорить больше не стал»[1614]; «Стала как рассказывать, так ее стало пугать. Во сне говорил: „Не то тебе будет!“»[1615]; «Если расскажу, — говорит, — умру»[1616]. Таким образом, лес осмысляется как потусторонний мир, обиталище умерших. Возможно, что последнее представление сложилось в восточнославянской традиции в какой-то мере под влиянием верований скифов, и прежде всего их похоронного обряда, в соответствии с которым мертвое тело подвешивали на дерево[1617]. Похищение, предпринимаемое лешим, — это своего рода метафора переживания человеком своего лиминального состояния при прохождении каждого из этапов жизненного цикла (рождение, инициация, брак, смерть). В качестве вершителя человеческой судьбы леший, в какой-то мере отождествляясь с домовым, банником, сохраняет за собой рудиментарные признаки предка-родоначальника.
Предсказатель судьбы
Как явствует из мифологических рассказов и поверий, леший пополняет ряды персонажей-оракулов, восходящих к единому архетипу, связанному с божествами судьбы, и выделившихся из него в процессе длительной эволюции. Архаическая версия подобного мотива, представленная лишь в рудиментах, сводится к тому, что леший предсказывает будущее похищенному им, т. е. пребывающему, как выясняется, в лиминальном состоянии, и даже учит неофита ворожить. В дошедшей до нас традиции более распространенными являются мифологические рассказы и поверья, выросшие из ритуализированных повествований, согласно которым «знающий» человек (маг), чтобы узнать свою судьбу или же судьбу родных, соседей на предстоящий год, отправляется в лес, нередко на перекресток, росстань, распутье. Для этого выбирается опять-таки сакральное время, прежде всего Святки, и особенно под Рождество, около двенадцати часов ночи или на вечерней заре. С собой он берет предназначенный для лешего «относ» (обычно в виде каравая хлеба с солью). Придя в лес, выкликает: «Эй, большой брат, выходи хлеба-соли покушать!»[1618]. Явившийся на зов леший спрашивает: «Что тебе надо?» Знахарь (колдун) задает ему вопросы, концентрирующиеся в основном вокруг извечных крестьянских тем: об урожае, женитьбе, солдатчине. Леший, по рассказам, отвечает лишь на три из них, а затем хохочет и говорит: «Ах, дурак, все одно слово помнит!»[1619] (т. е. спрашивает все об одном), после чего уходит в лес. Узнав от лешего будущее, знахарь (колдун) приносит вести в деревню: «„Олешка с Падуна спрашивал ходил у лесного, а тот сказал, что он (Сашка) не приде (с фронта. — Н. К.) домой“. — „Ну, я так и знал. Что Олешка сказал, дак уж правильнё“»[1620]. Подобные контакты с лешим небезопасны. Стоит нарушить какой-нибудь из запретов (например, оглянуться) — и наказание последует неотвратимо: «Ворожил-ворожил, да назад себя обвернулси, а лесной ёму пришел да пальцём в лоб щелкнул. Он, говоря, пал назад себя да одва отлёжалси…»[1621]. Как видим, знахарь (колдун), который общается с лешим, уподобляется магу, вступающему в контакт с духами. Мифологические рассказы, этнографическим эквивалентом которых являются мантические обряды, бытуют наряду с самими гаданиями, в той или иной степени объясняя последние. Так, роль лешего в качестве предсказателя судьбы уже завуалирована в обряде, но она раскрывается в соответствующем мифологическом рассказе. В быличках и бывальщинах гадание совершается в сакральное время и на сакральном же месте: перекрестке, росстани, распутье (о семантике этого локуса нам уже доводилось говорить[1622]). Идентифицируемый с покойником, здесь похороненным, леший одухотворяет маркированное им пространство и время, обнаруживая свое присутствие лишь в случае нарушения того или иного правила либо запрета. Количество гадающих определено традицией: их должно быть четыре — пять — семь человек (по другим сведениям, нечет обязателен), но случается, что гадают и в одиночку. Участниками ворожбы могут быть лишь достигшие шестнадцати лет[1623]. Для гадания создается особое магическое пространство (напомним, что и само место исполнения обряда является сакральным). Это круг, трижды очерченный (причем три черты находятся на некотором расстоянии друг от друга) посредством магических атрибутов (крюк, кочерга, ухват, головня, лучина и пр.) с магическими же приговорами: «Стань стена железная» (она может быть булатной, каменной, огненной, водной и пр.). Возводятся обычно три невидимые ограды, но набор их может варьироваться. Это действо совершает «знающая» старушка, своего рода вершительница обряда, но иногда и кто-нибудь из гадающих. Затем в круг входят участники обряда (изначально: черта очерчивается вокруг них). Нередко сюда же вносят решето, в котором лежат краюшка хлеба, ножик и иконка, где хлеб — эманация домового либо эквивалентного ему духа-«хозяина», а иконка заменяет своего архаического предшественника. Становясь спиной (по иным свидетельствам, лицом) друг к другу, они начинают «чудить», «слушать». Разговаривать при этом нельзя, иначе все стихнет и перестанет «чудиться».
Рис. 72. «Борьба птицы со змеем». Мотив пудожской вышивки (шов набором)
Созданное магическими средствами пространство соотносится с сакральным временем, у которого нет границ между прошлым, настоящим и будущим. Вот почему до находящихся в нем доносятся звуки-сигналы из будущего, символизирующие те или иные события; они затихают, как только участники обряда выходят из круга. Этими знаками-символами и определяется судьба гадающих в наступающем году: «Там как песни запело. Дак одна женщина заводит, а поди знай сколько подтягивают, дак заслухался бы»[1624]. И наоборот: «как курицы заклокотали. Да женщины раньше вот голосом плакали на могилках да везде. Вот женщина по всей деревне по Никольской плачет вот голосом. И вот эдак в долошки похлопает и опять к роще (там роща была) и иде туда со слезами»[1625]. Таковы знаки радости и беды, символизирующие жизнь гадающих в наступающем году. Эквивалентом очерченному пространству является очерченная шкура (с шерстью), телячья, коровья, оленья и пр. Взяв шкуру, идут ближе к полуночи на перекресток и, разостлав ее, кладут поверх хлеб и ножиком очерчивают круг, в который и садятся, закрыв себя столешником или скатертью (знаки локуса домового), после чего, ухватив друг друга за мизинец, делают зарок, чтобы открылась им годовая судьба. Затем слушают. Одной чудится звон колокольчиков — наедут женихи большим поездом; другой — шум большого количества народа, собравшегося на поле, — к обильной жатве[1626]. Мифологические рассказы, основывающиеся на данной версии обряда, повествуют не столько о самом гадании, сколько о нарушении одного из важнейших правил ворожбы, вследствие чего участник обряда не только не узнал о своем будущем, но и подвергся наказанию, едва ли не закончившемуся для него трагически: «Дед, значит, Коршуновых, братьев, гадал на Крещенье. Вытащил за город, вынес шкуру телячью, сел и очертил ухватом, да. А в результате, значит, хвоста-то и не очертил. И якобы его семенковский (леший) утащил до леса, да. Поехали искать потом его родные, нашли окол леса уже чуть ли не замерзающего, привезли его обратно. Пока еще он остался жив-здоров»[1627]. Или: «А он шкуру-то очертил, а хвоста не очертил. „Не ходи, черт, за´ черту! Не ходи, черт, за´ черту!“ А хвоста-то не обчертил. А черт пришел (тоже в сером кафтане), выходит из лесу и кричит громко так, страшно: „Ты чего тут делаешь!“ И сгреб его за хвост-то и поволок в лес. Он поспел захватиться только за края шкуры. Ну, а потом закрестился и — ничего не стало. Так он из лесу километров шесть брел по целине, и нигде никакого следу не видал»[1628]. В подобных мифологических рассказах высвечивается роль лешего (его сниженный эквивалент: черт) в качестве блюстителя правил гадания. Причем изгнание нарушителя этого этикета сопровождается всевозможными чудесами, обнаруживающими магическую силу мифического оракула. В одном из таких рассказов гадающий парень настолько перепугался, что, бросив свой баян, кинулся бежать в деревню — «вдруг баян дома образовался»[1629]. Участие лешего в качестве оракула обнаруживается и из самих мантических обрядов. К числу таковых относится ворожба под названием «полоть снег». Девушки под Новый год выходят на распутье, кладут снег в передник и, закрыв глаза, трясут передник, приговаривая:

Глава IV Водяной и родственные персонажи
Покрыла зелень ряски Пустынный, старый пруд, — Я жду, что оживут Осмеянные сказки.Ф. Сологуб
Вода в крестьянском быту и верованиях

Вода (прежде всего река) — устойчивый символ дороги, жизни, судьбы в поэзии, и не только народной. В условиях необжитого края, при сохранении первозданных, девственных лесов она в буквальном смысле служила дорогой, едва ли не единственной. Водным путем зачастую добирались на новые земли первопоселенцы. Да и в дальнейшем соседние деревни нередко соединялись между собой именно этой дорогой. По реке, озеру доставлялся и лес для возведения храма, избы, различных хозяйственных построек. По ним же нередко отправлялись на крестьянские работы или промыслы, охотничьи, рыбные, лесные. Ближние, а со временем и отдаленные водоемы служили источником пропитания как места рыбного промысла. Реки и озера, у которых располагались деревни, использовались и в качестве основных резервуаров питьевой воды. Практические функции воды сочетались с обрядовыми. По утверждению С. С. Аверинцева, «вода — одна из фундаментальных стихий мироздания <…>, это первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного хаоса»[1636]. Не случайно момент основания едва ли не каждой деревни осмысляется как акт упорядочения хаоса, определения своего места в мироустройстве. Чтобы вписаться в него, первопоселенцы совершали обряд выбора места для основания деревни или для строительства культового сооружения. Они пускали по воде икону (либо ее языческий эквивалент). Там, куда прибивало волной этот атрибут, и основывали селение или же строили храм[1637]. Эта природная стихия участвует во всех семейных обрядах, связанных с идеей рождения как воскресения. В качестве одного из четырех элементов природы она, по народным верованиям, присутствует в актах возрождения, реинкарнации всего сущего. Не случайно воде, особенно «живой», только что пробившейся из-под земли, приписывается и животворящая, целебная сила. И потому данная стихия — один из важнейших атрибутов в знахарской практике.

Рис. 73. Поморье — корабельная сторона
«С мотивом воды как первоначала соотносится значение воды для акта омовения, возвращающего человека к исходной чистоте. Ритуальное омовение — как бы второе рождение, новый выход из материнской утробы (аспект мифологемы воды, удержанный в христианской символике крещения)»[1638], — отмечает С. С. Аверинцев. Подобным ритуальным омовением производится дифференциация «чистых» от «нечистых»: к последним с победой христианства стали относиться и персонажи язычества. Вода (чаще стакан воды) является одним из основных атрибутов и в мантических обрядах, посредством которых угадывались дальнейшие этапы жизненного цикла, определялись будущее, судьба крестьянской семьи. Обрядовые функции воды в значительной степени обусловлены представлениями об этой стихии как о микроэманации или знаке-символе, эмблеме ее духа-«хозяина», равно как и о границе между мирами.
«Разновидные личины» водяного
В дошедших до нас мифологических рассказах водяной предстает преимущественно как антропоморфное существо. К числу наиболее характерных признаков этого мифологического персонажа относятся длинные черные, распущенные по плечам волосы, которые он расчесывает гребнем: «И на этом каменю оказался будто бы человек, волосы распущенные по плечам. Только что одна личность видна, а волосы по всему»[1639]. Волосатость, как и шерстистость, водяного — знак средоточия в нем стихийной жизненной силы, физической и магической. Женской ипостасью этого персонажа является водяница. Некогда это архаическая предшественница данного духа-«хозяина». В поздней же традиции она обычно осмысляется в качестве его жены. Изображается примерно так же, как и водяной: «В руках гребенка, гребень. Длинные-длинные черные волосы. <…> а она сидит, волосы чешет, кудрявые, кудрявые, так всё волнами.<…>. Сидит, на две стороны волосы и вот расчесывает, черные, как смоль, ну, волнами всё, такими кольцами»[1640]. Ее характерный признак — большие отвислые груди. Вместе с тем в севернорусской традиции водяница тождественна русалке: «А сидит женщина, волосы по плечам, вот так распущены <…>. Вот водяная или какая русалка тут или кто? Нонь-то русалками всё зовут, а раньше-то всё: водяница да водяница»[1641]. Или: «Сидит на берегу девка гола и чешет волосы. По-деревенски, воденик, а по-ученому, русалка»[1642]. Представления о последней более дифференцированы в общерусской и особенно в украинской, белорусской традициях. В то же время даже поздние записи мифологических рассказов, произведенные в XIX–XX вв., позволяют в совокупности реконструировать архаический облик водяного[1643]. В результате выясняется, что «хозяин» подчас не отличается от самой природной стихии, духом которой он является. Водяной и река (озеро) в таком случае оказываются тождественными: «Как только он уходил, то в озере не оставалось капли воды до тех пор, пока не возвращался назад. Но как только возвращался в свое место, то приводил назад воду и рыбу»[1644]. С подобными воззрениями связаны рассказы об исчезающих и вновь появляющихся реках (озерах). Передвижения водяного изображаются как стремящийся с шумом поток воды, смешанный с песком и глиной, или как набегающая волна: «Подымется, пойдет на берег вал, за ним другой <…>, второго не троньте — это я (здешний омутник. — Н. К.) буду»[1645]. И даже в рассказе об антропоморфизированном духе-«хозяине», пришедшем в гости к мужику, фигурирует знак воды: место, где сидел мифический пришелец, по его уходе оказывается сырым; края балахона, в который одет «хозяин», всегда мокры или же с левой его полы постоянно капает вода. Она же течет струей с волос водяного (водяницы). Этими представлениями обусловлен запрет хулить свое озеро. Согласно поверью, если попьешь из него воды да похулишь — вряд ли и жив останешься. Вот почему в ответ тому, кто «хает» воду в их озере, местные жители многократно приговаривают: «У нас водушка хороша, у нас водушко хорошее»[1646]. По утверждению рассказчиков, водяной может выглядеть, как рыба (превращаться в нее или казаться ею). Наиболее часто водяного видят в облике щуки, культ которой был распространен и у славянских, и у финноугорских народов. Рудиментом былых верований, связанных с щукой, является использование ее челюсти в качестве оберега, отмечаемое даже в наши дни: «Ловили щуку, леща. От первой щуки челюсть над входом вешали, чтобы плохого в доме не было»[1647]. От обычной рыбы щука-водяной отличается лишь огромными размерами, своим «моховым покровом» да еще тем, что при плавании держит «морду обычно не против течения, а по воде»[1648]. В одной из бывальщин рассказывается, как рыбак, увидевший огромную щуку, втыкает в нее острогу, после чего выясняется, что он ранил самого водяного. И хотя мужик по мере возможности исправил свою оплошность, все же он был наказан болезнью. Нередко водяной, осмысляясь как дух-«хозяин» определенной породы рыб, сам предстает в облике такой же рыбы: «Как-то я семь карасей споймала мордой, зимой. Заморожены были. Домой пришла — глядь! — живые. Дед мне: „Отнеси рыбу обратно, мол, тут главарь ихний“ (курсив мой — Н. К.). Дедка сам отнес в реку. Как сбухают в воду через лед и исчезли!»[1649]. Былая соотнесенность водяного с определенной породой рыб просматривается в поверье, согласно которому у него есть своя рыба, называемая лежня, или чертова рыба, т. е. рыба водяного, который в данном случае представлен уже в качестве нечистой силы. Имеются в виду, например, голые рыбы: налимы, угри. Если их поймают, то сразу же отпускают обратно в воду. Некогда существовал запрет на употребление этой рыбы в пищу. Будучи изначально духом-«хозяином» той или иной породы рыб, водяной со временем выделяется из этой общности в качестве субъекта, тогда как его былой зооморфный фон распадается на совокупность однородных объектов. Теперь рыба определенной породы (например, карпы) служит ему для пропитания. И водяной строго наказывает смельчака, позарившегося на этих карпов, нередко лишая его жизни. Иная рыба, например сом, используется им вместо лошади в поездках под водой. Это «чертов конь». Пойманного сома нельзя бранить, иначе водяной, услышав ругань, отомстит за него. В морях же транспортом «хозяину» служит кит или акула. Их также запрещалось употреблять в пищу. Подобно другим мифологическим персонажам (лешему, домовому, баеннику), водяной, принявший облик рыбы, может быть маркирован синим цветом: «Цветам бывает синий или, как налим, цвятной», что подтверждается соответствующей атрибутикой «хозяина» в заговорной формуле: «В этом море стоит синий камень, на синем (курсив здесь и выше мой. — Н. К.) камне сидит водяной с водяницей…»[1650] (Вспомним известный «синий камень», поныне лежащий на берегу оз. Плещеева и некогда связанный с определенным культом; трансформацией последнего служит поклонение этому камню 29 июня (по ст. ст.), в день первоверховных апостолов Петра и Павла, отчасти «унаследовавших» функции водяного.)
Рис. 74. Фрагмент домовой «барочной», т. е. корабельной по происхождению, резьбы. Среднее Поволжье
Анализируемые рассказы и поверья свидетельствуют о том, что каждая из названных пород была почитаемой в определенной локальной традиции и что дух-«хозяин» некогда сам имел облик рыбы, культ которой был распространен в данной местности. Утрачивая же связь с культом, водяной обретает способность превращаться в какую угодно рыбу, в то время как ранее выбор его инкарнаций был ограничен рамками верований. Водяной часто предстает в виде гибридного существа. Это не человек, но и не рыба. И все же рассказчик называет его «чудной рыбой», которая выскакивает из клубящейся и пенящейся воды. Несмотря на антропоморфные очертания, тело «хозяина» «переливается, как рыбья чешуя, но это не чешуя», хотя в других вариантах может быть и таковой. Нередко вместо ног у него рыбий хвост. Наличие последнего не всегда можно установить, поскольку чаще из воды виднеется лишь туловище. Одним словом, водяной предстает в виде получеловека-полурыбы (яркой «иллюстрацией» подобным представлениям могут послужить, например, персонажи домовой резьбы в деревянном зодчестве Поволжья). В этом случае, согласно среднерусской (смоленской) традиции, его называют навной (по-видимому, от навь, навъ, навье — покойник), что является указанием на связь духа водной стихии с культом умерших, с представлениями о потустороннем мире.

Рис. 75. «Утица». Традиционная каргопольская глиняная игрушка
Заметим, что рыбий хвост (правда, сравнительно редко) имеет и русалка, чей образ в значительной степени формировался на почве верований, связанных с «заложными», умершими неестественной смертью, покойниками, хотя этими представлениями он далеко не исчерпывается[1651]. Тем более следует учитывать возможность слияния в некоторых локальных традициях образов русалки и водяницы. Иногда в облике рассматриваемого мифического существа присутствуют и некоторые признаки водоплавающей птицы. Так, в севернорусской традиции знаками водяного являются гусиные лапы («руки» и «ноги») или же перепонки между пальцами. В среднерусской (тульской) локальной традиции зафиксированы сведения, что водяной изображается в виде «белой лебеди» или выпи с зеленоватыми ногами и клювом. Известно поверье: когда водяной кричит выпью, он перекликается с лешим. Впрочем, в облике водяного могут сочетаться и рыбьи, и птичьи признаки: «Он похож на рыбу с хвостом. Снизу у него два крыла»[1652]. Нередко за водяного принимают и выдру: «Вдруг из пролубы выдра выскочила. А мы-то думали, что, наверно, это водяной»[1653]. Из мифологических рассказов и поверий, хотя и фрагментарно, но вырисовываются другие зооморфные ипостаси водяного, который может иметь коровьи, реже лошадиные признаки: «с коровьими ногами и хвостом», «с двумя изрядной длины рогами на голове», «уши длинные, как у коровы», «величиною с добрую лошадь», «бывает лошадью» и т. п. Причем это существо, обросшее шерстью белого (единичные случаи), но чаще черного цвета. Былая зооморфная ипостась данного мифологического персонажа закодирована и в изображении черных коров, принадлежащих духу-«хозяину» и время от времени выходящих из воды на берег. В соотнесенности водяного с коровами и — реже — с лошадьми прослеживается его типологическое сходство с Посейдоном (Нептуном). Вместе с тем водяной может показаться и в виде других домашних животных, например свиньи. При этом вспоминается один из древних мифологических рассказов, согласно которому «гений Ретрского озера, когда великие опасности угрожали народу Славянскому, принимал на себя образ кабана, выплывал на берег, ревел ужасным голосом и скрывался в волнах»[1654]. Известны и другие зооморфные эманации интересующего нас персонажа: например, собака, кот (локус — река, озеро), тюлень (локус — море) и пр. Но чаще это гибридный персонаж, в котором собственно человеческие черты сочетаются с признаками различных животных, что особенно явствует из восточнославянской мифологии: «черное, обросшее волосами человекоподобное существо с рогами, хвостом и когтистыми лапами»[1655]. И, наконец, в образе водяного можно обнаружить и некоторые фитоморфные элементы. Волосы и борода этого духа-«хозяина» часто зеленого цвета. Кстати, такие же волосы и у леших или русалок. Если на голове у водяного шапка (шляпа), то нередко она сплетена из куги — безлистного болотного растения. На голове же «хозяина» моря венец из морского папоротника. Голое тело водяного обмотано (облеплено, обросло) и подпоясано тиной (травой, мхом). Вот почему зелень, плавающую на поверхности водоема, считают кожей убитого водяного. Иногда «весь он мохнатый, ровно метла». И в этом качестве водяной сближается с домовым, эманацией которого, напомним, служит веник. В мифологических рассказах прослеживается и некая соотнесенность водяного с огнем: «глаза-то у врага водяного так и горят», «с глазами, горящими подобно раскаленным угольям». Такие глаза приписывают кое-где и русалкам. Этот же признак характерен и для леших. Эквивалентом горящих служат «красные, большие, в человеческую ладонь» глаза водяного. Того же семантического ряда и приписываемая ему в некоторых бывальщинах красная рубашка. Подобная соотнесенность водяного с огнем отнюдь не случайна. Ведь ее метафорическое выражение имеет место даже в народной лирике, где от разлившейся воды загорается трава. По-видимому, образ водяного испытывает на себе влияние образов домашних духов, подпитываясь вместе с тем общими генетическими истоками. С огнями в народных верованиях ассоциируются души умерших, а очаг осмысляется в качестве вместилища душ, откуда они появляются на свет и куда в означенный срок возвращаются. Образ водяного не изолирован и от типологически сходных с ним персонажей, воплощающих в себе силы водного мира, но не лишенных при этом признаков огня. Таков Левиафан — персонаж библейской мифологии: «от его чихания показывается свет, глаза у него — как ресницы зари <…>, дыхание его раскаляет угли, из пасти его выходит пламя» (Книга Иова. 41.2–26). В мифологических рассказах есть также смутные намеки на то, что облик водяного зависит от фазы луны, с которой ассоциируется ночная, темная половина мира. Например, в изображениях мироздания, зафиксированных на шаманских бубнах у сибирских народов, луна помещается на темном фоне слева от мирового древа (напомним, левая сторона связана с так называемой нечистой силой)[1656]. Весьма показательно, что именно «на молодике» водяной и сам молод, а на ущербе луны превращается в старика: его зеленая борода белеет, седеет. В лунные ночи водяной хлопает по воде ладонью — и звучные удары его далеко слышны по плесу — люди принимают их за плеск волн. С лунными ритмами соотнесены и другие духи: лешие, русалки, домовые, покойники. Не случайно они любят лунные ночи, появляются при лунном свете, обретая свой облик. Так или иначе их знак-символ закодирован во второй части оппозиций: солнце — луна, день — ночь, жизнь — смерть. Изредка водяной, как и леший или домовой, является в виде тени (души, духа): «Только снится ему снова, что приходит к нему тень (курсив мой. — Н. К.) да и говорит тем же голосом…»[1657] Однако в поздних мифологических рассказах, как мы отмечали, образ водяного едва ли не полностью антропоморфизирован; он часто ничем не отличается от человека, так что возникает естественный вопрос, не был ли принят за водяного кто-нибудь из прохожих, незнакомец, решивший искупаться в местной реке (озере): «Мы видали водяного: он плавал здесь, в речке. Смотрим в окошко, и все видим: вот плывет человек, руками гребет и голова, еще и ногами перебирает, а следа не видно»[1658]. В облике обычной женщины, которую принимают за «свою деревеньску» молодуху Лушу, появляется на реке и водяница, расчесывая распущенные волосы (бывальщина записана в двух вариантах, от разных исполнителей). И все же этим как будто вполне реальным персонажам приписывается бесследное исчезновение в водной стихии (уплывает, скрываясь вдали, или ныряет вниз головой). Появляясь на берегу или сидя на камне (плотине), подобные существа предстают чаще голыми: «Одежды не носит никакой»; «голая девка <…>, у ней и одежи-то никакой не было». Этот признак устойчив во всей восточнославянской традиции. И на этот раз им маркируется лиминальное состояние явившихся человеческому взору духов-«хозяев». Лишь иногда водяной одет, подобно мужику, в армяк. Упоминается и шляпа (шапка) на его голове: «Вот раз плывет шляпа по Волге <…>. Не успели ее вынуть, как в это время из-под нее человек вышел и сказал: „Что вам от меня нужно? <…> Я иду, — говорит он, — прямо по Волге, как по земле, до самой Астрахани, и смотрю за порядками, а вы мне мешаете идти!“»[1659]. Этот атрибут — неотъемлемая принадлежность не только водяного, но и, как мы уже говорили, домового, баенника, лешего.

Рис. 76. Берег Онежского озера. С. Челмужи
В описании внешности водяных духов преобладает черный цвет: «Человек с длинными черными волосами и такого же цвета и величины бородою». Или: «Как, говорит, вода расколыхнулася, и выходит оттудова мушшина. Такой чернушший выходит». Он сохраняется и в зооморфных ипостасях водяного. Это знак уже происшедшей трансформации былого божества в нечистую силу. Впрочем, за водяным иногда сохраняется и иная цветовая символика: «По реке, от леса, идет какой-то высокий человек, весь в белом». Возможно, что белый цвет в данном случае — символ еще не развенчанного персонажа языческой мифологии. Но столь же вероятно, что он служит обозначением отсутствия цвета, призрачности, бестелесности явившегося видения. Синий же цвет (ср. голубая кровь) — знак мифического существа (происхождения от него). При этом водяной может изображаться ростом с обычного человека. Но нередко он гиперболизируется: «и росту бывают очень высокого <…>, глаза у них красные, большие, в человеческую ладонь, нос величиною с рыбацкий сапог»[1660]. В мифологических рассказах обрисован не только визуальный, но и звуковой портрет водяных существ: они хлопают ладонями, в отличие от леших, по воде, причем делают это, по словам рассказчиков, «гораздо звончее всякого человека». Их хлопаньем обусловлен плеск воды. А клубящаяся и пенящаяся вода — признак игры мифического существа. Подобно лешему, водяной хохочет (русалки смеются). В антропоморфный облик духов-«хозяев» воды могут быть вкраплены элементы из их прежних зоо-, в том числе орнито-, или фитоморфных признаков, равно как и символы воды. Так, например, в одной из бывальщин рассматриваемый персонаж имеет вид человека, сделанного изо льда. В результате любая из конкретных реализаций образа водяного составляет совокупность элементов, относящихся к различным стадиальным слоям и семантическим уровням.
«В тихом омуте»: пространственно-временные показатели духа-«хозяина»
Локусы водяного, представленные в мифологических рассказах и поверьях, на первый взгляд могут показаться довольно разнообразными. Однако при ближайшем рассмотрении они преимущественно сводятся к омутам (водоворотам, ключам, ямам и просто глубоким местам), какие имеются в реках и озерах. В народе такие омуты обычно называются «темными». Именно в связи с подобными верованиями со временем в традиции сложились поговорки типа: «в тихом омуте черти водятся» или «был бы омут, а черти будут». Особенно привлекателен для водяного лесной омут. Он образуется в реке, которая прорезается сквозь чащи боров, — в результате ее воды оказываются непроницаемыми для солнечных лучей. Здесь, между естественными мостами и плотинами, образовавшимися из упавших в воду деревьев, и возникает омут как подходящая для водяного среда. Не случайно именно в таких местах водятся крупные щуки и сомы, являющиеся, как мы уже говорили, эманацией самого «хозяина». Эти качества омута переносятся и на искусственные водовороты, «пади» под мельницами, мельничными колесами, плотинами и шлюзами. Мотивировка подобной локализации коренится в верованиях: водяной живет лишь в «живой» воде, т. е. только что пробившейся из-под почвы и никогда не замерзающей. И наоборот, согласно поверьям, вода в омутах, ключах, родниках остается «живой» и не замерзает потому, что здесь поселяется дух-«хозяин», согревающий связанную с ним стихию своим дыханием. Со временем мифологические рассказы о местопребывании водяных сконцентрировались в определенных топонимах: «По дороге между деревней Пактягой и Якорь-лядиной (Толвуйской волости) есть ручей, поныне называемый Чертов ручей: в прежнее время выходило тут большое чудовище <…> По дороге из Космозера через гору в Фойму-губу есть ручей, доныне называемый Букин порог. От древности выходили отсюда удельницы и показывались на росстанях: волосы у них длинные, распущенные, все равно как у нынешних барышен, а сами черные <…>. Раз, говорят, в так называемом Бесовом ручью (курсив мой. — Н. К.), где Лачиновский завод, вытащили водяного „лембоя“»[1661]. (Ср., например, в поволжской традиции: Чертов омут.) Заметим, что в речных и озерных омутах обитают и русалки. Однако это существа земноводные. Так, по мнению Д. К. Зеленина, русалок нельзя признать определенно духами водными, лесными илиполевыми: они и те, и другие, и третьи одновременно. В означенный срок они выходят из воды и поселяются на ветвях деревьев, особенно на березах. В этой ипостаси русалки сближаются с женскими лесными персонажами. По древним верованиям славян, зеленые деревья служили жилищем мертвецов. Показательно, что ими на определенный период маркирован локус русалок. Впрочем, местом их пребывания оказываются и злаковые поля. В мифологических рассказах запечатлены представления о потустороннем мире. Еще в поверьях, зафиксированных в XVIII в., царство водяного изображается как великолепные, богато убранные палаты. В севернорусской традиции это хрустальный дворец; в карельской — сделанный из такого чистого хрусталя, как первый осенний лед. В среднерусских мифологических рассказах и поверьях украшением дворца служат золото и серебро, доставленные сюда с затонувших кораблей, подводное жилище освещается ярче солнца камнем-самоцветом. Хрусталь как метафора воды используется в различных локальных мифологических традициях. Из этого дворца водяной отправляется по дну рек и озер в омут, поджидая здесь себе добычу. Именно в этом локусе (редко: в хрустальном дворце) и происходят контакты его с человеком. Чаще, однако, быт водяного лишен особых признаков роскоши. И потусторонний мир рисуется как зеркальное отражение реального: «Живут они, как и мы, в избе, стряпают, едят, прядут, шьют, одним словом, делают все, как и у нас (курсив мой. — Н. К.)»[1662]. Водяной предстает в качестве зажиточного крестьянина или даже «богатого, запасливого помещика». У него большое хозяйство. В распоряжении «хозяина» стада коров, овец, свиней, табуны лошадей. В одной из бывальщин мужик видит, как по острову бегает за белой лошадью с арканом сам водяной: «Лошадь у водяного хорошая, так и кружится по острову, лягается, задом взметывает, а водяной так и жарит за ней. Бегала, бегала лошадь-то да вдруг махить в середину омута, в самую глубь, и водяной — за ней»[1663]. Морской же царь, по поверьям, имеет тридцать лошадей, напоминающих коней Посейдона. Наиболее устойчив и распространен в севернорусской традиции сюжет о коровах водяного, которые выходят из омутов на сушу, чтобы пастись на прибрежных лугах. Эти коровы черного (иногда бурого) цвета, под стать водяному, с лоснящейся шерстью, гладкие, сытые. Сюжет имеет различные версии: 1) крестьянин, увидав таких коров, торопится поскорее скрыться, чтобы водяной не сделал его своим пастухом; 2) заметив человека, стадо ушло в воду, или же сам «хозяин» загнал его в свое царство; 3) конкретному жителю конкретной деревни удалось отогнать одну из коров и привести домой: эта «животина» у него «никогда не переводилась» и была сытее, молочнее любой соседской, воплощая неубывающее изобилие.
Рис. 77. Колежма — поморское село
Согласно мифологическим рассказам и поверьям, водяной может преобразовывать ландшафт местности, где находятся его владения. Так, водяной — владелец Кенозера, которое якобы когда-то соединялось с Водлозером, посватавшись к дочери водлозерского «хозяина» и получив отказ, забросал большими камнями «дорогу» — с тех пор озера перестали сообщаться друг с другом. В иной же бывальщине дух-«хозяин», наоборот, делает себе проход из одного водоема в другой. Разрыв землю, выкорчевав кусты и свалив деревья, он оставил за собой ручей, достаточно широкий и глубокий, длиной в семь верст. Это позволило водяному перебраться из озера Креснозера в реку Шокшу, оттуда — в Оять и Свирь, а затем и в Ладожское озеро. Властен водяной и над находящимися в его владениях островами. Например, водлозерский водяной, выдав дочь замуж за ближнего соседа и выделив ей в приданое остров, ранее располагавшийся близ реки Илексы, переправил его к деревне Большой Куганаволок. И в том и в другом случае дух-«хозяин» озера наследует функцию своего архаического предшественника — демиурга, сохранившуюся, однако, в рудиментарной, стертой форме. И если природные объекты уже не возникают из тела демиурга-великана, то во всяком случае они нередко образуются из предметов домашнего обихода, принадлежащих водяному. Так, два острова на озере некогда были зыбкой водяного, в которой он отдыхал, покачиваясь на волнах. Вынужденный покинуть свои владения, «хозяин» жалобно кричит: «Зыбку позабыл, зыбку позабыл!» В быличках, бывальщинах, поверьях мифическому обитателю реки (озера) нередко приходится защищать свои владения, бороться за жизненное пространство с водяными, пришедшими сюда из соседних водоемов. Этот сюжет относится к числу наиболее устойчивых и распространенных в различных локальных традициях: воюя с незваным гостем, свой водяной зовет на помощь попа, а чаще простых мужиков, которые, вооружившись в первом случае крестом, а во втором — «стяжьем» (палками), изгоняют пришельца и получают от «хозяина» награду: «Ну, спасибо, поп: тутошни совсем было выжили меня из своего жилища, — они выселились из соседнего озера; нунь — сжег ты все их водяное царство, а я вновь его построю и буду в нем царствовать»[1664]. С приходом христианства места, считавшиеся локусами водяных, нередко освящались строительством близ них православных храмов. Однако даже наличие этих строений культового назначения не смогло стереть из памяти местных жителей поверий о пребывании водяных в проливах между островами, на которых расположены погосты. Мало того, духи-«хозяева» получили прозвища, происходящие от наименований этих храмов: один водяной стал теперь называться пречистенским, а другой — ильинским. Иногда былое обитание «хозяина» в том или ином водоеме маркируется крестом, установленным на берегу: правда, он осмысляется уже в качестве оберега от нечистой силы. Время активизации данного персонажа также обусловлено традицией. Бытует поверье, что водяной, равно как и леший, зимой спит, а бодрствует лишь летом. Весной, когда в природе начинается новый жизненный цикл, просыпается и водяной (домовой в это время меняет шкуру). Считается, что от зимней спячки он пробуждается 1 апреля (по ст. ст.). Подобным сведениям о периодическом бездействии данного мифологического персонажа несколько противоречат былички, бывальщины, поверья о святочных гаданиях у проруби, участие в которых духа-«хозяина» так или иначе предполагается. Этим сведениям противоречит и белорусская бывальщина, согласно которой водяной со своим семейством (чаще, однако, он изображается одиноким) покидает накануне Крещения свои владения, чтобы не погибнуть от погружения креста в воду, и весь следующий день не возвращается, пока освященная вода не будет унесена течением. Если учитывать возможные последствия имеющего здесь место «обращения обряда» (по терминологии В. Я. Проппа), то следует предполагать, что изначально вода как раз и освящалась именем ее духа-«хозяина». Появление и наибольшая активность водяного нередко связаны с летними календарными праздниками. Знаком водяного, в частности, маркируется, помимо всякой иной символики (солярной, растительной и пр.), праздник Ивана Купалы (24 июня по ст. ст.): в этот день в некоторых местностях России (например, в Ярославской губернии) водяной считается именинником. С этим праздником тесно связан обычай купаться на заре в реке (озере), умываться утренней росой, ходить в баню; зафиксирован и обряд обливания. Воде в этот день приписывается целебная, очистительная сила. Не случайно также языческий праздник, имевший название Купало(-а), со временем слился с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя), который крестил язычников, омывая их в воде, т. е. купанием. Таким образом, персонаж христианской мифологии в известной степени раскрывает семантику своего архаического предшественника. Сам же праздник получил совмещенное наименование: Иван (позднейший элемент), Купала (первичный). По мнению А. Н. Веселовского, Купала изначально был общинно-родовым праздником, знаменовавшимся браками и принятием в род. Если следовать мысли ученого, то в Купале можно видеть некоторые признаки мифического предка-родоначальника, который, согласно древнейшим обрядам и верованиям, как раз и имеет непосредственное отношение к названным праздникам. Связанные же с Купалой верования, с точки зрения Ю. Миролюбова, сменяются со временем в какой-то мере представлениями о водяном. Если это действительно так, то определенная роль в общинных ритуалах теперь принадлежит духу- «хозяину» воды. Его появление в означенное время обусловлено переходным состоянием природы: это день летнего солнцеворота, когда жизненные силы природы достигают своего апогея, после чего, однако, они идут на убыль. По мере обращения подобных ритуалов в свою противоположность, обусловленную снижением образа, водяной все чаще предстает жаждущим человеческой жертвы. Он не только топит каждого, кто рискнет купаться в Иванов день, но и, затащив его в самую глубь омута, глумится над мертвым телом.

Рис. 78. Церковь Лазаря Муромского (XIV в.). Из кижской архитектурной коллекции
Встреча с водяным может произойти и в Петров день (29 июня по ст. ст.). Это не случайно: Иванов и Петров дни составляют единый праздничный комплекс, что обусловлено в известной мере общими верованиями. Относительно последнего семантически значимым в данном контексте является следующее обстоятельство: этот день, посвященный апостолам Петру и Павлу, считается в народе праздником рыбаков, поскольку апостол Петр известен как покровитель рыбных промыслов и даже получил прозвище «рыболов». Иначе говоря, его можно считать христианской трансформацией духа-«хозяина» воды, который ранее безраздельно ведал рыбными «угодьями». Тот и другой персонажи в народном мировосприятии совмещены, о чем свидетельствует один из мифологических рассказов: мужики, отслужившие в Петров день молебен, выйдя из часовни, увидели старичка, который оказался здешним омутником. С Ивановской неделей (от Иванова до Петрова дня) соотносится Ильинская (Ильин день — 20 июля по ст. ст.). Она также характеризуется как период активности водяного. По сведениям, зафиксированным в Архангельской губернии, крестьянин в этот день ни за что не будет купаться в реке, поскольку в ней играет водяной, жаждущий жертвы: «Недели Ильинской опасаются, говорят, что оне боле (похищают)»; «Опасна неделя перед праздником Илии-пророка»; «Утонул священник на Ильинской неделе. Бабы говорили, что его водяной утащил, так как его вытащили из воды без креста». Встреча с «хозяином» накануне Ильина дня оказывается чреватой и для рыбака: воткнув в щуку-водяного острогу, а затем, по требованию пострадавшего, вытащив из него это колющее орудие, «миляга был долго нездоров». Как и другие духи-«хозяева», водяной проявляет наибольшую активность (например, топит, похищает купающихся либо просто показывается людям) в полдень или полночь. Такие представления распространены повсеместно: «Вот в двенадцать часов поднялся такой ветер! Баба испугалася. Водяной сторкал в двери, зашел»[1665]. Особенно опасно купаться и ловить рыбу, по мнению крестьян, в полдень и полночь. Согласно поверьям и мифологическим рассказам, нельзя купаться и поздно вечером, после заката солнца, в очень позднее или темное время дня, ночью: «Мы как скажем, что пойдем купаться после закату, дак папа либо мама скажут: „Ступай, там возле сидит водяник да чеше голову, а ты пойдешь, дак тебя как храпне, дак ты туды и останешься в воду“»[1666]; «Ночью-то страшно купаться, а то водяной вздумает пошутить»[1667]. «Водяной зажил», — так характеризуется состояние данной стихии в период после захода солнца. Вероятность встречи с духом-«хозяином» повышается при лунном свете: «<…> ночью, часов в двенадцать, хотел через реку брести <…>, и в этой речки мне показалса водяной хозяин, как есь месец пек, пловет прямо на меня, я и в гору выскочил, острашилса»[1668]. Согласно севернорусским мифологическим рассказам и поверьям, нельзя купаться и в очень раннее время. В этот час нередко видят водяного: «Пришла я поутру рано на берег <…> зачерпать воды на самовар. А люди еще все пока спят, каки вставают, а погляжу: вот от острова плывет, вот голова кверху, голова черная, черная, и вот плывет по озеру кверху…»[1669] Или: «Однажды рано утром старик Уханов пошел к лодке с целью отправиться на рыбную ловлю. Он уже почти подошел к лодке, но тут увидел, что на камне кто-то черный сидит и расчесывает волосы, сначала одну сторону, потом другую. Он стоял, смотрел, думал, человек, но нет, не человек: он совсем черный»[1670]. Таким образом, водяной, как и иные духи-«хозяева», появляется в переходные моменты суточного цикла: после захода солнца, в полночь, на рассвете и вдобавок ко всему в полдень. Но особенно активна его деятельность в определенные календарные праздники.

Рис. 79. Глубоководный колодец. С. Колодозеро. Пуждожье
Несколько сложнее обстоит дело с женскими водяными персонажами. В том случае, если это эквивалент водяного в его мужской ипостаси, принципиального различия в их хронотопе не наблюдается. Иное дело, когда речь идет о водянице, осмысляемой в качестве русалки, или же просто русалке. Период активного проявления такого персонажа в «этом» мире нуждается в специальном рассмотрении. В большинстве поверий русалки выходят из речных и озерных омутов перед Троицыным днем, в Семик, или же начиная с Троицына дня, и потому следующая за ним неделя (десятая после Пасхи) называется Русальной. Заключающее эту неделю воскресенье (или же воскресенье перед Петровым днем) ознаменовывается проводами русалок. «Русалки исконно связаны с календарными обрядами конца весны — начала лета»[1671], — утверждает В. К. Соколова. И потому проводы русалок символизируют проводы весны. Покидая воды, эти мифические существа поселяются вплоть до осени в полях и лесах. В других, более южных местностях русалки выходят из рек и озер еще на Пасху, «на Светлое Воскресенье, когда обносят кругом церкви плащаницу. Вот почему в это время надо запирать двери в храме как можно крепче, из опасения, как бы не набежали русалки»[1672]. Кое-где обитательницы вод переселяются в леса, рощи, поля на Духов день (50-й день после Пасхи). На Духовой неделе их встречают в лесу в виде нагих женщин и детей и стараются набросить на них платок или хотя бы какую-нибудь тряпицу, иначе человеку грозит неизбежная смерть. Характерно, что именно ко времени выхода русалок из воды, т. е. к Семику, Троице, Пасхе и другим весенним праздникам, было приурочено поминовение умерших (предпочтение того или иного праздника для данной цели варьировалось в зависимости от климатических условий). На связь выхода из воды русалок с древнеславянским почитанием душ умерших обратил внимание уже С. В. Максимов. Причем характерно, что именно на Семик, когда крестьяне поминают утопленников, удавленников и прочих умерших неестественной смертью, русалки проявляют исключительную активность: бегают по лесам и щекочут людей. Вместе с тем они, как и души усопших, связаны с растительностью: русалки гуляют во ржи в период ее цветения, обеспечивая будущий урожай. Встреча с ними и другими духами наиболее вероятна в полдень и полночь, особенно при луне, которая светит для них ярче обычного: «В глубокую полночь при лунном сиянии всплывали на поверхность озера красивые нагие девы с распущенными длинными волосами и с хохотом плескались водой»[1673]. Подобно водяному, русалки любят купаться и на утренней или вечерней заре. Мифологические рассказы и поверья о русалках на Русском Севере, повторяем, — редкое явление. Более широко они бытуют в южнорусской и особенно украинской, белорусской традициях. На основе имеющихся в нашем распоряжении материалов, взятых в совокупности, можно установить, что хронотоп этих мифологических персонажей обусловлен представлениями о водной и растительной стихиях, о космосе и потустороннем мире.
Покровитель вод и промысловых угодий
Водяной, хотя и в рудиментарных формах, но все же изображается как покровитель вод, заботящийся об их сохранности и чистоте. Это своего рода блюститель экологии водоемов. Например, в одной из бывальщин мужик, который решил поселиться на берегу озера, слышит во сне голос: «Не ходи жить на мое озеро, не мути воды в нем, вода в моем озере чистая и никто ее до тебя еще не пачкал, так не тронь и ты». Когда жена этого мужика вылила помои в озеро, он услышал слова запрета во второй раз. Мужик все же достроил избу. И в первую ночь на новом месте пришла к нему тень: «Уйди, — говорит, — с озера, не живи тут, а то мне придется убить тебя». Наутро испуганные новоселы навсегда покинули дом на берегу Урозера[1674]. Как уже говорилось, местные жители никогда не «хают» свое озеро, реку, источник, колодец, а наоборот, всячески восхваляют их. Ведь воде в народных поверьях приписывается магическая сила: живородящая, целебная, очистительная, вещая. Такая вода — в сущности, эманация самого духа-«хозяина». Последний выступает и как повелитель водных стихий. Поэтому он может заранее предсказать рыбакам затишье или шторм, «хорошую поветерь» или «большую погоду»: «Не поезжайте на море никто, потому что будет погода снова большая. И кто на море поедет, тот погибнет на море в эту большую погоду»[1675]. Правда, иногда дух-«хозяин» предстает как некая бессознательная стихийная сила: цель его действий не всегда сообразуется с их последствиями. Так, в одной из бывальщин водяники Машезера и Лососинного, соединив молодых в месте слияния рек, двинулись затем свадебным поездом к Онежскому озеру, невольно снося все на своем пути: мосты, мельницы, прибрежные склады и постройки, — хотя и не имели такой цели. (Этой бывальщиной старожилы объясняют причину наводнения, которое из-за разлива реки произошло в Петрозаводске в 1800 г.) Или же водяной может так «взбушевать» воду, что ею три дня нельзя пользоваться для питья. По мнению Д. К. Зеленина, водяной не является персонификацией, олицетворением вод и отдельных рек, озер. Из приведенного же нами материала следует, что дух-«хозяин» и водная стихия в народных верованиях в какой-то мере отождествляются. Это утверждение в сущности соответствует наблюдениям В. Иохельсона, который не смог добиться от коряка ответа на вопрос, кому он приносит жертву: самому морю или его «хозяину», поскольку для коряка это было одно и то же. Вместе с тем мы совершенно согласны с Д. К. Зелениным, когда он замечает, что интересующий нас персонаж — «хозяин» царства вод, населенного главным образом рыбами. Основная функция водяного, на наш взгляд, — покровительство фауне, речной, озерной, морской. Но прежде всего он рыбий царь и — соответственно — покровитель рыбного промысла. Данный мифологический персонаж изображается царем над водой и рыбой и в других этнокультурных традициях, например в белорусской. Как уже отмечалось, первоначально водяной — покровитель лишь определенной разновидности рыб, преимущественно тех, которые почитаются в данной местности либо на которых ведется здесь промысел. Не случайно он губит мужика, осмелившегося без спросу вытаскивать его любимых карпов. Но постепенно полномочия духа-«хозяина» распространяются на всех рыб. Водяной, «дозором обходя свое царство», перегоняет их по собственному усмотрению с места на место и даже может сманить из чужой реки в свою.
Рис. 80. Рыбацкие амбары на берегу Белого моря
В севернорусской же традиции безграничная власть «хозяина» вод наиболее ярко проявляется в чрезвычайно устойчивом сюжете: водяной проигрывает рыб в азартной игре могущественному соседу, уподобляясь незадачливому лешему, лишившемуся таким же образом стад белок и зайцев. В качестве примера можно привести бывальщину, записанную в 1872 г. в с. Вытегорских Кондушах от местного жителя: куштозерский водяной был «страшный любитель играть в карты, в кости». Он почти всегда проигрывал онежскому «хозяину», который владел большим пространством, достатком и был искушен в правилах игры. Вначале куштозерский водяной проиграл деньги, потом воду и рыбу и, наконец, самого себя. Разорившись, он ушел в Онего на заработки. Все это время в озере не было ни воды, ни рыбы. Возвратившись, куштозерский «хозяин» привел обратно и то и другое. Вариант: два водяника-соседа, кончезерский и пертозерский, играли в карты — и один выиграл у другого ряпушку; вот почему эта рыба перестала ловиться в Пертозере. В другой бывальщине водяной перегонял стадо раков из одного озера в другое и даже спросил у встречного крестьянина, хорошо ли его стадо. При наличии таких представлений неудивительно, что в мифологических рассказах и поверьях «рыбацкое счастье», удача на промысле зависит от водяного: «Там, — говорит (водяник. — Н. К.), — у нас дети и населения. У меня дети налажены с погонялками, так в невод они рыбу загоняют. А кому не захоцем дать, так в день только на уху наловит. А кому захоцем да по вкусу нам, тому тыщи пудов»[1676]. В севернорусской мифологической традиции, повествующей о покровителе рыбаков, во многих вариантах зафиксирован рассказ о водяном (или его ребенке), которого рыбаки случайно вытащили неводом на берег, спросив у него: «„На гору тебя?“ — „Не-не“. — „В воду?“ — „Да-да“»[1677]. (Вариант: «„Наложить на тебя крест?“ — „Не, не, не!!!“ — „Спустить в воду?“ — „Да, да, да!“ — „А дашь ли нам рыбы?“ — „Ну, ну, ну!!!“»)[1678] Посоветовавшись, крестьяне отпустили водяного (или его сына) в воду. А их невод оказался полным налимов, лещей и сигов, которых раньше в этом озере вовсе не было. И лишь в одном из известных нам вариантов данного сюжета отпущенный на волю водяной, вынырнув напоследок, заявил озадаченному мужику: «Ты от меня ни одной рыбинки не получишь». Вполне закономерно, что рассказы о водяном, рассердившемся по какой-то причине на людей и угоняющем от них рыбу, распространены повсеместно: «Есть у нас одно озеро, в которое лучше с неводами не езди, потому что водяной не дает рыбы, а накладывает полную матицу коневих говен»[1679]. Однако справедливости ради в данном случае не лишним будет заметить, что, вполне возможно, мы имеем здесь дело с превращением: то, что в ином мире было рыбой, в руках человека преобразуется в «неблагородное» вещество. Ведь известен сюжет прямо противоположной семантической направленности: мужик набрал у водяного рыбьего клеска (чешуи). Побывав в церкви и вернувшись домой, он развернул свою ношу и увидел, что из клеска образовалось серебро. В другом случае из «щепья» и мусора, выловленных в озере и сложенных в амбаре, через шесть недель (сакральный срок воплощения и перевоплощения) образуются золото и серебро. Значит, утверждения, будто водяной не дает рыбы, не всегда следует понимать буквально. Другое дело, когда речь идет об озере, известном под названием Чертово, на поверхности которого в ясные солнечные дни резво плещется рыба, выловить которую, однако, никому не удается.

Рис. 81. Подворье дома кижского крестьянина-рыбака
Водяной, по рассказам, сохраняет, восстанавливает или рвет, запутывает орудия лова: «Все сетки спутает и разбросает, новые выбросит на берег»[1680]. В севернорусской традиции широко бытует бывальщина о том, как некая мифическая сила, спросив ночью под окном промысловой избушки «Развяжу ли я?» и фактически получив согласие, распускает весь невод, смотав нити в клубочки, как при прядении. Наутро рыбакам не с чем было выходить на промысел. А на вторую ночь, заручившись положительным ответом на противоположное предложение «Завяжу-у ли я?», та же сила приводит невод в полный порядок: «все как на вешалах было у них, так и есть»[1681]. В аналогичной среднерусской бывальщине приводится мотивировка тех и других манипуляций с неводом, сопровождаемых прекращением и возобновлением ловли. Причиной их оказался вспыхнувший и угасший гнев водяницы, которую рыбаки не только обругали крепким мужицким словом, приняв за обычную бабу, но и присвоили оставленный ею второпях на камне гребень. Лишь после того как мужики бросили в реку принадлежащий водянице атрибут, спутанный невод тотчас же сам собой восстановился и «рыбная ловля пошла опять своим чередом». Однако не всегда манипуляции «хозяев» рыбацкими сетями заканчиваются столь благополучно. В некоторых вариантах этой бывальщины рыбаки остаются без орудия лова: «В одной из лодок находят они несколько клубков ниток — то мутник (частый, мелкоячеистый невод. — Н. К.). Чудесное превращение! Хлопнув безнадежно руками, рыбаки отправились домой. „Вот те и развяжу, вот те и совью“. <…> Хозяин не дозволяет, значит, ловить в его озере рыбу»[1682]. После этого случая никто никогда не осмеливался идти ловить рыбу к этому озеру. В аналогичной ситуации оказываются рыбаки и в результате вредоносных действий русалок, которые могут скрутить у них сети, вытащить норота (нерши, верши, морды, сплетенные из лозы) на берег или вывернуть в неводах мотню (матню), т. е. мешок, расположенный посередине невода. Мало того, водяной, согласно рассказам и поверьям, производит бурю, топит корабли, но может и предупредить рыбаков о надвигающемся шторме: «Тихо будет стоять неделю одну. Вы только успеете съездить два раза. Больше не ездите. Если вы меня не послушаете, тогда вы утонете все»[1683], — чудится рыбакам во сне голос старика, показавшегося из воды. Находящийся под покровительством водяного (или его детей, внуков) не боится выезжать на промысел и «в голомя», т. е. в открытое море, тогда как другие рыбаки выходить столь далеко «не смели». Ему нипочем были даже акулы, которые могли «ярус весь перепортить». Остальные же рыбаки жили в страхе, как бы водяной не лишил их удачи в рыбной ловле, а при случае и жизни, поскольку опрокинуть карбас ему ничего не стоит. Со временем они все чаще обращаются с молитвами к Николаю Угоднику как покровителю мореплавания: «Поехали. Потом я смотрю, прошло время, надо быть в Кижах — ан нет ничего. Опять в каюту, молюсь: „Прости, Микола, что пьян был, не дай в море (так называют крестьяне открытое Онежское озеро) потонуть“. Вдруг под кормой словно музыка играет. <…> Проехали с четверть часа, и Кижи стали видны»[1684]. В связи с этим даже жертвоприношение, которое обычно имело место в день, так или иначе связанный с культом водяного, могло приурочиваться к празднику Николая Угодника и освящаться его именем. Так, например, факт жертвоприношения на Онежском озере зафиксирован накануне Николы зимнего (6 декабря по ст. ст.), причем человеческую жертву имитировало «чучело соломенное в портах и рубахе». И лишь наиболее подверженные промысловой традиции стараются заручиться постоянной поддержкой водяного. Ритуал заключения договора между рыбаком и водяным содержит обряд жертвоприношения («относы»), различные магические действа и определенного рода приговоры или заклинания. До нас этот ритуал дошел не только в рудиментарном, но и в трансформированном виде.

Рис. 82. Лодка-«кижанка» на «стапеле» — повети дома; инструментарий лодочного мастера
Известно, что подобного рода обряды приурочивались к весне (3 апреля по ст. ст.), т. е. ко времени пробуждения водяного после зимней спячки, или же к осени (15 сентября по ст. ст.), при первых признаках приближающейся зимы. (По мнению Э. В. Померанцевой, дары водяному приносились с началом рыболовецкого сезона.) Обряд жертвоприношения совершался обычно в полночь. В качестве жертвы чаще использовался гусь. В связи с этим бытовало поверье: все лето гуси (а в некоторых традициях и утки) живут под опекой водяного. Ему посвящали гуся, подобно тому, как домовому — «кочета». Ведь это, по сути, былые эманации названных персонажей. Впрочем, ввиду некоторого отождествления водяного с домовым (оно объясняется сохранением традиции семейно-родового культа) «хозяину» воды могли принести в жертву и петуха. В качестве таковой использовалась и лошадь (или ее череп). Приблизительно в то время, когда после зимней спячки просыпается водяной, голодный и сердитый, крестьяне покупают миром лошадь, не торгуясь в цене; в течение трех дней ее откармливают хлебом и конопляными жмыхами; вечером накануне обряда мажут ее голову медом с солью, в гриву вплетают красные ленты, спутывают ей ноги веревкой, к шее привязывают два жернова; в полночь опускают лошадь в прорубь (если лед еще стоит) или топят посередине реки (если она очистилась ото льда). После того как водяной получит приношение, старший из рыбаков чествует его жертвенным возлиянием (льет в реку масло), приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью»[1685]. Затем рыбаки продолжают празднество в деревне. В качестве жертвы кое-где бросают в воду и барана (баранью голову с рогами), возможно, и каких-то других животных. Кидают обратно в реку и рыбу, находящуюся под особым покровительством «хозяина» (например, карпов, налимов) или же вообще первую пойманную рыбу (часть улова). Занятие промыслом не обходится и без человеческой жертвы. В одной из бывальщин повествуется о варзужских купцах Заборщиковых, которые, долго не имея удачи в лове, вдруг разбогатели, а односельчане стали замечать, что с того времени начали пропадать люди. Наконец выяснилось: «купцы Заборщиковы ради своих уловов договор заключили с нечистой силой, с водяной русалкой в реке, что они будут ей живое мясо поставлять, а она к ним — рыбу в сети загонять»[1686]. Ослабленной формой жертвоприношения, цель которого обеспечить богатый улов, является «зарок» на чью-либо голову, после произнесения которого водяной сам забирает предназначенную ему жертву: «А это оттого произошло, что с их тони голова была отдана: до них кто-то на тони сидел, как будто колдун, так отдал голову того, кто на другой год сидеть будет, чтобы семга ему хорошо попадала»[1687]. Причем случайные утопленники также считаются жертвами водяному.
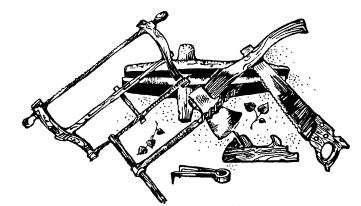
Рис. 83. Инструменты кижского судостроителя
(Что касается русалки в собственном смысле этого слова, то ее воздействие связано не столько с водной, сколько с растительной стихией: где бегают и резвятся русалки, там трава растет гуще и зеленее, а хлеб родится обильнее. Но они же могут наслать на поля бури, проливные дожди, град.) Функционально тождественным ранее названным атрибутам обряда служит и хлеб. Как повествуется в одном из мифологических рассказов, даже сельский поп, побаиваясь водяного, сваливал в омут возы хлеба, правда, уже подпорченного, который не ели даже свиньи, но «черт» был доволен и этим приношением. А усть-сысольские зыряне, отправляясь в плавание и отчалив от берега, бросали в жертву водяному столько кусков хлеба, сколько человек в лодке. Для этой же цели используются и лапти. Бросая их в воду вместе с онучами, рыбаки кричат: «На´ тебе, черт, лапти, загоняй рыбу!». И хлеб, и лапти, как мы помним, относятся к числу важнейших атрибутов домового и лешего. В данном случае это знак семантического единства различных мифологических персонажей. В процессе развития обряд жертвоприношения претерпел значительную трансформацию, вплоть до профанации ранее сакрального действа. Так, согласно данным, зафиксированным в Олонецкой губернии в самом начале XX в., дар водяному мог состоять из табака, спичек и бумаги — все это было завернуто в тряпку и обвязано ниткой с несколькими узлами. «Он табачок любит и за подарок нагонит много рыбы в мои ловушки»[1688], — сообщает рассказчик. Причем этот подарок полагалось бросать в воду наотмашь и левой рукой (слов часто уже не произносили). Иногда жертвоприношение сводится к тому, что в омут бросают щепотку табака или же льют водку. В результате от традиционного обряда остается лишь сам факт его соблюдения. Несмотря на все трансформации обряда жертвоприношения водяному, в нем, на наш взгляд, обозначается та же модель, что и в обряде принесения строительной жертвы, о которой нам уже доводилось писать[1689]: душа ее в данном случае становится духом-водяным. Иначе говоря, в жертве содержится та бесплотная нетленная субстанция, которая служит «материалом» для возникновения духа-«хозяина», воссоздания, обновления или восполнения его жизненной энергии. Нашей концепции противоречит общераспространенное, ставшее традиционным мнение, что принесение жертвы — это кормление, угощение духа либо способ его умилостивления и даже платы за улов. Данный обряд (и прежде всего вербальная часть) может быть в известной мере реконструирован на основе заговоров, хотя в них былые языческие персонажи и атрибуты заменены уже христианскими. Вместо водяных духов-«хозяев» теперь главными распорядителями рыбных «угодий» выступают святые апостолы Петр и Павел: «Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду перекрестясь, умоюсь ключевой свежей водой, утрусь тонким браным полотенцем. Пойду из дверей воротами в чистое поле, в восточну сторону, под молод месяц, под частые звезды. Помолюсь и поклонюсь святым славным первоверховным апостолам Петру и Павлу. Пойду я, раб Божий (имя), к тихому озеру, к быстрой реке и закину я, раб Божий (имя), першу, мережу, удочку, невод и поплав. Наполни, Господи, мои снасти: першу, мережу, удочку, невод и поплав всякою рыбою»[1690]. В других заговорах просят Петра и Павла отомкнуть золотыми ключами реки, озера, море и всякие протоки, всколебать воду ветром, вихрем и «сильною погодою» и «возбудить» красную рыбу, семгу, и белую рыбу, раков и щуку и гнать их отовсюду к рыболовам, чтобы добыча не застоялась на красном солнце, не загулялась бы с «охотной травы», не дать очам ее «виду», ушам ее «слыху»[1691]. Этим магическим формулам некогда предшествовали различные приговоры и обращения к водяным, дошедшие до нас в свернутом, усеченном виде: «Вы эй, мои загонщики, я вам кланяюсь до струи воды, до желта песка»[1692] (обычно их произносили трижды перед каждым выходом на промысел).

Рис. 84. Лодки-«кижанки» у причала
По мере развенчания языческих божеств договор с водяным все чаще осмысляется как продажа души черту. В одной из бывальщин работник, чтобы заключить договор с «нечистым», должен был положить на берегу реки образ Спасителя, встать на него ногами и отречься от отца, матери и всей родни до двенадцатого колена. После этого показался водяной и спросил: «Зачем вы меня кликали?» Нет сомнения, что некогда эпизод вызова «хозяина» был маркирован прямо противоположным знаком. Манипуляции, восходящие к обрядовым магическим действам, проделывались и с сетями. Чтобы, к примеру, мережа хорошо ловила и не была подвержена порче, ее освящали определенным способом: голову, которую отрезали от первой пойманной щуки, «трижды пропускали через всю мережу, начиная с устья, взад и вперед»[1693]. Или же подкуривали снасть богородской травой, стараясь угодить водяному как покровителю лова. Приспособлением к нраву духа-«хозяина» определялась вся совокупность рыболовецких табу. Наиболее известны следующие из них. Никто не должен знать, к какому озеру направился рыбак на промысел: «В Паэзерских озерках близ Ладожского скита рыбу ловят молча. Уходя из дому, не сказывают, куда пошли. Если сказать, что пошли рыбу ловить, нескоро с озер и выйдешь, а то и совсем туда ускочишь»[1694]. Вот почему собравшийся на промысел предпринимает массу ухищрений, чтобы об этом никто не узнал. Он выходит из дома очень рано, когда все еще спят, чтобы ни с кем не встретиться. Направляется в противоположную сторону и, лишь пройдя полторы-две версты, сворачивает к намеченному озеру. Отъезжает от своего берега на лодке, но спустя какое-то время, уже скрывшись из виду, высаживается и «тащится» к лесной ламбе. Затратив немало лишних усилий, рыбак спокоен: хороший улов ему обеспечен. Случайные же встречи для отправляющегося на промысел имеют знаковый характер, о чем свидетельствуют рыбацкие приметы: если кошка перебежит дорогу, по которой идет рыбак, — удачи не будет; если кошка лишь сопровождает его, — улов будет богатый; встреча со свиньей предвещает добычу. Нет нужды говорить, что и в данном случае животные ассоциируются с духами-«хозяевами» (домовым, лешим), принявшими зооморфный облик. Если при уженье рыба сорвется с крючка, нельзя выражать свое неудовольствие, тем более ругаться, иначе улова не будет. Полагается добродушно пожелать уходящей рыбе «счастливого пути» либо махнуть рукой: «не моя и была» — тогда попадется более крупная добыча, чем сорвавшаяся с крючка. Не следует хвастаться уловом: «Так пока не знает никто — ловят, а как проговорятся кому мужики, ну хоть кому, похвастаются, — так больше ничего и не уловить! Все сетки спутает и разбросает, новые выбросит на берег»[1695]. Бывали случаи, что улов скрывается целыми деревнями. При возвращении с лова рыбак не скажет правды встречному о размере добычи. А если и зайдет об этом речь, то разговор состоится на условном промысловом языке: «Еще ли рыбно?» или «Кипит ли?» Ответ последует: «Варится». Нельзя показывать добычу, иначе опять-таки удачи не будет. Если кто-то из домашних, увидев обильный улов, выразит хоть каким-либо способом (например, восклицанием «ай-ай», «ой-ой», движением, жестом) свое удивление, рыбак немедленно осадит его грубым, нецензурным словом, а чужому и вовсе укажет на дверь. Существует запрет и на продажу добычи кому попало: «Я продал ему, — говорил мне однажды один из видных рыбаков нашей местности, — два пуда лещей и, что ты думаешь, после того вот уже две недели не вижу „живой“, т. е. рыбы (опять-таки факт былого наличия условного промыслового языка. — Н. К.) в своих ловушках. Ну, он у меня больше не купит»[1696]. Такую ситуацию рыбак объясняет завистью и жадностью покупателя. Некоторые запреты и нормы направлены на воспроизводство и умножение рыбы, промысел которой ведется. Этой идеей, сформировавшейся в мифологическом сознании, по-видимому, и обусловлен ряд обычаев, дошедших до нас лишь в рудиментах. Так, первую пойманную весной щуку нельзя бросать в кошель или корзину (если ее сразу не отпускали), не вспрыснув предварительно посудину водой. Лишь после этого рыбак вынимает из ловушки добычу и бросает в приготовленную таким способом тару. То же самое, только уже в доме, проделывает хозяйка с блюдом или корзиной, в которую рыбак выложит принесенную добычу. Этому обряду адекватно «вдыхание» рыбака в пасть первой пойманной весной крупной рыбины. Освободив такую рыбу из сети или мережи, рыбак берет ее обеими руками, подносит совсем близко к своему рту и трижды дует ей в пасть, затем еще раз. Эти манипуляции, в основе которых лежат обрядовые действа, по всей вероятности, направлены на воспроизводство выловленной рыбы. Отсюда ведут начало соответствующие приметы: если не вспрыснешь водой «места для рыбы, хорошего лова не будет»; «по суху привезешь, по суху после и возьмешь». Вдыхание в пасть рыбе, вытащенной из сети, по словам рассказчиков, также производится для удачной ловли в будущем[1697].

Рис. 85. Карбас. Реконструкция по рассказам старожилов-поморов
Обряды умножения сложились еще в системе тотемистических верований. От них, по мнению С. А. Токарева, и ведет свое начало промысловый культ. Удачливый рыбак, так же как и охотник или пастух, предстает в мифологических рассказах и поверьях в качестве знахаря или колдуна. Тот, кто вступит в договор с водяным (позднейшая интерпретация: контактирует с нечистой силой; занимается «черным» делом), всегда с добычей. Такому рыбаку, например, «на Мурмане попадается дорогая и крупная рыба: палтус, треска и др. Подобного рода знахарем (колдуном) в деревне считался едва ли не каждый рыбак: „Ведь он кто — рыбак?“ — „Рыбак“, — ответили. — „И поди рыбку-то хорошо ловит?“ — „Очень хорошо“. — „Вот и, знать, с чертями водится“»[1698] От мужика, «знающегося с чертями», зависит и удача других рыболовов: если он на кого-нибудь рассердится, то у бедняги вместо рыбы будут попадать одни березовые «голики» (веники), т. е. атрибуты водяного, в известном смысле отождествляемого с домовым. Причем на этот раз они отнюдь не превращаются в золото или серебро. Чтобы снискать расположение водяного, «знающий» человек поет на море, сказыванием былин усмиряет разбушевавшуюся стихию и тем спасается от бури и потопления. Заметим, что, согласно народным верованиям, таким же способом можно избавиться и от наводнения: когда волна, подобно горе, поднималась из реки, местные жители разжигали по берегам костры и пели. Услышав народные песни, водяной смирялся, и река опять входила в свои берега. «Знающий» человек предстает как маг, управляющий природными стихиями, в конечном счете — духами-«хозяевами». Однако игра на музыкальном инструменте (чаще гуслях) может вызвать и нежелательные последствия: водяной пускается в пляс — на море начинается шторм. Вспомним соответствующий эпизод в былине о Садко. В нем заметны и элементы этиологического мотива. Итак, в дошедших до нас мифологических рассказах и поверьях промысловый культ принимает как коллективные, так и индивидуальные формы, включая в себя знахарскую или колдовскую практику.
В ипостаси духа-«хозяина» мельницы
Сведения о том, что излюбленным местом пребывания водяного служат мельницы, содержатся в поверьях, зафиксированных еще в XVIII в. «Сииособые черти живут в воде, а особливо в мутной подле мельниц»[1699], — отмечает М. Д. Чулков. Аналогичные сообщения зафиксированы и последующими собирателями: «У всякой речной мельницы непременно живет водяной»[1700]. Местопребывание названного духа-«хозяина» может уточняться, варьируясь: водяной поселяется под мельницей, под шлюзами, плотинами, под мельничными колесами и даже в старой заброшенной мельнице. В омутах около этих построек любят водиться крупные щуки, сомы, налимы, которые осмысляются как эманации водяного, поэтому на ловлю здесь существует запрет. Случается, что именно у «мукомольни» видят и стадо домашнего скота, принадлежащего духу-«хозяину».
Рис. 86. Поморская «лодия». По реконструкции, выполненной в Карельском государственном историко-краеведческом музее
Вполне закономерно, что данный мифологический персонаж оказывает свое покровительство мельнику. Последний, обладая «тайными» знаниями (ср. с плотником, пастухом, охотником, рыбаком), не обходится без услуг водяного и поддерживает с ним дружбу. В одной из бывальщин мельник каждый вечер ныряет в глубь реки, осмысляемой как граница между мирами, и ночует в гостях у водяного, иначе говоря, бывает в «том» мире. В другом варианте этого сюжета мельник всегда отдыхал после обеда на дне Чертова омута. Возьмет рогожу да свой чапан (кафтан), зайдет на середину омута и в нем потонет. Местные жители видели из лодки, как их мельник спит на дне, будто дома. (Ср. с другими мифологическими рассказами: «знающая» женщина входит в воду — и вода «отступлеитца», когда устанавливают мельницу или когда ее «кто попортит» и требуется «все поладить». Иногда это делается с помощью травы «белый кинря».) Мельница хозяина, знающегося с водяным, всегда работает исправно: постоянно есть необходимый напор воды, ритмично стучит жернов и как результат — хороший помол. Согласно поверьям, в то время, когда мельница работает полным ходом, сам водяной сидит наверху колеса и брызжет водой (иногда это делают и русалки), т. е. приводит в действие мельничное колесо. Мука, полученная в ночь на Ивана Купалу, когда водяной проявляет особую активность и распоряжается на мельнице (вертит колеса, открывает шлюзы и пр.), обладает магической силой. По белорусскому поверью, хлеб, испеченный из муки, к приготовлению которой был причастен сам дух-«хозяин», да еще вдобавок освященный в церкви, обладает чудодейственными свойствами: тот, кто съест ломоть его, не утонет в течение года. Что касается мельников, то они вообще не тонут. Водяной хранит и приумножает хозяйство мужика. Если у крестьянина совсем кончится мука, то ему «сыплется в мерку рожь» прямо из стены закромов. Функционально тождественным водяному в аналогичной коллизии со временем оказывается христианский святой и даже сам Христос, творящий чудо на мельнице: «Взял он у мужика рожь, засыпал и стал молоть; смотрит: уж много прошло времени, а мука все сыпится да сыпится! Что за диво! Всего зерна-то было с четверть, а муки намололось четвертей двадцать, да и еще осталось что молоть: мука себе все сыпится да сыпится… Мужик не знал, куды и собирать-то!»[1701]. Забравшегося же на мельницу вора водяной «словом привяжет. Было такое. Он привязать может. Будешь стоять, покудова хозяин не придет»[1702]. Однако не случайно бытует поговорка: «Водой мельница стоит, да от воды и погибает». Водяной не только содействует мельнику, но может ему и навредить: не дать достаточного количества воды, размыть или прорвать плотину, поломать поставы, испортить колеса, привести в негодность жернова и даже снести в половодье мельницу. (Изредка приблизительно то же самое рассказывают о русалках.) Он жестоко наказывает мельника или просто мужика, который мелет ночью: «И вот как он в мельницу попал? Там молол он ночью муку-то. И пришли — дак он в колеси там был заверченный. Так будто бы, что домовой (здесь: синоним водяного. — Н. К.) запихал туды. Вот так, в эту мельницу»[1703]. В другом случае водяной изгоняет работающего ночью на мельнице из избушки, подобно тому как это делает леший, если охотник не попросил позволения на ночлег или же занял его место: «Только повалился, не успел еще заснуть — вдруг за волосы кто-то дернет. Я из сна долой. Что такое? Опять зажгал лучину, в щель куда-то улепил. Повалился, полежал. Как лучина погасла — опять то же самое: опять за волосы»[1704]. На мельнице подстерегает наказание и мужика, который, проходя берегом и увидев на плоту водяного, швырнул в него кирпичом, так что тот закричал от боли: «Ой, руку сломал, досадил!» Кара постигает незамедлительно, она адекватна содеянному злодеянию: «Пришел он на завод (мукомольный. — Н. К.), и в тот же день на заводе ему руку и оторвало. То ли он сам досадил, то ли этот человек сунул руку ему. Уж это, верно, водяной был»[1705].

Рис. 87. В Каргополье: крыльцо церкви. С. Лядины (а). Надколодезная часовня. Ошевенский монастырь (б)
При содействии духа-«хозяина» мельник и сам обладает колдовскими (знахарскими) способностями, выступает как медиатор между мирами. Он может благоприятствовать людям или вредить им. Согласно восточнославянским поверьям, стоит только мельнику подуть на воду и произнести одному ему известные магические слова, как водяной исполнит любое его желание, будет ли оно связано с исцелением, или же с отысканием вора, или с иными крестьянскими нуждами. Если же мельник бросит в воду вещь, принадлежащую человеку, которому он хочет навредить, то, по севернорусским материалам, последний вскоре зачахнет или же с ним приключится какое-нибудь несчастье. Отношения между мельником и его мифическим помощником устанавливаются с момента жертвоприношения, которое имеет место перед строительством плотины, самой мельницы или перед ее пуском, впрочем, как и при основании любого другого сооружения. Иначе «мукомольню» не построить: «Один помещик вздумал выстроить на Днепре какую-то особенную мельницу на плотах. Сначала работа шла очень успешно, но вот однажды просыпается помещик как-то на заре и видит: по реке, от леса, идет какой-то высокий человек, весь в белом, подходит довольно близко к нему да как ударит кнутом по плоту — гул пошел и шум кругом. С тех пор пошли неудачи и постройка плотины осталась незаконченной»[1706]. А если даже удастся довести дело до конца, то мельница либо будет бездействовать, либо вообще окажется недолговечной: один мужик построил мельницу, не спросясь у водяного, — за это «хозяин» «вздул» весной воды с такой силой, что полностью ее разрушил. Беда может постигнуть крестьянина и в том случае, если для новопостроенной мельницы было неправильно выбрано место, в результате чего нарушилась гармония взаимоотношений «этого» мира с иным, параллельным. «<…> кресьянин состроиу мельницю противо самого дому, так што с трубы дым вовсе не идет»[1707], — жалуется сестра-водяница брату-водяному в одной из бывальщин. Чтобы постройка могла вписаться в сложившееся мироустройство материально, она должна быть соотнесена с ним прежде всего духовно. Реализации этой идеи и служит обряд жертвоприношения. Из дошедшей до нас севернорусской традиции он предстает уже в ослабленном или трансформированном виде: «Мельник перво дело сулит голову, чтобы мельница лучше работала, — человечью. Мельник старается, как-нибудь старается, чтобы была водяному человечья голова, чтобы человек под колесо попал и утонул»[1708]. Или: «Он сказал, что пошел договариваться с водяным: он был колдуном. Старик, значит, обещал водяному каждый год утопленника. Если люди будут тонуть, то плотину не прорвет. С того времени в Пертозере каждый год тонут люди»[1709]. В данном случае мы имеем не сам обряд жертвоприношения, а сменивший его «зарок» на живую голову, в соответствии с которым водяной сам рано или поздно возьмет «свое посуленое» и утопит его. Однако еще в XIX в. возможны были слухи, что мельник в качестве жертвы столкнул в омут запоздалого путника. Эквивалентом человеческой жертвы, которую должен принести мельник водяному, служит запродажа ему собственной души: «Одному мельнику сильно везло: он водяному душу на срок продал, и все ему с той поры удавалось. Воду ли где остановить, помолоть ли у кого на мельнице: все, бывало, к нему. Он по этой части знахарь был. Изошел срок, приходит к нему водяной за душой: „Давай душу!“ И мешок кожаный принес: „Полезай!“»[1710]. И все же в дошедшей до нас мифологической традиции преобладают следы зоо- или фитоморфной жертвы, которая предшествовала человеческой, осмысляясь, однако, в поздней традиции как заместительная. Теперь при совершении обряда могут бросить в воду (либо сделать «зарок») откормленную корову, свинью, овцу, петуха, обычно черных (последнего же могли зарыть живым под бревно, на котором затем устанавливалась дверь мельницы, иначе говоря, под ее порогом), а также рыбу, что в данном контексте вполне естественно. С ослаблением обряда в качестве жертвы использовались лошадиный череп, дохлые животные, причем они должны быть непременно в шкуре. При забое скота с этой же целью использовались кишки, покрытые внутренним жиром. И череп (голова), и шерсть, и внутренности — средоточия жизненной силы. Приносились и фитоморфные жертвы: например, три «супорыжки», т. е. три стебля ржи, выросшие с двумя колосьями (эквивалент: мука с водой, крошки со стола и пр.). О тождественности животных и растительных жертв свидетельствуют в сущности сами поверья: «Знаются с водяным те, которые ставят мельницу, на чем поставлена мельница. Кто на зерне, кто на скоте. У нас на девятом зерне (курсив мой. — Н. К.)»[1711]. Известны и поздние, уже завуалированные трансформации обряда жертвоприношения. Например, на мельнице держат животных черной масти: кошку, петуха (чаще это эманации домового) либо носят при себе шерсть черного козла (знак дворового-хлевника, с которым в данном случае идентифицируется водяной — «хозяин» мельницы). Функционально тождественными названным жертвам являются лапти, ассоциирующиеся, на наш взгляд, со следом (одним из средоточий души) и осмысляемые в народных верованиях как атрибуты-эманации различных духов: домового, лешего, водяного и др. Подчас жертвой им служит табак и даже водка, которые по сути предназначаются своему сородичу-предку, отнюдь не случайно называемому «дедушкой». Концентрированным выражением верований, обосновывающих необходимость жертвоприношений, служит поговорка: «Со всякой новой мельницы водяной подать возьмет»[1712]. Согласно нашей концепции, душа этих животных либо функционально тождественных им атрибутов-эманаций и становится духом возводимой мельницы. Его присутствием обусловлена прочность «мукомольни», непрерывность и ритмичность работы жерновов. При этом дух-«хозяин» постройки в сущности сливается с духом-«хозяином» воды, с которым мельник старается жить в дружбе и время от времени (ежегодно, чаще осенью, при первых заморозках), в соответствии с традиционным этикетом, поддерживает или обновляет, восстанавливает его жизненную силу. Заметим попутно, что водяной считается в народных верованиях и покровителем пчеловодства. Поэтому отнюдь не случайно его именем маркируется принесение жертвы, в качестве которой используется первый отделившийся рой: этот «первак» собирают в мешок и, привязав к нему камень, топят в реке (озере). Зафиксирована и ослабленная форма жертвоприношения: водяного кормят свежим медом, взятым понемногу из каждого улья. Эти обрядовые действа, сопровождаемые магическими словами заговора, совершались накануне Спасова дня (Преображения Господня, отмечаемого 6 августа по ст. ст.). Со временем эту функцию водяного наследуют соловецкие чудотворцы, святые Зосима и Савватий, осмысляемые в народе как покровители пчел и пчеловодства. Теперь уже в день Зосимы (17 апреля по ст. ст.) и Саввватия (27 сентября по ст. ст.) пасечник вынимает из улья соты и в двенадцать часов ночи погружает мед в воду (иногда около мельницы) с произнесением заговора. Этим обрядом, совершенным в сакральное время, обеспечивается успех в пчеловодстве на весь очередной сезон. Отметив еще одну ипостась водяного, выявленную из поверий, необходимо подчеркнуть, что, насколько нам известно, мифологическая проза, и тем более севернорусская, в такой роли данный персонаж в сущности не знает.
Похититель людей и домашнего скота
Мифологические рассказы и поверья о водяном как похитителе людей и домашнего скота относятся к числу наиболее активно бытующих даже в поздней традиции. Причем крестьяне твердо убеждены, что в том озере, в котором нет водяного, точнее, из которого он изгнан, утонуть невозможно, равно как нельзя заблудиться в лесу, если на это не будет воли лешего: «Несмотря на большую глубину озера, до сих пор в нем никто еще не утонул. И назвали это озеро Крестным (Крестозером) и ручей тот, проведенный водяной силой, Крестным»[1713]. Об утонувшем же говорят, что его ухватил водяной. Мотивировки этой функции интересующего нас персонажа могут быть различными. Одна из них: водяной берет человека в качестве полагающейся ему ежегодной жертвы, на которую был дан «зарок». Например, в Германии, когда кто-нибудь тонет, в народе говорят: «Речной дух потребовал свою ежегодную жертву» или — проще: «Никс взял его»[1714]. Правда, подобная мотивировка в севернорусской традиции может быть уже завуалирована: «Есть в Поморье такие реки (например, в Сумском Посаде Кемского уезда. — Н. К.), где водяник особенно сердит и считает своим долгом ежегодно брать по человеку»[1715]. Явная мифологема в данном случае отчасти наполняется психологическим содержанием. Согласно таким рассказам и поверьям, помогать утопающему бессмысленно: водяной имеет над ним таинственную власть, которую ничем не преодолеть. Вот почему помогать утопающему считается делом опасным: водяной при первой же возможности утопит самого избавителя. Подобные представления зафиксированы и в чешской традиции. В иных локальных русских традициях боялись спасать утопающего, «дабы не разгневать дедушку-водяного». Вырывание жертвы, предназначенной или полагающейся водяному, из самих его рук осмысляется в народных верованиях как вызов божеству, который едва ли мог остаться без наказания с его стороны[1716].
Рис. 88. Долбленые лодки-однодеревки с балансирами («хонгои»-кар). Южная Карелия
Характерно, что водяной «берет к себе», т. е. топит, наиболее активно в сакральное время: в Ивановскую и Ильинскую недели, о чем мы уже говорили выше. Быть может, изначально именно это время, занимавшее свое место в языческом календаре, и отводилось для жертвоприношения водяному. С угасанием же обряда, равно как и с дискредитацией самого божества вод, полагающуюся ему жертву водяной стал брать сам. Этот этнографический субстрат послужил основой для мифологического сюжета, давшего многочисленные разветвления и трансформации. О том, что в период господства человеческого жертвоприношения водяному предназначается не лишь бы кто, а лицо, наделенное высокими нравственными и физическими качествами, свидетельствуют наиболее архаические из дошедших до нас рассказов и поверий. Так, согласно белорусской мифологической прозе, водяные «берут к себе, т. е. топят, понравившихся им людей (курсив мой. — Н. К.)»[1717]. Идеализация жертвы особенно выразительна в мордовских эпических песнях, о чем уже доводилось говорить при рассмотрении строительных обрядов[1718]. В христианизированной версии этого мотива водяной топит человека, купающегося без креста (вообще не носящего его; снявшего перед купанием; оставившего дома). Наиболее ранний вариант данного мотива зафиксирован уже М. Д. Чулковым. Но чаще крест не имеет для водяного значения, не отпугивает его, о чем свидетельствуют бывальщины: «<…> если даже есть крест, то схватит за говитан (гайтан. — Н. К.). Парень один утонул, в таком месте купавшись, его искали по четыре дня и, когда вытащили, то увидели, что говитаном ему шею перерезали, а у горла на говитане узел завязан»[1719]. Утонувшего священника вытаскивают уже без креста. О водяном как первопричине потопления людей сообщают многие мифологические рассказы. В некоторых из них речь идет о попытках «хозяина» взять к себе человека, находящегося на воде или оказавшегося в ней. Так, один старик нащупал в пруду своими ногами водяного и даже перекувырнулся через него; сидящий в лодке вдруг видит, как из воды высунулась большая, покрытая черной шерстью рука и схватила лодку за борт. Иному доводилось в подобной роковой ситуации видеть водяного воочию: провалившись в темную осеннюю ночь в реку, около плотины, мужик оказался в когтях «хозяина», мохнатого, как метла, с горящими глазами. Другую группу составляют мифологические рассказы, повествующие о том, что водяной удерживает свою жертву, уже находящуюся под водой: «У нас тут потонула одна девушка. А Саша Трошков все время нырял. Если трактор потонет, дак он зацепит, или утопленника достанет. А тут, говорит, нырнул — а там сидит старик. И девка у него захвачена в руки. Вот он нырнул и говорит: „Я больше нырять не буду“. — „А почему?“ Сначала не сказал, а потом уж рассказал. „На этом месте, — показал, — вот тут доставайте“»[1720]. Известен вариант этой бывальщины, зафиксированный в среднерусской традиции: нырнувший за парнем, которого утащил к себе водяной, видит, что на голове у утопленника сидит «белая лебедь». Это и есть сам дух-«хозяин», принявший в данном случае орнитоморфный облик. Очередную разновидность составляют рассказы или отдельные мотивы, в которых упоминается, что на теле утопленника обнаруживают кровоподтеки от сильного сжатия руками, синяки, раны, царапины и даже отпечатки пальцев. Все это, по мнению крестьян, служит явным доказательством, что жертва побывала в руках у водяного: «Бывало и так, что купалась девушка, выплывала, рассказывала, что ее хватал водяной и от этого у нее на ногах укусы, синяки и так далее. Но она отбилась, не попала к водяному»[1721]; «Руку, за которую схватил его водяной, многие видели, и на ней была знать вся пятерня руки водяного, где захватил пальцами, тут сделались синевицы»[1722]. Согласно поверьям, тело утопленника «хозяин» обычно возвращает людям. Чтобы определить место, где находится тело, и изъять его из рук водяного, совершают особый обряд: берут небольшой горшок (или деревянную чашку), кладут в него угли, ладан и разжигают (прикрепляют по краям три восковые свечи); пустив горшок (чашку) по течению несколько выше места происшествия, наблюдают, куда он поплывет и где остановится, — там и лежит утопленник (или: вода закружится, образуется воронка — и он сам покажется на поверхности). Подобные атрибуты, на наш взгляд, символизируют погребальный сосуд для сожженного праха предка и вместе с тем служат эмблемой домового. Правда, иногда рассказчики утверждают, что водяной забирает и тело жертвы, а людям отдает лишь «обмен», «обменыш» в виде обезображенного посинелого трупа, который на самом деле не является телом утонувшего (ср. с поверьями коми-пермяков и удмуртов: это не труп, а обрубок дерева, которому водяной придал вид мертвого человека). Но такие суждения единичны. Обычны же рассказы и поверья о том, что водяной возвращает тело, забирая лишь душу: «он как бы хватал людей и уносил к себе, дальше забирал душу — эта душа Богу уже не доставалась, — и возвращал исковерканное тело, куда-то выбрасывал на берег»[1723]. Аналогичная функция приписывается и русалкам. Эти мифические существа, прельщая человека своей губительной красотой или печальным пением, нападают на него, защекочивают до смерти и топят. Такие представления о русалках устойчивы и распространены в различных локальных традициях. Смехом, который вызывается при щекотании у человека, русалки, на наш взгляд, обеспечивают ему переход из одного состояния в другое. Вспомним лешего, который, прежде чем покинуть «этот» и вернуться в «тот» мир, смеется, хохочет[1724]. Что же происходит с душами утопленников в «том» мире, отделенном от «этого» водой? Как следует из дошедших до нас мифологических рассказов и поверий, души людей, принесенных в жертву либо похищенных жаждущими человеческой жертвы водяными, и особенно тех, чьи тела не были найдены и преданы земле, пополняют число духов воды. Причем статус таких духов в потустороннем мире зависит от пола и возраста, который имели при своей жизни принесенные в жертву люди: мужчина становился водяным либо слугой, работником «хозяина», женщина — русалкой или водяницей, мальчик или девочка — детьми духа реки (озера). Параллельно бытуют верования, согласно которым русалки — это утопленницы-самоубийцы или дети, мертворожденные, умершие неестественной смертью либо некрещеными, а также похищенные и подмененные в бане, о которых поется в песне: «Меня мати породила, некрещену положила»[1725].

Рис. 89. Корабли Русского Севера: озерная сойма (а), Обонежье; «лодия» (б); коч (в). Поморье. Реконструкция
На почве подобных представлений формируется сюжет о брачных отношениях человека с духом воды (ранее персонажем тотемного типа). Классическим примером является былинный мотив женитьбы Садко на дочери морского царя. В одной из севернорусских бывальщин повествуется, как утонувшая девушка стала женой водяного, как она тосковала по земной жизни и как однажды, покинув воды, вышла на берег к людям. Спустя какое-то время водяной вновь схватил ее. Но вторичное похищение (утопление) означало для нее уже небытие. Вместе с тем в мифологических рассказах и поверьях просматривается и иная линия: души утопленников, становясь духами воды, живут в потустороннем мире не рядом с водяными, а сменяют их: «Они (водяные духи, или дедушки. — Н. К.) уносят купающихся по тем местам людей, особливо же мальчиков, коих и приучают жить у себя в домах; а сии в последствии времени заступают сами место сих дедушек (курсив мой. — Н. К.)»[1726], — сообщается на основе поверий, бытовавших в XVIII в. Представления о человеческой жертве как духе, сменяющем прежнего водяного, зафиксированы и в конце XIX в., хотя в еще более трансформированном виде: «Удается утащить ему (водяному. — Н. К.) <…> мужчину — он будет его слугою, рабом до тех пор, пока не даст за себя выкупа, т. е. пока, уже сделавшись водяным (курсив мой. — Н. К.), сам не утащит своему старшему хозяину кого-либо из людей»[1727]. Если учесть, что упоминание о множестве водяных духов, обитающих в одном водоеме, обусловлено позднейшим «разветвлением» некогда единого персонажа, если вспомнить, что в поверьях народов мира фигурирует обычно ежегодная жертва, то становится очевидным, что с такой же периодичностью (один раз в год) воссоздается и сам дух воды либо обновляется, восстанавливается его жизненная сила. В мифологической прозе заключена определенная концепция мироустройства: душа принесенной жертвы является духом данного водоема лишь в течение означенного срока, после чего в лице новой жертвы получает себе замену. С этого момента начинается очередной цикл жизнедеятельности духа-«хозяина», включенный в круговорот природы. С утратой же мотивировки потопления (похищения) людей водяным и «разветвлением» этого персонажа, обусловленным в какой-то мере представлениями об адекватности «того» мира «этому», сложились многочисленные рассказы о «хозяевах» как вредоносной силе, которая губит людей и скот без видимой причины в различном количестве и едва ли не в любое время: «Даже уж и домашний скот и курицы тонуть стали, тонули даже кошки и собаки, наконец, дело и до людей дошло, все живое тонуло в озере»[1728]. Мотив потопления водяным домашних животных обнаружен и в древнерусской литературе. Например, в житии Иова Ущельского повествуется о том, как водяной едва не утащил на дно реки лошадь: «Ехали через Мезень реку в лодке Нисогорской волости Фока с братьею Петровы дети на пашню свою и плавили лошадь, и выехали до полуреки, и найде на них дух нечистый водный и нача лошадь топити; они же лошадь держаху, а нечистый дух яве хождаше аки рыба велика волнами и нападаше на лошадь и за лодку хваташе, потопить хотя…»[1729] Такие представления укрепляются с развенчанием водяного как языческого божества. В качестве примера трансформации образа водяного в данном направлении служит рассказ о том, что при определенной расположенности к людям дух-«хозяин» может умерить свое губительное действие: «И омутник за такое бескорыстие их обещался, что не будет народ тонуть у них на перевозе: „И выше и ниже — будут, а у вас на перевозе — никого!“»[1730]. Если же водяной не смиряется, его стараются изгнать всевозможными способами: бросают в воду железо, «зерсливый камень», льют смолу и деготь; колдуны обходят озеро с заклинаниями. Но самым действенным средством оказывается такой атрибут христианства, как крест. Когда священник, отслужив молебен, погружает его в озеро, водяной спасается от креста бегством, оставляя за собой свежепрорытый ручей, осмысляемый как ход в потусторонний мир. Однако, напомним, водяной не всегда боится креста, хотя, согласно некоторым вариантам данной коллизии, и утрачивает при виде его часть своей силы. Наряду с мифологическими рассказами о людях, ушедших в «тот» мир навсегда, известны и бывальщины о временных утопленниках, возвращающихся обратно через определенное время. В одной из них пошедшего ко дну мальчика встретил седой старик с рогами и сказал, чтобы тот посидел здесь, пока он сходит в свою избу. В его отсутствие жители подводного мира закричали, что теперь мальчик принадлежит им. Однако водяной, вернувшись, возразил: этому мальчику «не должно быть утопленником». Действительно, родителям удалось вытащить его из воды и откачать. Архетипом данной уже переосмысленной коллизии служит модель: неофит временно пребывает у тотемного предка (здесь: сменившего его духа-«хозяина»), а затем возвращается в свой род. Вернуться из подводного мира могут и похищенные водяным девушки, и особенно проклятые родителями: «Была у начальника девушка. Отдали водяному. Не вовремя возбранишь: он может унести»[1731]. Стоит произнести «неприятные слова», да еще в «неудобный час», около полуночи, как обруганную таким способом окружает во дворе какая-то невидимая сила, приводит к реке, где ее тянет в воду. (Кстати, этот мотив присутствует и в древнерусской литературе. Так, в повести Прокопия и Иоанна Устюжских о Соломонии бесноватой «девка Ярославка» была проклята матерью, которая «отдаде» ее бесам сразу после рождения[1732].) При соблюдении соответствующих правил (молитва, подача милостыни как трансформация «относов») проклятую нередко удается вернуть назад. Особенно это возможно в свадебный период, когда, оказавшись в лиминальном состоянии, невеста находится на пороге между «тем» и «этим» мирами. В подобных случаях по сути дела разрабатывается та самая коллизия, которая ранее рассматривалась применительно к баеннику («невеста из бани»), домовому, лешему[1733] и которая служит знаком семантической общности данных персонажей. Из потустороннего мира девушка может явиться лишь однажды: «На карауле у солдата просила креста. Он не смел креста дать. Повесили крест на то место, где выходила девка, не бывала больше за крестом»[1734]. Посредством креста и магического круга можно удержать в «этом» мире даже русалку. Но, в отличие от проклятых или посланных сгоряча к водяному, русалка не остается среди людей навсегда. Как только завершается соответствующий ей природный цикл (от одной Русальной недели до другой), она убегает в лес или просто исчезает бесследно. Эквивалентом подобному похищению-возвращению служит в какой-то мере и заболевание-исцеление, маркированное образом водяного либо водой как его эманацией (микроэманацией). Согласно поверьям, к тому, кто утолит жажду ночью, до вставальной поры, вместе с ковшом воды может пристать и болезнь (водяная). Чтобы исцелиться, ходили просить прощения «не знаю, у водяного, или у кого там, или у лешего ли, в общем, у этой нечистой силы»[1735], которая, рассердившись на человека по той или иной причине, наслала на него вместе с водой порчу. Причем у водяного просили не только здоровья, но и красоты, привлекательности: «Водяной царь, водяная царица, дайте мне красоту, басоту, парням — сухоту»[1736]. О целебной силе воды, и особенно «живой», взятой в сакральное время, мы уже говорили при рассмотрении соответствующей функции баенника[1737]. Воду для лечения больного берут у водяных духов: «<…> царь водяной и царица водяная с малыми детьми, с приходящими гостями, благословите воды взять не ради хитрости, не ради мудрости, но ради добра и здоровья рабу Божию»[1738]. Тот факт, что здоровье человека находится полностью во власти духов-«хозяев», подтверждается и при анализе функций, принадлежащих другим персонажам мифологической прозы и заговоров. Вот почему для того, чтобы исцелиться, нередко обращались сразу ко всему сонму языческих божеств.
Прорицатель будущего
Явление водяного, будь он в зоо- или антропоморфном облике, уже само по себе осмысляется как предзнаменование: «Это, — говорим, — к нехорошему»[1739]. Судя по мифологическим рассказам, случается, что вскоре после такого видения тонут люди или крестьянскому хозяйству наносится урон: например, медведь задерет быка. Зачастую водяной (водяница) предсказывает будущее в вербальной иносказательной форме, причем по собственной инициативе, не будучи к этому побуждаемым: «Сказал одной женщине на Онежском озере: „Судьба есть, а головы нет“. И на этом месте утонул человек»[1740]. Согласно другой бывальщине, водяница перед самой войной предвещала массовую гибель людей: «Вот она сидит на этом берегу на камешку да и кукат, сидит да кукат. А, говорит, кукала-кукала, последний раз кукнула и сказала: „А этот год, — говорит, — всех кукнут“. А сама кук, да с горки, да только и видали. <…>. Вот воевали-то долго и говорили: „Вот водяница кукнула, что мужиков тогда убили!“»[1741]. В этом мотиве есть элементы программирования судьбы мифическим «хозяином». Во власти последнего дать и такой прогноз, в котором будущее находится в нерасчленимом единстве с прошлым и настоящим: «Опять на веснуху ночью на камень водяник выстал, рычит: „Год от году хуже, год от году хуже!..“»[1742]. (В мифологической прозе и поверьях год обычно осмысляется как некая универсальная модель времени, имеющая потенции к регулярному обновлению и определенному варьированию.) Подобного рода прорицания имеют место от случая к случаю. Вместе с тем в условиях, когда с данным духом-«хозяином» устанавливаются особо доверительные взаимоотношения, тот может предсказывать будущее постоянно: «Водяной каждую ночь ходил к мужику и говорил, какая будет погода, хорош ли урожай будет, и пр. и пр.»[1743].
Рис. 90. Кованый поморский якорь
На вере в пророческие способности данного мифологического персонажа основывается и ряд сюжетов, этнографическим эквивалентом которых являются мантические обряды, в первую очередь святочные: «В Святки одна девушка пошла глядеть к пролубю. Вдруг оттуда выскочила овсяная кубача (связка обмолоченного хлеба. — Н. К.) и сказала: „Семи сел боярыня, подвинься в сторонку“. Сказала это и покатилась в сторону. Вечером приехали сваты. И эта девушка вышла в ту сторону, в которую покатилась кубача»[1744]. В проруби же, как и в стакане с водой, согласно бывальщинам, пытаются рассмотреть лицо суженого. Причем отражение (будь оно в воде или зеркале) эквивалентно тени, осмысляемой в народных верованиях в качестве души, духа, мифического существа[1745]. Основным эпизодом в других бывальщинах является гадание посредством слушания, которое, хотя и локализуется у проруби, по сути совершается примерно так же, как у гумна, овина либо на перекрестке[1746]: в очерченном круге или на очерченной шкуре. Во всех случаях дух-«хозяин» не только не предсказывает нарушителям правил гадания, но пытается даже погубить их. Водяной может потащить гадающих в прорубь или преследовать их до самого дома, пока те не закроют за собой дверь, не перекрестят глаза и не проговорят: «Господи, благослови». Опасность для жизни возникает лишь потому, что гадающие не создали замкнутого пространства: не очертили хвост у кожи, на которой сидели, в результате чего эту шкуру (правда, уже без желающих узнать свою судьбу) так и уволокло неведомой силой в прорубь. Как и в мифологических рассказах о домашних духах, в анализируемых бывальщинах гадание может быть совершено и посредством вещей птицы. Однако в данном случае вместо петуха используется гусь. В качестве предсказателя будущего водяной сближается, подчас отождествляется с домашними и лесными духами-«хозяевами». Взятые в совокупности и рассматриваемые именно в этой ипостаси, они до некоторой степени идентифицируются с божествами судьбы. Таким образом, водяной соотнесен, с одной стороны, с природной стихией, выступая в качестве ее духа-«хозяина», с другой — с определенной общностью людей, тем или иным социумом (в поздней традиции нередко — с отдельно взятым человеком). И в том и другом случае рассматриваемый персонаж наследует функции мифического предка-родоначальника тотемного характера. В процессе бытования образа его семантический спектр отчасти расширяется, поглощая или дублируя функции других мифических существ, отчасти разветвляется, но вместе с тем и сужается, утрачивая некоторые изначально присущие ему свойства. Показательно также, что локусом-эмблемой водяного служит камень (в архаической версии: синий). На наш взгляд, это символ, вырастающий из мифологических представлений о преодолении первобытного хаоса и появлении из него первой земли, точнее, ее первых «островков». В этом смысле образ водяного — один из важнейших знаков упорядочения хаоса как исходного состояния бытия.

Заключение
В первой части данной книги содержится преимущественно анализ образов духов-«хозяев». Речь идет о баннике (баеннике), домовом, лешем, водяном и сопряженных с ними персонажах. Каждый из названных образов зафиксирован в традиции уже в достаточно «разветвленном» виде, что не исключает, однако, признаков его былого синкретизма. Так или иначе наряду с основными в мифологических рассказах фигурируют второстепенные, периферийные, побочные персонажи. Многочисленные «отпочкования», дифференциации от общего архетипа, проявления которого обнаруживаются даже в поздних по времени записи текстах, — результат длительного процесса. Подобные трансформации могут иметь различный характер. Случается, что тот или иной дух-«хозяин» вытесняется адекватным ему множеством однородных мифических существ, представляющих собой коллективную единоличность. Например, в одной из бывальщин вместо лешего фигурирует табун лошадей, стремительно набегающий на оказавшихся в лесу людей, в другой — некий народ, а то и просто косцы, идущие на сенокос в праздничной одежде и т. д. «Разветвление» единого образа происходит и за счет того, что женский мифологический персонаж нередко дублируется мужским и даже едва ли не вытесняется им. «Отпочкования» от центральной фигуры возможны и вследствие того, что дух-«хозяин» наделяется семьей: женой, детьми, родственниками, чьи образы находятся с основным в едином семантическом поле. Так, наряду с лешим (или иным духом-«хозяином») в быличках и бывальщинах подчас предстают лешачиха, дети лешего, лесные старики, лесные отцы и пр. (или иные соответствующие основному образу персонажи). В результате роль центральной фигуры в известной мере распределяется между «отпочковавшимися» от нее персонажами. Впрочем, последние могут служить и в качестве фона для основного образа. Круг мифических существ расширяется и за счет персонификации той или иной функции, которой вместе с новоявленными продолжает обладать и исходный образ. В этом случае, к примеру, наряду с духом-«хозяином» бани, усвоив одну из его ролей, запаривает моющихся обдериха, а наряду с домовым душит спящего человека Гнетке (-а). Число мифических существ пополняется и вследствие соотнесения духов-«хозяев», а вернее, их метонимических эквивалентов, с локусами, дифференцировавшимися из некоего сакрального пространства, чем обусловливаются соответствующие коррективы в функциях каждого из «отпочковавшихся» персонажей. Показателен факт, когда из былого синкретического образа духа-«хозяина» постройки по мере развития традиционного жилища постепенно выделились в качестве самостоятельных мифических существ домовой, банник (баенник), дворовой, хлевник, овинник, ригачник, гуменник, что, впрочем, отнюдь не мешает каждому из них сохранять некоторые признаки своей изначальной общности. Персонификация мифических существ может быть обусловлена и временны´ми детерминантами, маркированными определенным сакральным знаком. Таков, в частности, Святке(-а), активизация которого ограничена рамками Святок. Этот персонаж дифференцировался из сонма духов, выступающих в ипостаси не только оракулов, но и божеств судьбы. Аналогичную природу имеет и мифическое существо, известное в традиции под названием «полудница». Воплощая в себе представления об одном из сакральных моментов в пределах суточного цикла — полудне, составляющем бинарную оппозицию по отношению к полуночи, этот женский персонаж отчасти подменяется духом-«хозяином» поля. Во всяком случае, полудница иногда отождествляется со «ржицей»: она локализуется во ржи, появляется в период цветения и созревания хлебов, покровительствует посевам. В известной степени это метонимический эквивалент полевика. Одним из путей формирования новых образов мифических существ служит также персонификация тех или иных свойств, признаков, характерных для основных синкретических фигур. Этот процесс стимулируется трансформацией и переосмыслением последних. Подобного рода персонификации обычно обозначаются субстантивированными прилагательными: «нечистый», «нехороший», «неприятный», «лукавый» и пр. Персонифицироваться могут и табуистические номинации духов-«хозяев». Причем их семантика, как правило, не утрачивает связей с табуируемым «оригиналом». «Отпочковавшиеся» подобным способом персонажи так и остаются в пределах семантического поля, границы которого определяются при тезаурусном анализе и экспликации образа, составляющего «ядро» этого смыслового фона. Совершенно очевидно, что рассматриваемый процесс дифференциации не был прямолинейно поступательным. И уже преодолевшие изначальную слитность персонажи нередко вновь подвергались синкретизации. Вспомним хотя бы о такой совокупности сопряженных между собой мифических существ, как домовой — дворовой — хлевник. Каждая из ее составляющих выступает в различных быличках и бывальщинах, а подчас и в различных этнокультурных традициях то в качестве самостоятельного персонажа, то в нерасчлененном единстве с другими. В истории бытования интересующих нас мифологем возможны и коллизии совершенно противоположного характера. Случается, что функции исчезающих из традиции персонажей перераспределяются между сохраняющимися в ней. Например, роль божеств судьбы, реминисценции которых отчетливо просматриваются в духах, манипулирующих пряжей, нитью, полотном, либо в существах, появляющихся на росстани (перекрестке), о чем подробно говорится во второй части данной книги, оказалась на каком-то этапе воспринятой более живучими мифологическими персонажами, относящимися преимущественно к сонму домашних духов в его расширительном значении, хотя и не только к нему. Речь идет прежде всего о домахе (домовой), маре, кикиморе, как и о других персонажах, уже христианизированных, но разделяющих с ними некоторые функции: о Параскеве Пятнице, иногда св. Евдокии, о Богородице и пр. Все эти образы приобретают в таких случаях дополнительное значение. Однако не следует забывать, что круг персонажей, принадлежащих к данному типологическому ряду, сужается за счет стершихся в традиции. Несмотря на всю многочисленность рассматриваемых в названных циклах персонажей, основных и производных, изначальных и новоявленных, синкретических и «разветвленных» (причем грань между теми и другими довольно подвижна), их «ядро» составляют все те же образы духов-«хозяев». Единый же архетип последних, сформировавшийся, как уже говорилось, в мифе о тотемном предке, во многом предопределил их общую семантику и структуру. Признаки заключенных в первообразе потенций проявляются прежде всего в облике, принимаемом духами-«хозяевами» вследствие инкарнации, обусловленной сакральным хронотопом, или темпоральными и локальными детерминантами. Они же обнаруживаются в самой способности рассматриваемых мифических существ к зоо-, фитоморфным, а также «гибридным» воплощениям. Изначальная природа рассматриваемых персонажей дает о себе знать и в зоо- либо фитоморфном фоне, на котором они изображаются, как и в их устойчивой «животной» или растительной атрибутике исимволике. Потенциями, заложенными еще в архетипе, предопределено и участие, проявляемое духами-«хозяевами», с одной стороны, по отношению к людям, представляющим собой некую традиционную общность, а с другой — к тому или иному виду животных либо растений, принадлежащих к лесной, водяной фауне и флоре, диких или уже одомашненных, окультуренных. Духи-«хозяева», по мифологическим рассказам и поверьям, заботятся в первую очередь о животных (растениях), чьими знаками они чаще всего маркированы. Подобно персонажам тотемного характера, интересующие нас существа осмысляются в качестве некоего средоточия обилия, которым обусловливается здоровье и плодовитость домашнего скота, удойность коров, жирность свиней, яйценоскость кур, урожай растений (с развитием земледелия — урожайность полей, огородов, садов). В ведении названных персонажей воспроизводство тех видов животных, успешный промысел на которых определяется как охотничье или рыбацкое счастье. (Заметим попутно, что восприемниками этой функции изображаются колдуны, знахари, ведьмы, мифологические рассказы о которых явились объектом изучения во второй части данного исследования.) Правда, в быличках и бывальщинах, зафиксированных преимущественно в XIX–XX вв., устойчивое соотнесение «хозяина» с определенным видом животных или растений, столь присущее тотемному предку, уже в значительной степени нарушено. И все же его следы не стерлись даже в поздней традиции. В структуре рассматриваемых образов различимы и черты мифического предка-родоначальника, антропоморфизированного в процессе длительного бытования. В качестве такового дух-«хозяин», и особенно домашний, выступает в роли вершителя жизненного цикла: он причастен к рождению, свадьбе и смерти каждого члена семейно-родовой общины, заботится о благополучном течении бытия очередных поколений, на которые продолжает распространяться его покровительство. Подобные представления, основы которых были заложены еще в архетипе, с известными коррективами распространяются и на духов-«хозяев» воды, леса. Так, например, соотнесение данных мифических существ со смертью человека стимулируется верованиями, согласно которым и лес, и река — граница между мирами, путь в иной мир. В подобных случаях духи-«хозяева» в какой-то мере идентифицируются со Смертью: ее образ в фольклорной традиции нередко персонифицируется. В образах духов-«хозяев» обнаруживаются и некоторые элементы образа покойника, что обусловлено преемственной связью культа мертвых с культом предков, начиная с тотемного. Не случайно, например, угощение домового, приуроченное к Великому четвергу или иному дню Страстной недели, к Пасхе, так же как и к Рождеству, Крещению или Новому году, происходило в контексте поминальной обрядности. Между образами духов-«хозяев» и покойниками обнаруживаются и другие соответствия. Например, появление мифических «хозяев» в «этом» мире обычно совпадает по временным параметрам с выходом на землю усопших, что может иметь и окказиональный, и календарный характер. О связи духов-«хозяев» с миром усопших свидетельствует и устойчивая соотнесенность их с луной, символизирующей ночь и смерть, с ее фазами и ритмами. При лунном свете прядут пряжу домовой, мара, кикимора, плетет лапти леший, звучно плещет ладонью по воде водяной, затевают хороводы русалки, являются покойники. К тому же дух-«хозяин» «на молодике» и сам молод, полон сил при полнолунии, а на ущербе луны превращается в старика. Нередко домовой — это по сути дух принесенной при строительстве жертвы, которая на определенном этапе бытования обряда была человеческой; водяной и русалки — бывшие утопленники; леший же встречается людям в облике человека, давно покинувшего «этот» мир. Дух-«хозяин» и покойник оказываются отчасти функционально тождественными. Вспомним бывальщину, согласно которой, отслужив молебен по умершей бабушке, семье удается вернуть пропавшего в лесу домочадца. Одним словом, граница между духами-«хозяевами» и покойниками в мифологической прозе довольно зыбка. Мало того, рассматриваемые персонажи в большей или меньшей степени осмысляются и как воплощения души той или иной семейно-родовой общины, ее жизненной силы, физической и магической. Соответственно маркированный знаком данных мифических существ локус — это место средоточия душ, откуда они, воплощаясь, появляются на свет и куда они, стимулированные переходными обрядами, возвращаются. На наш взгляд, подобный сакральный локус — это своего рода репрезентация тотемического центра, представления о котором сформировались в архаических традициях. Впрочем, согласно древним верованиям, душа может и не принимать никаких форм, оставаясь невидимой. Вместе с тем домовой, леший, водяной могут появляться в виде тени или вовсе не иметь ее, поскольку каждый из них сам тень, т. е. дух, душа. Аналогичен по своей природе двойник, т. е. личный дух-покровитель, сопровождающий каждого человека от его рождения до самой смерти. Тотемистические истоки таких образов, антропоморфизировавшихся в процессе длительной эволюции, обнаруживаются в зооморфных персонажах, соотносимых с членами определенной семьи (рода). В интересующих нас мифологических образах можно заметить и признаки духов тех или иных объектов, природных или культурных: среди них духи совершенно конкретных лесов, водоемов, построек. В анализируемой системе образов важными составляющими являются и персонификации элементов природы, почитаемых и обожествляемых в народных верованиях. Так, с огнем ассоциируются домовой, баенник, овинник, ригачник, гуменник; с землей — леший, который связан не только с фауной, но и с флорой; с водой ассоциируется, естественно, водяной. Причем в данном случае, как и во множестве других, между названными существами нет четко очерченной границы. Знаком огня, к примеру, могут быть маркированы различные персонажи: огненные глаза приписываются и домовому, и лешему, и водяному, и русалкам. Знаком же «синий» (это прилагательное, по мнению языковедов, происходит от глагола «сияти» и обозначает «сияющий, сверкающий») отмечены и домовой и баенник: их эманация — синий огонь (ср. «голубая» кровь). Однако этим же цветом могут быть обозначены и леший, и водяной, последний нередко появляется в виде синей рыбы либо локализуется на синем камне. Скорее всего, этим прилагательным определяется не столько цвет данных персонажей, сколько их принадлежность к сияющим, сверкающим языческим божествам, каковыми они изначально осмыслялись. Подводя итоги сказанному, добавим, что природные стихии, в известной мере олицетворяемые в образах духов-«хозяев», в народной мифологической прозе оказываются живыми: это живой огонь, живая вода, мать-сырая земля, порождающая людей и растения. Как уже говорилось, в структуре образов рассматриваемых мифических существ есть и элементы божеств судьбы. Не случайно каждый из духов-«хозяев» так или иначе предстает в качестве предвестника будущего. Причем в одних случаях предсказание стимулируется посредством мантических обрядов, в других оно исходит по воле самого мифического существа. Судьба людей известна этому персонажу в силу его принадлежности к потустороннему миру, где, по народным верованиям, время синкретично: в нем есть элементы прошлого, настоящего и будущего. Мало того, нерасчлененный с божеством судьбы дух-«хозяин», и особенно домашний, способен предсказать человеку основные вехи его жизненного пути еще и потому, что он сам же эту судьбу предопределяет и моделирует. И наконец, в образе духа-«хозяина» различимы также признаки обычного крестьянина со своим характером и склонностями, даже с мелкими слабостями и прихотями. Представленный в качестве главы большой патриархальной семьи, он изображается на фоне традиционного крестьянского быта, являясь блюстителем традиций. Одним словом, все многообразие данных мифологических персонажей сводится к некоему единообразию. Такое единство обусловлено общей структурой образа и общими его составляющими, в числе которых могут иметь место тотемный предок, мифический предок-родоначальник, покойник, природная стихия, двойник, дух культурного или природного объекта, коллективная душа определенного социума, божество судьбы, медиатор между мирами. Варьирование образов происходит преимущественно за счет ослабления, замены, вытеснения того или иного элемента, а также за счет варьирования реалий, связанных с конкретным социумом и традиционным крестьянским бытом. В этих образах, являющихся, по сути, продуктами «сверхличного, или коллективного, бессознательного», обнаруживается причастность носителей мифологической традиции «к исторической коллективной психике» (К. Г. Юнг). Однако особенности системы образов, выработанных творчеством поколений и сохраняемых в генетической памяти подсознания, определяются спецификой менталитета того народа, которому данная традиция принадлежит.
Часть II Властители мироздания
Но слушай: в родине моей Между пустынных рыбарей Наука дивная таится…А. С. Пушкин
Предисловие


Во второй части содержится анализ быличек, бывальщин, легенд, поверий о людях, обладающих магическими способностями и соотнесенных с различного рода сверхъестественными существами. В ней рассматривается вопрос о семантике и дифференциации образов ведьм, колдунов, знахарей и прочих чародеев, принадлежащих к данному типологическому ряду. Выясняется, что эти образы служат персонификацией тех или иных функций, признаков, свойств. Их истоки обнаруживаются в представлениях о волхвах-жрецах, образы которых подверглись негативному переосмыслению после принятия христианства. И все же нами выявляется роль этих персонажей в мироустройстве — универсуме и социуме, в течении жизненного цикла, равно как и в преодолении вмешательства сил хаоса в бытие. В результате всевозможные ведуны и чародеи представлены нами как медиаторы между мирами, посредники между людьми и божествами, также подвергшимися трансформации под влиянием аналогичных условий. Настоящая работа выполнена на стыке различных дисциплин, соседствующих и отдаленных друг от друга: фольклористики, этнографии, искусствознания, истории, лингвистики, литературоведения, народной медицины, ботаники. Она задумана как комплексное исследование мифологической прозы, в которой со всей очевидностью проявляется универсальный закон всеединства, выработанный в рамках народного творчества как целостной мировоззренческой системы. Такого рода разыскания в отечественной фольклористике предпринимаются впервые.
Глава I Чародеи: усвоение и проявления эзотерического знания
Пусть испытает все то, что судьба и могучие Парки В нить бытия роковую вплели для него при рожденье.Гомер
Да будет вечен дней твоих поток, Покуда есть основа и уток.Фирдоуси
Ведуны в свете терминологии
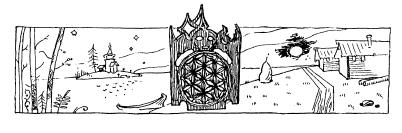
Объектом нашего внимания служат персонажи мифологических рассказов, получившие эзотерическое знание и магическую силу от неких божественных покровителей (изначально — языческих божеств) либо пользующиеся услугами чудесных помощников с целью оказать определенное воздействие на жизнь конкретного человека, социума и даже универсума, на конкретное явление природы или на очередной ее цикл. По мере же низведения мифических покровителей и помощников с их языческих высот до уровня нечистой силы, вплоть до дьявола, эти персонажи все чаще трансформируются и даже негативно переосмысляются, сохраняя свою изначальную сущность лишь в рудиментах. Имеются в виду прежде всего ведьмы, колдуны, знахари и многие другие аналогичные персонажи. При рассмотрении этих образов встает вопрос об их классификации, а точнее, о самой возможности и критериях таковой.
Некоторые предпосылки вопроса
На протяжении более чем двух столетий в фольклористике сложились различные подходы к решению проблемы дифференциации ведьм, колдунов, знахарей. Первая тенденция сводится к тому, чтобы вообще не различать названных персонажей. Подобную точку зрения в середине XIX века высказал А. Н. Афанасьев в своей обстоятельной (и в этом плане оставшейся до сих пор не превзойденной) статье «Ведун и ведьма»[1747]. Обоснование такой позиции носит в значительной мере лингвистический характер: слова ведун, ведьма, ведовство происходят от глагола ведать, подобно тому как их синонимы знахарь, знахарка — от глагола знать. «Ведуна же народ считает тождественным колдуну»[1748], — добавляет исследователь. Наметившаяся с тех пор тенденция сохраняется и в современной науке. Так, в энциклопедии «Мифы народов мира» ведьмы, отождествляемые с колдуньями, представлены как «женщины, вступившие в союз с дьяволом (или другой нечистой силой) ради обретения сверхъестественных способностей»[1749], что, по сути, не оставляет места для мужской ипостаси данных образов. Как бы для восполнения этого упущения в энциклопедическом словаре «Славянские древности» для характеристики интересующих нас персонажей выделяются рубрики «Ведьма», «Ведьмак»[1750]. В вышедшем же первом из пяти томов этнолингвистического словаря «Славянские древности» пока представлена только рубрика «Ведьмы»[1751]. Вторая тенденция заключается в том, что различаются ведьмы и колдуны, без выделения знахарей. Начало такой дифференциации было положено еще в XVIII в. М. Д. Чулковым[1752]. Сложившаяся тогда традиция дожила до наших дней. Ведьмы и колдуны представлены как разные персонажи и в специальных сборниках мифологической прозы («Былички и бывальщины»[1753], «Мифологические рассказы и легенды Русского Севера»[1754], «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири»[1755]), и в энциклопедических словарях-справочниках по русской мифологии («Новая АБЕВЕГА русских суеверий»[1756], «Русский демонологический словарь»[1757]), и в универсальном «Мифологическом словаре»[1758]. При разграничении ведьм и колдунов исследователи, как правило, исходили из определения действий, наиболее характерных для каждого из названных персонажей, и — соответственно — из определения круга связанных с ними сюжетов мифологических рассказов, то сближая, то разделяя их. И, наконец, третья тенденция проявляется в стремлении исследователей дифференцировать рассматриваемые образы друг от друга. Анализируя материалы Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева, С. В. Максимов посвящает всем трем персонажам самостоятельные разделы[1759]. Такой подход пытается обосновать и Д. К. Зеленин, особо останавливаясь на доводах в пользу дифференциации колдунов и знахарей. Вот что писал по этому поводу ученый: «Знахарь — это не колдун. Ему известны только заговоры и целебные травы, и он выполняет главным образом функции врача. С последствиями колдовства он борется с помощью заговоров и оберегов. Никаких связей с нечистой силой у него нет»[1760]. Ранее на основе полевых наблюдений над местными мифологическими традициями (жителей Ярославской губернии и забайкальских казаков) близкую точку зрения высказали А. В. Балов[1761] и К. Д. Логиновский[1762]: и знахарь, и колдун пользуются заговорами и травами, но их разграничение возможно; оно зависит от того, пользуется ли тот либо другой помощью нечистой силы: если да — значит, это колдун, если нет — знахарь. Различие между рассматриваемыми персонажами А. В. Балов видит и в том, что знахарь может приносить людям и пользу, и вред, тогда как колдун — только вред. По мнению же К. Д. Логиновского, и знахарь, и колдун делает и то и другое, т. е. и добро, и зло. Заметим, что подобная классификация весьма спорна: ведь в разряд нечистой силы, покровительством которой пользовался или не пользовался колдун либо знахарь, обычно попадали недавние языческие божества, чье участие в деятельности того или иного ведуна маркировалось изначально положительным знаком. Что касается заговоров, которые известны только знахарю или и знахарю, и колдуну, то в них по сути фигурируют функционально тождественные персонажи, только одни из них сохранили былую, основанную еще на языческих представлениях соотнесенность с божествами, другие трансформировались в нечистую силу, третьи были вытеснены своими христианизированными дублерами. Использование же трав само по себе не обеляет искусства знахаря или колдуна, поскольку и травы соотносятся с некими мифическими существами, как благодетельными, так и негативно переосмысленными. Не приносит ожидаемого результата и попытка противопоставить знахаря и колдуна по аналогии с «белым» и «черным» шаманом. Любые логические построения разбиваются о реплику, оброненную рассказчиком относительно искусства настоящего колдуна: «Может и спортить, и наладить»[1763]. Вот почему современные исследователи, пытаясь определить место знахаря среди смежных персонажей (прежде всего ведьм и колдунов), буквально «лавируют» между ними. Так, например, В. П. Зиновьев в зависимости оттого или иного действия знахаря (знахарки) причисляет его (ее) то к колдунам, то к ведьмам[1764]. М. Н. Власова, выделяя для знахаря небольшую, но самостоятельную рубрику, называет его, тем не менее, лекарем-колдуном, т. е. определяет его как персонификацию одной из функций колдуна[1765]. Т. А. Новичкова, по-видимому, вообще не относит знахарей к персонажам, обладающим магической силой, замечая мимоходом: знахарь лечит с помощью трав; колдун напускает или снимает порчу с помощью нечистой силы[1766]. В энциклопедическом словаре «Славянская мифология», равно как и в «Мифологическом словаре», знахарь имеет место лишь в Указателе персонажей[1767], тогда как в самом Словнике его нет. В энциклопедии «Мифы народов мира» этот персонаж не упоминается вообще.
Рис. 1. Село Колодозеро. Пудожье
Подобный разнобой в терминологии объясняется положением дел в самой фольклорной традиции, где за каждым из названных персонажей нет четкого закрепления функции, вследствие чего одно и то же действие может совершаться то ведьмой и колдуньей, то колдуном и знахарем, то и одним, и другим, и третьим. Например, делать залом в поле или напускать волков на стадо могут и колдуны, и знахари; обладают искусством оборотничества и ведьмы, и колдуны; превращают свадебный поезд в животных и ведьмы, и колдуны, и знахари, и кудесники и т. д. Не различают их и сами рассказчики: «Ведьмы есть, в пещерах живут. Они сильные колдовки (курсив мой. — Н. К.)»[1768].
Мифологическая номинация ведунов
Обращение непосредственно к материалам мифологической прозы, равно как и к соответствующей мифологической лексике, не только не упрощает решения задачи относительно дифференциации интересующих нас персонажей, но еще более усложняет ее. Дело в том, что основные наименования всевозможных ведунов буквально растворяются во множестве синонимов. Если судить по словарю В. И. Даля, то наиболее часто встречающимися среди них являются следующие: ведун, ведунья — колдун, волшебник, знахарь, ворожея; ве´щец, ве´ще´ль, вещу´н, ве´щица, вещу´нья — ведун, колдун, волхв; знахарь, гадальщик, ворожея; предсказатель, прорицатель, отгадчик; далеко видящий вперед, прозорливый человек// вещица — ведьма; волхв, волх — мудрец, звездочет, астролог; чародей, колдун, знахарь, ворожея, чернокнижник; волшебник — то же, что волхв; ворожби´т, вороже´ц, ворожея´ — промышляющий ворожбою, шептами, леченьем; знахарь, шептун, колдун, ведун[1769]; кудесник — тот, кто кудесит, т. е. волхвует, колдует, занимается чарами, ворожбой, заговорами, чернокнижием[1770]; чародей, чародейка — волхв, волшебник, ворожея, колдун, кудесник, чернокнижник; знахарь, напускающий мару, мороку[1771]. Таким образом, наименование колдун включает в себя в большей или меньшей степени значения: ведун, вещун, волхв, волшебник, чародей, равно как и знахарь, тогда как название знахарь имеет в основе своей ту же семантику, что и колдун, вплоть до их отождествления, но с выделением значения «лекарь»[1772]. Слово же ведьма, в севернорусских диалектах — ведьмова, где она имеет значение «колдунья», «знахарка»[1773], сближается в этом качестве с наименованиями «колдун», «знахарь». Все разнообразие персонажей, как видим, сводится к некоему семантическому единству. Рассмотрение соответствующих синонимов по «Словарю русских говоров Карелии и сопредельных областей» не всегда представляется возможным, поскольку многие из интересующих нас лексем, по-видимому, отнесены к словам, совпадающим по форме, терминологическому значению и семантическому употреблению с литературными. В результате в словаре отсутствуют лексемы: ведун, ведьма (но есть ведовать), вещица, вещун (однако наличествует вещевать), волшебник, волшебница, ворожея, знахарь (-ка), колдун (-ья), кудесник (имеется лишь кудеси — ряженые, кудес — колдовство, ворожба). Однако наличие в севернорусских говорах таких однокоренных слов, как знатец — знахарь, знатиха, знатка — знахарка, колдунья; знаток — колдун; знатуха — колдунья, не оставляет сомнений относительно нерасчлененности этих понятий: «Болела, чувствую, что слабну, так пока ко знатцу (курсив здесь и далее мой. — Н. К.) не сходила, не успокоилась»; «Корова ушла да ушла, да шесть ночей дома не ночевала, заблудилась, пошли к знатихе, знатиха говорит, что живая она»; «Знатки у нас были, не пригласят знатка´ на свадьбу, он и припортит невесту»; «Знатуха есть, она знается с лешием»[1774]. К этой же группе слов можно отнести и чернознай, встречающееся, в частности, в севернорусской мифологической традиции[1775]. Однако круг наименований ведьм, колдунов, знахарей практически не замкнут. Как отмечает О. А. Черепанова, их типологические варианты весьма разнообразны: баловни´ца, бели´ца (у Г. Куликовского — билича. — Н. К.), веду´н, вещу´н, вороже´ц, гад, га´даль, га´мка, ересту´н, ерети´к, знато´к, изво´дчица, ико´тник, киля´тник, клохту´н, ломо´тник, сперчи´ха, три´ха, харку´нья, ишшку´н (ья), шомору´нья и др.[1776] При рассмотрении семантики этих лексем, имеющих место в мифологической традиции, со всей очевидностью обнаруживается, что увеличение числа наименований ведьм, колдунов, знахарей может происходить и за счет персонификации одной из присущих им функций. К таковым названиям следует отнести гад, гадаль — тот, кто гадает; изводчица — та, кто насылает извод, т. е. порчу; икотник — вызывающий у людей «икоту», т. е. нервную болезнь — кликушество; килятник — насылающий килу, т. е. грыжу; ломотник — причиняющий ломоту; портежник (порчельник) — насылающий порчу; наузник — насылающий порчу или оберегающий от нее с помощью наузы, т. е. магического узла; сперчиха — та, что сдавливает, стискивает, сжимает; триха — лечащая растиранием; шептун — произносящий шепотом те или иные магические слова и пр. На наш взгляд, к этому же ряду наименований персонажей, маркированных, однако, положительным знаком, следует отнести и такое распространенное название обладающей тайными знаниями женщины, как бабка, или бабка-пупорезня. Так в севернорусской традиции называют большей частью деревенских женщин, оказывающих помощь при родах, повитух: «Ведь это не акушерка, даже не бабка, пупорезня (курсив мой. — Н. К.) — вот ее название»[1777]. Или: «Бабка его бабничала (курсив мой. — Н. К.), в баенке мыла, растирала, на руки принимала»[1778]. (О мифологическом значении этого персонажа нам уже доводилось говорить при рассмотрении образа баенника.) Правда, это наименование получило и более расширительный смысл. Оно стало употребляться в значении «знахарка», «колдунья»: «Мне не приходилось лечиться с бабками, мы не захватили ни трав, ни бабок»[1779]; «Бабки-то и свадьбу могли спортить»[1780]. Однако глаголы бабить — принимать роды; ухаживать, присматривать за ребенком, нянчить и бабиться — обмывать, мыть новорожденных[1781] свидетельствуют о преобладании (во всяком случае, в севернорусской традиции) именно этой семантики (ср. со словарем В. И. Даля: бабить, бабиться, бабничать — повивать, принимать; лекарить, знахарить[1782]). Выделяется также и группа наименований, персонифицирующих те или иные свойства ведунов: например, клохтун — человек, издающий звуки, стонущий, охающий (в Заонежье — упырь); харкунья — харкающая женщина. Персонификации подвергается даже сама оценка действий, поведения, характера ведьм, колдунов, знахарей: например, баловница — озорница, шалунья, проказница; ерестун — ворчливый, раздражительный, сварливый человек; еретик, еретник — нечестивец; колдун или знахарь, насылающий порчу; безбожник, знающийся с нечистой силой. Круг наименований ведьм, колдунов, знахарей пополняется и благодаря тому, что персонифицируется сама соотнесенность ведунов с мифическими существами, наделившими их магической силой и сверхъестественными способностями. Такие персонажи получили названия: бесиха, бесистый, чертиха, чертистый (эти прилагательные могут сочетаться с существительным «мужик»). Например: «Тарас был бесованный»[1783]. К этому же типу относятся и шишкун, шишкунья: в своем исконном значении это люди, знающиеся с лешим, именуемым в мифологической традиции шишко, шишкун и низведенным до уровня нечистой силы, дьявола. Мало того, может персонифицироваться и эманация ведьм. В таком случае они в севернорусской традиции (особенно пермской, костромской) называются векшицами: от векша, что значит не только «белка» или «шкурка белки», но и «сорока»[1784]. Последнее значение может быть выявлено и из самих мифологических рассказов, повествующих о том, как векшица, натираясь неким снадобьем, вылетает в печную трубу и появляется на ведовском сборище в лесу либо нечто жарит в бане или под овином[1785]. В других вариантах этого сюжета векшице соответствует ведьма, превращающаяся в сороку перед полетом на шабаш.Немифологическая номинация ведунов
В качестве номинаций ведьм, колдунов, знахарей часто используется и немифологическая лексика, употребляемая в значении мифологической. Наименования интересующих нас персонажей могут быть обусловлены, в частности, половозрастными признаками. В быличках и бывальщинах слова «старик», «дед», «дедушка» и «колдун» являются взаимозаменимыми, что имеет свою мотивировку: «Колдунами под старость становятся, когда им срок приходит творить»[1786]. Следующий уровень этого типа ведунов представляют «отец» («батька») или «дядя». Такой же расклад наблюдается и в отношении женских персонажей. Магические способности имеет «старушка»: «Жила рядом старушка, она все портила»[1787]. Синонимами этой лексемы служат слова «бабка», «бабушка», что, по-видимому, и послужило предпосылкой к смешению бабки-повитухи с бабкой-колдуньей в широком значении этого слова. Следующий ряд функционально тождественных женских персонажей составляют «мать», «мачеха», «свекровь», «теща», «сватья», «тетка». Например, мать поет заклинание уезжающему сыну, чтобы он возвратился домой[1788]; тетка наказала провинившегося посредством слова — она же и вылечила потерпевшего[1789]. Как следует из самих мифологических рассказов, магическая сила приписывается старшим в семье, в семейно-родовой или сельской общине. Именно старшим принадлежит главенствующая роль и при совершении обрядов, связанных с культом предков. Именно им отводится роль медиаторов между умершими и живыми сородичами, равно как и между мифическими существами, чаще всего духами-«хозяевами», и людьми.
Рис. 2. Дом Мелькина (до реставрации). Село Шелтозеро. Прионежье
Кроме того, в мифологической прозе выявляется ряд наименований ведунов, маркированных территориальными и даже этническими знаками. Во всех этих случаях сказывается влияние оппозиции свой — чужой, сложившейся в традиции и реализующейся на разных уровнях топографической иерархии. Прежде всего, в ранге колдуна очень часто фигурирует человек, находящийся за чертой данного микромира, хотя и живущий в непосредственной близости от него. Имеется в виду сосед (-ка): «В соседях (курсив мой. — Н. К.) жил у него чертистый мужик»[1790]; «…сыну дала грудь, а тут сосед пришел, а у меня грудь была бела, он и оприкосил. Цёрный человек, прикосливый»[1791]; «Соседка у нас была, так она колдовала»[1792]. К подобным персонажам часто относятся эпитеты «зловредная», «знаткая» и др. Однако локус ведуна обнаруживает тенденцию к своему ступенчатому расширению. И очужденное пространство оказывается в отдаленном от данного социума месте, причем на стыке освоенного и первозданного, культурного и природного, этого и потустороннего мира: «В одной деревне одна бабка жила, она такая старая. Дом у нее стоял дальше от других, ниже от деревни. Говорили люди, что ведьма (курсив мой. — Н. К.)»[1793]. Или: «…где-ко там в верхах один бесистый есть. Портит тожо людей-то»[1794]. Зачастую репутация колдунов закреплялась за жителями определенной местности, конкретных селений. Так, одна из рассказчиц выражала опасение, как бы не испортили ее сына, поехавшего в Карпогоры, поскольку там «люди знатки»[1795], а съездившая в Старую Руссу женщина вернулась совершенно больной, потому что некая тамошняя жительница в автобусе прямо в глаза ей «что-то сказала»[1796]. Вспомним в связи с этим, что по всему Русскому Северу славились своим чародейским искусством пастухи-ваганы, т. е. жители побережий Ваги, притока Северной Двины. Особая магическая сила приписывалась и переселенцам из другой местности. Так, некая кубанка, по фамилии Котенко, сняла с парня порчу, насланную его же теткой[1797]. Для наименования ведьм, колдунов, знахарей используются и определенные этнонимы. Так, например, согласно поверьям жителей Кенозера, колдуны — это прежде всего чудь, населяющая верховья р. Ояти (в данном случае имеются в виду, разумеется, вепсы), причем особенной известностью в этом отношении почему-то пользуются деревни Шеменичи и Юксовичи[1798]. Интересно, что аналогичное поверье более 150 лет тому назад привел И. М. Снегирев: новгородцы нередко ходили за предсказаниями к чудским кудесникам[1799]. Подобный факт зафиксирован уже Лаврентьевской летописью, под 1071 г.: «<…>приключися некоему новгородцю прити в чюдь и приде г кудеснику хотя волхвованья от него, он же по обычаю своему нача призывати бесы в храмину свою»[1800]. Мало того, И. М. Снегирев добавляет, что скандинавы почитали в качестве колдунов и чародеев финнов, а их землю считали страной чудес и превращений, причем само слово «финн» в Средние века означало то же, что «колдун»[1801]. Фактически то же самое утверждает и А. С. Пушкин в поэме «Руслан и Людмила», где «природный финн», давно оставивший «финские поля» и постигший «светлой мыслию» «тайну страшную природы», сообщает Руслану:

Рис. 3. Ветряная мельница-«шатровка». Село Толвуя. Заонежье
Как мы уже ранее говорили в первой части[1808], знаками ведунов маркированы и охотники, пастухи, коновалы, пользующиеся покровительством лешего, который со временем трансформировался в черта или беса: «У них охотничал один, он на чертей научился (курсив мой. — Н. К.)»[1809]; «Пастух был знаткий человек, с бесом знался»[1810]; «Пастух сам коров не пасет, их леший пасет»[1811]; «<…> бабушка попросила коновала, чтоб помог молодых наладить. <…> Тот (коновал) вышел, по ветру слова-то и спустил, какие — не знаю <…>. Наладил их старик»[1812]. Осмысляются как ведуны и люди, так или иначе связанные с водной стихией и ее духом-«хозяином». Это рыбаки, мельники, паромщики. Вопросу о взаимоотношениях их с водяным также уделялось внимание[1813]. Приведем лишь примеры: «…Был у нас Николай Федорович, мельник. Слух такой шел, что, дескать, знал он чертей да кого ишшо»[1814]; «А сатана-то ведь там, в мельнице. Значит, мельник с ним знался»[1815]. Сравнительно редко в роли владеющих тайным знанием людей выступают паромщики. Так, в одной из быличек некая женщина, не спросясь паромщика, отвязала от причала паром и переехала вместе с лошадью на другую сторону. Сойдя на берег, ее лошадь несколько раз доходила до определенного места, а потом пятилась («наперед пятками») до самой воды. Так было до тех пор, пока эта женщина не повинилась и не угостила паромщика шаньгами[1816]. По поверьям, успехом в пчеловодстве был обязан водяному пасечник, пользующийся репутацией колдуна среди односельчан. По рассказам, один из таких пасечников похвалялся: «Все пчелы придут ко мне! Всех переманю! Супротив меня никто не устоит»[1817]. Ведуном же, связанным с другой природной стихией — с огнем, выступает обычно кузнец, который в сказке перековывает старого на молодого, кует брачные узы или судьбу людям в заговорах и песнях, изображается в роли «знающего» человека в мифологических рассказах. Аналогичную семантику имеют и персонажи, занимающиеся рукоделием: портные, сетевязы, пряхи, вышивальщицы. Так или иначе их деятельность связана с нитью и ее эквивалентами: пряжей, полотном. О соотнесенности людей, занимающихся тем или иным рукоделием, с самими божествами судьбы, представленными в поздней традиции лишь в своих реминисценциях, мы уже писали особо в работе «Нить жизни…»[1818]. Так, в одной из бывальщин, бытовавших в Ярославской губернии, некоему пошехонскому швецу (по словам рассказчика, «ведомому знахарю») удалось снять напущенное плотниками колдовство: каждый раз по наступлении вечера некто невидимый начинал плакаться на повети жалобным голосом: «Падаю, падаю-упаду». Хозяева придут — никого нет. Выйдя туда ночью и прошептав «свое слово», «какое знал», портной крикнул: «Коли хочешь валиться, то падай на хлеб!» После этого нечто со страшным треском упало — и в избе больше не «диковалось»[1819].

Рис. 4. Традиционная кузнечная поковка: а) крюк, б) секирные замки, в) личины замков. Заонежье Рис. 5. Амбарный ключ и светец работы заонежских мастеров. Село Сенная Губа, деревня Кузнецы
В качестве ведунов осмысляются и всевозможные распорядители семейно-родовых обрядов, родильных, свадебных, похоронных: бабка-повитуха, сват, сваха, причитальщица, или плакальщица, вопленица (если она причитает за невесту), или вожатая (так в Заонелсье называют вопленицу в том случае, если невеста причитает сама). Очень часто к персонажам, имеющим магическую и даже, можно сказать, судьбоносную силу, относится и дружка: «Кто из дружек покрепче знал (курсив мой. — Н. К.), чтоб над свадьбой не пошутили, того больше и приглашали»[1820]; «А этот Попов тут был дружкой. Раньше же этот дружка считался высшая марка на свадьбе, дружка. Это уж он, вроде, должен все знать, всё это… дружка <…>. И вот этот Вербин-то у нас <…> ладил это вот, колдунничал всё, этот Вербин»[1821]; «Я вот хорошо с мужем прожила, потому что дружка хороший на свадьбе был»[1822]. И, наконец, с носителями тайных знаний ассоциируется странник, связанный со множеством преодоленных им локусов, реальных и мифических, и соотнесенный с дорогой, символизирующей судьбу и присутствие потустороннего мира. Это может быть старик, нищий, богомолец, святой и даже сам Господь, как и оказавшийся едва ли не тождественным им функционально простой прохожий и — наиболее часто — солдат. По слову странника, озеро зарастает «мохом-травою», река, дойдя до деревни, исчезает под землей, а затем вновь появляется за ее пределами, змеи пропадают бесследно в конкретной местности. Старики, ночующие в амбаре, поскольку в доме для них не нашлось места, оказываются предначертателями судьбы родившегося тогда у хозяев младенца. Попросившийся на ночлег солдат упреждает и нейтрализует происки ведьм и даже летает вслед за ними на шабаш. Идентифицировался с колдуном и человек, имеющий то или иное увечье: хромой, безногий, безрукий, горбатый, слепой, глухонемой, малоумный, невменяемый. Например: «Один инвалид был, без руки с войны пришел. Говорят, что он знался (курсив здесь и далее мой. — Н. К.)»[1823]; «А был слепой мужик, который поправлял (людей и скот. — Н. К.)»[1824]; «Манька у нас, переданы ей от батьки черти. Она глухонема была, говорит, говорит, ницего не понять, все махается»[1825]. В подобного рода увечьях проявляют себя силы хаоса, делающие границу между мирами, «тем» и «этим», взаимопроницаемой. Вот почему увечные осмысляются в качестве медиаторов между определенным социумом и миром потусторонних сил, дающих тайные знания. Своего рода синонимами к словам «колдун», «колдунья» являются и лексемы один, одна, употребляющиеся самостоятельно либо в сочетании с существительными типа «мужик», «бабка», «женщина» и пр. Они призваны обозначить загадочную неопределенность данного персонажа, причем это может быть не только субъект, но и объект действия: «Один мужик (курсив мой. — Н. К.) икоту спустил»[1826]; «Одному была посажена икота»[1827]. Из сказанного следует, что знаки,маркирующие ведунов, зачастую имеют пространственный, этнический, профессиональный, визуальный характер. Благодаря этим качествам ведуны, по сути, выпадают из того или иного социума, который при всем различии в своих масштабах неизменно осмысляется как целостная общность.
Древнерусские наименования ведунов
Значительный пласт соответствующей лексики обнаруживается и в древних памятниках письменности. И эта традиция, как установила О. А. Черепанова, не прерывается до Нового времени. Ср. многочисленные названия подобных персонажей в памятниках разных эпох (XI–XV вв.): баяльник, ведма, вещель, волшебьница, вълшьвьбьник, проклятые бабы, кобьник, коренитьць, колдун, наузьник, обавъник, облакогонитель, потворьница, шьпьтьник, чародеец, чародей, чародеица, оузольница, травьник и мн. др.[1828] Как мы заметили, среди перечисленных лексем нет лишь слова «знахарь», поскольку оно, если судить по «Словарю древнерусского языка» И. И. Срезневского[1829], обозначало ранее реального человека, знающего реальное же дело либо конкретную местность, хотя и приобрело к XVII в. известное нам значение «знахарь, лекарь» в качестве второстепенного по сравнению с основным[1830]. Существенным дополнением к этому ряду наименований может послужить слово волхв (вълхвъ, влъхвъ), о чем следует сказать подробней. Прежде всего, оно действительно служит одним из обозначений колдунов и чародеев. Так, в Житии Стефана Пермского эта лексема фигурирует в одном типологическом ряду со словами: волшебник, кудесник, чаровник[1831]. А в Никоновской летописи эквивалентами волхвам выступают ведуны и потворницы[1832]. Вместе с тем соответствующий женский персонаж — волхва, волхвовь — приравнивается к ведьме, о чем свидетельствует поверье, устойчиво закрепленное именно за последней (оно использовано в обличении Серапиона, епископа Владимирского, жившего в XIII в.): «Аще утапати начнет, неповинна есть; аще ли попловет, волхвовь е (сть)»[1833]. Кроме того, под волхвами подразумеваются и всевозможные жрецы, служители прежних языческих культов, о чем свидетельствуют, в частности, Великие Минеи-Четии: «Старейшина волхвом введе я в церковь идолскую и понуди я отврещися Христа и поклонитися идолом»[1834]. В качестве ревнителей прежней языческой веры представлены волхвы и в начальной русской летописи. Название «волхвы» удержалось за персонажами севернорусской мифологической прозы вплоть до наших дней. Как и в древнерусской литературе, в современных записях персонажи под этим наименованием маркированы преимущественно отрицательным знаком. Тем не менее волхвы, приравненные самими рассказчиками к колдунам, по-прежнему властвуют над стихией рода, плодородия, урожая. В их руках обилие, благополучие в крестьянском хозяйстве и даже само бытие людей и домашнего скота. Обратимся к мифологическим рассказам и поверьям: «Волхвунья, колдунья (курсив здесь и далее мой. — Н. К.) жила у нас на Горке; любовь сводила, колдовала, призаветывала»[1835]. В другом случае волховитка испортила свадьбу: стоящие под венцом жених и невеста разбежались в разные стороны, поскольку жених показался невесте волком, а невеста жениху — волчицей[1836]. Волхву под силу лишить новобрачных (или одного из них) и здоровья. По словам рассказчицы, «маминого брата жена (она девушка была хороша)» сразу после замужества «стала болеть, и болеть, и болеть»[1837]. Вредоносное воздействие обладателей тайного знания может охватывать разные стороны крестьянского быта и бытия. Согласно одному из мифологических рассказов, волхвы в лице деревенских жительниц Паланьи и бабки Маши испортили человека («девку») и скот, отняли молоко у коровы и урожай в огороде («не росло ничего»)[1838], в конечном счете лишив хозяев обилия в буквальном и мифологическом смысле. Мало того, сохранились отголоски представлений, согласно которым власть волхвов не ограничивается микрокосмом, она распространяется и на макрокосм: затмение бывает оттого, что волхид снимает луну с неба. Появление волхвов продолжают связывать и с большими годовыми праздниками[1839], несмотря на то, что праздники уже обрели признаки христианских, а волхвы утратили былую роль языческого «духовенства». Сохранение в традиции подобных рудиментов не случайно. Как выясняется, всевозможные деревенские колдуны и знахари — это далекие наследники древних волхвов, которые вплоть до XIII в. все еще продолжали удерживать в Новгороде свои позиции. О происхождении волхвов-жрецов пишет М. Никифоровский: «Как городища и требища представляли ближайшую ступень к храмам, точно так же волхвы представляли переход к жрецам, в настоящем смысле этого слова; они явились, без сомнения, в то время, когда верования и богослужебные обряды усложнились и стали принимать более или менее постоянную и неизменную, кудесническую, форму, когда обыкновенные смертные не могли знать всех и на все случаи тайн религии и для этого стали требоваться особые люди — вещие»[1840]. Как отмечает М. Вебер, священнослужители отличаются от колдунов лишь в социологическом аспекте, тогда как в реальной действительности границы здесь очень размыты, хотя признаком священства можно считать «регулярное отправление обособленным кругом лиц культовых действий, связанных с определенными нормами, местом и временем и определенными группами людей»[1841]. Волхвы, по утверждению акад. Б. А. Рыбакова, представляли собой жреческое сословие, влияние которого в русских землях IX–X вв. вряд ли подлежит сомнению[1842]. То же отмечал относительно балтийских славян и А. Ф. Гильфердинг: «Жрецы имели значение особого, строго отделенного от народа сословия…»[1843]. Волхвы управляли религиозной жизнью на разных уровнях: селения, племени и государства. Вместе с тем это было, так сказать, языческое духовенство деревни, города и княжеского двора. Кстати, и сам князь имел жреческие функции, что подтверждается данными славянских языков, во многих из которых наблюдается близость слов «князь» и «жрец» (чешский: князь — kněz, жрец — kněž; польский: князь — ksiądze, жрец — ksiądz[1844]). В восточнославянском же обществе перед принятием христианства имело место разделение власти между жрецом и князем[1845]. При этом у русов, по свидетельству арабских авторов, авторитет языческих жрецов был выше авторитета верховных правителей земель. Вот что писал по этому поводу Ибн Русте: «Есть у них знахари (по-видимому, имеются в виду волхвы. — Н. К.), из которых иные повелевают царем, как будто они их (русов) начальники. Случается, что они приказывают принести в жертву творцу их тем, чем они пожелают <…>. И если знахари приказывают, то не исполнить их приказания никак невозможно». О том же сообщает и Гардизи[1846]. Простой же сельский волхв, продолжая традиции своих учителей-предшественников, должен был поддерживать религиозную жизнь своего микроколлектива, руководить процессом языческого богослужения: знать и помнить все обряды, заговоры, ритуальные песни, магические действа и атрибуты. Он должен был знать функции божеств, соотнесенность их друг с другом, связь с календарными сроками и всеми земными делами. В состав ритуалов включались и мифы о предке-родоначальнике, истории рода, племени[1847]. Он был посредником между людьми и богами, светлыми и темными (последнее отчасти обусловлено влиянием христианства). «По всей вероятности, общественные магические действия производили мужчины-волхвы, а в семейном, домашнем обиходе, в вопросах гадания о личной судьбе, в лекарском знахарстве видная роль принадлежала женщинам, тем ведьмам (от глагола „ведать“ — знать), которых в XVII в. называли „бабами богомерзкими“»[1848], — пишет акад. Б. А. Рыбаков по поводу разграничения функций волхвования в зависимости от половой принадлежности. Во всяком случае, волхва (вълхва, влъхва) по сути та же колдунья, волшебница[1849]. Генетическое родство позднейших чародеев с волхвами подтверждается словами одного из древнерусских священнослужителей, отца Кирилла: «<…> то когда им кака любо казнь найдет, или от князя пограбление, или в дому пакость, или болезнь, или скоту их пагуба, то они текут к волхвам (курсив мой. — Н. К.), в тех бо собе помощи ищуть…»[1850]. Имея общее название «волхвы», жрецы, тем не менее, судя по разветвленности терминологии, различались и по более узким специализациям. Так, в составе жреческого сословия известны, к примеру, волхвы-облакогонители, волхвы-целители, «волхвы-кощунники», т. е. сказители «кощюн» — мифов, хранители древних преданий[1851].Соотнесение терминов
О связи ведьм, колдунов, знахарей с волхвами как носителями эзотерического знания свидетельствуют и этимологические разыскания в области соответствующей терминологии. Так, например, слово ведьма, по утверждению М. Фасмера, связано с праславянским «vědě», т. е. «я знаю»[1852]. Смысл стоящего за ним образа раскрывается благодаря родству данной лексемы с полисемантическим словом ведь, в числе значений которого отмечаются следующие: 1) провидение, промысел; чудодейственная сила; 2) колдовство, чародейство, знахарство и лицо, обладающее склонностью к этому; 3) знание, сведение. В первом из названных значений в древнерусском языке употребляется и слово ведьмение[1853]. К данному ряду родственных слов относится и ведьство, обозначающее в древнерусском языке то же, что и ведовство, а именно: колдовство, чародейство[1854]. Все эти лексемы соотносятся с глаголом ведать (старосл. ведети), что в славянских языках обозначает «знать»[1855]. (Заметим, что в «Лексиконе славеноросском», составленном Памвой Берындой и впервые опубликованном в 1627 г., приводится слово ведение в следующих значениях: «познанье, сведомость, розуменье, знаемость, веданье, розмышленье».) Поскольку ведать и знать сходятся со временем в определенном семантическом единстве, не удивительно, что оно распространяется и на персонажей, обозначенных наименованиями, производными от этих глаголов. Вот почему знахарь (такое название ведуна, по предположению М. Фасмера, является табуистическим[1856]) в плане семантики и этимологии по сути эквивалентен ведьме. Продолжая рассмотрение наименований, относящихся к одному типологическому ряду, отметим, что слово колдун происходит от колдовать — заговаривать и первоначально значило «заклинатель»[1857]. Иначе говоря, в отличие от ведьмы и знахаря, в названиях которых сделан акцент на владении ими эзотерическим знанием, в колдуне персонифицируется способ практического применения этого знания посредством вербальной магии. Примеров тому в мифологической прозе можно обнаружить достаточно: «<…> она на дворе своем, она там что-то ворчит, кругом скотины ползала, шептала что-то (курсив мой. — Н. К.)»[1858]; «Свекровь моя и пела: „Белый чад, кудрявый чад, пади, мой цад, не на воду, не на землю, пади, мой цад, сыну на сердце. Ни запить, ни заесть, любовью не залюбовать. Ау! едь домой!“»[1859]. И все же, несмотря на изначальную связь вербальной магии с персонажем, именуемым «колдуном», она больше закрепилась за ведуном, называемым в народе «знахарем» — знающим заговоры. Происхождение других терминов, обозначающих того или иного чародея, связано с обозначением присущего ему качества, также обусловленного владением тайными знаниями. Например, вещун, вещица, или вештица, зафиксированные в севернорусской и сербской традициях, ведут свое начало от «вещий» (древнерусск. «вештии»), что значит «мудрый», «опытный», равно как и «колдунья», «ведьма»; в словенском языке словом véšča называется и «мудрая женщина», и «ведьма». В древнерусском языке слово «вещий» приобрело и множество других значений, так или иначе относящихся к ведовству: сведущий; предвидящий, предсказывающий; наделенный сверхъестественной силой, волшебный; красноречивый, наделенный даром слова[1860].
Рис. 6. Наш рассказчик. Село Ошевенск (д. Гарь). Каргополье
В другом случае в наименовании ведуна изначально закодировано магическое действие. Так, например, кудесник происходит от древнерусского кудес — «чары, колдовство». Связано с чудо, ранее кудо (родительный падеж: кудесе)[1861]. В древнерусском языке кудесник обозначало «волхв», «чародей», а кудесы — «волхвование», «чародейство»[1862]. Не случайно И. М. Снегирев отождествляет кудесников с волхвами, видя в них представителей древнего язычества[1863]. Близко по значению к кудеснику и наименование ворожея, поскольку ворожа в древнерусском языке означало «волхвование», «ворожение»[1864]. Так, в одном из памятников древнерусской литературы говорится: «К волхвом ходити ворожи (курсив мой. — Н. К.) ради»[1865]. К этому же семантическому ряду относятся и волхв, волшебник (корень слов имеет звукоподражательный характер). Как утверждает М. Фасмер, «волшебный производное от волшба, славянск. vъlšьbа, которое связано с волхв»[1866]. Волхв же в болгарском языке означает «волшебник», в словенском — «гадалка»[1867]. Волхвами в древнерусской литературе и в народной мифологической прозе могут быть названы, как мы уже говорили, и волшебники, и кудесники, и чаровники, а также ведьмы, колдуны, потворники и прочие персонажи, обладающие эзотерическим знанием, магической силой и сверхъестественными способностями. В них по сути персонифицировались различные признаки, действия, атрибуты волхва-жреца, образ которого оказался в едином ряду «отпочковавшихся» или эквивалентных ему персонажей, казалось бы, никак с ним уже не связанных и даже противоборствующих друг с другом. Среди них есть сохранившие свое былое величие и негативно переосмысленные, равно как и занимающие промежуточное положение между теми и другими. В этих персонажах, условно называемых нами обобщенными словами «ведуны», «чародеи» (древнерусск. и старославянск. чаръ — «колдовство»; чешск. čar, čara — «волшебство»[1868]), мы усматриваем преемников искусства древних волхвов-жрецов, само наименование которых едва ли не полностью исчезло из традиции под натиском гонения на тех, кто сохранял верность старым языческим богам.
Посвящение в колдуны[1869]
В мифологической прозе выделяется цикл рассказов, повествующих о передаче и усвоении эзотерических (от греч. esoterikos — внутренний, т. е. «тайный, скрытый, предназначенный исключительно для посвященных») знаний, об обретении магических способностей. Впрочем, в них может идти речь и об отказе воспринять этот чудесный, но негативно переосмысленный в поздней традиции дар. Отчасти эта проблема уже рассматривалась предшественниками. Так, в своей статье «К вопросу о русских колдунах» Н. А. Никитина уделила внимание, помимо прочего, народным верованиям относительно усвоения тайных знаний, классифицируя имеющиеся в ее распоряжении материалы и описывая способы обретения колдовского искусства[1870]. Однако с привлечением более широкого круга фольклорных текстов появилась возможность не только дополнить имеющиеся сведения, но и выявить историко-этнографические истоки изучаемых мотивов и сюжетов. В отличие от предшествующего исследователя, мы сфокусируем свое внимание на вопросе: от кого перенимается ведовство?От тотемного предка, священного животного
К этой разновидности мифологических рассказов относятся в первую очередь бывальщины о проглоченных и заново рожденных зооморфным существом людях. При всем многообразии вариантов данного «бродячего» сюжета вырисовывается достаточно типичная коллизия. Некто из сельских жителей хочет обучиться колдовству. Мотивировки такого желания могут быть самыми разными, но так или иначе бытовыми, равно как и псевдобытовыми: «барином жить»; «в лесу ходить» (т. е. удачно охотиться); испортить мужика, который «межу переносил крадом» (украдкой) в свою пользу; «чтобы все тебя боялись», и т. д. Один же из желающих перенять ведовство признавался, что ему понравилось, как «знающие», вынув со дна камень, кинут его на берег — он в голого мужика оборотится; «кинут другой, тот — в бабу, и давай друг с дружкой плясать»[1871]. Согласно мифологическим рассказам, вознамерившийся перенять магические способности направляется за помощью к деревенскому колдуну: «От матери слышала, что парни в деревне привязались к колдуну: научи!»[1872] Или: «Девки наши пошли к одной колдовке, чтобы она научила их»[1873]. Колдун, который в этом сюжете выступает лишь в роли посредника между посвящаемым и мифическим существом, откликается на просьбу далеко не каждого: из нескольких он выбирает одного. Или соглашается со второго либо третьего раза. Или сам подыскивает подходящего для этого занятия человека: «Дед мой ушел наниматься в работники, попросился ночевать у старика, и он его стал спрашивать, накормил и говорит: „Ты молодой, возьми от меня колдовство…“»[1874].
Рис. 7. Дом в Колодозере. Пудожье
Колдун в качестве распорядителя ритуала передачи тайного знания назначает время и место, где будет совершен этот акт. Чаще всего он велит приходить в двенадцать часов ночи в баню, топящуюся по-черному. Предписание, как правило, строго исполняется. Выбор полуночи объясняется представлениями об активизации в этот переходный период потусторонних сил, божественных или сниженных под влиянием христианства до уровня демонических. Локус, где совершается обряд восприятия колдовского искусства, также изначально носил сакральный характер. Это прежде всего баня, которая, некогда находясь в синкретическом единстве с избой и осмысляясь в качестве языческого храма, служила местом отправления культа домашних духов[1875]. Хозяйственные постройки: рига, овин, гумно — использовались с такой целью гораздо реже. Эквивалентом банному пространству служит перекресток, или росстань (о ее семантике мы уже писали[1876]). Далее действие разворачивается в бане либо тождественном ей локусе. Сюда входит колдун, распорядитель обряда, с неофитом, посвящаемым в колдовство. «Ну, чё, Егорушка, будешь учиться? Давай буду тебя сёдни учить»[1877], — так или примерно так обращается он к посвящаемому. Есть глухие свидетельства, что колдун в бане произносит («читает») некие магические слова[1878], содержание которых осталось нам неизвестным. Можно лишь предположить, что посредством их вызывается то или иное мифическое животное, поскольку при его появлении колдун перестает «читать». Таким животным, к примеру, может быть медведь или похожее на него зооморфное существо: «Ведмедь-де, не ведмедь: какой-то лохматый, хайло-де отворил — вот такая пасть! Во рту-де вот огонь»[1879]. (Показательно, что диалектное «ведмедь» родственно слову «ведьма».) Этот зооморфный персонаж наряду с другими функционально тождественными ему животными фигурирует и в сибирской бывальщине, этнографическим субстратом которой также служит обряд посвящения в колдуны. В ней медведя сменяет волк, а волка, в свою очередь, — змея[1880]. Модель, сформировавшаяся еще на почве множественного, или классификационного, тотемизма, удивительным образом проявилась в дошедшем до наших дней мифологическом рассказе. Но, пожалуй, наиболее распространены бывальщины, где в рассматриваемом обряде фигурирует собака, едва ли не окончательно вытеснившая из него волка, культ которого зафиксирован не только у славянских, но и у германских, тюркских народов: «Тама собака сидит рыжая под полком. Пась раскрыла, язык высунула, во рту огонь пышет»[1881]. Причем мифическая собака появляется преимущественно, как и следует ожидать, в бане: из-за каменки, из печки, под полком, на полке. В известном смысле она отождествляется с духом-«хозяином» бани, образ которого преемственно связан с образом тотемного предка-родоначальника. Мифическая собака с тем же назначением может показаться и на перекрестке, но такие случаи редки. В этом локусе она соотносится с различными духами-«хозяевами» и иными мифическими существами. Из других зооморфных персонажей, фигурирующих в вариантах анализируемого сюжета, нужно упомянуть свинью, «страшную, пламень изо рта», «сивую кобылу», встреченную на том месте, которое указал колдун, лягушку, раздувающуюся все больше и больше, пока она не стала величиной с быка (вариант: множество огромных лягушек, и среди них «такая большая», выскочившая из каменки). Из птиц в роли мифических существ, связанных с посвящением в колдуны, фигурирует «лебедь белая», «расшеперившая пасть» (в данном мифологическом рассказе она дублирует собаку). Охотник же, пожелавший овладеть тайными знаниями, увидел перед собой огромного глухаря. Независимо от того, какой облик имеет появившееся в сакральном локусе и в сакральный час мифическое зооморфное существо, его назначение неизменно — проглотить неофита, посвящаемого в колдуны. Кульминация этого сюжета заключена в приказе распорядителя обряда: «„Полезай в пасть собаки-то!“ — „Да боязно!“ — „Полезай, полезай!“»[1882]. Или: «Лизь, если хочешь!»[1883]. Ослабленный вариант: «Как собака выйдет из-за каменки, огонь из пасти, ты в огонь руки суй!»[1884]. Реакция неофита всегда одна и та же: «Я боюся»[1885]; «А у меня кожа там стала шевелиться»[1886]. Не всякий способен выдержать такое испытание — войти в пышущую пламенем пасть: «Страшно ему, и не стал, пошел оттуда»[1887]. Это страх смерти, прохождение через которую предусмотрено мифологической логикой самого обряда. Однако в рассказах он обычно маскируется отговорками сугубо бытового характера: зачем, мол, мне, когда я сегодня здесь, а завтра — пришлют повестку — и на фронт, и обретенное знание окажется ни к чему. Подобные отговорки, как видно из мифологических рассказов, нередко экспрессивно насыщены: «А чё я полезу? Тебе надо, ты и полезай. Чё я полезу-то?»[1888]. И все же в большинстве вариантов посвящаемый покоряется воле распорядителя обряда: «Собака-то пасть расшеперила — он полез скрозь, из заду вылез»[1889]. Иногда через эту собаку требуется «дважды лизьти» или же пролезать через разных животных: например, вначале через собаку, а затем через «белую лебедь», что также служит реализацией мифологемы, сложившейся на почве представлений о множественном, или классификационном, тотемизме. Вырожденная форма мотива поглощения неофита мифическим животным зафиксирована в украинской традиции. Вот один из примеров. Женщина, пожелавшая стать ведьмой, приходит в темную ночь на то место, где, по ее сведениям, брошено околевшее животное: лошадь или корова. Она останавливается перед падалью и смотрит на нее пристально, в каком-то забытье. Спустя несколько минут она стремительно бросается к трупу животного, пробивает в его боку дыру и влезает через нее внутрь. Пробыв там несколько времени, она вылезает оттуда, но уже с противоположной стороны, через другой бок. Из трупа выходит ученая ведьма, способная в первую очередь к перевоплощениям[1890]. Последние обусловлены преимущественно тотемистическими верованиями. Если сам мотив поглощения претерпел в данном случае позднейшую трансформацию, то заключенные в нем представления о корове и лошади как животных-поглотителях чрезвычайно архаичны. Согласно другой версии, для посвящения в колдуны достаточно того, чтобы мифическое животное (например, медведь, волк) погладило неофита либо обвилось (это касается змеи) вокруг его шеи. В плане семантики эти действия приравниваются к поглощению и дают такой же результат. Например, в одной из бывальщин невесть откуда взявшаяся змея «оввилась вокруг шеи» наклонившегося к пруду солдата. Причем она «жалит не жалит, а давит». Когда солдат, взяв змею за хвост, хотел ее «о сосну торнуть головой», она взмолилась: «Не бей меня <…>, я тебе много добра дам». Змея дала солдату корешок, съев который, он стал знать «все вперед»[1891], т. е. обрел дар ясновидения. Мотив поглощения был в свое время рассмотрен на материалах сказки В. Я. Проппом. Исследователь установил, что поглощение связано с обрядом инициации. В мифологических же рассказах семантика этого обряда значительно сузилась: теперь речь идет лишь об обретении магических способностей, о посвящении в колдуны. И в том и в другом случае предполагается временная смерть неофита, поглощенного чудовищным (изначально тотемным) животным, и его воскресение уже новым человеком. В этом эпизоде реализуется мифологема: проглотить значит родить. Для совершения обряда, кульминационным моментом которого служило поглощение неофита, выстраивались специальные избушки, стоящие на грани двух миров и имеющие форму животного, причем дверь представляла собой пасть[1892]. Вот почему даже в мифологических рассказах, записанных в наши дни, пасть осмысляется как дверь, а нутро животного — как дом-баня: «Подошел он к собачьей пасти и в дому оказался. Там столов много было, и нужно было к каждому подойти <…>. Подошел к дверям и оказался в бане (курсив мой. — Н. К.)»[1893]. Находясь в брюхе бани (дома) — собаки, посвящаемый в колдуны подходит, будто в лавке, к столу, где «чертей давали»: «…„Скоко те надо?“ — „…Одного надо…“. — „…Меньше трех не даем“»[1894]. В других вариантах этого сюжета пролезший через мифическое животное обретает «всех дьяволов», «чертей» и прочих нечистых духов, — т. е. чудесных помощников, со временем столь негативно переосмысленных. Так или иначе новоявленный колдун выходит из бани уже не один, а с этими помощниками, принявшими облик людей, животных, насекомых, предметов. Обретение тайного знания сводится, таким образом, к обладанию магической властью над мифическими существами.

Рис. 8. Часовня Рождества Богородицы в селе Маньге (до реставрации). Прионежье
Если первоначально обретение чудесных помощников и магических способностей, обусловленное обрядом инициации и культом тотемного предка, осмыслялось как священнодействие, то впоследствии все связанное с языческими божествами стало восприниматься как кощунственный акт. Полученное же таким способом знание теперь, при смене верований, считалось греховным: «Мне мать сказала: проживете честным крестом. Трудитесь — Бог даст <…>. Материны золотые слова выполнил, век прожил без всяких чертей»[1895]. Вот почему посвящаемый в колдуны должен был, прежде чем приступить к исполнению обряда, отречься от каких бы то ни было атрибутов христианства: он клал икону вниз ликом и вставал на нее ногами; снимал крест; стрелял в передний угол — и там показывалось Христово распятие; отрекался от отца-матери, всего роду-племени. Кроме того, снимал с себя пояс, осмысляемый как оберег и как знак-символ судьбы[1896]. Впрочем, такое же богохульство совершалось и при исполнении других, связанных с теми или иными былыми языческими божествами обрядов (см. заключение договора с лешим, водяным, домовым). Обретение магических способностей обусловливается не только поглощением мифическим существом, но и поеданием тотемного, позднее священного, животного, в результате чего свойства, ему присущие, передаются тому, кто отведает тела «бога» (заметим, что обрядовое потребление такого животного отнюдь не противоречит запрету, имеющему силу в обыденной жизни, наоборот, и то и другое вытекает из одного и того же верования): «Некий барин ходил в лес, собирал там змей, что с короной на голове, а дома приказывал слуге готовить себе из них пищу. Змеи имели то свойство, что, поевши их, человек начинал понимать разговор огня с огнем, травы с травой (курсив мой. — Н. К.)»[1897]. Аналоги этой севернорусской бывальщины зафиксированы во всей славянской традиции. Так, в одной из украинских бывальщин казак, съевший кусочек змеи, сваренной живьем в десяти водах, стал понимать язык всех степных растений. Он услышал, как чернобыль говорит: «Я от черной болезни», а тирлич кричит: «Я талисман любви»[1898]. Согласно южнославянским поверьям, тот, кто съест белую змею, будет понимать все, о чем говорят травы; съевшему же сердце орешниковой змеи каждая трава на лугу скажет, какой целебной силой она обладает[1899]. Ведь сама змея, по народным представлениям, понимает язык трав, знает их лечебные и животворящие свойства. Так, согласно одному из мифологических рассказов, змея, лежавшая на дороге и насмерть раздавленная прошедшим по ней возом с тяжелыми товарами, была оживлена другой змеей, принесшей во рту припутник и положившей на пострадавшую пучок этой травы[1900]. Змее приписываются и другие свойства, которые передаются тому, кто отведает ее мяса. Согласно белорусской мифологии, попробовавший некоей черной «полиўки с вужо´вого мяса» стал понимать язык зверей и птиц[1901]. Другая версия этого мотива, реализованная в русской бывальщине: солдат съедает остатки кушанья, приготовленного из мяса змеи, и становится всевидящим[1902]. Аналог обнаруживается в украинской традиции: отведавший змеиного мяса обрел всеведение[1903]. Поляки же верят, что съевший кусочек змеи будет понимать три языка[1904]. Как следует из севернорусской бывальщины, обрести магические способности можно и поцеловав змею[1905]. Ср. с польским мифологическим рассказом: змея дует в рот человеку[1906]. Семантика подобного действа достаточно определенна: отчасти воспринимая через дыхание ее душу, т. е. жизненную, в том числе и магическую, силу, герой приобщается к дару, присущему этому хтоническому персонажу. Едва ли не большего эффекта можно достигнуть, если человеку удастся взять у вещей змеи слюну[1907]. Аналог этой версии мотива обнаруживается во всей славянской традиции: змея плюет в рот человеку (в болгарском варианте), прикладывает свой язык к его языку (в польских вариантах), велит ему воткнуть березовую веточку одним концом себе в ухо, а другим ей в горло (в белорусском варианте) и т. д.[1908] Вместе со слюной, которая наряду с другими выделениями (например, пот, кровь) осмысляется в народных верованиях как одно из вместилищ души, герой воспринимает магические способности: слышит рост травы, понимает язык растений и животных, обладает всеведением и ясновидением. В этом свете становится понятным, почему в русских заговорах со змиёй, голоубницей, голубицей (в белорусских заговорах: змея Голубея) отождествляется вещица, т. е. ведунья, ведьма[1909]. Подобное отождествление не оставляет сомнения относительно происхождения ведовской силы. Культ предков (в том числе тотемного характера), якобы воплотившихся в змеях, и культ домового, одной из эманаций которого является это хтоническое существо, в значительной мере послужили этнографическим субстратом, на основе которого сформировались мифологические рассказы данного типа. Этому же способствовал и культ самой змеи, слывшей в народе вещей и мудрой. Заметим, что в этом сюжете эквивалентом змее часто служит лягушка. В одном из поволжских мифологических рассказов «знающий» предлагает мужику-пчеловоду отведать мед, который съела и затем обратно отрыгнула огромная лягушка, выползшая из подпечка. Поскольку мужик отказался от этого угощения, он так и не овладел тайнами пчеловодства, успех в котором дается «неспроста»[1910]. Семантика меда и рвоты в мифологии та же, что и слюны, пота, крови и пр. О том, что проглатывание человека мифическим существом по своему смыслу эквивалентно приобщению его к телу (мясу, выделениям) почитаемого животного, свидетельствует бывальщина, которую приводит в своей статье Н. А. Никитина: будущий колдун вначале был поглощен некоей лягушачьей головой «с пастью более ведра», а затем отведал рвоты, изрыгнутой ею же. Тождеством совершенных действий обеспечивается максимальный эффект. Не случайно прошедший двойное посвящение стал сильным колдуном: он мог на лету остановить птицу — и та падала мертвой; летом шел по реке, как по дороге[1911]. Сюда можно было бы присовокупить и рассказы о ритуальном поедании мяса других почитаемых животных с целью приобщения к магическим свойствам, им приписываемым. Достаточно вспомнить хотя бы «медвежий праздник», особенно распространенный у народов Сибири, или же зафиксированный на Русском Севере обряд «хватаницы», когда хватали куски мяса принесенного в жертву чудесного оленя, ежегодно прибегающего к людям на Ильин день (20 июля/2 августа) на добровольное заклание. Но напрямую эти обряды не связаны с посвящением в колдуны, хотя и призваны обеспечить благополучие каждому из участников.
От духа-«хозяина»
Колдун, обретающий тайное знание от мифического животного, его поглотившего или же им съеденного, является архаическим предшественником колдуна, получающего такое же знание от того или иного духа-«хозяина», с которым претендент на ведовство сумел вступить в контакт и заключить, исполнив соответствующие обряды, договор. Причем охотник или пастух получает покровительство от лешего[1912], рыбак и мельник — от водяного[1913], глава патриархальной семьи — от домового, знахари-зелейники — от различных растений, зачастую персонифицированных, иногда от животных, соотнесенных с ними. Персонажем, который наделяет человека чудесным даром, в бывальщинах представлен в первую очередь леший: «А тут была старуха така, что она и в лес отдавала и с лесу возвращала, с лешим зналасе и все колдовства знала»[1914]. В другой севернорусской бывальщине леший пожалел девятилетнего пастуха: наговорив нечто на его пояс, «хозяин» отдал этот магический предмет владельцу со словами: «Завтра утром приведешь, в лес не ходи. Утром распусти, вечером затяни, на ночь сымай»[1915]. Проделывая соответствующие манипуляции с поясом, мальчик вызывал сходные действия у коров — и успех в пастушеском промысле, достигнутый магическими способами, был обеспечен. Леший же ниспосылает и охотничье счастье. По рассказам, один мужик, которого на промысле постоянно преследовала неудача, по совету некоего незнакомца (это был сам леший) разрезал у себя большой палец левой руки, взял из него крови и написал глухариным пером свое имя и фамилию на листе бумаги, исчерченном таинственными знаками. Поскольку и кровь, и имя — средоточие души человека, следовательно, охотник отдал «хозяину» леса свою душу. С тех пор сколько он ни ставил силков и капканов — в каждом из них находил себе либо птицу, либо зверя[1916]. Причем наделение тайным знанием подчас интерпретируется и как выражение благодарности со стороны того или иного мифического существа. Например, в одной из среднерусских бывальщин некий Пятрок, косивший сено, видит не то во сне, не то наяву голое дитя и прикрывает его своей одеждой. За эту услугу мать ребенка, лесная дева, предлагает ему на выбор три награды: богатство, власть и «знаньня». Пятрок предпочитает последнее. Так он и стал знахарем: «много шупил» — и много принес пользы и людям, и скоту. Лесная дева его не забывала, навещала — с ней он о чем-то все толковал и советовался[1917]. Соотнесенность колдуна с данными персонажами не случайна: духи-«хозяева» преемственно связаны с тотемным предком и через них в последующей традиции реализуется сложившийся на почве тотемистических представлений архетип.От ведьмы или колдуна
По некоторым разрозненным материалам, посвящение в тайное знание осуществляется на сборище (шабаше) ведьм, локализующемся на Лысой горе или приравненных к ней местностях и приуроченном чаще всего к Иванову дню. Инвариант этого сюжета может включать в себя следующие элементы: женщина, желающая научиться колдовству, сняв с себя предварительно крест, идет к прирожденной ведьме; та мажет ей специальной мазью под мышками; превратившись в сороку, намеревающаяся обрести магические способности летит вслед за ведьмой на Лысую гору или в эквивалентный ей локус; там она посвящается в тайное знание. Центральная фигура сборища ведьм в дошедших до нас мифологических рассказах уже стерта и развенчана: часто это дьявол, царица нечистых духов и пр. И все же в некоторых из них проступают изначальные зооморфные признаки этой фигуры. В одной из среднерусских (смоленских) бывальщин в качестве таковой выступает семиглавый змей, оказывающийся каким-то образом и семиглавым медведем. Он задает ритм некоего магического действа: по его знаку (свисту) тишина внезапно нарушается «большой музыкой, песнями, скоками»[1918]; по его же знаку все так же внезапно затихает, как и началось: кто рот разинул, чтобы петь песни, так и остается с открытым ртом, кто ногу поднял, чтобы скакать, — застыл в оцепенении. Собравшиеся посвящаются здесь во все тайны ведовства[1919], и в первую очередь одаряются искусством перевоплощений. В зооморфных очертаниях центрального персонажа, в превращениях рядовых участников действа, сопровождаемого музыкой, песнями, танцами, угадываются некоторые признаки празднества тотемического характера, о чем подробнее будет сказано ниже.
Рис. 9. Наш рассказчик
Магические способности могут быть восприняты не только от мифического зооморфного существа, имеющего некоторые признаки тотемного предка (несмотря на то, что генеалогическая связь с ним по сути уже утрачена) или духа-«хозяина», преемственно с ним связанного. Тайное знание со временем усваивается и непосредственно от колдуна, ранее выступавшего лишь в роли распорядителя обряда посвящения и осуществлявшего посредничество между тем или иным мифическим существом и неофитом. Правда, апелляция к некоему сверхъестественному персонажу, преимущественно уже развенчанному, при этом все же сохраняется. Колдун передает свое ведовство чаще перед смертью. Мотивировка, обычно приводимая в мифологических рассказах и поверьях, переосмысляется в духе христианства: обладающий греховным знанием, за которое ему придется после смерти отдать душу нечистой силе (черту), старается избавиться от своего ведовства и хотя бы обманным путем передать его кому-нибудь. Собственно же языческая интерпретация преемственности колдовского искусства, некогда осмысляемой как сакральный акт, уже вытеснена из традиции. Способы передачи и усвоения тайного знания могут быть различными. Один из них — прикосновение руки учителя к руке ученика. Иная версия: колдун-учитель наступает на ногу своего восприемника. И те и другие конечности осмысляются в народных верованиях как одно из средоточий жизненной, в том числе магической, силы. Из диалога колдуна и его ученика, сопутствующего данному обряду, следует, что передаваемое и обретаемое знание в известном смысле материализуется: «„На-те“. — „Давайте“». Вот почему люди, не желающие приобщаться к этому греховному дару, стараются не подавать руки умирающему колдуну: «Так она все звала к себе, все у снохи-то руку просила. Та-то не дала. А то передала бы она свое колдовство»[1920]. Неискушенные же подают руку и сразу же неожиданно для самих себя становятся «знающими»: «„Хвеня, подойди ко мне! На!“ — Я, говорит, подошла, он меня за руку взял — я все знать стала (курсив мой. — Н. К.)! <…>. А я подошла к ему, думала, че он давал, а он за руку мене взял»[1921]. Иной способ передачи ведовства заключается в том, что колдун передает восприемнику некий предмет как средоточие своих магических сил. Например, это может быть корешок таинственной травы. Как повествуется в одной из севернорусских бывальщин, умирающему колдуну никак не удается передать свои «нечистые» знания, ибо никто не желает ими воспользоваться. С ним остается лишь десятилетний внук, которому было строго-настрого наказано родителями не брать ничего из рук деда, дабы по неведению не заполучить чародейский корешок. Тогда колдун велит мальчику подать ему стоявший в углу веник. Тот, ничего не подозревая, исполняет просьбу. Незаметно всунув в него корешок, колдун просит отнести веник обратно в угол. Приняв его от деда, мальчик вместе с тем берет в руки и чародейское зелье.Этого оказалось достаточно, чтобы к нему перешла вся колдовская сила[1922]. Ведовство передается и с палкой (батогом, посохом, тростью), осмысляемой в народных верованиях как магический атрибут колдуна. Например, с ее помощью осуществляется магическая власть пастуха над стадом. В одной из севернорусских бывальщин «знающий» пастух передал перед смертью другому вместе с трубой палочку: «Я тебе, брат, оставлю наследство, паси коров, медведь не съест ни одной»[1923]. Получив такое «наследство», пастух лишь выгонял стадо на определенное место, а затем возвращался обратно — коровы сами и своевременно выходили из леса целыми и невредимыми. Вариант: умирающий колдун держал свою палку (батожок) в руке; его племянник, взяв этот батожок, неожиданно для самого себя сделался колдуном[1924]. Если же желающего стать преемником не находилось, колдун передавал свою магическую силу палке и бросал ее на дорогу: ведовство переходило к тому, кто поднимал оставленный с определенным умыслом атрибут.

Рис. 10. Батоги
Смысл акта передачи — восприятия колдовства раскрывается в приговорах, которые произносит при исполнении обрядовых действ носитель тайного знания. Расставаясь с ведовством, умирающий колдун берет в руки посошок и произносит: «Дядя домовой, спасибо тебе за службу, садись, полезай в сердцевину этой палки»[1925]. Следующее обрядовое действо совершается уже близ дороги. Втыкая здесь свой посох, колдун приговаривает: «Кто первый коснется палки этой, тому служи так же, как и мне служил; будь при жизни его казаком (т. е. наемным работником. — Н. К.); по смерти он будет твоим»[1926]. Из приведенного примера следует, что посох (батог, палка) потому и является сакральным атрибутом, что через него действует заключенный в этом предмете дух. (Не случайно он нередко маркируется определенными сакральными узорами.) Об этом же свидетельствуют материалы, зафиксированные у разных народов. Их приводит в своей работе П. С. Ефименко[1927]. Так, у греков пастушеская палка служила талисманом от злых духов; у египтян прототипом закривленной пастушеской же палки считалась стопа Осириса — бога производительных сил природы, царя загробного мира, нередко изображаемого с посохом или виноградной лозой (эти атрибуты выдают его изначальную растительную сущность); у литовцев священной палкой, на рукоятке которой было изображение Гонгилиса, бога стад и защитника их от волков, выгоняли в первый раз скот на пастбище, повторяя при этом слова: «Гонило, береги!»; у сорбов же (лужицких сербов) палку, на которой было вырезано изображение руки, держащей железное кольцо, обносили при участии пастуха каждую избу и, входя в нее, приговаривали: «Береги, Геннил, береги!». Таким образом, палка (батог, посох, трость, жезл) — одновременно и эманация божества, и атрибут посредника между ним и людьми. Тот, кто получил такой предмет от своего предшественника, обретает вместе с ним и покровительство заключенного в данном атрибуте божества. Не случайно ему же принадлежит важная роль и в актах перевоплощения. Согласно некоторым мифологическим рассказам и поверьям, колдовство может быть передано и через кружку с водой: умирающий колдун передал ее мальчику, воспользовавшись его неосведомленностью. Правда, обретя таким способом магическую силу, последний не смог справиться с ней и вскоре умер[1928]. Семантика этого средства выявляется при сопоставлении с одной из белорусских бывальщин: колдун перед смертью, желая передать ведовство, налил полный стакан водки, пошептал что-то над ним, плюнул туда и предложил выпить своему внуку[1929]. Как выясняется, в народных верованиях вода или иная жидкость (в данном случае — водка) эквивалентна слюне, например, змеиной или — со временем — человеческой. Помимо описанных действ, в состав обряда посвящения в колдовское искусство входит и вербальная магия. Впрочем, нередко она отрывается от обряда и даже заменяет его. По рассказам, «словам» учатся преимущественно на Иванов день: «Хочеш я тебя словам (курсив мой. — Н. К.) научу?»[1930]. По-видимому, речь идет о заговорах: «<…> вси стихи (курсив мой. — Н. К.), ему сказал»[1931]. Или: «Тогда колдун <…> стал читать заговоры и прочее колдовство (курсив мой. — Н. К.). Мальчик повторял за ним и таким образом перенял колдовство»[1932]. По мере трансформации представлений о могуществе заговорного слова его подчас называют «сказкой»: «Колдуны сказывают сказки. Если упомнишь такую сказку, то сам станешь колдуном. Мою дочку тожо колдунья хотела научить. Она уже сказку стала сказывать ихнюю. Я ее вовремя остановила, за волосы как следует оттаскала. Так не стала больше сказывать»[1933]. С формированием понятия «чернокнижие» в бывальщинах вместо устной вербальной магии нередко фигурирует письменная — некие «знаки», «записки», «маленькие книжки». Обычно простым смертным не дано их видеть и, тем более, знать, что в них написано. Если же и случится, что такие «книжки» попадут в руки непосвященных людей, то они вскоре бесследно исчезнут: «У ей (бабки. — Н. К.) книги были, ребята и попросили: „Дай поглядеть книжку“.<…> Они взяли (чтоб иконы в доме не было надо), стали читать. Дочитались, что столы и все заходило по комнатам. Выскочили вон, а утром пришли, а уж в доме книги-то и нет, исчезла»[1934]. Колдун же тайно носит ее при себе под пятой в сапоге или лапте. Заключенные в этой книге таинственные письмена имеют такую силу, что даже не умеющий ни читать, ни писать, обретя ее, действует как грамотный[1935]. Этот сюжет имеет более полный аналог в белорусской традиции. Согласно ей, тайное знание усваивается из книги, найденной под огромным камнем. На этой книге, раскрыв ее, посвящаемый в колдовство должен был уснуть до глубокой ночи. А затем, по воле неизвестно откуда взявшегося «панича у капелюшы», дублирующего собственно колдуна, читал вслух, вопреки своей неграмотности, начертанные в ней письмена. Он хорошо запоминал содержание книги и отныне знал, что и в каких случаях ему следует делать. Теперь книгу клали на прежнее место: ведуны лишь получали свободный доступ к ней[1936]. Возможно, что позднейшие представления о ведовстве как о черном знании — чернокнижии — обязаны тому уважению, которое оказывалось тайному знанию в язычестве. По сведениям, зафиксированным в XVIII в., подобная книга прочно ассоциировалась с нечистой силой: «Кто найдет такую черную книгу и станет читать, то немедленно предстанут множество дьяволов, и станут просить работы»[1937]. Общераспространенным является поверье: колдун, передавший свое искусство, и прежде всего заговоры, другому лицу, утрачивает магическую силу: его «слова» больше не действуют. Отныне они во власти восприемника. Иная версия: колдун не лишится своих сверхъестественных способностей, в том числе и силы заговоров, если число его учеников не превысит девяти. Причем в любом случае колдун передает тайные знания тому, кто моложе его.
Воплощение колдовского искусства
Полученное тайное знание новоявленного ведуна воплощается в определенное мифическое существо, но чаще в совокупность однородных мифических существ. Их табуистические названия выявлены О. А. Черепановой: «На Севере это шутики, маленькие, мальчики, кузутики, красные шапочки, солдатики, шишки, работники и даже сотрудники и гимназисты. За пределами Севера это кололозы (т. е. те, кто „около лазает“), коловертыши и коловерши (т. е. те, кто „около вертится“)»[1938]. Добавим к сказанному, что, будучи отрицательно переосмысленными, эти помощники колдуна получили наименование «черти» или «бесы» («биси»): «Если есть родственники в семье, колдуны после смерти им чертей (курсив здесь и далее мой. — Н. К.) передают»[1939]; «Черти у колдунов, оне разные»[1940]; «Ребятишки дома, птичками играют. <…> Они ж с чертями играли»[1941]. По своему облику передаваемые — получаемые персонажи-атрибуты могут быть разными: они уподобляются множеству птичек («всяких цветов, голубых, красных, зеленых»[1942]), цыплят (желтых, крупных), мышей или пчел («медуниц»), жуков и т. д. Иногда это лоскутки и коврижки хлеба, лежащие в маленькой коробке, или даже красивые разноцветные стеклышки, помещенные в банке. По заверениям рассказчиков, все это «биси». Впрочем, воплощением колдовского искусства может быть и множество однородных антропоморфных существ: «У всех синие короткие штанки, красные рубашечки, стоят шеренгой, как маленькие человечки, пятьдесят-семьдесят сантиметров. Они как будто скачут, а не ходят»[1943]. Или: «<…> сорок, все маленькие, одинаковые, в темных костюмах»[1944]. У одной из колдуний таких помощников было трое: Гараська, Климка и Трофимка[1945]. Локусы этих мифических существ обычно маркированы знаком домашних духов: «черти» водятся в голбце, под печкой, на вышке (на чердаке) или же в хлеве и т. д. Тайна их местонахождения обнаруживается обычно детьми: взрослым они не показываются. Так же как и домашние духи-«хозяева», они требуют по отношению к себе соблюдения определенного этикета и, в частности, нуждаются в обрядовом кормлении: «Налепят они много пельменей, и отец их Трофимов перву тарелку покладет и в голбец несет. С чего вот это перву тарелку в голбец? Живет у их кто тама? <…> Отец в голбец спускался, чертей кормил, вот кого. Их-то тожо кормить надо, поди»[1946]. Или: «Сядет есть, а она по три ложки под стол. Стану мыть, смотрю — ничего нет. Кормила она их»[1947].
Рис. 11. Кухонный стол из «бабьего кута». Каргополье
Эти мифические помощники осмысляются и как средоточие некой другой, подчас внешней, души их владельца. По одной из бывальщин, как только стали «просто перебирать» стеклышки, хранящиеся в банке в голбце, не зная, что это «биси», так их владелец, тракторист, находясь вдали от дома, почувствовал, что «его трогают», и прибежал сюда «быстрее быстрого»[1948]. В другом случае колдун примчался сразу же обратно, как только жена в его отсутствие бросила в печь «пестерь» (кошель) с «чертями». Вбежав в избу, он открыл задвижку и, сунув голову в печь, умер: «Больше уж нельзя ему жить-то, черти сгорели!»[1949]. Согласно фольклорно-мифологической логике, чтобы лишить ведуна колдовской силы, нужно нанести ущерб его душе или одной из душ, являющейся средоточием магической силы, а то и просто вышибить ее. Причем это в одинаковой степени действенно как в отношении внешней, так и в отношении внутренней души. Например, если ударить ведьму «в кровь», то она утратит способность к перевоплощениям. То же произойдет, если у нее вышибить глаз: «Мне глазу не жалко, а слова-то не пристанут, не обворотиться мне больше»[1950]. Если же ударить ведьму наотмашь по тени осиновым колом или бичом от цепа, то она лишится своей магической силы. Напомним, что тень, отражение осмысляются в народных верованиях как душа, а кровь, глаз — как ее вместилище. И в плане семантики, таким образом, они эквивалентны. Рассматриваемые персонажи-атрибуты — безотказные помощники своего владельца: «Живут-то они при ней, и держит их при себе. Делать-то все и помогают»[1951]; «Черти даром сидеть не дают, а работу просят»[1952]. Так, например, они «из-за леса достают скотину, если за лес ее уведут»[1953]. Но могут, подчас даже вопреки воле своего хозяина, совершать и вредоносные действия — портить людей. Чтобы их чем-то занять, владелец этих мифических существ дает им всевозможные невыполнимые задачи: пересчитать выброшенное во двор льняное семя, листья на осине, хвою в лесу, пни и даже свить веревки из песка или принести в закупоренной бутылке в темную горницу дневного света и пр. Иначе не избежать беды: ночью все в доме «раскубырят», а своего хозяина «затерющат» — и тот жив не будет. Вот почему владение такими помощниками нередко оказывается обременительным для колдуна. Во многих мифологических рассказах повествуется о том, как он старается от них избавиться: «Ей нужно маленьких сдать…»[1954]. Круг замкнулся. Все начинается сначала. И вновь колдун ищет, кому хотя бы обманным путем передать «чертей», т. е. свои тайные знания, персонифицированные в мифических существах. Для этого ведуны помещают своих помощников, к примеру, «на палочке такой с узорами» и под каким-либо предлогом отдают этот атрибут случайному преемнику. Или же их «на платок кладут, платок свернутый как следоват». По этому поводу рассказывают: одна тетенька, пришедшая на родник, увидела там «шалинку нову с кистями»; позарившись на нее, женщина принесла находку домой; с тех пор у нее в избе по ночам «ломота, свет горит, изба полная, пляшут, поют, в гармонику играют»; тогда, по совету «знающих», она отнесла эту «шалинку» обратно, трижды произнеся при этом: «Вот кладу на ваше место ваше добро»[1955]. Таким образом, роль чудесного помощника не только была перераспределена между множеством однородных мифических существ, представляющих собой некую коллективную единичность, но и получила со временем преимущественно негативное переосмысление, распространившееся и на само восприятие колдовского искусства.
Полночь на Лысой горе
Основные магические действа, которые имеют последствия для всего микроколлектива или отдельно взятых индивидов, совершаются ведьмами на Лысой горе. Однако семантика этого локуса в значительной мере уже утрачена. Вот почему не выглядит неожиданным суждение, мимоходом высказанное по этому поводу Д. К. Зелениным: «По украинским народным представлениям, в ночь на Ивана Купала ведьмы летают в Киев на Лысую гору. Это сказание заимствовано из Германии; у русских его нет»[1956]. И все же при суммарном рассмотрении зафиксированных в разное время и в разных этнокультурных традициях материалов такое утверждение может быть подвергнуто сомнению.Лысая гора и аналогичные локусы
Прежде всего, представления о горах, аналогичных Лысой, зафиксированы во многих местностях. Так, например, в Старой Ладоге это гора Городище, расположенная при реке, впадающей в Волхов. Они же бытовали у разных народов, в том числе славянских и германских: у поляков — это Лысая гора под Сандомиром, у чехов и словенов — Бабьи горы, у литовцев — гора Шатрия, у немцев — гора Броккен или Блоксберг. В Исландии сборище ведьм локализуется на Гекле, в Швеции — на Блаакулле, на Эланде, в Норвегии — на Линдергорне близ Бергена и т. п. Сам же топоним Лысая гора, хотя и соотнесен преимущественно с местностью в окрестностях Киева, на левой стороне Днепра, напротив Выдубицкого монастыря, и связан в основном с киевскими ведьмами, тем не менее известен и в общерусской традиции. Он встречается как в севернорусской, так и в среднерусской (курской, смоленской) мифологической прозе: «Гара та „Лысая“ завётца, и на той гаре бальшоя бываить сабранiя ведьмыў»[1957]. Лысые горы, каменистые возвышенности, есть на острове Русский Кузов в Белом море, на правом берегу р. Волги, в пяти верстах от Саратова. Лысая гора имеется и на Северном Кавказе, на правом берегу Подкумка, в десяти верстах к северо-востоку от Пятигорска. Она же известна и в Рыльском уезде Курской губернии и т. д. Название «Лысая гора» зафиксировано и в других славянских землях: насчитывается до пятнадцати природных объектов, отмеченных этим наименованием. Само же слово «Лысая» родственно древнеиндийскому rúçan, что означает «светлая, белая»[1958]. Семантикой данного топонима предопределяется изначальный сакральный смысл празднества, происходящего на горе с таким наименованием. Впрочем, местом сборища ведьм могут быть и просто высокие горы, безотносительно к их конкретному названию. Не случайно в другом варианте приведенного выше сюжета вместо Лысой фигурирует Кармилицкая гора[1959]. Горы, как известно, излюбленные места языческих жертвоприношений и обиталища богов. Далее. Местом ведовского сборища, или, если использовать принятый в Европе термин, шабаша (Hexensabbat), может служить не только гора, но и, скажем, некое вековое, почитаемое в той или иной локальной либо этнической традиции дерево: «Невдалеке там дуб огромный стояў, так что четверым не обхватить, и весь голый, листу на ем нет, усох, и на его слетались стаи сорок, целые тысячи — ведьмы, а под дубом тым убита земля, роўно ток»[1960]. Вариант: в Калужской губернии стоят два сухих дуба, под которыми, по местным рассказам, собираются ведьмы на свои игрища[1961]. В аналогичных сербских мифологических рассказах вместо дуба фигурирует ореховое дерево: один человек, полетевший вслед за ведьмой, сел на его ветви и обнаружил там множество ведьм, которые пировали за золотым столом. Немецкие же ведьмы, по рассказам, собираются под сенью дуба, липы или груши[1962]. Семантика горы (камня) и леса (дерева) в народных верованиях и — соответственно — в мифологических рассказах эквивалентна, что подтверждается и лингвистическими данными: нередко понятия горы и леса передаются однокоренными словами, а общеславянское «gora» может использоваться в диалектах в том и другом значении (например, сербохорв. гора — «гора», «лес»)[1963]. Из сказанного следует, что в рассматриваемом контексте почитаемое дерево вполне приравнивается к Лысой горе и едва ли не в большинстве случаев оттесняет ее. В севернорусской же мифологической традиции место ведовского сборища определяется географическими особенностями данного региона. Здесь целая стая векшиц (ведьм), принявших облик сорок, слетается, к примеру, на полянку или просто уединенное место в лесу, на перекресток дорог или даже на некий островок в море: «Прилетел (солдат. — Н. К.) на полянку, а их (векшиц. — Н. К.) там целая стая — кто на ухвате, кто на чем»[1964]; «Они (векшицы. — Н. К.) в лесу в груду собираются и праздники делают»[1965]; «Летел да летел (солдат, обернувшийся сорокой вслед за своей женой-ведьмой. — Н. К.), долетел до какова-та острова на море»[1966] (сюда же слетаются и другие ведьмы). Впрочем, остров, эквивалентный по своему назначению Лысой горе, может оказаться и на озере, близ знакомой деревни: «На остров Иванцов, близко деревни (Кузаранда. — Н. К.) ежегодно на Ивановскую ночь прилетают из Киева, в виде сорок, ведьмы…»[1967].
Рис. 12. Улица в Каргополе
К этим природным объектам, используемым для ведовских сборищ, присоединяются и постройки, дифференцировавшиеся в процессе эволюции от жилища, которое некогда и было, по сути, языческим храмом. Имеется в виду прежде всего баня, осмысляемая как место отправления семейно-родовых обрядов, как граница между мирами: прилетев сюда ночью, ведьмы сидят и нечто жарят для «обеда»[1968]. Устойчивость подобного локуса, используемого для ведовского сборища, подтверждается и сибирскими мифологическими рассказами: «И в бане очутился (солдат, улетевший вслед за ведьмами через печную трубу в избе. — Н. К.)! А там старух полно. Хозяйка его увидела и говорит: „А ты зачем здесь? Давай домой!“»[1969]. Местом проведения ночного шабаша может оказаться и овин: двоюродный брат рассказчика, возвращаясь поздно «со сходки», проходил мимо овина. Он услышал, как сороки «текают», тогда как на самом деле сороки ночью никогда не «текают». Присмотревшись, он видит: «две старушки сидят, кирпичики у них, огонек, жарят чего-то»[1970]. Локус, приравненный к Лысой горе, зачастую угадывается благодаря присутствию в нем большого числа ведьм: там, «где они все собираются»[1971]; «в каком-то пустынном месте среди многочисленного собрания ведьм»[1972]. Мужик, последовавший за ведьмами, прилетает «к имя же»[1973] либо «и тоже и туды»[1974]. Аналогичный локус выявляется и из обширных западноевропейских материалов, относящихся к XV–XVIII вв. Основываясь на их анализе, Р. Х. Роббинс писал: «Шабаши проводились в различных местах — на перекрестках дорог, в лесах, необработанных (диких) полях или даже в церквах»[1975]. Упоминание церкви как места ведовского сборища не случайно: ведь в Европе до середины XIV в. идея еретического шабаша еще не сформировалась[1976]. Сказанное относится и к русским ведьмам: им, по рассказам и поверьям, открыт доступ в церковь, и там, используя особые способы, их можно даже опознать среди обычных женщин, и прежде всего в большие христианские праздники. Данная мифологема, как мы помним, была хорошо известна Н. В. Гоголю, который отнюдь не случайно в своей повести «Вий» локализовал появление всей нечисти по призыву ведьмы-панночки именно в храме. Таким образом, действительно непросто увидеть в том или ином природном либо культурном объекте своего рода ведовской олимп, который в других локальных и этнических традициях обозначается устойчивым, общепринятым наименованием, скажем, «Лысая гора». Подобный олимп может отдаляться от крестьянской усадьбы либо приближаться к ней и даже оказаться в ее черте. И все же он остается локусом, функционально и семантически тождественным Лысой горе, независимо от того, имеет ли он сколько-нибудь устойчивое название или продолжает быть (во всяком случае, в кругу непосвященных) безымянным.
Временны´е параметры ведовских сборищ
Как следует из мифологических рассказов и поверий, сборища ведьм имеют свою природно-временну´ю обусловленность и периодичность. В первую очередь, они связаны с переходами, причем разного уровня. Чаще всего «пороговое» время маркируется знаками летнего солнцеворота. Это праздник Ивана Купалы. (Весьма показательно, что в полесской традиции, как отмечают А. Н. Виноградова и С. М. Толстая, он носит названия: Иван Ведёмский, Иван Ведьмарский, Ведёмска ночь, Ведьмин Иван и т. п.[1977]) В известном смысле симметрию ему составляет зимний солнцеворот (Святки). По материалам И. П. Сахарова, «бесовские потехи» начинаются с 26 декабря, с вечера этого дня: тогда ведьмы «сдружаются» с духами и летают на шабаш[1978]. Тождество осмысления праздников Ивана Купалы и зимних Святок, от Рождества до Крещения (Богоявления), не только в ведовской, но и — шире — в народной среде подтверждается и Стоглавом (1551 г.): «В русалье о Иване дни, и в навечерие Рождества Христова и Крещения, сходятся мужи и жены и девицы, на нощное плещевание и безчинный говор <…> и егда начнут заутреню, тогда отходят в домы своя, и падают аки мертвы, от великого клохтания» (Стоглав. Гл. 41. Вопр. XXIV). Вместе с тем таким же переходом считался и рубеж, отделяющий новый год от старого. Вот почему шабаши нередко приурочивались к Великому четвергу: с этим днем до 1492 г. совпадало празднование Нового года, который в старину отмечался в начале марта[1979]. Против языческих «бесований», совершавшихся в первые дни марта, направлен один из Ответов «Стоглава»: «Також неподобных одеяний и песней, и плясцов и скоморохов, и всякого козлогласования и баснословия их не творити» (Стоглав. Гл. 93). Представления о связи ведовского сборища с Великим (Чистым) четвергом законсервировались, в частности, в севернорусских и сибирских мифологических рассказах: «<…> В Чистый четверг (курсив мой. — Н. К.) это было. Глядит, а она на клюки ездит с распущенным волосам, суседка их»[1980]. Или: «Жили мужик с женой. Ну ладно. Это все же на Великой четверг (курсив мой. — Н. К.). Тепериче, он замечат: что такое? <…> Она чё-то налаживается. Ну и ладно. Он это лег, присматриватся. Приходят подружки: ха-ха-ха, да хи-хи-хи! <…> Тепериче, печку затопили, сковороду поставили, масло налили. Чё-то нашаманили. Одна мазнула — фырк! Втора мазнула — фырк! <…>. Улетели»[1981]. Аналог подобной временно´й приуроченности шабаша обнаруживается в немецкой мифологии: по ее данным, он справляется в Вальпургиеву ночь (Walpurgisnacht), т. е. в ночь накануне первого мая. Ведь именно с первого мая в Западной Европе некогда и исчислялся новый год, ознаменованный началом полевых работ, заключением контрактов и пр.[1982] В русской же традиции этому шабашу соответствует сборище ведьм накануне Егория Вешнего (23 апреля/6 мая). Ведовские игрища приурочивались к любому переходному времени года. По-видимому, этими обстоятельствами обусловлена их соотнесенность с рябиновыми, или воробьиными, ночами. Согласно некоторым сведениям, таких ночей могло быть три в году: в конце весны, в середине лета, в начале осени[1983]. На приведенный факт проливают свет украинские поверья: темными ночами с проливными дождями и громовыми раскатами (в народе эти ночи называются воробьиными) слетаются в леса на свой совет воробьи, возвращаясь около 1/13 сентября. Вариант: в осеннюю воробьиную ночь «очертений» прогоняет ветром провинившихся воробьев на Лысую гору к ведьмам[1984]. Совершенно очевидно, что в данном контексте воробьи функционально тождественны сорокам, а те, в свою очередь, служат неизменными спутниками-атрибутами ведьм, их эмблемой и эманацией. Что же касается приуроченности полетов воробьев, равно как и ведьм, на Лысую гору именно ко времени 1/13 сентября, то она имеет свое обоснование: именно этот день, начиная с 1492 г. и кончая 1699 г., в соответствии с церковной традицией, отмечался как Новый год[1985]. Причем на эти представления в какой-то мере наслаиваются другие, связанные с весенним (8/21 марта) и осенним (10/23 сентября) равноденствиями. Наконец, согласно европейским материалам, небольшие по масштабам сборища ведьм проводились и в будни, один раз в неделю[1986], либо каждую ночь, но преимущественно с субботы на воскресенье[1987]. При этом следует учитывать, что шабаши совершались под самые большие христианские праздники: под Пасху, Троицу, Рождество Иоанна Предтечи, Воздвижение и др., — поскольку последние сами наслоились на языческие празднества. Показательно, что значимость этих праздников подтверждается и мифологическими рассказами: «Волхвы приходят на Чистый четверг, на Егорий, Ивана, на Пасху»[1988]. Или: «Самое ето время такое, на страшной (страстно´й. — Н. К.) неделе, ето ихний день, колдунский, заповедный, они его специально дожидаются»[1989]. При этом «самым ведьмарским временем» считалась ночь и особенно полночь[1990]. Так или иначе время ведовских сборищ обусловлено преимущественно представлениями о смене природных циклов разного уровня, иногда наслаивающихся либо переплетающихся друг с другом. Причем эта смена осмыслялась мифологическим сознанием, языческим или христианизированным, но неизменно имеющим свое специфическое понятие о причинно-следственных связях природных явлений и их отношениях к трудовому ритму и обрядовой практике определенного микроколлектива.Сущность приготовлений и способы полета на шабаш
Из совокупности мифологических рассказов выясняется, что ведьмы прилетают на шабаш, перевоплотившись в сорок или не изменив облика, что в ряде случаев можно расценивать как неполное превращение или же как его трансформацию. Картину дополняют западноевропейские материалы: ведьмы могут отправиться на шабаш, сидя на козле, баране, быке, собаке, кошке, свинье и даже на волке или медведе[1991], равно как и на метле или помеле. Сюжет о полете ведьм на тайное сборище относится к числу «бродячих». Он состоит из следующих элементов, в большей или меньшей степени варьирующихся. Прежде чем отправиться на сборище, ведьма ложится спать. Об этом свидетельствуют и материалы ведовских процессов, проходивших в Европе: «Обычно женщины сначала ложились спать, а затем покидали постель, отправляясь на шабаш»[1992]. Находясь в состоянии сна, ведьма в сущности претерпевала состояние временной смерти, что создавало предпосылки для освобождения ее души от телесной оболочки и обеспечивало возможность обретения новой плоти. Встав ближе к одиннадцати-двенадцати часам ночи, ведьма предусмотрительно усыпляла всех потенциальных свидетелей своих приготовлений: она клала около мужа веник, т. е. по сути пучок неких растений, который она убирала только по возвращении с шабаша[1993]; подсовывала под голову мужа неких три пучка, оказавшихся сильно действующим сонным зельем: собака, подбежавшая к этим пучкам, когда они были выброшены за окно, и обнюхавшая их, крепко уснула[1994].
Рис. 13. Наличник сдвоенного окна. Пудожье
Теперь ведьма (или множество ведьм, собравшихся в ее избе) достает из-под порога, из подполья, «с падпечча» (это локусы предков и домашних духов) ту или иную емкость: «кукшин», «горщоночек», «пузырек», «флакончик», «бутыль». Ей известно то зелье и снадобье, посредством которого стимулируется отделение души от тела, совершается приобщение к миру предков и обретение новой формы. Для осуществления перевоплощения она бросает «зельля» «на жар» либо «выймаить масти с бутыли» и мажет себе суставы под коленками и под пахами либо обливает себе лицо и руки чем-то жидким и — как результат — улетает, «скидываясь» сорокой или оставаясь в человеческом облике. Этот результат закрепляется вербальной магией, которая находит свое выражение в приговоре: «Лети-лети-лети!». Исследователи, изучавшие состав летательных мазей ведьм, пришли к выводу, что это было сочетание ингредиентов преимущественно растительного наркотического характера. В состав таких мазей мог входить, к примеру, высокотоксичный аконит, который вызывал учащенное сердцебиение; смертоносный паслён (белладонна): в результате его применения внезапно возникало бредовое состояние; болиголов крапчатый: использованием этой травы обусловливалось перевозбуждение и т. п. Втирание же подобной мази в кожу усиливало физиологические возможности человеческого организма[1995]. Как следует из приведенных рассказов, все приготовления ведьмы и ее сообщниц заканчивались полетом через печную трубу в избе: «Лекарство у них (векшиц. — Н. К.) есть, они намажутся и в трубу вылетают»[1996]; «А она (жена. — Н. К.) мазь наготовила. Мазью под мышками смажет и в трубу вылетает»[1997]. И даже оказавшийся здесь случайный свидетель, проделав те же манипуляции, улетает вслед за ведьмой: «Солдат, немного думая, стал с лавки, подошел к полочке и помазал себе нос. Вдрук, и сам не знаёт почему, обернулся сорокой и выскочил в трубу и полетел (курсив мой. — Н. К.)»[1998]. Причем в одном из сибирских мифологических рассказов вскользь упоминается, что подобного рода левитация (от латинск. levitas — «легкий») совершается в состоянии опьянения: «Я, гыт, поглядела: Маруська помазалась — улетела. Надька помазалась — улетела. Я поглядела — а сама пьяненька была (курсив мой. — Н. К.) — взяла помазалась <…> и оказалась на кладбище! Они там»[1999]. В русской мифологической традиции менее распространена другая версия рассматриваемого сюжета: ведьма улетает на шабаш на метле или помеле. Именно она, получив литературную интерпретацию, наиболее закрепилась в обыденном сознании. По мнению западноевропейских ученых, животные в этой роли появились раньше, чем метла, хотя она и одержала верх из-за традиции ее восприятия как женского атрибута[2000]. (Варианты и трансформации данного атрибута: палка, лопата, грабли, как и кочерга, ухват; последние — эмблемы домашних духов, связанных с очагом.) В этом контексте, на наш взгляд, метла или помело по сути приравниваются к зелью, обеспечивающему перемещение по воздуху, а нередко и перевоплощение. Известно, что в магических целях использовался веник (метла, помело), состоящий полностью или частично из трав, обладающих сверхъестественными свойствами. Не случайно украинские ведьмы предпочитают прогуляться на Лысую гору верхом именно на терновой метле[2001]. А некоторые травы, и прежде всего почитаемый в ведовской среде тирлич, согласно поверьям, обеспечивают левитацию, даже если просто лечь на них и уснуть. И в данном случае действие зелья совмещено с действием сна, дублируя отделение души от тела, обусловливая ее свободный полет (в реальности: бредовое состояние и грезы). Вот почему на сборище наряду с ведьмами появляются давно умершие женщины, а также оборотни.
Шабаш: структура празднества ведьм
О том, что происходит на самом шабаше, из бывальщин мы узнаем немного. В севернорусских мифологических рассказах случайный очевидец сборища ведьм изгоняется оттуда, как правило, раньше, чем успевает что-нибудь рассмотреть. Однако разрозненные тексты, принадлежащие другим локальным и этническим традициям, взятые в совокупности и до некоторой степени соотнесенные с материалами ведовских процессов, восполняют эту лакуну. Прежде всего, ведьмы, слетающиеся на свое сборище, представляют, согласно мифологическим рассказам, некое тайное сообщество. Никто из простых смертных, не посвященных в эзотерические знания, сюда не допускается: «Эй, узнайтя, хто тут jось с прастых людей (курсив мой. — Н. К.)!»[2002]. Нарушителя же этого запрета ждет неминуемая смерть: «Как только завидят наши, сейчас тебя задушат»[2003]. Подобные представления о реально существующей угрозе для жизни простых смертных, рискнувших появиться на ведовском сборище, не лишены оснований. Так, например, в северной Италии около 1460 г. двум инквизиторам удалось получить разрешение на посещение шабаша, однако разъяренная толпа ведьм, обнаружив их, напала на нарушителей запрета столь неистово, что они погибли раньше, чем смогли поделиться своими наблюдениями[2004]. В другом случае непрошеных гостей так избили, что они вскоре умерли[2005]. В мифологических же рассказах «простым людям» чаще удается избежать расправы, и то благодаря вмешательству участвующей в шабаше жены: «Законный друх, тибе тут сичас ришат… зварачивайся дамой назат!..»[2006]. Обратно случайный свидетель шабаша уносится на коне, в которого ведьма превращает помело, палку, деревце (березку), скамейку и который по возвращении смельчака домой, наутро, вновь обретает изначальную форму: «Вот поехал он и уж у самого дома оглянулся. Видит: сам на липовой палке (курсив мой. — Н. К.) сидит. Так уж на ей до дому-то и доехал»[2007]; «Дали ему жеребца, шибко хорошего. Добрался он до дому. Привязал его к плетню. Пошел братуху будить. Говорит: „Посмотри, какого жеребца мне дали!“ Приходят, а вместо жеребца — такой горбуль стоит»[2008]; «Дали ему коня красивого, быстрого. Солдатик сел на коня — и вмиг очутился в хате. Глядь: а под ним вместо коня помело»[2009]. Будучи выпровоженным со сборища ведьм, он уносит, однако, с собой фрагменты впечатлений. Центральным персонажем ведовского сборища, по рассказам, является некое мифическое существо, в облике которого в той или иной пропорции сочетаются преимущественно зоо-, терато-, антропоморфные признаки. Так, в одной из среднерусских (смоленских) бывальщин это «бальшей семиглавый змей» (он же семиглавый «мядведь»), который сидит «там на креслах» и смотрит «у ва уси сторыны»[2010]. В образе змея-медведя персонифицируются пережитки древних представлений, изначально связанных с тотемистическими верованиями, но впоследствии подвершихся многократным переосмыслениям. В украинском варианте аналогичного сюжета председательствует на шабаше «сатана» с буйволовыми рогами и львиным хвостом[2011]. Согласно чешским поверьям, подобный персонаж изображен в облике черного кота, петуха или дракона, восседающего на троне или за железным столом[2012]. В западноевропейской традиции в этой же роли выступает «дьявол» в виде черного козла, сидящий на камне или гнилом пне (вариант: на троне)[2013]. В немецких мифологических рассказах такой персонаж может иметь одновременно признаки и человека, и животного: «сатана» в образе козла с черным человеческим лицом важно и торжественно восседает на высоком стуле или на большом каменном столе, стоящем в центре всего собрания[2014]. По некоторым западноевропейским материалам, в облике этого мифического существа сочетаются зоо- и тератоморфные черты: «дьявол» выглядит как страшное чудовище, безрукое, безногое, но с многочисленными рогами на голове; от него исходит слабое сияние; время от времени он издает ослиный рев[2015]. «Сатану», председательствующего на шабаше, видят и в образе древесного пня с чем-то вроде человеческого лица[2016]. И, наконец, «дьявол» выглядит как человек, хотя и не утрачивает некоторых присущих ему зооморфных признаков, и прежде всего рогатости. Так, в украинской мифологии ведьмак, председательствующий на годовом собрании ведьм на Лысой горе, — старик с длинной седой бородой и с длинными волосами на голове, под которыми, однако, скрывается рог[2017]. Не случайно на одном из ведовских процессов, проходивших в Литве в XVII–XVIII вв., обвиняемая призналась, что видела на Шатрии «дьявола»: это был пан в немецкой одежде и шляпе, прогуливающийся с палочкой. Причем и сам пан, и его дети были рогаты[2018]. В другом случае, как следует из западноевропейских материалов, «злой дух» являлся на шабаш в облике мужчины весьма высокого роста, в одежде черной с красным. Однако ноги у него были козлиные, а лица никто не мог увидеть[2019]. То же, в частности, при описании реальных шабашей отмечает С. Пшибышевский: «Образ Сатаны редко видится отчетливо: то он появляется в виде чудовищной туманной массы; то его видят <…> как бы покрытого мраком; иной раз он появляется опять в виде „кажущегося“ человеческого лица, красного и колышущегося как огонь, вырывающийся из печи, и формы которого видны только наполовину и то расплывчато»[2020]. Неопределенность показаний, описывающих все явления как бы окутанными туманом, ученый объясняет действием снотворных наркотиков. Согласно славянским и германским мифологическим рассказам, «сатана» разделяет власть с ведьмой, играющей в кругу сообщниц первенствующую роль: «Ланцюжиха согласилась танцевать с сатаною один раз в месяц на гульбище, и он сделал ее ведьмой»[2021]. По некоторым сведениям, «сатана» выбирает в соправительницы прекраснейшую из ведьм[2022]. Кроме того, в славянской мифологии известна и женская ипостась центральной фигуры шабаша: это живущая на Лысой горе старшая из ведьм, их повелительница, царица, к которой в определенную пору года обязаны являться все чародейки. Аналогичные представления зафиксированы в литовской, а также в мингрельской традиции[2023]. Идея особого призвания женщин в деле волшебства в мифологических рассказах реализуется в полной мере. То, что происходит на ведовском Олимпе, и особенно в ночь накануне Ивана Купалы, является усиленной и концентрированной копией всеобщего празднества: «<…> егда бо приходит велий праздник день Рождества Предтечева, и тогда во святую ту нощь мало не весь град взмятется (в селех) и возбесится…»[2024] — писал в 1505 г. игумен Памфил во Псков, основываясь на собственных наблюдениях. Игумен же Елеазар, послание которого цитирует И. М. Снегирев, раскрывает сущность центральной фигуры ведовского (и не только ведовского) сборища: «И в годину ту сатана красуется, яко же сущiи древнiи идолослужителiе бесовскiй праздник сей празднуют. Сице бо на всяко лето кумиром служебным обычаем сатану призывают <…>, а яко день Рождества Предтечи великого празднуют по своим древним обычаям (курсив мой. — Н. К.)» [2025]. Как следует из данного контекста, «сатана» или «бес» — это все тот же идол, кумир, который почитался язычниками в соответствии с древними, дохристианскими обычаями и который, как и всякое другое воплощение языческой мудрости, был низведен христианством в ранг отрицательно маркированного персонажа. Заметим, что в Европе древнейшие указания на обряды шабаша содержатся в письме папы Григория IX к архиепископу майнцскому, датированном 1234 г. Однако полного развития представления о шабаше достигли в XV столетии, когда инквизиция всерьез занялась его изучением[2026].
Рис. 14.Церковь Рождества Христова (1562 г.). Каргополь
В мифологических рассказах председательствующий на ведовском Олимпе, какой бы облик он ни имел, представлен в качестве распорядителя всего происходящего там действа: «Тиха такаво було, змей свиснуў: удруг узнилась большая музыка, песни, скоки; уси видьмаки пустились у скок. <…> Мядведь етый як свиснуў у семь галоў, сичас усе стихла: хто рот разинуў песни петь, — тэй так и астаўся; хто нагу падняў скакать, — тэй тожа»[2027]. В немецких же рассказах все участники шабаша выражают свою покорность «сатане», имеющему признаки и козла, и человека, коленопреклонением и целованием[2028]. Приблизительно то же, по-видимому, могло быть зафиксировано и на русской почве. Ведь не случайно упомянутый игумен Елеазар определяет статус центральной фигуры ведовского сборища не иначе, как словами «сатану призывают», «сатана красуется». Зооморфному или зооантропоморфному облику центральной фигуры ведовского Олимпа соответствует аналогичный облик его участников. А представления о шабаше слились с идеей перевоплощения. Уже А. Н. Афанасьев заметил, что превращения совершаются два раза в год, на Коляду и в Иванову ночь, значит, в те самые сроки, в которые бывают главные ведовские сборища. Причем в то время, когда на Лысой горе гуляют ведуны и ведьмы, в деревнях ходят по улицам ряженые[2029], что свидетельствует о некоем семантическом тождестве одних и других. Согласно материалам, которыми располагал А. Терещенко, именно на Лысой горе, так же как и на горе Броккен или Блоксберг, ведьмы и обретают способность оборотничества[2030]. В мингрельской мифологии сама царица «нечистых духов» одаряет прилетевших сюда ведьм способностью превращаться в животных, предметы или даже в природные объекты[2031]. В этом свете становится понятным, почему на месте их сборища остаются коровьи или козьи следы[2032]. О явных отпечатках раздвоенных копыт на том месте, где танцевали ведьмы с дьяволами, писал еще в 1653 г. Генри Мор, магистр искусств Кембриджского университета, датируя подобные наблюдения 1590 г.[2033] Заметим при этом, что зооморфные признаки участников ведовского Олимпа по сути соответствуют облику его центральной фигуры. Ритуал, отправляемый на Лысой горе или в приравненных к ней локусах, включал в себя множество элементов, семантика которых может быть выявлена с известной долей вероятности. В этом ритуале имело место жертвоприношение. Правда, в дошедших до нас мифологических рассказах о нем сохранились лишь отголоски представлений: «А оне теленка там, значит, выташшили, теленка варят его, ись»[2034]. Согласно поверьям, в жертву некогда по этому случаю приносили большого козла или черного быка, черную корову, подчас лошадь[2035]. Быть может, вид жертвенного животного первоначально соответствовал зооморфному облику председательствующего на шабаше, не изжившего своих рогов и копыт даже в поздней традиции, равно как и зооморфным признакам самих участников ведовского сборища, оставляющих после себя следы козьих и коровьих копыт. Былая соотнесенность ведьм с коровами сохраняется, в частности, и в поверьях, из которых выясняется, что доение ими коров совпадает по времени с полетами на Лысую гору, а приготовление магического сыра приурочивается к этому празднеству. Взаимосвязь же ведьм с козлами, баранами, быками и лошадьми, как и с некоторыми другими животными, проявляется, например, в том, что на них названные персонажи ездят на свой шабаш. Вот почему крестьяне не выводят в купальскую ночь лошадей в поле, а накрепко запирают их в конюшнях[2036]. Как видим, эти животные оказываются атрибутами носителей тайного знания, обнаруживающими их изначальную сущность. В момент жертвоприношения ведьмы пляшут вокруг кипящих котлов и «чертова требища», т. е. жреческого алтаря, жертвенника[2037]. Жертвоприношение обычно заканчивалось пиршеством: «У их там пир идет…»[2038]; «Они там в бане обед жарили…»[2039]. При этом мясо поедалось с целью приобщения к магическим свойствам почитаемого животного. Мясом и вином (но непременно без хлеба и соли, считающихся атрибутами и эманацией домашнего духа-«хозяина») угощал участников ведовского сборища сам «дьявол». Обратим внимание, что пиршество также маркировалось зооморфными знаками: присутствующие на нем пьют вино из коровьих копыт и лошадиных черепов. Ср. с сербским вариантом, где ведьмы пьют вино из золотых чаш, которые, однако, легко превращаются в копыта «стерв» (издохших животных), стоило только случайному очевидцу произнести слова проклятия[2040]. Иногда жертвенное животное (например, козла) сжигают и пепел делят между всеми собравшимися ведьмами, а те используют его в качестве магического средства — в данном случае чтобы причинять людям бедствия[2041], хотя изначально он использовался, несомненно, с противоположной, благодетельной целью. В мифологических рассказах и поверьях удерживаются и представления о «большой музыке», которая вдруг «узнилась» по знаку (свисту) главенствующего на сборище зооморфного существа[2042]. Причем, как следует из поверий, зафиксированных в северо-западном крае в XVII–XVIII вв., играющий музыкант также не лишен зооморфных признаков: он, к примеру, рогат[2043]. «Большая музыка», звучащая на ведовском сборище, достигается совокупным звучанием различных музыкальных инструментов: ударных, духовых, струнных. Об этом свидетельствует, в частности, упомянутый игумен Памфил, описывая по сути празднование Ивана Купалы, в котором, повторяем, можно обнаружить в известном смысле ослабленную копию шабаша, распространившегося и на простых смертных. Вот что он пишет относительно используемых на празднестве инструментов: «<…> стучат бубны и глас сопелий и гудут струны (курсив мой. — Н. К.)»[2044]. В соответствии с архаическими представлениями музыкальный инструмент может иметь зооморфные очертания или быть изготовленным из костей почитаемого животного (ср. с изготовлением кантеле, например, из костей щуки). Так, в немецкой мифологии музыкант, играющий на шабаше и сидящий при этом на дереве, держит вместо волынки (духовой музыкальный инструмент) или скрипки лошадиную голову, а дудкой или смычком ему служит то простая палка, то кошачий хвост[2045]. В этом свете сам музыкальный инструмент осмысляется как некое мифическое существо, соотнесенное как с центральным зооморфным персонажем, так и с рядовыми участниками обрядового действа, в котором музыкальному инструменту отведена роль медиатора между мирами. Звуки «адской» музыки столь чарующи и сладострастны, что все и каждый, кто присутствует на сборище, подчас включая и случайного свидетеля, увлекаются в пляску. При этом дрожат земля и небо; волнуются моря. Как говорится в цитируемом мифологическом рассказе, под такую музыку «уси видьмаки пустились у скок»[2046]. И оказавшийся здесь солдат увидел, что «яго теща скачит праставалосая са стариком биз штанов, биз шапки, бяз поиса»[2047]. Подобный элемент бывальщины находит себе соответствие в описании танца на шабаше, которое было произведено в Англии в 1603 г.: когда судья выявил место сборища и отправился туда, чтобы арестовать его участников, он увидел там шесть пар мужчин и женщин, танцующих обнаженными, в то время как остальные лежали вокруг[2048]. Раздетость, равно как и отсутствие знаков статуса (головного убора, пояса), символизирует пребывание между мирами, положение «ни там ни сям». По сохранившимся фрагментам можно воспроизвести и описание танца: ведьмы, схватившись с «бесами» за руки, прыгают и вертятся в вихре своих плясок с диким весельем и бесстыдными жестами[2049]. Некоторые уточнения в описание купальского танца вносит игумен Памфил: «<…> женам же и девам плескание и плясание, и главам их накивание <…>, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание»[2050]. Сам «сатана», по рассказам, танцует с одной из ведьм или с разными поочередно[2051]. Иная версия: ведьмы танцуют с «чертями», принимающими облик, скажем, козлов или лягушек, но мгновенно превращающимися в красивых молодых людей[2052]. Зооморфными знаками (следами) отмечены и места их плясок. Согласно западноевропейским источникам, это был танец спиной к спине, являвшийся одной из форм средневекового театра, который долго удерживался в низших слоях общества[2053]. Как уже говорилось, ведьмы пляшут вокруг «чертова требища» или «чертова беремища». Подобные танцы происходили в виде хоровода (по некоторым сведениям, вращавшегося справа налево). Вот почему, по поверьям, на том месте, где ведьмы водили хороводы, на следующее утро и едва ли не до самой зимы бывали видны довольно правильной формы круги, ярко зеленеющие или пожелтелые. Помимо молвы, что здесь каждую ночь собираются плясать ведьмы, распространялись слухи и толки, что в этом кругу «поверстался» в колдуны сам хозяин поля, на котором такой круг находили, и особенно если он был старик, или же «покумилась» с ведьмами старая женщина из его семейства[2054], т. е. они были посвящены на этом месте в колдуны.

Рис. 15. Резная прялка. Тотемский район Вологодской обл. (прорисовка)
Разумеется, и круг, и хоровод (коло) в плане семантики являются эквивалентными. Не случайно в некоторых диалектах хороводы получили название «колёса», «круга´»[2055]. Мифологическое мышление и на этот раз оперирует тождествами. Если круг символизирует идею круговорота в природе и обществе, идею жизненного цикла и судьбы[2056], то равноценную семантику имеет и хоровод. О том, что это действо носило магический характер, свидетельствует хотя бы такой факт: у финнов хороводы, которые, как и везде, были важной составляющей частью весенних и летних праздников, «важивали старухи»[2057], т. е., по сути, «знающие» люди. Напомним, их водили всегда в переломные моменты годового цикла, к числу которых относились проводы зимы и встречи весны, лета, летний солнцеворот. Но именно эти переходные моменты, а также зимние святки как раз и были отмечены сборищами ведьм, в том числе и их хороводами. Соответствующий смысл имели и песни, упоминаемые в мифологическом рассказе наряду с «большой музыкой» и «скоками». Их так же, как и все другие элементы языческого обряда, сурово осудил древнерусский священнослужитель, охарактеризовав услышанное как «неприязнен клич и вопль, всескверненные песни»[2058]. И тем не менее в системе хоровода они играли знаковую, магическую роль, о чем совершенно справедливо писал в свое время А. Н. Афанасьев: «Хоровод (коло), в котором песня сливается с драматическим представлением, несомненно наследован от глубокой старины. Хороводы открываются с весною, когда небо вступает в брачное соитие с землею и как бы зовет к тому же священному союзу и человека; именно эта идея любви и следующего за нею брака есть главный мотив, развиваемый в хороводных представлениях и песнях»[2059]. Некогда такие песни носили сакральный характер. Они были известны лишь ведьмам и никому другому. По мере своей трансформации, переосмысления, утраты магической функции эти песни оказались всеобщим достоянием. Уже в самом танце, о котором в мифологических рассказах упоминается редко, да и то лишь вскользь, различимы некоторые эротические элементы, выраженные в поздней традиции, как правило, в ослабленной форме. Вспомним хотя бы некую тещу, отплясывающую на шабаше «са стариком биз штанов», да бесстыдные жесты во время танца. Более определенно, основываясь на имеющихся в его распоряжении материалах, этот факт констатирует А. Н. Афанасьев: «Гульбище заканчивается плотским соитием, в которое вступают ведьмы с нечистыми духами, при совершенном погашении огней»[2060]. Древнейшее же свидетельство о плотской связи ведьмы с чертом датируется 1275 г. Такое показание многократно подтверждается в актах ведовских процессов XVI–XVII вв. Грязные подробности оргии весьма тщательно описывались и трудолюбивыми инквизиторами. На Руси еще в начале XVI в. эротические элементы обряда, исполнявшегося в ночь накануне Ивана Купалы, равно как и в другие весенние и летние праздники, продолжали соблюдаться полностью. Вот что свидетельствует по этому поводу игумен Памфил: «<…> туже есть мужем же и отроком великое прелщение и падение, но яко <…> на женское и девическое шатание блудно(е) и(м) възрение, такоже и женам мужатым безаконное осквернение и девам растление»[2061]. Ему вторит Стоглав: «<…> бывает отроком осквернение и девкам растление» (Гл. 41. Вопр. XXIV). Временная сексуальная свобода (по Л. Штернбергу: эксцессы фаллического культа), смысл которой в магическом воздействии на производительные силы земли, носила обрядовый характер[2062]. На наш взгляд, с подобными верованиями переплетались и представления о дефлорации, связанные, скорее, с инициациями (ее, по материалам западноевропейских ведовских процессов, осуществлял сам «сатана»; объектами же подобного обряда были девственницы от тринадцати до шестнадцати лет). Не случайно А. Н. Веселовский усматривает в качестве одного из этнографических субстратов празднования Ивана Купалы именно принятие в родовую общину новых ее членов. Заметим, что тогда же происходило и посвящение в эзотерические знания, и обрядовое переряживание-оборотничество, выражавшееся в обретении зооморфных признаков участниками магического действа. Скудость источников, фиксировавших факты ритуального эротизма, по мнению В. Я. Проппа, объясняется тем, что подобный разгул (в Стоглаве: «глумы». — Н. К.) стал уже противоречить морали общества, утратившего веру в магическую силу этого обряда[2063]. В результате формируется мнение «о самых отвратительных и грязных сценах для нравственного чувства», идеологами которого были в первую очередь священники[2064].
Семантика ведовского Олимпа
Каковы же функции ведьм на Лысой горе и в приравненных к ней локусах? По дошедшим до нас поверьям, именно здесь, повторяем, завершается посвящение в ведовское знание. И каждая из ведьм докладывает на этом олимпе, сколько людей за год она выучила колдовству и сколько околдовала. Здесь же, по слухам, они якобы советуются с нечистой силой по поводу истребления садов, полей, равно как и рогатого скота, лошадей, других животных, и даже относительно пагубы, порчи или бесплодия людей. По некоторым сведениям, летая на шабаш (особенно в Васильев вечер), ведьмы «скрадывают» с неба месяц и звезды и держат их в погребах в кувшинах. В их власти и программирование метеорологических явлений. Ведьмы могут разогнать тучи и вызвать засуху либо, наоборот, наводнения. Если принять за аксиому, что вместе с негативным переосмыслением образа самой ведьмы в этом же направлении трансформировались и ее функции, то все встанет на свои места. На ведовском сборище его участницы, подобно жрицам, известным в Греции и Риме, Германии и Галлии, как раз и обеспечивают заранее на весь год[2065] наряду с упорядоченностью в макрокосме, маркированном астральными знаками, благополучие в микрокосме: в человеческом микроколлективе и в соотнесенном с ним животном и растительном мире. По словам П. Ефименко, в старину сфера ведовского знания была значительно шире. На это указывают наименования ведунов: видьмак, видьмач, ведьма и вещица (в севернорусской и сербской традициях) или вещая жонка. «В широком понятии ведать и вещать совмещались все отправления чародейства», — отмечает исследователь[2066]. Заметим, что само название «ведьма» родственно словам ведать, ведь, ведьмение, что значит «провидение», «промысел», «чудодейственная сила», «знание», «сведение»[2067]. Во всяком случае, доказательством того, что вредительство изначально не было нормой поведения ведьм (или их деятельность не сводилась только к вредительству), служат, в частности, архаические украинские материалы, зафиксированные П. П. Чубинским. Из них следует, что ведьмак, т. е. главный среди ведьм, «ничего злого не делает», а напротив, старается быть полезным. Распоряжаясь всеми ведьмами, он запрещает им делать людям зло: «<…> всегда первенствует в заседании ведьм, из опасения, чтобы они не уговорились сделать какое-нибудь зло (курсив мой. — Н. К.)»[2068]. (Вслед за ним то же подтверждает и П. Ефименко.) На наш взгляд, в образе такого «ведьмака» сохраняется изначальная сущность самих ведьм. Характерно, что даже в поздней традиции, когда положительные свойства ведьм выражены уже слабо, все же к ним обращаются при выборе дня, наиболее удачного для пахоты, сева, как и в случае стихийных бедствий, морового поветрия и т. п.[2069] О том, что ведьмы были не лишены и благодетельных функций, свидетельствуют и европейские материалы, согласно которым выделялись три категории ведьм: «черные», творящие исключительно зло; «серые», совершающие и добрые дела; «белые», помогающие человеку. Как следует из судебных процессов, большинство ведьм относилось ко второй категории[2070]. В этом свете становится особенно очевидным, что своей круговой пляской они стимулируют дальнейший круговорот в природе и обществе, а их ритуальная борьба «в лад» мечиками от «терницы» (мечик — пест, которым мнут стебли конопли), сопровождаемая, как это выясняется из украинской мифологии, магическим приговором: «втну, та не дотну» (вариант: «що втну, не перетну!»), в результате чего участницы поединка остаются невредимыми, в символической форме исключает какое бы то ни было поражение. Ср. с аналогичным мотивом этого же сюжета, имеющим, однако, совершенно иную развязку: солдат, прихвативший вместо мечика тесак и улетевший вслед за хозяйкой «в какое-то пустынное место», «на многочисленное собрание ведьм», пускается драться с ними своим тесаком и, приговаривая: «я втну, та и перетну», ранит хозяйку, за что расплачивается собственной жизнью[2071]. В единоборстве же ведьм, носящем, несомненно, магический характер, ни ранение, ни поражение не предусмотрено, наоборот, этим поединком программируется некое равновесие. Вообще, надо заметить, что атрибутика, связанная с обработкой конопли, льна, шерсти, как и с прядением, ткачеством, хотя и в фрагментарном и достаточно свернутом виде, все же обозначена в рассказах о ведовских сборищах. Приведем в качестве примера один из севернорусских рассказов: «„…Вот тебе конь, поезжай и не оглядывайся“. Он не стерпел, оглянулся. Смотрит: на чем ткут сидит, на мялке едет (курсив мой. — Н. К.)»[2072]. В другой этнокультурной (финской) традиции ведьмы в ночь на Светлое Воскресенье уносят на высокую гору собранную ими шерсть и хвосты[2073]. Если признать, что такие элементы мифологических рассказов были ранее для них более характерны, то нельзя не увидеть в этом некоторых признаков изначальной соотнесенности ведьм с божествами судьбы, образы которых как раз и маркируются атрибутикой, связанной с прядением, плетением, ткачеством, о чем мы подробно говорили в специальных исследованиях[2074]. Мало того, независимо от осмысления их образа, негативного или положительного, ведьмы в ночь накануне Ивана Купалы собирают на Лысой горе (или вылетают в отдаленные от нее местности) волшебные травы, обладающие магической силой, сверхъестественными свойствами. За неимением позитивной, тайная наука пользовалась полными правами. Выявляя же общую семантику ведовского сборища на Лысой горе и в аналогичных ей локусах, И. Снегирев, Д. Шеппинг, М. Забылин единодушно друг за другом утверждали, что в древности на этом месте было капище, куда сходились «жрицы и ведьмы», а в плясках последних они усматривали следы некоего богослужебного обряда[2075]. В сборищах ведьм на Лысой горе, по мнению Д. О. Шеппинга, сохранились отголоски «кумирослужения, жречества и праздничных торжеств нашей дохристианской эпохи»[2076]. Наиболее обоснованную точку зрения относительно структуры рассматриваемого празднества высказал в свое время Л. Штернберг: «Все характерные черты ведовских собраний, начиная с места и времени их совершения, характерных животных старого культа (козел, змей, петух, кошка и т. д.), жертвоприношений, общих пиршеств, плясок, звериных шкур (тотемистический обряд) и т. д., вплоть до сексуальных оргий — все это черты языческих празднеств, с их тотемистическими обрядами, жертвоприношениями, общими трапезами и оргиями, имевшими целью магически воздействовать на фаллических божеств природы»[2077]. Аналогичное объяснение происхождения шабаша дают и западноевропейские исследователи. «Вокруг богословской концепции шабаша сосредоточились традиции язычества и классической древности. <…> На протяжении Раннего Средневековья, начиная примерно с 1100 г., появлялись отдельные сообщения о ночных собраниях, которые, возможно, и способствовали развитию идеи шабаша»[2078], — пишет Р. Х. Роббинс. По предположению ученых, шабаш восходит к древнейшим праздникам Бахуса и Приапа[2079], т. е. богов производительных сил земли и — шире — природы. Однако, на наш взгляд, феномен ведовского сборища уходит своими корнями еще глубже. Вспомним в связи с этим зооморфную фигуру центрального персонажа празднества, которому по сути соответствуют своими зооморфными очертаниями участники ведовского Олимпа, а также приносимая ими жертва и даже средства перемещения по воздуху. Вспомним и зооморфные формы чаш, используемых в ритуальном пиршестве, равно как и музыкальных инструментов, под звуки которых исполняются ритуальные пляски. Подобные наблюдения не могут не навести на мысль об изначально тотемистическом характере этого празднества или, как минимум, об элементах тотемистического характера, сохранившихся в религиозно-культовых обрядах, связанных уже преимущественно с земледелием. Заметим, между прочим, что и Дионис (в римской мифологии: Бахус, Вакх) имел зооморфное прошлое, которое отражено в его оборотничестве и представлениях о Дионисе-быке, Дионисе-козле, хотя он и выступает в греческой мифологии как божество земледельческого круга, уже с VIII–VII вв. до н. э. вытесняя некие культы местных богов[2080]. Что касается Приапа, то он на ранней стадии (до конца IV в. до н. э.) почитался в виде осла, равно как и древесного сучка, хотя в римскую эпоху и был включен в число божеств плодородия, а в качестве жертвы, помимо цветочных венков и гирлянд, овощей и фруктов, ему приносили бычков, козлов, ягнят и прочих животных. Причем праздники в честь Приапа, отмечаемые в марте и июне (в это время имели место и ведовские сборища), сопровождались сексуальным неистовством и весельем, носившим экстатический характер[2081]. Аналогичные элементы обнаруживаются и в празднике Диониса (Бахуса, Вакха): связанные с ним вакханалии говорят сами за себя. Оба праздника переплетались: в последнем из них в качестве простонародного культового персонажа мог участвовать Приап, что свидетельствует о некотором их тождестве.
Рис. 16. Благовещенская церковь (1692 г.). Каргополь
Отголоски ведовских сборищ, несмотря на официальные запреты, долго удерживались в традиции как «поэтическое наследие предков», а участие в них «знающих» женщин, к совету которых народ продолжал прислушиваться, осмыслялось как обязанность, возлагаемая на них самим этим званием[2082]. И все же подобные представления не спасли образ ведьмы от усиливающегося негативного переосмысления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такое переосмысление не только со временем укоренилось, но и перекрыло все благодетельные функции персонажей ведовского Олимпа. Причины подобных трансформаций выяснены Л. Штернбергом: «Типичные шабаши ведьм появляются только после введения христианства, когда старые боги сливаются с дьяволом, ищущим себе поклонников, и языческие празднества с их обрядами преследуются церковью как служение дьяволу. Смешение обоих элементов мы находим на шабаше»[2083]. Если центральная часть рассматриваемого сюжета из-за имеющейся в ней лакуны нуждалась в заполнении и определенного рода реконструкции, то ее обрамление отличается высокой степенью устойчивости. Поскольку об экспозиции мифологического рассказа, повествующей о подготовке ведьм к полету, мы уже говорили, остановимся на его концовке. Развязка сюжета часто оказывается тождественной его экспозиции: прилетевшая с шабаша, как и перед полетом на него, ложится спать или просыпается наутро в постели. Иногда жене-ведьме даже удается убедить мужа, летавшего вслед за ней на сборище, что все увиденное там на самом деле ему просто приснилось: «„Такая-сякая, иде ты была?“ — „Нийде! Ты у ва сне ета видал!“ Уверила мужа, што яму саснилась (курсив мой. — Н. К.); — iон и паверiў»[2084]. Мифологическая логика подобной коллизии достаточно очевидна: в то время, когда душа ведьмы, освобожденная от бренного тела посредством сна, чародейского зелья и магических приговоров, обретает новую оболочку и улетает на шабаш, ее тело вплоть до возвращения этой души остается лежать в постели. Повествование же о полете ведьмы в человеческом воплощении следует считать трансформацией и переосмыслением мифологемы. Подобная версия в известной мере обусловлена реальным воздействием трав, имеющих естественные наркотические свойства и вызывающих «великий беспорядок в умах», иными словами, фантастический мир видений, восстанавливаемый в памяти ведьмы после ее пробуждения. Уже Жан Нино в своей книге «Ликантропия, Метаморфозы и Экстазы», опубликованной в 1615 г., приводит типичные примеры, когда за женщинами, натертыми магической мазью, вызывающей сон и ощущение полета по воздуху, наблюдали всю ночь, а при пробуждении они сообщили мельчайшие подробности о шабаше, происходившем на значительном расстоянии от их дома[2085]. При этом, согласно показанию одной из посетительниц подобного сборища, которое приводит в своем труде «Три книги о дьяволопоклонстве» (Кн. III. Гл. 14) французский судья, демонолог Никола Реми (1530–1612 гг.), приговоривший к смерти за десять лет своей деятельности 900 ведьм, ощущение таково, будто видишь все спьяна или спросонок либо будто ослеплен отводом глаз, все кажется перепутанным и неопределенным[2086]. Таким образом, в рассказах о полете ведьмы на шабаш переплелись представления о реальном и иллюзорном посещении ведовского сборища, пропущенные, к тому же, сквозь призму мифологических воззрений, уходящих своими корнями в тотемизм, но претерпевших в процессе длительного бытования ряд переосмыслений, трансформаций и наслоений.
На росстани…
Росстань (перекресток, крест, сукрестки, распутье, раздорожье, развилка, повёртка, расхлёстка и пр.) — излюбленный локус ведьм, колдунов, знахарей, к числу которых относятся и посвященные в тайное знание охотники, пастухи, деревенские лекари. Сюда же в сакральный час приходят и простые смертные, следуя совету «знающих», искушенных в ведовстве людей.
Рис. 17. На росстани
Росстань в обрядах, обычаях, верованиях
Как мы уже говорили, на перекрестке может совершиться передача и усвоение эзотерического знания, т. е. посвящение в колдовское искусство; сюда, по одной из версий, слетаются ведьмы на шабаш; в этом месте совершаются таинственные перевоплощения; здесь же возможны контакты человека с различными мифическими существами. Росстань в быличках, бывальщинах, поверьях — устойчивое место исполнения различных обрядов, призванных укрепить стихию рода, плодородия, урожая, поддержать естественный ритм и круговорот в природе и в общественной или конкретной человеческой жизни либо восстановить утраченный порядок, нейтрализовать силы хаоса. В этом локусе, как известно, совершаются охотничьи и пастушеские ритуалы, без соблюдения которых, по народным верованиям, нет удачи на промыслах. Здесь же исполняется особый обряд, известный в севернорусской традиции под названием «отведывание», или «отворачивание»: его назначение — сохранить жизнь заблудившемуся в лесу человеку либо пропавшему там домашнему животному, вернуть их домой здоровыми и невредимыми. На росстани также совершались лечебные обряды, направленные на восстановление жизненной силы больного, на снятие порчи. С перекрестком связана и любовная магия: именно здесь звучали слова заговора-присушки или отсушки, призванные направить жизнь (любовь и плодородие) того или иного члена общины в желательное русло, восстановить нарушенную гармонию взаимоотношений внутри определенного микроколлектива. В этом же локусе знахарь нейтрализует вредоносные последствия залома, т. е. узла колосьев, завязанных чародеем в поле особым способом со злым умыслом. Как повествуется в мифологических рассказах, он по произнесении заговора вырывает злополучный узел и сжигает его опять-таки «на ростаньках» или на ближайшей дороге. Перекресток, напомним, предпочитался и для совершения мантических обрядов: о будущем гадали в период, отмеченный знаками перехода («порога») в пределах годового цикла — прежде всего в Святки и на Ивана Купалу, когда миры, «тот» и «этот», оказывались наиболее взаимопроницаемыми. Здесь судьба открывалась в основном тому, кто достиг очередного этапа в своем жизненном цикле: «Если вот младшая шестнадцати лет, не почудится. Ну, а нам-то было уж шестнадцать, шестнадцать-то было всем»[2087]. На «крестах» узнают предначертания будущего во всех его проявлениях, будь это приближение очередного этапа жизненного цикла, изменение статуса либо усиление/угасание стихии плодовитости и урожая. Образ росстани, устойчивый в поэзии, и не только в народной, со временем стал осмысляться как знак-символ судьбы, предначертаний, отчасти выбора жизненного пути. На перекрестке, расходящемся на две, на три или на все четыре стороны, было принято, по обычаю, дожидаться близких после долгой разлуки или, наоборот, прощаться с отправляющимися в путь. Обычай расставания за околицей, на ближайшей росстани, сохраняется едва ли не до наших дней. И поныне бытует выражение: «пошел на все четыре стороны», т. е. предался судьбе. С перекрестком связаны определенные надежды, размышления, опасения. Так почему же росстань — излюбленный локус ведунов всех уровней и специализаций? Семантика этого образа, присутствующего едва ли не во всех жанрах фольклора: в сказке, былине, заговоре, балладе, песне (исторической и лирической), частушке и пр., — вряд ли может быть полностью выявлена лишь из мифологической прозы. Наша задача — реконструировать круг представлений, на почве которых сформировался образ перекрестка, используя для этого всю совокупность рудиментов, сохранившихся в фольклорно-этнографических материалах. Согласно имеющимся в нашем распоряжении источникам, росстани отводится место на стыке освоенного и первозданного пространства, культурного и природного, и даже на грани миров, «этого» и «того», земного и потустороннего. Причем в соотношении этих миров (и особенно если судить по мифологическим рассказам) прослеживается определенная иерархия: в первом сосредоточены всевозможные бытовые коллизии, тогда как во втором находится ключ к их благополучному разрешению. Из фольклорных произведений, прежде всего из бывальщины, сказки, эпической песни, заговора, выясняется, что путь либо определенный этап в жизни героя или героини не просто начинается с росстани, а определяется ею. Причем образ пути-дороги уже сам по себе символизирует судьбу. Реликты подобных представлений поныне сохраняются в обыденной речи: «беспутный», «сбился с пути», «нет пути» и пр.Сакральные знаки росстани
Концентрация верований связана с перекрестком, который, как правило, отмечен особыми сакральными атрибутами. Именно здесь нередко локализуется мифический камень Латырь (Алатырь, Олатырь):
Рис. 18. Старообрядческие намогильные кресты. Поморье
И все же основная функция общефольклорного образа камня, по мнению исследователей, — быть границей между мирами[2101]. Вспомним, например, такой эпизод сказки: братья, отвалив в сторону лежащий на росстани камень, обнаруживают под ним пропасть, в которую и спускают Ивана-царевича. В результате, как оказалось, герой попадает в «подземельно царсво», «на тот свет». С помощью чудесной птицы Ивану удается подняться к «дыре» между мирами и вернуться «на этот свет»[2102]. Согласно другой версии, потусторонний мир находится на крутой горе, стоящей на перекрестке. Ведущая туда лестница показывается лишь тому, кто может забросить на вершину горы камень весом в полтораста пудов[2103]. Причем слитность представлений о горе и росстани подчас реализуется в синкретическом образе Росстань-горы[2104]. Приравнивается к сакральному камню и фигурирует вместе с ним или самостоятельно дерево, стоящее на распутье. В одной из эпических песен это береза, особо почитаемая в русской традиции:

Рис. 19. Срубец (надмогильное сооружение). Прорисовка
Функционально тождественным дереву и камню в фольклорно-этнографической традиции является столб: «Вот отправились царевичи в путь-дорогу, приезжают к столбу, от которого идут три дороги (курсив мой. — Н. К.)»[2107]. И камень, и столб приравниваются в народных верованиях к алтарю (престолу) и даже к самому божеству (Богу, Богородице, святому), о чем свидетельствуют, в частности, заговоры: «На Сионских горах, на синих морях, на желтых на песках, на тридесяти ключах лежит бел камень гладк. На том на камне стоит столб Христов престол. На том на престоле сама Мать Пресвятая Богородица (курсив мой. — Н. К.) опочивает»[2108]. Согласно этнографическим сведениям, на распутьях или «на путех» и межах некогда стояли столбы, древесные обрубки, чураки, чурбаны, в буквальном смысле неотесанные болваны. Такой чурак воплощал умершего предка семейно-родовой общины, пращура. Одновременно он знаменовал границу ее владений — кон. Мимо этого столба-чурака ни конный не проезжал, ни пеший не проходил, не принеся какой-либо жертвы или, во всяком случае, не перекрестясь[2109]. Возможно, признаки подобных архаических столбов сохранились в старообрядческих намогильных резных «столбцах» («голбцах», «теремцах»), представляющих собой врытый в землю столб с двускатной кровлей, который нередко имеет явные антропоморфные признаки[2110]. Не случайно в наименованиях частей столба («фигуры») различают оглавок (оглавье, оголовье), очелье и изножье[2111]. (Заметим, что аналогами этим столбам или камням являются античные гермы — столбы, установленные на дорогах из Афин и отмечающие места погребений.) Другие же намогильные памятники — «срубцы» (это невысокие прямоугольные срубы с двускатными кровлями) — представляют собой по сути одно из промежуточных звеньев между столбом и часовней.

Рис. 20. Придорожная часовня (прорисовка). Русский Север
Подобный столб мог заменяться крестом. Впрочем, и само пересечение дорог — перекресток образует крест и даже называется «крест». Характерно, что тот самый знак, который со временем стал неотъемлемым атрибутом христианства, первоначально был связан с языческими верованиями: он служил символом скрещения путей[2112] либо являлся геометризованным вариантом мирового древа[2113], причем одно не исключает другого (относительно происхождения креста есть и иные точки зрения[2114]). Во всяком случае, даже собранные в наши дни полевые материалы подтверждают тождество семантики и взаимозаменяемость столба (дерева, камня) и креста, равно как и соотнесенность их с перекрестком. Так, в селе Спасская Губа (Карелия, Кондопожский р-н) нам рассказали: «<…> дак где вот дороги идут — и туда, и туда, и сюда, дак там крест стоял, роспись была, что это благословили в дорогу <…>. У нас один столб был <…>, и там тоже иконка (курсив мой. — Н. К.) была»[2115].

Рис. 21. Столбик-часовенка (прорисовка). Холмогорье
С усилением христианства такие объекты языческого культа, как камень, гора, дерево, столб, были совмещены с атрибутами христианства, например, с иконой, либо вытеснены последними,например, крестом с иконой, а то и часовней:
Росстань как символ судьбы
Мокошь, св. Параскева Пятница, иногда Богородица или другие персонажи в известном смысле приравниваются к Алатырю, «бел-горючу камню», дереву типа «сырого дуба Невида», а то и просто к обрубку-столбу. Им, локализованным на перекрестке, принадлежит и вещая роль. Слово судьбы может произноситься, нередко передаваясь через посредника. Так, в «Допросе» некоего Сенки Затикова от 21 января 1701 г. содержится рассказ этого крестьянина, перенявшего его от отца: «дряхлой и велми престарелой и слеп очми иноземец Волхв», ударив «смолной толстой не малой пень», стоявший при дороге, «подпиральным своим батогом», по сути магическим жезлом, стал произносить пророчество относительно судьбы города Выборга[2118]. Однако со временем предсказание чаще пишется: в сказке — на столбе, в былине — на камне. Надпись, которую прочитывают на них эпические герои, — это формулы судьбы. Согласно народным верованиям, доля дается каждому человеку или только при рождении, или же трижды: при рождении, браке, смерти. Так проявляет свое господство фатум, рок, участь. Надпись на камне или столбе (кстати, определенные популярные сентенции имеются и на упомянутых выше гермах) вызывает ассоциации с книгами родословия, с книгами судеб. Так, среди памятников «отреченной» литературы известна по крайней мере с VI в. «Эпистолия о неделе». Обращают на себя внимание прежде всего те ее редакции, где послание падает с неба в камне (в греческих и русских текстах) либо начертано на дске или дсках[2119] (эквивалент столбу). Книгой рода является словенский «Рожденик», в котором записывается судьба каждого появившегося на свет. Все, что там предназначено, считается «на роду (т. е. при рождении. — Н. К.) написанным», миновать чего невозможно. Таков же и русский «Шестодневец», по которому узнают свое будущее[2120]. С усилением христианства решение судьбы переносится на Бога. Теперь, по легендам, книга судеб в его руках: «Бог и писал, и ковал, кому где буде смерть. У него книга така толста»[2121]. Вариант: ангел пишет судьбу каждого при рождении[2122]. Да и «Эпистолию о неделе», согласно христианизированной версии, приносят с неба ангелы. Предопределение будущего в форме придорожной надписи, которое герой сказки узнает чаще по достижении брачного возраста, а герой былины — на старости, по сути эквивалентно словам судьбы, произнесенным мифическими существами в момент рождения или в один из переходных моментов в жизненном цикле определенного персонажа. Не случайно надпись на камне или на столбе предвещает, судя по завершению главного действия героя (третьей поездки), из-за которого и разворачивается весь сюжет, в сказке прежде всего брак, а в былине смерть:
Рис. 22. Крест на росстани. Село Кереть. Поморье
На грани миров
Представления о соотнесенности перекрестка со смертью — похоронами — потусторонним миром особенно отчетливо, как это ни удивительно, обнаруживаются в некоторых исторических песнях и балладах. Так, герой, почуяв приближение смерти, просит перевезти его «на ту сторону, на белый камешек», где и «стал скончатися»[2125]. Вождя (часто Степана Разина) или просто доброго молодца хоронят «промеж трех дорог» под горючим камнем или крестом, часовней, что в плане семантики одно и то же:«Хозяева» росстани
На перекрестке, причем независимо от того, маркирован он какими-либо сакральными знаками или нет, потусторонний мир, согласно быличкам, бывальщинам, поверьям, так или иначе дает о себе знать. Не случайно росстань — излюбленное место контактов ведьм, колдунов, знахарей со всевозможными мифическими существами, и прежде всего с духами-«хозяевами», представленными то светлыми божествами, то вредоносной нечистой силой: «У-у-у! У-у-у! Все вы и байные, и рижные, водяные и болотные, полевые и озерные, лесные и местные, и все, все, все…»[2137]. Или: «все черти, водяные, болотные, банные, овинные, лесные»; «лешие лесные, болотные, полевые, все черти, бесенята»; «черти <…>, дьяволёнки <…>, бесенки <…>, нечистые духи»; «черти всяких родов»[2138]. Но чаще на контакт здесь вызывают конкретное мифическое существо, на формировании образа которого сказались дуалистические представления: «Леший красный, леший черный (курсив мой. — Н. К.), приходи ко мне, приводи милого!»[2139]. И все же в вопросах, заданных этим персонажам, подчас обнаруживается синкретизм их образов, полисемантизм их функций: «Не пугайте, скажите мою судьбу»; «Скажите, в чем моя судьба»[2140]. Одним словом, в образе духов-«хозяев» как языческих божеств, почитание которых уходит своими корнями в культ предков, вплоть до тотемных, хотя им не ограничивается, заметны и рудименты образов божеств судьбы. По мере развенчания былых языческих божеств они все чаще вытесняются аналогичными, но уже дискредитированными существами, сниженными до уровня персонажей-антагонистов. Отсюда — появление на росстани «заложных» покойников, а еще чаще чертей, бесов и даже дьявола. И вся эта «сила нездешняя» норовит заполучить человеческую душу или, по крайней мере, совершить некие злокозненные деяния, а то и просто напомнить о себе. Вместе с тем и духи-«хозяева», и их развенчанные дублеры имеют некоторые признаки предвестников судьбы, хотя эта роль не является для них превалирующей. Во всяком случае, она не является таковой ни для одного из названных персонажей. Эту функцию они, скорее всего, отчасти унаследовали, а отчасти разделили с некими исчезнувшими (или почти исчезнувшими) из традиции мифическими существами, олицетворяющими прирожденную судьбу. О том, что вера в предопределение, рок была сильной даже в XVI в., свидетельствует Стоглав: «<…> ее иже последуют поганским обычаям, и к волфом (волхвам) и ко ябедницам (вариант: обавникам) ходят, или в домы своя тех призывают, хотяще уведети от них некая неизреченная <…> и веруют в родословие (вариант: в родословие рекше в рожданицы) (курсив мой. — Н. К.)» (Стоглав. Гл. 93). Рудиментарные признаки божеств судьбы можно обнаружить, например, в образе другодольных удельниц, или просто удельниц, мифологические рассказы о которых были, в частности, зафиксированы в Заонежье Е. В. Барсовым. Эти женские персонажи, черные, с длинными распущенными волосами, появляются именно на росстанях, и такой их обычай «ведется от древности»[2141]. Другодольная удельница представлена в данном случае уже как сниженный, вредоносный дух, ведающий младенцами: она может вынуть ребенка прямо из утробы матери, изуродовать его или подменить новорожденного мифическим существом, принявшим облик последнего. Изначально же этот женский персонаж соответствовал славянским божествам-рожаницам, которые содействуют родам, покровительствуют младенцам и управляют человеческой судьбой[2142]. Семантика этого персонажа выявляется и из самого его названия другодольная удельница: доля значит «участь», «судьба», «рок» (характерно, что само слово «бог» первоначально имело значение «доля»[2143]); удел — «судьба», «рок», «участь», «доля», «счастье» или «несчастье», а также «предназначение», «предопределение». Соответственно тот женский персонаж, который дает человеку удел, долю как предназначение, и есть удельница. Известны и другие мифические существа, соотнесенные с росстанью и судьбой. Например, в одной из украинских сказок женщина приносит на распутье горшки с борщом и кашей; положив сверху «чистеньку ложечку», она кличет Долю «вечеряти» — та после третьего зова приходит[2144]. Причем, согласно некоторым вариантам данного сюжета, Доля, съевшая всю кашу, по сути является Недолей, а опрокинувшая горшок с едой осмысляется как счастливая и богатая Доля: «ны хоче й каши исты»[2145]. Характерно, что во власти этого мифического существа наделить человека судьбой и — соответственно — предсказать ее гадающему: «В старину в полночь под Новый год ходили на перекрестках дорог слушать Доли. Раз собрались четыре человека и пошли слушать Доли. Пришли туда, где две дороги перекрещивались, и стали накрест по концам дорог. Вдруг перед каждым из них явилась его Доля и говорит, кому чем придется заниматься. Одному сказала: „ты будешь чумаковать“; другому: „ты будешь купцом“; третьему: „ты будешь хлеборобом“, а четвертому: „ты будешь разбойником“. И действительно, каждому пришлось заниматься тем, что было ему предсказано его Долей (курсив мой. — Н. К.)»[2146]. Женские персонажи с признаками божеств судьбы взаимодействуют с другими, в большей или меньшей степени себе подобными, отчасти трансформируясь под их влиянием, отчасти сливаясь с последними или вытесняясь ими. Связанные с росстанью женские персонажи обычно изображаются с длинными волосами (знак средоточения жизненной силы) и с большими грудями (знак плодородия). В дошедшей до нас фольклорной традиции это чаще всего русалки. Они могут быть лесными, полевыми, водяными, домашними, а значит, они ни те, ни другие, ни третьи, ни четвертые. Образ этих мифических существ чрезвычайно многозначен и многослоен. Помимо всего прочего, русалки имеют некую власть над умершими младенцами. Не случайно на четвертый день (в четверг) Русальной недели матери поминают своих умерших детей, принося им мед (соты) на перекресток дорог[2147]. В этом свете русалки (или родственные им мифические существа) предстают как покровительницы младенцев, уподобляясь божествам судьбы. Развитие идеи судьбы, родовой, прирожденной, А. Н. Веселовский усматривает в представлениях южных славян о вилах, самовилах (в самом их названии закодирована идея витья, носящего магический характер), которые соответствуют восточнославянским русалкам[2148]. В свою очередь Ю. Миролюбов[2149], Б. А. Рыбаков[2150] связывают русалок с Мокошью, осмысляемой, в частности, как богиня судьбы, прародительница рода. Напомним, что ее капища (позднее часовни, посвященные Параскеве Пятнице) устраивались в древности именно на распутье. Вот почему русалки, как и Мокошь, устойчиво соотнесены с пряжей, холстом[2151], уподобляясь божествам, прядущим нить судьбы[2152]. В процессе бытования народных верований и связанных с ними фольклорных произведений роль божества судьбы оказалась распределенной между удержавшимися в традиции персонажами, которые при этом не утратили других, присущих именно им функций. Объединяющим началом для формирования этих персонажей послужили и культ предков, и культ мертвых. Не случайно в древнегреческой мифологии персонажем, связанным с намогильными знаками — гермами и даже носящим производное от их названия имя (оно обозначает «груда камней» или «каменный столб», которыми отмечались в древности места погребений), является не кто иной, как Гермес — покровитель путников, проводник душ умерших, медиатор между мирами — жизни и смерти, равно как и посредник между богами и людьми, и, наконец, вестник богов[2153]. Так кто же, если задавать вопрос словами пудожского заговора, этому месту житель, настоятель, содержавец? Ответ не может быть однозначным. В образе «жителя» росстани воплотились в различных сочетаниях и пропорциях разновременные представления, связанные с культом предков и с культом мертвых, с почитанием духов-«хозяев» и их развенчанием. В этом персонаже сконцентрировались архаичные представления о соотношении миров, «того» и «этого», о возможности контактов между ними и о смерти как предпосылке к новому рождению, обеспечиваемому посредством соблюдения определенных обрядов с использованием атрибутов, ставших со временем знаками-символами. В образе «настоятеля» и «содержавца» росстани обнаруживаются и рудиментарные признаки божеств судьбы, роль которых, впрочем, взяли на себя в процессе бытования иные, сопредельные, сохранившиеся в традиции мифологические персонажи. На пересечении разновременных, разнородных и противоречивых представлений о предопределении, неотвратимости судьбы и вместе с тем о возможности ее преодоления, реализации права свободного выбора и формируется многозначный символический образ росстани, где погружаются в раздумье о предстоящем эпические, сказочные, песенные герои (вспомним сюжет «витязь на распутье») и где являют свою магическую силу персонажи мифологической прозы — ведуны всех уровней и специализаций. Здесь они предопределяют, программируют и корректируют судьбу человека в целом и в частных ее проявлениях. И содействуют им в этом персонажи-посредники: речь идет о мифических существах, для которых росстань — излюбленное место нахождения и проявления своей могущественной магической силы.Рукодельницы: магия прядения, вязания, плетения
К особой категории «знающих» в мифологической прозе причисляются и всевозможные рукодельницы, так или иначе манипулирующие нитью и полотном, ставшими кодовыми знаками в народной культуре. В этой роли подобные персонажи уподобляются самой Пенелопе:Гомер. Одиссея. 11. 104–105.

Рис. 23. Пенелопа у ткацкого станка. Фрагмент росписи античной вазы
Казалось бы, обытовленный эпизод. Но сколь явственно проступают в нем изначальные признаки мифологемы. Образ Пенелопы, как и типологически сходных с ней героинь, несомненно, унаследовал свойства неких еще более архаичных персонажей, удел которых — прясть и ткать, вить и плести, вязать, шить и вышивать и пр. Образами таких рукодельниц (подчас это и мужские персонажи) насыщен весь мировой фольклор, вербальный и изобразительный. Они встречаются в произведениях различной жанровой принадлежности: в сказке, заговоре, песне, частушке, пословице, поговорке, загадке и т. п. Но особенно ощутимо присутствие этих персонажей в быличках, бывальщинах и поверьях. Оно же закодировано и в соотнесенных с ними обрядах, обычаях, верованиях.
Постановка вопроса
Образы мифических существ, основное занятие которых — прядение, плетение или ткачество, неизменно привлекали внимание ученых. В той или иной связи, попутно с решением основных исследовательских задач, о них писали А. Н. Афанасьев, А. Н. Веселовский, В. В. Иванов, Ю. Миролюбов, А. А. Потебня, Б. А. Рыбаков, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, О. А. Черепанова и другие[2154]. Если названные исследователи основывались преимущественно на русском и — шире — славянских материалах, то М. С. Андреев обнаружил аналогичные персонажи в этнокультурных традициях Средней Азии[2155]. Однако выявление в поздней русской и — шире — славянской традиции всей совокупности персонажей, преемственно связанных с образами божеств судьбы и обнаруживающих себя не только в различных собственно мифических существах, но и, казалось бы, в реальных деревенских рукодельницах, подчас в колдуньях и ведьмах, по сути предпринимается нами впервые. Для достижения этой цели потребуется воссоздание и прочтение единого, так сказать, фольклорного замысла в его соотнесении с дошедшими до нас обрядами и верованиями.
Рис. 24. Богоматерь. Икона из собрания Эрмитажа (прорисовка)
Без решения этих задач останутся неразгаданными многие фольклорные, этнографические и литературные коллизии. В самом деле, какая связь между плохой жизнью молодых и тем странным случаем, произошедшим на их свадьбе, когда хромая девушка, пересекая дорогу свадебному поезду, где сидел в качестве жениха изменивший ей парень, «цкала» при этом нитки[2156], т. е. скала, скручивая шерсть в нитку, как при прядении? Или почему у невесты, на которую «сторож» (знахарь), обмыв ее в свадебной бане, надевает пояс с несколькими узлами, завязанными им с нашептываниями, должно родиться такое же количество сыновей[2157]? Или как следует понимать соотнесенность рукоделия с промыслом Божиим, которая провозглашается самим «Домостроем»? Вот что говорится в нем по этому поводу: «И по времени и по детем смотря и по возрасту учити их рукоделию <…> кто чему достоит, каков кому просуг даст Бог (курсив мой. — Н. К.)»[2158]. И, наконец, вне контекста, маркированного образами чудесных рукодельниц, останется непонятным и ряд сюжетов в иконографии. Почему, к примеру, Богоматерь, получившая благую весть от архангела Гавриила, изображается на иконе «Благовещение» сидящей с веретеном и прядущей пурпуровые нити? И как следует понимать апокрифическое сказание, повествующее о том, что еще раньше Мария была по жребию избрана в число семи непорочных девиц, которым предстояло спрясть пурпуровые нити для храмовой завесы[2159]?
Духи прядущие (ткущие, вышивающие и пр.)
Различного рода рукодельницы по сути дублируют магические действия мифических существ, а их образы восходят к соответствующему архетипу. Ведь в качестве прядущего духа в быличках и бывальщинах нередко выступает домовой[2160] (дворовой; вероятно, и баенник, некогда составлявший с домовым синкретическое единство). В данной своей ипостаси он осмысляется в первую очередь как мифический предок-родоначальник, коллективная душа определенной семейно-родовой общины. Причем в архаичной севернорусской традиции в этой роли чаще фигурирует женский персонаж: «Вот я раз ноцью выйтить хотела, встала, смотрю, месяц светит, а на лавки у окоска доможириха сидит и все прядет, так и слышно нитка идет: „дзи“ да „дзи“, и меня видала, да не ушла»[2161]. К числу прядущих, шьющих домашних духов относится и мара. В русских поверьях она редко принимает зооморфный облик (курицы, мыши, змеи), но чаще «блазнится» маленькой старушонкой. Осмысляясь в качестве пришелицы из иного мира, это «запечельное» существо, подобно другим духам, появляется лунной ночью. Это призрак, привидение, наваждение. Согласно разысканиям Ю. Миролюбова, в образе мары можно обнаружить признаки богини смерти: она забирает покидающую тело душу, которая со временем вновь сходит на землю, воплощаясь для очередного жизненного цикла[2162]. Именно об этой маре рассказывают, будто она сидит на печи и прядет по ночам пряжу, что-то шепча и подпрыгивая. Ее же видят за самопрялкой. Мало того, мара сама может принять (и это показательно) вид колеса[2163]. Иногда она путает и рвет кудель, пряжу, что также служит определенным знаком-символом.
Рис. 25. Резное антропоморфное изображение на навершии прялки. Деревня Лопшеньга. Архангельская обл. (прорисовка)
В качестве прядущего, ткущего, плетущего, вяжущего и шьющего существа в мифологических рассказах и поверьях фигурирует и кикимора (шишимора), отождествляемая с марой. Она также связана с курами и курятником. Но чаще имеет вид младенца, девушки или женщины, с распущенными волосами, а то и уродливой старухи, скрюченной, горбатой, хромой, усохшей, малорослой, неопрятной[2164], что свидетельствует о принадлежности ее к силам хаоса. Основу веры в кикимор составляет культ мертвых, производный от культа предков. Так или иначе обычное занятие этого персонажа — прядение: «Как завидела, что все в избе полегли спать и храпят, она подошла к любимому месту — к воронцу <…>, сняла с него прялку и села на лавку прясть. И слышно, как свистит у ней в руках веретено на всю избу и как крутятся нитки и свертывается с прялки куделя»[2165].

Рис. 26. Мокошь и Параскева Пятница. Резное дерево
С марами, кикиморами, которым приписывается роль мифических рукодельниц, сближаются русалки. В их образе слились воедино представления о водяных, лесных, полевых, домашних женских мифических существах, равно как и о «заложных» (умерших неестественной смертью) покойниках. Русалки манипулируют нитками, пряжей, холстом (полотном, полотенцем). Они любят прясть или разматывать пряжу[2166]. При этом напевают себе под нос песни, что напоминает нашептывание мары или монотонные речи домового, имеющие, несомненно, магический смысл. С этими же атрибутами появляются и некие «лесные жёны»: они дарят людям клубок ниток, который, сколько бы его ни распускали, никогда не убавляется[2167]. Мастеровитой на все руки оказывается также известная в некоторых локальных традициях «комоха» (варианты: камаха, кумоха, кумаха). Это мифическое существо, в котором персонифицируется болезнь, преимущественно лихорадка, не только прядет, но и режет ножом, точит и т. д. — одним словом, владеет разными инструментами и ремеслами[2168]. Функции прядущего духа, а заодно и некоторые другие роли, присущие персонажам низшей мифологии, взяла на себя в процессе становления общерусского пантеона богиня Мокошь, упоминаемая в начальной русской летописи под 980 г. Ее идол стоял в Киеве на вершине холма рядом с кумирами Перуна и других богов. В самом имени Мокошь В. В. Иванов, В. Н. Топоров усматривают возможную связь с «mokos», что значит «прядение»[2169]. Со временем этот персонаж, будучи заново освоенным фольклорно-этнографической традицией, в сущности возвращается в круг персонажей низшей мифологии. По единодушному мнению исследователей, продолжением Мокоши является Мокоша или Мокуша. Сущность ее выражена в приговоре-запрете: «Не оставляй кужля, а то Мокоша опрядет»[2170]. То же занятие приписывается ей и в мифологических рассказах: когда все уснут, слышно, как урчит веретено — это Мокуша прядет шерсть; выходя же из избы, она так и щелкнет веретеном о брусок, о полати[2171]. Позднее, с усилением христианства, в русской фольклорной традиции сформировался такой персонаж, как Параскева Пятница. Теперь именно она стала осмысляться в качестве покровительницы прядения, ткачества и вообще домашней работы. И наоборот: в рамках этого образа произошло «оязычивание» святой, архаизация ее облика. Вот почему двойником Параскевы оказалась баба Середа, которая, так же как и Пятница, персонифицируя определенный день недели, покровительствует рукоделию: помогает прясть и белить холсты. Схожи с этими персонажами и украинские Нички — мифические женские существа, прядущие ночью, особенно по пятницам, оставленные бабами кудели[2172]. Культу Пятницы соответствует в украинской же традиции и почитание Недели (персонификация воскресенья), также связанной с прядением[2173]. В иных этнокультурных традициях подобные мифические существа могут носить имена, связанные с названиями других дней недели. Так, в Средней Азии это чаще всего Биби Се-Шамбе (госпожа Вторник); в некоторых традициях — Биби Чор-Шамбе (госпожа Среда), а у турок — Першамбе-Кары (Женщина-Четверг)[2174]. Одним словом, изначально каждый день недели персонифицировался в мифическом существе, так или иначе связанном с прядением либо ткачеством. Семантика связи мифической рукодельницы с определенным днем (сутками) обнаруживается при этимологических исследованиях. Согласно разысканиям Л. В. Савельевой, выясняется, что слово «сутки», будучи однокоренным с глаголом «ткать», обозначает «то, что соткано»[2175]. В свете этого суждения раскрывается глубинный смысл известных стихов из эпопеи «Шах-наме» Фирдоуси:

Рис. 27. Святочная маска (РЭМ). Прорисовка (по Л. Ивлевой)
Если же в качестве рукодельниц выступают русалки, существует запрет на прядение в Русальную (граную, кривую) неделю[2187]. Этот отрезок времени, так же как и предшествующая ему семицко-троицкая неделя, отмечен знаком перехода («порога») от весны к лету. Примыкая к комплексу семицко-троицкой обрядности, известному в народе как «зеленые святки»[2188], Русальная неделя носит сакральный характер. Именно после Троицы русалки выходят из воды и бегают по полям и лесам. Простым смертным нельзя прясть и в день, находящийся под покровительством мифической рукодельницы. В качестве адекватного ей персонажа иногда выступает домовой: он наказывает женщин, которые пряли в пятницу или накануне ее[2189]. Со временем в роли блюстительницы правил прядения и налагаемых при этом запретов выступает и сама «матушка Прасковья» (Параскева Пятница): «своим непочетницам-бабам может засорить глаза куделью и намыкою от пряжи»[2190]. Вариант: «<…> вдруг атварилась дверь и входит, вишь, матушка Пятница вочью всем, в белом шушуне, да сердитая такая! И шмых(г) пряма к бабе, ще пряла-та. Набрала в горсть кастрики с пола, какая атлятала-та ат мочек, и ну пасыпать ей глаза, и ну пасыпать! Пасыпала да и была такава: поминай как звали! Ничаго и ня молвила, сярдешная»[2191]. Подобно тому, как прядущих в пятницу постигает кара от Пятницы, так и в других этнокультурных восточнославянских традициях работающих в среду прях наказывает баба Середа, а в воскресенье — Неделя. В Средней Азии нарушительниц запрета ждет то же самое во вторник от Биби Се-Шамбе и т. д. Названные дни (и особенно полночь) отводятся для рукоделий мифических существ. Факты, свидетельствующие о том, что в запретное время прядут или ткут сами покровительницы этих работ, подобные Пятнице, приводит, в частности, А. А. Потебня[2192]. Действие происходит обычно в избе, реже — в бане, где, согласно одной из бывальщин, появляется на время «домаха»: «Хозяйка забиваитца кросны ткеть, тольки цеўка завизжить у чiўнаку, як ина пракидываить — так и гримить, як ина прибиваить дужа бердами»[2193]. Совмещение избы и бани, осмысляемых как языческое капище, вполне закономерно: первоначально четырехугольный сруб служил у многих народов одновременно и жилищем, и баней. И потому культы домашних духов связаны с той и другой постройкой[2194]. В некоторых локальных традициях пытаются прясть в банях и русалки[2195]. Однако обычно они занимаются рукоделием в лесу, осмысляемом в народных верованиях как граница между мирами. Какой же материал используется в этом мифическом прядении? Чаще всего шерсть: «<…> ночью-де надо в полночь выйти, он-де там — чик-чик-чик-чик-чик-чик — прядет шерсть-от, дак спина вся обглодана, шерсти нету у овец»[2196]. (В данном случае речь идет о дворовом.) Впрочем, кикимора или мара (напомним, им подчас приписывается куриный облик или связь с курами) может стричь именно этих птиц или выщипывать у них на голове перья[2197]. А Мокоша норовит выстричь немного волос у самих хозяев, хотя использует для прядения и овечью шерсть[2198]. Характерно, что сама мифическая пряха способна воплотиться в некое средоточие шерсти или волос. Так, в сербской мифологии мора оборачивается длакою (шерстью, клоком волос)[2199]. В русской же традиции мифическоесущество все в шерсти, волосатое. Как видим, волосы, шерсть, перья в народных верованиях осмысляются одинаково. К ним приравниваются пряди льна и конопли, обозначенные в языке тождественными выражениями. Не случайно Неделя уверяет прях, что они прядут не лен, а ее волосы. Отличительным же признаком немецкой Берты (Гольды) служат длинные льняные волосы. Вместе с тем для плетения и вязания, помимо названных материалов, используется, подобно пряже, и «плоть» дерева. Если волосы, шерсть, перья, а также приравненные к ним материалы служат вместилищем жизненной силы, физической и магической, то выпряденная из них нить осмысляется в соответствии с мифологическими представлениями как нить жизни. Одновременно это материализация неких пространственно-временных и нравственных категорий, о чем свидетельствуют, в частности, пословицы и поговорки: «Этой нитке конца не будет»; «По нитку рубеж»; «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке» (ср.: «жизнь на волоске»). Эквивалентна нити веревка: «Сколько веревку ни вить, а концу быть»[2200]. В свете изложенных представлений совершенно очевидно, что процесс прядения, ткачества, плетения, имея магический характер, определенным образом воздействует на человеческую жизнь и все мироздание. Вот почему в час, когда берется за рукоделие дух, простым смертным выполнять эту работу нельзя. Если же в урочный час кто-то из них нарушит запрет и сядет за прялку, ткацкий станок и т. д., последствия не заставят себя долго ждать. (Быть может, из этих верований и ведет начало дошедший до наших дней запрет на работу в праздничные и выходные дни: согласно Новому Завету, посвященным Богу стало воскресенье.)

Рис. 28. Пряха. Фрагмент росписи прялки. Пермогорье Вологодской обл. (прорисовка)
Мифологические рассказы и поверья о нарушителях правил рукоделия довольно разнообразны. Однако смысл их по сути один: нарушение запрета непременно скажется на людях или домашних животных. Например, у прядущего в Святки колтун совьется в волосах[2201] или в его хозяйстве ягнята родятся кривоногими[2202]. А у слюнявящего, к тому же, нитки во время прядения шерсти будут «слюницца» коровы и овцы[2203]. В другом случае из-за бабы, которая пряла в Святки да еще смочила нитку, «волы будут пешить, когда мужик выйдет пахать в поле»[2204], т. е. он останется без волов. В такое время небезопасно и шить — дети или домашние животные могут родиться слепыми[2205]. Нельзя в этот период вить веревки, скручивать нитки, сматывать их в клубок, связывать и завязывать узлы, плести, гнуть, городить и т. д. Иначе подобными действиями можно нечаянно вторгнуться в процесс рождения, что незамедлительно скажется на младенцах и на приплоде домашних животных: они будут рождаться кривоногими, слепыми, одним словом, со всякими дефектами[2206]. Нарушитель запретов может нечаянно повлиять и на погоду. Прядущий под Новый год (здесь имеется в виду мартовский) возвратит зимние холода: слюнявя лен или пеньку, он «отслиниць замурованную зиму»[2207]. Те же последствия могут ждать и работающих в Русальную (граную, кривую) неделю. Русалки гневаются на всякого, кто берется в это время прясть шерсть, ткать, вить, крутить, городить и т. д. Нарушителей запрета непременно согнет в дугу. А их дети родятся уродами[2208]. Например, рассказывают, что отец на граной неделе «заверты гнуў» — и потому сестра Авдотья родилась с согнутой ногой[2209]. Та же участь постигает и приплод скота. У одного из мужиков ягненок родился с согнутыми ножками: его хозяин в граную неделю делал рогач для сохи[2210]. Нарушение запрета сказывается и на поведении животных. Так, у прядущего шерсть в Русальную неделю овцы будут «кружиться»[2211], а у некоего Платона цыплята «крутились», пока он «лыки вертел»[2212]. У мужика же, который гнул обручи вокруг пня, телка все это время ходила по кругу. Рассказывают также, что в то самое время, когда некая Адарка Журавцова сновала кросны, бык ходил, опустивши голову, от одного угла к другому[2213], как бы воплощая метафору загадки о ткацком станке. Как видим, в процесс магических действий, выраженных в форме рукоделий и соотнесенных прежде всего с рождением и смертью, случайно вторгаются обычные люди, не владеющие тайными знаниями, не подозревающие о последствиях производимых ими действий, не понимающие скрытый смысл вещей и их невидимую связь друг с другом. В результате нарушается равновесие в мироздании. В его устройство вторгаются силы хаоса, внося сюда асимметрию и дисгармонию. Впрочем, по словам рассказчиков, нарушение запрета может остаться без последствий, если сам не вспомнишь, что работаешь, например, в Русальную неделю или кто-нибудь тебе об этом не напомнит. Если силы хаоса все же дали о себе знать, нужно попытаться восстановить нарушенную гармонию. Для этого существует одно средство: рассечь на части вещи, изготовленные посредством витья в запретное время[2214], и вернуть мироздание к исходному состоянию.
Ведуны как восприемники-дублеры прядущих духов
Тайный смысл действий, связанных с различными рукоделиями и их атрибутами, известен лишь «знающим» людям, колдунам, знахарям. О существовании подобных рукодельниц еще в Древней Руси свидетельствуют археологические находки. Так, в одном из киевских кладов, зарытых во время нашествия Батыя, среди дорогих княжеских вещей из золота и серебра находилось пряслице для веретена, надпись на котором указывала на принадлежность этого предмета какой-то чародейке из ближайшего окружения киевской княгини конца XII — начала XIII в.[2215] Тайные знания-«хитрости» хранились в традиции веками, иначе не объявилась бы в 1742 г. колдунья, ничем не отличающаяся от древнерусской. Дело П. Я. Янушевской слушалось в Дубенском суде. Суть обвинения: ответчица, запрятав веретено, перевязанное красной лентой, в целебные травы, незаметно освятила его в церкви; это веретено она собиралась употребить в своих колдовских целях. А несколько ранее, в 1710 г., в Каменецкий городской суд была подана жалоба на жену священника Бабиженко. Священник Ставицкий изобличал «колдунью» в том, что она, угрожая смертью его жене, прошлась несколько раз у их дома, потряхивая веревкой[2216]. Колдуны или знахари занимались осознанными и целенаправленными манипуляциями с куделью, пряжей, нитью, веревкой, с разными изделиями из них или же атрибутами рукоделия. Аналогичные действа совершали и исполнители магических или мантических обрядов. Вот одно из святочных гаданий: прядут «наопак» (наоборот) две нити (одна для жениха, другая для невесты) и пускают их недалеко друг от друга в воду, налитую на сковороду. Если нити сойдутся вместе и «завьются», влюбленные соединятся брачными узами, и наоборот, если нити разойдутся — свадьбе не бывать[2217]. Отсюда выражение «связать свою судьбу». Идея нити-судьбы воплощена даже в частушке, где фигурируют прялка, веретено и как результат прядения — нить; ее, рвущуюся, пряхе удается связать, чтобы судьба сложилась, чтобы совместная жизнь удалась:
Рис. 29. Прялка с куделью, приузом и спицей. Южная Карелия
В гаданиях используются и другие, близкие по своей символике предметы. Например, льняная пряжа или пакля. Ею обвивают один из концов лучины, другой конец которой втыкают вертикально между половицами (в западнославянской традиции нити из льняной пряжи в аналогичном обряде свисают с потолка[2220]). Лучину зажигают. Догорая, она наклоняется в ту или другую сторону — оттуда и следует ждать суженого[2221]. Вариант: когда намотанная на лучину и зажженная кудель догорит, замечают, куда полетят ее остатки: к дверям — скоро будут сваты, в сторону от дверей — тщетны ожидания[2222]. Иная версия: из кудели делают кружки в виде колец и в середине поджигают. При горении этого кольца замечают, где прежде покажутся «воротцы» — в той стороне замужем быть[2223]. Посредством кудели гадали и о характере будущей свекрови. Для этого наливали на сковороду воды, клали в нее камень, а на него — клочок кудели. Кудель поджигали и накрывали горшком. Если вода вбиралась в горшок быстро и с шумом, свекровь будет злой и сварливой, если же тихо, то умной и смирной[2224]. Атрибутами гаданий служили и изделия из пряжи, нитей — например, пояс (кушак). Новый шерстяной пояс кладут на божницу, приговаривая: «Пояс, пояс, покажи мне во сне суженого поезд!»[2225]. В другом гадании, чтобы узнать имя жениха, плели кушак и клали у порога в церкви, «в паперть где заходишь»[2226]. Предполагается, что первый переступивший через этот пояс носит имя суженого. И в данном случае нить, пряжа, из которой девушка плетет кушак, связана с ее судьбой.

Рис. 30. Каргопольский тканый пояс: а) прялки из Колодозера, б) Пудожь
Без нити не обходятся и обряды, связанные с любовной магией. Так, согласно заговору, зафиксированному в XVII в., для их совершения надо у присушиваемого «противо хребта в сорочке нитка взять»[2227]. Пряжу, нить, изделия из них колдуны и знахари используют и в семейных обрядах — например, в программировании жизни молодых. Согласно одному из свадебных обрядов, колдун, прежде чем вести невесту в баню, подает ей конец пояса. Совершив определенные магические действа, он вновь подает девушке пояс и ведет ее на полок. Перед тем как парить невесту, колдун перевязывает оставшейся частью пояса ей правую руку, правую ногу и грудь, приговаривая: «Ноги к ногам, руки к рукам, к грудине — на восток»[2228]. Такие манипуляции с поясом производятся для того, чтобы молодые, будучи мужем и женой, шли рука об руку, нога в ногу, не расходились и любили друг друга. А узлами на поясе, который надевается колдуном, как мы помним, на вымытую в свадебной бане и обтертую полотенцем невесту, программируется число ее будущих сыновей. Скручиванием же шерсти в нитку, совершаемым «знающей» именно при пересечении дороги свадебному поезду, моделируется пресечение жизни зарождающейся семьи или, во всяком случае, разлад в ней. Нить фигурирует и в родильных обрядах. Так, например, в севернорусских деревнях еще недавно использовались зыбки, на боковых стенках которых изображались извилистые нити. При этом на одной из торцовых стенок был нанесен знак-символ солнца, а на другой — восьмиконечный крест. (См. экспонат ПФ 259 из коллекций Пудожского государственного историко-краеведческого музея — Карелия.) Семантика этого изображения раскрывается посредством соотнесения его с древним обычаем: перед тем как уложить в зыбку новорожденного, ее окручивали нитками с прястня пряжи, спряденного с молитвой в Святки. Концы нити, снятой с веретена, а затем и с зыбки, связывали и клали под голову младенца. Эти магические действа призваны были обеспечить ему долгую и счастливую жизнь. Не случайно и изображенная на иконе Богородица, получив «благую весть» от архангела Гавриила: «<…> ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь ему имя: Иисус» (Евангелие от Луки. 1.30–32), — держит в руках нить красной пряжи с клубком и веретеном[2229], символизирующие зарождающуюся жизнь и предстоящее бытие. Роль нити (чаще тканых изделий — полотенец) обнаруживается также в похоронных обрядах. Вот почему в одной из сказок, носящей уже обытовленный, сниженный характер, жена опутывает нитями мужа, притворившегося покойником. Нить, к тому же красная, как символ жизни, фигурирует и в обряде «отведывания», или «отворачивания». Его совершали «знающие», когда пытались вернуть заблудившегося человека или пропавшее животное. Для этого обвязывали красной нитью «относ», завернутый в тряпочку (холст)[2230]. Здесь вспоминается та самая «нить Ариадны», точнее, клубок, разматывая который, заблудившийся Тесей нашел выход из лабиринта на Крите, где обитал чудовищный Минотавр. Идеей нити-судьбы пронизаны и некоторые обряды вселения в новый дом. Так, при первом вступлении в него («переходинах») распорядитель обряда через открытую дверь бросает в избу клубок ниток, а затем члены семьи, держась за нитку, переступают порог по старшинству. Или же хозяин входит «по нитке» вначале один, а затем, когда остальные члены семьи возьмутся за нее, он притягивает сородичей в избу[2231]. В мифологическом плане эквивалентна нити веревка. Это знак-символ общности судьбы людей, относящихся к определенному коллективу-верви. «Прядется не только нить, вервь и жизнь, но также составляется человеческий коллектив, община, в которой все опрядено одной нитью. Русская вервь как обозначение веревки, т. е. чего-то спряденного и ссученного, и общины реализует именно этот образ», — отмечает В. Н. Топоров[2232]. Образ веревки, как и нити, пряжи, обозначает и переплетенность поколений, когда-то живших и ныне живущих. Не случайно в сказке веревка — по сути дорога, по которой попадают в нижний (реже: в верхний) мир и возвращаются из него. Тот же смысл обнаруживается и в образе шнура. Имеется в виду, в частности, «четвергов шнурок», ссученный из ниток, спряденных справа налево до рассвета в Чистый (Великий, Страстной) четверг, а затем, после бани или обливания водой, надетый «знающим» на поясницу и запястья человека, совершившего телесное и духовное очищение. «Четвергов шнурок», по народным верованиям, способствует благоприятному продолжению человеческой жизни: он предотвращает болезни и защищает от вредоносных действий колдунов[2233]. Этот обряд иногда перерождается в девичий обычай. Девушки в Чистый четверг, до восхода солнца, прядут немного ниток левой рукой. Таким прядением они программируют дальнейшую судьбу. Привязывая изготовленные необычным способом нити вместе с лоскутками в Егорьев день на дерево, задумывают желание, которое должно непременно исполниться[2234]. Пряже (нити, веревке, шнуру) в мифологии соответствует человеческий волос, осмысляемый как средоточие жизненной силы (души). (Волосы в словаре В. И. Даля трактуются как роговые трубчатые нити.) «Смертная» женская рубаха, вышитая частично человеческими волосами, или вытканный саван, в который вплетены волосы покойного, — глубоко архаическое явление[2235]. В этих предметах воплотилась идея загробного существования и последующего возрождения. Тот же смысл в мифологии имеют и вещи, изготовленные посредством ткачества, — разнообразные холсты, полотна, и особенно украшенные узорами — «вычурами»[2236] (это наименование указывает на связь шитья, резьбы с Чуром — предполагаемым архаическим предшественником домового). Тканые изделия служат метафорой дороги, соединяющей миры, умерших предков и потомков. Понятия «дорога», «ткань», «полотенце», «платок» в мифологии тождественны, как эквивалентны и понятия «дорога» — «судьба»[2237]. Аналогичную семантику в обрядах и верованиях имеют и плетения. Об этом свидетельствует, в частности, фрагмент некоего древнего обычая, зафиксированный в Заонежье в 1931 г. В соответствии с ним икона (чаще Параскевы Пятницы) могла выступать в качестве языческого божества, покровительствующего рукоделию. Не случайно по одну сторону от нее висел челнок, с помощью которого плетется рыболовная сеть, по другую — нити двух сортов, уже намотанные на челнок. Под иконой, в щель лопнувшей стены, было воткнуто веретено с нитками[2238]. Быть может, обычай подвязывать жениху (невесте) под рубаху, на голое тело, в день свадьбы кусок рыболовной сети основан на сходных верованиях, хотя и осмысляется как оберег? (Ср. с севернорусским поверьем, согласно которому вместо пояса «лучше носить около живота <…> вязаные сеточки, так как из ниток их вывязываемы бывают молитвы»[2239].) О связи плетения с судьбой напоминает обычай, по которому было принято переносить паутину из старого в новое жилище. С семантикой нити тесно связана семантика узлов. Из разысканий Д. Д. Фрэзера (Фрейзера), предпринятых им в книге «Золотая ветвь» и работы Е. Н. Елеонской «Сельскохозяйственная магия»[2240] следует, что завязывание нити, согласно древним верованиям, противодействует свободному течению событий либо закрепляет некий благотворный акт. В одних случаях оно служит оберегом от вредоносных сил, болезней и смерти, в других оказывается средством от наслания порчи, особенно при родах и браке. В тех или иных целях используются разные нити. Они могут отличаться по своему составу (материалу): шерстяные, льняные, шелковые; по цвету: красные, белые, суровые, черные; по количеству: одна, три, более. Знаковым является и способ завязывания нитей: вокруг тех или иных частей тела либо крест-накрест. Нить, надетая на шею, со временем сменяется ожерельем; обвязанная вокруг кисти руки — браслетом; вокруг пальца — кольцом. Нити, охватывающей талию, эквивалентен пояс. Христианизированный обычай надевать священный предмет на шею придал вере в магическое значение нитей и узлов новое содержание. Узел-оберег сменился ладанкой, освященной молитвой. В обиход вошли четки в форме бус или шнура с узлами. Да и сами приспособления для рукоделий, согласно народным представлениям, заключают в себе определенный магический смысл. В севернорусских деревнях было принято в люльку девочки класть маленькую пряслицу-прялку, а в люльку мальчика — игрушечный лучок, которым бьют шерсть. Назначение этих атрибутов — уберечь младенцев от полуночницы[2241]. Иная версия: к зыбке, обычно на ночь, подвешивали веретено, кудель и лучину или кудель и ножницы. Мотивировка использования этих предметов: для защиты от кикиморы; чтобы «занять нечистых работой»[2242]. Так или иначе эти вещи станут атрибутами мифических существ или оберегами от них, особенно в тех случаях, если былые божества уже развенчаны.
Простые смертные как восприемники богов и «знающих» людей
И даже обычное прядение (веретеном, на прялке) и обычные рукоделия (вязание, шитье, вышивание), имеющие повсеместное распространение в крестьянском быту, также имели некогда определенный магический смысл, со временем затемненный или же вообще утраченный. О былом смысле рукоделий напоминает поговорка: «Девка прядет, а бог ей нитку дает»[2243]. В свете рассматриваемых мифологических представлений становится очевидным, что за бог дает пряхе нить. Вместе с тем, согласно болгарским поверьям, прясть и ткать научил людей сам Господь. А в украинской традиции прялка считается даром Божиим, врученным еще Еве[2244]. Как ниспосланный от самого Господа дар, стоящий в ряду с «Духом Божиим, мудростию, разумением, ведением», осмысляется в Библии умение «составлять искусные ткани» и вышивать «по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани» (Исход. 35. 31–35). Отсюда используемое в обиходной речи выражение «работать по вдохновению». Характерно, что различными рукоделиями девушки занимались на беседах и вечеринках (посиделках), которые в отдельных локальных традициях так и назывались супрядками[2245]. Именно здесь, где программировалась судьба, они в основном и готовили себе приданое. К нему относились вещи, которым в дальнейшем принадлежала не только утилитарная, но и обрядовая роль. Овладение искусством женских рукоделий в подростковый период было так же важно, как и знакомство с годовым обрядовым циклом[2246]. (Напомним, что в архаическом обществе обучение искусству прядения, плетения происходило в период временной изоляции девушки перед достижением половой зрелости, когда она готовилась в тайном обществе женщин к обряду инициации, по прохождении которого возвращалась в семью в качестве нового человека и с новым именем[2247]. Согласно маорийским мифам, умению ткать, ведущему свое начало от искусств плетения, учит девушек сама богиня Ниварека[2248]. В соответствии с традицией, сложившейся у различных народов мира, «Домострой» также предписывает овладевать тайнами рукоделия по достижении определенного возраста.)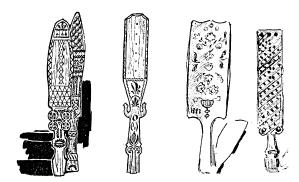
Рис. 31. Прялки из различных районов Карелии
Обработка льна и прядение начинались с наступлением зимы — самого сурового времени года, т. е. с октября. В славянской традиции этот месяц некогда назывался паздерник (паздер — кострика[2249]: это жесткая часть стебля льна, конопли, раздробляемая и отделяемая от волокна при мытье, трепании). Содержание женских работ этого периода определяется поговоркой: «В октябре та бабам и работа, что льны приспевать»[2250]. Месяц, посвященный обработке льна, ознаменовывался праздником Параскевы Пятницы, именуемой в деревне «льняницей» (день памяти святой — 28 октября по ст. ст.). Не случайно именно в этот день в различных местностях соблюдались те или иные обычаи, связанные со льном: «Поселянки Костромской губернии празднуют сей день с началом уборки льна. С вытрепанными опышками льна выступают на улицу на показ добрым людям. Пожилые старушки ходят в церковь служить молебны и с усердием испрашивают благословение своим начаткам. В Тульской губернии с этого дня начинают мять и трепать льны»[2251]. Заметим, что и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которым открывался октябрь и с которого начинались беседы, оказывался на поверку посвященным все той же «Пятнице-Льнянице». Праздник Покрова считался девичьим, и Богородица осмыслялась в качестве покровительницы брака. Но чаще в этой роли ее сменяла Параскева Пятница, которой прежде всего и были адресованы девичьи мольбы о ниспослании счастливой судьбы, скорого замужества[2252]. Эти праздники сопутствовали обработке льна. Завершение последней приурочивалось ко дню Козьмы и Демьяна (1 ноября по ст. ст.). Например, в Саратовском уезде в названный день женщины приносили в церковь к концу обедни мотки ниток. Прикладываясь к кресту, опускали их на амвон к ногам священника. В это время начинались запрядки («новая пряжа»[2253], т. е. новый сезон прядения). Наступала пора прядения пряжи на вечеринках (посиделках)[2254]. Она заканчивалась весной 26 марта (по ст. ст.), после одного из основных, «двунадесятых» православных праздников — Благовещения Пресвятой Богородицы. К этому времени полагалось завершить последнюю пряжу, спрясть последний прястень. В противном случае говорили: «Не пойдет впрок»[2255]. Прядение считалось в крестьянском быту настолько важным занятием, что даже избы делились на «пряху» и «непряху». Если печь располагалась при входе справа от двери и ее устье было обращено к окну, к свету, то такая изба считалась «пряхой». В избе-«непряхе» печь помещалась слева от входа. В ней пряха сидит в иной позе: ее правая рука обращена к стене, а не к свету от окна, причем ей трудно пустить по полу веретено на большое расстояние[2256]. Сакральным занятием представлялось и ткачество. Наиболее благоприятным для него временем считался Великий пост. Согласно поверьям, все изготовленное в эти дни будет тонким и ровным[2257]. Аналогично осмыслялась и вышивка. Выполненная накануне пасхальной, ивановской, петровской заутрени, т. е. в дни, отмеченные тем или иным знаком перехода («порога»), она обладает особой магической силой:
Семантика магического рукоделия
В отличие от простых смертных, духи, ведая тайнами бытия, манипулируют волосами, шерстью, перьями (средоточием жизненной силы людей и животных) сознательно. Они создают те или иные конфигурации — «вычуры» из нитей целенаправленно. О практическом назначении мифических рукоделий не может быть и речи. «От кикиморы не дождешься пряжи (вариант: рубахи)», — говорят в народе[2265]. Рукоделия, осмысляемые как магические действа, не остаются без последствий для того дома, где в святочные или русальные дни, в полночь, садится за прялку либо ткацкий станок сам дух. Эти последствия могут быть вполне благоприятными. Например, согласно одному из рассказов, женщина, увидев прядущую «доможириху», сделала ей «относ»: положила около нее «шанечку». И в тот год много было в хозяйстве шерсти — они «поправились, даже сруб новый поставили»[2266]. Вспомним сербскую сказку об Усуде: доля счастливого брата — прекрасная девушка; она прядет золотую нить и пасет овец своего господина.
Рис. 32. Пряха из Пунчойлы. Южная Карелия
Однако в дошедшей до нас традиции появление мифической рукодельницы чаще — предзнаменование несчастья. Согласно бывальщине, «когда привидится она (кикимора. — Н. К.) с прялкой на передней лавке, быть в избе покойнику. Перед бедой же у девиц-кружевниц (вологодских) она начинает перебирать и стучать коклюшками, подвешенными на кутузе-подушке»[2267]. Магические рукоделия сказываются и на домашнем скоте: «Сплю-де и слышу — жужжит веретено, а кто прядет у меня, боюсь посмотреть. <…> Подняла голову, а там женщина сидит, суседка-то („домаха“. — Н. К.). Прядет да прядет. <…> А после этого корова у нас пропала, спряла корову-то (курсив мой. — Н. К.). А пряла-то она бойко»[2268]. В роли мифической пряхи может выступать не только кикимора или «домаха» («суседка»), но и колдунья. Это она, по рассказам, сопровождая прядение шерсти определенным заговором (вспомним нашептывание, напевание, бормотание рассматриваемых мифических существ как трансформацию магического пения), вызвала «очарование скота и всего дома»[2269]: «Как это веретено кружится, пусть скот и овцы выкрутятся из дома моего господина, чтобы стал пустой»[2270]. Судьба людей в руках ведунов, которые дублируют роль духов, обладающих искусством рукоделий. Не случайно, по рассказам, у того или иного из них можно спросить: к счастью или несчастью он прядет, — и получить ответ: домовой смеется и стучит прялкой — к добру, плачет — к беде[2271]. В прядущих (вяжущих, плетущих, ткущих, шьющих, вышивающих) духах узнаваемы божества, предопределяющие судьбу, будущее, то, чему предстоит свершиться. Магический характер рукоделия обнаруживается в мифологии народов мира. В славянской традиции в качестве прядущих духов, манипулирующих нитью, выступают рожаницы (роженицы). Это божества, содействующие родам, покровительствующие младенцам и управляющие человеческой судьбой. Рожаницы — духи-девы (две или три) являются сразу же после рождения младенца и предназначают ему счастливый или несчастный удел. Старшая из них произносит слово судьбы. Одна дева меряет нить жизни, а другая ее отрезает[2272]. По словам А. Н. Веселовского, рожаницы дают новорожденному «долю, часть, участь в жизни, отмеривают талан, и этот акт понимается как приговор, который они изрекают (рок, нарок), как их суд и ряд, судьба»[2273]. Культ рожаниц, олицетворения прирожденной судьбы, по мнению ученого, соотносится с культом предков[2274]. Этим и объясняется последующее слияние божеств судьбы прежде всего с домашними духами. Подобным персонажам соответствуют пряхи заговоров, локализуемые на горе (камне), на реке (море), под деревом (на столбе). В некоторых вариантах они заменяются Богородицей:

Рис. 33. Крестьянка из Прионежья. Карельская прялка (куожали). Село Савиново, деревня Черная Ламба
Искусные в рукоделиях духи, подобные мойрам, паркам, норнам, могут запутать нити или оборвать их — жизни людей либо домашних животных, но могут и укрепить их. Эти духи на определенном этапе бытования повествующих о них мифологических рассказов унаследовали функции, которые некогда принадлежали божествам судьбы. В рамках микроколлектива их предшественниками были рожаницы и Род, в общегосударственном масштабе в определенный период — Мокошь. В результате мастеровитые духи оказались в одном типологическом ряду с божествами судьбы, сформировавшимися в мифологии народов мира, не утратив при этом других присущих им ролей, равно как и своеобразия. Таким образом, не только деревенские колдуны и знахари, но и просто владеющие искусством рукоделия осмысляются в быличках и бывальщинах как своего рода восприемники, представители и дублеры мифических существ, персонифицирующих в своей совокупности идею судьбы, рока, предопределения. Подобно этим божествам, персонажи, владеющие тайными знаниями, участвуют посредством своего рукоделия в творении мироздания, преломляющегося в жизни данного социума, как и в судьбе каждого из его индивидов.
В их власти бытие…
Житейские коллизии, лежащие в основе данного цикла мифологических рассказов, так или иначе сводятся к типичным экстремальным ситуациям. Как это ни парадоксально, они разворачиваются на фоне некоего идеального мироустройства, которое служит своеобразной точкой отсчета. В свете подобных представлений болезни и смерть, несчастья и утраты объясняются нарушением присущей этому мирозданию упорядоченности и гармонии, вторжением в него сил хаоса, оказывающих свое разрушительное воздействие на бытие во всех его конкретных проявлениях: «Вот словами-то и нарушат человека. Может даже смертельно сделать»[2284]. Создание кризисной ситуации приписывается колдунам и ведьмам. В том случае, когда они представлены в качестве носителей «черного» знания, визуальным знаком их причастности к миру хаоса зачастую служит характерная для этих персонажей асимметричность, равно как и отражение в их зрачках человека в перевернутом виде: вот почему колдун в разговоре не смотрит своему собеседнику прямо в глаза. Нарушение и даже разрушение сложившегося мироустройства проявляется прежде всего в болезнях, источник которых даже современные рассказчики видят в колдовстве: «Если бы медицина признавала, что колдуны есть, давно бы всех убили, никто бы не болел»[2285]. Наряду с этими в народе живут и дуалистические представления об извечном противоборстве добра и зла, «светлого» и «темного» знания, белой и черной магии, в результате чего бытие в каждомконкретном проявлении зависит от победы одной из названных сил. Подобная идея реализуется прежде всего в сюжете о противоборстве двух колдунов, персонифицирующих светлую и темную сторону эзотерического знания: «Один говорит, что сейчас же может человека испортить, а другой, что может сейчас же вылечить. И перед ними — сидят едят колдуны — буханка хлеба. Один буханку испортил, буханка почернела, уголь. А второй говорит: „Я вылечу!“ Вылечил. Буханка побелела»[2286]. Правда, когда разрезали побелевшую снаружи буханку, то внутри она все-таки оказалась черной. Порчельники, или портежники, насылающие порчу, чаще всего дифференцируются от тех, кто порчу снимает — «ладит». Носители «черного» знания не могут не портить людей, скот, предметы, начатое дело, даже нередко вопреки собственному желанию: «Корову испортил <…>. Собаку свою испортил. <…> Хожу, терпеть не могу, все кого-то испортить хочу»[2287]. Наступает «проклянутый», или «пухлый», час (имеется в виду двенадцать часов ночи или дня, шесть часов утра или вечера[2288]) — и они непременно кого-нибудь испортят, и даже не столько сами колдуны, сколько находящиеся у них в услужении помощники («бесы»), требующие постоянной и, особенно в поздней мифологической прозе, вредоносной работы: «Им (бесам. — Н. К.) надо как-то портить, вот такую работу просят»[2289]. Однако есть среди ведунов и такие, кто занимается исключительно снятием порчи, восстановлением нарушенного порядка. Вместе с тем противоборствующие начала могут быть заложены и в одном человеке. В результате чародей, наславший порчу (болезнь либо несчастье), сам же ее и снимает, нейтрализуя вредоносное воздействие на пострадавшего и возвращая его к исходному состоянию.Моделирование жизненного цикла человека
Как следует из мифологических рассказов и поверий, человек оказывается во власти колдунов и ведьм еще до своего рождения. Повсеместно распространен сюжет, согласно которому ведьмы (векшицы, вещейки) в облике сорок или иных птиц, а то и просто в виде женщин, чаще старушек, прилетают, и особенно в ночь накануне Ивана Купалы либо на Великий четверг, через печную трубу в дом, где живет беременная женщина, и вынимают из ее «утробы» плод. Взамен младенца они чаще всего засовывают головешку или голик (веник). В этой роли они приравниваются к духу-«хозяину» бани, похищающему оставленного без присмотра младенца и кладущему вместо него головню или голик, принимающие форму унесенного дитяти. Впрочем, эти атрибуты могут быть заменены и другими предметами: например, краюшкой хлеба, обычно маркированного знаком домашних духов, или льдиной (т. е. водой), лягушкой и пр. Просыпаясь, женщина ощущает некую тяжесть, хотя «живота нету». Или же живот исчезает, когда ей приходит время рожать. И так может происходить множество раз: «Я вот с двенадцатым животом хожу, ни одного ребенка не имею»[2290]. Характерно, что подобные представления были столь распространены, что зафиксированы даже в официальных актах. Так, в 1666 г. гетман войска Запорожского Иван Мартынович Брюховецкий «велел сжечь пять баб ведьм»: «те ж бабы выкрали у гетмановой жены дитя из брюха (курсив мой. — Н. К.)»[2291]. И лишь в немногих мифологических рассказах сюжет обретает благополучное завершение. Например, хозяин дома просыпается, будит всех, тем самым изгоняя непрошеных ночных пришельцев. Или старик (прохожий, странник) заставляет некую «фигуру», прилетевшую в дом и вынувшую еще не рожденного ребенка из чрева матери, положить младенца обратно, предварительно надев на его шею крестик, с которым тот спустя какое-то время и появляется на свет, к удивлению всех домашних[2292]. Подобную угрозу можно предотвратить, соблюдая определенные меры предосторожности: беременная женщина не должна выходить из дома, когда сорока «стрекочет»; печную трубу нужно всегда закрывать на ночь[2293]; нельзя выбрасывать головешки на улицу, необходимо проследить, чтобы они догорели[2294]; беременной женщине советуют в качестве оберега надевать на голое тело «опушку» или «гасники» (шнур) из пояса мужниных штанов и спать «поперек полу»[2295]. Однако этот сюжет, казалось бы, основанный на противоборстве добра и зла, — результат долгих трансформаций и переосмыслений. Мотив похищения младенца мифической птицей удерживается и в детской игре-потешке «Сорока-ворона кашу варила…». Как утверждает Д. Шеппинг, здесь сорока-ворона представлена духом, уносящим ребенка в царство смерти[2296]. Сорока-ведьма в известном смысле отождествляется с Бабой-Ягой, нередко наделенной чрезвычайно длинными грудями (знак плодородия): обе они воруют детей и обе, сжарив на шестке, норовят их съесть. Такой смысл со временем получила мифологема, связанная с представлениями о перепекании младенца и поглощении его мифическим существом, причастным благодаря этому акту к его рождению. В женских персонажах, вынимающих младенца из чрева беременной женщины, узнаваемы те самые другодольные удельницы, которые, как мы уже писали, являются трансформацией рожаниц, покровительствующих младенцам, предрекающих их судьбу[2297]. Вот почему в поздних бывальщинах в аналогичной роли выступают бабки, помогающие при родах: «Вдруг заходят две старушки, одна другой говорит: „Давай ребенка достанем, краюху хлеба положим“. Другая: „Головенку засунем“. Мужик-то проснулся, соскочил, давай всех будить. Одну-то бабу он узнал — она ходила детей принимать (курсив мой. — Н. К.)»[2298]. Подобные «осколки» образа как раз и позволяют заглянуть в глубь самого сюжета, чтобы понять его изначальный смысл.
Рис. 34. Няня с ребенком. Традиционная дымковская глиняная игрушка
Стихия рода, плодородия во власти чародеев. Как следует из мифологических рассказов, ее можно от начала до конца направить в определенное русло. Это происходит уже при выборе невесты или жениха, где роль устроителей будущей свадьбы чаще всего отводится свахе или свату. Так, например, достаточно бабке, которая «могла что угодно сделать», сказать парню: «Гуляй вот с етой…»[2299] — и дальнейшее развитие событий окажется предопределенным. Или же стоит колдуну-вдовцу, безуспешно сватавшемуся к молодой, отереть платком свой лоб, а затем ее лицо, произнося при этом магические слова заговора-присушки «Как платок этот сохнет, так и ты по мне сохни…» — и та пойдет за него[2300]. В вариантах и версиях подобных коллизий заключены разнообразные житейские ситуации. Однако если даже гармония человеческих взаимоотношений на данном этапе будет так или иначе достигнута, то это еще не значит, что наметившийся брачный союз благополучно осуществится. Прежде всего, у выехавшего к венчанию свадебного поезда колдуны могут «отобрать», «украсть» дорогу («А то говорили — воровали дорогу»[2301]) или «пересечь» ее. Подобная порча проявляется в том, что кони останавливаются как вкопанные, или «пляшут с ноги на ногу и никуда! Никуда не идут и никово!»[2302], или коренной встает на дыбы — и ни с места, как будто загорожена дорога, или лошади бегут в разные стороны — одна туда, а другая сюда, будто здесь зверь какой, а то и вовсе убегут без оглядки, или дуга вылетает — и лошадь распрягается. Случается, что невесту и поезжан вывалит на землю, а у «провожатки» даже «рассадит» платье и т. п. (О превращении свадебного поезда в животных см. в главе «Оборотни».) Такую порчу, как следует из мифологических рассказов, напускает колдун посредством магических растений и магических слов. Стоит только ему положить в повозку или сани, где сидят молодые (вариант: положить в ворота), стручок гороха, и обязательно с девятью горошинами, сопроводив это действо приговором: «Три-девять пудов горох, три-девять пудов жених, три-девять пудов невеста, не взять коням с места»[2303] — как лошади встанут на дыбы и ни с места. Чтобы этого не случилось и «никто дорогу не перегородил», дружка или иной «знающий» предпринимает меры по предотвращению порчи: «И вот был то ли свекор ее, то ли кто, коней наладили, запрягли, садиться надо молодым, — он пришел, всех коней обошел кругом, по яшшику стукнул: „Садитесь и поехали!“ Сели и уехали!»[2304]. Если в данном случае оберегом оказывается магический круг, то в другом апотропейную силу имеет главным образом вербальная магия. Прежде чем отправиться свадебному поезду в путь, «знающий» выходит и, сняв шапку, «ково-то» там долго «читает», помахивая плеткой наотмашь, а затем возвращается в избу и, надев шапку, вновь выходит. Вслед идут и все поезжане, садятся и благополучно преодолевают путь[2305]. Или же дружке (в данном случае это солдат) удается нейтрализовать вредоносное воздействие магического растения: он убрал горох, попрыскав водой жениха с невестой и пошептав, после чего «оне сяли и поехали венчаться»[2306]. Этой мифологеме соответствует обычай выкупать дорогу у перегородивших ее, прежде всего у колдунов[2307]. Однако даже благополучно добравшиеся к венцу жених и невеста не застрахованы от свадебной порчи. Согласно одному из мифологических рассказов, брачующиеся, уже стоящие под венцом, посмотрев друг на друга, побежали в разные стороны: невесте показалось, что жених — волк, а тому кажется, будто она волчица. Правда, спустя какое-то время все это «отошло»[2308]. В подобном мотиве нельзя не увидеть очертания мифологемы, сформировавшейся еще в рамках тотемистического мировосприятия. В своем трансформированном виде данный мотив обнаруживается в сибирской бывальщине: жених вдруг «завыл лихоматом, вот на´ голос заревел вот эдак вот», потому что невеста, которая ему нравилась и была «красива така», под воздействием порчи показалась ему «рябой-рябой» и страшной[2309].

Рис. 35. Христорождественский собор (1562 г.). Каргополь
В других случаях невеста во время венчания, будучи испорченной, лишается физических сил и рассудка. Ей надо идти к венцу, а у нее отнимаются руки и ноги. На невесту «дур навалился какой-то», «дурочкой сделалась», «глаза вылупила и всё». Когда же ее подводят к «налою» и поп спрашивает: «Дружелюбно ли нет вы венчаетесь?» — она отвечает: «Нет!». Данная ситуация осмысляется всеми как проявление порчи, которую тут же и пытается снять подвернувшаяся здесь старушка (она разула невесту, «каки-то <…> стельки наклала, деньги каки-то наклала»), после чего венчание было продолжено[2310]. Последствия лиминального состояния, переживаемого невестой в свадебной бане, дают о себе знать и при прохождении других свадебных обрядов. Подобная мифологема столь устойчива, что проявляется даже в рассказах, где венчание в церкви вытеснено записью в сельсовете. Тем не менее и в таких бывальщинах «пороговое» состояние персонажей свадебного действа, осмысляемое как порча, изображается достаточно определенно, хотя и с привлечением новых реалий: «Пошли записываться в сельсовете, меня-де свидетелем взяли. Знаткой же сосед что-то сделал, все немые сделались, ничё не говорят. Председатель молчит. Двоих за одной невестой записали…»[2311]. Как следствие порчи осмысляется и отказ невесты по возвращении от венца сесть за свадебный стол: съездили обвенчались, все хорошо было, все по согласию; вернулись, за столы садиться, а невеста «сдурела», а она «ни в каку»: «Не хочу! Не пойду!» Все поняли: это дед Евлентий, которого не пригласили на свадьбу, но который оказался сильнее дружки, «чё-то наделал». Когда же позвали деда Евлентия, он в одном случае «ково-то поладил» — и все пошло своим чередом, в другом — лишь на то время пока он сам здесь был[2312]. Под воздействием такой же порчи может оказаться и жених: «За столы-то сели, и жених-то сел <…>. Сидит и ревет на голос. <…> Потом наладили этого жениха, всё, ну, а свадьбу-то уже испортили»[2313]. А гости все «расстроены же были». Случается, что колдун, насылая порчу, омертвляет жениха, невесту, поезжан, в числе которых были «две провожатки» и брат невесты. И только усилиями колдуна Кирика Захарыча, действовавшего с помощью стакана «отварной воды», которой он опрыскивал лежащих уже вторые сутки мертвыми, да ножниц, которыми он «в голову потыкал», удалось вернуть всех к жизни[2314]. Однако подобные коллизии не всегда имеют благополучное разрешение. Как порча осмысляется и ситуация с брачной ночью, когда, к примеру, двух женихов, записанных за одной невестой, положили по разные стороны от нее — и оба ее не тронули. В этой бывальщине можно усматривать пережитки представлений, связанных с древним славянским обычаем (он зафиксирован, в частности, в Черногории), согласно которому в первую ночь после венчания рядом с невестой спит дружка и, как говорят, «по-хорошему»[2315]. Несколько иная версия обнаруживается в сибирском мифологическом рассказе, где гости, поднявшись из-за стола, «давай ложиться на кровать, вся эта компания», причем все стараются лечь к стене[2316]. Этнографическим эквивалентом данному мотиву можно считать обычай, отмеченный в Боснии, где каждый мужской гость на свадьбе имеет обыкновение прижимать невесту к стенке, символизируя этим супружеское объятие. В подобных эпизодах В. Я. Пропп усматривает трансформацию представлений о ритуальной дефлорации до брака, производимой «божеством», и брачной ночи с мужем. «Человеческая брачная ночь слилась с тотемической дефлорацией»[2317], — отмечает ученый. Тотемистическими верованиями обусловлены и другие проявления свадебной порчи. Молодые, находящиеся в брачную ночь в «пороговом» состоянии, в промежутке между мирами, подвержены полному или частичному перевоплощению. Вот почему, оставленные одни, они, по некоторым мифологическим рассказам, лают по-собачьи, поют петухами или же поет по-петушиному лишь жених. Бывало, что и все «поезжана зашевелились», «кто чем запел: кто курой, кто коровой, кто заблеял <…> морду скосили в окно»[2318]. Впрочем, порча дает о себе знать и иными способами. Молодые, отправленные из-за свадебного стола спать, пляшут всю ночь и поют песни. Когда встревоженные этим обстоятельством время от времени спрашивали у них: «Вы что, что?» — они всякий раз отвечали: «А мы танцевать ходим». И если после этого колдуну удалось жениха «отворотить», то невесту, почувствовавшую себя плохо уже на свадьбе, спасти не удалось. Тем же закончилась и другая свадьба: «Вот оны спать молодых увели, и эти молоды <…> все придрали´се. Мужу бы´ла подарёна шёлкова рубаха, дак вся она была у молодухи прирвана. Спорчены так были! Ну и потом в подпечье друг друга запихали. Потом услышали, пришли, а у них все придраное. Молодых всё, спортили»[2319]. Вариант: «Ну и молодых со стола вывели спать <…>. Молодые-то, им что пришло на ум, что начали драться. И до того друг друга прибили. И окупились. Одна под печь запихалась, а другой на печь зашел. <…> А двери открыли — у молодых все платья на себе прирваны, у молодого вся рубаха прирвана, они там доро´дно повоевали»[2320]. Но где идея укрощения стихии рода и плодородия проявляется с наибольшей определенностью, так это в тех случаях, когда колдуны скрывают у невесты ее «тайное естество»[2321], которое иногда находят под горшком, лукошком, решетом и прочим, или лишают жениха его мужской силы. По словам рассказчиков, новобрачный «первую ночь так пошел и вторую», «уже три ночи спит» с женой, а то и неделю, больше месяца, больше двух месяцев — «а толку никакого нету», «Парень не жил», «не жили с невесткой». В таких случаях считают, что это «портёж», что в «поленнице (костер дров. — Н. К.) сделано», «поставили поленницу» и что стоит от нее «освободиться» — и все пойдет своим чередом. Для этого в поленнице ищут березовое полено, в щели которого зажато нечто наподобие узла, где чего только ни было: змеиная шкурка, предположительно медвежий коготь[2322]… Или же средоточие колдовства подброшено прямо в постель молодых — это, к примеру, некий засунутый в подушку узел (своего рода магическая науза): «<…> просто ком там всего, там были шерсть, да зубы какие-то были, да гвозди ржавые, да еще там чего-то туда напихано — ну, наколдовано, завязано, да и брошено, в подушку запихано»[2323] (вариант: кости, щепки, волосы и «много кой-чего»). Чтобы снять тайную порчу, опытная колдунья советует молодым вымыться в бане, отряхнуть всё там, где они спали, положить все чистое, выпить две стопки наговоренной ею водки — и «толку будет». И, действительно, по словам рассказчицы, вскоре выясняется, что «теперь уже толку есть и всё»[2324]. Вот почему роль лиц, призванных оберегать молодых, и в частности жениха, от порчи, как следует из свадебных причитаний, достаточно велика:

Рис. 36. Молодуха и гармонист. Традиционная каргопольская глиняная игрушка
Однако судьба складывающейся семьи программируется в основном на свадьбе: испортили свадьбу — так век и прожили плохо; хороший дружка был приглашен на свадьбу — так и жили хорошо. И «обережь» (оберег), данная на свадьбе и имеющая как материальное (часто растительное), так и словесное воплощение, оказывается по сути действенной и на всю последующую жизнь. Властны колдуны и над жизнью и смертью людей, нередко ввергая их в состояние болезни, характеризуемое пребыванием «ни здесь ни там». В соответствии с архаическими представлениями «болезнь, как и смерть, могла быть только следствием сверхъестественной причины, т. е. колдовства»[2333]. Иначе, по убеждению рассказчиков, молодые и, казалось бы, совершенно здоровые люди не умирали бы: «Умер вот Иван Сергеич, он еще вовсе молодой был мужик, годов тридцать всего. Он от этого умер»[2334]. Согласно мифологическим рассказам и поверьям, болезнь может осмысляться как вселение в человека нечистого духа. В качестве таковой представляется прежде всего икота, в севернорусских деревнях называемая также «скорбь» («скорбь долит»), а в общерусской — «кликушество». О больной икотой здесь обычно говорят: «Сто бесов у ей животы гложут, от того и выкликать стала»[2335]. То же самое утверждается и в старинном акте: «<…> то нам ведомо, Яков Григорьев скорбел икотою и вне ума был весь всячески от нечистого духа (курсив мой. — Н. К.)»[2336]. Одним из средств наслать на свою жертву икоту являются «стрелы»: это недуги, насылаемые порчельниками на врага с помощью заклинаний, пущенных по ветру, причем на определенное имя: «Пристаньте сему человеку (имярек) скорби-икоты, трясите и мучьте его до окончания жизни»[2337]. Однако, материализуясь, подобные заклинания не всегда попадают на того, на кого они были направлены. Если объектом порчи окажется крестьянин, отличающийся строгой нравственностью, то Бог сохранит его от беды и отведет «стрелу» в сторону. Тогда наговор направится своим путем, пока не нападет на первого встречного, носящего запрограммированное имя, и не обрушит на случайную жертву всю мощь вредоносной силы[2338]. Икоту и — шире — порчу насылают и по следу. Колдун, заметив след человека, на которого он собирается напустить немочь, отделяет след от земли так искусно, что он представляет собой как бы слепок со ступни, и затем наговаривает на него магические слова, производит с ним магические действа. (Кстати, вера в подобную порчу была столь велика, что даже образованнейший вельможа князь В. В. Голицын подал челобитную на некоего Ивана Петрова, сына Бунакова, который якобы вынимал у него, у князя Василия, след, за что тот был пытан в Земском приказе в 1689 г.) Этой цели достигают и посредством заговоренных предметов: например, «узелков с какою-то дрянью», яиц, свеч или же насекомых, рыб, мелких животных, попавших тем или иным способом внутрь человека. По рассказам, колдуны высушат змею либо лягушку, превратят ее в порошок и дадут выпить своему врагу с «живучим квасом». Если при этом попадет змея-самка, то в животе у несчастного разведется целое змеиное семейство. Подобный сюжет варьируется в рамках единой модели: «Взяла Соколиха ящерицу, высушила, мелко искрошила, подала в вине. Хотя сушеная, ящерица у ее срослась внутри. А Ступиха: „Как зовут тебя?“ — спросила у ящерицы. — „Андропка. Ты выпила вино до дна, вот я и завелась и развелась в тебе с андропятками“»[2339]. Особенно опасна порча для человека, если он выругался в недобрый час. Вот как, согласно бывальщине, объясняет икота свое происхождение: «Я сидела на колышке, а она (женщина. — Н. К.) шла за травой, разорвала сарафан за сучок и сказала: „Черт с тобой“, — на это слово я к ней и попала»[2340]. Тому, кто «излешакнулся, или исчертахнулся, икота и зашла к нему в рот»[2341]. Причем она проникает внутрь человека при произнесении той буквы, с какой начинается его имя[2342]. Соотнесенность порчи с именем включает данную мифологему в круг анимистических представлений. Икота, или порча, выглядит в виде мухи, рыбки, лягушки, ящерицы или человека с собачьими лапами и хвостом, старичка и даже в виде «камушка», который «весь кругом в глазах», и пр. Она персонифицируется. Это мифическое существо наделяется не только действиями, но и норовом, прихотями, капризами. Эта «сильна тварь» захватит, зажмет горло — и человек лежит как мертвый; «сердце заедат, ажно мне тошно, грызьмя грызет; терпленья нет, как она там грызет его»; «икота ребенка в брюхе съедает <…>, она у ребенка уши да затылок, да пальцы у рук съела»[2343]. Как это ни удивительно, но подобные суждения уходят своими корнями в представления первобытных людей, которые вместо фразы «у меня болит голова» говорили: «у меня отъедается голова» или «кто-то грызет в голове». Подобным же образом обозначали и другие боли: человека кто-то «ест или грызет в зубе, во внутренностях, в ушах». Его грызет нечто вредоносное, от которого следует спешно избавиться[2344].

Рис. 37. Табурет. Токарная работа. Село Хотеново. Каргополье
Испорченная женщина падает, бьется, покраснеет, шея у нее раздуется, жилы напрягутся, рвет на себе волосы («полно горстье»), одежду, хлопает руками, кричит, плачет, матюгается, утрачивая в ту пору всякий стыд. В действиях своей жертвы проявляет недовольство сама икота, которой не угодили. Потрафить же ей не просто, особенно в том случае, если женщине насажены две икоты, одна из которых вина не пьет, все сладости ест, а другая, наоборот, любит выпить. Иная же икота не переносила запаха табака или не любила черных парней. Вот почему, стараясь угодить этому мифическому существу, страдающая от порчи женщина, как только чего захочет, «вина ли, изюму ли, или там чего, то сейчас же покупает»: наестся — и икота ее на какое-то время отпускает; если же несчастная «не нравит, не тешет» свою мучительницу, то все волосы оборвет у себя, руки переломает и пролежит больная, не имея сил ни на что[2345]. Икота едва ли не полностью отождествляется с женщиной, на которую она напущена, приравниваясь к ее душе и двойнику: «<…> когда чего захочет, повалится и ревит: дай да и только; муж не купит, так пролежит, а купит — наестся и пойдет на работу»[2346]. Икота (порча) наделяется и даром речи. Подвыпив, она кричит: «Вот как мы погуляем!»[2347]. А порча, которую намеревались удалить посредством операции, заявила: «Я, говорит, ножик мимо себя поверну, сама спрячусь, вы меня не найдете»[2348]. Или: «Стали искать, я в зад ушла»[2349]. Случается, что икота заявляет о своем намерении переселиться в другого и в третьего человека: «<…> а в ей (в одной жонке. — Н. К.) икота говорит, реветь начала. Говорит: „К Степану перейду“, потом: „К Александру перейду!“»[2350]. Однако, учитывая ее возможную зооморфную форму, от икоты следует ожидать и соответствующих звуковых проявлений: согласно поверьям, когда больной «приходит в некоторое неистовство», то нечистый дух кричит в нем голосами разных животных[2351]. В качестве духа, вошедшего в больного, икота вызывает состояние, близкое к экстазу или трансу, переживаемому шаманом: не случайно икотница при этом начинает пророчествовать или же с ее помощью пытаются выявить виновников воровства, убийства либо иного несчастья. Аналоги подобным мотивам обнаруживаются в средневековых нравоучительных «примерах». Человек, одержимый бесом, к которому в известном смысле приравнивается рассматриваемая икота (порча), совершает дела, на которые ранее не был способен. Он может раскрывать судьбы других людей, предрекать события, разоблачать грехи. Он оказывается обладателем знаний и талантов, каких не имел до того, как стал вместилищем демона. Например, совершенно неграмотный человек вдруг стал говорить по-латыни, а не имеющий вокальных данных обрел прекрасный голос. Способности, внезапно обнаруживающиеся в одержимом, так же внезапно и исчезают: стоит только изгнать вселившегося в него беса[2352]. О том, что подобный дух осмысляется (во всяком случае, в поздней традиции) как нечистый, свидетельствует поверье, что страдающая икотой, или кликушеством, женщина начинает биться в истерике, как только к ней приближаются со священными предметами (например, с крестом или Евангелием), и особенно если дело происходит в церкви, в момент, предшествующий пению «Херувимской» и великому выходу со Святыми Дарами[2353]. Впрочем, есть основания полагать, что некогда аналогичный дух был амбивалентен. Так, в одном из упомянутых нравоучительных «примеров» демон, который вселился в одержимого, его устами разъяснял Священное Писание[2354]. По мифологическим рассказам, носители «белого» знания стараются нейтрализовать вредоносное воздействие колдунов. С этой целью прежде всего определяют «происхождение» икоты: «Кто у тебя батюшка?». И получают ответ от самой икоты. Или же женщина, бьющаяся в припадке, громко выкрикивает имя порчельника. Избивая последнего, лишают его вместе с кровью колдовской силы. Саму же икоту изгоняют мифической плакун-травой да некими «блевотными зельями», по применении которых она выходит наружу в виде того или иного зоо- либо антропоморфного существа. Или же стараются изгнать ее словами особых заговоров, посредством которых нечистой силе велят выходить «из белого тела, из нутра, из костей, суставов, из ребер и из жилов»[2355]. С этой же целью читают молитву «Да воскреснет Бог». Предполагается, что с изгнанием нечистого духа, осмысляемого как своего рода «духоматерия» (выражение А. Я. Гуревича), больной выздоравливает. В роли мифологических персонажей, вселяющих в человека этот дух, выступают вместо колдунов и сами болезни, которые манифестируются в зримых и наглядных материально-чувственных проявлениях. По выражению А. И. Клибанова, опирающегося на анализ житийных повестей, болезни «и предельно отелеснены, и одновременно сверхъестественны, как порождение бесовских сил»[2356]. В дошедшей до нас мифологической прозе сохраняются рудименты представлений, согласно которым болезнь имеет зооморфный облик. Так, чума может оборачиваться кошкой, лошадью, коровой, птицей и клубком пряжи. Вот почему стоило убить пробирающуюся из пораженного холерой села черную корову, как эпидемия тотчас же прекратилась[2357]. И, далее будучи охваченными всеобщим процессом антропоморфизации, подобные персонажи все еще удерживают за собой некоторые зооморфные признаки: например, крылатость и способность летать, приписываемую в русской традиции то чуме, то лихорадке, или козьи ноги, которыми подчас наделяется в сербской мифологии холера. В целом же персонифицированные болезни антропоморфизированы. Так, во время эпидемии брюшного тифа в Кадниковском уезде Вологодской губернии «горячка» в образе монахинь ходила по деревне, и там, куда она заходила, появлялись новые больные. Холеру же во время эпидемии 1909 г. крестьяне, по рассказам, видели в облике страшной старухи, идущей от деревни к деревне (вариант: в образе старухи со злобным, искаженным страданиями лицом). На Украине холеру представляют в красных сапогах, постоянно вздыхающей и бегающей ночами по селу с криком: «Була бида, буде лыхо!». Где она остановится переночевать, там не останется в живых ни одного человека. Чума в русской мифологии представлена в виде белой девы с распущенными волосами или же огромной женщины в белой одежде (= в саване), с растрепанными волосами. В облике бабушки нередко изображается оспа, именуемая обычно по имени-отчеству: Оспа Ивановна или Оспа Афанасьевна. Но, пожалуй, наибольшее внимание в мифологических рассказах, поверьях и заговорах уделено лихорадке. Быть может, оттого, что некогда в соответствии с буквальным значением слова название «лихорадка» прилагалось ко всякой болезни вообще: оно, как отмечает А. Н. Афанасьев, происходит от глагола лихо-радеть, т. е. действовать в чей-либо вред, заботиться о ком-нибудь со злобным намерением, с лихом[2358]. Эта болезнь персонифицируется в образе двенадцати (реже: девяти) сестер, дев или теток, злых, отвратительной наружности, чахлых и вечно голодных, иногда даже слепых и безруких, что свидетельствует о принадлежности их к силам хаоса. Каждая из них имеет собственное имя, соответствующее ее функции. Можно сказать, что в каждой из них персонифицировано одно из проявлений болезни. Хотя они и называются в целом «Иродовыми дочерьми», но каждая из сестер-лихорадок имеет свое имя: Трясовица, Огневица, Знобея, Горькуша, Крикуша, Пухлея, Желтея, Дряхлея, Дремлея и пр., причем двенадцатая, Нутреная, самая опасная, поскольку она давит сердце. Варьируется и само название болезни: лихорадка, лихоманка, желтуха, бледнуха, ломовая, трясуха, гнетуха и пр. Самая старшая из них (впрочем, как и другие болезни) отождествляется со Смертью. Прикованная двенадцатью цепями к железному стулу и повелевающая остальными сестрами, она держит в руке символ смерти — косу, насылая их на землю «тело жечь и знобить, белы кости крушить»[2359]. Повальные болезни отождествляются со Смертью как в верованиях, так и в языке. Заметим, что соответствующий мотив наблюдается и в иконописи до конца XVII в. Распространенным было изображение двенадцати трясовиц: они представлялись в виде женщин, нередко обнаженных, с крыльями летучей мыши. Характер каждой из них в живописи обозначался разными красками: одна лихорадка — вся белая, другие — желтая, красная, синяя, зеленая и т. п.
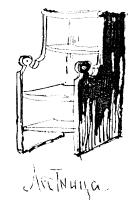
Рис. 38. Резная лестница-приступок. С. Лядины. Каргополье
У таких персонажей, как болезни, есть разные способы вселиться в человека. Например, лихорадки, вырвавшись из «земных челюстей», где они содержатся на цепях, или просто выходя весной из-под земли, «одним мечтательным поцелуем» причинят «трясовицу» тому, кто, заснув на весеннем солнышке, первым попадется им на глаза, после чего они так и обитают в одержимых лихорадкой[2360]. Вместе с поцелуем в человека входит нечистый дух болезни. Семантика этой мифологемы особенно очевидна из сербских мифологических рассказов, где куга, т. е. чума, останавливаясь под окнами, пускает внутрь жилья свой «злочестивый дух», отчего погибает все семейство. Лихорадка проникает в человека и воплотившись в насекомых или мелких животных. Обратившись в муху и падая намеченной жертве в кашу, она намеревается затем задавить несчастного. Вместе с тем моровая язва, просунув в окно руку с кропилом, кропит в избе в разные стороны — и к утру никого в доме не остается в живых. Или же чума, сидя на плечах крестьянина и обходя село за селом, машет своим платком. И там, где она этим атрибутом повеет, все погибает. В подобном полисемантическом образе есть элементы божества судьбы. Или же умирает тот, кого чума коснется своим посохом, осмысляемым, как уже говорилось, в качестве вместилища духа. Вредоносное воздействие болезни, например, «горячки», или брюшного тифа, обрушивается и на тех, в чей дом она просто войдет. И еще «щастлив» окажется тот, кого болезнь коснулась, будучи очень занятой делом. Перелетая в эти самые «недосуги» от одного к другому, лихорадка не так долго трясет больного, повторяя свои посещения лишь через день-два. Характерно, что в болгарской мифологии чума и оспа, являясь по ночам, читают по имеющейся у них книге: кто должен умереть, а кто выздороветь. Рудименты такого синкретического персонажа, как болезнь — смерть — судьба, высвечиваются и в русской традиции. В большинстве мифологических рассказов вселение этих болезней в человека приравнивается к вторжению в него нечистого духа, которым тот оказывается одержимым. И в данном случае болезни как мифические существа действуют без посредников, в роли которых часто выступают ведуны, специализирующиеся в той или иной области «черного» знания. В подобных бывальщинах простые смертные оказываются один на один с этими вредоносными существами. Не владея магическими способностями, они пытаются спрятаться от болезни, припугнуть, задобрить и даже погубить нечистую силу, представленную в очередной своей ипостаси. Так, по рассказам, когда в кадниковских деревнях свирепствовали тиф и лихорадка, на косяках дверей и окон крестьянских изб можно было заметить надписи: «(такого-то: указывалось имя) нет дома» или же жильцы переодевались в чужую одежду, чтобы вздумавшая повторить свое посещение болезнь не узнала свою жертву и не овладела ею вновь[2361]. Аналог этим севернорусским бывальщинам обнаруживается в белорусской традиции. Больной, ожидая в урочный час свою неотвязчивую гостью, притворился умершим: он лег под образа и велел плакать-причитать над ним своей родне. Пришедшая сюда лихорадка посмотрела, поверила, повернулась и ушла[2362]. Могущественную болезнь можно и испугать, например, выстрелом из ружья или собаками. Когда крестьянин стряхнул с лестницы чуму, взбирающуюся на высокий забор, где она собиралась спастись от лающих собак, то непрошеная гостья исчезла с угрозами. Однако, как следует из бывальщин, погубить это мифическое существо практически невозможно. Крестьянин, несший на своих плечах чуму, приближаясь к родному селению, решил пожертвовать собой ради спасения близких. Бросившись с ней с крутого берега в реку, он тонет, тогда как чума поднимается в воздух и улетает в лес[2363]. Впрочем, болезнь, и особенно оспу, можно и задобрить. При этом совершают особый обряд, зафиксированный, в частности, в Олонецкой губернии. Чтобы получить облегчение, заболевшую оспой приносят к такой же больной, и первая, трижды поклонившись недужной, говорит: «Прости меня, оспица, прости, Афанасьевна, чем я пред тобою согрубила, чем провинилася?»[2364]. Исцеляют же от этих болезней всевозможные ведуны, обладающие тайными эзотерическими знаниями, некогда воспринятыми от волхвов: они способны восстановить нарушенное равновесие в мироздании, преодолеть последствия разрушительного воздействия сил хаоса. В распоряжении у «знающих» чародейские травы. Им известна могущественная сила магических обрядов и нашептываний, т. е. заговоров и молитв, посредством которых пугают и изгоняют болезнь. Так, например, согласно заговорам, направленным, в частности, против сестер-лихорадок, святые отцы «взяша тринадесять прутий и начаша бити их и мучить, и давать по тринадесяти ран», после чего трясовицы, взмолившись, бегут «за тринадцать поприщ»[2365] (поприще — мера пути, равная суточному переходу, около двадцати верст[2366]). Или же святой Сисиний, которому Господь посылает на помощь четырех евангелистов: Луку, Марка, Иоанна, Матфея, — призывает сестер-лихорадок: Трясею, Огнею, Ледею, Гнетею, Хрипушу, Глухую, Ломею, Унею, Желтею, Коркушу, Гледею, Невею — бежать «от образа Божия» — от человека, иначе архангел Михаил, Иоанн Предтеча и все четыре евангелиста «учнут» их мучить и дадут непокорным «по тысяче язв на день»[2367]. Аналогичный сюжет встречается и в иконописи: наверху, в облаках, видны ангелы, один из которых направляет на трясовиц копье и хочет низвергнуть их в зияющую пропасть, а на пригорке изображен коленопреклоненный и молящийся святой Сисиний.

Рис. 39. Домашняя часовенка. Село Колодозеро. Пудожье
Однако в большинстве мифологических рассказов болезни, повторяем, осмысляются как следствие порчи. Они овладевают человеком не сами по себе, а посредством своего проводника, обладающего вредоносной силой. Средоточием последней может быть глаз, дурной, недобрый, завистливый, косой, брошенный из-под густых, нахмуренных бровей, и особенно черный, карий. Отсюда ведет свое начало поговорка: «Бойся черного да карего глаза». Соответственно те болезни, которые происходят от косого взгляда, называются внароде прикосами. Синонимами же лексемам сглаз, прикос служат призор (однокоренное со взором), притка, т. е. внезапный несчастный случай (по-видимому, связано с ткать) и уроки (родственное слово: рок), что также свидетельствует о синкретизме понятий «болезнь» и «судьба», отмечаемом нами выше. «Глаза — орган зрения, при помощи которого, по народным представлениям, человек может повлиять на судьбу другого человека. Глаза сами в определенных случаях способны предсказать будущие события», — пишет акад. Н. И. Толстой[2368]. Выражения: «с призору сглазили», «ему с глазу пришло»[2369] — подчас перерастают в развернутые сюжетные повествования: «Однажды ко мне племянница приехала, а Паланья (деревенская волхвунья. — Н. К.): „Дай мне твою девку посмотреть“. И только ушла, как девке плохо стало, и рвало, и метало, насилу спасли. А можно и умереть от сглаза (курсив мой. — Н. К.)»[2370]. И в данном случае обыденное выражение «бросить взгляд на кого-либо» приобретает некую материализованную силу. Концентрацию аналогичных представлений можно увидеть в древнегреческом мифе, согласно которому от взгляда медузы Горгоны погибает (окаменевает) все живое. Анализируя особенности «первобытного мышления» в интересующем нас аспекте, Л. Леви-Брюль пишет: «Губительное влияние, приносящее несчастье, не может исходить из самого глаза. Глаз является только орудием, проводником. Гибельное влияние исходит от расположения человека, имеющего дурной глаз, от зависти к владельцу того, что этому глазу понравилось»[2371]. Однако, по нашему мнению, здесь нельзя недооценивать и тех древних представлений, в соответствии с которыми глаз осмысляется как одно из вместилищ души и, следовательно, как проявление, концентрированное выражение вредоносного начала, заключенного в колдуне. Не случайно, к примеру, у шиллуков околдованное лицо сообщает: «Его глаз проник в меня». Если же об этом говорит сам околдовавший, то он утверждает, что «его глаз проник в жертву». В результате дурной глаз и колдовство часто оказываются синонимами. Это некая вредоносная субстанция, пребывающая в колдуне, «нематериальное начало в материальной форме или материальное начало, одаренное нематериальными свойствами»[2372]. В мифологическом сознании действие глаза приравнивается к действию слова. Вот почему функции ведуна, обозначенные глаголами «сглазить», «оговорить», являются, по сути, эквивалентными: «Один колдун испортил сестру мою в шестнадцать годов. Мимо только прошел и сказал: „Какая ты, Граша, красивая“. Нехорошо с ней стало, как сумасшедшая стала, с ума сошла. На сарай залетела и вокруг столба летат. Завели ее в комнату, вкруг кровати летат, как бешеная. Снохе брюхо чуть не прокусила. <…> А когда умерла, тот самый человек (колдун) пришел и в окошко глядится»[2373]. Девушка была испорчена в шестнадцать лет, в лиминальный период, соответствующий времени инициации. Напомним: как следует из бывальщин и поверий, девушкам до шестнадцати лет не разрешалось ни гадать, ни участвовать в ведовских сборищах. К синонимическому ряду действий, обозначенных глаголами «сглазить», «оговорить», присоединяется также функция, обозначенная лексемой «одумать». В соответствии с этими представлениями человека можно и одумать, т. е. случайно подумать о нем, и не обязательно плохо: «Подумат кто: „Во как работат он ловко“. Вот и одумат»[2374]. Или некую Нинку, крепкую, румяную, сглазил прошедший мимо нее председатель; он, верно, подумал, хотя ничего не сказал: «Мол, какая девка хорошая», та пришла домой «вся белая — лежит не встает»[2375]. О том, что одумать, оговорить и оприкосить, сглазить являются синонимами, свидетельствуют сами рассказчики: «Прикос — это одумывают как, съедят как человека, оговорят, он и заболеет. Одумать и целовека могут, и корову, оприкосить (курсив мой. — Н. К.)»[2376]. Или: «А по-всякому сглазить можно. Бывает, что подумают про себя, а бывает, что в глаза скажут»[2377]. В быличках и бывальщинах речь идет и о других разновидностях порчи, на этот раз насланных колдуном на своего обидчика, хотя не исключается и просто проявление его злого нрава. Подобные порчельники, фигурирующие в различных локальных традициях, получили, тем не менее, в сибирской мифологической прозе особое наименование — «хомутники», или «хомутинники». За этими персонажами закрепилась вредоносная функция — «насылать хомуты», которые, на наш взгляд, по своей семантике сводятся к магической наузе. При надевании «хомута», как и при «стрелах», посылаются по ветру слова на человека с определенным именем. Этому магическому акту нередко предшествуют слова угрозы обиженного колдуна, варьирующиеся в рамках формулы: «Попомнишь ты меня!». «Надетый» на жертву «хомут» представляет собой полосу, вначале красную, затем фиолетовую, желтую. Эту полосу, обнаруженную на определенном участке тела, врачи обычно принимают за ушиб. Если «хомут» надет на нос, то последний у пострадавшего раздувается «с картошку», так что даже не вмещается в руке; если на губу, то она зазудит-зазудит и пойдет нарывать, «прёт и всё»; если на лицо, то оно зазудит-загорится, огнем горит; если на грудь, то человека ночью давит, он задыхается — «воздуху не хватат и всё»[2378]. Особенно же страдает жертва, у которой «по животу брус прошел»: «<…> я потом ночью-то заболела и заболела, лихоматом ревела. На коленочках ползала! Вот здесь все, как ножами, изрезало!»[2379]. Вывести больного из состояния, когда он находится «ни здесь ни там», и удержать его именно «здесь» под силу лишь ведунам, обладающим соответствующими эзотерическими знаниями. Способы лечения, которые используются ведунами, в мифологических рассказах описываются с позиций человека, наблюдающего за действиями колдуна и видящего лишь внешнюю сторону дела, тогда как скрытая «пружина» целительства остается «за кадром»: она наглухо закрыта от глаз простых смертных. Не посвященный в тайные знания видит только, что колдун каким-то способом приготовляет, или «ладит», воду либо масло, что он очерчивает пальцем больное место у своего «пациента» и мажет его, или дает недужному выпить эту воду, или спрыскивает ею. Обратившийся за помощью слышит, как тот «шепчёт» некие «наговоры», «отчитывает» жертву. Аналогичные способы лечения упоминаются и в официальных документах, относящихся к XVII в.: «<…> и его Иванову жену ухватило порчею, кричала сутки, день да ночь, а другие сутки была без веданья. И в те де поры приводил он <…> Первушку Ульянова, и он-де наговаривал на соль и на воду и на молоко, и давал-де его Иванове жене пить и окачиваться, и над нею шептал (курсив мой. — Н. К.). И после того и по ся места над женою его того не бывало»[2380]. И «пациент» выздоравливает, если лечением занялись своевременно или же воздействие насланной порчи не оказалось непреодолимым. В других же случаях пострадавший, поддавшись «дьявольской силе», отказывается от лечения и так и остается больным либо даже умирает, несмотря на множество анализов и операций, поскольку порча была «заделана крепко». В этом своем качестве ведуны разделяли функции целительства со святыми, к которым колдуны и знахари, в частности, обращались в своих заговорах, наследуя вместе с ними соответствующие функции волхвов и прибегая к приемам, мало чем отличавшимся от практики волшебства. Иначе говоря, близость функций колдунов, святых, волхвов, рассматриваемых в качестве культурно-исторических феноменов, проявляется в мифологической прозе, равно как и в древнерусской литературе, с достаточной определенностью[2381].
Программирование обилия
Чародеи властны и над жизнью животных, особенно домашних, начиная уже с их рождения. Подобно тому, как рассматриваемые персонажи пресекают жизнь еще не родившегося человека, так они искореняют и плод животного. Рассказы, основанные на данной мифологеме, представляют большую редкость. Во всяком случае, нам известен лишь один, зафиксированный в сибирской мифологической традиции: жена младшего брата, обернувшись в ночь на Великий четверг сорокой, залетела к «однем» «в стаю и теленочка у коровы выташшила…»[2382]. Однако основу подавляющего большинства мифологических рассказов, повествующих о власти колдунов над домашним скотом, составляют бинарные оппозиции: здоровье — болезнь, жизнь — смерть, порча — снятие порчи, «белое» — «черное» знание. Разворачивающаяся в бывальщине коллизия зачастую представлена как кризисная ситуация: «У отца корова заболела, да овца околела. Так кажный год и умирали»[2383]. Или: «У одних скот передох, и вся семья слегла»[2384]. Так или иначе она сводится к определенной модели: «не водится скот» и у хозяина «ниче нету». Внешне подобные кризисные ситуации имеют вполне реальные проявления: то конь ногу сломает, то волк разорвет овцу, то корова заболеет и пропадет. Однако у мифологического рассказа есть своя, внутренняя мотивировка подобных коллизий, расходящаяся с каким бы то ни было материалистическим объяснением. Первопричина, естественно, оказывается мифологической по своей природе. Мало того, она имеет сугубо материальное выражение. Первопричина коренится в непостижимой (но только для непосвященных) связи между миром живых существ и миром определенных предметов, в которых таится некая духовная сила, обладающая теми или иными потенциями. О такой связи известно лишь людям, посвященным в эзотерические знания. Так, по рассказам, повальная болезнь домашнего скота произошла только потому, что баба-колдунья зарыла у шатрового столба, т. е. столба, поддерживающего свод крыши в хозяйственной части крестьянского дома, «клубок шерсти большой», причем, как выясняется, он мог быть положен и с приговором. Некоторые уточнения по сравнению с этой севернорусской бывальщиной содержатся в ее сибирском аналоге: «во дворах», в матке (потолочной балке) были закатаны, помимо комка коровьей шерсти, еще и комки конской, а также «чушечьей щетины» да еще вдобавок и «куричье перо»[2385]. Подобные клубки и комки шерсти, щетины, перьев, приравненных, как мы уже говорили, к магическим нитям жизни, в данном случае запутаны в магический узел («скатано так, что нельзя разорвать»), что препятствует свободному течению жизни соответствующих животных: коров, лошадей, свиней, кур, соотнесенных с тем или иным узлом (клубком, комом), негативное воздействие которого конкретизируется, усиливается и направляется посредством заговоров. Впрочем, такой узел может и в буквальном смысле состоять из ниток: «Ой-е-ей! Ниток суровых сколько было замотано, можно трое обуток сошить»[2386]. (Аналоги подобным верованиям обнаруживаются в материалах судебных процессов, имевших место в XVIII в. в Юго-Западном крае. Так, в 1700 г. поступила жалоба на некую чародейку, которая околдовывала скот истцов какими-то узелками, после чего у тех стали околевать лошади, коровы и другие животные и даже пасека перестала приносить доход[2387].) Стоит «знающему» (это слепой мужик, прохожий, цыганка) указать место, где зарыт клубок, и велеть сжечь его «на сукрестках» (о семантике этого локуса мы уже говорили) — и вредоносное воздействие порчи будет преодолено.
Рис. 40. Роспись (оберег) двери, ведущей в хлев. Прионежье
Столь же мощным атрибутом ведовства считался и навоз либо просто экскременты домашнего скота, которые, как и все, что выходит за пределы самого животного, осмыслялось в качестве вместилища жизненной силы: «На Чистый четверг колдуют. Соседка у нас была, так она колдовала. Вот пошла к своему соседу и хватала навоз с подворотни, чтоб скотина изводилась (курсив мой. — Н. К.)»[2388]. В другом случае хозяин увидел, что некто из тех, кто умел колдовать («шаманить»), перелезает из его двора в соседний. Поймав колдунью, он увидел у той «полный подол г…» от его жеребца. Тогда только хозяин понял, почему у него кони «сохнут», а у тех «взлягивают!»[2389]. Негативное воздействие на домашний скот оказывают не только унесенные, но и зарытые (пусть даже в хлеву самого хозяина) экскременты животных, которые функционально тождественны комьям шерсти или перьев. Согласно одной из бывальщин, хозяин, у которого не водился скот, идет к старичку, поскольку тот «много знат». Помимо того, что старичок советует вынести из хлева весь навоз, он велит также копать в правом углу, где и нашли в кульке собачьи, коровьи, овечьи экскременты, равно как и птичьи перья. Оставалось только сжечь эти атрибуты порчи со словами: «Откуда пришло, туда и ступай». По совершении этого магического действа, по словам рассказчика, «нормально стало на дворе»[2390]. В ряду других выделений, которые так же, как и экскременты, используются колдунами для порчи коров, фигурирует и молоко либо его эквивалент: например, банка топленого масла, зарытая в межу. Вообще, мотив «колдуны молоко у коровы отнимали» относится к числу «бродячих». Распространенный в различных локальных традициях, он подчас обретает буквальное, хотя и мифологическое по своей природе осмысление. Ведьма (иногда ее помощники) в облике человека или животного, нередко птицы или рептилии, выдаивает у чужих коров молоко. Как повествуется в одной из бывальщин, змея, выдоив корову в Иванов или Петров день («на Петровский Иван было») и с шумом-свистом вернувшись в двенадцать часов ночи в дом своей повелительницы-колдуньи, находит горшки закрытыми, да еще и с благословением. Ей не оставалось ничего другого, как пролить принесенное молоко прямо на пол, рядом с этими горшками[2391]. Иной вариант: один из попросившихся на ночь мужиков видел, как хозяйка, улетев, а затем вернувшись в избу через трубу, подставила ведро и давай «рыгать — чистая сметана льется»: «молоко, знать, собрала со всех коров»[2392]. Причем выдоенное у чужой коровы молоко осмысляется в народных верованиях как субстанция самой колдуньи, причастной к этому магическому действу. Вот почему, по рассказам, когда секут отнятое молоко, колдунья чувствует удары на собственном теле[2393]. Мотивировка магического доения выявляется из самих бывальщин: «Корова-то у меня чё не доится? Скота не могу развести-то? <…> У меня ни скота, ни молока, ниче нет, а у тебя все ломится, а она (золовка. — Н. К.) ищо бегат, ведьма такая!»[2394]. Иначе говоря, ведьма, отнимая молоко у чужой коровы, повышает удойность, равно как и здоровье в целом, у своей. Таким образом, молоко осмысляется не только как средоточие жизненной силы, но и как воплощение обилия, которое можно у одного отнять, а другому передать. Обилие можно унести не только с навозом, экскрементами, молоком, но и с сеном, которое в деревне особенно тщательно караулили в дни активизации мифических существ, в данном случае — в Великий четверг. Ведь в народных верованиях сено осмыслялось как средоточие зелий, обладающих магической силой. Вот почему коллизия: «она пришла, в запон сена набрала и ушла — и все» — осмысляется в бывальщине как колдовство: «И потом то конь пропал, то корова пропала!»[2395]. Заметим, что наряду с этими представлениями бытовали и другие, аналогичные: в «пороговое» время нельзя ничего давать, особенно соли, иначе отданное может быть использовано для порчи или возвращено с порчей. Мало того, животное, так же как и человека, можно оговорить, одумать, сглазить. Например, стоило простым людям в противовес старушке, спровоцировавшей произнесение именно этих слов, сказать: «Смотри-ка, корова-то кака! Вон сколько молока дает, ишо сливок сколько!» — и корова вмиг оказывается испорченной: «И-раз! — моя корова молочка нисколь не стала давать»[2396]. На животных разрушительно действует и дурной глаз: старик-еретик, напросившись в охотничью избушку, лишь поглядел на собаку, а назавтра ее хозяин уже не добыл ни одной белки, тогда как до этого, даже будучи подростком, бил по двенадцать-пятнадцать штук[2397]. Согласно же сибирской локальной традиции, на животное (а не только на человека) порчельник может «надеть хомуты»: «Эта корова, значит, вскором пришла: вымя все разнесло! Мать сразу видит: хомут надели». В ответ на вопрос заподозрившей недоброе женщины соседка призналась: «Ой, да верно, я попробовала на вашей корове, как получится»[2398]. В напущенном на человека или на животное «хомуте», согласно народным представлениям, получает материализованное выражение человеческая зависть и злая воля: «Чтоб у нее хозяйство было — она (соседка. — Н. К.) это любит. Но что у другого поросята хорошо растут, корова много молока дает, ну, скот хорошо держится, курицы — она не любит. <…> У нас ни коровы не стало, поросенка она загубила, всех куриц — всё»[2399]. Вредоносной силе «черного» знания, направленной на изведение домашнего скота, противостоит благотворное воздействие белой магии. Чтобы снять порчу с животных, нужно воспользоваться очистительными и животворящими свойствами воды, особым способом приготовленной (например, пропущенной сквозь чародейские зелья), либо произнести специально предназначенные на тот или иной случай заговоры, сопровождая слова определенными магическими действами, либо обматерить колдунью, наславшую недуг и мор на домашний скот, да так, чтобы та не слышала (ведь мат — мощное средство и против самой нечистой силы), либо разбить у колдуньи нос до крови, в результате чего она не сможет больше вредить, поскольку вместе с кровью из нее выйдет жизненная, в том числе магическая, сила. Мало того, колдуны могут магическим способом скрыть домашний скот: «Скроют колдуны, и никто не увидит, ходи не ходи»[2400]. Например, некий колдун в отместку хозяину сделал так, что тот перестал видеть свою лошадь (вариант: теленка), тогда как все остальные люди продолжали ее видеть. Или же так скрыл коров, что двенадцать дней их не могли найти. И лишь после того, как одному из «знающих» удалось снять чары, искавшие сразу же заметили пропавших телушек. Впрочем, в иных случаях коровы невидимы лишь для волка, бродящего в стаде.

Рис. 41. Лошадь с жеребенком. Традиционная дымковская глиняная игрушка
Даже повседневное поведение домашнего скота, согласно мифологическим рассказам, оказывается во власти чародеев. Это они нарушают устойчивое соотношение локусов, определяемое оппозицией свой — чужой, допуская в обыденную крестьянскую жизнь вторжение сил хаоса. Подобные верования служат предпосылкой к формированию определенных сюжетов: корову вдруг невозможно стало загнать в хлев; заломив хвост, она идет не к своему, а к чужому дому и там «рычит»; не только собственная, но и чужая корова не отходит от «нашего» двора; корова лягается, чуть не на стенку скачет; «новокупка» убегает к прежнему хозяину, и, сколько ее ни пригоняют, она возвращается обратно. Распространено поверье, согласно которому лошадей могут заговаривать до такой степени, что даже в том случае, когда купивший ее хозяин живет за триста верст, она прибежит к прежнему владельцу, пренебрегая всяческими опасностями. Вот почему покупатель с помощью знахаря старается «снять с лошади уход»[2401]. Беспокойное поведение животных мотивируется действием вредоносной магической силы, материализующейся в неких мифических существах. Так, по одной из бывальщин, после того как «знающий» «сделал воды» и попрыскал ею корову, «такой писк раздался» и — как результат — «стали корову загонять хорошо»[2402]. Из совокупности подобных рассказов следует, что едва ли не любое беспокойное поведение животного осмысляется как следствие вредоносного воздействия неких мифических существ (своего рода «духоматерии»), подчиняющихся злой или доброй воле колдуна. И потому разведение и уход за домашними животными связан, как установил А. Ф. Журавлев, с богатым и разветвленным комплексом культурных установлений духовного порядка, в котором значительное место принадлежит продуцирующей, коммерческой, профилактической и катартической магии (речь идет о приплоде, купле-продаже и падеже скота), проявившейся в предписаниях и запретах, в магических приемах и ритуалах, в заговорах и приговорах[2403]. Колдуны властны даже над сиюминутным поведением домашних животных. Модификацией представлений о том, что обладатель магической силы понимает язык зверей, служит коллизия, согласно которой животное адекватно реагирует на обращенные к нему слова ведуна: «Конь развалился на дороге, бабам было никак его не поднять. Митька идет, говорит: „Что ж ты лежишь, баб мучаешь?“ И конь встал в момент. Только узду накинули и пошел»[2404]. В другой бывальщине норовистая, «на узде не бывавшая» лошадь, как бы устыдившись слов «знающего»: «Но, кумуха, ты что!» — пошла «там вода ни вода» рядом с хозяином, как собака или как «смирный конь»[2405]. И наоборот, по слову «знающего», лошади доходят лишь до «того» кустика, а затем останавливаются и не идут вперед, и так случается дважды, пока ведун не отпускает их совсем. Колдуны даже спорят, в каком месте в ближайшее время лягут коровы, и выходит так, как сказал сильнейший из них, или, по утверждению рассказчика, тот, «у кого больше чертей»[2406], т. е. мифических помощников, без которых якобы не обходится дело даже в этой обыденной ситуации. Магическая власть колдуна над животными столь сильна, что за ним бежит следом, как собака, не только корова, уходящая, по его воле, ночью из своего двора или поднимающаяся на телегу, прицепленную к трактору, но и целое стадо свиней: большая «чушка», за ней вторая, третья и далее «поросяки», не отставая, идут за колдуном на пути длиною в десять километров, пока он не приводит их всех «сюда». Ведуны способны укротить саму природу животного, так что лошадь не заходит «в хлеба», кошка приносит хозяйке и уносит живую мышь, причем столько раз, сколько та ей прикажет, а злая цепная собака, лишь дважды взлаяв, замирает как вкопанная. Мотивировка загадочного поведения животных обычно не раскрывается. В бывальщинах данного цикла она сводится лишь к констатации факта: тот или иной укротитель либо повелитель животных, изображаемый на фоне крестьянского быта, «что-то знает», т. е. обладает тайным знанием. Однако лежащая в основе такого рассказа мифологема предполагает наличие глубинной связи между магией слова, жеста, взгляда, воли и определенными, имеющими магическую силу атрибутами, о которой ничего не известно простым смертным, в том числе и самим рассказчикам. (Отчасти свет на атрибуты колдовства проливается при рассмотрении образов ведунов-зелейников.) Что касается власти над дикими животными, то в мифологической прозе она приписывается преимущественно лешему, в редких случаях пастуху или охотнику. Однако способность повелевать змеями — собирать их, да так, что все они, названные по именам, мужским и женским, обвиваются вокруг кола или палки, либо изгонять их раз и навсегда за пределы определенной территории (вариант: сделать их совершенно безвредными, безопасными) — прочно сохраняется за всевозможными ведунами. Со временем эта функция оказалась переадресованной тому или иному святому, имя которого в легендах связано с конкретной местностью: «Один старичок (больше никакого исхода не было, лечебниц никаких не было, люди темные) пришел и говорит: „Вот, — говорит, — преподобный Ошевенский, отец Александр, какое горе случилосе: змей корову жгнул, еще была одно только богатство корова — и то змей жгнул“. — „Ну, — говорит, — тогда уж я еще такие чудеса могу вам сотворить“. — „Ну, преподобный, если можешь, так пожалуйста“. — „А будь он проклят до тех мест, покуда мой звон слышно!“ — говорит. И больше в этом месте Ошевенском в окружности километров десять змеей нет, а подальше валом змеей там»[2407]. Впрочем, святые, восприняв функции от волхвов-жрецов и разделив их со всевозможными ведунами, обрели в мифологической прозе, и прежде всего в легендах, и магическую власть над домашним скотом, что проявилось, в частности, в таком приговоре: «Святой Власий! Будь счастлив на гладких телушек, на толстых бычков, — чтоб со двора шли-играли, а с поля шли-скакали»[2408]. Икону Власия ставили в коровниках и хлевах для предохранения животных от напастей. Во имя его прихожане строили приделы и часовни. Так, в Вологодской губернии, Вельском уезде, Ракульском погосте, некогда стояла в лесу древняя церковь, посвященная популярному в народе Власию. Сюда съезжались поселяне для молитвы угоднику о покровительстве и защите домашнего скота. Перед образом этого святого они клали коровье масло[2409]. Такую же роль в крестьянском быту играл Георгий, что нашло выражение в поговорке: «Егорий да Влас — всему хозяйству глаз»[2410]. Перекодируя смысл этих персонажей соответственно языческому мировосприятию, можно утверждать, что названные святые осмысляются в народных верованиях как своего рода средоточие «спорины», обилия, т. е. магической силы, обеспечивающей прирост, увеличение урожая, в данном случае — плодовитости скота. Осмысление святых как преемников древних держателей обилия, судя по мифологической традиции, распространяется и на Богородицу, что особенно очевидно из белорусского фольклора. Так, в одном из заговоров Божья Мать, призванная на помощь хозяином испорченной коровы, утешает плачущего: она сама погонит корову в долину, будет ее пасти, вложит в животину творогу, масла, сметаны. В этом своем качестве персонажи народно-христианской мифологии унаследовали функции волхвов-жрецов, отчасти разделив их со священниками, отчасти, как это ни удивительно, все с теми же колдунами и знахарями. В условиях господства народного, или бытового, православия, в известной мере смыкающегося с язычеством, так до конца и не сдавшим свои позиции, подобное распределение ролей было вполне закономерным. Во власти ведунов не только плодовитость людей, животных, но и плодородие земли, урожай растений. Их магическими действами может быть сведено на нет уже начало посева. Вот как, к примеру, повествуется об этом в одной из бывальщин: хозяева, совершив все принятые перед началом пахоты обряды, собирались выехать в поле: в этот момент к ним зашла соседка, которая вначале попросила ковригу хлеба «яришного», т. е. ржаного, а спустя какое-то время — решето, предназначенное для просеивания семян; вернувшись домой, она положила и то и другое у себя на полке; когда же те все-таки выехали со двора, колдунья перешла им дорогу с пустыми ведрами; в результате конь вдруг «задурел» и «никак» не пошел в борозду; тогда они поняли, что все это неспроста, что «тут че-то есть», и вернулись обратно, так и не открыв новый земледельческий цикл. В этой коллизии проявилось действие имитативной магии. Решето символизирует начало подготовки к посеву, а коврига хлеба — результат земледельческого труда. Они, оставшиеся лежать на полке, не говоря уже о пересечении дороги с пустыми ведрами, закрепили на мертвой точке не только начало пахоты, но и, по сути, получение урожая. И даже вспаханное и пробороненное поле не в состоянии обеспечить урожай, если в мир живых, представленный в данном случае растениями, вторгается мир мертвых. Нарушение устойчивого равновесия под действием сил хаоса влечет за собой ослабление стихии плодородия и урожая: «А один раз Паланья (волхвунья. — Н. К.) мне на боронину костки с покойника положила и козлиную белую голову (череп), и картошка у меня в огороде не росла. А Татьяна взяла на вилы и им в огород снесла. У них и не росло ничего»[2411]. Подобные сюжеты можно обнаружить даже в документах судебных процессов по делу о ведовстве. В одном из них, датированном 1710 г., истец приписывал обвиняемой чародейке, часто проходившей мимо его огорода, способность задерживать рост овощей, вследствие чего у него случился неурожай капусты[2412].

Рис. 42. Крыльцо Христорождественского собора (XVI в.).
В подобных случаях нередко считали, что некто из тех, кто обладает чародейской силой, «держит обилие». По рассказам, в старину среди волхвов были такие люди, которые «удерживали в себе под кожею иная жито, иная мед, иная рыбу, иная белку и проч.»[2413], т. е. властвовали над урожаем, удачей на рыбалке и охотничьем промысле. Данная мифологема, как мы помним, была освоена начальной русской летописью, где она, помещенная в исторический контекст, оказалась насыщенной совершенно конкретными реалиями: «В лето 6579. <…> Бывши бо единою скудости в Ростовьстей области, встаста два волъхва от Ярославля, глаголюща, яко: „Be свеве, кто обилье держить“. И поидоста по Волзе, кде приидуча в погость, ту же нарекаста лучьшие жены, глаголюща, яко си жито держить, а си медь, а си рыбы, а си скору. И привожаху к нима сестры своя, матере и жены своя. Она же в мечте прорезавша за плечемъ, вынимаста любо жито, любо рыбу (курсив мой. — Н. К.)»[2414]. (Заметим, что перевод слова «обилье» как «запасы»[2415] искажает семантику мифологемы.) Ведуны, осмысляемые в качестве средоточия обилия, имеющего ту или иную материальную форму выражения, генетически восходят к персонажам тотемного характера, давшим начало определенному виду растений либо животных и воплощающим в себе ту жизненную силу, которой обусловливается непрерывность их воспроизводства[2416]. Однако во власти ведунов и удержание обилия или его убывание. И даже в тех случаях, когда мотивировка неурожая, казалось бы, не выходит за рамки объяснения, соответствующего действительности, — в огороде завелись черви и съели все растущее там — она все же заключает некий мифологический смысл: бедствие длится до тех пор, пока «знающий» старик не обошел с палкой весь огород, как бы замыкая магическое пространство, пока он не воткнул в землю эту палку, приравненную по своему назначению к магическому же жезлу, посоху, пока не произнес в итоге слова заклинания, трансформировавшиеся в обытовленное выражение и призванные закрепить результат обрядовых действий: «Всё, <…> не будут исть». И с тех пор, по словам рассказчика, в огороде все стало расти[2417]. Но, пожалуй, самым действенным способом лишить людей «обилия» и «спорыньи» в среде чародеев считается «залом» («завиток», «завязка», «закрут»). Рассказы об этой разновидности колдовства, основанные на «бродячем» сюжете, распространены повсеместно. Приведем примеры из севернорусской мифологической прозы: «Колдуны были, выходили на поле, где яровые, ржаное поле, делали заломы, на каленом ржаном колене ржину заламывали»[2418]; «Заломы во ржи бывают. Наделают узелков»[2419]; «А во ржи бывают заломы, да. Их путает кто-то»[2420]. То же в сибирском варианте: «У нас в Урейской жил Петруня Иванович Вершинин. Тоже говорили, будто он знал разное… Что он и хлеб заламывал. Раз у Михаила Максимовича Утюленикова заломил. А у того пшеница добра была. Он пришел на поле, видит: стебли в пучок связаны, этим же стеблем и завязаны»[2421]. Подобный сюжет соотносится с определенным обрядом, контуры которого в какой-то степени обозначены и в самих мифологических рассказах. Как повествуется в бывальщинах, колдун, прежде чем выйти со злым умыслом в поле, где растет рожь, пшеница, овес или лен, конопля и пр. (иногда даже огородные и садовые культуры), раздевается догола (знак обретения положения между мирами), взъерошивает волосы (знак возбуждения своей магической силы). Дело обычно происходит ночью, чаще накануне Ивана Купалы, когда злаки станут наливаться[2422]. Придя же на «загон», принадлежащий определенному хозяину, он хватает, не вырывая, пук зеленого «хлеба» и заплетает его особым способом, да так, что простому смертному ни за что не развязать это в буквальном смысле хитросплетение. Лишь колос или два, оставленные на чью-то голову, торчат из него кверху[2423]. Способы «залома» («завитка», «завивки», «завязки», «закрутки») варьируются в пределах одного семантического поля. Например, колдун берет «на корню» пучок колосьев и, загнув их книзу, перевязывает суровой ниткой или заламывает колосья и скручивает (свивает) в направлении на запад, с которым соотносятся представления о смерти, нечистой силе и бесплодии, причем в узел «залома» колдун кладет распаренные зерна и могильную землю, символизирующие омертвение[2424]. Или же связывает два пучка стеблей ржи либо пшеницы вверху в особый узел, не вырывая их, и колосья втыкает в землю[2425] и т. п. Стебли зерновых не только надламываются (заламываются) у нижних междоузлий или загибаются книзу, но и оказываются определенным образом скрученными, свитыми, сплетенными, спутанными в жгут, пучок, узел, а также перевязанными (завязанными, связанными) ниткой, лентой, волосами либо самими стеблями, собранными в пучок. Подобные магические действа сопровождаются магическими же словами приговоров. Зафиксированы и реальные факты «заломов», неоднократно упоминаемые в материалах судебных процессов. Так, в 1666 г. в Стародубском суде рассматривалась жалоба одного мельника на некую Арину: она якобы «зъ своего знахарства» заламывала жито[2426]. В 1718 г. в Оврочском суде истцы обвиняли своих соседей в том, что ответчики «очаровали и завили» их яровую пшеницу[2427]. В 1723 г. в той же местности были заподозрены в чародействе дворянки Мошковские, Любовь и Анастасия, которые, по утверждению пострадавшего односельчанина, дворянина Ильи Духовского, делали «завитки» на его поле[2428]. Несколько позднее управляющий графа Тышкевича доносил из Литвы, что даже после того, как он сжег шестерых чаровниц, господская рожь оказалась в двух местах заломанной[2429]. Аналогичные случаи зафиксированы и в Центральной России. Известен факт, когда в Великие Луки привели с приставом «разорителя и волшебника», который заломал «в отчем сельце» рожь[2430]. В обряде «залома» все действия носят знаковый характер. В нем отчетливо просматривается идея плетения, вязания, витья, соотнесенная с нитью жизни и предопределяющая течение бытия. Залом же стеблей растений, приравненных к нитям жизни, символизирует ее пресечение. Узлом этот негативный акт усиливается и закрепляется. В народных верованиях узел продолжал оставаться «таинственным иероглифом, загадкой; за ним скрывалась чья-то мысль, какое-то намерение, может быть, злой умысел»[2431]. Характерно, что такой узел в некоторых локальных русских и — шире — в восточнославянских традициях назывался «куклой», «куколкой» и, по-видимому, некогда имел антропоморфные очертания, как бы персонифицируя заключенную в нем колдовскую силу: «Летом, в рабочую пору, сын старухи косил рожь. Прошел два ряда, идет третий, как видит — кукла завязана во ржи его. Сорвал он эту куклу (курсив мой. — Н. К.)»[2432]. И в данном случае мифологическое мышление оперирует тождествами, на этот раз взаимодополняющими друг друга. Вот почему нам представляется неполным объяснение, которое дает «залому» Н. Ф. Сумцов, акцентируя внимание лишь на магическом узле[2433]. Такой же мы считаем и трактовку рассматриваемого обряда, предложенную Д. К. Зелениным, концентрирующим основное внимание на пригибании колосьев к земле, вследствие чего, по мнению ученого, туда уходит вегетационная сила растений, направляемая затем колдуном (знахарем, ведьмой) с чужого поля на свое[2434]. Каково же назначение заломов? Об этом наиболее емко повествуется в духовном стихе, где грешная душа говорит о себе:

Рис. 43. Амбар в Архангельской обл.
Однако «залом» или «закрутка» символизирует нечто большее, чем просто пресечение вегетационной силы цветущих и созревающих хлебов, равно как и их плодородия. Не случайно в духовных стихах «залом» по своей семантике эквивалентен выдаиванию молока у чужих коров:
(курсив в цитатах мой. — Н. К.)[2438].

Рис. 44. Хлев. Село Сенная Губа. Заонежье
Подобными функционально тождественными действиями в соответствии с мифологической логикой можно не просто причинить ущерб своему недругу, но и отнять у него некое средоточие обилия, выраженное в той или иной форме. Причем речь идет не только об урожае. Посредством «залома», по рассказам, отнимают плодовитость домашнего скота, способность к деторождению у человека, равно как и здоровье, жизнь домашних животных и людей, хозяина поля и всей его родни. Вредоносное действие «залома» падает в первую очередь на того, кто нечаянно сожнет его: «Систра мыя ни видамши да сжала залом. Стала ей мутарна, и муж яе на лугах кричить: „Ай, жiў ня буду, ай, жiў ня буду!“ Стаў битца, як земля почарнел»[2439]. В другом случае садовник, вырвавший «залом», да так, что «только корешки замотались», стал после каждого слова прибавлять «говорит», «говорит», чего раньше с ним не бывало, а рука у него более полугода будто на пружинах ходила, так и подергивалась[2440]. Столь же губителен «залом» и для скота, что особенно очевидно из восточнославянских (белорусских) мифологических рассказов: «Пасьвили два хлопчики быдла. Адзин з их стаў ламаць жита ды и гаварыць: „Ламлю заломы!“ А други пытая: „На што?“ — „Каб падохли паповы каровы“. Узяли гэта у папа каровы и паздыхали»[2441]. Этого заклинания, имеющего в приведенном мифологическом рассказе архаическую диалогическую форму, как выясняется, вполне достаточно, чтобы данное средоточие колдовства начало действовать и обрушило свою вредоносную силу на домашний скот. Впрочем, соотнесенность растений с домашними животными обнаруживается и в других видах колдовства. Например, некий человек в день Ивана Купалы, рано утром, до восхода солнца, мотает торбой по житу, нечто произносит и сбивает росу с колосьев. Придя домой, он вешает торбу в хлеве. Вначале из нее капает молоко, а потом — кровь. У хозяина же поля, над чьим житом колдун производил магические действа и произносил слова заговора, начала сохнуть, а позже и совсем пропала корова. Тогда из торбы перестало капать. Вода (роса) — молоко — кровь в сакральный час способны превращаться друг в друга. Они тождественны по своей семантике и взаимозаменимы и в рассматриваемой бывальщине. Превращение росы (воды) вначале в молоко, а затем в кровь, вытекающую из своего вместилища, влечет за собой по законам гомеопатической, или имитативной, магии гибель животного, которому было адресовано заклятие, сопровождающее магические действа. Сбиванием же росы с колосьев жита обусловливается укрощение вегетационной (по сути жизненной) силы, которая и осмысляется как средоточие обилия в мифологическом смысле этого слова.

Рис. 45. Кованый серп. Заонежье
Подобные чародейства считались величайшим грехом. Вот почему колдунья, заламывающая жито, была изображена даже на картине Страшного Суда (полотно XVIII в.), хранившейся в Киевском церковно-археологическом музее. В народных же рассказах священник отказывается причащать колдунью, которая завязывала в хлебе «куклу», не разрешает внести покойницу в церковь (ее отпевают на улице) и позволяет похоронить умершую лишь в самом углу кладбища, у канавы, где нет рядом других могил. Однако действие «залома» неотвратимо лишь в том случае, если его нечаянно сожнет, скосит либо просто вырвет из земли человек, не обладающий тайными знаниями и не заручившийся помощью знахаря иликолдуна. В этом случае, по словам рассказчиков, «как раз Богу душу отдашь, а ежели жив останешься, то так тебя изуродует, что сам на себя не будешь похож»[2442] или же какое-нибудь несчастье поразит безрассудного смельчака. Согласно мифологическим рассказам, есть немало способов нейтрализовать вредоносное воздействие «залома». Прежде всего, это под силу знахарю (колдуну) или священнику. И тот и другой персонаж наследует функцию волхвов. И тот и другой, по-разному переосмысляясь по сравнению со своими архаическими предшественниками, не утрачивает признаков мага, противостоящего злокозненным замыслам нечистой силы. Так или иначе посвященный в эзотерические знания, он, используя особые приемы, срезает или выдергивает «залом». Например, колдун или знахарь выдергивает это средоточие вредоносной силы посредством осинового кола, расщепленного надвое. Аналогичным способом действует и священник: он тоже выдергивает «закрут», но только церковным крестом. Далее «залом» предается очистительной силе воды или огня: его сжигают благовещенской свечой или топят в реке, болоте. На том месте, где он находился, или там, где от него избавились, забивается кол, обычно осиновый. Осина, которая в поздней традиции представлена как отрицательно маркированное, связанное с нечистой силой дерево, подчас получает иное, прямо противоположное, изначальное осмысление: в этих случаях она служит надежным апотропейным средством от вредоносного колдовства. Обряд снятия «залома» предваряется и (или) заключается магическими нашептываниями (если речь идет о знахаре и колдуне) либо молитвами, встречающимися в старинных требниках (когда «залом» устраняет священник). При этом колдун, который сделал «залом», в момент, когда на месте последнего вбивают осиновый кол, испытывает нестерпимую боль (напомним, нечто похожее происходит, когда секут молоко, отнятое ведьмой у чужой коровы). Такого рода факты свидетельствуют о некоем единстве субстанции чародея и сотворенного им средоточия чародейства. Восстановить же утраченное обилие можно, поместив взамен его новое. Для этого хозяин, обнаруживший на своем поле «хлебную завязку», привозит на запряженной в телегу лошади, в первый раз — на необъезженной, во второй раз — на «езжалой», вначале свиной, а затем лошадиный навоз и, прибыв на место, обсыпает одним и другим всю «завязку». После подобного вытеснения новым прежнего средоточия обилия, утраченного и «завязанного», благополучие хозяина поля восстанавливается, тогда как напасти, замышляемые злыми людьми, на их же головы и обрушиваются. Существуют средства и для предотвращения «заломов». Для этого вокруг поля протягивают нитку или проводят борозду (опахивают) сохой, в которую запряжены три девственницы или три вдовы, ведущие строгий образ жизни (подобным же способом ограждают село от морового поветрия). Несколько иную версию содержат украинские материалы: по полям, и особенно там, где растет лен, втыкают в землю (преимущественно накануне Ивана Купалы) осиновые веточки как апотропейное средство[2443]. Так или иначе после этих действ ведьмы и колдуны не смогут отнять «спор», т. е. урожай, поскольку созданная подобным способом магическая ограда окажется для них непреодолимой. Однако и этими проявлениями колдовства могущество ведунов и чародеев не исчерпывается. Судя по мифологическим рассказам, они способны управлять и метеорологическими стихиями: дождем, градом, ветром. В их власти удержать или наслать то, другое или третье. Так, отец одной из девочек, оказавшихся в лесу и испугавшихся разбушевавшегося ветра, укрощает его на дорожке, по которой они едут, давая ему полную волю на всем окружающем пространстве. Эта разновидность колдовства осмысляется в соответствии с сознанием земледельца: она связана с аграрным циклом. В одной из бывальщин внезапно появившаяся «страшенная» туча обходит стороной поле «знающего» («А на моей пашенке не было»), тогда как работающие рядом соседи оказались под проливным дождем. «Механизм» удержания или наслания тучи ведуном можно обнаружить, обратившись к украинскому мифологическому рассказу, где туча с градом персонифицируется в черном всаднике, сидящем на черном же коне и подчиняющемся воле чародея. Из этого следует, что колдун управляет тучами, как живыми существами: «Раз был он (знахарь. — Н. К.) с другими на ниве; сделалась страшная буря; все небо почернело. Жнецы бросились собирать снопы, а он поглядел спокойно на небо и говорит: „Не бойтесь, не будет дождя!“ Но никто его не послушал. Вдруг, откуда ни возьмись, летит по полю человек на коне и сам черный и конь черный, летит и прямо к нему! „Пусти!“ — говорит. А тот ему: „Не пущу!“ — „Пусти, сделай милость!“ „Не пущу: зачем было так много набирать?“ Черный ездок прилег к конской гриве и помчался по полю». Вскоре всадник вновь появляется. «Тогда знахарь разогнулся и говорит: „Ну, ступай, только не здесь, а в той долине, что за нивою“. И лишь только вымолвил, ездока не стало, и град зашумел, как буря»[2444]. Мало того, об одной из ведьм рассказывали, что она не только управляет дождевыми или грозовыми тучами, но и сама изготавливает град, делая его из собранного инея, и побивает хлеба. В такой же мере причастны ведьмы, колдуны и к засухе. Правда, в русской традиции мифологические рассказы на эту тему представляют собой довольно большую редкость. Однако они легко реконструируются на основе материалов, связанных с делами судопроизводства. Так, в рапорте кавказского губернатора Малинского генералу Ртищеву от 10 июня 1841 г. содержится жалоба тринадцати престарелых женщин-переселенок (последний признак в плане приписывания магических способностей оказывается, как мы помним, весьма существенным) по поводу того, что они были признаны местными жителями ведьмами, «от колдовства коих не было дождя»[2445]. Аналогичный случай зафиксирован в Каменецкой городской книге под 1709 г., где общественное мнение приписывало факт продолжительной засухи злому умыслу женщин, занимающихся чародейством, причем вначале обвинялись крестьянки, а затем — дворянка Яворская[2446]. Виновных в этом бедствии, грозящем неурожаем и голодом, разыскивали с помощью знахаря или даже священника. Традиционным средством определить ведьму в южнорусских и украинских селениях считался особый обряд — так называемое плавание ведьмы, или испытание ее водой. Заподозренную в чародействе исполнители обряда раздевали догола и связывали определенным способом: большой палец правой руки привязывали к большому пальцу левой ноги и наоборот. Продев под пересечением соединенных накрест рук и ног веревку, подозреваемую опускали в воду (реку, озеро). Если при этом женщина тонула, ее признавали невиновной. В противном случае она считалась ведьмой. Подобный способ выявления ведьм зафиксирован в южнославянской, грузинской, немецкой, французской и других этнических традициях. Менее распространенным было испытание ведьм огнем. (Его следует отличать от кары в виде сожжения. Так, например, в 1666 г. в Мюнхене был сожжен за порчу погоды 70-летний старик[2447].) Опознав с помощью знахаря ведьму, старались предотвратить или пресечь ее вредоносные действия. Предполагаемую виновницу засухи, голода, мора нередко обрекали на смерть: топили, сжигали, закапывали живой в землю, иначе говоря, предавали ее природным стихиям, или же просто избивали, лишая тем самым магической силы. Подчас обращались с жалобой на виновницу бедствий в различные судебные инстанции. Таким образом, бытие (независимо от того, идет ли речь о всем мироздании или о жизни конкретной крестьянской усадьбы, о всем микроколлективе или об отдельно взятом индивиде) оказывается в фокусе постоянно противоборствующих начал. Имеются в виду персонификации злой и доброй воли, «белого» и «черного» знания, упорядоченности и хаоса, благодетельного покровительства и вредоносного вмешательства. От исхода этого противостояния зависит благополучие людей в целом и каждого в отдельности. Вот почему задача ведунов и чародеев, наследовавших функции древних волхвов, — содействовать в этом единоборстве укреплению благодетельных начал и нейтрализовать вредоносные силы, тем самым обеспечивая устойчивое равновесие в универсуме и социуме.
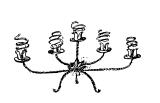
Глава II Ведуны-зелейники
Зиждительная сила, став душой, Лишь тем отличной от души растенья, Что та дошла, а этой — путь большой, Усваивает чувства и движенья.Данте
К истории и семантике травоволхвования

Травоволхвование, или зелейничество, т. е. использование предполагаемых чудодейственных сил зелья (старинное название травы, травянистого растения) для достижения определенных, преимущественно магических, целей, было распространенным явлением в Древней Руси. И потому рассказы о ведунах-зелейниках, использующих в своей практической деятельности травы, занимают в мифологической прозе заметное место[2448]. «У нас в деревне умерла одна старушка (ходила и травы рвала, много их у нее в сундуке осталось)»[2449], — нередко сообщают севернорусские рассказчики. То же подтверждается документальными источниками: у некоего Исайки «толченых трав в двенадцати узлах завязано, да во шести мешках травы ж <…>, да пук разных пяти трав»[2450]. В качестве ведунов-зелейников могут фигурировать знахари, колдуны, ведьмы, а то и простые смертные, перенявшие часть эзотерических (тайных) знаний от посвященных в это искусство. Своим же преемникам зелейники откроют чудесные свойства растений — какая трава «пользует» от той или иной болезни, и в качестве образца дадут незаменимые в колдовской, знахарской практике травы и коренья: «сустричаится з ею (Ариной. — Н. К.) сивенький-пресивенький старичок: „<…> я табе траўку пакажу“. <…>. И три дни он яе вадiў и усе он показываў травы, каторыя ат чаво», при этом требуя от девушки, едва ли не как от жрицы, обета безбрачия: «Ня иди ты замыж», ибо нарушение запрета влечет за собой утрату обретенных знаний[2451]. Посвящающие в искусство зелейничества сообщат и рецепты приготовления всевозможных настоев, отваров, мазей. Однако в арсенале каждого колдуна, знахаря, ведьмы свои, нужные ему растения, употреблявшиеся в соответствии с их свойствами и назначением, а также с собственными намерениями и замыслами ведуна. Уже в уставах Владимира I и его сына, Ярослава Мудрого, за зелейничество, равно как и за ведовство, потвори, чародеяние, волхвование, предписывалось предавать суду Церкви. Согласно же Летописцу Переяславля Суздальского, составленному в начале XIII в., жену-зелейницу, отождествляемую с чародеицей, наузницей, волхвой (влъхвой), может, «доличившись», казнить ее муж[2452]. А в подкрестной записи от 15 сентября 1598 г. подданные, присягая царю Борису, брали, в частности, на себя обязательство «людей своих с ведовством да и со всяким лихим зельем и с кореньем не посылати»[2453]. Тем не менее факты использования растений в магических целях продолжали фиксироваться, и особенно древнерусскими священнослужителями, гневно клеймившими травоволхвование как творимое «действом диаволим». Вот что пишет по этому поводу игумен Памфил в своем послании псковскому наместнику в XVI в.: «<…> егда приходит великий праздник день Рождества Предтечева, исходят огньницы, мужие и жены чаровницы по лугам, и по болотам, и в пустыни, и в дубровы, ищущи смертные отравы и приветрочрева, от травного зелия на пагубу человеком и скотом; тут же и дивии корения копают на потворение (потворник — знахарь, колдун, чародей. — Н. К.) мужем своим»[2454]. Несмотря на увещевания духовенства, вера в магическую силу растений продолжала удерживаться не только в простом народе, но даже в царском окружении. Так, при царе Михаиле Федоровиче 8 января 1632 г. была отправлена в Псков грамота о запрещении покупать у литовцев хмель, поскольку в Литве объявилась «баба-ведунья», наговаривающая на это зелье с намерением навести на Русь моровое поветрие[2455]. А в 1625 г. велено было выслать из Верхотурья в Москву некоего переселенца Якова. Найденное у него при обыске воровское зелье (коробка багровой травы, три корня и комок чего-то) Яков получил от колдуна Степанки Козьи Ноги[2456]. Царь же Алексей Михайлович, хотя и преследовал ведовство как богопротивное дело, тем не менее в 1657 г. писал стольнику Матюшкину, чтобы тот посылал крестьян в купальскую ночь «набрать цвету серебориннаго, да трав империковой и мятной с цветом, и дягилю и дягильнаго коренья, по 5 пуд»[2457]. Однако это обстоятельство не помешало Федору Алексеевичу издать в 1676 г. указ, полностью соответствующий средневековым представлениям о ведовстве как общественно опасном явлении: «Сокольскому пушкарю Панке Ломоносову и жене его Аноске дать им отца духовного, и сказать им их вину в торговый день при многих людях, и велеть казнить смертью, сжечь в срубе с кореньем и с травы, чтоб иным не повадно было так воровать и людей кореньем до смерти отравливать»[2458]. Представления о чародейском зелье не были преодолены и в XVIII в.: не случайно среди современников Петра I ходили слухи, что Екатерина с князем Меншиковым «его величество кореньем обвели»[2459], т. е. приворожили. В народной же среде эта вера дожила едва ли не до наших дней. Отчасти сдавшие свои былые позиции лишь под влиянием христианства, деревенские ведуны-зелейники, тем не менее, вряд ли уступали в приписываемых им чародействах прославленным магам Европы — таким, скажем, как граф Калиостро, который, кстати, утверждал, что сила его искусства заключена в «словах, травах (курсив мой. — Н. К.), камнях»[2460]. Наконец, доморощенных колдуний и знахарок можно сравнить с мифологическими персонажами гомеровского эпоса: например, со «светлокудрой женой Агамедой, знавшей все травы целебные, сколько земля их рождает» (Гомер. Илиада. XI. 739–740), и даже с Еленой, в образе которой исследователи усматривают признаки некоего древнейшего растительного божества: постепенно оно трансформировалось в названный женский персонаж, владеющий, в частности, секретом изготовления из египетских трав чародейского напитка. Антропоморфизированным же божествам растительности предшествуют персонификации самих растений. Не случайно, согласно мифологическим рассказам и поверьям, пользоваться их чудесными свойствами учат знахаря, колдуна сами цветы и травы. Своими тайнами, однако, волшебные растения делятся лишь с тем, кто, выдержав определенные испытания (типа инициации), обретет способность понимать их язык: «Змеи имели то свойство, что, поевши их, человек начинал понимать разговор огня с огнем, травы с травой. Барин подслушивал в лесу разговор трав и записывал их целебные свойства <…>. От этого барина и пошли травники, цветники, стали потом знать пользу растений (курсив мой. — Н. К.)»[2461]. Согласно народным верованиям, растительный мир сходен с животным, где каждый вид имеет свое назначение. Трава отличается от травы, как животное от животного и даже как человек от человека. Вот почему растения, полезные для мужчины, не годятся для женщины, а для женатого мужчины и замужней женщины, для парня и девушки предписываются разные травы. Даже, казалось бы, известное, уже зарекомендовавшее себя в том или ином отношении и многократно испытанное растение далеко не на каждого оказывает ожидаемое воздействие. Да и взаимосвязь растения — знахаря (колдуна) — «пациента» может быть различной. В одном случае чудодейственную траву полагается сорвать самому знахарю и лишь затем передать ее больному, в другом — «пациент» должен сорвать целебное растение собственноручно, хотя и по указанию знахаря. Так, в одном из вятских мифологических рассказов «мужик из соседней деревни» ведет безнадежно больного, умирающего от чахотки парня в болотистое место, останавливается «у одной травки вышиной около двух четвертей» и велит тому сорвать ее. Принимая эту траву с соблюдением всех предписаний знахаря, больной в течение трех дней совершенно выздоравливает[2462].

Рис. 46. В Южной Карелии. Село Пунчойла
Заметим, что соотнесенность человека, мифического существа, связанного с растением, и самого растения в различных видах искусства — вербального и изобразительного, народного и профессионального — может принимать разнообразные формы, вплоть до известного их отождествления, носящего мифологический или же собственно поэтический характер. Иначе говоря, человек — дух растения — само растение представляют собой довольно подвижную триаду, проявляющуюся в совокупности разнообразных персонажей, в большей или меньшей степени соотнесенных между собой, а подчас уже как будто и вовсе не связанных друг с другом. Знание трав, умение пользоваться ими хранилось ведунами-зелейниками в тайне, иначе растения в их руках утрачивали свою чудодейственную силу. В среде же посвященных это искусство культивировалось веками. Его передача из поколения в поколение санкционировалась и регламентировалась определенными обычаями и обрядами. Помимо поверий, бытовавших в устной традиции, со временем получили хождение рукописные «травники», обобщавшие опыт зелейников и использовавшиеся в знахарской, колдовской практике, где иррациональное явно преобладало над рациональным, а мифическое причудливо переплеталось с реальным. Преемственно связанные с предшествующей, дописьменной народной ботаникой, обрастающие бытовавшими поверьями, соотнесенные с местной флорой, осмысляемой в соответствии с мифологическими представлениями, эти «травники» служили незаменимым пособием для всевозможных чародеев. Формируясь как «продукт коллективного творчества» (М. Ю. Лахтин[2463]), эти зельники, травники, цветники, лечебники, целебники, имеющие хождение в крестьянской среде, в свое время преодолевали следы иностранного влияния — вначале (с принятием христианства) греческого, а затем латинского (Ф. И. Буслаев[2464]), сообразуясь с предшествующей и параллельно бытующей исконной традицией, отвечая «местным условиям жизни и складу нравственных понятий данного народа» (В. М. Флоринский[2465]). Из устных поверий и рукописных «травников» черпали зелейники свое тайное знание: где растет то или иное чудодейственное зелье, как оно выглядит, когда и как его следует собирать, какие обряды необходимо при этом совершать и какие заговоры произносить, где хранить сорванные травы, как и в каких случаях применять. При рассмотрении этих сведений выясняется, сколь могущественной сверхъестественной силой располагает ведун-зелейник, обратившись к магии трав, направленной и подкрепленной магией слова. Разнообразные проявления этой силы — объект изображения в мифологических рассказах. Однако в них обычно виден лишь результат магического действа, его же предпосылки остаются по сути «за кадром». Чтобы выявить первопричину той или иной коллизии, сложившейся в быличке либо бывальщине, заглянем в лабораторию знахаря, колдуна, ведьмы, а то и просто «досюльнего» деревенского лекаря, равно как и других магов, пользующихся совокупностью растительных атрибутов, а подчас помощью неких мифических существ, связанных с определенными цветами и травами, которые занимают в народных верованиях особое место. В данном исследовании мы опирались преимущественно на те «травники» или их фрагменты, которые долгое время (во всяком случае, на протяжении XVIII–XIX вв.) имели хождение в крестьянской среде на Русском Севере. Пронизанные поверьями, приговорами, заговорами и уже неотделимые от фольклорно-этнографического материала, они и были зафиксированы в качестве такового. Подобные записи мы находим преимущественно в периодической печати XIX в. Соотнесенные с быличками и бывальщинами, они заключают в себе потенцию, стимулирующую развертывание мифологического сюжета.
Формы чудодейственных растений
Антропоморфные признаки
Многие травы, являющиеся объектами повышенного интереса со стороны зелейников, наделяются в поверьях некоторыми человеческими очертаниями. Подобные представления в известном смысле универсальны. Они имеют место уже в античной мифологии, где растения нередко осмысляются как перевоплощенные или перевоплотившиеся люди либо божества. Так, Зевс превратил девушку в фиалку; дриада по воле богов воплотилась в маргаритке; лилия возникла из тела прелестной нимфы; василек был прежде юношей; с именами Нарцисса и Пеона связаны названия цветов — нарцисса и пиона, в которые превратились эти герои античных мифов. Подобные этиологические рассказы обнаруживаются и в русской мифологической прозе. Вот что известно в фольклорной традиции о происхождении цветка Иван Безголовый (его научное название — Veronica officinalis): «Девка отрубила некоему Ивану голову. Иван пошел на жалобу к Богородице, неся свою голову на копье. Богородица превратила Ивана в синенький цветок вероники, который представляет из себя кисть, помещается на обнаженном стебельке и оканчивается заостренной макушкой. В таком положении, как шел к Богородице, Иван замер и был обращен в цветок»[2466]. Аналогичные рассказы зафиксированы и в восточнославянской традиции. Так, например, растение иван-да-марья, или братки, у которого на одном стебле бывает два цветка, синий и желтый, осмысляется в народе как перевоплотившиеся брат с сестрой: «Были себе брат и сестра, и отправились они странствовать. Долгое время они не видали друг друга, наконец, сошлись и один другого не могли узнать. Между тем, сестра понравилась брату, и они обвенчались. После узнали, что они — брат и сестра. Им стало стыдно, и брат сказал сестре: „Ну, сестра, пойдем в поле, посеемся: ты будешь цвесть лиловым цветом, а я желтым“»[2467]. По другой версии, в цветок их превратил Бог. Заметим, что антропоморфизация растений получила свое дальнейшее развитие в поэтических тропах, сформировавшихся уже в рамках фольклора и литературы. Здесь не только (и не столько) облик человека, но и сама человеческая жизнь в ее личностных и общественных проявлениях, равно как и здоровье, физическое и духовное, приобрели в образах травы и цветка свое метафорическое воплощение. Реминисценции подобных представлений обнаруживаются уже в Библии. Например, в Первом соборном послании св. ап. Петра траве уподобляется всякая плоть, а цветку — человеческая слава: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве; засохла трава, и цвет (курсив мой. — Н. К.) ее опал» (1.24). В Ветхом Завете, в Псалтири, в Псалмах Давида и Моисея, как и в народной поэзии, расцветшее растение и увядшая, поникшая трава — устойчивые символы человеческой жизни: «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет (курсив мой. — Н. К.). Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его» (Псалом 102. 15–17); «Тысяча лет <…> как трава, которая утром выростает, утро и цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает (курсив мой. — Н. К.)» (Псалом 89.6). В мифологии и религии, фольклоре и литературе и даже в обыденной речи цветы и травы уподобляются людям и, наоборот, люди сравниваются с растениями. Концентрированным выражением таких представлений служит, например, поговорка: «Девушка не травка (курсив мой. — Н. К.), вырастет не без славки»[2468]. Архетип «человек-растение» пульсирует и в сказке, где молодец может рассыпаться на триста и три травинки, а затем вновь собраться воедино в человеческом обличье, или в лирической песне, частушке, реализуясь в качестве параллелизма:
Рис. 47. Девушка в саду. Вышивка «тамбур по кумачу». Закраек полотенца. Заонежье
Данный архетип проявляет себя не только в вербальном, но и в изобразительном искусстве, например, в орнаментике традиционной вышивки, где фигуры женских персонажей, плавно переходящие в очертания цветов и трав[2471], занимают значительное место, оставаясь по сути не разгаданными, не «прочитанными» и поныне в современной науке. А между тем многие чародейские растения имеют явные антропоморфные признаки не только в абрисе, но и в вербальных определениях. Так, например, у травы адамова голова «цвет рудожелт, красен, как головка с ротком (курсив мой. — Н. К.)»[2472]. У трав же какуй и копус множество язычков: это их листочки. Такой рот подчас не лишен и языка: у дикого льна «цвет аки рот, а изо рту цвет рудожелт, аки язык (курсив мой. — Н. К.) вытянулся»[2473]. У тонкой же «стволицы» молчана, стоящей «наклоняся», как выясняется, есть лоб, а «с полунокотка от лобка того — груди и борода»[2474]. Трава парамон «ростет волосата, что черные волосы»[2475]. «Что волосы тянутся» и у травы ефилии[2476], или ефила. А корень травы перенок, подобно человеку, даже курчеват. Иногда растение не обходится и без головного убора: у травы малины шапочкой служит ее красно- или темно-вишневый цветок. Часто антропоморфные очертания обнаруживаются и у корня того или иного растения, например, у кликуна. «А корень тоя травы яко человек, все подобие человеческое (курсив мой. — Н. К.)»[2477]. Вариант: «А корень тоя травы яко глава человека и руки и ноги и все подобное человека»[2478]. То же известно и о корне адамовой головы: «<…> он прям как голова человечья и образину имеет такую, даже борода есть»[2479]. Похож на него и корень травы перенок. (Адамовой голове в западноевропейской традиции соответствует мандрагора, корень которой также напоминает маленького человечка с головой, руками и ногами.) Былей, в свою очередь, не просто имеет «человеческий образ»: у его корня два лица. Маркирование растения антропоморфными знаками нередко осмысляется как свидетельство перевоплощения в него человека. Не случайно царь-трава прорастает из ребер лежащего под ней человека, вобрав в себя его плоть и душу: ведь ребро, согласно древним верованиям, как раз и является одним из вместилищ жизненной силы, или души[2480]. В соответствии с подобными представлениями у корня такого растения обнаруживаются голова, перси (грудь, передняя часть тела от шеи до пояса), сердце, десная (т. е. правая) рука. Вместе с тем сок некоторых трав (например, цилидонии) напоминает кровь. Чудодейственные растения могут относиться к разному полу. Среди них встречаются и своего рода персонажи близнечных мифов, где белый цвет связан с одним близнецом, а темный — с другим[2481]. Так, например, у кукуя «корень надвое: един — мужичок, а другой — женочка», причем «мужичок беленек», а «женочка смугла». Точно так же молчан с белым цветом — мужичок, а с синим — женка. Андрон же, наоборот: с темными листьями — «мужеска» пола, а с белыми — женского. Взаимоотношения растений, принадлежащих к одному виду, обычно характеризуются как родственные: это брат с братом или брат с сестрой. Подобные обстоятельства надо учитывать знахарям и колдунам. Например, пострел полевой и пострел лесовой предписывается держать вместе: «занеже они слывут братья (курсив мой. — Н. К.), друг без друга не хощут врачевати»[2482]. (Заметим, что подобные представления отразились в Житии св. врачевателей, «самобратий», бессребреников Козьмы и Дамиана, являющихся страждущим всегда вдвоем, лечащих, по характерному указанию агиографа-инока, «не былием, но словом Христовым».) Так же полагается обращаться с желтым и фиолетовым цветками иван-да-марьи, поскольку, согласно одному из мифов, основанному на представлениях об инцесте, это воплощение брата с сестрой в облике двухцветного цветка растения, о чем мы уже говорили. Волшебные зелья проявляют себя как живые существа: они стонут, плачут, кличут, разговаривают между собой, особенно на вечерней и утренней заре: «Трава кликун кличет голосом по зорям по дважды ух-ух»[2483]. В это же время стонет и «ревит» трава ревекка (ревенька, ревялка). Способность плакать приписывается, естественно, и плакуну. (В западноевропейской же традиции способностью издавать звуки наделяется, как известно, мандрагора. Когда выкапывают ее корень, эта трава издает низкий тоскливый вой, похожий на волчий. Шекспир в пьесе «Ромео и Джульетта» упоминает «резкость голосов, чудовищных, как стоны мандрагоры».) Цветы же иван-да-марьи, принесенные в ночь накануне Ивана Купалы и разложенные по углам избы, разговаривают друг с другом, так что подошедшему вору кажется, будто это сами хозяин с хозяйкой беседуют между собой. Растения «усваивают» и чувства, и движения. Названный кликун стряхивает с себя семя, не давая его человеку. Заметим также, что антропоморфизированному осмыслению растений в немалой степени способствовало и измерение их в параметрах человеческого тела. Не случайно даже в повседневном обиходе закрепилось выражение «трава в рост человека». Впрочем, в народной поэзии распространено обратное соотнесение; рост человека сравнивается с высотой травы:

Рис. 48. Человек-растение. Вышивка «шов набором». Пудожье
И, наконец, даже в названиях трав может присутствовать знак соотнесенности их с человеком — антропоним: иван-чай, иван-да-марья, андрон, адамова голова, Аронова борода и т. п. В наименованиях трав нередко заключено и обозначение титула: царь сим, или сил, журат-царь, царские очи и т. п. — или же социального статуса в семейно-родовой общине: «Волхвы приходят на Чистый четверг, на Егорий, Ивана, на Пасху. Дедовники (или деды, т. е. чертополох, репейник. — Н. К.) вырывают и в дворовых воротах закапывают, чтоб не спортили»[2485]. При этом травы связаны не столько с человеком, сколько с антропоморфизированным мифическим существом. Не случайно о корне водяного пупа говорят: «Зовется бес, да делом добр».
Зооморфные признаки
Среди чудесных растений есть и травы-животные. В их числе такие «гибридные» мифические существа, как растения-медведи, — львы, — зайцы, — кони, — коровы, — бараны, — мыши, равно как и растения-рептилии (змеи), растения-птицы. Так, у травы, известной в среде зелейников под названием напахт, замечена «сверху лапка на одну сторону <…>, а корень у ней что медвежий ноготь (курсив мой. — Н. К.)»[2486]. (Заметим, что аналогичные представления отчасти сохранились даже в частушке: «Надо ту траву косить, котора лапкам извилась»[2487].) Небольшая по размеру травка лев видом тем не менее «как лев кажется»[2488]. Изображение льва с «процветшим» хвостом нередко и ныне встречается в севернорусских деревнях (Пудожский район Карелии; Архангельская область) на филенках расписных дверей, на донцах балконов и т. п. Напрашивается сравнение с узором золотого шитья на девичьей повязке, хранящейся в музее Великого Устюга, где язык льва «прорастает» цветущей ветвью (в других вариантах он просто высунут из пасти зверя)[2489]. «Процветший» же взвившийся хвост, принадлежащий льву, изображенному в севернорусской вышивке на подзорах и полотенцах, отмечен Г. С. Масловой[2490]. Кстати, аналогичный лев представлен в рельефе Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1230–1234 гг.). Листья же растения «мачихино лице» по своей форме напоминают конские копыта, а корень либиста, «что лодышка (лодыжка. — Н. К.) барановая»[2491]. Согласно поверью, в низовьях Волги растет некое мифическое существо, которое одновременно имеет признаки растения, барана, рака и называется баранец-трава. На нем созревает плод, похожий на ягненка. У этого растения есть пупок, через который проходит стебель, возвышающийся на три пяди. Рогов у него нет. Ноги мохнаты. По рассказам, местные жители якобы шьют себе шапки из меха баранца. Передняя часть туловища у этого фитозооморфного существа, как у рака, имеются даже клешни, которыми баранец «пребольно, до крови щиплется». Это «гибридное» существо живет не сходя с места до тех пор, пока вокруг него есть пища[2492]. Мохнатыми, хотя и не соотнесенными с определенным видом животных, являются и травы ворохна, ливан. Корень же дикого чеснока похож на мышиный хвост. Очертания змеи-растения вырисовываются из поверья о волшебном горохе, который вырастает из трех горошин, положенных в разрезанное брюхо убитой по весне змеи и вместе с нею зарытых в землю. Иная версия: трава медяница, или курячья слепота, вырастает из мертвых (гниющих) «зловредных гадов». Будучи слепой, она обретает зрение лишь в Иванов день и, завидя человека или животное, бросается на него стрелой и пробивает насквозь.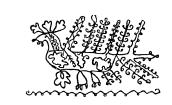
Рисунок 49. Традиционная севернорусская вышивка. Каргополье
Знаком соотнесенности травы с животным служит и способ ее хранения: например, сорванную и засушенную колюку держат в коровьих пузырях, чернобыльник зашивают в шкуру молодого зайца. У ряда чудодейственных растений отмечаются и птичьи признаки. Это фитоорнитоморфные персонажи: почка папоротника прыгает, как живая птичка, от распустившегося же цветка доносится щебетание. Переносится с места на место мифическая перелет-трава. Трава воронец по своим очертаниям похожа на «лапушки ворона», а узенькие листики травы бронец, напоминают «векшей коготь» (векша в русских говорах Карелии — сорока). Ластовичья (ластовичная) трава растет в то время, когда ласточки и орлы устраивают себе гнезда. Отсюда и происходят названия воронец и ластовичья, принятые в народной традиции. Вообще, многие растения своими наименованиями соотносятся с тем или иным животным (например, трава корова, трава мышка) либо с его частью (песий язык, воронье око). Другие же обозначают лишь принадлежность к определенному животному (например, щавель может быть коневий, овечей, сорочей). Одним словом, тем или иным зооморфным знаком маркируется, как правило, мифическое по своей сущности растение, образ которого характерен не только для словесного, но и для изобразительного искусства. Так, например, растительно-орнитоморфные персонажи нередко обнаруживаются в орнаментике вышивки, где, как утверждает Г. С. Маслова, фигурируют птицы, слившиеся с растениями или имеющие крылья, состоящие из ветвей и цветов[2493]. Вместе с тем, хотя и редко, но в традиции встречаются и фитоантропозооморфные персонажи. К числу таковых относится волшебная («настоящая») трава перекати-поле, корень которой похож на коня со всадником, причем на коне видны даже седло и узда, а на груди у него — крест, маркирующий сакральность данного персонажа. Признаками растения, человека и животного наделяется и упоминавшаяся выше мандрагора. Во всяком случае Пифагор, древнегреческий мыслитель (VI в. до н. э.), Колумелла, римский писатель и агроном (I в.), Плиний Старший, римский писатель и ученый, считали ее животным.
Фитоморфные признаки
И все же у чародейских трав, нередко выступающих в качестве чудесных помощников или чудесных предметов, растительные признаки заметно превалируют. Прежде всего, у них есть стебель — одна стволина или ствол (он может быть долог, тонок и даже четвероуголен) с большим или меньшим числом отраслей-стволин: «Ствол тонок, а по тому стволу стволинок или отраслей по девяти или по десяти» (дикий хмель)[2494]. Впрочем, используемое в колдовской, знахарской практике зелье растет и кустиками. Различаются стоячие, стелющиеся и вьющиеся вокруг других растений травы. Каждую из них ведуны-зелейники опознают по очертаниям, размеру стебля, по форме и расположению листьев, по цветку. Разыскиваемую траву определяют, прежде всего, благодаря сходству с известными растениями: «листики, что капуста» (воронец); «подобна листьям крапивным» (андрон); «походит на брусничник» (боронецкая); «листья, что у рябины» (напахт); трава «чернобы», чернобыль, чернобылец, т. е. чернобыльник, напоминает полынь («полымь») — Artemisia vulgaris; «лист» же цвитарии «походит на черемховый» и т. д. У некоторых растений (кавыка, мурат) вместо листьев иглы, а подчас нет ни того ни другого. Траву опознают и по ширине, длине, размеру листьев, среди которых различают «листки узеньки» (бронец — Smilacina bifolia), «долгоньки» (какуй), «не широки, только длинны — в четверть аршина» (золотая: возможно, золотая розга — Solidago virgaurea), «велики» (пересьяка), «невелики, в серебряную копейку» (малина?) и т. п. Такие описания обычно не выходят за рамки оппозиций: узкий — широкий, короткий — длинный, малый — большой. Каждая из них может быть заменена теми или иными синонимическими рядами. «Знающие» люди различают растения и по цвету листвы. Особенно легко узнать травы красных тонов: «листочки красны» (царские, или царевы, очи, т. е. росянка круглолистная — Drosera rotundifolia), «листом красновата» (ревялка, ревенька, т. е. ревень — Rheum), «токмо един лист багров» (ластовичья, или ластовичная, трава, т. е. чистотел — Chelidonium). Среди растений, собираемых колдунами или знахарями, встречаются и такие, у которых листья с верхней и нижней сторон разного цвета. И даже зеленая листва также служит одним из определителей чудодейственного растения. Замечают и расположение листьев относительно стебля, и общее их количество: «растет на ней по три и по четыре листа» (отмеч), «по сторонам по четыре листка» (могойт). Нередко они определенным образом сочетаются друг с другом: «листка по три, и по пяти, и по шести, и по девяти, и по десяти, и по двенадцати вместе» (адамова голова: подразумевается растение из семейства пасленовых — Mandragora offic, или Atropa mandragora, но могут иметься в виду и иные растения); «по три листка вместе» (дикий хмель — Humulus lupulus) и др. Для растений с обильной листвой в традиции выработалось свое определение: «лист щедроват» (пострел, или прострел, лютик лесовой — Pulsatilla). Однако, пожалуй, самым ярким признаком того или иного растения является цветок. Его наличие иногда приписывается даже таким травам, которые никогда не цветут (например, папоротнику). У многих растений, причисляемых к чудодейственным, цветок красный или красноватых оттенков: вельми красен, красноват, багров (багр), вишнев, темно-вишнев, малинов, гниловат. Он может сравниваться с маковым. Палитра «травников» не отличается особым разнообразием. Помимо красного, в ней имеются желтый, синий, белый цвета со всевозможными оттенками. Соответственно цветок может быть желт, рудо-желт, подобен золоту или же синь, лазорев, а также бел либо беловат. Иногда растение увенчивается разными цветками, в числе которых «чернен, багров, зелен, синь» (могойт). У травы молчан один «цвет синь, а другой бел», у солнечника (подсолнечника — Helianthus annuus) «цвет разный». Ведуны-зелейники различают растения и по корню, который определяется в соответствии с той или иной совокупностью признаков, сводящихся обычно к оппозициям: белый (красный) — черный; тонкий («как мыший хвост») — толстый («как огурец большой», «как редька»); короткий («не велик») — длинный; прямой — загнутый («загнулся крюком»);сухой — сырой; твердый («едрен», «туг, что дерево») — мягкий («мякок»); сладкий — горький («как перец»); растущий глубоко — неглубоко в земле; единичный — множественный (двойной; «розсыпью и мелким кореньем»); с «духом» («как конопляный запах», «как от скипидара») — без него. Один корень представляет собой светлое, положительное начало в магической силе растений (например, Петров крест), другой — темное или трансформировавшееся в отрицательное («бес»). Чародейское зелье нередко бывает синим: именно этим цветом, как правило, маркируются мифические существа. Иногда это красные, багровые (таковыми они предстают и в традиционной вышивке) или желтые, будто золотые, перевитые золотом, либо пестрые растения (в подобном виде они фигурируют обычно в росписи). Однако чаще трава, как ей и подобает, — зеленая: «травушка-муравушка зеленая». И все же, несмотря на, казалась бы, скрупулезное описание чудесных растений в «травниках», несмотря на наличие образцов, хранящихся у ведунов-зелейников в своего рода гербариях, опознать ту или иную чудодейственную траву оказывается делом непростым — как, впрочем, и в народной «травной» росписи. Ведь нередко одно и то же растение в разных локальных традициях было известно под различными наименованиями и, наоборот, под одним и тем же названием подразумевались разные травы. К тому же некоторые растения имели множество разновидностей. «Терминология отличалась редкой произвольностью. Названия растений буквально тонут в ворохе синонимов. Поэтому научная систематика лекарственных растений, применявшихся на Севере в XVII, XVI и более ранних столетиях, является крайне затруднительной», — отмечает Н. А. Богоявленский[2495]. Не говоря уже о том, что реальный цветок, трава, корень никак не могли обладать свойствами мифических. И действительно, не так просто даже «знающему» человеку отыскать траву, которая «иному покажется, а иному не покажется» (осот)[2496], или же зелье, которое днем и не приметишь, а только ночью, когда оно сияет, потому что один из его цветов «как свеча горит», другой же цвет желтый (лев), или же найти растение с четырехугольным стволом, по своим очертаниям подобное городу или церкви (цвитария). Человеку, не посвященному в тайные знания, невозможно опознать и траву, которая, дескать, и в огне не горит, и в воде плывет против течения, что характерно для таких волшебных растений, как ревекка, или ревялка, водяной пуп и особенно разрыв-трава. Стебель же травы белен, растущей на воде, имеет направление, «противное течению реки, потому ее и знать»[2497]. А о некоей дивной траве киноворот в древнейшем из «Зелейников» сказано: «Хотя какая буря, она кланяется на восток всеми стволами; то же, если и ветру нет…»[2498]. Вряд ли простой смертный замечал, какую именно траву едят гуси на лугу, в то время как другая птица ее не клюет, и по этому признаку узнавал в загадочном растении жируху («жира» в севернорусских говорах — «жизнь»), или водяную крапиву. По поверьям, чудодейственная трава занимает особое место по отношению к окружающим: она растет в середине, в центре, а «вси травы приклонны к ней» (кликун)[2499]; «около нее поблизости травы нет, а которая и есть, и та приклонилась перед ней» (лев)[2500]. Да и само описание трав, как выясняется в конечном итоге, отнюдь не отличалось реальной конкретизацией и часто сводилось по сути к варьирующимся формульным выражениям, обозначающим высоту, длину, ширину очертания, цвет всего растения либо определенной его части. Заметим, что среди трав, собираемых «знающими» людьми, имели место и даже, несомненно, преобладали растения, которые мы бы назвали просто лекарственными. Однако осмысление назначения, пользы, способов применения зелья, истолкование самих причин болезней и условий исцеления оставались все же в рамках мифологических представлений, что не могло не сказаться на восприятии самих растений. К тому же применение даже обычных лекарственных трав подчас сопровождалось магическим словом заговора, с которым знахарь обращался к различным мифическим существам, языческим или христианизированным. Предполагалось, что магической силой ведуна-зелейника подкреплялось благотворное воздействие растения. В этом контексте для осмысления используемой травы как реальной почти не оставалось места.
Рис. 50. Лопаски «прялиц». Роспись по дереву. Пудожье
Отточенность и устойчивость формул описания растений в «травниках» (в известном смысле они могут быть приравнены к заговорным формулам) наводит на мысль, что в период устного, дописьменного их бытования, который характеризуется господством мифологического сознания, они представляли собой некие магические тексты, передаваемые посвящаемым в «зелейничество». Аналоги волшебным растениям можно обнаружить в орнаментике народной вышивки, а также в «травной» росписи прялок, сундуков, филенок дверей, традиционной посуды, в чеканке, гравировке, набойке[2501]. Они же могут присутствовать и в декоре фронтона («чела») северных крестьянских домов, донцев балконов, наличников окон[2502], равно как и в «травной» росписи тябл иконостасов деревянных храмов Русского Севера, например, шатровой церкви Успения Божией Матери, что в Кондопоге (1774 г.), или многоглавой Покровской церкви (1764 г.), входящей в знаменитый кижский ансамбль. Быть может, о некогда сакральном значении мифических растений напоминает, в частности, присутствие их в стенной живописи древних храмов (например, роспись Троицкого собора в Калязине, 1654 г., или роспись церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, 1694–1695 гг.), где растения то «сплетены в густой сочный узор, то легко разбросаны по поверхности, то составлены из крупных распустившихся цветов, то из мелких перистых трав», ритму которых подчинены движения изображаемых фигур[2503]. Диковинные цветы мы видим и на изразцовой панели церкви Ильи Пророка в Ярославле (конец XVII в.), на изразцовой облицовке закомары Покровского собора в Измайлове (вторая половина XVII в.)[2504]. Процветшие растения (деревья и травы) — довольно устойчивый образ, включенный в средник — основную часть композиции иконы, организующий ее пространство и нередко пластически комментирующий ее содержание[2505]. «Травный» орнамент применялся изографами в иллюминовании богослужебных книг (например, на одной из заставок в Четвероевангелии Матфей изображен в обрамлении цветочного орнамента)[2506]. Растительный образ встречается и на надгробных старообрядческих памятниках (голбцах), нередко имеющих антропоморфные очертания[2507]. Причем обнаруженные на самых различных предметах материальной культуры диковинные растения, увенчанные цветком, зачастую напоминают абрис человеческой фигуры, вписываются в зооморфные изображения, наделяются фантастическими фитоморфными признаками. Таким образом, материалы «травников», соотнесенные с мифологическими рассказами и поверьями, а также с произведениями декоративно-прикладного искусства, со всей очевидностью показывают, что ведуны-зелейники имели в своем распоряжении растения, которым приписывались не столько реальные, сколько мифические свойства и посредством которых утверждалась их власть над человеческим бытием, представленным в разнообразных его проявлениях.
Сбор чародейского зелья: хронотоп и ритуал
Локусы магических растений
Среди местных крестьян всегда находились люди, которые хорошо знали те острова, лесные опушки, болота, где росли травы, считающиеся полезными. Память о таких местах подчас запечатлена в топонимах, например, Травянуха. В другом наименовании подобный локус представлен как священный: например, Святой наволок. О нем упоминает кижский сказитель Леонтий Богданов в разговоре с П. Н. Рыбниковым: «<…> а захочешь, так свезу на Святой наволок. Там, Павел Николаевич, растут всякие полезные травы, в старое время их и в Питер брали (курсив мой. — Н. К.)»[2508]. Название же иных мест с зарослями «волшебных» трав напоминает о времени наиболее интенсивного их сбора, который, к тому же, в памяти старожилов приписывается не просто «знающим» людям, а самим ведьмам: «На остров Иванцов, близко деревни (Кузаранда. — Н. К.), ежегодно на Ивановскую ночь прилетают из Киева, в виде сорок, ведьмы для собирания разных снадобий и трав. Уверяют, что травы эти, совершенно отличные по виду и свойству от обыкновенных, уносятся ведьмами на Лысую гору»[2509]. И уж совсем модернизировано название одного из травяных локусов в окрестностях Кижей — Аптекарский остров. О нем поведали местные крестьяне А. К. Гинтеру, когда он расспрашивал о странного вида участке, где обнаружил чистотел и будру[2510]. И все же сведения о местонахождении того или иного обладающего сверхъестественными свойствами растения относятся к тайным знаниям ведунов-зелейников. Судить о них мы можем преимущественно по «травникам», имеющим хождение в народе. Описания в них, как и следовало ожидать, сводятся к формульным выражениям. Судя по ним, многие из чудесных трав связаны с водной стихией: они растут в воде. Иные же расположены «при морях, при реках, при болотах», т. е. на стыке воды и земли. Последнее формульное выражение может сужаться, превращаясь из трехчленного в двучленное или даже одночленное, либо, наоборот, расширяться за счет привлечения определений (например, при великих реках). Но чаще чародейская трава — порождение земли: она растет на местах пахотных, добрых, удобных, песчаных. Такую траву можно обнаружить среди культурных растений: в овсе, ячмене, пшенице, жите и пр. — либо на границе своего и чужого, культурного и природного пространства: «по перегородам и по межам». Чудесное растение ищут также «по великим горам и по буграм». Второй член данного формульного выражения может быть заменен близкими по смыслу словами: на камени, по местам, причем в последнем случае часто используются определения: по сухим, равным, брусничным и т. п. Волшебные травы находят и в лесу (на боровых местах, на раменских борах), при березняках, сосняках, ельниках, т. е., по сути, при священных деревьях. В единичных случаях они вырастают близ хозяйственных построек, связанных, однако, с определенными верованиями (например, под ригою), и даже во дворе, на улице. Многообразие локусов достигается благодаря различным комбинациям составляющих элементов. В результате выясняется, что локус мифический в такой же степени отличается от реального, в какой волшебная трава разнится от обычной.Время сбора зелья
К тайным знаниям знахарей, колдунов, ведьм относились и сведения о том, когда следует брать то или иное зелье. Большинство трав предписывалось рвать накануне (в вечер дня Аграфены Купальницы — 23 июня) или в день Ивана Купалы, называемого в народе Иваном-травником и связанного с основными природными стихиями: водой, огнем, землей, которую в первую очередь представляли травы и цветы. В христианстве этому празднику соответствует Рождество Иоанна Предтечи, или Иоанна Крестителя. Особенно благоприятным для сбора трав считалось время между заутреней и обедней праздничного дня, хотя многие из них, согласно мифологическим рассказам и поверьям, добывались в полночь или на утренней заре, до восхода солнца. Одни травы были доступны лишь «знающим» людям, другие — и простым смертным. Отправляющемуся в заповедные места искать «сорок трав» надлежало быть чистым и не полагалось ни есть, ни пить. В числе трав Иванова дня фигурируют адамова голова, арарат, архилин, богатенка, девясил, иван-да-марья, купаленка, медвежье ушко, папоротник, плакун, разрыв (или спрыг), тирлич, чернобыльник и др. Мало того, даже траву, предназначенную для сена, не полагалось косить ранее Иванова (или Петрова) дня: только к этому времени она набирала свою полную силу. Ведь Иванов день, как известно, знаменует собой летний солнцеворот и вместе с тем переход («порог») между двумя состояниями мироздания, чем и обусловлена его сакральность. Заметим, что соответственно осмысляется и зимний солнцеворот. Вопреки всякой реальности, он далее характеризуется как время, благоприятное для сбора чародейских растений. Согласно одному из общерусских поверий, некую мифическую траву, известную в народе под названием нечуй-ветер (она растет зимой по берегам рек и озер), собирают 1 января, в глухую полночь, причем обнаружить ее могут якобы одни только незрячие. Иные растения полагалось добывать весной или осенью. Так, по поверьям, траву погибельну можно отыскать в марте: в этом месяце она и растет, и отцветает. Пострел боровой и полевой рвут 9 апреля, а сон-траву — в мае. Папоротник и разрыв — в июне, царские очи — в июле. Солнечник же полагается собирать в августе, чернобыльник — в конце августа или в первых числах сентября, прикрыш — с 15 августа по 1 октября и т. д. Одним словом, чудесные травы рвут и весной, и летом, и осенью, и зимой, хотя основной сбор приходится на период летнего солнцеворота. У каждого растения свой срок достижения полной магической силы — и этой особенностью определяется наиболее благоприятное время для его сбора. Мало того, между календарем и волшебными растениями есть некая загадочная, не поддающаяся объяснению связь.Исполнение обрядов
Сбор трав, предпринятый в сакральное время в сакральном же пространстве, сопровождался строгим соблюдением предписанных традицией обрядов. В это таинство были посвящены лишь ведуны-зелейники. Вот почему сведения о магических действах, совершаемых при сборе трав, и о магических словах заговоров, произносимых по этому случаю, крайне скудны. И все же на основе дошедших до нас фрагментов мы можем реконструировать картину обряда хотя бы в общих чертах. Отправляющийся добывать чудодейственную траву отвешивает шесть поклонов, еще находясь дома, и столько же — у самой травы. Рвать облюбованное растение предписывалось одному, так, чтобы при этом и близко никого не было и даже не доносилось пение петуха. Ведун-зелейник, будь это знахарь или колдун, представал перед объектом своих поисков, по некоторым сведениям, как говорится, в чем мать родила. Раздетость, как утверждает В. Тэрнер, — знак отсутствия всякого статуса, равно как и знак пребывания в положении между мирами, «тем» и «этим»[2511]. В таком виде «знающий» ничком падал на «матушку-сырую землю», произнося при этом магические слова заговора. Следуя строгому предписанию брать чудесную траву «сквозь златую или серебряную гривну» или же «сквозь серебряную нитку», он на деле клал вокруг выбранного растения сто серебряных копеек, либо просто серебро в неопределенном количестве («сколько хочешь»), либо серебряную нитку. Поскольку и золото, и серебро осмыслялись в древних верованиях как средоточие магической силы их владельца[2512], эти благородные металлы призваны были покорить, приумножить и закрепить магическую силу самого растения. Эта же роль отводилась божественным силам. С просьбой благословить «нарвать с себя трав для всякого надобья»[2513] обращались некогда к матушке-сырой земле, осмысляемой в качестве стихии, порождающей людей, зелье, злаки. Ей же приписывалась апотропейная сила, предотвращающая всевозможные напасти, исцеляющая от недугов. Наряду с матерью-землей в заговорах нередко фигурирует и небо-отец. Со временем в соответствии с народно-христианскими верованиями просьба о благословении при добывании трав переадресуется «Матери Божией, Пресвятой Деве Богородице», образ которой в фольклоре и верованиях постепенно слился с образом матери-сырой земли. Именно к Богородице обращаются с просьбой «дозволить <…> трав сорвать на всякую пользу и от всякой болезни всем православным христианам»[2514]. Функционально тождественным ей в заговорах-молитвах оказывается и сам Господь: «Господи, благослови меня, Отче, сию траву взять…»[2515]. Вариант: «Господи, помилуй, Господи, благослови раба своего (имярек) сию добрую траву (взять. — Н. К.)». Господу, равно как и другим персонажам народно-христианской мифологии, подчас приписывается само выращивание (создание, творение) чудодейственных трав, оказывающихся, таким образом, божественными по своему происхождению: «Святой отец праведный Абрам все поле орал, Симеон Зилот садил, Илья поливал, Господь помогал»[2516]. (Вариант, записанный в Саратовской губернии: «Святый Адам орав, Ииусус Хрыстос насiння давав, а Господь сiяв, а Маты Божа полывала, та всiм православным на помiчь давала»[2517].) Впрочем, в таких случаях ограничиваются и чтением обычной молитвы «Отче наш…». В концовке дошедших до нас заговоров, так же как и в молитвах, фигурируют Отец, Сын и Святой Дух. В других этнокультурных традициях, например, в романской мифологии, Бог наделяет травы чудодейственными свойствами. При этом обряд у облюбованного растения совершается священником, который в данном случае уподобляется ведуну-зелейнику или языческому жрецу. «Приветствую тебя, трава», — обращается к растению аббат, держа Крест и Св. Евангелие в руках. Затем читает над ним пять псалмов и добавляет: «Благословен Бог, даровавший ради праведного Моисея этому растению лечебную силу против всех болезней. Молим Тебя, Господи, дай и нашему растению ту же власть против бесов и болезней»[2518].
Рис. 51. Колокольня Ошевенского монастыря. Женщина, идущая с пожни
Разумеется, некогда содержание заговоров, произносимых «знающими» людьми, основывалось полностью на языческих верованиях, что и позволило в свое время древнерусскому церковному иерарху охарактеризовать их как «сатанинские приговоры». Тем не менее и языческий заговор, и христианская молитва должны были обеспечить действенность добываемого растения в соответствии с теми сверхъестественными возможностями, которыми оно потенциально обладает, и в соответствии с теми потребностями, которыми и обусловлено добывание определенного зелья: «<…> а ты, трава-Адам, на что я тебя копаю — и ты буди к тому пригодна во веки»[2519]. Не случайно богородскую траву, собираемую для лечебных целей, полагается рвать с приговором: «Тебе, травонька, на исхождение, а мне, рабе Божией, во исцеление»[2520]. Кстати, о собирании «богородичной травы» нам доводилось слышать в Прионежье, в с. Ладва, в 1975 г.: «А там (у часовни, посвященной Богородице. — Н. К.) был вот такой камень (такой: со здешнего узенький, а там широкой) и была вот человечья ножка (след Богородицы. — Н. К.) на этом камню, вот так. И такие росли вот маленькие-маленькие травушки, душистые-душистые. И мы всё ходили по этой травушке, и когда дождик надождит, и на этом камню мылися, на этой ножке-то, и моемся-то девчонками там. Вот так»[2521]; «Богородичных этих травушек-то таких (вот таких: маленькие они, сиреневым таким цветом цвели, душистые-запашистые, вот как верес лесной, дак таким-таким пахнут красиво, дух приятной) наберем вот целый мамы подойник парить, она корову доит, дак деревянные тогда были подойники, роги таки длинные. И вот: „Девчонки, — говорит, — идите-ко на низовску дорогу, да там нарвите этых травушек“. Вот мы и придем. А когда дождик, дак этой водичкой намоемся с камешка. Вот так, для красоты. Глупые девчонки были, дак…»[2522]. И все же некоторые травы, несмотря на строгое соблюдение всех элементов обряда, оказываются не в состоянии проявить свои чудесные свойства. Чтобы войти в полную силу, они должны подвергнуться дополнительной сакрализации. Так, например, адамову голову, которую добыли в Иванов день и в означенное время, после заутрени перед обедней, с крестом и молитвой «Отче наш», держат в доме недолго: с молитвой же ее относят в церковь на (под) престол «на сорок ден (согласно верованиям, это срок нового воплощения умершего. — Н. К.), где повседневная литургия совершается»[2523]. Или же, собрав адамову голову в Иванов день, хранят ее скрытно до Великого четверга: как уже говорилось, оба эти праздника отмечены знаком перехода. Впрочем, в церкви освящают и другие заготовленные травы: чаще всего это происходило 24 июня, в день Ивана Купалы. Заметим, что и простые смертные при сборе трав исполняли известные им фрагменты обрядов. Так, в восточнославянской традиции зафиксированы факты, когда девушки и «молодухи», отправляясь в канун Иванова дня в поля, луга и леса, собирали травы с определенными песнями, чтобы они имели целебную силу[2524]. «К тому или другому растению нельзя было относиться запросто, как ни попало, но с благоговением, чтоб не оскорбить пребывающего в нем демона, и не во всякое время, а надобно ждать урочного часа», — отмечает Ф. И. Буслаев[2525]. Впрочем, согласно некоторым поверьям, растение исполняет волю человека под страхом наказания. При этом его не надо ни срывать, ни выкапывать, ни уносить домой. Облюбованную траву оставляют на прежнем месте. Приветливо обратившись к ней (например: «матушка-крапивушка, святое деревце»), формулируют свою просьбу, после чего привязывают стебель к земле. Растение обещают отпустить на свободу через три дня при условии, что пожелание будет исполнено[2526].
Способы хранения, приготовления, применения трав
В соответствии с тайными знаниями знахарей и колдунов собранное зелье хранилось под печкой, в трубе, под порогом, в погребе или же в киотах и божницах. Из этого следует, что травы либо приравнивались к обитающим в данных сакральных локусах домашним духам, либо рассматривались как своего рода предметные медиаторы между мирами. Хранение собранных растений иногда оказывалось эквивалентным применению. Так, например, чертополох, или чертогон, было принято втыкать в трещину над воротами и калиткой или под крышей дома. Вариант: «в дворовых воротах закапывают»[2527]. Не этими ли поверьями обусловлена и локализация на надвратной доске и фронтоне дома травной росписи, исполняющей, подобно самому растению, роль оберега? Иные же травы вносили в дом: «Добра во всякой храмине держать» (кавыка)[2528]; «Угодна держать в домах» (мурат-царь)[2529]. Мало того, предписывалось даже «ставить хоромы» на траве мурат-царь, которая приравнивалась в сущности к строительной жертве, животной или человеческой. Отсюда, несомненно, и ведет начало «прорастание» в росписи дома некой мифической травы, близкой по своему назначению к соответствующим зоо- и антропоморфным изображениям. Добытую траву сушат или, наоборот, используют свежей. Нередко, «утолча», выжимают ее сок. Но чаще это порождение земли подвергают благотворному воздействию живительной влаги. Известно, например, что чернобыль-траву заплетают в плети и кладут их под «Иванову росу» с приговором (роса — эквивалент воды, о чем свидетельствует загадка: «Вечером водой, ночью водой, а днем в небеса»). Собранную траву настаивают в той или иной жидкости. Выбор последней иногда имеет существенное значение: «Кто той травы (савина. — Н. К.) с вином пьет, тот с умом станет; а ежели в молоке или в рыбной ухе (курсив мой. — Н. К.) — без ума будет»[2530]. Однако наиболее часто зелье подвергается воздействию двух взаимосвязанных стихий — воды и огня: его варят в воде (ее эквиваленты: молоко, вино, уксус, щелок, кислые щи, мед и т. п.) либо просто «в чем хочешь», «в чем-нибудь», иногда с примесью другого растения. Или же зелье «парят», «топят» само по себе либо в сочетании с другими травами. Соответственно эти отвары, настои и пьют с водой, вином, квасом или «с каким-нибудь питьем». Знахари и колдуны располагали также всей совокупностью сведений (преимущественно мифологического характера), каким образом следует использовать чудодейственную силу собранного зелья. Некоторые из трав, согласно их предписаниям, полагалось носить при себе, на поясе или кресте, на голом теле. В числе этих трав адамова голова, бельвевец, буквица, кудрявая дигиль без сердеца, отмел, папоротник, плакун и пр. Не случайно в одном из «судных дел», рассматривавшихся в 1680 г., фигурировал «корешок девесилной», завязанный «в узлишки у креста» (он принадлежал крестьянину Белозерского уезда)[2531]. Иные травы предпочиталось носить в ладанке. Изготовление такого амулета сопровождалось специальными обрядами. Например, чертополох предварительно клали на семь дней и семь ночей под подушку, причем так, чтобы его никто не видел и, тем более, не трогал. Лишь на восьмую ночь, последнюю на Святках, его приносили к старушке-«переходнице» (страннице). Она варила эту траву с воском и ладаном, сопровождая действо опять-таки особыми обрядами. Полученная подобным способом «вощанка» и зашивалась в ладанку[2532]. Из иных растений (например, из серпа) полагалось «сплести плетень» в виде венка, ожерелья, пояса и носить на себе. Большинство же трав принимали внутрь, причем некоторые из них — «по утру на тощее сердце» (синеворост, хоробрец, малина и др.). При этом в одних случаях рекомендовалось «гораздо нахлебаться не пооднажды» (пострел лютик лесовой), в других же — «пить единожды в день» (золотая). Определялась и доза употребления: «А давать ее с разсуждением золотниками» (золотуха)[2533]; «Большому человеку давать два золотника, среднему — один золотник, а малому — ползолотника» (бронец)[2534]. Золотник, как известно, — старая русская мера веса, равная 1/96 фунта (около 4,26 г). Впрочем, применялась и более расхожая доза: «а пить по чарки по утру и по вечеру, по три дня» (малина)[2535]. Одни зелья полагалось «хлебать» «в молодом месяце», другие — на его исходе[2536]. Вместе с тем определенные травы использовались и при паренье в жарко натопленной бане. Нередко в севернорусской традиции для этой цели предназначались веники, изготовленные из купальницы. Иными же растениями просто натирались. «Если нарвать накануне Иванова дня — 23 июня — пук разных трав и цветов (особенно папоротника) и таким пучком в бане, которую следует истопить в тот день как можно жарче, обтереть свое тело, то в продолжение целого года не познаешь никакой болезни»[2537], — сообщает А. Шустиков на основе собственных полевых наблюдений. Советуют натираться в бане и травой воронец. Среди трав, находящихся в распоряжении ведунов-зелейников, есть и такие, посредством которых они моют больного (дикий хмель), делают примочки (дикий чеснок), промывают и смазывают раны (золотая) или присыпают больные места (синеворост, хоробрец, расперстьице) и даже окуривают дымом тлеющего растения (боронецкая). Да и десятки других трав используют «знающие» в своей повседневной практике. Согласно сложившейся в их среде «профессиональной» этике, лишь тот, кто хорошо отличает травку от травки, может приготовлять и составы. В противном случае он не должен этим заниматься, как бы хорошо ни знал свойства отдельно взятого растения. При этом различаются магические травы, применение которых, как правило, тесно связано с заговорами и обрядовыми действами. Вот как об этом пишет русский книжник XVII в. в «Беседе отца с сыном о женской злобе»: «И взыщет обавников и обавниц и волшебств сатанинских, и над ествою будет шепты ухищряти, и под нозе подсыпати и возглавие и в постелю вшивати, и в порты резаючи, и над челом втыкаючи, и всякия прилутшихся к тому промышляти: и корением, и травами примещати, и все над мужем чарует (курсив мой. — Н. К.)»[2538]. Однако есть и обыкновенные лекарственные или перешедшие в разряд таковых растения, известные уже едва ли не каждому деревенскому жителю, особенно женщинам, и уже зачастую оторвавшиеся от ритуала.
Рис. 52. а) Выколотная медная посуда, б) мотыга-«кокица»
Знакомство с мифологией растений, сопряженной с обрядами и верованиями, позволяет осознать, сколь могущественной силой, в представлении народа, обладали ведуны-зелейники.
Функции магических растений
Обереги
В ведении «знающих» людей находятся всевозможные обереги, используемые для защиты от мифических существ, для предотвращения и разрушения вредоносных чар. Талисманы растительного происхождения занимают среди них основное место. Не случайно об одной из трав-оберегов, находящихся в ведении самих богов, поведал, основываясь на древнегреческих мифах, уже Гомер:Гомер. Одиссея. X. 286–288; 302–306
Приворотное зелье
При упоминании о привораживании посредством волшебных трав всплывает в памяти картина М. В. Нестерова «За приворотным зельем» (1888 г.), написанная с полным знанием крестьянского быта и народных верований. На переднем плане девушка в старинном сарафане-костыче, в парчовой душегрее, на голову накинут шитый белый платок. Потупившись, сидит она на скамье возле вросшей в землю избушки. Вокруг цветение трав. «Героиня моей оперы-картины отличается глубоко симпатичной наружностью, — отмечал в одном из писем художник, — лицо ее носит, несмотря на молодые годы, отпечаток страданий. Она рыжая (в народе есть поверие, что если рыжая полюбит раз, то уже не разлюбит). <…> мне мою героиню жаль от души»[2546]. На втором плане выразительная фигура седобородого колдуна. Распахнув «на пяту» дверь, блеснувшую кованым секирным замком, и согнувшись под притолокой, чтобы переступить через высокий порог, он пристально всматривается в лицо девушки из-под низко надвинутого колпака, догадываясь о цели ее прихода: к порогу ведуна струится тропинка, натоптанная многими ее предшественницами. Приворотное зелье или приготовленный из него напиток — устойчивый атрибут колдовства в мировом фольклоре, в мировой литературе. Как наиболее яркий пример, ставший со временем знаком-символом, вспомним один из сюжетов европейского Средневековья. Мать Изольды (Исольды) предназначает волшебный любовный напиток Изольде и Марку перед их брачной ночью. Но на корабле, по ошибке, его выпивают Тристан и Изольда. Их охватывает страсть, непреодолимая, неподвластная человеческой воле и разуму. Аналогичные коллизии, где приворотное зелье или любовный напиток нередко выступает в роли едва ли не основного действующего лица, обнаруживаются и в русских мифологических рассказах, заговорах, поверьях. В них фигурируют свои тристаны и изольды, не уступающие европейским по силе накала страстей. Неразделенная или угасшая любовь, разрушенная гармония в семейных отношениях — основные поводы для обращения одной из сторон к колдунам и знахарям, в чьей власти находится могущественная сила волшебных приворотных зелий. Вот как об этом повествует один из рассказчиков: «Призарила девка Савелья, да так призарила, что в ту же пору хоть камень на шею да в воду; и сватов подзасылал он к отцу Анны, и сам-то плакался ей: „Пойди да пойди за меня: тебе хуже не будет!“ Нет: девка шутит, хохочет, а пути нет; и к знахаркам-то ходил, что в неделю пересватывают свадьбы, за присушными зельями (курсив мой. — Н. К.)»[2547]. Или же муж с женой «чё-то начали скандалить», и дело едва не дошло до развода. Тогда Зина (так звали эту женщину) направилась к «знающему», чтобы «наладить» — присушить к себе своего Митьку[2548]. В другой бывальщине некая Мария Леонтьевна, красивая, богатая, но бездельница — потому муж «изменял и изменял», не жил с ней — также не нашла иного выхода, как прибегнуть к чарам колдуна по имени Евлентий Евлампович[2549]. В народном представлении «знающий» человек может с помощью зелья (часто в сочетании с водой и огнем) моделировать любовные отношения. Программируя тот или иной их вариант, он подбирает соответствующие травы. Одна из таких ведуний и фигурирует в севернорусском заговоре-присушке. В диалектах она называется вещица, вештица, а приготовленное ею снадобье (в данном случае — приворотное зелье) — однокоренными словами веща, вешти, вешетинье: «В чистом поле сидит баба сводни´ца, у тоё у бабы у сводни´цы стоит печь кирпична, в той пече´ кирпичной стоит кунжа´н Литр; в том кунжане Литре всякая веща´ кипит-перекипает, горит-перегорает, сохнет и посыхает…»[2550]. Причем сила, заключенная в приворотном зелье, посредством вербальной магии проецируется на объект присушивания: и ответное чувство оказывается предопределенным. У колдуна или знахаря травы припасены на любой случай. И советы, какими из них и каким образом следует воспользоваться, передаются в их среде из поколения в поколение. Об этом бытует множество рассказов и поверий. Так, согласно одному из них, парень, потерявший всякую надежду на ответное чувство со стороны пленившей его девушки, в отчаянии испытывает как последнее средство силу травы одоленя (она отождествляется с водяными растениями из семейства кувшинковых, с белой кувшинкой — Nymphaea alba, с желтой кубышкой — Nuphar lutea либо с растением из семейства молочайных Euphorbiaceae)[2551]. Отчасти дублируя действия самого колдуна, он парит зелье в горшке и дает пить непреклонной[2552]. Но, пожалуй, наиболее действенным средством приворота служит любка двулистная, или ночная фиалка (Platanthera bifolia) из семейства орхидных (Orchidaceae). Вот почему это растение нередко называют северной орхидеей. В народе же она именуется любка, ночница, люби меня не покинь. Обладает тонким, приятным запахом, усиливающимся к ночи и перед дождем. Благоухание ночной фиалки, по признанию Ф. И. Тютчева, наполняет душу «невыразимым чувством таинственности». Атмосферу некой загадочности, исходящей от запаха этого растения, передает и В. Солоухин в очерке «Трава»: «Не отцветая пахнет любка сильнее всего, а в первые минуты цветения, когда в ночной темноте раскроет она каждый из своих фарфорово-белых цветочков (зеленоватых в лунном луче) и в неподвижном, облагороженном росой лесном воздухе возникает аромат особенный, какой-то нездешний, несвойственный нашим лесным полянам». В соответствии с народными верованиями именно это зелье применяется в любовных чарах. Его собирают «знающие» люди в ночь накануне Ивана Купалы. Как следует из вятских материалов, травку любку заваривают — приготовляют любовный напиток и спаивают предмету привораживания со словами: «Как эта травка свои листочки любит, так чтоб и он меня любил»[2553]. Посредством приворотного зелья и магических слов, по поверьям, можно вызвать ответное чувство у «любых, по ком сохнешь». Коллизия, не уступающая рассказам о древнеримском писателе и философе Апулее (около 124 г. н. э.), согласно которым он, подав богатой красивой вдове Агнисе вместо воды любовный напиток, покорил ее сердце. Правда, будучи привлеченным к суду за колдовство и отрицая свою виновность в чародействе, он утверждал, что причина увлечения Агнисы — его красивая, приятная внешность, и был оправдан.
Рис. 53. Самовар-малютка. Горнее Шелтозеро. Прионежье
Такого же эффекта может достичь и тот, кому удастся добыть корень травы пересьяки. Возможно, в самом названии этого растения заключена магия присушивания. На наш взгляд, это искаженное слово, образованное от слова пересякать, что значит «иссохнуть». Носящий при себе корень пересьяки становится совершенно неотразимым: его любят «женка и девка». Чтобы завладеть сердцем красавицы, использовались и другие, более изощренные средства приворота. Вот одно из них. В платье «любимой особе», да так, чтобы ей было невдомек, нужно зашить ладанку, в которой содержится высушенный на полдневном солнце и истолченный в порошок девясил (Inula): по поверьям, он имеет девять волшебных сил («девять сильных вещей»), что отражено в русском названии. Используемая для приворота трава должна быть сорвана накануне Иванова дня и смешана с «росным ладаном», т. е. с пахучей смолкой дерева стиракса (Stirax benzoin). Перед тем как употребить этот растительный атрибут, имеющий, помимо прочих, тонизирующее свойство, парень должен был носить его у себя на теле девять дней, не снимая. Магическая сила растения, подкрепленная сверхъестественными свойствами пота, заключающего в себе часть жизненной силы самого человека, оказываласьспроецированной на предмет воздыханий. Такой же результат якобы достигался, если ладанка была незаметно подсунута в подушку привораживаемого. Как повествуется в мифологических рассказах и поверьях, есть и иные средства приворота. Например, если за парня не отдают девушки или, наоборот, парень от нее «отбегает», то дело для владеющего магической силой зелий поправимо. Стоит только положить корень травы визил (вязиль, вязель) под порог или «под воротню», как жених пойдет и невесту с собой возьмет. Если же он попытается уйти без невесты, то не сможет выехать со двора[2554]. «Вязелем» в народе именуется несколько трав. Их же называют и «горошком». Действительно, в основном это растения из семейства бобовых (Leguminosae): например, люцерна (Medicago sativa), чина (Lathyrus), разного рода горошек (Vicia). «Вязелем» в народе называются и отдельные растения из семейства розоцветных (Rosaceae), и прежде всего лапчатка, калган (Potentilla). По-видимому, вяжущие свойства некоторых из «вязилей» (например, калгана), равно как и сильный приятный запах (например, чины, душистого горошка), играют в любовной магии не последнюю роль. По законам приворота они призваны привязать, привлечь привораживаемого к привораживающей или наоборот. Правда, в некоторых случаях оказывается неважным, какое из растений используется для присушки. Так, девушка, вырвав клок травы («все равно какой») «из-под правой ноги, из-под пятки» парня, чью любовь к себе она хотела бы вызвать, кладет это зелье под матицу — потолочную балку, приговаривая слова заговора-присушки: «Как трава сия будет сохнуть во веки веков, так чтоб и он, раб Божий (имярек), по мне, рабе Божией (имярек), сохнул душой и телом и тридесятью суставами»[2555]. Однако в этом случае вырванный из-под пяты клок травы приравнивается по своей семантике к выниманию следа. Именно в этом плане и осмысляется исполняемый обряд присушивания, основанный на гомеопатической, или имитативной, магии. У южных славян роль магии цветов, сочетающейся с магией вынимания следа, проявляется более определенно. Девушка берет землю из-под следов своего возлюбленного и наполняет ею цветочный горшок. Она сажает в него бархатцы — цветы, которые не увядают. Любовная магия и в данном случае основана на подобии — на преднамеренной имитации искомого результата: как растут, цветут и не увядают эти золотистые цветы, так будет неувядающей и любовь ее милого[2556]. Кроме того, в арсенале ведунов-зелейников есть множество трав, которые применяются для восстановления гармонии семейных отношений. Если, случается, между мужем и женой нет согласия, то кто-либо из ссорящихся должен нарвать цветков травы царевы, или царские, очи и принести их в дом: «сварливая и вздорная хозяйка мгновенно сделается доброю и пословною»[2557] или же между ними водворится тишина и спокойствие[2558]. Кстати, траву царские очи как раз и имел в виду Н. Я. Озерецковский, когда писал: «<…> некоторые невежды, слывущие ворожеями, почитают ее приворотною травою и обманывают ею влюбленных слепцов»[2559]. На практике это волшебное растение нередко соотносится с росянкой круглолистной (Drosera rotundifolia).

Рис. 54. Фитоантропоморфные персонажи: растение-«женочка» и растение-«мужичок» (прорисовка традиционной костромской вышивки)
Иногда в зависимости от цели использовалась та или иная часть приворотного растения. О мифической траве симтариме, которую «знающие» люди даже не пытаются соотнести с каким-либо реальным растением, рассказывают: у той травы корень-человек. Если из него вынуть сердце и дать тому, чьей любви добиваешься, привороженный «изгаснет по тебе». Если же у этого корня-человека взять голову и поставить ее перед разлюбившим мужем — он полюбит свою жену пуще прежнего. Десную (правую) же его руку, истерши мизинцем, дают пить тому из супругов, кто был не верен, — согласие восстановится[2560]. Голова, сердце, рука — вместилища жизненной силы, поэтому они осмысляются как некие действенные мифические существа. Однако чаще в таких случаях используются растения одного вида, но с разными по цвету и половой принадлежности корнями: «Буде муж жены не любит — дай мужу черного (вариант: серого. — Н. К.), а ежели жена мужа не любит — дай жене белого (кореня) — и станут друг друга любить» (трава кукуй, или кокуй)[2561]. Если предположить, что наименование данной травы является тождественным таким народным названиям растений, как кокушка, кокушник (кстати, в Орловской губернии его отвар считали любовным напитком), кукушка, кукушкины слезки и пр., то в круг предполагаемых оригиналов попадут самые разные растения, и в первую очередь принадлежащие к обширному семейству орхидных. В их ряду, в частности, и трава, известная в народе под названием кукушкины слезки (Orchis maculata). Иные ее названия: корешки, два корешка, кукушка, любим корень, сердечник и др. Это растение снабжено корневищем в виде приплюснутых клубеньков. Именно такой корень крестьянки носят с собой в качестве приворотного зелья в случае раздора с мужьями. Аналогичное воздействие оказывает и корень некой иной травы: «Когда муж жены не любит, и дай ему жёночку съесть, и будет любить, а ежели жена не любит мужа, дай ей мужичка (корень. — Н. К.) съесть, будет любить» (трава копус)[2562]. Одна из попыток восстановить подобным способом семейное счастье была зафиксирована документально. По свидетельству очевидцев, в 1635 г. мастерица по вышиванию золотом Антонида Чашникова, сидя за работой в дворцовой палате, нечаянно выронила из кармана корень неведомо какой. Обладательницу этого корня заподозрили в колдовстве и по приказу самого царя, Михаила Федоровича, пытали. Выяснилось, что обнаруженное зелье известно в среде ведунов под названием обратим (оборотим) — от слова «обрат». В этом названии заключены мифологические представления о магических свойствах некоего растения возвращать утраченное, дать ему обратный ход. Действительно, по народным верованиям, такое зелье «располагает мужа к жене любовью». Этим свойством растения несчастная и хотела воспользоваться в надежде, что муж, подобрев, перестанет ее бить. Тем не менее и сама А. Чашникова, и женщина («ведомая ведунья»), давшая ей обратим, были подвергнуты опале за колдовство и сосланы в разные стороны, правда, вместе с мужьями. Аналогичный случай отмечен и позднее, уже в XVIII в. Жена князя А. В. Долгорукого, пытаясь возвратить привязанность своего мужа, добыла у знахарей «приворотный корень» и «наговор». Услышав об этом, князь А. В. Долгорукий счел необходимым обратиться в грозный Преображенский приказ с жалобой на жену. Использование волшебных корешков считалось в то время достаточно веским предлогом для обвинения и розыска[2563]. В применении зелья, как следует из мифологических рассказов, возможны трагические ошибки, когда оно оказывает воздействие не на того, кому было предназначено, а на того, кто случайно оказался рядом и вкусил приворотного снадобья. Именно такая коллизия и присутствует в бывальщине, упоминавшейся выше. Колдун Вася Сучок, по просьбе Зины, «изладил» на чай или на суп приворот, чтобы вернуть к ней любовь Митьки. Однако, догадываясь о колдовстве, Митька отказывался есть поданную ему пищу. Тогда Зина попросила его друга пообедать за компанию с ее мужем. В результате присушили не Митьку, а его друга: «Ну вот, этот дядя Вася ходит, ладит. Кушаем вместе. Я раньше эту Зину как и не замечал, а тут!.. <…> и вот всё подумкиваю это, всё она это передо мной как… в глазах эта Зина»[2564]. Вспыхивает греховная, плотская, непреодолимая страсть. И модель, маркированная именами Тристана и Изольды, реализуется на новой почве очередной версией. Правда, в отличие от Тристана, крестьянский парень обращается к колдуну и возвращает ситуацию к исходному положению с помощью отворота: «„Вот так и так, мол, вы Митьку присушали, а присушили меня“. — „Ну ладно. С завтрашнего дня не будет этого“»[2565]. Однако описываются и случаи, когда власть ведуна-зелейника оказывается бессильной над человеческим чувством. Правда, у «знающего» всегда найдутся уловки для оправдания: «Ты не так сделал, как должно было сделать, утратил то или другое; если же ты и в точности выполнил наказ мой, то, верно, кроме той, у тебя на уме бродит еще какая-нибудь девка»[2566]. Вопрос о том, насколько реальна привораживающая сила растений, недавно поднимался ботаниками. Выяснилось, что травы, используемые в гомеопатической, или имитативной, магии по принципу: как пристанет колючка или пух определенного растения, так бы и избранник (избранница) пристал(а) ко мне — на самом деле не оказывают ожидаемого воздействия на человека. Имеются в виду травы: лопух, череда, репешок, подмаренник, гравилат, причем последний в «травниках» называется любимник, любим-трава, любь. Их роль как присушного зелья не выходит за рамки мифологии. Другое дело, когда речь идет о растениях-стимулянтах, тонизирующих деятельность человеческого организма, воздействующих на него подобно алкоголю. То же можно сказать в отношении растений-гипнотиков, повышающих восприимчивость человека к внушению и самовнушению. Однако наибольшее применение, и особенно при составлении любовных напитков, в старину получили растения-афродизиаки (от греческого afrodisiatikos — возбуждающий любовную страсть). В числе таких растений и различные дикие орхидеи — любка, ятрышник, упоминавшиеся нами выше. Среди этих трав есть возбуждающие нервную и мышечную систему или, наоборот, снимающие излишнюю скованность и напряженность, влияющие на половую систему и оказывающие наркотическое воздействие. Немаловажную роль в любовной магии играют и чарующие ароматы. Они исходят от эфирных масел и смол, содержащихся в приворотных зельях, и оказывают влияние через органы обоняния на привораживаемых. Посредством любовного аромата можно возбудить и усилить эротическое чувство. С помощью других его компонентов, полученных от тех или иных растений, оказывают наркотическое и стимулирующее воздействие на предмет обожания[2567]. Средства же, используемые для отворота, в мифологических рассказах фигурируют гораздо реже. Они скорее характерны для лирики, повествующей об утраченной либо находящейся под угрозой любви:
Животворящая сила трав
Для севернорусской мифологической прозы типична коллизия, отчетливо обозначенная в следующей бывальщине: «Жили были мужик да баба. Жили они богато, только детей у них не было, а детей иметь им очень хотелось. Вот баба и пошла к колдуну и рассказала про свое горе и просила помочь ей чем-нибудь. Колдун дал ей два корешка и сказал — „Съешь эти корешки в полночь с мягким хлебом и станешь беременна“. Баба съела корешки и вскоре действительно забеременела (курсив мой. — Н. К.)»[2569]. О некой соотнесенности корня растения с младенцем свидетельствует гадание, согласно которому беременная женщина выкапывает траву кукушка (ятрышник — Orchis maculata): если у корня два отростка, родится девочка, а если три — то мальчик[2570]. Ср. с библейским сказанием, где в качестве травы, содействующей зачатию, представлена мандрагора, которая избавила от бесплодия Лию (Быт. 30.14–25). Модель этого сюжета, независимо от того, разрабатывается ли он в севернорусской бывальщине или в библейском сказании, дублируется и в поверье, используемом в «травнике»: женщину, «коя не может младенца родить», наделяет способностью к деторождению то или иное зелье. В качестве такового назван, к примеру, корень травы могойт (?) или трава перевязка (герань луговая — Geranium pratense). Стоит попринимать отвар этого растения в козьем молоке, теплой воде либо в вине — и «дети пойдут»; ранее бесплодная женщина вскоре родит. Нередко травы, осмысляемые как магические, на поверку оказываются лекарственными, что мы и имеем в данном случае: отвар герани луговой в народной медицине используется при гинекологических заболеваниях. Молоко, вода, вино, согласно народным верованиям, взаимозаменимы и при определенных обстоятельствах, как нам уже доводилось писать[2571], превращаются в кровь. Так или иначе, но жидкость, с которой употребляется зелье, стимулирующее детородную способность женщины, должна быть теплой, что свидетельствует об участии в этом акте стихии воды и огня. Трава же символизирует стихию земли, чьими волосами она и является, если судить по духовным стихам или памятникам древнерусской письменности: «земля сотворена, яко человек <….> вместо власов былие имать»[2572]. Поскольку волосы в народных верованиях осмысляются в качестве средоточия жизненной силы[2573], неудивительно, что и «былие» служит ее вместилищем. Из сказанного следует, что в формуле человекотворения, помимо трав (земли), чья роль в данном случае превалирует, оказываются в той или иной мере задействованными вода и огонь. Подобные верования некогда составляли основу древнего представления о четырех мировых элементах: земле, воде, огне, воздухе — и о происхождении человека из сочетания этих элементов (в данном случае — по преимуществу от земли, символом которой служат травы)[2574].
Рис. 55. Из рукописного травника XVII в. (ГИМ). Прорисовка
Заметим, что проявления подобной формулы обнаруживаются во всем мировом фольклоре. Приведем в качестве сравнения одну из валашских сказок, основанных на той же модели. Царевна беременеет, испив воды, в которой стоял букет неких пурпурных цветов, передавших ей свои сверхъестественные качества. Вода приобрела колорит этих цветов. На ней появились золотые и серебряные звездочки, такие же, как душистая пыльца на лепестках цветов. Это своеобразная метафора соединения растения (земли) и воды. Аналогичная мифологема обнаруживается и в романской народной поэзии: от слез Тристана и Изольды выросла белая лилия (вариант: белая лилия была орошена их слезами) — и всякая женщина, вкусившая этого цветка или испившая воды, собранной с его листьев, непременно «затяжелеет»[2575]. Представления о животворящей силе цветов и трав здесь включены в контекст верований, связанных с водой как порождающей стихией. Эквивалент воды — слезы, также осмысляемые в качестве средоточия жизненной силы того, кем они были пролиты. Напрашиваются и античные параллели. Например, Марс, изначально представленный в римской мифологии как хтоническое божество растительности, был рожден, согласно поэме Овидия, от цветка Юноной — богиней женской производительной силы, материнства. Вместе с тем в «травниках» фигурируют и растения, с помощью которых можно укрепить здоровье младенца от самого его зачатия до рождения, равно как и беременной женщины. Так, например, трава индивия (вероятно, цикорий — Cichorium Endivia, известный как общеукрепляющее средство) «младенцу в утробе силу подает», а трава андрон (?) — «память и разум». И обе они «матерь здравят»[2576]. Случаи применения подобных трав в крестьянском быту подчас фиксировались во время судебных разбирательств. В 1743 г. имел место факт, когда на шее у некой Шепельской, обвиняемой в колдовстве, был обнаружен мешочек, а в нем сухая трава. Выяснилось, что это трава материнка (Serpillum). Подозреваемая, будучи беременной, носила ее для предотвращения выкидыша[2577]. С помощью же других растений облегчаются роды: стоит дать «жене чреватой» адамовой головы (мандрагора — Atropa Mandragora) — и она «тотчас же разродится». О том, что в подобных случаях действительно использовались травы, косвенно свидетельствует документ, датированный 28 августа 1803 г.: жена мастерового Александровского пушечного завода (Петрозаводск) Ивана Шуваева, Василиса Тимофеева, которая при родах была доведена «называвшимися бабками» «до отчаяния жизни», тем не менее «по спросе в сем суде (Петрозаводском уездном суде. — Н. К.) показала, что во время ея беременности никаких посторонних бабок не было и никто ей лекарственных трав (курсив мой. — Н. К.) не давал»[2578]. Правда, встречаются и такие травы, которые в зависимости от способов употребления могут то содействовать проявлениям стихии рода и плодородия, то нейтрализовать ее. Например, дав женщине травы погибельной (?), цветущей и отцветающей в марте, можно лишить ее материнства. Однако стоит на будущий год, и опять-таки в марте, в пятый день месяца, вновь дать той же травы, — и ее продуцирующая сила восстановится: «и опять будут дети». Аналогична по свойствам и некая особая полынь (Artemisia) — трава, растущая, согласно поверьям, в Грязовецком уезде Вологодской губернии. Когда она, покрытая «медяной росой», начинает цвести, то приобретает способность «вышибать плод» — и женщина перестает рожать (возможно, это поверье имеет реальную основу: не случайно употребление полыни горькой противопоказано при беременности), причем под воздействием одного из таких зелий — навсегда, под воздействием другого — лишь в течение определенного срока. Подобные поверья нередко соотносятся с рассказами, в основе которых лежит коллизия: «девка», вольно ведущая себя с парнями, не «брюхатела». Однако стоило ей выйти замуж, как дети пошли сразу и один за другим. Впрочем, «знающим» людям известна и полностью антиживотворящая сила некоторых растений. Употребляя траву буквицу (Betonica vulgaris или officinalis), женщина, которая «детищем страждет», освободится от него. И посредством травы чернабы, чернобыль, чернобыльник (полынь обыкновенная — Artemisia vulgaris) она также «живое или мертвое дитя из утробы выведет»[2579]. Наряду с рассказами и поверьями, где зачатие — незачатие, рождение — нерождение происходит — не происходит благодаря тому или иному зелью, определенным образом примененному, в мифологической традиции обнаруживаются представления, что человек может быть создан из цветов и трав помимо участия женщины и даже вопреки ему. В одной из бывальщин, имеющей некоторые признаки предания, по сути репрезентируется акт первотворения. А в роли творца представлен Яков Брюс, названный «великим чародеем»: он «знал все травы этакие тайные и камни чудные, составы разные из них делал, воду даже живую произвел»[2580]. Ему-то и оказалось по плечу творение человека, во всяком случае, его плоти: «Заперся он в отдельном доме, никого к себе не впускает. Никто не ведал, что он там делает, а он мастерил живого человека. Совсем сготовил — из цветов — тело женское, как быть. Оставалось только душу вложить, и это от его рук не отбилось бы, да на беду его — подсмотрела в щелочку жена Брюса и, как увидала свою соперницу — вышибла дверь, ворвалась в хоромы, ударила сделанную из цветов девушку (курсив мой. — Н. К.) — и та разрушилась»[2581]. Мало того, посредством трав и цветов можно не только сотворить живого человека, но и воскресить умершего. Об этом свидетельствует одна из мифологем, имеющая место в севернорусской фольклорной традиции: «Раздела она (сведущая старуха. — Н. К.) ее (умершую. — Н. К.) донага, поло´жила ей на сердце цветок, на´ лоб и на грудь — три ц(с)веточка поло´жила. Час время только проходит, а молодая стает»[2582]. Аналогичная коллизия развертывается и в другой бывальщине. Мифические существа варят в котле с разными зельями и снадобьями душу женщины, наложившей на себя руки. Используя зелье в сочетании с водой и огнем, они возрождают несчастную к новой жизни в облике русалки, прекрасной и вечно юной[2583]. Ослабленная форма данной мифологемы: старики, надеясь помолодеть, парятся в бане некими лютыми кореньями (эквивалент им в сказке — молодильные яблоки или даже молодильные ягоды)[2584]. Заметим, что мотив воскресения героя посредством растений (подчас в сочетании с водой и огнем) известен в различных этнокультурных традициях. Он отчетливо вырисовывается, например, в одной из валашских сказок: в полночь, когда взошел полный месяц, водяные девы собрали по частям тело Флориана — сына цветка. Царица водяных дев положила его на цветы, а затем вспрыснула живой водой — и тот мгновенно воскрес, будто пробужденный от глубокого сна[2585]. Согласно же славянским мифологическим рассказам и поверьям, с помощью трав можно не просто воскресить умершего, а обеспечить ему вторичное рождение. Вот один из примеров. Когда старый чернокнижник умер, ученик, следуя завету своего учителя, разрубает его тело на мелкие куски, пропитывает их мазью, изготовленной из трав, опрыскивает соком животворных растений. Образовавшуюся массу он складывает в виде человека и хоронит в склепе. Прошло три года, семь месяцев, семь дней и семь часов. И вот в полночь, в полнолуние, ученик зажигает семь свечей из человечьего жира, открывает крышку гроба. Среди расцветших душистых фиалок он видит прекрасное дитя, похожее на чернокнижника. Еще через ночь это был годовалый ребенок, а через семь дней дитя говорило обо всем, как бывший учитель. Минуло семь месяцев — и чернокнижник явился заново[2586]. Это был перерожденец, возвратившийся к новой жизни под воздействием чудесных трав в течение сакрального срока, соотнесенного с сакральным макрокосмом. Как персонаж он попадает в типологический ряд героев, растущих не по дням, а по часам. Подобный сюжет соответствует поверьям, по которым едва ли не каждое растение может внести свою лепту в сотворение или, во всяком случае, восстановление человека. Тем более что трава, так же как и человек, сотворенный «из праха земного», «от земли рождена». Получившие бытие из одной материнской утробы, растения и люди сходны по своей плоти. Так, например, трава смык, савина либо мышка (горец вьюнковый — Polygonum convolvulus) дает человеку ум («с умом станет»); ефил, или ефилия (?) — рост и речь («в три месяца станет говорить»), пострел боровой (борец желтый — Aconitum lycoctonum) и полевой (борец синий — Aconitum napellus) — голос («голос вельми будет ясен, что труба»), иван (иван-чай — Epilobium angustifolium) — слух («угодна аще, <…> кто глух»), зоря (вероятно, любисток — Levisticum officinale) или полынь — зрение («светлость очей наводит»)[2587] и т. п. Эти травы осмысляются как своего рода «эликсир жизни». Архетипом же для подобных поверий и бывальщин послужили представления о человеке-растении, реминисценции которых обнаруживаются в описании некоторых зелий, упоминаемых в «травниках». Однако наиболее ярко они проявились в мифопоэтических представлениях о мандрагоре: ее корень изображается в старинных «травниках» в виде женской или мужской фигуры, с головой, из которой вырастает пучок листьев. Пифагор называл мандрагору «человекоподобным растением», а Колумелла — «травой-получеловеком»[2588]. Согласно одному из средневековых сказаний, первый человек, появившийся на земле, был изначально громадной мандрагорой (на русской почве ей соответствует трава адамова голова), оживленной посредством инстинктивной жизни. Затем она была одушевлена, превращена и доведена до совершенства небесным дыханием, после чего вырвана из земли, чтобы стать новым существом, одаренным мыслью и движением. В подобных представлениях, по меткому определению М. Элиаде, заключено «понятие о постоянном течении жизни между уровнем растения — как источника неиссякающей жизни — и человека: все люди — просто воплощения энергии того же растительного чрева. Они — мимолетные формы, постоянно производимые изобилием растений. Человек же — мимолетная видимость новой модальности растения»[2589].
Лечебная (восстанавливающая, обновляющая, укрепляющая) сила
Мифологема, основанная на представлениях о целебных свойствах чудодейственных растений, нередко развертывается в сюжетное повествование: «Позвали мельника, стал он ее пареной травой лечить, одну она пьет, другая в печи лежит, так и поправилась»[2590]. Или: «Больна была баба гады три и с пастели не ўставала <…> Заехали у двор к им немци, траў ликарственных вязуть вазы бальшущие. <…>. Дали ей травы на три разы: „Три раза натапитя!..“ И сказали, икаво (каково. — Н. К.) будить ит травы. <…> Выздаравела ж, и стала сама знахаркый…»[2591]. Согласно древнерусским представлениям, здоровье осмыслялось как «благорастворение» всех четырех природных стихий в организме человека, а расстройство их или смешение телесных соков («вологи») — как начало болезни. Задача «лечьца» заключалась в том, чтобы как можно искуснее («хытрее») привести все эти элементы в изначальное соответствие — «в доброе сочетание»[2592]. Следовательно, лечение направлено на восстановление, обновление, усиление того, что приходило в упадок, убывало, «стиралось». «Средством (основным инструментом), с помощью которого достигалось это, и был ритуал, — отмечает В. Топоров, — он был соприроден акту творения, воспроизводил его своей структурой и смыслом и заново возрождал то, что возникло в акте творения»[2593]. Однако в мифологической традиции проявляется и несколько иная концепция, выводимая непосредственно из ритуала врачевания, по словам М. Элиаде, сводится к следующему: жизнь нельзя исправить, ее можно только начать сначала ритуальным повторением космогонического акта, который является образцовой моделью всякого созидания[2594]. В результате этого акт творения репрезентируется в настоящем. Цветы и травы участвуют в этом акте как воплощение одной из природных стихий — земли, нередко сочетающейся с огнем и водой. Вот почему некоторые травы способны обновить, укрепить жизненную силу человека: трава ангелик (дягиль лекарственный — Angelica archangelica) «всю внутренность укрепляет и силу подает»[2595] (в народной медицине она действительно применяется как общеукрепляющее, тонизирующее средство); трава девясил (Inula) содержит в себе «вещей <…> девять сильных, к лекарству потребных» (относится к лекарственным растениям, широко используемым в народной и научной медицине)[2596]. Да и многие другие растения оказываются универсальными средствами для обновления человеческого организма: они «от всякия болезни пригодны» и «здрава человека учинят»[2597]. Вместе с тем едва ли не каждая трава «специализируется» на лечении определенной болезни: «Цветы и травы говорят к человеку, умеющему разуметь их речь, но разуметь их может только знахарь, умеющий лечить все болезни. Травы сами говорят ему, к чему они полезны»[2598]. В одной из поволжских бывальщин человек, понимающий разговор растений, каждое из которых «о своем лопочет», как-то, проезжая по лесу, видит стоящую на опушке маленькую травку. Она кланяется и говорит: «А я от ки-и-лы, а я от ки-и-илы!»[2599]. Иначе говоря, травка сама оповещает о своей возможности исцелять больных грыжей. По этому поводу у южных славян бытует поговорка: «Всякая болезнь свое зелье имеет»[2600]. Разумеется, по мере накопления опыта, добытого эмпирическим путем, все большее число используемых снадобий оказывалось действительно эффективным. Однако даже реальный эффект нередко осмыслялся как результат магического воздействия растения на человека. Лечебную магию трав, цветов, кореньев приумножали, согласно поверьям, посредством обрядов, сопровождаемых заговорами, приговорами, которые исполнялись как при добывании зелья, так и в ритуале врачевания. Это были формулы типа: «Мать — земля, отец — небо, дайте рабам вашим от этой травы здоровья»[2601]. Успех обеспечивался в первую очередь знанием происхождения, «биографии» травы: «<…> ты, мать трава, от Бога сотворена, от земли рождена»[2602]. Предписывалось выяснить и природу болезни, осмысляемую главным образом в рамках мифологического мировосприятия. «Я, мол, верно уж знаю — не впервой мне вылечивать, ее опризорили»[2603], — заключает баба-шептуха или знахарь-шептун. Вследствие подобной логики едва ли не каждая болезнь представляется как проявление порчи, пущенной по ветру, по воде и примешанной к пище и питью, или как проявление сглаза, т. е. дурного глаза, что уже само по себе выводит лечение за пределы рациональных действий. Так, в одном из мифологических рассказов женщина, которую не смогли вылечить в больнице и которую вернула к жизни одна бабка, была, как выяснилось, жертвой вредоносных чар. «Бабка спросила: „Помнишь, чьи пироги с морковью ела?“ Колдовство было в пироги положено»[2604]. Чтобы уберечься от порчи (нередко она насылалась опять-таки с помощью трав, собранных в Иванову ночь), использовались всевозможные средства растительного происхождения. Так, согласно севернорусским поверьям, человек, который ел или «хлебал на тощее сердце», т. е. натощак, кудрявую дигиль без сердеца (дудрявый кягиль), т. е. дягиль, или дудник, лесной (Angelica sylvestris), был уверен, что в тот день никто не может его испортить. А прихватив с собой этой травы, он будет в полной безопасности и находясь на пиру. Точно так же тот, кто «ввечери порану ел и с вином земским держал» галган, т. е. калган (лапчатка — Potentilla erecta), «от женок испорчен не будет» (в медицине используется как антибактериальное лекарство при разных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта)[2605]. Поскольку под категорию «порчи» иной раз попадали вполне реальные поражения поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, вызывающие резкое падение иммунитета, дисбактериоз и т. п., «порчу» могли лечить средствами именно такого рода. Однако если по тем или иным причинам уберечься не удалось и порча оказалась насланной, обращаются к «знающим» людям. Здесь мы приводим свидетельство очевидца, представшего перед таким целителем («бабкой-колдуном») в качестве пострадавшего («съела меня скука») и описавшего обряд снятия порчи посредством зелий в том виде, в каком он бытовал в одной из среднерусских деревень. Выйдя, а затем вернувшись в избу, колдун принес два мешочка и баночку. Вначале он налил в бутылочку «пациента» воды из своей бутылки, хранящейся у него в переднем углу. Затем стал брать по щепоткам из мешочков и баночки истолченную в порошок траву. При каждой щепотке он сам крестился и крестил траву, нашептывал на нее. Насыпав в бутылочку зелья, он перекрестил ее и отставил в сторону. Потом, расстелив на столе небольшую тряпочку, колдун стал насыпать на нее той же травы из мешочков и баночки. Перекрестив и эту траву, он опять взял бутылочку: наклонив к себе и глядя в нее, принялся вновь шептать. При этом ему удалось определить виновного в порче: «Это русый мужчина тебе сделал». Он велел «пациенту» умываться каждое утро составом из бутылочки, а траву, насыпанную на тряпочке и затем завязанную в нее, использовать при купании в избе, обдав предварительно «варом». Иначе говоря, снятие порчи в данном случае осмысляется как восстановление прежнего состояния посредством природных стихий: земли, воды, огня. На вопрос же пострадавшего, какая трава при этом используется, «знающий» отвечал: «Трава? Трава… Я собираю разные полезные травы, очень полезные»[2606]. И к этому он больше ничего не добавил.
Рис. 56. Из рукописных травников XVII в. (ГИМ и РНБ)
Однако, если заглянуть в заветные тетради, имевшие хождение в крестьянской среде под названием «травников», то тайна ведунов-зелейников будет раскрыта. Свойство снимать порчу приписывается растениям, именуемым в народе адамова голова, ангелик, архилим, или архилин (волшебная трава, охраняющая от сглаза, порчи и пр.), бронец, (возможно, Smilacina bifolia, хотя под названием бронец, известны в народе и другие травы), былей (?), девясил, золотуха (возможно, золотая розга Solidago virgaurea), лазорь (касатик — Iris), перекоп (Marrubium peregrinum. Marrubium vulgare), Петров крест (Lathraea squamaria), пострел боровой (пострел лютик лесовой) и полевой, ревялка (ревенка, ревенька, ревекка: иван-чай узколистный — Epilobium angustifolium), скопидон (?) и пр. Причем чаще они используются в определенных сочетаниях, поскольку каждая из трав, помимо общего свойства, имеет свои особенности. Так, например, относительно пострела лютика лесового известно, что без него никакие другие травы от порчи не действенны. Столь же эффективна адамова голова, о чем свидетельствуют некоторые рассказы исцелившихся: «Кабы не один человек, давно бы меня эта нечисть доконала. Присоветовал он мне коренья пить, от порчи девять их, а самый главный адамова голова прозывается <…> Этот корень надыть было напоследок всего пить»[2607]. Употребляя же иное зелье, как следует из «травников», имевших хождение в Олонецкой губернии, можно выявить «порчельника»: «И та трава (ревялка. — Н. К.) давать порченым людям; и он станет говорить и вопить, имянно скажет, кто его испортил»[2608]; «Трава ревекка по зорям ревет и стонет, а та трава давать порченым людям, и он станет говорить и вопить, именно скажет, кто спортил»[2609]. Пользоваться средствами, предназначенными для предотвращения порчи, следует, по поверьям, с большой осторожностью: направленное против «порчельника» действие может оказаться переадресованным предполагаемой жертве. Например, если невеста при входе в дом жениха не сумеет перепрыгнуть через порог так, чтобы не наступить на траву «прикрыт», или «прикрыш» (под зельем с этим названием могут подразумеваться различные растения: борец — Aconitum, болиголов — Conium maculatum, купальница — Trollius, ветреница — Anemone и др.), заранее положенную здесь знахарем, о чем ее предупреждают, тогда все негативное воздействие травы, подкрепленное словами заговора, на нее же и обрушится, в противном случае — на человека, который пожелал несчастья новобрачным. Согласно народным верованиям, лихая порча, уподобленная, равно как и окорм, болезнь смертная, черная немочь, всякое зло, всякая пакость, всякий нечистый дух, некоему мифическому существу, может быть выведена, выгнана из человека посредством определенных трав (в сочетании с водой и огнем), благотворное воздействие которых усиливается магическими словами «знающего» человека. «Терапия знахарей построена на народной теории о болезнях и есть только следствие и вывод из нее», — отмечает Г. И. Попов[2610]. Причем первоначальная недифференцированность болезней (например, «утроба болит», «сердечные или гнетенишные скорби») надолго предопределила особенности этой терапии. В силу господства магии по сходству форма травы, используемой при лечении, должна соответствовать форме больного органа либо той или иной части человеческого тела. Так, например, растения, имеющие форму завитка или кренделя (полынь; кровохлебка — Sanguisorba officinalis; вероника — Veronica), не без оснований считались и до сих пор считаются в народе прекрасным средством от головных болей. Растениям же с тонкими волосовидными листьями (укроп — Anethum graveolens; спаржа — Asparagus officinalis) приписывалось свойство укреплять волосы. Цветы, форма которых напоминает глаз, к примеру, очанка (Euphrasia officinalis), служили лекарством от глазных болезней (кстати, настой очанки поныне используется в народной медицине, в частности, при воспалении глаз, век, роговицы), а похожие на ухо (тимьян — Thymus; аконит — борец, Aconitum) — от ушных (по-видимому, в качестве обезболивающего и дезинфицирующего средств). Щавель (Rumex), имеющий сходство с языком, применялся — соответственно — от болезней языка. Крапива (Urtica), в силу того что она покрыта жгучими волосками, якобы избавляла от «колотей»[2611]. Форма целебных растений должна соответствовать и душевному состоянию человека. Например, белой смолянке, или потоскуйке (смолевка поникшая — Silene nutans), цветочная кисть которой склоняется к земле, в Пермской губернии приписывается свойство излечивать людей от душевной тоски, печали[2612]. Трава же мурат-царь (царь-мурат — чертополох, репей, татарник — Carduus), которая вся в шипах, что в иглах — невозможно голой рукой прикоснуться, — средство от «скорби»: «взять тоя травы с корнем и бить того человека не жалея, хотя исколешь, поможет»[2613]. (Напомним, что именно растение татарин, или царь-мурат, символизирует в повести А. Н. Толстого характер и трагическую судьбу Хаджи-Мурата, имя и народный этноним которого оказались созвучными с названием этой травы: «Стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна».) Что касается цвета используемой травы, то он должен соответствовать цвету пораженной болезнью части человеческого тела. В связи с этим желтуху полагалось лечить травами с желтыми цветами[2614]. Однако это вовсе не значит, что в руках ведунов-зелейников сосредоточились лишь магические средства, а рациональные методы народной медицины применялись обычными людьми, знающими целебные свойства некоторых трав. Как утверждает С. А. Токарев, разграничение носило здесь несколько иной характер: рядовые общинники применяли обычно только средства народной медицины (немагические), а знахари-профессионалы — и те и другие[2615]. Добавим к сказанному, что и этого разграничения в поздней традиции по сути не существовало: ведун-зелейник все шире применял рациональные методы врачевания, а простой смертный нередко по возможности копировал ведуна-зелейника, хотя и не отождествлялся с ним. Во всяком случае, и те и другие обычно приступали к врачеванию с молитвой, обращенной к св. вмч. Пантелеймону, под покровительством которого по мере преодоления язычества и укрепления христианства оказались целебные травы. Его, посвятившего себя бескорыстному врачеванию, народ представляет расхаживающим среди трав и собирающим целебное зелье. А день памяти «Пантелея-целителя» (27 июля/9 августа) осмысляется как праздник всех лекарей-врачевателей[2616]. Совершенно очевидно, что истоками народного врачебного знания было в первую очередь зелейничество, хотя оно и считалось в Московской Руси опасным преступлением.
«Программирование» сверхъестественных свойств
Как следует из мифологических рассказов и поверий, посредством чудодейственных растений человека можно наделить такими способностями, которых нет у простых смертных, или, во всяком случае, многократно усилить те, которые у него уже имеются. Вот одна из севернорусских бывальщин, основанная на подобной мифологеме: «Сходил он (чудовисчо. — Н. К.) в комнату и притасчил бутылку зельёв ему. Наливал он враз ему три стакана. Тогда он почуял в себе силу непомерную, Ваня, был силен, а ишо втроё сильнее тово стал»[2617]. Не такое ли «зельё» испил и эпический герой Илья Муромец, сидевший до этого тридцать три года сиднем на печи? Судя по «травникам», человек при содействии чудесных растений получает способность быстро и легко преодолевать расстояния. Так, например, путник не знает устали в дороге лишь потому, что он натер себе ноги «живой травой» — подорожником (Plantago), а пробежавший несколько верст не испытывает одышки, поскольку носит на груди траву ясминник (ясменник — Asperula). Тому же, кто запросто ускользнул от погони и молодецки пролетел верхом, даже если под ним была кляча, несомненно, помог чародейский цветок иван-да-марья (анютины глазки, или фиалка трехцветная — Viola tricolor)[2618]. Обладателю чудодейственных растений подвластны любые природные стихии. Для того, кто хотел бы летать, подобно птице (говоря современным языком, для склонного к левитации), оказывается незаменимой трава тирлич (горечавка пазушная — Gentiana amarella или купена — Polygonatum officinale)[2619]. Раздобыв же траву ревеньку (ревенку, ревялку, ревекку) и держа ее корень при себе, лучше всего во рту, человек становится легким на воде: он не только хорошо плавает, но и ни при каких обстоятельствах не тонет[2620]. Отсюда, по всей вероятности, ведет свое начало поверье: если женщина, будучи определенным образом связанной и брошенной в воду, не тонет, значит, она ведьма, не лишенная тайных знаний относительно магической силы зелий. Мало того, согласно «травникам», человек, взявший в рот семя травы перенос (перенос-зелье, переносное, или перенок — синеголовник плосколистный — Eryngium planum), может смело идти в воду — вода расступится перед ним[2621], как будто бы это был сам известный библейский персонаж: «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Яхве море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды; и пошли израильтяне среди моря по суше» (Исх. 14.21–22). В севернорусской мифологической традиции аналогичный мотив имеет обытовленный характер: «знающие» люди пользуются этим чудесным свойством магических растений при строительстве мельниц. Обладателя зелий не страшит и стихия огня, нередко соединенная со стихией воды, в качестве эквивалента которой может фигурировать молоко. Вот почему сказочному герою не причиняет вреда купание вкотле с кипящим молоком: «<…> „поезжай к озеру, нарви той самой травы, которую кобылицы едят, натопи ее, да тем отваром с головы до ног и облейся“. Добрый молодец сделал все <…>, приехал, бросился в кипучее молоко, плавает в котле, купается — ничего ему не делается»[2622]. Вместе с тем чародейские растения обеспечивают дар прозрения. Их обладатель может узнавать чужие мысли, какими бы тайными они ни были. Это средство стараются заполучить ревнивые мужья. Стоит только положить стебель травы, известной под названием ряска, рисница, или риска (Lemna minor), спящей жене «в головы», причем «не просто», а неким особым способом, как она в ответ на вопросы, заданные мужем, расскажет всю подноготную: «что бывало и с кем живала и что на тебя мыслит»[2623]. Впрочем, посредством этой травы, равно как и ревеньки (ревенки, ревялки, ревекки), можно узнать едва ли не о каждом, что он о тебе думает и что замышляет. Человек же, носящий с собой белен (белена — Hyoscyamus niger), бельвевец или водяной пуп, заочно увидит («уведает») всех своих затаенных злопыхателей. Тот же эффект будет, если положить себе в рот цветок волшебного гороха, закатанный в воск, — тогда все, что у любого на уме, станет тебе известно. Посредством трав обретают и вещие способности. О растениях-оракулах, к которым относятся сон-трава (ее пытаются опознать в простреле широколистном — Anemone patens, Anemone pratensis или Pulsatilla patens) и ей подобные, мы уже говорили особо[2624]. Некоторые из волшебных трав дают возможность человеку, и особенно ведуну-зелейнику, выйти за рамки обыденного мира: вступить в контакт с мифическими существами и даже увидеть их. Так, например, если по освящении корня адамовой головы носить его при себе, то, по поверьям, непременно «узриши водяных, воздушных и домовых»[2625] (вариант: «будут видимы дьяволы и колдуны»[2626]). Обладатель же корня плакун-травы посредством обрядовых действ и вербальной магии может заключить договор с самим домовым[2627]. Причем эту траву пытаются отыскать среди различных реальных растений. В их числе иван-чай (Epilobium angustifolium), луговой зверобой (Hypericum), иволистый дербенник (Lythrum salicaria), спирея (Spiraea), медуница (Pulmonaria) и др. Мало того, волшебные травы — и некое средоточие магических способностей ведунов. Вот почему траву под названием иван стараются заполучить чародеи всех рангов и специализаций, поскольку «без нея не может никакой волхъ мудры быти»[2628]. Таким образом, чародейские травы, осмысляемые как магические, в значительной мере соотносятся с реальными растениями, многие из которых оказались на поверку лекарственными. Эти травы, согласно поверьям и мифологическим рассказам, участвуют в зачатии и сотворении человека, а в случае его повреждения, разрушения — в воссоздании и обновлении. Они же наделяют человека сверхъестественными физическими и магическими способностями, которыми нередко отличаются герои мифов, преданий, сказок.Моделирование удачи на промыслах
Среди произведений мифологической прозы встречаются рассказы, повествующие об охотничьем, рыбацком, пастушеском счастье, об удаче в том или ином ремесле, что происходит не без участия колдунов, хотя атрибуты их магических действий в быличках и бывальщинах зачастую не фигурируют, оставаясь как бы «за кадром»: «Был такой колдун, даже зверей мог загонять. Сутки, не одны с охотниками. „Дак у нас, — говорит, — капканы не смотрены, там, может, попалось зверя“. И утром придут, полны капканы лисиць да вот всяких зверей. Вот какой был колдун»[2629]. Каким же образом обеспечивал ведун удачу на промыслах? Иногда ответ на этот вопрос мы находим в других мифологических рассказах или в заговорах, согласно которым «знающий» человек заручается благорасположением духов-«хозяев» соответствующих природных стихий (христианизированный вариант: покровительство определенных святых)[2630]. Однако чаще ответ на поставленный вопрос содержится именно в «травниках», где магическая сила растений, функционально приравненных к духам-«хозяевам», способна дать тот же результат. Причем ведун-зелейник, выступая от своего имени или же в качестве посредника между людьми и некими мифическими существами, действует как медиатор, на этот раз между охотниками, пастухами, рыбаками, ремесленниками, с одной стороны, и волшебными растениями, с другой. Факты использования зелья, в частности, для удачи на охоте зафиксированы документально. Так, например, в 1648 г. в Рыльске был задержан сын боярский Гаврилка Мусин, у которого в кармане был «сыскан» корень. Как выяснилось «в разпросе», «тот де корень он Гаврилка держит у себя для звериного промысла», ходит с ним «на поля и в леса и на речки»[2631]. Согласно же материалам «травников» и сопряженным с ними поверьям, охотник, отправляясь на промысел, прежде всего запасается оберегом: с травой царские, или царевы, очи (насекомоядное растение росянка круглолистная — Drosera rotundifolia) ему не страшны ни медведи, ни змеи. Чтобы охотничье счастье не изменило и выстрел всегда попадал в цель, он носит при себе траву землянику (Fragaria vesca). И никакой колдун не сможет заговорить ружье, если оно окурено травой колюкой (колючник — Carlina). Различаются травы, предназначенные для охоты на зверей и птиц. Например, тот, кому предстоит охота на медведя, пьет натощак с уксусом и медом «взвар» из болотного голубца — тогда ни одному медведю не удастся уйти от охотника, обретающего вместе с уверенностью в удаче и столь необходимое в этом деле бесстрашие. (Между прочим, нами в 1970 г. зафиксировано в Каргополье поверье о том, что голубец — надежная защита охотника от медведя, поскольку пахнет болотной топью: в данном материалистическом объяснении слышится позднейшее обоснование функции травы-оберега.) Травой «доброй», чтобы «ходить на медведя», признан в среде ведунов-зелейников и болотный былец, или болотная былица (возможно, поповник — Leucanthemum). Удачу же на птичьем промысле, по их мнению, обеспечивает все та же трава царские, или царевы, очи: «Кто хочет птицу ловить, носи при себе — много уловишь птиц всяких»[2632]. Однако при ловле уток охотники предпочитают траву адамова голова. Окуривание ею необходимых в этом случае снаряжений они приурочивают к Великому четвергу. Иные растения более универсальны по своему предназначению. Тот, кто носит за пазухой траву бел, или бель (так называются многие растения, в том числе и белена), удачлив в охоте и на зверей, и на птиц, особенно на зайцев и тетеревов.
Рис. 57. Из рукописного травника XVII в. (ГИМ). Прорисовка
Некоторые растения, упоминаемые в «травниках», используются и в рыболовной магии. Универсальна в этом отношении трава венерин башмачок: положенная к ловушке, она непременно заманит в западню хоть зверя, хоть рыбу. Траву же росинец применяют для окуривания невода. Ее, истертую в порошок и собранную в мешочки, привязывают к снасти — и рыба, по поверьям, «безбоязно пойдет в твой завод»[2633]. Посредством магических растений можно установить власть над обитателями водоема. Брошенная в воду трава блекота (ядовитое, одуряющее растение белена — Hyoscyamus niger) привлекает рыб настолько, что они делаются ручными. Обладатель же травы нечуй-ветер (вероятно, соотносится с ястребинкой — Hieracium pilosella) может не только поймать рыбу без всяких снастей, но и остановить на воде ветер, избегая явного потопления. Подобные растения с усилением христианства приобретают в сознании носителей мифологической традиции соответствующие признаки. Так, трава Петров крест, осмысляемая в народе как средоточие рыбацкого счастья, носит имя святого и имеет корень в виде креста. Это и другие аналогичные ему растения нередко фигурируют (и особенно в заговорах) как атрибуты христианских святых или Богородицы, которые, держа «во правой руке цвет и траву», ниспосылают обильный улов[2634]. Незаменимы магические растения, согласно поверьям, и в пастушеском промысле. Стадо не будет разбегаться и сохранится в целости в течение всего пастбищного периода, если «знающий» пастух обойдет его трижды с корнем одоленя (кувшинка желтая — Nyphar lutea)[2635]. У ремесленников пользуются спросом иные травы. Тот, кто найдет траву осот (под этим названием в народе известно множество трав, относящихся к разным видам и даже родам), «велик талант приобрящет на земли <…> и во всяких ремеслах поищет тя Бог»[2636]. Иначе говоря, обладателя этого растения не покинет божественное вдохновение. С помощью чудодейственных растений можно обрести и необходимые в том или ином ремесле качества. Так, например, для плотников, равно как и для верхолазов, «что строят и кои ходят высоко», существенным является преодоление боязни высоты. Имея же при себе цветок адамовой головы или корень волшебной травы царь сил или сим (царь-зелье; укр. царь-зилье), они «посмотрят вниз — и им кажется низко и страху нет»[2637]. Или: «Кто хочет высоко лезть — бери эту траву и с ней никакого ужаса нет, и земля кажется близка»[2638]. Упомянутую же траву осот «добро держати» и человеку, занимающемуся торговлей. Не случайно листья у нее, «что денежки». Такое сходство обеспечит действие гомеопатической, или имитативной, магии, основанной на принципе: «подобное производит подобное или следствие похоже на свою причину»[2639]. В соответствии с этой мифологической логикой обладатель травы, листья которой похожи «на денежки», будет несметно богат. Для успеха же самой торговли «знающие» советуют пользоваться магической силой некой травы скопа (от скопить?). Если судить по поверьям, то волшебные растения — действенное средство в осуществлении купли-продажи. Если, к примеру, тебе предстоит что-либо продать, то клади эту траву под товар и «пихай» его от себя — покупатели тотчас же «пристанут». И наоборот, если сам хочешь что-либо купить, то потяни к себе приглянувшийся товар корнем все той же мифической скопы, который имеет форму дуги, а на конце загнут крючком, и «подерни ею на себя» самого продавца, тогда исход будет предрешен: «скоро даст»[2640], т. е. продаст, особо не заботясь о своем барыше. Подобные поверья основаны на реальных фактах повседневного русского быта. Зелье действительно использовалось торговыми людьми для привлечения покупателей. Об этом, в частности, свидетельствует документ, содержащий в себе навет на своего соперника — содержателя кабака («кабацкого откупщика»): «<…> привез де тот Петрушка с поля коренье, неведомо какое, а сказал де тот Петрушка, от того де коренья будет у меня много пьяных людей»[2641]. Таким образом, моделирование удачи на промыслах, в ремеслах либо в торговом деле, согласно народным верованиям, оказывалось в конечном счете прерогативой колдунов-зелейников и обеспечивалось применением тех или иных трав, осмысляемых в качестве магических.
Регулирование человеческих и социально-общественных отношений
Как следует из мифологических рассказов и поверий, посредством чудодейственных трав можно регулировать межличностные отношения. Имеющий волшебное зелье везде бывает душой общества. Он покоряет всех, вызывая к себе расположение. Тот, кто носит при себе «в чистоте» такие травы, как адамова голова, архилим, дудрявый кягиль (кудрявый дягиль), какуй (кокуй), либист (любисток?), могойт, молчан, напахт, осот, папоротник, перекоп, царские очи (соотнесение некоторых из названных трав с реальными растениями оказывается проблематичным), непременно «честь узрит» («честен будет») от всех людей, где бы он ни находился и куда бы ни пошел. Никто (хотя «и не друг») не будет на него сердит («иметь сердце») или мыслить (говорить) против «ни в очи», «ни по-за очи». По отношению к обладателю заветной травы даже гневный сделается добрым. Успех же в просьбах способны обеспечить иные травы, которые, однако, вряд ли имеют сколько-нибудь определенный «прототип»: «У кого чего будешь просить, положи в пазуху (траву попяница. — Н. К.); а ежели у мужика — под полу правую, а у женска пола — под левую пазуху»[2642]. Такое же свойство приписывается и траве змейка (змейца). Впрочем, с помощью этого же растения можно внести и разлад между людьми или внутри определенного микроколлектива: «А где скоморохи играют, кинуть ее (траву змеицу. — Н. К.) под ноги им — и они передерутся и гудки все переломают» (вариант: струны сорвут)[2643]. Программированию посредством магических растений подвергаются и взаимоотношения человека с властями: командиром, судьей, господином и др. Причем «противу гнева властей» наиболее действенна трава тирлич: ее в этом случае надлежит носить на шее. С такой же целью используют и некоторые другие травы. Например, солдаты, чтобы оградить себя от гнева командиров, по рассказам, кладут в сапог пучок сена и ходят с ним сутки. Затем переворачивают пучок и держат еще сутки, после чего, на третий день, вынув его из сапога, кладут на перекрестке с приговором: «Как расходятся эти дороги на четыре стороны, так разойдитесь гневные мысли противу меня моего отца-командира»[2644]. Предполагается, что вместе с потом в сухую траву переходит некая частица сущности (души) самого человека. И теперь именно на нее падет и разойдется гнев командира, не коснувшись самого солдата. С помощью зелья, как выясняется, можно воздействовать и на судей, причем так, чтобы обеспечить желаемый исход рассматриваемого дела. Во всяком случае, верят: тот, кто имеет при себе одолень, непременно выиграет тяжбу. Носящий же с собой чистотел (это название в различных местностях может относиться к разным растениям) непременно будет признан правым: в соответствии с гомеопатической магией — чистым. Такой же результат якобы обеспечивается и мифической травой чарву (от чаровать —?): «Лист угоден, аще кто пойдет в суд. Возьми ее в правую руку, то без сумнения прав будешь в суду»[2645]. И даже виновный, которому, однако, удалось заручиться помощью травы халим (архилим, архилин —?), рассчитывает на оправдательный приговор. Магическая сила растений направляется и на снискание слугой милости своего господина. О подобных фактах свидетельствуют, в частности, материалы судебных разбирательств. Из них, к примеру, известно, что в 1747 г. в Дубенский магистрат была прислана крестьянка Анастасия Иваниха, которая созналась в ведовстве. Она действительно дала слуге-немцу три корешка травы, называемой «ручки Пресвятой Богородицы». Зелье предназначалось для умывания, которое полагалось сопровождать молитвой, обращенной к Богородице, и заговором, обеспечивающим расположение господина к своему слуге[2646]. Подобное чудодейственное назначение той или иной травы обычно программируется уже при ее добывании. Оно формулируется словами заговора и стимулируется вербальной магией: «<…> иже (трава папоротник. — Н. К.) в себе не имеет сердца, тако бы не имели сердца на меня, раба Божия, недруги мои и супостаты и вси человецы, и как люди радостны бывают и убиваются о сребре, так бы радостны были о мне сильнии и вси человецы (курсив мой. — Н. К.)»[2647]. Этими словами обеспечивается действие гомеопатической магии. Вместе с тем обладатель волшебных трав получает могущественную силу и власть, славу и признание. Тот, кто натрет корнем мифической травы царь сим (сил) свою саблю, пищаль и стрелы, непременно одолеет супостата, станет великим полководцем и властелином. Вариант: имеющие при себе в качестве талисмана солнечник (подсолнечник — Helianthus annuus) возвращались домой увешанными орденами и прочими знаками отличия. В отношении же носящего при себе чудодейственную траву осот сбывается предначертание: «<…> и с великою славою вознесешься на земли»[2648]. Все произойдет по законам гомеопатической (имитативной) магии: не случайно корень этой травы, именуемой «царь во травах», «светел, как воск»[2649]. Однако и на вершине власти царь, князь или полководец будет держать при себе и ни за что не расстанется с травой, принесшей ему славу и величие.
Рис. 58. Подзор. Вышивка. Двусторонний («досюльный») шов. Пудожье
Итак мы рассмотрели мифологический слой «травников», зафиксированных непосредственно в контексте крестьянского быта, оставив изучение собственно реалистических элементов, равно как и следы влияния со стороны иных этнокультурных традиций, специалистам в соответствующих областях знаний. Волшебные растения предстают перед нами как один из элементов природы (это метонимический эквивалент земли), участвующих в творении, приравненном к первотворению человека, будь это его рождение либо исцеление от болезни. Магические растения, оказавшись в руках ведунов-зелейников, моделируют и программируют перипетии всей жизни человека. Они разделяют эту функцию отчасти с божествами судьбы, реминисценции которых прослеживаются в дошедшей до нас мифологической прозе, отчасти с чудесными помощниками героя, представления о которых развились в волшебной сказке. Заметим, что, помимо растительных средств, в знахарской или колдовской практике использовались и снадобья животного происхождения: кровь, молоко, моча, слюна, слезная жидкость, икра, жир и особенно печень, осмысляемые как средоточие жизненной силы, а также минеральные снадобья: сажа, зола, уголь и пр., представленные в быличках и бывальщинах о домовом или баеннике как эманация, атрибут либо знак-символ этих духов-«хозяев». Вместе с тем сходные с волшебными травами свойства имеют и чудесные камни. Так, например, агат изгоняет нечистых духов, избавляет от падучей болезни. Мифический алатырь дает всему миру пропитание и исцеление. Алмаз — оберег от врагов и нечистых духов. Аметист избавляет от бесплодия, «погашает» отраву, предопределяет победу в бою при сохранении жизни воинов, обеспечивает удачу на охоте. Тот, кто носит при себе гранат, будет иметь успех в судебных делах и всегда приятен людям; этот камень веселит сердце и удаляет кручину. Ношение магнита — залог благорасположения супругов друг к другу. Яхонт придает его обладателю красоту физическую и нравственную: человек делается чистым и добрым, честным и душевным, набожным и милостивым и т. д. Камни, согласно народным представлениям, — кости земли (матери-сырой земли) — и в этом истоки их чудодейственных свойств. Однако в русских мифологических рассказах о людях, обладающих сверхъестественными способностями, подобные верования, сформировавшиеся, за редким исключением, в иных этнокультурных традициях, занимают весьма скромное место. Они не представляют той цельной системы, которую являют собой поверья о цветах, травах, кореньях, нередко дающие импульс к развитию того или иного мифологического сюжета. Таким образом, чудодейственные растения, приравненные по своим функциям к духам-«хозяевам» или предметным медиаторам между мирами, фигурируют в поверьях, быличках, бывальщинах, легендах, заговорах и духовных стихах, нередко присутствуя в сказке и балладе, в лирической песне и частушке, проникая в пословицы и поговорки. В этих произведениях, взятых в совокупности, создается мифологическая «биография» наиболее популярных в народе растений. Обратимся же к «персоналиям» волшебных трав и цветов, которые выступают одновременно и чудесными помощниками ведунов-зелейников, и их атрибутами.
Фитоморфные персонажи как атрибуты ведунов
Папоротник
Обретение чудесного растения, расцветающего на краткое мгновение в ночь на Ивана Купалу, — символ человеческого бесстрашия и греховности предпринятых поисков, исполнения желаний и призрачности достигнутого благополучия. И все же при суммарном рассмотрении разрозненных представлений о цветке папоротника выясняется, что этот образ еще более неоднозначен и многослоен. В основе его разновременные, противоречивые представления, отчасти сменяющие друг друга, но чаще находящиеся в единстве и взаимодействии. Формирование этого поэтического образа определяется самой фольклорной традицией, направляющей творческий процесс и ограничивающей его возможности. В результате представления о чудесном цветке, об обрядах, обеспечивающих его добывание, о мифических существах, охраняющих растение, и сверхъестественных способностях, обнаруживающихся у обладателя волшебного предмета, выливаются в традиционные формы, варьируясь в определенных пределах. Обратимся к анализу мифологических рассказов, обрядов и поверий о цветке папоротника. «Из широколистяного папоротника является цветочная почка и поднимается постепенно: она то движется, то останавливается, и вдруг зашатается, перевернется и запрыгает, как живое. Иные даже слышат голос и щебетанье <…>. Когда созреет почка, <…> она разрывается с треском, вся покрывается огненным цветом, что глаза не могут вынесть — так пышет от него жаром! Вокруг и вдали разливается яркий свет…»[2650]. В этом образе сконцентрированы представления о цветке папоротника, зафиксированные в устной традиции полтора столетия тому назад. Это цветок мифический. На самом деле папоротник, или кочедыжник (класс Filicales), никогда не цветет. Он размножается спорами, расположенными на обратной стороне листьев. Из созревшей и попавшей на влажную землю споры вначале развивается заросток — маленькая зеленая пластинка, похожая на сердечко. На этом заростке формируются неподалеку друг от друга, так сказать, «тычинки» и «пестик». При благоприятных условиях, когда на пластинку заростка упадет капля дождя или росы, пыльца «тычинок» сможет достичь «пестика» — и произойдет оплодотворение. Тогда только на основе заростка начнет развиваться новый молодой папоротник. В этой цепи развития акт цветения природой не предусмотрен. И все же, вопреки реальным фактам, мифологические рассказы и поверья о чудесном папоротнике бытуют в различных славянских традициях (праслав. paportъ, древнерусск. папороть, укр. папороть, болг. папрат, сербохорв. папрат, слов, paprat, польск. paproć, в-луж. paproć, н. — луж. papros и т. д.). Разрозненные представления, собранные воедино, воссоздают многозначный и многослойный мифологический образ. Прежде всего обнаруживается устойчивая связь мифического цветка с огнем. Это огненный цветок; цветет огоньком; подобен угольку в огне; «точно как огонь горит или пылает»; ассоциируется с «огненным пламенем». Иногда его называют жар-цвет. «Жар-цвет считается, видимо, истечением солнечного пламени в поворотные пункты его годового цикла, то есть в периоды зимнего и летнего солнцестояния», — утверждает Д. Д. Фрэзер (заметим, что исследователь располагал тирольскими и богемскими поверьями, согласно которым папоротник зацветает не только в ночь накануне Ивана Купалы, но и в ночь на Рождество)[2651]. Столь же устойчива связь цветка папоротника со светом. От него разливается такой яркий свет, будто от солнца, и потому ночь оказывается яснее дня. В некоторых мифологических рассказах и поверьях от цветка папоротника исходит такой блеск или сияние, что глаза не в состоянии его выносить. Природа чудесных свойств этого растения объясняется прежде всего связью цветка папоротника с земным либо небесным огнем: не случайно элементы культа огня и солнца столь явственны в купальской обрядности, с которой соотносятся и представления о мифическом папоротнике. Природа сияния и блеска, приписываемых этому цветку, объясняется и его связью с драгоценными металлами: он золотой или серебряный (вариант: золотистый или серебристый на вид). Согласно некоторым представлениям, красное пламя цветка кроваво. Устойчивость подобных воззрений подтверждается и немецкими поверьями: папоротник, будто из семени, вырастает из трех капель крови, упавших на землю из солнца, когда при повороте светила в него выстрелили в самый полдень[2652]. Поскольку кровь в народных верованиях осмысляется как средоточие души, одушевление возникшего из нее (ее капель) растения вполне закономерно. Вот почему и в русских мифологических рассказах почка цветка папоротника ни минуты не остается в покое, а непрерывно движется взад и вперед, прыгая, как живая птичка[2653]. Эти представления удерживаются и в языке. Так, слово «папоротник» родственно древнеиндийскому parnám, что означает «крыло, перо», а греческое слово πτεριζ, «папоротник» происходит от πτερον «крыло»[2654]. В русском же языке «папоротник» одного корня с «папороток», что означает «второй сустав крыла у птицы» или даже само «птичье крыло». В связи с этим А. А. Потебня утверледает, что «папороть» есть воплощение птицы, принесшей огонь, а тем самым и самого небесного огня[2655]. Вместе с тем образ мифического цветка вписывается в систему астральных и солярных знаков: папоротник расцветает, как звездочка; распустившийся цветок быстро носится над землей, словно яркая звезда. По некоторым поверьям, к полуночи над растением формируется клубок астрального света величиной с яичный желток[2656]. Благодаря исходящему от него свету цветок папоротника уподобляется солнцу. Почка чудесного растения разрывается с треском. Быть может, в этом образе сохранились отголоски мифологических представлений, которые проявились в древнем названии чудотворного цветка «Перуново цветье», напоминающем о его связи с богом грозы (грома). Итак, в этом мифологическом образе проявились признаки элементов природы: растения (папоротника), огня (земного и небесного), металла (золота и серебра), равно как и живого существа (прежде всего птицы). Этот синкретический образ соотнесен с космосом, отмечен солярными и астральными знаками. Заметим, что именно так воспринял разрозненные представления о папоротнике Н. В. Гоголь, создав в своей повести «Вечер накануне Ивана Купалы» поэтический обобщенный образ чудесного цветка: «Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. <…> Движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя». Благодаря совокупности представлений о папоротнике, фольклорных и литературных, загадка «Что цветет без цвету?» не остается без отгадки. Овладеть чудодейственным цветком папоротника, судя по мифологическим рассказам и поверьям, стремятся чародеи всех уровней и специализаций. Это ведьмы и колдуны, знахари и «знающие» люди, а то и простые смертные, рискнувшие попытать свое счастье. Они дожидаются праздника Ивана Купалы (24 июня по ст. ст.; 7 июля по нов. ст.), когда, по их мнению, папоротник расцветает. Это день летнего солнцеворота, сходного по своей семантике с зимним. Он отмечен знаком «перехода» через черту летнего равноденствия, что обусловлено определенными обрядами и верованиями. Иванов день характеризуется активностью мифических существ, усилением контактов между мирами, «тем» и «этим». В ночь на Ивана Купалу творческие силы природы, и особенно земли и солнца, достигают своего апогея: травы получают от них сверхъестественную силу. В этот праздник, не случайно именуемый в народе «травником», запасаются на весь год разными чародейскими и лекарственными травами. Причем «царем» среди них считается «папороть». Тогда же совершаются всевозможные «травоволхвования». В традиции сложился целый кодекс правил, которых искатели цветка папоротника строго придерживаются. В них предписываются время, место и способ его добывания. Регламентируются соблюдение обрядов, запретов и произнесение заговоров или молитв, предусмотренных на этот случай. Указывается способ хранения и применения «папороти» соответственно ее назначению. Как уже говорилось, считается, что чудодейственный цветок можно добыть накануне Иванова дня. Впрочем, есть единичные свидетельства, что папоротник расцветает несколько раз в году: в ночь на Светлое Воскресенье, т. е. на Пасху, на Ивана Купалу, равно как и в воробьиные, или рябиновые, ночи: они бывают в конце весны, в середине лета, в начале осени и также отмечены знаками перехода мироздания из одного состояния в другое.
Рис. 59. Пудожский рассказчик
В одной из бывальщин желающий отыскать цветок папоротника снимает с себя крест и, не молясь Богу, часов в одиннадцать идет в лес. В другом мифологическом рассказе он, наоборот, направляясь ночью на лесную поляну, не только не отказывается от атрибутов христианства, но и берет с собой важнейший из них — Евангелие или распятие (правда, наравне с ними может фигурировать и святое зелье). Все зависит оттого, какой силой (чистой или нечистой) представляется «хозяин» чудесного цветка, а также от позиции желающего его сорвать: предаться власти мифического существа или противостоять ей. Идти в ночной лес следует одному, причем никто не должен об этом знать. Там надо найти глухое место, куда бы не доносилось пение петуха. Поскольку мифическое существо, охраняющее цветок, чаще осмысляется как нечистая сила, оно боится пения этой священной птицы, ставшей одним из воплощений домашнего духа. Куст папоротника, цветения которого собирается дождаться смельчак, может быть облюбован заранее. Его приметы описаны в старинных «травниках»: «Есть трава черная папороть, ростет в лесах, около болот, в мокрых местах в лугах, ростом в аршин и выше стебель, а на стебле маленьки листочки, как у простого но (не?) черного папороти, а съиспода большие листы; около стебля земля, а на стебле шишка черная, как кочеток или крюк, а в ней пух, и она вся черная; а шишка треугольная, а цвет на ней что серебро — ночью видно его хотя в какую писанную ночь»[2657]; «Папоротник растет по лесам и по болотам, только больше по лесам; он бывает разный: один повыше, другой пониже, один пожелтее, другой почернее; вот высокий да черный папоротник-то и надобен»[2658]. Впрочем, сведения о локусах «черной папороти», как и следовало ожидать, достаточно противоречивы. Судя по некоторым рассказам, ее ищут на высоких сухих местах, в лесу или в поле и даже на скалах. Добывание чудесного цветка предваряется особыми обрядами и заговорами или молитвами. Прежде всего пришедший в лес очерчивает вокруг куста папоротника, а заодно и вокруг себя, магический круг (иногда: трижды). Обычно это делается с помощью обгорелой лучины (головни), рябиновой палки, восковой свечи или железного орудия: например, ножа, топора. Эти атрибуты, как правило, сакральные сами по себе, маркированы вдобавок сакральными же знаками: если при очерчивании круга используется лучина, то это перволучина, горевшая накануне Нового года и обожженная с обоих концов; если свеча, то страстная, четверговая, принесенная в свое время из церкви зажженной, или огарок от той, которую в Светлое Воскресенье держал в руках вместе с крестом поп, когда окуривал кадилом прихожан, да еще вдобавок огарок свечи «от запрестольной Божией Матери образа»; если же нож, то именно тот, которым разрезали пасху (вариант: который лежал в продолжение семи лет под пасхой, причем в то время, когда ее освящали на Светлый праздник в церкви)[2659]. Очерчивание магического круга сопровождается приговором: «Талан Божий, суд Твой, да воскреснет Бог!»[2660]. Вариант: предварительно нужно сказать: «Талан Божий, суд Твой», а затем прочитать молитву: «Да воскреснет Бог»[2661]. Находящийся в очерченном кругу кладет на землю, под папоротник, полотно (скатерть, полотенце, простыню, наконец, лист чистой белой бумаги). Иногда он даже сам закрывается простыней, как саваном. Такой холст, обычно символизирующий судьбу, отмечен сакральными признаками: это, например, скатерть, на которой освятили пасху, или полотенце, которым священник обтирал церковный престол. По имеющимся сведениям, окропляется освященной водой и само растение. Затем следует зажечь свечу, горевшую в Христовскую заутреню, и читать молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази…»[2662]. Вариант: встать около папоротника с зажженной свечой, изготовленной из человеческого сала. Использованием подобного атрибута дискредитируется мифическое существо, охраняющее цветок папоротника. Стоя или сидя в магическом кругу около куста, нужно не сводить с него глаз. Вариант: лечь на спину и, не шевелясь, смотреть в небо и считать звезды. Причем необходимо расположиться с северной стороны от растения, чтобы тень, осмысляемая как душа данного человека, ни в коем случае не падала на этот куст. (Заметим, что соответствующими обрядами сопровождается и добывание корня папоротника.) Так или иначе в мифологических рассказах, в различных вариантах и версиях, реализуется достаточно типичная коллизия: «Один парень пошел Иванов цвет искать, на Ивана на Купалу. Скрал где-то Евангелие, взял простыню и пришел в лес, на поляну. Три круга очертил, разостлал простыню, прочел молитвы…»[2663]. И разворачивается картина, наполненная звуками, пронизанная светом, пышущая жаром. Впрочем, описание расцветающего папоротника чаще более лаконично: «И ровно в полночь расцвел папоротник, как звездочка»[2664]. Цветение продолжается краткое мгновение, считанные минуты или не более часа. Это происходит в полночь, когда человек может вступить в ближайший контакт с потусторонними силами. Между чудесным цветком и мифическими существами, охраняющими его, прослеживается некая неразрывная связь. Так, в одном из старинных рукописных «травников» о добывании цветка папоротника говорится: «Бывают тогда великие страхи, что уму человеческому непостижимо; в то время приходят множество демонов и великие страхи творят»[2665]. То же самое утверждается и в бывальщине: «Пошел он (один парень. — Н. К.) ночью в лес, ждет двенадцати ночи, а в полночь биси те и пришли»[2666]. Соотнесенность демонов с растением проявляется на всех этапах добывания цветка и не исчезает с его обретением. Едва смельчак в ночь накануне Ивана Купалы вступит в лес, как черти начнут ставить ему «тычки всё, подножки»[2667]. Под его ногами закричат кошки: их вроде бы и нет, а крики слышатся. Раздастся шум, свист, гам, хохот. И невдалеке подчас показывается черт, едущий верхом «на индейском петухе». Такое испытание иные не выдерживают с самого начала: «Мы с мужем тоже ходили по цветок, но не смогли и пяти метров пройти <…>. Не смогли и до Шилки дойти, домой вернулись»[2668]. Но даже когда смельчак пришел к заветному кусту и очертил себя магическим кругом, нечистая сила не оставляет его в покое. Она наводит на человека непробудный сон или устрашает его: стреляет, бросает камнями, наезжает и пр. Около полуночи к черте подходят бесы, принявшие облик разных животных. Они скачут у самой черты, хлещут по земле «хлыстами», бьют по лицу длинными хвостами, цепляются за волосы когтями. «Беси те» пытаются «доставать» парня кочергой из круга, колют его багром, тычут палками, а то и просто прогоняют, угрожая смертью: «Уходи с нашего места, (не) то мы тебя сожгем!»[2669].

Рис. 60. Петух. Традиционная вятская (дымковская) глиняная игрушка
«Адская власть» дает о себе знать и в момент цветения папоротника: раздается чей-то голос и щебетание. И часто попытка добыть цветок оканчивается безрезультатно: «Он уже папоротник увидел, как тот зацветает, а сорвать его не смог. Черти помешали. Так и остался парень ни с чем»[2670]. Не многие выдерживают испытания. Противодействие нечистой силы возрастает по мере приближения смельчака к распустившемуся цветку, и особенно, если он не очертил себя кругом. Стоит только парню протянуть руку к цветку, как черти всячески помешают его сорвать: кто за руку дернет, кто дорогу загородит, кто под ноги подкатится. Когда же он попытается отогнать от себя чертей: «Отойдите, мол, вы от меня, проклятые!» — невидимая сила отбросит дерзкого назад. Смельчак поднимается, вновь направляется к цветку — и опять парня останавливают, дергают, «а сзади его такие-то строят чудеса, что страшно подумать»[2671]. И только в третий раз, несмотря на все препятствия, парень приближается к цветку и срывает его. Вариант: поднимает цветок, упавший на разостланное под кустом папоротника полотно. Впрочем, чудесный цветок может попасть во владение человека и совершенно случайно: «У нас — пастух. Рас ему попало в лапоть <…>. А он сам не знает, а ему попал цветок невидим в лапоть — с папортника сорвался»[2672]. Но и на этом, по мифологическим рассказам и поверьям, испытания смельчака не заканчиваются. Нередко нечистая сила гонится за человеком, уносящим из леса папоротник, с криком: «Отдай!»[2673]. Или же предпринимает всяческие ухищрения, чтобы вернуть цветок. Откуда ни возьмись появляются медведи, начальство, поднимается буря и некто «катит в красной рубахе, прямо на него. Налетел, да как ударит со всего маху — он и выронил узелок»[2674]. И цветка как не бывало. Или к вернувшемуся из леса парню подходит его барин и требует добытое растение. Едва тот подал, как «вдруг барин провалился сквозь землю, цветка не стало, и петухи запели»[2675]. Или к мужику, добывшему чудесный предмет, является во сне черт: «„Ну-ка, где, сыночек, папоротник?“ Мужик достал его и показал черту. Черт выхватил его, захохотал и убежал»[2676]. И даже в том случае, когда цветок случайно попадает мужику в лапоть (или за «голяшку» сапога), утрата его обычно предопределена: или черт в облике роскошно одетого господина покупает у него лапоть, а вместе с лаптем уносит и папоротник, или сам мужик, не зная о своем приобретении, вытряхивает его из сапога и делается еще глупее, чем был. В столь причудливых формах выражена, по сути, идея слитности цветка папоротника и мифических существ, охраняющих его.

Рис. 61. Грибная страда. Каргополь
Такая соотнесенность не случайна и нуждается в особом рассмотрении. Прежде всего, «тьма» чертей, бесов, демонов, нечистой силы, «адской власти», представленная как множество в мифологических рассказах и поверьях, сводится к некоему единообразию. Эта коллективная единичность может быть легко заменена одним персонажем. Причем последний часто осмысляется как некое вредоносное существо. Ведь под влиянием христианства стали осмысляться как нечистая, враждебная человеку сила едва ли не все былые языческие божества. По-видимому, подобной же трансформации подвергся и персонаж, соотнесенный с папоротником. Не удивительно, что в поверьях словенцев вместо черта фигурирует вила, в образе которой есть элементы божества судьбы: она уносит в Иванову ночь зерно папоротника, которое имеет те же чудесные свойства, что и цветок. Изначально мифологическим персонажем является сама «трава-папороть», зачастую именуемая в народе «царь над цветами». Иначе говоря, мифическое существо, охраняющее цветок, и сам расцветающий папоротник в истоках одно и то же. Следы этих представлений можно обнаружить даже в дошедших до нас бывальщинах: «Подошел к цветку, нагнулся, ухватил его за стебелек, рванул; глядь: вместо цветка у черта рог оторвал»[2677]. Перефразируя известные слова В. Я. Проппа, можно утверждать, что персонаж-растение со временем превратился в персонаж + растение. Причем вторая часть этой формулы стала обозначать атрибут персонажа, тогда как ранее, будучи неотделимой от первой, она заключала в себе самую его сущность. Если цветок папоротника трансформировался в чудесный предмет, то чудесный даритель — в развенчанный персонаж, нередко сниженный до уровня нечистой силы. Однако даже в этом дискредитированном мифическом существе можно обнаружить былые признаки чудесного дарителя. Так, согласно одному из рассказов, при соблюдении определенных условий «сам черт с трона своего подает человеку цветущий папоротник и при этом дает совет, как с ним поступить»[2678]. Вместе с тем в заговорах утверждается, что сила царь-траве дана от Бога. Представления о чудесном дарителе, чудесном помощнике и чудесном предмете, находящиеся в подвижном взаимодействии, обнаруживаются здесь с достаточной определенностью. Обычно подобные представления восходят к тотемистическим верованиям и связаны в своих истоках с персонажами тотемного характера, наделяющими героя тайными знаниями или чудесным предметом. Однако в данном случае такое утверждение, по-видимому, не имеет достаточных оснований. У различных славянских народов зафиксированы лишь факты использования этого растения в качестве оберега. Например, у словенцев накануне Иванова дня в каждом доме убирают папоротником окна, устилают пол и лестницу, дабы предохранить себя от ведьм и злых духов. У чехов для охраны скота от вредоносных сил и околдования принято вытирать ясли корнем папоротника. У русских папоротник в качестве оберега кладут накануне Ивана Купалы по стойлам, чтобы ведьмы не высасывали у коров молоко и не портили телят. В некоторых архаических этнокультурных традициях (например, бытующих в Фиджи) корень папоротника, приготовленный на священном огне, используется в обряде снятия табу[2679]. Наряду смифологическими рассказами, где сорванный цветок безвозвратно утрачивается (если его вообще удается сорвать), бытуют и такие, в которых счастливый обладатель чудесного предмета благополучно возвращается домой. Мотивировки успешного завершения дела могут быть различными. Например, смельчак не поддался на просьбы, уловки либо угрозы со стороны нечистой силы и не отдал сорванный цветок. Наоборот, соблюдая обряд, он смел в кучку лепестки, если они осыпались на полотно, и залепил их воском от свечи, горевшей у запрестольного образа Богородицы. Причем до самого рассвета парень не покинул очерченного круга, произнося предусмотренные обрядом заговоры (молитвы). Иные версии: уходя из леса, обладатель цветка покрылся скатертью, символизирующей покровительство домашних духов. Или промчался по лесу без оглядки, непрестанно повторяя: «Чур тово — полно!»[2680]. А то и просто бежал так быстро, что черти не смогли за ним угнаться. И лишь в редких случаях смельчак получает чудесный предмет из рук самого дарителя. Обладание цветком папоротника наделяет его владельца сверхъестественными способностями. Сам акт их обретения в известном смысле материализуется. В одной из бывальщин «старый-престарый старик», лежащий на печи в лесной избушке и, по сути, дублирующий чудесного дарителя, говорит парню: «Тебе одному не справиться с Ивановым цветком, я тебе помогу в этом»[2681]. Старик слезает с печи, разрезает у парня на ладони (обычно правой руки) кожу, всовывает под нее цветок и в ту же минуту заращивает рану. Вариант: парень сам разрезает себе палец (возле большого пальца) или ладонь руки тем самым ножом, которым он очерчивал вокруг себя магический круг и которым ранее разрезали пасху, а затем вкладывает в образовавшуюся рану цветок папоротника. Иная версия: парень хватает обеими ладонями сформировавшийся над растением клубок астрального света величиной с яичный желток и проглатывает его. Или съедает высушенные лепестки цветка. Человек, обладающий чудесным предметом, обретает свойства сверхъестественного существа и может, подобно ему, быть невидимым. В этом случае цветок папоротника приравнивается к шапке-невидимке: «Когда крестьянин воротился в семью, домашние, слыша его голос и не видя его самого, пришли в ужас; но вот он разулся и выронил цветок — и в ту же минуту все его увидали»[2682]. В поздних мифологических рассказах этот мотив подвергся своеобразному переосмыслению: завладевший цветком-невидимкой может ходить по всем магазинам и лавкам и среди бела дня брать любой товар и столько, сколько ему вздумается, потому что цветок-невидимка скрывает человека[2683]. Цветок папоротника, по суммарным представлениям народа, — «ключ колдовства и волшебной силы»[2684]. Он средство добывания кладов, «зачарованных», не дающихся в руки. Между ними и цветком папоротника обнаруживается некая устойчивая связь, действующая по принципу гомеопатической магии: «подобное порождает подобное»; золотой цветок папоротника расцветает там, где лежит золото. Или же распустившийся цветок, быстро носясь над землей, падает, словно яркая звезда или метеор, на то место, где зарыты сокровища. И даже раскрывается цветок одновременно с выходом из земли кладов, горящих синими огоньками. Есть даже поверья, что «зачарованные» клады появляются на поверхности земли в виде папоротника, а быстро увядающий цветок роняет золото на подостланное полотно[2685]. В этих случаях цветок папоротника по сути отождествляется с сокровищами. Напомним, запрятанные золото и серебро, изображаемые в преданиях и мифологических рассказах, изначально осмыслялись как средоточие магической силы их владельца и лишь с установлением товарно-денежных отношений стали восприниматься как определенные материальные ценности и богатство[2686]. Вот почему сорвать цветок папоротника и добыть клад, «зачарованный», сакральный, означает по сути одно и то же — обрести некое средоточие магической силы. Переосмысление одной из частей этого тождества влечет за собой трансформацию и другой. Не случайно со временем цветок папоротника нередко осмысляется как вернейшее средство разбогатеть. Фольклорно-мифологическая традиция в достаточной степени удерживает за собой изначальное значение образа цветка папоротника как магического предмета, обеспечивающего его обладателю всеведение и ясновидение. Концентрированным выражением таких представлений служит вопрос: «Откуда далась ему мудрость?». Согласно бывальщинам и поверьям, тот, кто владеет цветком папоротника, делается колдуном. И сами «нечистые духи», «черти», некогда сменившие своего архаического предшественника — чудесного дарителя, находятся в его распоряжении. Перед обладателем цветка раскрываются все тайны мироздания. Как вещий человек, он видит прошлое и настоящее, легко предсказывает будущее. Угадывает чужие мысли. Понимает язык растений и животных. Не боится природных стихий: ни бури, ни грозы, ни воды, ни огня. Может превращать одно вещество в другое, черпая из рек и колодцев вместо воды «славное вино» (ср. с Первым чудом Иисуса Христа — Иоан. 11.1–11). Повелевает землей и водами. Видит насквозь, что кроется в недрах земли, кора которой делается перед этим «знающим» прозрачной, словно стекло. Перед обладателем чудесного цветка железо (замки, запоры, цепи) рассыпаются в прах. Злые чары против него бессильны. Сам же колдун может отвести от людей всякие болезни, напасти, порчу (либо, наоборот, наслать их), возбудить любовь красавицы. Легко отыскивает в лесу пропавший домашний скот. С помощью цветка папоротника может принять на себя какой угодно облик или других сделать оборотнями.

Рис. 62. Подзор простыни-«настилальника». Вышивка «шов набором». Каргополье
Тот, кто отыскал чудесный цветок, получает вместе с ним некое средоточие «огромнейшего счастья», становится «величайшим счастливцем». Перед ним бессильны могущественные правители. Для него нет ничего невозможного и недоступного. Те или иные магические способности проявляются у владельца чудесного цветка в зависимости от того, где он поместит обретенный «ключ колдовства». Так, согласно одному из старинных рукописных «травников», если носить папоротник на лбу, то можно увидеть, «где какая поклажа (клад. — Н. К.) лежит и как что положено и сколь глубоко»; если же поместить его во рту, за щекой, то можно идти, куда захочешь, — и никто тебя не увидит, «что хошь делай!»; если же носить цветок на голове, то «все видеть и знать станешь, и вельми счастлив будешь и достоин всякому начальству, во всякой чести будешь»[2687]. В одном из мифологических рассказов парень, «зарастивший» в ладони цветок папоротника, «был встречен царем с большим почетом, произведен в фельдмаршалы и находился при царе до самой его смерти»[2688]. Как видим, в мифологических рассказах и поверьях, по сути, развивается сказочная коллизия: герой, побывавший в лесу, осмысляемом как некий потусторонний мир, обретает волшебный дар. Этот магический предмет он получает из рук дарителя или — особенно в поздней традиции — добывает вопреки воле негативно переосмысленного мифического существа. Обретенный героем атрибут некогда выражал сущность самого чудесного покровителя или чудесного помощника. Не случайно даже в поздней традиции цветок соотносится, с одной стороны, с мифическими существами (орнитоморфного либо тератоморфного характера), в той или иной мере его персонифицирующими, а с другой — с солнцем и золотом, эквивалентами которых являются огонь и свет. И лишь со временем цветок папоротника стал осмысляться как средоточие магических способностей героя.
Разрыв-трава
Это популярное в среде колдунов и знахарей растение упоминается, в частности, в одном из «травников», известном под названием «Дознание желающим о травах, целящих болезни». Имеющий хождение на территории Олонецкого края, он в 1767 г. был переписан государственным крестьянином Петровских заводов Ильей Ивановым. Вот как представлена здесь разрыв-трава: «На ней четыре листа крестиками; а из земли сия трава не выростает, но в земли пребывает, видом якобы брусничник»[2689]. О том, что ее листья по форме напоминают крестики, свидетельствуют и другие источники, подчеркивая сакральную сущность этого атрибута ведунов-зелейников. Чудесная трава имеет в народе разные названия: разрыв, спрыг(к), прыгун, скакун, лом и даже муравей. Обычно это синонимы, обозначающие по сути одно и то же мифическое растение. И лишь в редких случаях за теми или иными названиями стоят различные, хотя и одинаковые по своему предназначению, травы. Так, разрыв иногда отличают от спрыга или прыгуна-скачка, что очевидно уже из упомянутого «Дознания…»: «Трава Прыгун-Скачек. <…> ростом в пядень, цвет голуб кувшинцами, корень как чесноковка»[2690]. Заметим, что схожие растения известны и в других этнокультурных традициях — славянских, а также германских. Например, у сербов разрыв-траве соответствует расковник (от глагола расковать), а у немцев — Springwurzel. Разрыв или спрыг(к) узнают по блесткам, покрывающим их на утренней заре, до восхода солнца. Разрыв ищут «в лугах добрых», тогда как прыгун-скачок — «на добрых землях боровых». Впрочем, где именно они растут, никому неведомо. Описания разрыв-травы и в устных поверьях, и в рукописных «травниках» стимулировали поиск «оригинала» среди реальных растений. Наиболее часто эту траву соотносят с растением, известным в ботанике под названием Saxifraga (его общепринятое русское название камнеломка). Приведем описание названного растения, почерпнутое из специального определителя: «Листья супротивные, сросшиеся основанием в короткое влагалище, эллиптические, по краям реснитчатые. Стебель стелющийся, сильно ветвистый, с приподнимающимися веточками (на 1–2 см), густолиственный. Цветы одиночные, почти сидячие, крупные, розовые или фиолетовые»[2691]. Опознание чудодейственной разрыв-травы в этом растении обусловлено, быть может, способностью последнего расти на скалах, как бы «разрывая» твердь. Впрочем, разрыв иногда ищут среди растений, известных под названием «недотрога», или «не тронь меня» (Impatiens) из семейства бальзаминовых (Balsaminaceae). Характерным признаком этого растения является шпора с загнутым на верхушке крючком, которой снабжен один из его чашелистиков. В других этнокультурных традициях представления о чудесной траве, подобной разрыву, связаны с иными реальными растениями. Например, чехи пытаются обнаружить ее преимущественно в цикории (Cichorium), а немцы — в молочае (Euphorbia lathyris). Отыскать это чародейское растение под силу лишь «самым искусным знахарям, и то счастливым»[2692], тем, кто посвящен «в таинство чернокнижия»[2693]. «А сию траву едва мудрец найдет»[2694], — утверждается в рукописном «Дознании…». Причем успех в поисках сопутствует прежде всего тем, у кого уже есть цветок папоротника и корень плакуна — неизменные атрибуты колдунов и знахарей. Согласно старинному сказанию, разрыв-трава встречается так редко, что едва ли один из трех тысяч ведунов сможет ее найти. Простые же смертные, не полагаясь на собственные силы, пытаются купить у них чудесную траву «за великие деньги». Однако, согласно поверьям, проданный разрыв не помогает: он утрачивает свои сверхъестественные свойства. Пострадавшие при этом обычно не верят, что их обманули, и бездействие обретенной травы объясняют злокозненностью дьявола. И все же В. И. Далю в свое время удалось зафиксировать факт возбуждения уголовного дела по случаю купли-продажи баснословной спрыг-травы: отставной солдат выманивал деньги у кладоискателей, предъявляя в доказательство чудодейственной силы предлагаемого растения несколько испанских талеров XVII в., якобы добытых с его помощью. Разрыв-траву, так же как и папоротник, ищут накануне Ивана Купалы (24 июня по ст. ст.; 7 июля по нов. ст.): по поверьям, она только тогда и растет или цветет. В ночь на Ивана Купалу (этот праздник отмечен знаком «перехода» через черту летнего равноденствия) творческие силы природы, и особенно земли и солнца, достигают своего апогея: травы получают от них сверхъестественную силу, что происходит не без участия активизирующихся в этот момент мифических существ. Вот почему, в соответствии с народными верованиями, в означенное время не следует спать, а нужно, никому о том не сказав, засесть где-нибудь на сухом высоком месте, дожидаясь появления чудесного растения. Иные утверждают, что в полночь на Ивана Купалу распускается огнем цветок разрыв-травы, подобный цветку папоротника. Причем цветение длится не более того времени, которое требуется, чтобы прочитать «Отче наш», «Богородицу» и «Верую» (варианты: не более пяти минут; в течение одной минуты). Одновременно с цветением разрыв-травы и папоротника из земли выступают все скрытые в ней сокровища. Такая соотнесенность обоих цветков между собой и с кладами не случайна. И те и другие атрибуты, воплощающие магическую силу их владельца, функционально тождественны и взаимозаменимы. Так, в одном из немецких мифологических рассказов «пастух однажды нашел прекрасный цветок, сорвал его и заткнул в шляпу, но вскоре почувствовал на голове что-то тяжелое; смотрит — цветок превратился в серебряный ключ <…>. Этим ключом отпер он двери во внутренность горы и обрел там несметные сокровища»[2695]. Как видим, прекрасный цветок, серебряный ключ и несметные сокровища взаимосвязаны и взаимообусловлены. В приведенном мифологическом рассказе в качестве чудесного дарителя, роль которого, однако, уже завуалирована, предстает некая белоснежная дева, по сути персонифицирующая прекрасный цветок. В русских же бывальщинах чудодейственное растение приносят различные животные (преимущественно птицы и пресмыкающиеся). Согласно поморскому поверью, змея, плывя по воде, всегда держит во рту травинку, известную в данной местности под названием лом. Убивший плывущую змею становится обладателем волшебной травинки[2696]. В мифологическом же рассказе, зафиксированном в нескольких вариантах и версиях, желающий добыть разрыв (спрыг) — траву отыскивает весной дупло, где гнездится дятел; в отсутствие птицы он затыкает отверстие куском железа или заграждает его железным гвоздем, расстилая при этом под деревом полотно (скатерть, платок). Вернувшись, птица не может попасть в свое гнездо и, чтобы пробраться в дупло, летит искать разрыв (спрыг) — траву и приносит ее в клюве. Едва только дятел коснется травой железа, как оно падает на землю, а вслед и разрыв (спрыг), выпущенный птицей из клюва, оказывается на разостланном внизу полотне[2697]. Или отыскивают в лесу гнездо орла либо черного коршуна; дождавшись, когда вылупятся птенцы и начнут оперяться, уносят их домой и запирают на замок в амбаре; для вызволения своих детей птицы-родители принесут разрыв-траву. В южнорусском же варианте, своеобразие которого определяется фауной ареала его бытования, ограждается железными гвоздями гнездо, в котором черепаха отложила яйца. Коллизия та же: вернувшись, черепаха не может преодолеть преграду; она удаляется и спустя какое-то время возвращается с травой во рту; при соприкосновении с этим растением гвозди вылетают один за другим. А разрыв, оставленный черепахой у гнезда, достается человеку[2698]. Варьируется образ зооморфного хозяина чудодейственного зелья и в мифологии иных славянских народов. Так, по хорватскому поверью, разрыв-травой владеет лягушка. Несколько иная версия зафиксирована в словацкой традиции: овчар видит множество змей, каждая из которых, взяв на язык росшую здесь же некую травку, открывала с ее помощью скалу. Овчар последовал примеру — войдя в расщелину скалы, он очутился в пещере, стены которой блистали серебром и золотом[2699]. Аналогичный сюжет известен и чешской, и немецкой мифологиям. О бытовании его в античной традиции свидетельствует римский ученый и писатель Плиний Старший (23 или 24–79 гг.): см. его труд «Естественная история» (X. 18). Как видим, и дятел, и орел, и черный коршун, и лягушка, и змея, и черепаха, почитаемые в определенной локальной или этнической традиции, наделяют человека магическим предметом. Не имея явных признаков чудесных дарителей либо чудесных помощников, они по сути уподобляются им. Зная сверхъестественные свойства разрыв-травы, можно добыть ее и иным способом. Для этого нужно в полночь накануне Ивана Купалы забраться «в дикой пустырь» и косить там траву до тех пор. пока не переломится коса. По некоторым вариантам, это может произойти и во время обычного сенокоса: коса без всякой видимой причины, на ровном месте, где не было ни кочки, ни камня, ни пенька, вдруг разлетится на несколько частей или же, по крайней мере, звякнувши, переломится. По поверьям, это явный признак, что лезвие ударилось о разрыв (спрыг) — траву. «А ще на сию траву коса найдет, то вскоре переломится», — утверждается в «Дознании…»[2700]. Теперь остается найти ее в срезанной зелени. Для этого собирают всю скошенную при последнем взмахе косы траву и бросают в реку. Чудесное растение обнаружится тотчас же: оно плывет вверх по течению, тогда как обычная трава, естественно, — вниз. Вот то растение, которое поплывет против течения, и есть разрыв (спрыг). О добывании же цветка этого мифического растения повествуют иные рассказы и поверья. Желающий обрести чудесный цветок ловит к вечеру накануне Ивана Купалы петуха и держит птицу под полой одежды, в которой собирается идти искать его. Как только в селе во всех избах загорятся огни, смельчак несет петуха — и опять-таки под полой — в лес. Едва вещая птица пропоет в третий раз, нужно не зевать и рвать разрыв-траву в полном ее цвету, не обращая внимания на ужасы, происходящие вокруг. Нечистая сила (черти), в образе которой предстает развенчанный «хозяин» чудесного растения, попытается посредством всевозможных ухищрений помешать человеку добыть цветок и даже лишить его жизни. Однако рискнувший все же сорвать разрыв-траву бежит без оглядки домой, не отвечая ни на какие вопросы. Стоит смельчаку произнести хотя бы одно слово — и все пропало: он вернется домой с пустыми руками[2701]. И даже присутствие петуха — священной птицы, в которой нередко воплощается домашний дух-покровитель и которая используется как оберег, не предотвращает такого исхода. Впрочем, по другим поверьям, есть и иная опасность утратить добытый разрыв: если не положить траву в «скляницу» или в воск, то она «уйдет». Дальнейшее развитие событий, изображаемых в мифологических рассказах и поверьях, предопределено словами уже цитируемого «травника»: «Велику себе благодать получишь, когда вложишь в руку и заростишь»[2702]. Имеется в виду, что добытую разрыв-траву ее владелец всовывает в разрезанную ладонь (иногда в палец, под самый ноготь) и заживляет рану. Трава обычно «врезывается» в левую руку, иначе обладатель этого магического предмета не сможет держать в правой руке оружие, впрочем, как и всякое другое железо. По преданиям, в старину многие удалые разбойники имели под ногтем листик этого растения. У Пугачева же спрыг был под каждым ногтем. Подобный чудесный предмет достаточно и просто держать в руке, чтобы добиться желательного эффекта. Независимо от того, находится ли чародейская трава в самом человеке или вне его, ее обладатель обнаруживает сверхъестественные способности. Для него не существует никаких преград. Волшебная трава оказывает свое разрушительное воздействие на любые металлы: железо (даже на сталь), медь, золото, серебро. Вот почему от соприкосновения с ней разлетаются на части любые замки и запоры. Перед счастливым обладателем разрыва, или спрыга, открываются подземелья, расступаются скалы, недра которых таят в себе несметные сокровища, — и «зачарованные» клады, охраняемые «нечистой силой», даются ему прямо в руки: «(Трава прыгун-скачок) угодна ко всему, а более где старая казна заговоренная. И она все разрушить и взять поможет»[2703]. Вот почему кладоискатели готовы заплатить колдунам и знахарям любые деньги, лишь бы добыть это чудодейственное средство.
Рис. 63. а) Секирный замок, б) амбарный ключ
Разрыв (спрыг) — трава проявляет свою разрушительную силу при всевозможных обстоятельствах. Стоит бросить ее в кузницу — и ни один кузнец не сможет ни ковать, ни сваривать железо, так что продолжать работу нет никакого смысла. Если же лошадь случайно наступит на эту траву, то у нее подковы или железные путы разлетятся на куски и она сама собой раскуется или сбросит цепи. (Ср. с сербским мифологическим рассказом: один кузнец, надев на бабу-знахарку путы, пустил ее по полю: где спадут оковы, там и следует искать расковник.) Разрыв-трава оказывает разрушительное воздействие не только на металлы, но и на жизнь, любовь, в результате чего человек скоропостижно умирает, а чувство внезапно иссякает. Подобная коллизия нередко разрабатывается в сказке: антагонист героя получает разрывное зелье от ведьмы, ворожеи, старухи; молодцу удается избежать смертельной опасности; вместо него разрывает на части собаку, рвет землю. Приведем пример: «Сказала девка-чернавка: „Мотри, Бова-королевич, хотя пирог хорош, ты ево не ешь: он состряпан с зельями; как ты поешь, так тебя разорвет на три части“. <…> скричели борзых коблей; борзы кобли съели пирог, их на три части розорвало»[2704]. Иная версия: герой сам получает от старухи стакан с «пойлом»; он не пьет этого зелья, а, перелив в кувшин, увозит с собой; по дороге мажет плеть полученным составом и ударяет ею коня — того вмиг разрывает на части; налетевшие на падаль вороны околевают; приказчики, которые жарят и едят этих птиц, так и падают мертвыми. Перед владельцем чудесного растения открывается возможность использовать во благо или во зло его разрушительную силу. По некоторым рассказам и поверьям, разрыв-трава обнаруживает и другие магические свойства. Она предохраняет своего хозяина от сглаза и порчи, надежно защищает на всю жизнь от болезней и напастей. Цветок же спрыга делает его, подобно духу, невидимым. С этой травой молодец непобедим в драке. От обладателя чудодейственного растения исходит такое обаяние, что ему готов поклониться сам начальник и уж, во всяком случае, не обидеть. Если добыть такого помощника чрезвычайно трудно, то лишиться его можно легко: стоит бросить спрыг-траву в отхожее место — и его чудесных свойств как не бывало. Раскрыв круг представлений, связанных с разрыв-травой, мы отчасти обнаруживаем тайну неуязвимости героев фольклора: вождей, атаманов, удалых разбойников. И в результате разгадывается одна из загадок, почему пули не берут героя, кандалы спадают с его ног, цепи рассыпаются в прах, и никакие запоры не в состоянии удержать доброго молодца в темнице.
Плакун-трава
В мифологической флоре плакун-траве принадлежит особое место. Не случайно, по свидетельству современников, ее едва ли не вплоть до XX в. продавали в самой Москве, у Москворецких ворот и на Глаголе, «за хорошую цену». «А без него никаких трав не рви, хоть и вырвешь, а пользы не будет»[2705], — утверждается в одном из «травников», имевших хождение на территории Олонецкой губернии. Согласно поверьям, лишь тот, у кого уже есть цветок папоротника и корень плакуна, может добыть любые чудодейственные растения и направить их магические силы на достижение желаемой цели. (В других локальных традициях ключом к отысканию чудесных трав служит некое растение арарат.) И в рукописных «травниках», и в устных поверьях, а также в духовных стихах и мифологических рассказах обозначается характер местности, где якобы можно отыскать плакун. При всей видимой достоверности такое описание, как правило, расплывчато, неопределенно, псевдореально. Чудесная трава растет «по лугам и подле рек, и по пескам и подле болот»[2706], в духовном же стихе о Голубиной книге она локализуется «по горам», а не по «болотам и озерам». Впрочем, в мифологических рассказах приводятся случаи, когда она вырастает прямо во дворе. Столь же псевдореально и описание внешних признаков плакуна, по которым предстоит опознать его среди множества луговых, болотных, полевых, лесных и даже горных трав. По свидетельству рассказчиков, ствол этого необычайного растения вышиной в аршин (71 см), но бывает и больше, и меньше. Он «ростет о пяти и о четырех, и о трех, и о двух, и об одной стволине»[2707]. Эта трава «на четверть аршина по стволу отрасли имеет малы»[2708]. Или же четверть аршина от всей высоты плакуна составляет его «красновишневый» цветок. Такими же цветами могут увенчиваться и другие «стволины» или «отрасли малы». Но самой ценной частью, ради которой и добывается плакун, считается корень (иногда и цветы), который «столь крепок, что топором насилу урубишь»[2709]. У него, как и у ствола, также «отраслей» много. Чудесным, однако, признан лишь плакун с белым корнем, с черным же он, в представлении крестьян, ни на что не годен.
Рис. 64. Корзинка-«набирушка». Село Типиницы. Заонежье
«Знающие» люди, а то даже, согласно духовному стиху, и «отцы преподобные», пытаются отыскать эту мифическую траву среди различных реальных растений. Так, за плакун принимается то иван-чай (Epilobium angustifolium), то луговой зверобой (Hypericum), то иволистый дербенник (Lythrum salicaria), то спирея (Spiraea), то медуница (Pulmonaria) и другие травы. Как видим, плакуну приписываются признаки и того, и другого, и третьего реального растения, потому что на самом деле он ни то, ни другое, ни третье. Мифологическая природа этой травы выявляется из рассказов и поверий о ее происхождении. Плакун зарождается на крови, на слезах — как говорят в народе, «на обидящем месте». У добродетельных людей он может вырасти у самого дома: «Одна барыня такая добрая, благочестивая купила дом; не успела купить, как плакун-трава и выросла на дворе»[2710]. В духовном стихе о Голубиной книге плакун-трава возникает из крови распятого Христа и слез его матери, пролитых в скорби. Ее «слезное» происхождение зашифровано и в самом названии «плакун-трава», «трава плакунная», «трава плакущая»:

Рис. 65. Столбец (голбец) на кладбище близ Никольской церкви Муезерского монастыря
Плакун-трава наряду с цветком папоротника и разрыв-травой, согласно поверьям и мифологическим рассказам, используется кладоискателями для обнаружения «зачарованных» сокровищ и овладения ими. Намеревающийся найти клад берет с собой немого петуха и, привязав ему на шею плакун-траву, отпускает. Как только птица достигнет того места, где лежит клад, она сразу же закричит. Предполагается, что при добывании «зачарованных» сокровищ священное растение и священная птица нейтрализуют вредоносное воздействие нечистой силы, охраняющей клады. Не случайно в фольклорных произведениях, уже подвергшихся христианизации, кладоискатель, помимо использования магических свойств освященного в церкви плакуна, призывает к себе на подмогу архангела «Уриила» (Гавриила) и Илью-пророка, которыми со временем сменяются соответствующие персонажи языческого пантеона, в том числе и растительные. Дублированием функционально тождественных атрибутов обеспечивается успех в добывании «зачарованного» («заклятого») клада как средоточия магической силы его владельца (осмысление сокровищ в качестве материальных ценностей, повторяем, сформируется позднее, с установлением товарно-денежных отношений[2727]). В этом смысле чародейское растение приравнивается к чудесному металлу. Итак, плакун-трава, осмысляясь и как магический атрибут, и как мифологический персонаж, предстает прежде всего в качестве оберега от всевозможных вредоносных сил. Другими словами, это одновременно и некое средоточие сверхъестественных сил его обладателя, и предметный медиатор между мирами. Не случайно плакун-траве приписывается способность давать утешение сильно плачущим об умерших и в то же время предохранять живых от вторжения усопших[2728], благодаря чему поддерживается устойчивое равновесие в мироздании, не допускаются силы хаоса. В связи с этим вспоминается растительный мотив, встречающийся на надгробных старообрядческих памятниках (голбцах). Уж не преломляются ли представления о плакуне в изображенном на них диковинном растении, увенчанном цветком и нередко имеющем абрис человеческой фигуры?
Одолень-трава
В среде ведунов-зелейников известно множество трав, которые, по их мнению, могут быть использованы в качестве оберегов от всяческих вредоносных сил. К числу таких чудодейственных растений относятся, согласно поверьям и мифологическим рассказам, плакун и Петров крест, Христов посох и царевы очи, архилин (архилим, архалим, архитриклин, хралин), сивулист и др. К травам-оберегам принадлежит и одолень (одалень, адалень, одолей, неодолим; сербск. одољан, чешск. odolen), название которого говорит само за себя. На практике его обычно отождествляют с водяными растениями из семейства кувшинковых: с белой кувшинкой (Nymphaea alba), желтой кубышкой (Nuphar lutea) — либо с растением из семейства молочайных (Euphorbiaceae). Судя по описаниям, приведенным в «травниках», и прежде всего в тех, которые бытовали на территории Олонецкой, Архангельской, Ярославской губерний, естественные стихии мифического одоленя — вода и земля (камень). Не случайно он растет при больших реках; близ воды и рек; на сырых местах; на старых лугах («на старинных лугах»), а также «при камени черном»; «по каменным местам»[2729]. Локализация чудесных растений, как правило, обозначена в формульных выражениях. Так, по берегам больших рек и морей, а то и просто «при болотниках», обнаруживаются и другие травы-обереги, в частности архилин. Впрочем, согласно формулам заговоров, одолень обычно локализуется в поле: «Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень-трава»[2730]. При описании же внешних признаков этого растения основное внимание уделяется его высоте и цвету: «ростом в локоть», или «вышиной в три четверти аршина» (т. е. приблизительно 0,5 м); «та трава собой голуба», «цвет голубой» (заметим, что синим цветом часто маркированы мифические существа) или «листочки белы» («с белыми листочками»); «цвет рудожелт» (темно-желт, желт). Однако и в этом описании мифического растения есть элементы устойчивой формулы: «ростом в локоть» и синим на вид представлен, к примеру, все тот же архилин. Правда, вотличие от одоленя, у него «наверху четыре цвета: червлен, зелен, багров, синь»[2731], причем «зелен» в других вариантах заменяется белым или желтым. По поверьям, одолень — воплощение двух природных, гармонично соединившихся стихий — «матери сырой земли» и живой воды, что находит себе соответствие и в заговоре: «Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я тебя породил; породила тебя мать-сыра земля, поливали тебя девки простоволосые, бабы-самокрутки»[2732]. В образах девок с непокрытыми волосами, осмысляемыми в народных верованиях как средоточие жизненной, физической и магической, силы, и баб-самокруток, причастных, наперекор всему, к стихии рода и плодородия, угадываются некие женские мифические существа, обусловившие своими действами появление чудесного растения. Быть может, эти персонажи в истоках близки тем самым сербским вилам, которые поведали в своей песне, передав ее людям, о чудодейственной силе одолень-травы[2733]. Отправляясь на поиски этого мифического растения, человек, как это следует из заговора, преодолевает грань между собой и природой, превращаясь в уменьшенную копию мироздания, подчиненную всеобщему ритму, соотносится с самим космосом, растворяясь в нем: «Еду я из поля в поле, в зеленые луга, в дольные места, по утренним и вечерним зорям; умываюсь медяною росою, утираюсь солнцем, облекаюсь облаками, опоясываюсь частыми звездами»[2734]. В какое время происходил сбор одолень-травы и какими обрядами он сопровождался? В нашем распоряжении имеется лишь единичное упоминание, что мифическое растение полагалось «вырвать в мае девятого дня»[2735], положив на его место куриное яйцо как средоточие жизненной силы, обеспечивающей возрождение, в данном случае — сорванной травы. Кроме того, одолень предписывалось брать «не просто», а «скрось сребро или злато», т. е. обложив или очертив место вокруг найденной травы серебром или золотом: будучи сами по себе средоточием магической силы их владельца, эти благородные металлы приумножали магические свойства добытого растения. Такое же назначение имел и соответствующий приговор — вербальная часть исполняемого обряда. Но чаще эту траву выпрашивали у ведунов-зелейников: «„Може, у вас есть неодолим-трава (одолень-трава, — Н. К.)? Ты хоть мне б дала кропоточки одной“. <…> И она ей, цыганка, маме дала вот коренечек, щепоточку маленькию»[2736]. Согласно севернорусским поверьям, цветок чудесного растения держат при себе залепленным в воске. Как следует из цитируемого сибирского мифологического рассказа, одолень носят подчас вместе (наряду) с крестом: «Она (мама. — Н. К.) ее сразу в тряпочку зашила и сюды пришила к этой… к веревочке-то. <…>. А мама у меня была такая жирная, толстая, грудистая. Вот летом никогда не застегается: ей жарко. А раньше кресты носили. Вот на ней крёст на веревочке, а на веревочке узолчики нашиты. Какая-то трава от колдунов»[2737]. Вместе с тем, как повествуется в сербских поверьях, вилы предписывают носить чудесное растение зашитым в поясе. Осмысляемые как знак приобщения к вечности, гайтан и пояс в данном контексте эквивалентны. Впрочем, в соответствии с русским обычаем, находясь «во всем пути и во всей дороженьке», эту траву хранят у самого «ретивого сердца» (заметим, что в народных верованиях сердце осмысляется как вместилище души, так что одолень в какой-то мере приравнивается к душе или совмещается с ней). Однако подобное растение хорошо держать и в доме. Так или иначе тот, кто добудет одолень, «вельми себе талант обрящет на земли»[2738]. Уже в самом названии одолень закодирована вера в возможность обозначаемого им растения (стебля, корня, цветка) преодолевать любые препятствия и невзгоды реального или мифологического характера. Прежде всего, посредством этой травы нейтрализуется вредоносное воздействие нечистой силы, в расширяющийся круг которой со временем все чаще попадают и былые языческие божества. Вот почему, по поверьям, цветок одоленя в равной степени эффективен и против водяницы, и против поляницы. Эта трава — могущественный оберег и от чародеев, и от злых людей, вредоносное воздействие которых имеет сверхъестественные или реальные нравственно-психологические проявления. Об этом свидетельствуют магические слова заговора, произносимые для укрепления апотропейной силы чудесного растения: «Одолень-трава! Одолей ты злых людей, лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты чародея, ябедника. <…> у злых бы людей язык не поворотился, руки не подымались»[2739].
Рис. 66. Подзор. Вышивка
О нейтрализации вредоносной силы колдунов посредством одолень-травы мы узнаем из сибирского мифологического рассказа: «Эта колдунья-то сидела около своих ворот, вышла, на травке сидить, старуха-то. А мама-то вышла (с одоленем на кресте. — Н. К.) — ой! Как она (колдунья. — Н. К.) застонала-то! Как она заохала-то! — „Ой, достала ты, достала!“ — „Че, тебе тяжело?“ — „Ой, ой!“ — Прямо встала, с ревом во двор пошла. Учуяла сразу эту траву (курсив мой. — Н. К.)»[2740]. «Они же ее не любят, колдуны-то»[2741], — резюмирует по поводу магической силы одоленя рассказчица. Каждый, кто носит эту или иные травы-обереги, не боится «ни во дни, ни в нощи» никакой «неприятной силы»: ни дьявола, ни еретика, ни злого человека — «порчельника», который на тебя «зло мыслит». Обладатель той или иной травы может смело ходить по судебным инстанциям. Он непременно одолеет «супостата», выиграет тяжбу: «на суд пойдет — супротивника потяжет», везде будет признан честным и правым. Стоит только взять с собой стебель травы-оберега. Это же верное средство и для торгового человека, который, даже находясь на чужбине, «где ни пойдет, много добра обрящет»[2742]. Для обладателя чародейского растения, магическая сила которого подкреплена словами заговора, нет непреодолимых путей: «Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды»[2743]. Благотворное воздействие этой травы дублируется архилином, надежно защищающим путника от врагов. Если же порча посредством зелья уже наслана или пострадавший «окормлен смертною ядию»[2744], т. е. отравлен, то одолень в качестве «вельми доброй» травы способен восстановить утраченное здоровье. Для этого приготовляют отвар или настой из его корня, мелко истолченного и топленного в уксусе. Испившего такое зелье «пронесет верхним концом и низом»[2745], после чего больной непременно выздоровеет. (Кстати, в знахарской практике этот отвар или настой используется и в других случаях: им, например, лечат от зубной боли.) Аналогичными свойствами, по поверьям, обладает и архилин: с его помощью можно изгнать порчу даже тридцатилетней давности или же снять последствия вредоносного воздействия дурного глаза. Кроме того, отвар из одоленя (чаще из его корня), образующийся после паренья в горшке, находит применение как мощное приворотное зелье, сильно действующий любовный напиток. Стоит напоить им непреклонную красавицу или жену, не любящую своего мужа, или еще кого-либо, чьего благорасположения до сих пор безуспешно добивались, как результат незамедлительно даст о себе знать: в их сердце пробудятся нежные чувства — и предмет воздыханий, как говорят в народе, «не отстанет до смерти». Если же дать «ясти» корень одоленя, будет тот же эффект. Свое назначение имеет и цветок мифического растения. Тот, кто носит его при себе в чистоте залепленным в воске, будет «везде в чести у всякой власти»[2746]. Сродни одоленю по своим магическим свойствам и архилин-трава: держи ее при себе — и «люди любить тя станут»[2747]. Приворотная сила растения распространяется и на животных: «Крестьянин-промышленник купил на стороне собаку: для того, чтоб придружить ее к себе, он поит ее травою, которую знахари называют одоленом»[2748]. Это средство находит себе и более широкое применение: «А похочешь зверей приручить, дай есть (одолень-траву. — Н. К.), то скоро приручишь»[2749]. Этот растительный атрибут незаменим и в пастушеской обрядности. Обходя с корнем одоленя свое стадо (иногда трижды), пастух, по поверьям, обеспечивает его целостность: животные не разбегаются из стада; ни одна скотина не утрачивается в течение всего пастбищного сезона. Такого же эффекта можно достигнуть и залепив это чародейское растение коровам в шерсть. Впрочем, пастух, просто держащий при себе одолень-траву, получит тот же результат. Есть единичное свидетельство, что с корня одоленя поят коров во время отела, однако природа данного обычая не совсем ясна. Эту же траву использует и всадник, держа ее при себе или закрепив в конской гриве, когда дает животному полную волю, мчась во весь дух, взапуски. Благоприятный исход, по поверьям, обеспечен: эта трава «к конскому сиденью добра». Таким образом, одолень-трава — универсальный оберег и универсальное приворотное средство. Реминисценции представлений о магических свойствах подобного зелья можно усмотреть в мифологических рассказах, повествующих, к примеру, о том, как «знающий» человек «ладит» — присушивает мужа к жене, жену к мужу, парня к девушке, девушку к парню и т. д., подмешивая любовный напиток в еду. Отведавший приворотное зелье вместе с чаем или супом, естественно, «присыхает» к своей половине. В других же мифологических рассказах «знающий» человек легко уводит с чужого двора, и даже на ночь глядя, корову или загадочно укрощает приближающуюся к нему злую собаку. Природа подобного магического воздействия на людей и животных в быличках и бывальщинах обычно не раскрывается, поскольку она, как правило, неизвестна и самим рассказчикам. Ключ к разгадке того или иного загадочного эффекта зачастую находится в поверьях о чудодейственных травах, где одоленю принадлежит заметная роль. Такие поверья, соотнесенные с мифологическими рассказами, высвечивают их глубинный потаенный смысл, выявляют завуалированную в них мотивировку сверхъестественных действий, обнаруживают скрытую пружину сюжета.
Петров крест
«Одначе, есть травы, коим сила от Бога дана»[2750], — утверждали ведуны-зелейники. Вера в справедливость такого суждения была столь непоколебимой, что даже в самой Москве, у Москворецких ворот и на Глаголе, можно было, по свидетельству очевидцев, еще в конце XIX в. купить «за хорошую цену» всевозможные чудодейственные травы. Среди них наряду с плакуном и адамовой головой особым спросом пользовался Петров крест. Колдуны и знахари пытались опознать эту мифическую траву в реальном бесхлорофилльном, бело-розового цвета растении из семейства норичниковых (Scrophulariaceae), известном в ботанике под названием Lathraea squamaria. Потайная, скрытая от человеческого глаза жизнь растения в немалой степени способствовала поддержанию в традиции связанных с ним поверий и мифологических рассказов. Петров крест появляется из земли лишь в период кратковременного цветения. Остальное же время живет в земле в виде длинных мясистых корневищ, от которых отходят корни, наделенные специальными присосками. С помощью последних он питается соками дуба, липы, клена, высасывая их из корней деревьев. Мифический Петров крест, как и следует ожидать, мало похож на свой «оригинал». По одним поверьям, он «ростет по лугом по ровным местом»[2751]; по другим — «при морях и при реках»[2752]. Ростом Петров крест обычно «в локоть», т. е. приблизительно 38–46 см. Очертания стебля и форма наземной части растения варьируются: это трава, похожая на обычный горох, но без стручков[2753]; она простирается по земле, «яко же огуречные плети»[2754], или растет «кусточками, что молодая дятлинка»[2755], т. е. подобно кашке, трилистнику или клеверу, известному в различных видах. Листья Петрова креста, будучи невелики по размеру, «растут нахрест» или похожи на крест. Его цветок красноват или багров. Но в чем сходятся все поверья (по сути, безотносительно к реалиям), так это в том, что корень рассматриваемого растения имеет форму креста. Он по своим очертаниям похож на священный знак-символ или же заключает его в себе. Иногда этот корень осмысляется как самый настоящий крест — поклонный, которому кланяются крестясь, или наперсный, т. е. нагрудный. Такой корень, уходящий на большую глубину, до двух аршин (около полутора метров), может состоять из множества крестов: «все крестами» или «крест-на-крест». Благодаря этому отличительному признаку, чудесное растение и получило вторую часть своего названия «Петров крест». Корень растения, которое осмысляется как божественное по своему происхождению, отмечен сакральным знаком. И добывается он — соответственно — в сакральное же время. Знахари, и особенно деревенские лекари, ищут его в день Ивана Купалы (24 июня по ст. ст.; 7 июля по нов. ст.), в период между заутреней и обедней, или же в ночь накануне этого праздника, тогда же, когда пытаются добыть цветок папоротника, разрыв-траву, равно как и многие растения, обладающие, по поверьям, чудодейственными свойствами. Ведь не случайно Иван Купала повсеместно именуется «травником». Вместе с тем, согласно иным свидетельствам, Петров крест собирают — соответственно же — под Петров день (29 июня по ст. ст.; 12 июля по нов. ст.). Такое смещение принципиального значения не имеет. Как отмечает А. Н. Афанасьев, элементы купальской обрядности могли присутствовать и в праздновании Петрова дня: например, купальские игрища иногда приурочивались ко времени, близкому к этому дню; вечером же, накануне 29 июня, крестьяне зажигали костры, а наутро наблюдали игру восходящего солнца[2756]. Тем самым отзвуки праздника летнего солнцеворота распространялись и на Петров день. И это отнюдь не случайно. По народному календарю, от Иванова до Петрова дня длились «зеленые (летние) святки», приравниваемые по своему смыслу к рождественским (зимним). Какими обрядовыми действами и магическими словами (заговорами или молитвами) сопровождалось добывание травы Петров крест — сведений об этом в нашем распоряжении не имеется. Известно только, что в поисках этого растения нужно уйти от деревни на такое расстояние, чтобы туда не доносилось пение петуха, а при обретении чудесного корня совершались соответствующие обряды. Причем, по поверьям, трава давалась в руки только счастливым людям. По своей сакральности и даже предназначению добытый корень приравнивался к нательному кресту или свече, освященной в церкви. Вот почему его, как и корень плакуна и одолень-травы, носили подчас вместе с крестом: измельчив Петров крест в порошок, закрепляли его воском, взятым от свечей, которые стояли во время молебна перед иконами Спасителя и Богоматери. Или же чудесную траву зашивали в одежду. Впрочем, ее принимали и внутрь, настаивая на молоке или на каком-либо ином питье, либо съедали с хлебом. Согласно поверьям, вместе с корнем Петрова креста человек обретает некое средоточие большого счастья — и носящий его в течение всей жизни бывает благополучен. С другой стороны, как уже говорилось, чудесная трава и достается таковым. Однако и обездоленным советуют носить этот корень «на счастье». Вместе с тем добытое растение — могущественный оберег: «У кого есть при себе Петров крест, к тому не прикоснется никакая нечистая сила»[2757]. Это надежное средство от «дьявольского наваждения», для «одоления демонской вражьей силы»[2758], от происков колдунов. Согласно одному из мифологических рассказов, в том случае, когда в дом уже насланы черти — и они бьют посуду, льют воду и всячески проказят, — изгнать их можно лишь посредством «Христовских» свеч, поставленных по всем углам жилища вместе с травой Петров крест. Совмещение этих амулетов основано на тождестве их воздействия на нечистую силу. Петров крест имеет, по народным верованиям, и целебные, восстановительные, животворящие свойства. Не случайно эту траву дают «недужным», т. е. больным, детям. Истоки подобных представлений обнаруживаются, в частности, в мифе о Петровом кресте, и ныне бытующем в вепсской традиции. В нем сохранились рудименты верований, связанных с хтоническим происхождением людей. Согласно этому мифу, мальчик-богатырь остается немым до тех пор, пока ему не вставляют в рот корень редкостного в северных лесах Петрова креста (заметим, что в южном Прионежье, где и записан миф, проходит северная граница ареала распространения рассматриваемого растения). Корень стал языком, а герой мифа — создателем слов, живущих в речи прионежских вепсов и поныне[2759]. О некой соотнесенности этого растения с женским детородным началом, смысл которой, в сущности, уже утрачен, свидетельствует поверье: названная трава помогает «мучающимся месячными очищениями»[2760]. Она же снимает уже насланную порчу. Подобно цветку папоротника или разрыв-траве, корень Петрова креста используется кладоискателями для обретения «зачарованных» сокровищ как средоточия магической силы их владельца. Этим рассмотрение магических свойств чудодейственного растения не исчерпывается, тем более что оно не дает ответа на вопрос, каково же происхождение первой части его названия (упоминание о Петровом дне как времени сбора названной травы, по сути, не снимает вопроса). Здесь уместно вспомнить севернорусскую легенду, согласно которой будущий св. апостол Петр, занимаясь рыболовством (в полном соответствии с Евангелием — Мк. 1.16), привязал к сетям траву, получившую наименование Петров крест, — и добывал обильный улов. По его примеру эту траву стали привязывать к сетям и другие рыбаки[2761]. Факты использования магической силы растений для обеспечения удачи на промысле можно обнаружить и в севернорусских заговорах, где обладателями этих атрибутов (в данном случае — Адамова креста, эквивалентного Петрову кресту) выступают святые апостолы Петр и Павел, которые в христианской иконографии обычно встречаются вместе (их одиночные изображения крайне редки), а в мифологической традиции по сути сводятся к одному и тому же персонажу: они «держат во правых руках Адамов крест — цвет и траву и золотые ключи (курсив мой. — Н. К.), и дают нам, рыболовам, для-ради сохранения нашей рыбной ловли»[2762]. Характерно, что и в христианской символике используется в качестве атрибута апостола Петра пастырский посох с крестом, который с начала V в. вытесняется ключами от ворот рая и ада[2763], традиционно изображаемыми в христианской иконографии золотыми. В этой же роли может фигурировать и «Мати Христа Бога нашего, пресвятая Богородица»: она «держит во правой руке цвет и траву (курсив мой. — Н. К.), и дает нам, рыболовам, для обкуривания и сохранения нашей рыбной ловли: льняных и посконных и конопляных ловушек, красной рыбы семги и белой рыбы»[2764].
Рис. 67. Ограда Колодозерского церковного погоста
Итак, Петров или эквивалентный ему Адамов крест, который привязывают к сетям и которым окуривают снасти, служит для «сохранения нашей рыбной ловли». Это чудодейственное растение осмысляется как «ключ» к водоему, где ведется промысел. Обладающее магической силой уже само по себе, оно с укреплением христианства превращается в атрибут святого. Соотнесенность травы, обеспечивающей богатый улов, с именем св. апостола Петра (и Павла) отнюдь не случайна. Сам в прошлом рыбак, ставший со временем покровителем рыбаков, он отчасти унаследовал, а отчасти разделил функции своего архаического предшественника — духа-«хозяина» рек и озер, водяного[2765] (см. в иконографии: Петр чудесно источает воду из камня). Но само имя «Петр» означает по-гречески «камень». Значит, Петр и есть камень. «Ты Петр, и на сем камне (курсив мой. — Н. К.) я создам церковь мою», — говорит Иисус Христос, обыгрывая значение имени своего ученика и апостола (Матф. 16.18–19). Если камень при определенных обстоятельствах способен источать воду, отождествляться с нею, то, следовательно, и сам Петр может рассматриваться как некое олицетворение водной стихии. Вместе с тем функцию дарителя «рыбацкого счастья» данный персонаж христианской мифологии воспринял и от своего фитоморфного (растительного) предшественника, который постепенно трансформировался в его атрибут. Совмещение персонажей языческой и народно-христианской мифологий в силу тождественности их функций завершилось закреплением имени святого в первой части названия чудодейственного растения. Во второй же его части сохранились отголоски представлений о божественном происхождении магической травы, воплощенные в сакральном знаке-символе — в кресте. Подобно самому мифическому растению, этот знак-символ, уходящий своими корнями в языческие верования, был заново освоен и переосмыслен христианством.
Сон-трава и другие вещие растения
Есть растения, которым в поверьях приписывается вещая, пророческая сила. Среди них выделяется сон-трава. Ее пытаются опознать в простреле широколистном (Anemone patens, Anemone pratensis или Pulsatilla patens), родственном прострелу весеннему (Anemone vernalis), — все это растения из семейства лютиковых (Ranunculaceae). Эта трава растет в сухих хвойных и лиственных лесах, в кустарниках и по склонам. Ранней весной расцветает крупными колокольчатыми цветками лилового или светло-фиолетового цвета. То же самое, хотя и с некоторыми отличиями, рассказывают об этом растении ведуны-зелейники. По их словам, этот «синий цветок сна» появляется раньше всех других первоцветов. Они находят сон-траву уже в мае, узнавая ее по желто-голубому цветению. В восточнославянской (украинской) мифологии раннее появление чудесного растения получило свое обоснование. Сон-трава — сиротка. Злая мачеха обманом выгоняет ее из земли раньше всех других растений, понукая бедняжку: все цветы уже расцвели, только сон-травы нет среди них. И послушная сиротка повинуется, показывается на Божий свет, но, оглянувшись по сторонам, не видит никого из своих собратьев. Печально склонив головку набок, она дремлет, дожидаясь, когда появятся из земли другие цветы[2766]. При сборе этой персонифицированной в мифологии и народных верованиях травы совершаются особые обряды, произносятся специальные заговоры. Правда, конкретными сведениями о производимых действах и произносимых в данном случае словах мы, к сожалению, не располагаем. Эта трава используется в колдовской практике прежде всего как снотворное средство. О ее магических свойствах повествует один из южнославянских (словенских) рассказов. Медведь, лизнув несколько раз корень сон-травы, залег на всю зиму в берлогу, а человек, последовавший его примеру, проспал с начала зимы до самой весны. Очнувшись от длительного глубокого сна, он увидел, что везде уже пашут землю и сеют хлеб[2767]. Подобными же свойствами обладают и другие мифические растения. Такова, например, трава, известная в севернорусских поверьях под названием переносное: «А в головы положить сонному человеку, и он хотя девять дней спит»[2768]. Аналогичные представления послужили толчком к формированию некоторых сказочных коллизий. Обладательницей сонного зелья в них выступает некая баба, стародревняя старуха, ворожея, ведьма, живущая в дремучем лесу в избушке или же просто попавшаяся навстречу герою. Этот персонаж может иметь и более обытовленные признаки. Выступая в качестве антагониста героя, такая ведунья-зелейница пытается, хотя, как правило, и безуспешно, противодействовать его намерениям: с помощью волшебного сонного зелья, данного молодцу в питье или в пище либо воздействующего на него посредством окуривания, она погружает героя в крепкий непробудный сон, длящийся дни и даже месяцы. В качестве же доброго помощника ведунья оказывает содействие в победе царевича над антагонистом: «Иван-царевич поблагодарил старуху и поехал в чистое поле; в чистом поле развел костер и бросил в огонь волшебное зелье. Буйным ветром потянуло дым в ту сторону, где стоял настороже дикий человек; замутилось у него в очах, лег он на сырую землю и крепко-крепко заснул»[2769]. Причем формула «сон = смерть» трансформировалась здесь в формулу «сон + смерть» (Иван-царевич срубает голову у уснувшего великана). Представления о некоем снотворном зелье зафиксированы и в древнерусской литературе. Так, в Лаврентьевской летописи старец Матфей «виде обиходяща беса, в образе ляха, в луде, и носяща в приполе цветки, иже глаголется лепок. И обиходя подле братью, взимая из лона лепок, вержаше на кого любо: аще прилпяше кому цветок в поющих от братья, мало постояв и разслаблен умом, вину створь каку любо, изидяше из церкви, шед в келью, и усняше (курсив мой. — Н. К.), и не възвратяшется в церковь до отпетья…»[2770] (вариант этого поверья содержится в Печерском Патерике, в житии св. Матфея). Сон-траву, равно как и цветок лепок, можно соотнести с тем шипом, или тернием, сна (Svefn-thorn), посредством которого, как повествуется в «Старшей Эдде», была усыплена самим Одином прекрасная валькирия Сигрдрива за то, что вопреки его воле помогла в сражении одному из конунгов. В известном смысле валькирия уподобляется спящей красавице — героине сказок едва ли не всех европейских народов: царевна (а вместе с ней и все царство) пробуждается от длительного, иногда столетнего, сна благодаря появлению храброго витязя (ср. с Сигурдом). Представления о том, что с помощью чудодейственных растений (настоев, отваров либо воды, пропущенной сквозь травы) можно вызвать сон, приравненный к временной смерти, в эпоху Средневековья были распространены в Европе, о чем свидетельствует хотя бы В. Шекспир, взиравший на прошлое с высот эпохи Возрождения:
Рис. 68. а) Пряслица из села Сумпосада. Поморье, б) фрагмент росписи и резьбы пудожской прялки, Село Авдеево
Известны и другие способы узнавания судьбы посредством растений. Как свидетельствует знаменитый церковный деятель и писатель XVII в. Симеон Полоцкий, «иные собирают в тот день (т. е. 24 июня) некоторые травы и по ним гадают, имея такую веру, что если травы расцветут по истечении одной ночи, то загадываемое сбудется благополучно, а если не расцветут — унывают в ожидании несчастия»[2780]. Кроме того, у новгородцев было принято втыкать травы, найденные в лесу на Иванов день, в стены избы или класть на образа, как бы приравнивая их к изображаемым святым, после чего загадывали на имя каждого из членов семьи: как долго всем им жить на свете? Затем примечали: чей цветок увянет раньше других — тому и умереть или захворать в текущем году[2781]. На основе подобных представлений и сложился поэтический образ цветущей или увядшей травы, символизирующий расцвет либо угасание человеческой жизни и даже смерть. К числу же растений, посредством которых пытались предугадать свою судьбу, относились купаленка, т. е. купальница европейская (Trollius europaeus), медвежье ушко, т. е. коровяк медвежье ухо (Verbascum thapsus), богатенка, т. е. мелколепестник острый (Erigeron acer), и др. Так, например, богатку (богатенку) собирали в ночь на Ивана Купалу и втыкали почку цветка в щель избы или клали под иконы, а затем смотрели: распустится — к добру, засохнет — к худу. Возможны варианты: «На богатки вот на Ивана гадаем. И мальчишки вот у меня гадали нынче. Иван Купала-то седьмого июля. Богатки — а вот такие цветки, их мало, на таких на сухих местах, на пригорках. Принесешь в избу, за матицу заткнешь и вот загадываешь… Если не распустится, то я выйду замуж, а если распустится, то я буду цвесть так»[2782]. Как видим, предзнаменования обычно выражены в виде знаков-символов. И лишь в одном из западноукраинских мифологических рассказов гадающий получает ответ от цветка (в данном случае папоротника) в словесной форме: «„Скажи, скажи, цветик мой! Чем-то будет Ионек твой?“ <….> „Будешь висеть, и ноги твои будут болтаться с ветром“, — отвечал подземный голос»[2783]. Пророческая сила растений проявляется и в венках (поясах, ожерельях), сплетенных в купальскую ночь из богородицкой травы, иван-да-марьи, медвежьего ушка и пр. Тем более что само завивание, плетение, равно как и образовавшийся в результате подобных действий круг, — сакральные знаки-символы судьбы[2784]. Гадающие девушки бросают свои венки в воду: чей венок затонет — та умрет в текущем году; чей венок поплывет в определенном направлении — в ту сторону его владелица и выйдет замуж; чей венок уплывет дальше всех — та и будет самой счастливой; у кого венок стоит неподвижно — у той не предвидится никаких перемен[2785]. Магическим предметом, используемым в гадании, служит наряду с венком и веник (не случайно они обозначаются однокоренными словами, связанными с вить), собранный из разных трав или березовый, но с добавлением пучка цветов в середине (чаще это трава иван-да-марья), а то и просто обычный веник. Попарившись в бане, гадающие бросают его (иногда через голову) в реку или на баню: в народных верованиях они осмысляются как границы между мирами. У которой веник утонет — той не бывать вскоре замужем (не бывать в живых); у кого же уплывет далеко и не затонет — та спустя короткое время выйдет замуж (во всяком случае останется в живых). Или: если вдоль по реке понесет веник — к смерти; если поперек — к жизни. Пытаются узнать свою судьбу и бросая веник на баню: в какую сторону он упадет ручкой — там и замужем быть (если веник упадет вершиной к погосту — умрешь в этом году; комлем же — жива останешься)[2786]. Как видим, основной целью мантических обрядов, связанных с вещими травами, оказывается заблаговременное выявление момента перехода из одного состояния или статуса в другое (-ой), осуществляемого в рамках жизненного цикла. Их пережитком в наше время служат лишь мифологические рассказы и поверья о чудодейственной сон-траве или ей подобных да еще каким-то чудом уцелевший в традиции обычай гадать на ромашках «в малиновый рассвет». (Ср. с гаданием Маргариты на лепестках астры, смысл которого раскрывается в словах Фауста:
Тирлич-трава
При объяснении названия этого чародейского растения ученые ограничиваются лишь одним суждением: «темное слово»[2789]. А между тем, по поверьям, тирлич (терлич) — излюбленное зелье ведьм, надумавших перевоплотиться в сороку, превратить в нее других, а то и улететь, вовсе не принимая птичьего облика. По поверьям, чудодейственную траву собирают в Иванов день на Лысой горе, близ Днепра, под Киевом. Впрочем, согласно другим локальным традициям, ее отыскивают на близлежащих лесных опушках либо на незаболоченных лугах. В Олонецкой губернии в середине XIX в. был зафиксирован мифологический рассказ, согласно которому киевские ведьмы ежегодно в ночь накануне Ивана Купалы прилетают в облике сорок на остров Иванцов, близ заонежской деревни Кузаранда, чтобы запастись здесь «разными снадобьями и травами». Как утверждает рассказчик, «травы эти, совершенно отличные по виду и свойству от обыкновенных, уносятся ведьмами на Лысую гору»[2790]. Судя по тому, что ведуньи-зелейницы смогли принять облик сорок и обрести способность летать, дело здесь не обошлось без применения травы тирлич или ей подобных. Эту мифическую траву обычно идентифицируют с реальными растениями, известными в народе под названиями стародубка, нарочная (норочная?), бешеная трава. Тирлич же опознают в растении, которое в ботанике причисляется к семейству горечавковых, и прежде всего в горечавке пазушной (Gentiana amarella) или в купене (Polygonatum officinale). Собрав нужное количество этой чудодейственной травы и дорожа ею «пуще всяких сокровищ», ведьмы стараются уничтожить всю остальную, чтобы никто другой не смог воспользоваться ее магическими свойствами. С целью обрести способность перевоплощаться и летать они выжимают из тирлича сок и натирают себе подмышки. Такого же эффекта, по поверьям, можно достичь и используя растение, известное в народе под названием петровы батоги, или желтяница. В ботанике ему соответствует цикорий обыкновенный (Cichorium intybus). Посредством травы петровы батоги ведьмы перевоплощают других: поят девушек ее соком — и те «чиликают сороками»[2791], т. е. претерпевают превращение, в данном случае — не полное. Для подобных деяний может быть использован и отвар или мазь («состав»), изготовленные из определенных трав. По словам рассказчиков, ведьма варит корень тирлича в горшке и этим снадобьем мажет у себя под мышками и коленками, после чего стремглав уносится в трубу. Или применяется заранее приготовленный «состав»: «<…> отворяет баба сундук, зажигает свечку [штрахову´ю (т. е. страстну´ю. — Н. К.) али еще какую — неизвестно], вынула маленький пузырек, умазалась с него, не заметиў — нос, али лысину, сундук закрыла, смотрит — зайграла! Только заслона ляснула — у трубу, значит, улетела (курсив мой. — Н. К.)»[2792]. Возвратившись к окну, которое оказалось к тому времени уже закрещенным, ведьма «сорокой будет коло в’окон биться, сорокой защекочет (курсив мой. — Н. К.)»[2793]. Или: «<…> подходит к полочке, взяла маленькюю скляночку и чем-то из нее помазала себе нос. Обернулась сорокой и вылетела в трубу на волю, и улетела (курсив мой. — Н. К.)»[2794]. И даже простой смертный (зачастую прохожий солдат), не искушенный в тайнах ведовства, но оказавшийся случайным свидетелем перевоплощения и полета ведьмы, воспользовавшись тем же «составом», «вдрук, и сам не знает почему, обернулся сорокой и выскочил в трубу и полетел (курсив мой. — Н. К.)»[2795]. Мало того, посредством травы тирлич ведьма может побудить или принудить к полету людей, находящихся вдали от нее. Нередко она использует чародейское снадобье для призыва своего возлюбленного. Варит корень чудесного растения с приговором: «Терли´ч, терли´ч! мого милого прикличь!»[2796]. По рассказам, едва только зелье закипит, как призываемый срывается с места и летит, как птица (былые представления о перевоплощении со временем трансформируются в поэтический троп, в данном случае — в сравнение). Причем высота полета зависит от силы кипения зелья: чем интенсивнее оно кипит, тем выше призываемый летит; при слабом же кипении находящийся под воздействием этого снадобья может разбиться о дерево. По другим рассказам, распространенным во всей славянскойтрадиции, знахарка посредством зелья, подобного тирличу, в качестве наказания принуждает колдуна носиться в воздухе: «Баба сжигала на камине зелье <…> — колдун в одной рубахе вертелся в воздухе. <…> люди, бывшие на поле, видели, как нечистая сила несла его над гнилым озером»[2797]. Вместо колдуна-птицы здесь уже фигурируют колдун + птицы: «<…> а вслед летела стая ворон и галок с пронзительным криком»[2798]. Если тирлич обеспечивает наряду с полетом и перевоплощение, то другие травы используются лишь в качестве «аэростатического зелья». Прежде всего это шалфей и рута. Подобно тирличу, их варят в горшке. Едва только зелье закипит, как ведьмы, даже не меняя облика, уносятся вместе с паром в трубу. Нередко этот полет носит характер коллективного действа: «Вот собралось их, этих баб, там вот штук несколько, там три или четыре. Вот теперь, какой-то флакончик у их. Они счас раз! — намажутся и — к шестку. И раз! — в трубу и улетела. Теперя, втора и третья так…»[2799]. Причем, согласно украинским мифологическим рассказам, «какой-то навар» или «какая-то мазь» приготовляется старшей, или прирожденной, ведьмой, а остальные, «ученые», лишь пользуются этим зельем: «<…> а хозяйка его была ведьма рождена. Она наготовила какой-то мази и поставила на припечку. Когда собрались все местные ведьмы, то стали подходить одна за другой к припечку и мазать этой мазью у себя под мышками: как только какая помажет, так тотчас и полетит в трубу»[2800].
Рис. 69. Рассказчик быличек.
Подчас вместо зелья, горящего или кипящего в печи, ведьма использует золу из купальского костра, которую она добавляет в купальскую воду, и кипятит этот состав. Как только ведьма обрызгает себя приготовленным снадобьем, она поднимается в воздух и летит, куда ей заблагорассудится[2801]. Роль четырех стихий в изначально имеющем здесь место перевоплощении очевидна. Заметим попутно, что для превращения людей в животных в ведовской практике использовались разные растения. О таких травах (среди них были и ядовитые), растущих на Понте, пишет Вергилий: «Видел я и не раз, как в волка от них превращался (курсив мой. — Н. К.) Мерис и в лес уходил» (8-я эклога «Буколик», перевод С. Шервинского). На почве подобных представлений аналогичный сюжет сформировался и в русской мифологии: ведьмы, приготовив те или иные мази из трав (папоротника, белоголовника, шалфея, плакуна, дурмана, адамовой головы, иван-да-марьи, чертополоха, подорожника, полыни и пр.), обретающих в их руках особую магическую силу, и натирая ими свое тело, могут по собственному желанию принимать облик разных животных, например, свиньи. Посредством чародейских трав они способны перевоплотить и других. Плеснув в глаза человеку некую жидкость («состав»), ведьма может превратить его в собаку, кобылу, птицу, волка или же, наоборот, вернуть ему прежний облик. Что же касается тирлича, равно как и других подобных трав, то важно отметить одну особенность в условиях проявления его магических свойств. Его воздействие связано со сном. Об этом условии речь идет и в мифологических рассказах: «Солдат шел со службы, зашел к женщине переночевать. Она его спать уложила. Думала, что спит, встала (курсив мой. — Н. К.), достала пузырек, помазалась и полетела»[2802]. Или: «Легли (курсив мой. — Н. К.), побормотали, ведьмы-то…»[2803], т. е., ложась перед полетом в постель, они, по всей вероятности, произносили какие-то заклинания. Обращает на себя внимание и тот факт, что сном, как повествуется в бывальщинах и поверьях, полет обычно и завершается: впорхнув обратно в трубу, ведьмы вновь ложатся спать[2804]. О необходимости сна перед полетом на шабаш свидетельствуют и многочисленные показания средневековых ведьм, данные ими на судебных процессах[2805]. В некоторых русских мифологических рассказах натирание волшебной мазью совершается после того, как ведьма уже встала, пробудившись от сна. По-видимому, здесь мы имеем дело с поздней трансформацией. Изначальная же коллизия сохранена в восточнославянской, и прежде всего в украинской, мифологии: собираясь лететь на шабаш, ведьмы кладут под себя тирлич или, ложась в постель, натираются мазью, состоящей из разных трав, взятых в определенных сочетаниях и пропорциях. О том, что такие представления изначальны, свидетельствует, в частности, «Демономания» Бодинуса, в XII главе которой утверждается: ведьма пользуется снадобьем перед сном, после чего ложится в постель и тотчас же засыпает, а наутро рассказывает о своем полете по воздуху[2806]. Травы, применяемые в этих целях ведьмами, занимают особое место в народных верованиях. В действительности же речь идет в основном о растениях, оказывающих наркотическое воздействие. Это белена черная (Hyoscyamus niger) — трава смерти, очень ядовита, вызывает нервное расстройство, возбуждает в сонном человеке ощущение полета по воздуху; дурман (Datura stramonium) — ядовитое растение, снотворное, одурманивающее, подобно опиуму, вызывает в сознании человека фантастические сцены шабаша, видения, галлюцинации; все предметы представляются увеличенными в своих размерах; борец синий (Aconitum napellum) — ядовитое растение; чемерица черная (Helleborus niger) — ее корень, растертый в порошок, используется в качестве фимиама при совершении магических действ; так называемая ведьмина трава (Cicaea lutcliana), название которой говорит само за себя; сонная одурь, белладонна (Atropa belladonna) — ядовитое растение, оказывает сонное воздействие, вызывает веселый и приятный бред; все предметы при ее употреблении кажутся увеличивающимися в своих размерах: лужа воспринимается как озеро, соломина — как бревно. Несомненно, использовались и другие травы, производящие на тело и мозг наркотическое опьянение, погружающие человека в глубокий сон и вызывающие у него различные грезы и сновидения[2807]. Состав мазей варьировался. Так, одна из мазей средневековых ведьм включала в себя пятиперстник, маслянистые выжимки семени дурмана, болиголова, цикуты, мака, ядовитого латука и волчьих ягод, а также кровь летучей мыши. Эффект от ее применения был приблизительно тот же. Один из ученых, Карл Кизеветтер, испытал на себе действие мазей ведьм: натирание этими снадобьями вызывало сны о быстром спиральном полете, возникало ощущение, будто его носило вихрем[2808]. Все эти растения, и прежде всего тирлич, согласно народным верованиям, стимулируют временное отделение души от тела, вследствие чего оказывается возможным сам акт перевоплощения, т. е. обретение душой новой оболочки, и в зависимости от последней — полет по воздуху. Этому же способствует состояние сна, в которое впадают ведьмы, прежде чем отправиться на шабаш. Ведь именно сон, а особенно летаргический, известный в народе как обмирание, стимулирует временное отделение души от тела (смерть же закрепляет это отделение). О подобном комплексе религиозно-мифологических представлений славян свидетельствует, в частности, Иоанн экзарх болгарский: «Тело свое хранит мертво, а летает орлом и ястребом, рыщет лютым зверем и вепрем диким, волком, летает змием…»[2809]. Что же касается непосредственно тирлича, то его сок ведьма использует и в других своих чарах. С помощью этой травы она способна не только усмирить гнев властей, но даже вызвать их расположение. Носящий же эту траву на шее вообще любим господами. А между тем за использование чудесных трав, аналогичных тирличу, нередко приходилось расплачиваться жизнью. О подобном случае, едва не завершившемся трагически, сообщает в своей «Истории Российской…» В. Н. Татищев. Посетив в 1714 г. фельдмаршала графа Шереметева в Лубнах, он оказался свидетелем осуждения на смерть за чародейство одной женщины. Несчастная под пытками сама повинилась в том, что превращалась в сороку и дым. На самом же деле она, по утверждению В. Н. Татищева, ничего, кроме трав, и не знала. Однако, как нетрудно догадаться, именно это знание ведуньи-зелейницы и послужило поводом для обвинения ее в оборотничестве и чародействе.

Глава III Оборотни
Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы Новые. Боги, — ведь вы превращения эти вершили.Овидий
Как в теле, что нам в сей юдоли досталось, Сменяются детство, и зрелость, и старость. Сменяются наши тела, и смущенья Не ведает мудрый в ином воплощенье.Махабхарата
Оборотничество: реальность и миф

Колдуны, ведьмы, «знающие» люди («он много такого знал», «знатливая»), а подчас и как будто не относящиеся ни к тем, ни к другим, ни к третьим (старик, старуха, мать, мачеха, сосед и даже попадья), согласно мифологическим рассказам и поверьям, могут быть оборотнями. В народе их чаще называют овертунами, обертышами, перевертышами. Подобные представления поэтически воспроизвел В. Шекспир в пьесе «Сон в летнюю ночь» (1594), причем в эпоху, когда вера в оборотничество поддерживалась даже в самой образованной среде:
Перевод Т. Щепкиной-Куперник

Рис. 70. Деревня Красная Речка Кондопожского района. Карелия
Мифы об оборотнях зафиксированы уже в глубокой древности. Их мы находим в сочинениях Геродота, Платона и Плиния Старшего. Сюжеты этих мифов использованы Гомером, Вергилием, Овидием. Классический же рассказ о ликантропе (человек-волк), имеющий место в произведении Петрония «Пир Тримальхиона», можно считать античным аналогом многим бывальщинам, известным в различных этнокультурных и локальных традициях, в том числе и в севернорусских. Колдуны и ведьмы принимают новое воплощение, иную форму жизни по своему усмотрению. Но в их власти насильственно превратить простых смертных в тех или иных зверей, птиц, рептилий и даже некоторые предметы, маркированные знаками мифических существ. Иначе говоря, среди оборотней есть те, кто добровольно, будучи посвященным в эзотерические знания, принял новый облик, и те, кто был перевоплощен поневоле, став жертвой со стороны чародеев. При всем кажущемся многообразии представленных в мифологии реинкарнаций (метемпсихоз, метаморфоз, ликантропий) круг новых форм, обретенных перевоплотившимися или перевоплощенными персонажами, довольно ограничен. Такой отбор изначально обусловливается определенными верованиями, в дальнейшем — их трансформациями и «культурными переживаниями». Само собой разумеется, что эти верования в известном смысле соотнесены с природной средой, и прежде всего с фауной и флорой соответствующего региона.
Персонажи в маске
Зооморфный облик
В севернорусской (впрочем, как и во всей славянской, а также и германской, тюркской) традиции наиболее распространенной формой перевоплощения, добровольного и принудительного, является принятие волчьего облика: «вдруг идет из-за леска, что такое, глядите, волк, а вдруг бабка, а волка-то (курсив мой. — Н. К.) нет. Они спрашивали, а она говорит, не видала ничего»[2814]; «Тут у нас охвотник жил, удовец. И жонился на удове с сыном. И у самой ей глаз чёрный, а на сына и глядеть страшно. И кажну ночь сын из избы прочь. И уцуял охвотник, что стал кажну ночь волк коло их избы выть. <…> О полночь прибежал белый волк (курсив мой. — Н. К.), сел середь двора и почал выть»[2815]. Заметим, что мотив перевоплощения человека в волка и в русском фольклоре, и в древнерусской литературе является универсальным. Признаки подобного мифологического персонажа обнаруживаются, например, в былинном герое. Вспомним, что Вольга в числе премудростей, которыми ему «похотелося» овладеть, обретает способность «волком (курсив мой. — Н. К.) рыскать во чистых полях». Аналог этому персонажу обнаруживается и в поэме «Слово о полку Игореве». Здесь способность превращаться в волка приписывается и Всеславу (князю Полоцкому), и князю Игорю: «Скочи от них лютым зверем в плъночи из Бела-града <…>, скочи влъком до Немиги <…>, сам в ночь влъком рыскаше <…> великому Хръсови влъком (курсив мой. — Н. К.) путь прерыскаше»[2816]; «въвръжеся на бръз комонь и скочи с него босым влъком (курсив мой. — Н. К.), и потече к лугу Донца»[2817]. Характерно, что подневольные оборотни также чаще имеют вид волков. Из мифологических рассказов, относящихся к рассматриваемому циклу, наибольшее распространение получили бывальщины о превращении в волков всего свадебного поезда. Они основаны на «бродячем» сюжете, реализующемся во множестве вариантов, но не имеющем, как правило, достаточно определенных реалий: «Вот перебьют невесту, а бывшие сваты-то и рассердятся. Ну, вот поедут венчаться, а обратно нет никого, все в волков превратятся и спрыгнут с повозки. <…> все люди соскакивали и волками в лес убегут (курсив мой. — Н. К.)»[2818]. Мифологема превращения человека в волка столь устойчива, что слово волколак, или волкодлак (длака в старославянском, сербохорватском и словенском языках значит «шерсть», «руно»), т. е. человек, превратившийся в волка, приобрело расширительный смысл: это оборотень вообще. Точно так же в Европе ликантропами (от греч. lykos — волк, anthropos — человек) изначально назывались люди, принявшие облик волка, а позднее — и других зверей. Однако для наименования волколака, согласно разысканиям В. В. Иванова, В. Н. Топорова, в древности существовало и другое название, акцентирующее внимание на ведовстве как предпосылке к перевоплощению. В основе интересующего нас названия глагол vědati — «знать». Так, украинское вiщун некогда обозначало «волк-оборотень», древнечешское vedi — «волчицы-оборотни», словенское vedomci, vedunci — «волки-оборотни»[2819]. Иначе говоря, языковые данные также подтверждают, что в образе ликантропа слились воедино архаические представления о ведовстве и перевоплощении, связанные с культом волка. Показательно, что колдун, принявший облик этого животного, в данной своей ипостаси сближается с лешим, чаще всего появляющимся в виде белого волка. Не случайно колдуну, и особенно пастуху, так же как и лешему или покровительствующему волкам Егорию Храброму, приписывается власть над этими зверями. Он может по своему усмотрению (мотивировки носят бытовой характер) напустить волков на стадо либо, наоборот, предотвратить их нападение. Пастух, по словам одного из крестьян, «делал с ними, что хотел»: «Раз пасу я с ним стадо, а волк подкрадывается к овцам. Пастух не унывает — смеется и говорит мне: „Смотри, что сейчас будет делать волк“. С этими словами он бросил палку, а волк с ожесточением ухватил ее зубами и, вместо овцы, потащил в лес»[2820]. Связь волка как почитаемого (изначально тотемного) животного, лешего, наиболее часто имеющего облик волка, волколака, колдуна, способного принять эту форму или наделить ею других, чрезвычайно устойчива при всей разрозненности и вариативности составляющих ее компонентов. В ней нельзя не усматривать некоторые проявления архетипа, имеющего тотемистические истоки. Вместе с тем зафиксированы и мифологические рассказы о превращении человека в медведя: «У папы на глазах человек в медведя оборотился. В воды вошел человек, а вылез медведем, в лес ушел (курсив мой. — Н. К.)»[2821]. Или: «<…> когда-то и чей-то купец, отправляясь на ярмарку с большою суммою денег, побоялся ехать без товарищей, дорогой, чтобы не убили, превратился в медведя (курсив мой. — Н. К.) и побежал прямым путем чрез леса и болота»[2822]. Превращение в медведя, обычно фигурирующее в поздней традиции само по себе, некогда могло соотноситься с реинкарнацией в волка. Так, в древнерусской книге «Чаровник» способность перевоплощаться в медведя приписывается лишь тем людям, которые способны превращаться в волка. Не случайно в древней форме названия волкодлак, по мнению исследователей, отражены представления о сочетаемости перевоплощений в волка и медведя[2823]. Генетически такая двойственность реинкарнаций обусловлена специфическими общественными отношениями и верованиями, присущими родоплеменному строю, при котором, скажем, род медведя мог входить в состав фратрии волка. Колдун способен сам превратиться в медведя либо превратить в него кого-либо другого. «Колдунья заколдует — и он оборотень. У водяного тож приворочено бывает. Больше в медведя оборачивает, особенно парней»[2824]. Мало того, колдун-пастух в силах превратить в медведя древесный сук, обмотав его мясом, и этот искусственно созданный зверь перепортит много скота, хотя, вследствие своего происхождения, он не употребит его в пищу[2825]. Согласно бывальщинам, в медведей обращаются и участники свадебного поезда: «был-де колдун, его на свадьбу не пригласили, так он свадьбу всю в медведей обернул (курсив мой. — Н. К.), они тут же все разбежалися»[2826]. Простые смертные превращаются в медведей и в этиологических рассказах, объясняющих происхождение животных данного вида. Так, в одном из них не колдун, а чудесное дерево (липа) оборачивает старика и старуху, захотевшую, чтобы их люди боялись, в медведей: «От них-то и пошли все медведи»[2827]. В легенде эту же функцию берут на себя святые: муж и жена захотели напугать проходивших через их деревню апостолов Петра и Павла. Надев на себя вывороченные шубы, они неожиданно выскочили из засады и заревели по-медвежьи. По слову апостолов, они с тех пор и стали медведями. Иная версия: медведь был раньше человеком, который превратился за свои прегрешения, по велению самого Господа, в хищного лесного зверя[2828].
Рис. 71. Медведь. Традиционная резная скульптура. С. Богородское Московской области. Резчик Бабаринов
Заметим, что русская мифологическая традиция, как правило, не останавливает внимания на самом процессе перевоплощения. Однако античная литература дает нам возможность узнать, как представляли себе носители данной традиции этот магический акт. Вспомним хотя бы эпизод, когда разгневанная Юнона превращает в медведицу свою невольную соперницу — нимфу Каллисто:
Овидий. Метаморфозы. 2. 478–481, 483–485. Перевод С. Шервинского

Рис. 72. Карельская деревня зимой
Характерно, что в некоторых древних этнокультурных традициях (особенно в египетской) кошка изначально осмысляется как божество тотемного характера. Рудименты таких представлений сохраняются в русской сказочной традиции, где кошке принадлежит роль чудесного помощника, зооморфного покровителя, воспользовавшись советами которого, герой справляется с трудными задачами (см., например, сказку «Остров золота» из репертуара М. М. Коргуева). В русской мифологической прозе кошка — наиболее часто встречающаяся эманация домового и баенника. В данной своей ипостаси она играет роль медиатора, посредника между мирами, «тем» и «этим». В бывальщинах об оборотнях названное зооморфное существо — эмблема ведунов. Если колдунья способна превращаться в кошку, то и кошка, особенно черная, может перевоплотиться в колдунью: прожив на свете семь (вариант: двадцать) лет, она, по славянским и германским поверьям, становится ведьмой[2839]. В качестве оборотня это зооморфное существо отмечено чаще всего отрицательным знаком: его вредоносная сущность раскрывается в различных бытовых, а точнее, псевдобытовых коллизиях. Снижение этого образа происходит по мере дискредитации соотнесенного с ним мифического существа, будь то домовой или баенник, ведьма или колдунья. Соответственно в поздних бывальщинах кошка в различных ипостасях выступает как воплощение нечистой силы или как ее атрибут. Превращение колдуньи или ведьмы в мышь в дошедшей до нас мифологической прозе не зафиксировано. Лишь в одной из сказок облик этого хтонического существа принимает нечистый (черт)[2840]. Впрочем, способность ведуньи превращать людей в данного грызуна выявляется даже в быличках, записанных в наши дни: «Вот эту женщину, старушку, люди считали какой-то колдуньей. Я сам был у нее в дому. Она обернет человека — одного в свеклу, понимаете, а другого — в мышь. Мышь приходит — и свеклу грызет. Пинжачок был у мальчика. И отгрызла этот пинжак и ногу — и нога в крови. <…> Это действительно, она колдунья была»[2841]. Представления о том, что ведьмы способны обратить людей в мышей, некогда носили в Европе массовый характер. Так, они были зафиксированы уже в известном «Молоте ведьм» (11. 252), принадлежащем перу инквизиторов Я. Шпренгера и Г. Крамера. Эта книга, изданная впервые в 1486 г. и выдержавшая десятки изданий, на протяжении нескольких столетий служила руководством для охоты на ведьм. В славянской же мифологии колдуны и ведьмы не столько превращают людей в мышей и крыс, сколько насылают этих грызунов в дома и на поля. В русских бывальщинах леший гонит стадо крыс. Однако в аналогичной роли выступает и Николай Чудотворец: он гонит огромное стадо мышей[2842]. Прямая или опосредованная соотнесенность того или иного мифологического персонажа с мышью изначально отнюдь не служила знаком снижения его образа. Не случайно, помимо ведьмы, колдуньи, лешего, с мышами связан сам святой угодник Николай Чудотворец. Античным аналогом ему в известном смысле может служить Аполлон, которого еще Гомер наделил эпитетом Сминфей (Smintheys), т. е. «мышиный» (Илиада. 1.39), и который, значит, сам был некогда мышью, пока не утратил изначальных признаков хтоничности[2843]. И лишь удерживающаяся в традиции соотнесенность мифологических персонажей с мышью, в том числе и в виде оборотничества, выдает их происхождение. Во всяком случае, в фольклорной прозе мышь становится атрибутом всевозможных ведунов, эмблемой причастности их к хтоническим силам, эманацией их души, равно как и чудесным помощником героя (преимущественно в сказке). Колдуны, ведьмы могут принять и облик собаки. Как явствует из мифологических рассказов, такое превращение часто случается совершенно внезапно: только что видели человека, имеющего некие характерные признаки (например, старика, «много такого» знавшего; бывавшего на свадьбах дружкой; недавнего арестанта со страшным волчьим взглядом, сверкающим из-под бровей), а спустя краткое мгновение (иногда через секунду) вместо этого человека видят похожую на него собаку. Либо наоборот, вместо собаки, отмеченной особенностями, имеющими знаковый характер (белая; серая, что волк), возникает человек, слывущий колдуном. В других мифологических рассказах, основанных на «бродячем» сюжете, мать, приняв облик собаки, равно как и свиньи, пытается воспрепятствовать свиданию сына с не полюбившейся ей девушкой[2844]. Менее распространены бывальщины, где в собаку (или кошку) превращается ведьма, вышедшая на промысел: в этом облике она незаметно подбирается к чужим коровам, сосет или доит их; отливает у целовальника из бочки «водочки», «сколько ей захочется»[2845]. В сказках способность героя перевоплощаться в собаку служит одним из проявлений искусства оборотничества — «хитрой науки» и находится в цепи многих других превращений, которым обучился герой у мифического старика. Вместе с тем колдуны и ведьмы могут насильственно превратить в собак беззащитных перед ними простых смертных. В бывальщинах зловредная жена оборачивает мужа в это домашнее животное. Мотив реинкарнации обнаруживается в этиологических рассказах, где содержится объяснение, каким образом произошел данный вид животных, что послужило ему началом: согласно одному из них, собака прежде была человеком, но за свою прожорливость была превращена во пса[2846]. Формирование мотива перевоплощения в собаку также обусловливается определенной совокупностью мифологических представлений и народных верований, где собака в известном смысле приравнивается к волку. Однако эти персонажи, отождествляясь, как правило, противопоставляются. Например, собака — устойчивый атрибут лешего, и все же основной его эманацией является волк. То же наблюдается и в сказке: герой превращается в собаку, тогда как его антагонист — в волка. В подобном состязании перевоплощенцев медведю противостоит лев, лебедю — сокол, ершу — щука и т. д.[2847] Собака осмысляется в мифологических рассказах и поверьях как медиатор, посредник между мирами. Особая роль в этом отводится собаке-четырехглазке, т. е. с белыми пятнами над глазами, и собаке-«первышу», т. е. с первого помета: они видят бесплотных духов. Ведьмы и колдуны реинкарнируются и в лошадь (коня, кобылу): «Молодежь гуляет вечером, а там одна старуха (она, видно, много знала…), то она чушкой сделатся, за имя гонится, то лошадью сделатся, за имя бегат»[2848]. В сказке легко перевоплощается в лошадь герой, прошедший у мифического старика (предка, колдуна, «знающего» человека, мудреца) «хитрую науку» и научившийся оборотничеству. И в бывальщинах, и в сказках имеет место и принудительное перевоплощение человека в лошадь: ведьма скачет верхом на парне, обращенном в этот зооморфный персонаж, пока они не меняются ролями, о чем в полном соответствии с мифологической традицией пишет Н. В. Гоголь в повести «Вий». Ср. с аналогичной бывальщиной, где солдат, живущий на постое у ведьмы, по ночам служит для нее конем: «Только мне снятца страшные сны: будто бы каждую ночь хто-то на мне езьдит; а утром, когда я пробужусь, не могу пошевелить ни е´дным па´льцом»[2849]. Воспользовавшись советом «фельфебеля», солдат диаметральным образом меняет ситуацию: «Каких-нибудь через полчаса подходит к солдату хозяйка-старуха с уздой в руке. Солдат соскочил, выхватил у ёй узду, стопал и сказал: „Не ты на мне едёшь — я на тебе!“. Вдрук перед ним очутилась страшная вороная кобылица. Солдат сел на нее и поехал. В одну ночь побывал в Москве и в Петербурге»[2850]. В сказке в лошадей превращаются, находясь на том свете у нечистого, всевозможные опойцы, удавленники, утопленники — одним словом, умершие неестественной смертью. Все это как будто влечет за собой дискредитацию отмеченного данным зооморфным знаком персонажа. Однако при этом не следует забывать определившуюся в народных верованиях и поддержанную фольклором роль лошади как священного животного, посредника между мирами, чудесного помощника героя. С ее помощью выбирают место для поселения, используют в качестве строительной жертвы, дающей плоть и душу возводимой постройке и «прорастающей» в ее декоре. Этот образ, многократно повторяясь, присутствует в интерьере крестьянской избы, в предметах домашнего обихода, вырисовывается в орнаментике вышивки. Наконец, он узнаваем в ряду личин, составляющих святочное ряженье[2851], которое в известном смысле является имитацией все того же оборотничества.

Рис. 73. Пряничные доски. Заонежье
Превращение ведьм и колдунов в корову или быка (беантропия) должно бы было относиться к числу наиболее существенных их перевоплощений, обусловленных самой природой данных персонажей. Ведь даже в человеческом облике они отчасти сохраняют былые зооморфные признаки. Так, ведьмы зачастую хвостаты, причем, по некоторым сведениям, у них хвосты коровьи; колдуны же рогаты[2852]. Ведьмам отнюдь не случайно приписывают различные манипуляции с молоком и молочными продуктами. Как следует из мифологических рассказов, они доят или отнимают молоко у чужих коров, крадут молоко, масло, сыр. К праздничному столу они готовят молочные кушанья. «Коровье молоко, смешанное с утреннею росою, есть необходимость и, вместе с тем, венец их праздничного стола», — замечает Н. Ф. Сумцов[2853]. Из молока, хранящегося в кувшинах в глубоко вырытой яме, в земле, ведьмы, по гуцульским поверьям, приготовляют магический сыр и некую таинственную мазь. Их устойчивыми атрибутами являются доенки, которые ведьмы держат на голове или в руках (если остаются в облике бабы), или в зубах (если перевоплощаются в собаку). И даже магическим предметом, посредством которого можно увидеть ведьму, служит, согласно украинским поверьям, особым образом освященный сыр[2854]: его эквивалент — молоко (продукт выделения коровы), осмысляемое как одно из средоточий жизненной силы, или души. Прежняя соотнесенность искушенных в эзотерическом знании людей с коровой, имеющая еще индоевропейские корни, обнаруживается, в частности, в особом статусе пастуха, который предстает едва ли не в роли жреца при почитаемом животном[2855] (показательно, что в древности славяне, по-видимому, не забивали коров на мясо[2856]). И тем не менее следы былой соотнесенности человека и коровы, реализующиеся в оборотничестве, в дошедшей до нас мифологической традиции по сути уже утрачены. Их можно обнаружить лишь в сказке, где, к примеру, чудесная супруга, дочь «чуда лесного», «оввернула» («обворотила») своего мужа коровой, а себя — старушкой, доящей эту корову[2857]. Подобному сказочному мотиву некогда, несомненно, предшествовал собственно мифологический аналог. Вспомним в этой связи хотя бы античные мифы, где Юпитер в облике быка похитил, влюбившись, дочь финикийского царя Агенора Европу (сюжет использован В. А. Серовым в картине «Похищение Европы»):
Овидий. Метаморфозы. 2. 847–848, 850–858

Рис. 74. Водоноска. Традиционная вятская (дымковская) глиняная игрушка
Заметим попутно, что в одном из памятников новгородской литературы XVII в., в сказании «О истории еже о начале Руския земли…», волшебник Волхов, сын князя Словена, превращался в такое экзотическое для северных широт водное пресмыкающееся, как «лютый зверь кокродил»: преградив в реке Волхов путь, он пожирал или потоплял людей. Иногда, как следует из бывальщин, ведьма или колдунья претерпевает множество перевоплощений: «Эта ведьма ходила каждую ночь. Первой линией шла кошкой, а второй линией шла собакой, а третьей линией шла свиньей (курсив мой. — Н. К.). Никто не мог ее поймать, а замечали многие»[2866]. Подобный ряд перевоплощений может включать в себя и звериные, и птичьи метаморфозы. Напомним, к примеру, что в «Слове о полку Игореве» князь Игорь скакнул сперва горностаем в тростники, сел белым гоголем на воду, соскочил с борзого коня серым волком и, наконец, полетел соколом под облаками. Соответственно и возвращение к изначальному облику происходит в обратной последовательности. Обычно ведьма или колдунья меняет облик по своему усмотрению, но подчас и по воле более могущественного чародея, превращаясь, например, вначале в свинью, потом в телушку, потом в жеребенка. Такого рода цепь последовательных перевоплощений генетически восходит, на наш взгляд, к множественному, или классификационному, тотемизму, хотя конкретное наполнение выработанной в традиции модели может быть достаточно свободным, особенно в поздней мифологической, а тем более, в сказочной прозе, где ряд животных, появляющихся вследствие перевоплощения героя, противостоит соответствующему ряду зооморфных ипостасей антагониста. Сказанное относится и к единичным перевоплощениям. Не исключены случаи, когда выработанная данной этнокультурной или локальной традицией модель может наполняться содержанием, напрямую не связанным с устоявшимися в данной местности верованиями и обрядами.
Орнитоморфные признаки
В некоторых локальных традициях ведьмой считается та женщина, которая обладает способностью обратиться в птицу, преимущественно в сороку[2867]. Устойчивая соотнесенность ведьмы с сорокой проявляется, в частности, в общем для них названии «вещица»[2868]. На почве подобных представлений сложился зафиксированный в Заонежье сюжет, согласно которому один старик, схватив сороку за хвост, обнаружил в своих руках бабью сорочку, тогда как сама ведьма в облике птицы благополучно улетела[2869]. Более распространены мифологические рассказы, повествующие о том, как в сорок превращаются ведьмы, улетающие через печную трубу на шабаш и возвращающиеся таким же способом домой. Бывальщины о перевоплощении ведьмы в сороку смыкаются с этиологическими рассказами о происхождении этой птицы: «В стародавние годы обернулась некая ведьма сорокою, да так навсегда и осталась птицею; с тех пор и явились на белом свете сороки»[2870]. Мотив подобного оборотничества проникает даже в предания и исторические песни, где он связан с именем Марины Мнишек: названная волшебница, чтобы избавиться от грозящей ей опасности, превращается в сороку и улетает в окно[2871]. Как символ борьбы христианства с язычеством прочитывается характерный для легенд мотив изгнания (проклятия) ведьм-сорок тем или иным святым (например, московским митрополитом Алексием). Объяснение этого поступка обычно носит псевдобытовую окраску: сороки прокляты за то, что у одного благочестивого старца унесли с окна последний кусок сыра, которым он питался, или же похитили частицу святого причастия[2872]. В преданиях проклятие в адрес сорок-ведьм произносится царем Иваном Грозным, вследствие чего «ни одна сорока никогда не долетает до Москвы ближе шестидесяти верст в округе»[2873]. Факт распространения слухов о подобном оборотничестве отмечают и историки. Так, виновницей пожара в Москве, случившегося летом 1547 г., в народе считали Анну Глинскую (бабушку Ивана Грозного), которая будто бы, оборачиваясь птицей, летала по городу и кропила дома кровью из сердец мертвецов, от чего якобы и произошел пожар[2874]. Рассказы же о принудительном перевоплощении людей в сорок встречаются чрезвычайно редко. Нам известен лишь один из них: речь идет о свадебном поезде, превратившемся, по воле колдуна, в сорок (в других вариантах этого «бродячего» сюжета — в волков, собак, медведей).
Рис. 75. Сорока. Традиционная каргопольская глиняная игрушка
Идея реинкарнации, реализующаяся не только в вербальном, но и в декоративно-прикладном искусстве, находит свое выражение, в частности, в обрядовом переодевании (уподоблении). Так, былые орнитоморфные очертания одного из женских уборов — сороки — реконструируются на основе названия самого убора и составляющих его частей: «сарока» включает в себя «челышко», «макушку», «ушки» (или «чубочки»), «крылья», «хвост»[2875]. В качестве некоего средоточия тотемистической сущности индивида такой головной убор служил знаком преднамеренной имитации перевоплощения. В народных верованиях отношение к сороке также двоякое. С одной стороны, это птица вещая: скачет ли она у порога избы или стрекочет на дворе либо на домовой кровле — скоро будут гости. В какую сторону она махнет хвостом — оттуда их и дожидайся. Приносит на своем хвосте разные вести. Но, с другой стороны, как это следует по понятной причине именно из легенд, сорока создана из собственной слюны сатаной (демоном). Уже самим этим фактом она низведена в разряд прислужников нечистой силы. Согласно же чешским поверьям, сорока и есть сам нечистый[2876]. Несомненно, в том же смысле, что и все былые языческие божества или атрибуты. Эманацией ведьмы или колдуна может быть и ворон, что отражено в областных русских говорах. Так, словом «каркун» обозначается и ворон, и завистливый человек, способный сглазить, «изурочить»; словом «карга» называют и ворону, и злую бабу или ведьму[2877]. Ворона в мифопоэтическом контексте эквивалентна сороке. О семантическом тождестве обоих орнитоморфных образов свидетельствует, к примеру, известная детская потешка, в которой закодирован некий архаичный смысл: «Сорока-ворона кашу варила…». Связь с ведьмами и колдунами иных птиц, также называемых в народе «вешщими»: сов, филинов, кукушек — отражена в мифологии и языке гораздо в меньшей степени. Перевоплощение же ведуньи в лебедя в быличках и бывальщинах уже не встречается. Дело в том, что образ лебедя сохранил в народных верованиях свой изначальный сакральный смысл, тогда как образ ведуна (-ьи) подвергся в поздней традиции дискредитации, что привело к несопоставимости их в мифологической прозе. Другое дело в былинах и сказках: здесь прежняя, дохристианская соотнесенность этих персонажей сохранилась в нерасчленимом единстве, благодаря устойчивости эпических формул и формульных выражений. Вот былинные образы ведуний, перевоплотившихся в лебедушек, либо лебедушек, обернувшихся красными девушками:

Рис. 76. Церковь и колокольня в селе Ошевенске. Каргополье. Ножницы в виде цапли
Оборотни в виде рыб фигурируют преимущественно в сказках, и прежде всего в эпизоде состязания в колдовском искусстве учителя и ученика. Такого рода реинкарнация имеет место и в былине, где Вольга, овладев искусством перевоплощения, обретает способность «щукой-рыбою ходить в глубоких морях». И все же в мифологической традиции удерживается поверье: рыбы, которые «по воде стоят», т. е. держатся не так, как обычные, и есть оборотни, на которых действует заговорное «слово»[2885]. Известен также рассказ о купце, который «ходил (в реке) налимом». Там, где он обнаруживал большое скопление рыбы, и «делали промысел». А между тем в античной мифологии мотив превращения человека в рыбу, стершийся в русской традиции, был весьма распространен:
Овидий. Метаморфозы. 3. 671–673
Там же. 680–681
Фитоморфные признаки
Уже в XVIII в., основываясь на бытующих в то время мифологических рассказах и поверьях, М. Чулков писал: «Ведьмы, уверяют простаки и обманщики, будто есть такие люди, а особливо старухи, кои <…> оборачиваются во всяких зверей и птиц, а особливо в волков, свиней, сорок и копны сена (курсив мой. — Н. К.)»[2886]. Аналогичные представления фиксирует М. Забылин: «Про них (ведьм и колдуний. — Н. К.) говорят также, что они иногда превращаются в копны сена (курсив мой. — Н. К.)»[2887]. Подобная копна — воплощение трав, обладающих магическими свойствами, оболочка мифического существа. Такой персонаж появляется чаще всего в бывальщинах, повествующих о святочных гаданиях. Его соотнесенность с ведьмой выявляется при анализе украинских мифологических рассказов. Вот один из примеров: рекруты встречают движущуюся копну сена; по совету «знающего» унтера, они выдергивают из копны «по жменьке сенца» — вместо копны предстает белая лошадь; ее ведут к кузнецу; тот подковывает лошадь; наутро выясняется, что подковали женщину[2888]. Посредством выдергивания из копны «по жменьке сенца» разрушается растительная (травяная) оболочка ведьмы. Кроме того, представления о перевоплощении людей в травы и цветы (например, в иван-да-марью) получили свое преломление в этиологических рассказах, повествующих о происхождении тех или иных растений, о чем подробнее см. в главе «Ведуны-зелейники». Мотив реинкарнации людей в деревья, травы, цветы и возвращения их к изначальному облику находит себе соответствие в сказке: «„Полети, соколок, да´лече-дале´че в чистое поле, овернись, соколок, в чистоем поле в семьдесят семь травин и все в одну траву…“ <…>. Нашли траву, вырвали, принесли царю. Царь <…> выбрал траву, бросил через лево плечо, стал прикрасной молодеч (курсив мой. — Н. К.)»[2889]. В другой сказке вместо цветка, перерванного пополам и брошенного через плечо царем-волшебником, возникает сказочный герой Иван Гогарин. Наряду с этим в сказке фигурируют деревья-оборотни; цветок, в который временно обернулась девушка; чудесное растение, появляющееся на могиле убитого: изготовленная из него дудочка повествует, помимо воли играющего, о преступлении, совершенном по отношению к тому, кто перевоплотился в чудесное растение, и пр. По одному из вариантов, разрезав дудочку, сделанную из растущего у дороги цветка и поющую-говорящую голосом девушки, люди обнаруживают сидящую в ней живую девушку. Аналогичный мотив зафиксирован и в лирической песне: молодая жена с малыми детушками в отсутствие мужа была обращена в березоньку; возвращаясь «с ученьица», добрый молодец «дивуется» неизвестно откуда взявшемуся здесь деревцу; он рубит березоньку острой саблей: первый раз ударил — кровь брызнула, во второй раз — она «слезно сплакала», в третий — «слово молвила»:Овидий. Метаморфозы. 3. 309–310
Магические предметы как эманации оборотней
Основываясь на рассказах, которые в свое время ему удалось услышать, В. И. Даль пишет, что ведьма не только «перекидывается» в собаку, волка, свинью, сороку и даже в копну сена, но и подкатывается иногда под ноги клубком[2891]. Эту же способность выявляет и Н. Ф. Сумцов, оперируя преимущественно западноевропейскими материалами[2892]. Общую картину перевоплощения ведунов в магические предметы дополняет П. Ефименко: их эманацией мог быть не только клубок, но и игла (добавим: с ниткой) или колесо[2893] (заметим, что в плане семантики ему эквивалентно кольцо). Однако как воплощения колдунов и ведьм эти магические предметы в дошедшей до нас мифологической традиции, по сути, уже не фигурируют. Даже в сказке они трансформировались в атрибуты ведунов (Бабы-Яги, стародревней старухи, колдуньи, мудрой жены-оборотня, предстающей вначале в облике голубки или горлицы, рыбы-плотички и пр.: они дают клубок сказочному герою, и тот с его помощью находит свою дорогу-судьбу). Близкое значение имеют в фольклоре и кольцо, колесо, т. е. круг, также осмысляемый мифологическим сознанием как знак-символ предопределения, о чем нам уже доводилось писать[2894].
Рис. 77. Курная изба с резной дымницей. Деревня Халуй. Каргополье
Мотив перевоплощения в клубок, иглу, колесо (кольцо) сохранился в полной мере в украинской мифологической прозе, что позволяет реконструировать сохранившиеся лишь в рудиментах аналогичные мотивы русских бывальщин. Именно в названной этнокультурной традиции клубок проявляет себя в качестве оборотня. Согласно одному из мифологических рассказов, клубок, в который превратилась неизвестно откуда взявшаяся большая белая свинья, катится за бегущим в испуге мужиком до самых ворот его дома[2895]. В другой бывальщине из клубка, по которому человек ударяет осиновой палкой, «так и брызнула кровь»[2896]. Но, пожалуй, наибольшее распространение получили мифологические рассказы о превращении клубка в женщину: в этот чудесный предмет обратилась ведьма; клубок удается схватить; знахарь относит его к себе домой и прибивает к стене гвоздем; наутро видят там прибитую за губу женщину[2897]. Или же клубок втыкают на кол и вешают на воротах, наутро находят на этом месте посаженную на кол женщину[2898]. Иные версии данного «бродячего» сюжета: поднятая на дороге и воткнутая в стену игла с ниткой утром оказывается ведьмой с продетой в уши ниткой[2899]; колесо, которое катилось за солдатом, схватили, а затем прибили на конюшне к поперечной балке; утром видят: висит не колесо, а ведьма, изогнутая в кольцо[2900]. Впрочем, ведьма, принявшая облик чудесного предмета, не всегда изображается пострадавшей вследствие своего перевоплощения: «Шел человек ночью домой, слышит: катится колесо да прямо на него. Не успел он отскочить в сторону, как оно налетело, сшибло его с ног, перекатилось через него и покатилось дальше»[2901]. Эквивалентом колеса в мифологических рассказах в определенном контексте оказывается бочка: «Несколько лет тому назад будто бы видели ночью бочку, которая прокатилась через все село и тоже скрылась: „всё это ведьмы-оборотни“»[2902]. Мы здесь не останавливаемся на вопросе о перевоплощении ведьмы (колдуньи) из одного человеческого облика в другой: например, из прекрасной девушки в безобразную старуху и наоборот. Сюжет, использованный Н. В. Гоголем в повести «Вий», в русской мифологической прозе представляет собой довольно редкое явление. Чаще встречается подмена одного персонажа другим.
Зооантропоморфные признаки
Несмотря на новую оболочку, которую принимает оборотень, под ней скрываются, а иногда даже как будто просвечивают или отчасти проступают прежние, изначальные формы. В различных локальных и этнокультурных традициях распространены мифологические рассказы, основанные на «бродячем» сюжете и повествующие о том, как под шкурой убитого волка или медведя вместо звериной туши оказывается человек: «Медведя убили, шкуру сняли — точно женщина: груди и руки, точно женщина»[2903]. Весьма характерно, что в других вариантах под шкурами убитых зверей обнаруживают людей в одежде: например, бабу в сарафане[2904] или мужика, одетого в жилет и брюки и даже имеющего при себе несколько тысяч денег[2905]. Вот как об этом говорит одна из рассказчиц: «Я слыхала — волков убьют, кожу сдёрут — а женщина в юбке и сарафане, а мужчина — в штанах и жилетке. А убьют волка…»[2906]. Но чаще под шкурами зверей обнаруживают основных действующих лиц свадьбы: на охотничьей облаве убили трех волков; когда сняли с них шкуры, то под первой нашли жениха, под второй — невесту в ее венчальном уборе, а под третьей — музыканта со скрипкой[2907]. Ср. с аналогичным белорусским мифологическим рассказом: под шкурой убитого волка находят жениха в полном наряде и с обручальным кольцом, а под шкурой волчицы — невесту в щегольской разноцветной свадебной одежде[2908]. Иная версия: о былом облике оборотня напоминает лишь обнаруженная под шкурой зверя человеческая одежда: «убьют волка, а там платье подо низом шёлковое»[2909]. Варианты: богатый кафтан, синий суконный халат, красная рубаха, подпоясанная кушаком либо, наоборот, вовсе не подпоясанная, и т. п. или остатки головного убора: «Рассказывали люди, что мужик ходил в лес, волка убил одного. А под мышкой, под кожей, бисер нашел. А этот бисер был на голове у невесты. Вот в этого волка и превратилась невеста, оборотень этот волк был»[2910]. Во многих мифологических рассказах «внутренняя форма» обозначается сквозь шкуру оборотня: в местах, не зарастающих шерстью, просвечивает человеческая одежда или даже кое-где торчат ее лоскутки, виднеется обувь, проступает белой полосой полотенце, некогда повязанное через плечо у дружки. А у старика, поймавшего за хвост сороку-ведьму, остается в руках женская сорочка, тогда как самой сороке удается вырваться и улететь. При оборотнях подчас обнаруживают даже орудия труда: «Говоря, много медведей убивали, на которых ремень да топор в натопорне надеты. Это всё перевертыши-то ране были»[2911]. И, наоборот, уже у вернувшегося к изначальному, человеческому облику оборотня сохраняются некие зооморфные признаки: «У нас старик был, у него остался клочок волчьей шерсти для памяти»[2912]. У других бывших волколаков сохраняется до самой смерти клочок серенькой шерсти против сердца или же волчья шерсть под пазухами, на груди и даже под языком, а у одного жениха уцелел волчий хвост, который случайно не попал под тулуп, наброшенный на оборотня ведьмой с целью возвращения его к прежнему облику. Заметим, что рудименты перевоплощенца можно обнаружить даже у христианских святых. Так, в виде зооантропоморфного существа — псеглавца — изображается в легендах, равно как и в православной иконографической традиции, мученик Христофор. Согласно легенде, он был родом из страны кинокефалов (людей-собак) и обрел человеческий облик, приняв крещение. В других источниках псеглавость Христофора объясняется чудом, которое Бог совершил по его молитве, дабы сделать свою проповедь убедительной для язычников. Согласно иной версии, он испросил себе собачью голову, дабы не прельщать своей красотой поселянок[2913]. Антропоморфные признаки оборотня проявляются и в его человеческом сознании: оно не утрачивается и под звериной шкурой. Не случайно добровольный оборотень способен проделать необходимые манипуляции, чтобы возвратить себе былой облик. А ведьма в виде свиньи может и плакать (голосить), и смеяться (хохотать), и говорить (кричать): «Хитер ты, но я хитрее тебя, — теперь ты от меня нигде не спрячешься»[2914]. В другой бывальщине большая черная собака, когда на нее замахнулась, чтобы защитить себя, одна старуха, шедшая ночью по деревне, неожиданно сказала: «Пусть идет своей дорогой — и ее не тронут»[2915]. В аналогичном украинском мифологическом рассказе свинья-оборотень не только заговорила человеческим голосом с крестьянином, вознамерившимся отрезать ей ухо, но и, что бывает чрезвычайно редко, даже назвала себя: «Куманек, будь так ласков, пусти меня, я тебе завтра выкуп дам, четверть водки. Я — Настасья, жена Михайлы Здражевского, и никогда не буду шутить с тобою»[2916]. Подневольный оборотень также сохраняет полное человеческое сознание: «Однажды пристала на дороге к извощикам черная собака — такая умная, что всем на диво: что ни скажут ей — все понимает, только говорить не умеет. „Уж не оборотень ли это?“ — подумали извощики и показали собаку знахарю. Тот сейчас узнал, что собака — не простая»[2917]. Впрочем, на этот счет у рассказчиков есть и иное мнение: «Когда она (колдунья. — Н. К.) уже отделала нас, уже стали мы людьми, думаю: „А где я в это время был?“ Ничего не помню. Так она ошарашила, что человек без всякого сознания»[2918]. В других случаях «память приходит» к оборотню лишь на какое-то время. Иные замечали, что подневольные оборотни смотрят на человека жалобно, с мольбой о помощи. Из их глаз струятся в три ручья слезы. Об изначальной человеческой сущности такого перевоплощенца напоминают и повадки: он умывается, проводя мордой по росистой траве, по привычке к пахоте разгребает в весеннюю пору землю. Будучи волколаком, он не нападает на человека, не трогает скот. Ведь поевшему пищу диких зверей уже не вернуться к человеческому образу жизни (ср.: вкусившему еду мертвых не возвратиться в мир живых): «Знал видь, что как сырое мясо съист, навсегда волком останется»[2919]. Вот почему оборотень ходит либо совсем голодным, либо старается подобрать куски и крошки хлеба, оставленные пастухами или жнецами, либо ворует у них сумки с хлебом, похищает съестное из погребов, либо пользуется подаянием сердобольных крестьян, особенно своих домашних: «<…> и положили на то место, где он ночью лежал, ломтик хлеба. Утром посмотрели, а ломтя нет: он съеден. На следующую ночь положили больше хлеба, и это он съел. Так его они (домашние) и кормили»[2920]. В другой бывальщине охотник делится съестными припасами с зашедшим в лесную избушку медведем: он дает оборотню на ужин и на завтрак по полрыбника и по полмякушки хлеба. Уходя из «фатерки», медведь поклонился «полеснику» низко[2921]. Если же волколаку доведется есть мясо, то, по некоторым мифологическим рассказам, только жареное: «Разорвет овецецку, да поглядит, где пастухи картошку пекли, да на тех вугольях мяско и сжарит»[2922]. В других же мифологических рассказах оборотень, подружившись с настоящим волком или будучи принятым спустя определенный срок (чаще через три года) в волчью стаю, ходит с ними на добычу, нападает на теленка или на барашка и ест сырым свежее мясо, пренебрегая, в отличие от настоящих зверей, падалью. И лишь в редких бывальщинах образ жизни волколака адекватен волчьему: оборотень нападает на путников и домашний скот и даже пожирает падаль. Но чаще, пожалуй, он скитается в лесу один, стараясь держаться подветренной по отношению к настоящим волкам стороны, чтобы те не напали на него: «<…> а на ветер ляжешь — сейчас учуют человечину и разорвут. Они (волки. — Н. К.) много так наших (оборотней. — Н. К.) разорвали»[2923]. Но столь же опасно для волколака и приближение к человеческому жилью. И все-таки, томимый тоской по родным, он, пренебрегая угрозой для жизни, появляется под окнами своего дома, наблюдая за текущей в нем повседневной жизнью. Подневольный оборотень не может поведать людям о постигшей его беде: вместо слов у него вырывается лишь волчий вой. А самостоятельно вернуться к человеческому облику он не в состоянии. В этот момент залают собаки — и кто-нибудь выйдет на улицу, закричит, заулюлюкает… Единственным средством защиты для такого оборотня служат лишь магические слова заговора, в равной степени спасающие его и от людей, и от зверей: «Месяц, месяц-золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя, человека и гада, чтобы они серого волка не брали, и теплой бы с него шкуры не драли. Слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской»[2924]. Не принадлежа к миру людей по облику, а к зверям — по человеческому сознанию и отчасти образу жизни, оборотни оказываются как бы между мирами, ни там ни сям, что выражено и словами цитируемого заговора: «А в лес волк не заходит, а в дом волк не забродит». Он между бытием и небытием. Рудименты такого состояния сохраняются даже у вернувшегося к изначальному облику оборотня. Хотя он и выглядит уже человеком, но долгое время остается диким, сумрачным, с трудом привыкает к человеческой речи — одним словом, оказывается «поврежденным». По словам одного из крестьян, лет пять тому назад ему повстречался в лесу, на дороге, страшный-престрашный человек с «покосившимися» глазами. Удивленный рассказчик спросил его: «Отчего ты, человече, такой поврежденный?». На что тот отвечал: «Да, брат, будешь „поврежденный“, когда несколько лет побегаешь волком». — «Да разве ты был вовкулаком?». Спутники зашли в ближайший кабачок, и бывший оборотень поведал о своем злоключении[2925]. Вместе с тем, по рассказам, бывают случаи, когда человек, внешне как будто бы никак не изменившийся, вдруг начинает «чиликать сорокой» либо «вопит кукушкою и зайцем кликает», что осмысляется в народе как разновидность порчи. Факт такого, мы бы сказали, частичного перевоплощения засвидетельствован в 1628 г. документально[2926]. Позднее об аналогичном случае упоминает в своей «Поденной записке…», датируя его 22 июля 1785 г., Г. Р. Державин: «Потом на Вологде был испорчен и лаял собакою и другими голосами животных кричал…».
Рис. 78. Крыльцо крестьянского дома. Село Лядины. Каргополье
Таким образом, зоо-, орнито-, фито-, зооантропоморфные личины и маски, которые принимает оборотень, равно как и его предметные эманации, были некогда знаком приобщения индивида к божественному либо священному животному, почитаемому в той или иной локальной традиции. По мере развенчания связанных с ними языческих божеств и их служителей (волхвов-жрецов) они стали осмысляться как знак-символ нечистой силы или ее атрибутов.
Локусы и ритмы превращения
Локусы
Представления о локусах, где наиболее часто свершаются реинкарнации, по сути уже стерлись в дошедшей до нас мифологической традиции. И современные рассказчики, как правило, не акцентируют внимания на том месте, где произошло перевоплощение. Может даже сложиться впечатление, что это случается где угодно. Тем не менее и здесь в какой-то мере выявляются свои закономерности. Так, и в прозаическом, и в песенном фольклоре известен сюжет, согласно которому похороненный именно на перекрестке дорог может возродиться к новой жизни и в новом же воплощении. Не случайно сказочная героиня, погребенная на раздорожье, превращается в чудесный цветок, который при определенных обстоятельствах перевоплощается в девушку[2927]. В одном из мифологических рассказов оборотень буквально в течение каких-то мгновений превращается несколько раз на глазах перепуганного насмерть прохожего то в одно, то в другое существо, а затем исчезает на ровном месте, на перекрестке[2928]. Особый характер подобной локализации выявляется из украинских бывальщин, сохранивших данный мотив в его архаическом виде: как только передние колеса повозки, на которой ехали из церкви после венца новобрачные, коснулись перекрестка, молодой князь и молодая княгиня на глазах у оцепеневшего свадебного поезда внезапно превращаются в волков и убегают в лес[2929]. Эквивалентом перекрестка, где некогда было принято хоронить умерших (позднее — «заложных» покойников), о чем мы уже писали[2930], служит могила у дороги. Именно оттуда показывается большущий серый волк, в которого обратился старший брат, обладающий искусством перевоплощения[2931].
Рис. 79. Старинный дом с «въездом» в деревне Клещейла. Южная Карелия
Оборотничество локализуется и на стыке освоенного (культурного) и стихийного (природного) пространства, «этого» и иного, потустороннего мира, к которому мифологическим сознанием были отнесены река и лес, осмысляемые как границы между мирами: «В воды (курсив мой. — Н. К.) вошел человек, а вылез медведем»[2932]; «<…> вдруг идет из-за леска (курсив мой. — Н. К.), что такое, глядите, волк, а вдруг бабка, а волка-то нет»[2933]; «Едет свадьба у самого леса, вдруг вместо лошадей — волки, и в лес (курсив мой. — Н. К.)»[2934] и т. д. Эквивалентом лесу является гора: двенадцатилетняя девочка, пройдя поселок, доходит до горы; в этот момент за ней бежит оборотень в виде свиньи; стоило ей, однако, спуститься и оглянуться, как выяснилось, что «никого нету»[2935]. В плане мифологической семантики эквивалентной перекрестку, могиле у дороги, равно как и воде, лесу, горе, является баня. Сюда слетаются (подчас в виде воронов) ведьмы. Это их излюбленное место перевоплощений. Именно в данном локусе один парень оказывается насильственно превращенным в коня — и ведьма ездит на нем до самого утра: «Она (богатая девка. — Н. К.) его из бани (курсив мой. — Н. К.) плеткой ударила: „Был молодец, стань жеребец!“ Села и поехала»[2936]. Здесь же совершается и обратное перевоплощение — возвращение парня к изначальному облику. При этом персонажи как бы меняются ролями. Превращением ведьмы в лошадь открывается ряд последующих метаморфоз: она оборачивается мышью, крысой, еще чем-то, веретеном и, наконец, девицей[2937]. В бане же происходят и подмены, в которые подчас трансформировались перевоплощения: вместо реинкарнации антропоморфного персонажа в зооморфный мы теперь имеем оборотничество одного антропоморфного персонажа в другой: «Через год родила Елена сына, пошла мачеха в баню с падчерицей, вместо нее из бани (курсив мой. — Н. К.) послала с младенцем свою младшую дочь, а Елену превратила в оленя и спустила в чистое поле»[2938]. Как видим, в данном случае подмене сопутствует и само перевоплощение. В бане же совершается реинкарнация некоего предмета, осмысляемого как эманация мифического существа (например, голика), в некое подобие человека (в обменыша). Как мы уже говорили, из мифологических рассказов и поверий баня предстает как некое вместилище, средоточие душ (так сказать, своего рода тотемический центр), откуда эти души, принимая то или иное воплощение, появляются и куда они по прошествии определенного периода возвращаются[2939]. В этом качестве баня сродни перекрестку, образ которого имеет аналогичную семантику[2940]. Изредка оборотничество совершается в подполье, на пороге, у печи, о чем речь пойдет ниже.
Время перевоплощений
Излюбленным временем для всевозможных перевоплощений является ночь, о чем в свое время поведал автор «Слова о полку Игореве», сообщивший как о достоверном факте, что князь Всеслав «в ночь влъком рыскаше: из Кыева дорискаше до кур (курсив мой. — Н. К.) Тмутороканя»[2941]. Мифологические рассказы, дошедшие до наших дней, также характеризуют ночь как время реинкарнаций. В самом деле, если судить по бывальщинам, которые мы выше рассматривали, то именно с вечера до утра, до пения петухов, ездит ведьма верхом на парне, обращенном ею в коня; после вечеринки преследует парня до самого дома неизвестно откуда взявшаяся свинья; волчий вой оборотня раздается всю ночь у самого дома и т. д. Соответственно и возвращение к прежнему облику происходит лишь утром. Только тогда, как мы помним, выясняется, что подкованная лошадь, пораненная свинья, посаженный на гвоздь клубок оказывается пострадавшей из-за своего ведовства женщиной, в то время как всю ночь она сохраняет ту форму, которую добровольно приняла. «Не случайно, что ночь вообще, а Рождественская, Крещенская (но не Пасхальная) или Ивана Купалы — время, когда особенно возможны явления низших духов, оборотней, ведьм и колдунов», — отмечает Ю. Миролюбов[2942]. Перевоплощение, согласно мифологическим рассказам и поверьям, действительно чаще всего приурочивается к Святкам, ко времени от Рождества до Крещения или Богоявления. Так, например, именно на Святках колдунья, известная тем, что однажды во время свадьбы «скрала месяц», оборачивается свиньей «да за девками пыляет»[2943]. Характерно, что аналогичные представления некогда были зафиксированы у греков: оборотни, особенно со дня Рождества Христова до Богоявления, «шляются» повсюду, пугая людей. Они исчезают только после водоосвящения[2944]. Появление именно в это время ряженых, на наш взгляд, можно считать в известном смысле метафорой перевоплощения. Такая соотнесенность оборотничества со Святками отнюдь не случайна и имеет дохристианские корни. Заметим в связи с этим, что у болгар время от Рождества до Крещения называется «волчьими праздниками», а декабрь именуется у славян «влченец» — «волчий месяц». Подобные названия свидетельствуют о том, что в древности в это сакральное время совершались некие действа, связанные с перевоплощением, причем именно в волка, и носящие, несомненно, тотемический характер. Однако выработанная в традиции модель под воздействием тех или иных местных верований могла наполняться и новым содержанием.
Рис. 80. Святочные маски (РЭМ). Прорисовка (по А. Ивлевой)
Как период наиболее интенсивных перевоплощений характеризуются в мифологических рассказах и поверьях также летние Святки или день Ивана Купалы. В них повествуется об опасности, исходящей в данный период от оборотней, и о мерах предосторожности, предпринимаемых для защиты от них людей и домашнего скота, в том числе и об используемых оберегах. «В купальскую ночь ведьмы и вовкулаки бывают особенно страшны для коров», — резюмирует на основе находящихся в его распоряжении материалов А. Н. Афанасьев[2945]. Как мы уже говорили, Купала изначально был общинно-родовым праздником, знаменовавшимся браками и принятием в род и носившим, судя по всему, некоторые тотемистические признаки. Интенсивность происходящих реинкарнаций обусловлена «переходным» временем, каким считаются прежде всего дни зимнего и летнего солнцеворота, ознаменованные Святками, зимними и летними. Прежде чем воспринять христианскую атрибутику и символику, связанную с именами Христа и Иоанна Крестителя, эти праздники, несомненно, имели соответствующий языческий смысл. Иногда временем перевоплощения колдунов и ведьм в различных домашних животных: телят, собак, кошек, высасывающих у коров молоко, — называют Юрьев день как знак перехода от зимы к весне[2946]. Таким же по семантике может оказаться и любой другой день (особенно день весеннего равноденствия), промежуточный между зимой и весной: «Раз иду я на работу весной, снегу мало, конец марта <…>. Оглянулась я: свинья бежит за мной»[2947]. Перевоплощение возможно и в «прощеное» воскресенье на Масленицу, когда провожали зиму и встречали весну и когда, по обычаю, зять ездил к теще на блины. Не этот ли праздник как подходящий для перевоплощения имелся в виду в бывальщине: «Зятя теща больно не любила: приехал тот с женой к ним на празник, она его волком и оборотила. Оборотила волком (курсив мой. — Н. К.) и пустила в чисто поле»[2948]. Переход из одного состояния в другое, локализованный в макрокосме, адекватен переходу, совершающемуся в микрокосме, будь это определенная общность либо индивид, относящийся к этой общности.
Сроки перевоплощения
Оборотни, перевоплощающиеся по своей воле, свободны и в определении срока, по истечении которого они возвращаются к своему человеческому облику. Так, например, векшица, только что бежавшая за мужчиной, приняв облик свиньи, внезапно превращается в женщину, стоило только ему перейти мост и оглянуться[2949], т. е. преодолеть пространство, определяемое словосочетанием «ни там ни сям». И все же чаще добровольные оборотни остаются в своем новом воплощении всю ночь. Иначе обстоит дело с оборотнямиподневольными. Колдун превращает человека в животное, растение, предмет на определенный срок или даже навсегда. Продолжительность реинкарнации может выражаться в сакральных числах: 3, 7, 9, 12; допустимо их умножение: например, 18 или сложение: например, 10. Единицей измерения срока оборотничества служит день, неделя, месяц, год. Так, в одной из бывальщин волколак бегает таковым в течение девяти дней[2950]. Или другой пример: «<…> и сделан я быў медведем, и ходиў я три году»[2951]. Периодичность перевоплощения также может быть различной. Чаще всего оно происходит каждую ночь[2952] (это относится в основном к оборотням добровольным). В одной старинной французской повести, относящейся к XIII в., повествуется о рыцаре, который каждую неделю уходил от своей молодой жены, раздевался донага, пряча снятое платье, и превращался в волка[2953]. А в древнейшем упоминании об оборотнях, содержащемся в сочинении Геродота, превращение в волков некоего племени, названного неврами (по мнению некоторых ученых, это предки славян, жившие в верховьях Днестра и Южного Буга, в бассейне Припяти, в VI–V вв. до н. э.), совершается единожды в году (Геродот. История. Кн. IV. Гл. 105). О такой же периодичности перевоплощения сообщает древнегреческий миф, повествующий о жрецах храма Зевса-Ликаоса, находящегося в городе Ликаполисе, в царствование аркадского царя Ликаона, превращенного самим Зевсом в волка и носящего имя, которое и обозначает «волк». С именем царя-волка, образ которого, несомненно, имеет тотемические истоки, соотнесены наименования города и храма. Как отзвук именно тотемического культа следует характеризовать содержащееся в мифе утверждение, будто один из жрецов этого храма ежегодно превращался на десять лет в настоящего волка, в память чего жрецы облачались на время жертвоприношения в волчьи шкуры[2954]. Перевоплощение, имитацией которого служило облачение, являлось элементом некогда существовавшего здесь культа. Согласно мифологическим рассказам и поверьям, реинкарнации подвергался один человек либо определенный микроколлектив, представляющий ту или иную устойчивую общность. Например, обращены в волков на семь лет были человек двенадцать поезжан: «Без этого числа редко случается свадьба»[2955]. Или же оборотнем суждено быть каждому члену семейно-родовой общины: «<…> и в семье всей твоей все вы осмьнадцать лет будете зверями бегать»[2956]. Перевоплощению подвержены и члены этнически маркированного микроколлектива. По сообщению Геродота, каждый из невров, признаваемых скифами и эллинами за колдунов, «ежегодно на несколько дней обращается в волка, а затем снова принимает человеческий облик» (Геродот. История. Кн. IV. Гл. 105). Причем скифы и эллины, поведавшие об этом Геродоту, клятвенно заверяли его в правдивости своего рассказа. Комментируя это сообщение, исследователи усматривают в подобном оборотничестве факт коллективного переодевания в волчьи шкуры и маски, предпринимаемого участниками обряда в связи с культом тотемного животного, каковым у невров был именно волк[2957]. Ср. с соответствующим переодеванием у горских народов Кавказа: участники обряда надевают конусообразные маски, изготовленные из телячьих, коровьих, овечьих шкур мехом наружу, с прорезями для глаз, носа и рта. Костюм волка также включает в себя вывернутую мехом наружу шубу, подпоясанную ремнями, традиционную вязаную обувь и перчатки[2958]. Именно такое переодевание и осмыслялось мифологическим сознанием как перевоплощение. Реинкарнируется и каждый из служителей религиозного культа, имеющего явные тотемистические признаки: речь идет об упомянутых жрецах храма Зевса-Ликаоса. Не случайно культ волка-оборотня отмечен в районе аркадской горы Ликеона, что значит гора Волчья[2959]. Таким образом, до нас дошли отдаленные отголоски древних обрядов тотемистического характера, совершаемых ежегодно и, что в данном случае особенно существенно, связанных с перевоплощениями (точнее, с их имитацией) на определенный срок.Реинкарнация и жизненный цикл
Условием перевоплощения персонажа часто служит достижение им определенного этапа в жизненном цикле. Классическое определение такой взаимосвязи дано в стихах «Махабхараты»:
Рис. 81. Кузнецы. Традиционная деревянная резная игрушка. Село Богородское Московской области. Резчик И. Ф. Чушкин
Перевоплощение персонажа может быть обусловлено и инициациями, которые также относятся к числу переходных обрядов, отмеченных, по В. Тэрнеру, тремя фазами: откреплением, промежуточным, «лиминальным», периодом и восстановлением[2968]. Ведь в соответствии с древними представлениями посвящаемый во время инициаций переживал временную смерть, идентифицируя себя в процессе обряда со своим тотемным предком и возрождаясь в новом качестве. По словам С. А. Токарева, «в посвятительную церемонию входит обрядовая имитация смерти и воскресения»[2969]. Отсюда ведут начало многочисленные сюжеты о временном пребывании людей, принадлежащих подчас одной семейно-родовой общине, в состоянии оборотней, а затем о возвращении их к человеческому облику и соответствующей форме жизни. Как утверждает В. Г. Балушок, в мифологических рассказах о волколаках нашли отражение древние инициации. В них прослеживается ритуальное перерождение посвящаемых прежде всего в волков, а у некоторых славянских племен — в медведей[2970]. Кстати, перевоплощение, обусловленное инициациями, нашло широкое преломление в семантике татуировки, орнаментики одежды, очертаний головного убора, равно как и в семантике хореографического искусства. В соответствии с древнейшими представлениями так же, как с рождением и особенно с инициациями, соотнесен со смертью и брак. Подобное единство осмысления проявляется, в частности, в отождествлении женитьбы, свадьбы со смертью. Классический пример обнаруживается уже в «Слове о полку Игореве»: «ту кровавого вина не доста, ту пир докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую»[2971]. Античный аналог этому мы находим в гомеровском эпосе: «Смерть, Антиной, а не брак (курсив мой. — Н. К.) вожделенный ты встретишь, обидчик». Впоследствии, осмысляемое уже как поэтический троп, это отождествление получит широкое распространение в народной лирике. Поскольку представления о смерти и свадьбе по своей семантике аналогичны, это влечет за собой сходство в их проявлениях, в реализации заложенных в них потенций. Бракосочетание, женитьба, свадьба также являются предпосылкой для перевоплощения. Трансформацией связанных с очередным переходным обрядом представлений можно считать бывальщины, повествующие о том, как жених, невеста, поезжане были «испорчены» и обращены в животных: «И еще портили: поехали к венцу, и сделали (колдуны) весь поезд волкам. У нас старик был, у него остался клочок волчьей шерсти для памяти. Рассказывал, как жили они»[2972]; «Заколдовала она (зловредная соседка. — Н. К.) свадьбу в волчью стаю, штук тридцать-сорок волков. Мороз был сорок градусов»[2973]; «На Двине оборотни есть, а у нас нет. Знаюшшый человек обворотит свадьбу в воукоф и волки бегут»[2974]; «Один парень женился. Молодых испортили. Обернули ее медведицей. Пошла она в лес»[2975]. Этот сюжет, распространенный повсеместно, известен во множестве вариантов. И повсюду его рассказывают со всяческими заверениями в реальности. Упомянут, к примеру, что дело было прошлой зимой. И назовут селение, находящееся за столько-то верст. И даже не забудут имени и фамилии крестьянина, на свадьбе которого случилась «порча». Перечтут по пальцам гостей, бывших на свадьбе и превращенных в волков. Однако стоит приехать по указанному адресу, и вы услышите, что свадьба такого-то действительно была, но происшествие случилось не на его свадьбе и не здесь, а в том селе, откуда взята его сноха. В том селе подтвердят достоверность самого рассказа и опять-таки направят желающего докопаться до истины по очередному адресу. И так до бесконечности. Мало того, найдутся очевидцы, якобы повстречавшие мужика с волком, который, по его заверениям, и есть жених-оборотень. Когда же озадаченные спросили мужика, почему он не вернет бедолаге его прежнего человечьего облика, тот поразил их таким ответом: «Сделай его человеком, придется кормить, а до дому еще далеко, волком же добежит и без корму»[2976].

Рис. 82. Наши рассказчики
Оборачивают в животных новобрачную чету, поезжан (свадебный поезд), гостей, всю свадьбу, в том числе «сватий, тысяцких, бояр» и дружку — основных организаторов свадебного действа. Их превращают преимущественно в волков, реже — в медведей, собак, сорок, воронов. И даже сами колдуны, насылающие «порчу», могут обращаться, как это следует из мифологических рассказов, в медведей или змей. Маркирование преимущественно «волчьей» символикой едва ли не всех персонажей свадебного обряда заслуживает особого внимания. Показательно, что подобная символика могла распространяться лишь на одну из сторон, участвующих в свадьбе: «волком» называют или дружину жениха, или всю невестину родню на свадьбе у жениха; в причитаниях «волками серыми» невеста называет братьев жениха, а в песнях родня жениха именует невесту «волчицей». Волк, ищущий себе добычу, символизирует жениха, добывающего невесту[2977]. И даже само слово «волк» в среднерусских диалектах употребляется в значении «шафер со стороны жениха»[2978]. Совершенно очевидно, что этим зооморфным знаком-символом могут быть отмечены и жених, и братья жениха, и шафер со стороны жениха, и, наконец, вся дружина жениха либо невеста, равно как и вся ее родня. Такая соотнесенность «волчьей» эмблемы с идеей перевоплощения, причем чаще всего коллективного, отнюдь не случайна. Она обусловлена совокупностью взаимосвязанных, переплетающихся между собой верований. На наш взгляд, представления о перевоплощении, которое обусловлено браком, генетически восходят к дуально-экзогамным отношениям: принадлежа поначалу к одной фратрии и переходя вследствие брака в другую, женщина определенный период все еще считается приверженной прежнему культу и лишь позднее становится в известной мере причастной к верованиям, соотнесенным с иным тотемом. Не случайно, например, в одном из мифологических рассказов коми невестка, увидев, что ее свекор время от времени обращается в медведя, сама перевоплощается в медведицу[2979]. А в одном из саамских мифов-преданий о Мяндаш-пырре (Олене-человеке), которого считает своим тотемным предком одна из локальных групп саамов — жители Теплого Наволока, женщина, вышедшая замуж за оленя, превращается в олениху, чтобы последовать за ним[2980]. Обусловленный тотемистическими представлениями, мотив перевоплощения участников свадебного действа основывается в своих истоках на вере в возможность реинкарнаций в процессе исполнения переходных обрядов. Этими же верованиями обусловлено формирование мифологических рассказов о перевоплощении на брачном ложе. Так, в одной из среднерусских бывальщин молодого жениха подменили на свадьбе старым, вследствие чего молодая, сбежав с брачного ложа, «скинулась козой»[2981]. Вместе с тем важнейшей предпосылкой к перевоплощению служит смерть (ее трансформацией, метафорической заменой следует считать смертельную опасность). Причем подразумевается смерть не только физическая, но и обрядовая: ее переживает, скажем, юноша, проходящий инициации, либо невеста в обряде свадебной бани, либо колдун, воспринимающий эзотерическое знание, и т. д. Мифологические рассказы и поверья о том, что колдуны по истечении жизни становятся оборотнями, превращаясь в волков, собак, свиней, сорок и пр., или что их души появляются в виде оборотней, распространены повсеместно: «За рекой у нас колдунья жила. Умирала очень долго, три дня мучилась. Сорока по коньку бегала все три дня. Муж оторвал конек и сбросил сверху. Сорока перестала бегать, и старуха умерла. Она вылетела из окна сорокой (курсив мой. — Н. К.)»[2982]. В одной из бывальщин колдунья в течение сорока дней после своей смерти периодически появлялась в виде оборотня: «Так, пока не минул сорокоуст, она кажный вечер приходила и то на вышке пляску подымет, то кошкой покажется (курсив мой. — Н. К.)»[2983]. В другой бывальщине ведьма спустя года три после своей смерти являлась к соседу в облике черной кошки и таскала его за волосы. Наиболее часто покойный колдун становится оборотнем в том случае, если он заключил договор с нечистой силой, чертом, дьяволом (напомним, что в них нередко трансформировались былые языческие божества) на известное число лет, но умер, по предопределению судьбы, ранее установленного срока. Вот он и доживает оставшиеся годы в качестве оборотня, находясь между мирами, ни там ни сям. Ходит оборотнем и умерший колдун, который никому не передал своего тайного знания. По рассказам, он обычно перевоплощается в свинью и чинит людям всякие пакости[2984]. Претерпевают реинкарнацию в момент смерти и ведьмы. Вот как об этом повествуется в одном из преданий. Царь Иван Грозный, порешив раз и навсегда покончить с безбожием на Руси, велел немедленно выслать в Москву всех ведьм и переметчиц. По приказу царя, их собирают на площади, обкладывая со всех сторон соломой. Но ведьм это явно не устрашает. Стоя в кучке, они лишь переглядываются и улыбаются: «Охватило полымя ведьм — и они подняли визг, крик и мяуканье; поднялся густой черный столб дыма и полетели из него сороки, одна за другою — видимо-невидимо… Значит, все ведьмы-переметчицы обернулись в сорок и улетели (курсив мой. — Н. К.) и обманули царя в глаза»[2985]. Однако изначально перевоплощение обладателя эзотерического знания отнюдь не маркировалось отрицательным знаком. Не случайно сам египетский бог Осирис (Озирис) по своей смерти реинкарнируется в быка (в дальнейшем ему был посвящен бык). В результате культ Осириса в эллинистический период сливается с культом священного быка Аписа[2986].

Рис. 83. Вышневолоцкая вышивка (по В. В. Стасову)
Простые люди также после смерти могут оказаться оборотнями. По поверью, это происходит в том случае, если через покойника в то время, когда он лежит на столе, перебежит кошка, собака или курица. Смертью может быть обусловлена и цепь последовательных перевоплощений. Так, в восточнославянской мифологии реализуется представление, что умерший поочередно превращается в насекомое (чаще в муравья), в птицу, зверя, рыбу и, только пройдя все эти этапы, вновь возрождается человеком[2987]. Аналог этому содержится в удмуртских мифах: Кылдысин (божество) появляется перед людьми в виде красной белки; застреленная охотниками белка обращается в рябчика; застреленный рябчик — в тетерева, а застреленный тетерев — в окуня, который уплывает[2988]. Очередной вариант зафиксирован у вятских марийцев: человек может умереть до семи раз, переходя из одного мира в другой, и, наконец, превратиться в рыбу[2989]. Позднейшая трансформация этих верований осуществляется в направлении преодоления признаков, обусловленных тотемистическим сознанием. Примером такого преодоления при сохранении элементов, уходящих своими корнями в анимизм, можно считать представления относительно рождения человека: оно осмысляется как переход из «того» мира в «этот» и как возвращение одного из умерших родственников[2990]. Само собой разумеется, что такой перерожденец имеет исключительно человеческие признаки. И все же в восприятии смерти как предпосылки к рождению в новом качестве, а рождения как перевоплощения умершего нельзя не усматривать признаков той архаической модели, которая ранее включала в себя и тотемистические элементы, без чего формирование мифов о метаморфозах было бы просто невозможным.
Душа и ее одежды
Способностью перевоплощаться и перевоплощать других, согласно античным мифам, равно как и мифам иных народов мира, изначально обладали боги:Овидий. Метаморфозы. 1. 1–2

Рис. 84. Церковь Рождества Христова (1562 г.). Алтарная часть. Каргополь
Каков же механизм совершающихся реинкарнаций? Для того чтобы перевоплощение произошло, в соответствии с анимистическими верованиями необходимо, чтобы душа в качестве некой субстанции отделилась от тела и обрела новую плоть и новую форму. В этом отношении особый интерес представляет севернорусский мифологический рассказ, где ведьма оставляет свое туловище без головы (вариант: платье), а сама выпархивает сорокой (вариант: просто куда-то исчезает)[2993]. Если голова осмысляется в народных верованиях как одно из вместилищ души, то тело и платье — как ее плоть и оболочка. Не случайно «гибридные» персонажи часто имеют человечье лицо и звериное туловище. Оставляя при себе душу, ведьма прячет и тело, и одежду под корытом, «бучным», в котором парили со щелоком белье, или обычным, в котором его стирали, а то и просто «поганым». Иногда это корыто локализуется в подполье (подполе). Во всех случаях оно непременно деревянное и, как следует из мифологических рассказов, эквивалентно колоде: «Вдруг она (тетка очень знатливая. — Н. К.) потерялась из избы. Искал, искал — нету! Пошел во двор, а там колода (курсив мой. — Н. К.). Он пнул. А она говорит: „Че ты меня пинаешь?“»[2994]. Тождественность осмысления корыта и колоды особенно отчетливо проявляется в одном из украинских мифологических рассказов: ведьма прячет свою христианскую душу под корытом, в котором дается корм свиньям, или под дубовой колодой, на которой рубят дрова; взамен души в нее входит нечистый дух, якобы и обеспечивающий ее перевоплощение. Впрочем, в народных говорах колода и есть долбленое корыто. Но не только корыто. Это и долбленый гроб, домовина, долго удерживаемая раскольниками, ревнителями старинных обычаев, в похоронной практике[2995]. Круг замкнулся. Ведьма оставляет свое тело, одежду и даже одну из душ, не используемых в процессе оборотничества, по сути в гробу. Чтобы перевоплотиться, она должна временно умереть. Смерть может быть заменена обмиранием, т. е. летаргическим сном. Как временная смерть, в состоянии которой свершается отделение души от тела, осмысляется в народных верованиях и обычный сон. Вот почему, говоря об «опрометных лицах звериных и птичьих», Иоанн экзарх болгарский пишет: «Тело свое хранит мертво, а летает орлом и ястребом, и вороном, и дятлем, и совою, рыщут лютым зверем и вепрем диким, волком, летают змием, рыщут рысию и медведем»[2996]. То же наблюдается и в скандинавской мифологии: пока тело Одина, оцепененное сном или смертью, лежало неподвижно, дух этого бога быстро переносился в дальние земли, оборачиваясь птицей, зверем, рыбой или змеем. Превращению подвергается не тело ведьмы, а ее душа; тело же остается дома бездыханным, тогда как душа «меняет свой образ». Душу человека, способную принять новое воплощение, автор «Слова о полку Игореве» называет «вещей» (применительно к князю Всеславу). Способность к реинкарнации обусловлена анимистическими верованиями. «Анимизм, — отмечает Э. Тэйлор, — составляет, в самом деле, основу философии как у дикарей, так и у цивилизованных народов»[2997]. Есть основания утверждать, что при отсутствии такового нет и перевоплощающихся персонажей. Не случайно, например, они недостаточно развиты в мифологии аборигенов Австралии, у которых тотемизм выражен в его классической форме, тогда как анимистические верования хотя и имеются, но довольно-таки неопределенные[2998]. Однако именно последними обусловлены представления о том, что не только тотемный предок, мифический родоначальник, но и человек, животное и даже любой природный объект либо тот или иной предмет наделены «нетленной сущностью», «жизненной силой», которая остается неизменной при всех метаморфозах ее обладателя. Изучая в начале прошлого века пережитки анимизма у коми зырян, П. А. Сорокин писал: «Души животных, человека и неодушевленных предметов (камня, метлы) одинаковы, внешность же только форма. <…> душа свободно может переходить из одной формы в другую»[2999]. Формирование перевоплощающихся персонажей обусловлено, с одной стороны, анимистическими верованиями, с другой — тотемистическими представлениями о кровнородственных отношениях человека и животного или растения, природного объекта. Такого рода мировосприятие детерминировано невыделенностью человека из мира природы и определенного микроколлектива, что и является спецификой первобытного сознания. Однако импульсы, заданные подобным мировосприятием, ощутимы во всей последующей традиции.

Рис. 85. «Тяни-толкай». Традиционная каргопольская глиняная игрушка
Мифологические персонажи, изображаемые в момент перевоплощения в их субъектно-объектной взаимосвязи, первоначально были соотнесены с теми или иными тотемными животными либо растениями, природными объектами, равно как и с членами тотемической группы. Причем, как уже говорилось, в верованиях каждого этноса сложился свой набор животных, которые некогда осмыслялись в качестве тотемов. Именно их внешний облик становился в первую очередь новой формой, телесной оболочкой для перевоплощающихся и перевоплощаемых. Обрядовая практика стимулировала развитие традиции именно в этом направлении. По мере же утраты этой соотнесенности мотив оборотничества может постепенно порвать былые связи с соответствующим этнографическим субстратом, хотя сама модель, удерживаясь в традиции, наполняется иным содержанием, уже напрямую не связанным с тотемистическими представлениями.

Рис. 86. Мотив традиционной севернорусской вышивки. Подзор «настилальника». Пудожье
Зооморфный облик оборотню может придать и сама его душа, вышедшая из тела и имеющая зооморфный или орнитоморфный вид, например, голубя. Заметим, что в облике этой птицы изображается в народно-христианской традиции и Святой Дух (к примеру, на иконе «Отечество», хранящейся в Музее изобразительных искусств Республики Карелия). В связи с этим В. Клингер объясняет оборотничество как выход из человека наружу заключенной в нем зооморфной души. Так, природу ликантропии исследователь рассматривает следующим образом: тело волшебника лежит мертвым (временно или постоянно), в то время как вышедшая из него душа рыщет по свету в виде волка[3000]. Вместе с тем, если понимать человеческую плоть лишь как временную, данную от рождения одежду души, то раскрывается суть коллизии, достаточно типичной в фольклоре: перевоплощается тот, кто сменяет или снимает одежды. Тождество осмысления превращения и переодевания находит свое выражение и в языке. Не случайно в народных говорах слова, обозначающие и то и другое понятие, являются однокоренными: обёртень, обёртыш — перевертыш, перекидыш, оборотень; обертун, обертиха — знахарь, колдун, ведьма, оборотень; обвертывать, обвернуть — завертывать, кутать, оболокать; обвертень — широкая одежда мешком[3001]. Слово оборачиваться, в просторечии обворачиваться (обернуться — обвернуться) обозначает переряживание, покрытие себя («обвертывание») каким-нибудь одеянием. Кстати, в Новгородской губернии обрядовое ряженье, окручивание в мохнатые шкуры называлось кудесами. Отсюда кудес (кудесник, кудесница) — ряженый. Ср. с лат. larvo — околдовать, обворожить и larva — личина, маска, привидение[3002]. Мотив перевоплощения-переодевания наиболее полно развернут в сказке. Например, прилетают двенадцать колпиц (цапель), ударяются о сырую землю, оборачиваются красными девицами и, оставив свои сорочки, начинают купаться. Царевич «скрал» у старшей из них одежду. Девицы искупались, вышли на берег, подхватили свои сорочки и, обернувшись птицами, улетели. Осталась только старшая. Но и она как только получает от царевича сорочку, тотчас же оборачивается колпицей и улетает вслед за подружками[3003]. Набрасывание на человека так называемой пернатой сорочки или шкурки вместе с крыльями служит предпосылкой для перехода человека в ряд орнитоморфных персонажей. Перевоплощение девушки в птицу, происходящее по воле внявших ее просьбе богов, прекрасно описано в древнегреческой мифологии:
Овидий. Метаморфозы. 2. 581–589

Рис. 87. Китоврас (Полкан) и «парочка». Традиционная глиняная игрушка. Каргополь
Эквивалентом магическому поясу служит волшебное ожерелье (ошейник, хомут, узда, недоуздок и пр.). Не случайно мужик, которому, как говорится в бывальщине, сделалось тошно, нудно и захотелось непременно пролезть через хомут, становится волком и убегает в лес[3012]. Или же ведьма, набросив на солдата узду, ездит на нем верхом, и, наоборот, полковник, надевший узду на ведьму, превращает ее в лошадь[3013]. Уже в другой этнокультурной традиции, в частности, в датской песне, упоминается железный ошейник (eisenhalsband), надев который, человек превращается в медведя[3014]. Как некое воплощение магической силы оборотничества фигурируют в сказке опояска (ошейник) или обратка (недоуздок): их нельзя продавать вместе с тем домашним животным (собакой, лошадью), в которое обратился герой, прошедший «хитрую науку» у чародея. Заметим, что даже в обыденном крестьянском быту обретение оброти (недоуздка, узды без удил) символизирует полное владение тем животным, на которое она надевалась. Вот почему отдача оброти служила заключительным актом продажи, которым закреплялся факт покупки, после чего обе стороны пили «литки», или «магарыч». Пояс и опояска, обрать и обратка, прочие волшебные наузы, закрепляющие акт оборотничества, семантически и функционально тождественны между собой. Пояс и идентичные ему магические предметы приравниваются, в свою очередь, к обручу (т. е. кругу), что нашло свое выражение в загадке: «Днем как обруч, ночью как уж; кто отгадает, будет мой муж»[3015]. Набрасывание кольца либо кувыркание через обруч, как бы приравниваясь к опоясыванию, также обеспечивает ведьмам и колдунам перевоплощение. Пояс, осмысляемый в качестве замкнутого круга, символизирует приобщение к вечности. Узоры же плетения знаменуют собой предначертания судьбы[3016]. Подчас они заменяются словами. Вот какое благопожелание было запечатлено, к примеру, на одном из каргопольских поясов: «Съй поясок почтенной дъвицы Елизаветы Михайловны. Идет ныне время драгое текут дни златы сияет спокойствие совершенно»[3017]. Высказанное нами суждение не противоречит точке зрения А. Н. Афанасьева, который утверждает, что пояс является предметным выражением таинственной связи, которой обеспечивается соединение души с облекающей ее телесной одеждой; как только эта связь нарушается, душа покидает тело и остается на свободе до нового ее воплощения в ту или иную материальную форму[3018]. Важнейшим средством перевоплощения, согласно мифологическим рассказам и поверьям, служит кувыркание через голову, чаще троекратное. Смысл этого действа закодирован в языке, точнее, в его диалектах: перекувырнуть — перевертывать, перекувыра — перевертыш; перевертывать — оборачивать, превращать кого-либо во что-либо[3019]. Соответственно перевертываться — оборотиться самому в кого-нибудь. Из сказанного следует, что процесс кувыркания через голову осмысляется как совершающееся перевоплощение. Заключенный в нем дополнительный смысл обнаруживается при выявлении семантики используемых при этом атрибутов. Потенциальный оборотень кувыркается через нож (варианты: через два, несколько, но чаще через двенадцать ножей). «Кажется, теперь ножи втыкают в землю наоборот, рукояткой вниз»[3020], — пишет Д. К. Зеленин, объясняя это забвением первоначального магического смысла, который, по мнению исследователя, некогда имел данный акт: втыкая нож острием в землю, от нее требовали, чтобы она дала человеку силу превратиться в животное. На наш взгляд, однако, здесь нет искажения древнейших представлений: воткнутые остриями кверху ножи служат знаками-символами смертельной опасности и даже самой смерти, без чего перевоплощение, как мы уже говорили, состояться не может. Характерно, что эти ножи (топоры) втыкаются в пень (если дело происходит в лесу) или в землю у придорожной могилы, или в порог, стол, матицу (если перевоплощение локализуется в избе), наконец, с двенадцатью ножами и вилками между пальцами кувыркаются через огонь на печном шестке[3021]. Возможны синонимические замены данных локусов. Так, в Кадниковском уезде рассказывают: колдун приходит в лес, ударяет топором в пень и обращается в волка, чтобы загрызть скотину, принадлежащую человеку, на которого он по какой-либо причине гневается[3022]. Если пень осмысляется как жилище-эманация лешего, могила как локус предков, то порог, стол, матица, печной шесток маркированы в первую очередь знаками домового. Из сказанного следует, что данная версия реинкарнаций напрямую связана с представлениями о содействии ведунам в их оборотничестве со стороны самих духов-«хозяев».

Рис. 88. Дворик в селе Рыбрека. Южное Прионежье
Ту же семантику имеет и другая версиярассматриваемого мотива: «Через ребинину скачут (ведьмы. — Н. К.) и обворотится сорокой или собакой»[3023]. Вариант: ухватившись зубами за край осинового пня, на котором при рубке не было положено крестного знамения, чародей, перекидываясь через него на противоположную сторону, превращается в волка[3024]. Если в первом случае дерево (рябина) маркировано положительным знаком: это священное дерево-оберег, то во втором — отрицательным: осина соотносится с нечистой силой, к которой может причисляться и развенчанный леший. Все зависит от осмысления образа потенциального оборотня. Тот же эффект достигается при троекратном перепрыгивании через лежащее дерево: совершив подобное действо, чародеи становятся медведями и, охотясь в этом облике, приносят домой много добычи[3025]. Излюбленным средством перевоплощения в среде колдунов и ведьм является зелье, и в первую очередь тирлич-трава, о которой подробнее см. в главе «Ведуны-зелейники». Причем для создания новой плоти оно используется в сочетании с огнем (эту траву, нередко хранящуюся в кувшине в виде порошка, бросают «на жар») или же в сочетании с водой, в результате чего образуются различные настои, отвары, напитки — одним словом, «составы»: «„Если ты хошь поучить свою жонку, я тебе сделаю состав, ты приди, плесни ей в лицо и узнаешь, што будёт“. Мужик взял состав, пришол домой <…> он взял, ей составом в рожу и плеснул. Жона превратилась в кобылу (курсив мой. — Н. К.); он взял, сел на ней верхом и начал ездить»[3026]. Среднерусский вариант: муж «лихой ведьмы», облив «себе кругом лицо чем-то жидким из какого-то горщоночка», «скидывается», так же как и его жена, сорокой и улетает через печную трубу вслед за ней[3027]. Иная версия: магической жидкостью или мазью мажут себе под мышками и под коленками. В другой бывальщине некий колдун приготовил «питье» с намерением испортить свадьбу. Но собственные дети выпили магический напиток — и стали волками. Несчастному отцу пришлось просить односельчан, чтобы они не стреляли в волчат. Свидетельством того, что в состав таких жидкостей входит зелье и что именно ему принадлежит решающая роль в перевоплощениях, служат древнегреческие мифы:
Гомер. Одиссея. X. 233–240
Гомер. Одиссея. X. 315–320

Рис. 89. Заезжий двор в селе Дубово. Пудожье
В соответствии с мифологическим мировосприятием реинкарнация оказывается во власти лиц (колдунов, ведьм, знахарей, магов, шаманов). Будучи посвященными в эзотерические знания, они обладают магической силой, посредством которой способны управлять и подчинять себе различные души. Существует поверье, что колдун, зная имя человека, а имя и есть одно из вместилищ души, может по собственному произволу превратить его в оборотня; вот почему имя, данное при крещении, необходимо скрывать и называться иным, вымышленным. Тогда колдун окажется не властным над душой человека. Уходящая своими корнями в подобные верования мифологема находит для себя благодатную почву в бывальщине, сказке, равно как и в эпосе, предании, лирической песне. И лишь в редких случаях якобы совершающееся перевоплощение осмысляется как проявление способности чародеев морочить, напускать мару или мороку, отводить глаза окружающим: в результате никто не видит того, что на самом деле есть, а все видят то, чего вовсе нет. Это по сути приравнивается к гипнотическому воздействию. Иначе говоря, люди оказываются очевидцами оборотничества, которое на самом деле не имело места, но в которое они непоколебимо верят.
Обретение утраченного облика
Способы восстановления человеческих форм, утраченных в процессе реинкарнации, напрямую соотносятся со способами самого оборотничества. Если речь идет о перевоплощающихся колдунах и ведьмах, то они, как правило, по ночам рыщут дикими зверями или домашними животными, а днем сами по себе вновь обретают человеческий облик. Подневольные же оборотни зависимы и в плане восстановления изначальных форм. У некоторых из них это происходит по истечении предопределенного срока и как бы само собой: «Заколдованы были волками двенадцать человек на семь лет, и через семь лет вернулись домой только три мужика, а остальных настоящие волки разорвали»[3036]. Если предпосылкой к перевоплощению считается смерть (ее метафорическая замена: смертельная опасность), то она же служит и прелюдией к восстановлению. Не случайно в одной из бывальщин оборотню приписываются слова: «Ах, господа, да кабы кто меня убил»[3037]. Едва только перевоплощенца ударят вилами, цепом, осью или чем-либо иным по спине, как он тотчас же становится человеком: «Только свинья к парню подбежала, он изо всех сил наотмашь и ударил ее осью <…>. Эта свинья сделалась девкой (курсив мой. — Н. К.)»[3038]. Заметим, что в данной бывальщине, как и во многих других, ведьма-оборотень просит парня или мужика, ударившего ее: «Ударь еще раз!». Если б тот послушался, то она получила бы возможность перевоплотиться — и опять-таки через смерть — в иное животное или предмет и скрыться. Даже в сказке герой, прежде чем принять человеческий облик, хлопается («хлеснулся») о сырую землю или ударяется о пол и т. д. Тот же эффект достигается и посредством выстрела в оборотня или удушения его петлей и т. п. Перевоплощению в момент свадьбы соответствует, между прочим, восстановление утраченного облика на брачном ложе: «Один парень женился. Молодых испортили. Обернули ее медведицей. Пошла она в лес. Ее отворачивать. И отворотится она в женщину только через половое сношение с мужчиной. Мужик один полесовал и лег спать в станке (избушке). Медведица к нему пришла и давай с ним спать. Мужик с ней вступил в половую связь. Она обернулась женщиной»[3039]. В трансформированном виде эта коллизия имеет место и в сказке (например, «Царевна-лягушка», «Финист-ясный сокол» и др.). Реинкарнации, осмысляемой как оставление душой тела (оболочки, одежды) в момент временной смерти (сна) человека, адекватно обретение прежних форм по возвращении души в тело: «Когда мы вышли из подполья, то решили ждать возвращения ее (хозяйки — Н. К.). Через некоторое время слышим, стрекочет сорока, а немного погодя из подполья вышла хозяйка. Тогда мы с хозяином снова спустились в подполье и нашли под корытом накидку с крыльями (курсив мой. — Н. К.)»[3040]. Иначе говоря, душа вернула себе человеческую «одежду», оставив птичью под долбленым гробом-домовиной в подполье до следующего полета. Восстановление возможно в том случае, если оборотню удастся каким-либо способом сбросить с себя звериную шкуру. Это может произойти и само собой, по истечении предопределенного срока. У волколака лопается и соскакивает шкура — и он предстает человеком, подчас даже с крестом на шее, который был у него до перевоплощения[3041]. Но чаще оборотня приходится вызволять из звериной шкуры, прибегая к тем или иным способам. Например, избавитель, разведя костер, связывает у волколаков хвосты в один крепкий узел да как крикнет зычным голосом: «Не пора спать, пора вставать!» — те вскочат и рванутся бежать в разные стороны. Вот тогда волчьи шкуры с них и слетят[3042]. Впрочем, и сам по себе окрик какого-нибудь человека, и особенно в урочное (чаще «пороговое») время, избавит оборотня от чар. Или же, заметив перевоплощенца в виде собаки, посочувствовавшие ему люди топят баню как можно жарче, втаскивают туда злополучного пса, кладут его на полок и парят так, что с него слезает шкура — вот тогда перед ними вместо собаки и окажется знакомый парень из соседней деревни[3043]. В аналогичном украинском мифологическом рассказе отец избавляет сына от звериного обличья, взяв волколака за шиворот и как следует встряхнув. Шкура на нем треснула — и показался старший сын[3044]. В другом случае у птиц-оборотней вырывают из хвостов по перу, что равносильно снятию пернатой одежды. Или же стараются улучить удобный момент, когда оборотень сам снимет звериное или птичье облачение, и бросают шкурку в огонь. При этом жертва колдовства так или иначе освобождается от чар. Например, в сказке сжигается в огне лягушачья кожица, змеиная сорочка, свиной кожух и пр. Разумеется, ведьма или колдунья может сама по собственному усмотрению снимать с себя птичью или звериную оболочку, пряча ее в укромном месте, маркированном, однако, сакральными знаками, до следующего своего перевоплощения. Лишившийся такой оболочки утрачивает и способность к оборотничеству. Если же отнять у оборотня его человеческие одежды, то он не сможет восстановить утраченный облик. Коллизия многих мифологических рассказов как раз и сводится к тому, что на перевоплощенца накидывают его собственную или хотя бы чужую человеческую одежду: «Шел мимо добр человек, видит собака лежит, дрожит, а не лает. Скинул с себя кафтан, да волка прикрыл. Как пал на него кафтан целовеций, стал он опять человеком (курсив мой. — Н. К.)»[3045]. В другой бывальщине сама ведьма спустя определенное время покрыла каждого оборотня тулупом — и в ту же минуту все поезжане сделались людьми. Кроме того, согласно мифологическим рассказам и поверьям, оборотню можно возвратить былые человеческие формы, если надеть на него снятый с себя пояс, на котором должны быть узлы, причем при завязывании каждого из них полагалось произнести «Господи, помилуй». Едва пояс касался жертвы колдовства, как шкура спадала с нее и перед избавителем внезапно являлся человек. Того же результата можно достичь, если, приманив волколака «свячёным» хлебом, разорвать на нем пояс, находящийся под шерстью. Впрочем, прежний облик возвращается к оборотню и в том случае, если чародейный пояс сам по себе изотрется на нем и лопнет. Семантику, связанную с предопределением судьбы, с течением жизни, имеет, как мы уже говорили, и ожерелье или повязка на шее. В немецкой мифологии зафиксирован рассказ о гусе-оборотне, который однажды покусался с другой птицей, и та сорвала у него с шеи волшебную повязку; едва только это случилось, как гусь сразу же превратился в человека. Аналогичная роль в возвращении оборотню утраченного облика принадлежит и узде: «Когда кузнецы подковали к задьним и передьним ногам подковы, солдат сел и поехал. Приезжаёт в свой город, сдёрнул узду, — и очутилась старуха: лежит на пече — руки и ноги выздынула, а у рук и у ног прикованы подковы»[3046].
Рис. 90. Звонница часовни в деревне Котчура. Южная Карелия
При возвращении к изначальному облику важно произвести действие, прямо противоположное тому, которое использовалось при оборотничестве. По этой логике перевоплотившийся посредством кувыркания через пень восстанавливается в прежних формах, перекувырнувшись точно так же, но только с противоположной стороны. Из мифологических рассказов выясняется, что это под силу лишь «знающим» людям, простые же смертные, несмотря на все попытки, могут и не суметь «откинуться» обратно: «Жены двух братьев пошли однажды за водой. Одна из этих женщин была колдунья. Увидев, что в их озимь попало стадо овец, колдунья положила на землю свое дерево (т. е. коромысло), перекинулась через него и обратилась в волка. Сноха ее вздумала сделать то же, и ей это удалось. Колдунья, прогнав овец, вернулась и опять обратилась в женщину, а сноха ее уже не могла. Так она и осталась волком»[3047]. Как и в случае с оборотничеством, при возвращении к человеческому облику часто используется в качестве атрибута восстановления нож: «перекинувшись» через него, оборотни вновь делаются людьми. Такое же значение имеет и топор. Перевоплотившемуся посредством удара топором в пень для восстановления утраченных форм следует лишь вытащить его из пня[3048]. Но горе тому, кто, приняв звериное обличье, а затем пожелав вернуться к изначальному состоянию, не находит на месте оставленный им атрибут колдовства (нож или топор). Напрасно он будет с жалобным воем бежать за уносящим этот магический предмет. Несчастный так и останется в звериной шкуре, пока избавитель не найдет способа вызволить его из беды. Магический акт восстановления человеческого облика обеспечивается и ударом тростью, особенно если это действие сопровождается словами заговора или заклинания: «Ударила (теща-ведьма. — Н. К.) тросью о землю: „Не быть тебе кобелём, быть тебе таким жо молодцом!“ Зделался такой жо, как и раньше был»[3049]. Известны и христианизированные варианты подобной вербальной магии: «Отверни тебя, Господи, и очисти твое тело святыми молитвами и своими ду´хами!»[3050]. Подобными словами придается определенный смысл и направленность колдовскому действу, усиливаются его потенциальные возможности. Причем заговоры и заклинания способны не только нейтрализовать, но и предотвратить действие чар. Так, магические слова, оберегающие молодых от превращения в волков, на свадьбе произносит обычно дружка. Помимо специальных формул, в них содержатся и употребляемые при лечении болезней. Таким образом, в поздней мифологической прозе оборотни предстают как носители «черного» знания или же как их жертвы. Вредоносное воздействие этих персонажей, приравниваемое к порче, нейтрализуется всевозможными предметными оберегами и заговорами. Их функции, некогда определяемые соответствующими тотемистическими обрядами и верованиями, утрачивались по мере угасания последних. С принятием же христианства метаморфозы, как отмечает Ю. Миролюбов, становятся «знаком неблагоприятным, ибо за ними были старые Боги, от которых Славянин отказался»[3051].

Заключение
Мы рассмотрели былички, бывальщины, легенды, поверья о людях, обладающих эзотерическими знаниями и магическими способностями. В образах ведунов и чародеев, известных под самыми разными наименованиями, общепринятыми и диалектными, по сути, персонифицируется та или иная их составляющая, а именно: посвященность в тайные знания, основная функция, способ действия, атрибутика, характерный признак и даже соотнесенность с определенным мифическим существом. Ведуны и чародеи осмысляются в поздней традиции преимущественно как приспешники нечистой силы. Однако не надо забывать, что в ранг последней под влиянием христианства нередко трансформировались былые языческие божества. Даже в поздних мифологических рассказах некоторым «знающим» отчасти удалось сохранить за собой преемственную связь с волхвами — служителями светлых языческих богов или эквивалентных им персонажей. Характерно, что по мере развенчания этих кумиров их благодетельные функции были перераспределены между персонажами народно-христианской мифологии, что, в свою очередь, ускорило процесс негативного переосмысления прежних культов. Акт передачи — усвоения эзотерического знания, или обряд посвящения в колдовство, оказался в фокусе многих быличек и бывальщин, основанных на том или ином «бродячем» сюжете. Имеются в виду мифологические рассказы о людях, проглоченных и заново рожденных зооморфным существом (тотемным предком, священным животным), о временной смерти неофита и воскресении его уже в качестве человека, обладающего магическими способностями, что в сущности сближает данный обряд с обрядом инициаций. Более позднюю версию содержат рассказы о людях, обретающих тайное знание, магическую власть и чудесных помощников от духов-«хозяев», во многом все еще удерживающих зооморфные признаки, либо непосредственно от носителей традиции колдовского искусства. Через преемственную связь духов-«хозяев» с тотемным предком, о чем нам уже доводилось писать, вновь и вновь реализуется сложившийся в недрах первобытной мифологии архетип. Деятельность всевозможных ведунов и чародеев, согласно быличкам, бывальщинам, поверьям, в известной степени регламентируется сакральным хронотопом. Она стимулируется посещением «этого» мира в определенный момент или даже период существами из потустороннего мира. В данной традиционной коллизии «знающим» принадлежит роль посредников между людьми и мифическими пришельцами. Сакральное время (чаще оно приходится на тот или иной календарный праздник) отмечено знаками «перехода» («порога»), имеющего разные уровни. Прежде всего это окончание старого — начало нового годового цикла (первым месяцем года в различные эпохи на Руси считался то март, то сентябрь, позднее — январь). «Порогом» отделяются друг от друга и суточные, и недельные циклы; месячный же период в русской традиции выражен менее отчетливо. Вместе с тем знаками «перехода» маркируются зимний и летний солнцеворот, а также сезонные кругообороты, вследствие чего сакральным считается «порог» зимы — весны, весны — лета, лета — осени, осени — зимы. Добавим к сказанному, что к числу подобного рода «переходов» относятся и равноденствия, весеннее и осеннее. Мало того, в русской мифологической прозе заметны, хотя они и сохранились лишь в рудиментарных формах, признаки отсчета времени не только по солнечному, но и по лунному календарю. Такого рода смешения, переплетения, наслоения не позволяют воссоздать единую целостную систему сакрального времени, тем более что многие из ее элементов уже христианизированы. Подобное осмысление времени «перехода» закономерно сочетается с представлениями о его прерывности, что чревато вторжением в «этот» мир вследствие образовавшейся «дыры» сил хаоса. Предотвращая разрушение мироздания, ведуны посредством соответствующих обрядов всякий раз заново замыкают разомкнутый круг, восстанавливают нормальное течение времени, воссоздают космоприродный ритм, обеспечивают бесперебойный ход бытия. В качестве же сакрального локуса как места акциональной и вербальной магии в мифологических рассказах представлена крестьянская изба, некогда составлявшая синкретическое единство с баней и осмысляемая в народных верованиях как языческий храм. Отчасти эти представления закрепились и за хозяйственными постройками, постепенно дифференцировавшимися от традиционного жилища. Сакральными знаками-символами маркируются в мифологических рассказах также лес и река. Но, пожалуй, самым излюбленным для повседневной колдовской практики локусом считалась росстань, т. е. перекресток дорог. Именно здесь, согласно народным рассказам и верованиям, наблюдалась наибольшая концентрация всевозможных духов-«хозяев», умерших предков и просто покойников, равно как и божеств судьбы, роль которых, однако, в процессе долгого бытования взяли на себя иные, сопредельные, сохранившиеся в традиции мифологические персонажи. Программирование же бытия и судьбы осуществлялось на Лысой горе либо в приравненных к ней локусах. Здесь участницы ведовского шабаша, имеющего некоторые признаки тотемического праздника, призваны были стимулировать посредством определенных магических действий дальнейший круговорот, упорядоченность и благополучие в социуме, природе, космосе. В этом смысле ведьмы, слетевшиеся на шабаш, оказались функционально тождественными тем рукодельницам, которые, дублируя роль прядущих (вяжущих, плетущих, ткущих, шьющих, вышивающих) мифических существ, обеспечивали плавное течение времени, программирование предначертаний судьбы. Во власти ведунов все бытие. Создание — снятие экстремальных, кризисных ситуаций — их важнейшее предназначение. В фокусе внимания колдунов, ведьм, знахарей оказывается прежде всего жизненный цикл человека: рождение, брак, смерть. Посвященные в тайное знание могут манипулировать стихией рода, плодородия, способствовать зачатию или противодействовать ему. От них зависит и благополучие родов. Вот почему та же повивальная бабка изображена в быличках и бывальщинах как обладательница не только рациональных, практических навыков, но и определенных правил и запретов, относящихся к области иррационального и сверхъестественного. Столь же значительна роль ведунов и в моделировании брачных отношений. В роли устроителей будущей свадьбы представлены в мифологической прозе обладающие тайными знаниями сват или сваха. В процессе же самого свадебного ритуала программируют судьбу молодых дружка, колдун, причитальщица (ее роль значительна и на похоронах). Важнейшая задача дружки (колдуна), согласно быличкам и бывальщинам, предотвратить возникновение кризисных ситуаций, не допустить вмешательства сил хаоса, а в случае их проникновения в человеческое бытие нейтрализовать вредоносное воздействие этих сил. В распоряжении колдунов и супружеские отношения, которые они регулируют и корректируют в желаемом направлении. Властны «знающие» и над самим бытием человека, нередко ввергая его в состояние болезни, характеризуемое как пребывание «ни здесь ни там». Удерживая «пациента» «здесь» и возвращая его из полубытия, ведун-врачеватель восстанавливает, обновляет, укрепляет здоровье больного, по сути, репрезентируя всякий раз акт первотворения. Согласно мифологическим рассказам и поверьям, среди чародеев были и такие, которые властвовали над стихией урожая, плодородия, над удачей на рыбацких и охотничьих промыслах, в торговом деле. Они осмыслялись в народных верованиях как распорядители, властители, а подчас и как средоточие «спорины», «спорыньи», «обилия», т. е. магической силы, обеспечивающей прирост, увеличение урожая, плодовитости скота. В этом качестве ведуны восходят к персонажам тотемного характера, давшим начало определенному виду растений либо животных и воплощающим в себе ту жизненную силу, которой обусловливается непрерывность воспроизводства каждого из них. Названные персонажи господствуют не только в социокосме, но и в макрокосме. Сам космос (миропорядок), равно как и природные стихии (дождь, ветер и пр.), подчинены их воле. Они связаны со всем мирозданием в целом и с каждым из его составляющих в отдельности. Ведуны осмысляются в качестве центра, вокруг которого вращается остальной мир, что, по сути, служит проявлением своеобразного антропоцентризма. От исхода извечного противоборства, ведущегося между силами добра и зла, белого и черного знания в соответствии с мифологической логикой зависит благополучие в бытии социума, устойчивое равновесие в универсуме. Могущество обладателей эзотерического знания, имеющего множество конкретных проявлений, наиболее детально показано нами на примере ведунов-зелейников, которые в силу сложившейся традиции ранее осмыслялись преимущественно как знахари, пользующие больного целебными травами. Поскольку семантика их образов оставалась до сих пор неизученной, ведуны-зелейники часто оказывались за пределами собственно мифологических персонажей, а их знание — соответственно — за пределами эзотерического. А между тем и по источнику ведовства, и по присущим им функциям зелейники мало чем отличаются от прочих чародеев, специализирующихся в той или иной области колдовства. Правда, в отличие от прочих «знающих», они обретают свой чудесный дар нередко от самих растений, а точнее, от их духов, по сути приравненных к духам-«хозяевам». Однако, как и все другие чародеи, зелейники могут воспринять тайное знание от священного животного или от опытного колдуна. Подобные цветы и травы в одних случаях выступают как персонажи — прежде всего как чудесные помощники своего обладателя. В других же это атрибуты — магические предметы, добытые ведунами-зелейниками. Волшебные растения могут иметь признаки человека, зверя, птицы либо те и другие и третьи одновременно. У них есть своя родословная, так сказать, жития, из которых выясняется, что их фитоморфный облик — следствие перевоплощения, обусловленного смертью (эквивалент: смертельной опасностью). Мифические цветы и травы наделяются речью, полом, родством и даже тайными знаниями. Сущность подобных представлений определена, пожалуй, как никем другим, Данте:Божественная комедия. 25.52–55. Перевод М. Лозинского
Часть III Человек на перепутье миров
Предисловие
Познание начинается с удивления.Аристотель
Человек должен непоколебимо верить, что непостижимое постижимо, иначе он ничего не сможет исследовать.И. В. Гёте


В этой части книги речь пойдет о духовной жизни русского народа, во многом определяемой общемировоззренческими идеями, философско-антропологическими взглядами и религиозно-этическими постулатами христианского вероучения, воспринятыми и освоенными данной этнокультурной традицией. Объектом изучения в настоящей работе станут три цикла легенд, впервые соотнесенных между собой в рамках единого исследования. В этих нарративах повествуется о поисках и посещениях потусторонних миров, о человеке, оказавшемся на распутье ведущих к ним дорог. Речь идет о «том свете», или загробном мире, о затонувших городах, маркированных в русском фольклоре узнаваемым знаком Китежа, о «далеких землях», символом которых в данной этнокультурной традиции служит Беловодье. Легенды о «том свете» основываются на сформировавшихся еще в язычестве представлениях о мире мертвых, который тогда изображался качественно однородным. Лишь под воздействием христианского вероучения и выработанной им идеи воздаяния, этот запредельный локус дифференцировался на две противопоставленных друг другу сферы — ад и рай. В аллегорических картинах мучений грешников и блаженства праведников воплотилась вся совокупность нравственно-этических норм и религиозномировоззренческих постулатов русского народа, предусмотренных на любой (подчас — мельчайший) случай в человеческом бытии. Они-то и служат критериями, по которым соизмеряются подлинные ценности того или иного социума либо каждого конкретно взятого индивида. Другие из названных циклов легенд повествуют о поисках сокровенных земель. Согласно этим нарративам, оба сакральных локуса (Китеж и Беловодье) возникли в моменты эсхатологических кризисов (в рассматриваемых легендах они оказались приуроченными к таким различным по времени и характеру событиям, как монголо-татарское нашествие, раскол Русской православной церкви). Именно в эти моменты нарушилось правильное течение бытия, устойчивое равновесие в мироздании, в результате чего в него вторглись разрушительные силы хаоса, сопричастные смерти. И та и другая легенда сформировалась под воздействием широко распространившихся в народе, и особенно в среде старообрядцев, эсхатологических представлений о воцарении в мире Антихриста, о приближающемся конце света, о завершении вселенской истории человечества и, соответственно, о необходимости бегства из этого мира ради спасения души. Найти же спасение от духовной погибели можно в сокровенном Китеже или Беловодье. С одним из этих сакральных локусов связаны представления о затонувших, провалившихся либо ушедших в гору, ставших невидимыми городах и строениях. В другом воплотились надежды на существование «далеких земель», осмысляемых как «инобытийная дальность» (термин Е. С. Яковлевой), сохранившая идеальные черты «начала времен». Такое «начало» имеет свою темпоральную иерархию: в данном случае оно связано с ранним периодом распространения христианского учения, к которому восходят истоки «древлего благочестия». Не каждому, по легендам, удается найти стезю в сокровенную землю. Не всякий может пройти по пути, ведущему туда, поскольку это не просто путь. В контексте христианской символики пространственное перемещение по нему символизирует духовный подъем над суетным, бренным, преходящим и религиозно-нравственное совершенствование, достигаемое посредством подвижничества. Соответственно, открывшиеся перед «взыскующим града» ворота знаменуют обретение им полной веры и абсолютной праведности. Вошедший же в Китеж или Беловодье пребывает в высшем состоянии бытия, ибо локализованный здесь рай (либо преддверие Небесного Царства) осмысляется не столько как эмпирическое пространство, сколько как сверхчувственное состояние: это «град духовный». Представления о Китеже и Беловодье христианизировались в соответствии с общими процессами, происходящими в русской культуре. Однако даже в христианизированных фольклорных образах различимы лежащие в их основе архетипы, которые сложились в древней мифологической традиции. Они живут в генетической памяти поколений, передающих свое культурное наследие по законам преемственности. Эти же первообразы пульсируют и в «сверхличном, или коллективном, бессознательном», что со всей очевидностью проявляется в народном творчестве, и особенно в мифологии, которую К. Г. Юнг отождествляет с «коллективной психикой, а не индивидуальной». Выявление универсалий, присущих легендам о сокровенных землях, раскрытие истоков и семантики заключенных в них образов и коллизий, осуществимо лишь в рамках типологического исследования, которое мы и предпринимаем в настоящей работе.
Глава I Китеж: легенды о провалившихся городах
«Эзотерически эта легенда вскрывает важную реальность человека и народов. Глубокой человечностью преломилось сказание о Граде Китеже в русском сознании <…>. Русское сознание питается правдой, лежащей в основе мироздания».Архиепископ Иоанн Сан-Францисский
Китеж-град, ладан Саровских сосен — Вот наш рай вожделенный, родной.Н. А. Клюев
Некоторые предпосылки к постановке вопроса

Объектом исследования в данной главе служит цикл легенд о сокровенных городах либо объектах, которые провалились в землю, затонули в море, озере, пруде, роднике, болоте либо «ушли» в гору, а то и просто «убежали» («перебежали») из одной местности в другую. В орбиту этого цикла, помимо легенд, вовлекаются и другие нарративы: предания, былички, бывальщины, рассказы, поверья. В фольклорной традиции они представлены различными версиями и вариантами.

Рис. 1. Ансамбль погоста в Сумпосаде (реконструкция). Карельский берег Белого моря
Эквивалентом городу (селению) в этих произведениях может служить монастырь или храм (собор, церковь, часовня), метонимическим эквивалентом которого нередко оказывается колокол, а также хоромы (дом, изба). Между данными объектами в силу символизма, присущего древнему мировосприятию, рассказчики не видят особого различия: «<…> слыхали-де от своих стариков, что тута был город, который прозывался Монастырем, и тот-де старинный город (курсив мой. — Н. К.) невесть когда провалился в озеро»[3052]. Точно так же с городом подчас ассоциировалась церковь, осмысляемая как Град Божий, Град духовный. И уж само собой разумеется, церковь отождествлялась с домом: это Дом Божий, Дом Господень, а дом, в свою очередь, — с храмом, правда, языческим. Мало того, в соответствии с архаическим мировосприятием сама Вселенная представлялась то монастырем, то собором, то городом. Вообще, в фольклорном сознании границы между теми или иными объектами нередко размывались в силу «четырехсмысленного» толкования их образов, зависевшего от того, какое из четырех значений: буквальное, аллегорическое, тропологическое либо анагогическое, т. е. возвышенное, — придавалось в конкретном случае каждому из них[3053]. К интересующему нас циклу примыкают и легенды о сокровенных колоколах: они, будучи средоточием некой сущности города или села, монастыря или храма и являясь, по сути, их метонимическим эквивалентом, оказываются, подобно самим этим объектам, поглощенными водой, землей, горой. Данный «бродячий» сюжет, основанный на мотиве «провалища», известен в различных этнокультурных и локальных традициях. К его рассмотрению ученые обращались неоднократно, и прежде всего с целью определения круга фольклорных текстов, сформировавшихся по образцу одной и той же модели, хотя и представляющих собой различные варианты и версии. Такого рода задачу первым из отечественных исследователей отчасти решил Н. Ф. Сумцов. В своей статье «Сказания о провалившихся городах» (1896)[3054] он приводит обзор легенд,относящихся, по сути, к одному и тому же типологическому ряду, но принадлежащих различным этнокультурным традициям Европы, Азии, Африки и приуроченных к различным местностям и ландшафтным объектам. Выявленный тогда круг произведений со временем был дополнен В. Н. Перетцем, П. Л. Лавровым, Х. М. Лопаревым. Так, в статье В. Н. Перетца «Несколько данных к объяснению сказаний о провалившихся городах» (1904)[3055] содержатся извлечения из памятников древнерусской литературы и славяно-русских рукописей, свидетельствующие о распространенности данного сюжета в книжной и рукописной традициях русского народа. Ряд фольклорных аналогов, принадлежащих русской и немецкой этнокультурным традициям, приводится в статье П. Л. Лаврова «О поклонении озерам и текучей воде и о легендах о затонувших городах» (1917)[3056]. Рассмотрения этого сюжета, связанного преимущественно с местностями на территории Италии, коснулся и Х. М. Лопарев в своей статье «К легенде о потонувших городах» (1914)[3057]. Таким образом, уже при первых подступах к изучению названного «бродячего» сюжета, носившему на этом этапе в основном описательный характер, был обозначен путь к его сравнительно-типологическому исследованию, которое, однако, в отечественной фольклористике остается до сих пор неосуществленным. Наряду с изложением фактического материала Н. Ф. Сумцов, В. Н. Перетц, Х. М. Лопарев, П. Л. Лавров поднимают вопрос о реальных предпосылках формирования мотива «провалища». Как следует в первую очередь из работы Х. М. Лопарева, а отчасти и Н. Ф. Сумцова, В. Н. Перетца, зерном легенды о затонувших городах или, во всяком случае, толчком к закреплению «бродячего» сюжета за определенной местностью послужили реальные природные катаклизмы: землетрясения, карстовые провалы, вулканические извержения, наводнения, приведшие к изменениям прежнего ландшафта. Впрочем, Х. М. Лопарев не исключает и роли слухов, домыслов в конкретных реализациях данного сюжета: «Погиб ли, погибал или только рисковал погибнуть город, — книжник подводил его под рубрику „погибель городов“. Эта неточность могла ввести в заблуждение последующих писателей»[3058]. Иной точки зрения относительно становления интересующих нас произведений придерживается П. Л. Лавров. Следуя концепции, выработанной к этому времени мифологами, исследователь утверждает, что фантастические города, отражение которых якобы появляется — исчезает в воде, — это на самом деле облака, принявшие причудливую форму и, соответственно, вырисовывающиеся — рассеивающиеся в небесном пространстве. Причем на этот первичный пласт легенды, по мнению автора, наслоились элементы мифологического, нравственного, физического характера. Так или иначе мотив «провалища» города или конкретного объекта напрямую не соотносится с реальными фактами. Его же географические реалии служат лишь средством выражения пространственной символики, связанной с мифологической топографией и обозначающей локализацию некоего сакрального духовного центра. Вот почему, несмотря на, казалось бы, явную достоверность своих координат, так и не были обнаружены ни Китеж, ни Винета, ни Атлантида. И даже якобы найденная Г. Шлиманом гомеровская Троя на поверку оказалась вовсе не Троей, а иным, значительно более ранним поселением (его памятники принадлежат крито-микенской культуре и датируются III–II тыс. до н. э.). Особенности ландшафта лишь стимулируют привязку «бродячего» сюжета к данной местности, но отнюдь не гарантируют достоверности связанного с ними повествования. К разгадке «механизма» подобной соотнесенности приблизился, на наш взгляд, В. Л. Комарович. Ученый объяснил этот феномен «встречей язычества с христианством в лице этнически разнородных носителей того и другого (например, южных славян и греков, балтийских славян и германцев, бретонских кельтов и франков, литовцев и поляков)»[3059]. Кстати, это суждение подтверждается и на материале преданий. Именно в условиях ранних контактов славянских поселенцев с аборигенами края чудь, по словам рассказчиков, «в землю ушла»[3060]. Помимо подступов к типологическим изысканиям, предпринята и попытка классификации произведений, основанных на мотиве «провалища», в рамках одной этнокультурной традиции. Имеется в виду статья Б. Кербелите «Литовские предания об исчезнувших городах» (1963)[3061]. В ней рассмотрение различных вариантов и версий данного сюжета увязывается с определением жанровой принадлежности каждого из привлеченных к анализу текстов. Эти произведения, по мнению автора, хотя и содержат в своей основе один и тот же мотив, все же оказываются в орбите разных жанровых систем: предания, сказания, легенды, былички. Освещению в этом аспекте подверглась и одна из локальных традиций. Своего рода реестр подобных произведений, принадлежащих в основном костромской фольклорной традиции, приводит (с кратким изложением их содержания) В. Смирнов в своей статье «Потонувшие колокола» (1923)[3062]. Однако основное место в цикле легенд о сокровенных городах, пожалуй, принадлежит легенде о невидимом граде Китеже, представленной многочисленными произведениями, в которых отразилась духовная реальность русской жизни. Большинство из них были опубликованы в антологии В. Н. Морохина «Град Китеж» (1985)[3063]. Помимо фольклорной, заметная роль в формировании этой легенды принадлежит и рукописной традиции, в значительной степени сводящейся к фиксации и обработке устных текстов. Речь идет в первую очередь о «Книге глаголемой летописец» (конец XVIII в.), условно называемой в научном обиходе «Китежским летописцем». Имеющая хождение во множестве списков среди местных жителей, она была наиболее популярна в кругу бегунов, или странников (в качестве одного из течений старообрядчества странничество известно в 60-х гг. XVIII в.). Списки «Книги…» распространялись и среди паломников, отовсюду (из Нижегородской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Вятской губерний, даже из-за Перми и Урала) стекавшихся к озеру Светлояр, расположенному близ села Владимирского, Макарьевского уезда, Нижегородской губернии (ныне это Семеновский район Нижегородской области). Светлояр расположен примерно в 100 км от Городца. Со второй половины XIX в. своей исключительной популярностью легенда о невидимом граде Китеже обязана литературному творчеству. Как известно, она была использована в рассказе П. И. Мельникова-Печерского «Гриша» (1860) и в его же романе «В лесах» (1875), в очерке В. Г. Короленко «На Светлояре» (1890), в очерке З. Н. Гиппиус «Светлое озеро» (1904), в повести М. М. Пришвина «У стен града невидимого» (1909), в романе Д. С. Мережковского «Антихрист» (1905) и в его же очерке «Не мир, но меч. К будущей критике христианства» (1910), в повестях М. Горького «Фома Гордеев» (1899), «В людях» (1916), в «Рассказе проезжего человека» (1917) А. Н. Толстого, в романе К. А. Федина «Города и годы» (1924) и в других произведениях. В качестве сакрального символа этот образ фигурирует в поэме А. Н. Майкова «Странник», в стихотворении С. М. Городецкого «Алый Китеж», в «Красной песне» Н. А. Клюева, в «Отрывках из послания» М. А. Волошина. Реминисценции этого образа ощутимы в поэзии Ф. К. Сологуба, А. А. Навроцкого, Б. П. Корнилова, А. А. Ахматовой, М. С. Петровых и в творчестве других авторов. Эта легенда освоена и в музыкальном искусстве: в опере Н. А. Римского-Корсакова (либретто В. И. Вельского; декорации к первой постановке выполнены А. М. Васнецовым и К. А. Коровиным) «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907), а также в опере-кантате С. Н. Василенко «Сказание о граде Великом Китеже и тихом озере Светлояр» (1902) и в одноименной кантате В. Л. Метцеля. О приобщении к народной традиции, связанной с большой исторической, национальной и религиозно-философской тематикой, мастеров профессионального искусства проникновенно сказал архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской): «Познание духовной глубины Светлояра вышло из народа и идет к народу волнующим своим сказом. Веянием своего духа оно исходит из русской культуры и возвращается в нее <…>. Светлояр — „золотая жила“ художников, поэтов, композиторов, мыслителей, которым доступна духовная глубина жизни. Эзотерически эта легенда вскрывает высшую реальность человека и народов»[3064]. Тексты, прошедшие литературную обработку, возвращаясь в устную традицию, претерпевали вторичную фольклоризацию, постепенно смыкаясь с вариантами, не прекращавшими в ней своего бытования. Впрочем, сходные процессы в плане взаимодействия устной традиции и книги коснулись и других жанров фольклора, в частности сказки и былины, как это выявлено современными исследователями[3065]. Востребованность легенды обеспечила ей столь интенсивное бытование, что в орбиту ее сюжета оказались вовлеченными и нарративы, известные в иных локальных традициях в качестве самостоятельных произведений. При этом мотив «провалища» имеет разный диапазон варьирования, то расширяясь, то сужаясь в своих пределах: от города (села) — монастыря (храма) — дома (избы) до некоего сакрального атрибута, в качестве которого, как уже говорилось, чаще всего фигурирует колокол.

Рис. 2. Носители фольклорной традиции
И еще одна существенная особенность легенды о невидимом граде Китеже. Она бытовала в среде старообрядцев, и особенно бегунов, или странников, с их эсхатологическими настроениями, обусловленными идеей бегства «от Антихриста», с их верой в благодать невидимой церкви, которая, по определению С. Дурылина, с избытком покрывает все недостатки видимой, с их убеждением, что Китеж — Светлояр-озеро — единственное место (мы бы сказали: некий сакральный духовный центр) на Руси, где господствует старая, истинная вера, с их поисками «сокровенного града» и взысканием «земного рая». Однако соотнесение китежской легенды со сходными в плане типологии фольклорными произведениями послужит в предстоящем исследовании надежным разграничителем различных слоев легенды — ее традиционной основы и последующих привнесений, обусловленных временем и средой бытования. Тем более, что архетип подобных легенд сложился задолго до раскола Русской православной церкви и задолго до нашествия Батыя, ко времени которого рассматриваемое произведение хронологически приурочено. В силу особой приверженности старообрядчества к традиции, которая имела для него высшую ценность, на поверхность были вынесены (правда, уже в специфической интерпретации) и те пережитки язычества, с которыми столетиями боролась церковная власть. Легенда о невидимом граде Китеже неоднократно становилась объектом исследования. Преимущественно в историко-литературоведческом аспекте она была рассмотрена в монографии В. А. Комаровича «Китежская легенда: опыт изучения местных легенд» (1936)[3066]. В этой работе автор выявил основные составляющие «Книги глаголемой летописец», сформировавшейся, по его мнению, в качестве единого целого к 80–90-м гг. XVIII в. Для анализа этого памятника В. Л. Комарович привлекает, помимо иных источников, и фольклорные тексты, одни из которых были им записаны в 1925–1926 гг. в окрестностях Светлояра, другие же обнаружены в различного рода публикациях. Касаясь вопроса об истоках светлоярских легенд, Б. А. Комарович наряду с отголосками неких «бесовских игрищ» отмечает в них (вслед за П. И. Мельниковым-Печерским) пережитки купальских празднеств и радуничной обрядности, соотнесенной с погребально-поминальным ритуалом славян и культом предков. Причем соотнесенность с радуничными обрядами «окликания» покойников выглядит, на наш взгляд, более обоснованной. Этнографический аспект рассмотрения китежской легенды получил освещение в статье В. Н. Басилова «О происхождении культа невидимого града Китежа (монастыря) у озера Светлояр» (1964)[3067]. Автор считает ошибочным утверждение В. Л. Комаровича о купальских истоках почитания невидимого града (монастыря). Признавая «языческий вид» светлоярского культа, он объясняет этот феномен вторичным рождением древних религиозно-магических представлений, что было возможным именно в старообрядческой среде, отличающейся консерватизмом и, к тому же, в значительной своей части оказавшейся за пределами влияния официальной церкви. Культ сокровенного города (монастыря) у озера Светлояр, по мнению В. Н. Басилова, возник не ранее конца XVII в. как конкретное проявление «основной идеи Раскола — учения о приходе в мир антихриста и необходимости бегства из мира для спасения души». Однако в качестве одного из собирателей светлоярских легенд исследователь не мог не признать, что в процессе длительного бытования некоторые из вариантов легенды могли и утратить свой более ранний, первоначальный смысл. Вниманием ученых не был обойден и фольклористический аспект интересующей нас проблемы. Именно его рассмотрению посвящена статья Н. И. Савушкиной «Легенда о граде Китеже в старых и новых записях» (1972)[3068]. В ней основное внимание уделяется устным текстам, где религиозные мотивы, по мнению автора, не так сильны, как в письменной версии этой легенды. В формировании данного фольклорного произведения, как справедливо отмечает Н. И. Савушкина, участвуют различные по своему характеру жанры: исторические предания о вражеском нашествии; древние христианские легенды о сокровенных обителях и об исчезнувших с лица земли (затонувших, провалившихся) за грехи людей городах и селениях; поверья, связанные с дохристианским культом воды. Автор последовательно выявляет в составе устной легенды о граде Китеже ее варьирующиеся компоненты, которые в конкретных текстах выступают то самостоятельно, то в сочетании с другими. Перечислим эти составляющие: А — постройка Китежа, В — Китеж в опасности, С — чудесное спасение Китежа, D — Китеж существует, его местонахождение, Е — существование Китежа подтверждается вестями из него («видениями»), F — общение с жителями Китежа, G — возможность побывать в Китеже или уйти туда навсегда. Аналогичным образом обнаруживается и состав устных рассказов о необыкновенных свойствах Светлояра и его окрестностей. Сравнивая старые записи с новыми, сделанными экспедицией МГУ в 1968 г., Н. И. Савушкиной удается проследить изменения, происходящие в структуре легенды на протяжении более чем столетия. Однако ни «прочтения» сюжета как такового, ни рассмотрения его в контексте других локальных или этнокультурных традиций в этой статье не предпринимается. Некоторые подступы к изучению легенд о невидимом граде Китеже в настоящее время предприняты и автором этих строк. В опубликованной нами серии статей[3069] «провалище» интерпретируется как знак нарушения гармонии в мироздании, вследствие чего в него вторгаются силы хаоса. В результате сакральный локус перемещается в иной континуум, оставляя на земле следы своего пребывания в виде конкретных ландшафтных объектов. Эти объекты, определяя особенности мифологии пространства, в качестве почитаемых мест являются точками соприкосновения сакрального и профанного миров. В данных статьях рассматривается вопрос о соотношении бытия и инобытия, о контактах между мирами, о способах коммуникаций между простыми смертными и китежскими праведниками, что регулируется правилами древней погребально-поминальной обрядности. Основанные на мифе о вечном возвращении, легенды о невидимом граде Китеже манифестируют идею реинтеграции райского существования в возрожденном космосе. (Других работ, где в основном излагается фактический материал или же где данная тема занимает лишь периферийное положение, мы в той или иной связи коснемся в процессе самого исследования.) Наша задача — рассмотреть легенду о невидимом граде Китеже в едином типологическом ряду произведений, повествующих о сокровенных (провалившихся в землю, ушедших в горы, затонувших или просто ставших невидимыми) городах (селах, домах либо монастырях, храмах, колоколах), а также о «перебежавших» из одной местности в другую церквах. Всю совокупность нарративов, относящихся к данному циклу и принадлежащих различным локальным и этнокультурным традициям, предполагается «прочесть» как единый фольклорный текст (разумеется, с учетом общего и специфического, стабильного и лабильного в структуре произведений). На этом пути представляется возможным выявить архетип, который пульсирует в вариантах и версиях анализируемого «бродячего» сюжета и который определяет их структуру и семантику. В процессе исследования легенд о сокровенных городах, рассматриваемых в фольклорном контексте должна обнаружиться та универсальная модель, по «образцу» которой формируются данные тексты. Поскольку эта модель, на наш взгляд, в первую очередь соотносится со структурой древней погребально-поминальной обрядности, особое внимание предполагается уделить проблеме взаимодействия миров и поведенческих стереотипов персонажей, переходящих из состояния бытия в состояние инобытия и переживающих в промежутке между ними краткий момент небытия. При этом важно определить особенности мировоззрения и суть религиозно-философских и нравственно-этических исканий тех, в среде которых на протяжении многих столетий подобные легенды столь активно бытовали. Такой подход к изучению данного цикла в отечественной фольклористике предпринимается впервые.
Земное бытие и вторжение хаоса
Мотиву «ухода» селения (города, островной страны) или определенного объекта (монастыря, церкви, колокола либо дома, избы) в инобытие предшествует (подчас лишь предполагается) картина его земного процветания, которое, однако, длится лишь до определенного момента.Сакральная топография города
В селении, правильно вписавшемся в мироздание, течет, соответственно, правильная, упорядоченная жизнь. Его гармоничное взаимодействие с космосом выражено в геометризованных формах, в строгих пропорциях и соразмерности этого селения. Так, например, легендарный Китеж, по словам местных знатоков, занимал площадь длиной в сто пятьдесят и шириной в сто сажен. Согласно же рукописной традиции, представленной «Книгой глаголемой летописец», геометризованность топографии города, по сути, дублируется. Как утверждается в этом источнике, вначале планировка города имела форму правильного квадрата: сто сажен в длину и столько же в ширину. Однако, поскольку «бысть первая мера мало места»[3070], строители расширяют Китеж, прибавив еще сто сажен в длину. При всей вариативности пропорций (1:1, 1:1,5, 1:2), речь неизменно идет о правильных геометрических формах, имеющих символический характер. Подобная символика в китежской легенде могла б показаться и случайной, не будь она столь последовательно выдержана в других этнокультурных традициях. Так, например, пространство, якобы занимаемое подводными развалинами беломраморной Винеты, сохраняет, по рассказам, традиционные пропорции (1:1,5), исчисляясь половиной мили (миля — 1,8 км) в длину и тремя четвертями мили в ширину (1350 м: 900 м). Числовые меры входят в закономерность раскрытия некоего Божественного замысла. Не случайно мерилом совершенства представлялся Великий город («святый Иерусалим»), нисходивший от Бога. Это не что иное, как абсолютная форма — абстрактный куб со стороной двенадцать тысяч стадиев[3071]: «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны» (Апок. 21. 16–17). Поскольку монастырь в Древней Руси осмыслялся как образ Царствия Небесного, явленного на земле, его планировка соответствовала модели небесного града праведных — горнего Иерусалима. Мало того, и основной тип русской церкви в деревянном и каменном зодчестве складывался как квадратный в плане и кубичный в своем объемном решении. Это так называемые «кубоватые храмы». Не случайно и в легендах о провалившихся церквах на месте храма нередко остается четырехугольная яма правильной формы.
Рис. 3. Построение храма в Толгском монастыре. Ярославль. XVII в. Фрагмент. Прорисовка с иконы
Исследователи уже обращали внимание и на геометризованность Платоновой Атлантиды (Платон. Тимей. 22–25; Критий. 113а—121с), топографию которой определяют правильные круги и четырехугольники, размеренные чередования земляных и водных кругов вокруг акрополя главного города. Причем внешний ров, как и прилегающий к нему вал, имели в ширину по три стадия (аттический стадий — 185 м), средний ров и вал — по два стадия, внутренний же ров, опоясывающий центральный островок с царским акрополем, имел в диаметре пять стадиев. Этот островок и круги были обнесены каменными стенами; над симметрично расположенными мостами возвышались башни и ворота. И даже равнина, окружавшая город и сама окруженная горами, являла собой ровную гладь, имевшую в длину три тысячи стадиев, а посредине, вверх от моря, — две тысячи. Иначе говоря, в основании этой равнины лежит большей частью правильный прямоугольник. Заметим, что и в геометризованности топографии Атлантиды, и в правильности архитектуры и архитектоники ее акрополя проявилась мистика чисел, ведущая свое начало от пифагорейцев. Правда, в основе легендарной может в какой-то мере оказаться подобная же топография реального древнего города. Тем более, что его закладка приравнивалась по своей семантике к повторению сотворения мира, а сам город осмыслялся как слепок мироздания. Круги и квадраты, совмещенные в архитектонике города, имели космологический смысл. Так, согласно концепции Козьмы Индикоплова (византийский ученый, живший в VI в.), изложенной им в сочинении «Христианская топография», прямоугольник, ограниченный четырьмя стенами, символизировал собой землю. Причем четверо городских ворот соответствовали четырем сторонам света[3072].

Рис. 4. «Жеравка» — блок для поднятия бревен на сруб. Пудожье
Так или иначе топография города, будь он легендарным или реальным, подводным или наземным, обусловлена одними и теми же мифологическими представлениями. «В древности, — пишет Р. Генон, — существовала особая отрасль знания, которую можно назвать священной или жреческой географией; расположение городов и храмов было отнюдь не произвольным, а определялось в соответствии с точными законами»[3073], связанными с локализацией духовных центров и выражающих определенную доктрину. В этом свете можно предположить, что имеющий правильную прямоугольную форму и огражденный стенами град Китеж символизировал землю, что является пережитком древних представлений о мироздании. Так, уже Демокрит подметил, что земля продолговата и имеет длину в полтора раза больше ширины. По преодолении состояния хаоса Китеж обрел статус некоего духовного центра, локализованного, в частности, в середине Светлояра.
«Город был чистое золото»
Другая особенность города, которому предстоит уйти в небытие, а затем и в инобытие, — это маркирование его знаками благородных металлов и драгоценных камней. Так, изначально локализованный на земле Китеж представлен в легенде золотым: «говорят, он весь в золоте был»[3074]. Воплощая некую нетленную субстанцию, эти сокровища (золото, серебро) по преодолению состояния хаоса переходят вместе с самим городом из сферы профанного в сферу сакрального. Отныне они либо их метонимический эквивалент (например, серебряный колокол) локализуются в озере, в самой средине Светлояра, куда китежане в момент приближения «лютого врага» сбросили свои драгоценности, предварительно собрав их в бочку. Иной вариант: князь успел скрыть в озере святые сосуды и церковную утварь, прежде чем погиб в битве. (Характерно, что сокровища ввиду их сакральности отождествляются с предметами культа.) И поныне, по легендам, «сундук с золотом» и всякая «золотая сосуда» хранятся в глубинах Светлояра прикрепленными к столбам монастырских ворот, которые локализуются «супротив овражка, промежду взгорьев», и опять-таки на самой середине озера. Другая версия: «сокровище, какое едва ли где было и едва ли где будет когда-нибудь»[3075], сокрыто под той самой горкой или холмом, где локализуется и ушедший в инобытие Китеж. И, наконец, знаком драгоценных металлов маркирован сам запредельный город: «И открывались ей горы. И видела она, что ходят там в серебре (курсив мой. — Н. К.) и сияние у них»[3076]. Аналогичные представления обнаруживаются, в частности, в севернорусских преданиях. Здесь они связаны преимущественно с серебряным колоколом, который местные жители погружают в озеро, реку, колодец, надеясь по избавлении от вражеского нашествия установить его на прежнем месте, но который, уподобляясь «зачарованному», не дающемуся в руки кладу, при всякой попытке поднять его наверх уходит под воду (иногда в землю) все глубже и глубже[3077]. Обращает на себя внимание тот факт, что знаком золота и драгоценных камней маркирован и нисходящий от Бога Великий город: «<…> а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями <…>. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин. <…> улица города чистое золото (курсив мой. — Н. К.), как прозрачное стекло» (Апок. 21. 18, 19, 21, 22). Или: «Ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда, и из дорогих камней стены твои, башни и укрепления — из чистого золота; И площади Иерусалимские выстланы будут бериллом, анфраксом и камнем из Офира (курсив мой. — Н. К.)» (Тов. 13. 16–17). Золото, серебро, драгоценные камни символизируют не только сакральность, духовную чистоту города, но и некое средоточие его магической силы. И лишь с установлением товарно-денежных отношений сокровище начинает осмысляться как реальное богатство его владельцев: «<…> истинная правда, город тут есть, не зря же валит народ. Хорошенько покопаться, так на всех богатств бы хватило (курсив мой. — Н. К.)»[3078]. Подобная экспозиция к мотиву «провалища», имеющая место в легендах о невидимом граде Китеже, отнюдь не случайна: она устойчива и в других произведениях, принадлежащих различным этнокультурным традициям. Так, согласно померанскому сказанию, известной своими сокровищами была беломраморная Винета. (В немецких летописях и грамотах топоним Винета означает «город венедов», или венетов, под которыми подразумевается западная ветвь славянских племен.) В этом беломраморном городе, который, по легендам, якобы соперничал славой с самим Царьградом, городские ворота и колокола были сделаны из благородных металлов, а все вещи, вплоть до самых обыденных, изготовлялись из серебра и даже дети играли на улице кусками серебра. Кстати, в легендах европейского Средневековья беломраморным представлялся и замок, невидимо стоящий на горе Монсальват, где хранится чудесная Чаша святого Грааля. Но, пожалуй, все другие города и страны, чья мифическая история развивается по схеме «бродячего» сюжета о затонувших селениях, меркнут перед Платоновой Атлантидой. Согласно древнему сказанию, якобы записанному от египетских жрецов афинским законодателем Солоном (ок. 640–560 до н. э.) и со временем изложенному Платоном (427–347 до н. э.) в его диалогах от лица поэта, историка, софиста Крития Младшего (460–403 до н. э.), дяди Платона, на острове Атлантида был построен прекрасный город. Стена вокруг его наружного земляного кольца была отделана медью, стена внутреннего вала покрыта литьем из олова, а стена самого акрополя — орихалком (желтой медью), испускающим «огнистое сияние». Городом Золотых Ворот назвал в своем стихотворении Атлантиду К. А. Бальмонт, основываясь на символическом значении образов города — ворот — золота.Предпосылки вторжения хаоса
При отсутствии экспозиции, место которой в структуре сюжета не отличается устойчивостью, повествование нередко начинается с картины хаоса, который внезапно вторгается в размеренное бытие социума и индивида, нарушая упорядоченность и равновесие во всем мироздании. Хаос прорывается в бытие, потому что в соотношении между изначальными сущностями, универсальными противоположностями нарушается былая симметрия и пропорция. Внешними проявлениями наступившей дисгармонии служит усиление второй части каждой из бинарных оппозиций, — той, которая маркирована отрицательным знаком, за счет ослабления первой, символизирующей положительное начало. В результате свое побеждается чужим, сакральное — профанным, божественное — человеческим, религиозное — мирским, праведное — греховным, духовное — материальным, вечное — преходящим, реальное — иллюзорным и т. д. Зло более не уравновешивается силами добра, а смерть — жизнью. Отныне в космосе властвует хаос. [Характерно, что Н. К. Рерих, который писал занавес к музыкальному антракту «Сеча при Керженце» оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (для парижских гастролей в 1911 г.), выполнив его в виде панно, дал именно «иконописное» истолкование битвы китежан с полчищами Батыя.]Физическая смерть как предпосылка хаоса
В произведениях рассматриваемого цикла метафорическим выражением состояния хаоса служит, в частности, угроза разорения и гибели селения либо объекта, а тем более — реализация таковой. Причем варьируется этническая принадлежность неприятеля, соотнесенность с определенными историческими событиями, привязка к конкретной местности, что обнаруживается в соответствующих реалиях. Например, в китежской легенде этот мотив приурочен к нашествию полчищ под предводительством «свирепого бусурманского царя Батыя». Моделью для описания вражеских угроз и нависшей над селением или объектом смертельной опасности в легендах и преданиях служит по сути общая для всего русского эпоса формула: «Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять»[3080]. Соответствующая формула в «Книге глаголемой летописец», явно испытывая на себе влияние фольклорной, сама в свою очередь оказывает на нее воздействие: «<…> прииде на Русь воевати нечестивый и безбожный царь Батый, и разоряше грады, и огнем пожигаше, церкви Божия такоже разоряше и огнем пожигаше же, людей же мечу предаваше, а младых детей ножем закалаше, младых дев блудом оскверняше, и бысть плач велий…»[3081]. Казалось бы, что в устных легендах о невидимом граде Китеже, в отличие от рукописных, речь идет не столько о смерти горожан, сколько о смертельной опасности, которая по своим последствиям в развитии фольклорного сюжета приравнивается к смерти. И тем не менее гибель китежан как результат нашествия Батыя здесь все же подразумевается. Ее олицетворяет гибель от рук неприятелей князя Георгия Всеволодовича, действительно павшего в битве на реке Сити в 1238 г. По мнению исследователей, Георгий Всеволодович — лицо собирательное, соединившее в себе черты нескольких живших в разное время исторических деятелей. Однако в нем преобладают признаки владимирского князя Георгия Всеволодовича, сына великого князя Всеволода Большое Гнездо (память князя Георгия Всеволодовича, причисленного к лику святых православной церковью в середине XVII в., отмечается 4 февраля). Подобные исторические реалии — средство выражения в легендах временной символики, способ соотнесения данного фольклорного мотива с определенным историческим контекстом и привязки его к историческому процессу. И тем не менее наступление хаоса, сопровождающего нашествие Батыя, отчетливо изображено в других преданиях, некогда бытовавших в Тамбовской и Воронежской губерниях, хотя они напрямую не относятся к рассматриваемому циклу, основанному на мотиве «провалища». По словам этих преданий, Батый истреблял не только людей, но и леса и траву — на сто верст в ширину, насквозь всей Русской земли в длину. Опустошенная земля, не зарастающая в течение целого столетия, а также смешение земли с небом, вследствие чего на небе в виде Млечного пути запечатлелся земной Батыев путь, — неопровержимые признаки вторжения в мироздание хаоса. В севернорусских нарративах, основанных на данном «бродячем» сюжете, угроза врагов чаще всего заменяется ее реальным осуществлением. Причем в них преимущественно речь идет о нападении шведов, позднее — англичан на поморские селения: «Но вот набежали паны, финны, задрожала земля. Паны порубили народ, сожгли строения…»[3082]. Или: «<…> идет агличанка, ружьям да пушкам палит, деревни жгет, народ погубляет»[3083]. Аналогичная коллизия может быть связана и с монастырем: «Шведы нападали, три раза Печенгский монастырь разорили»[3084]. Содрогание земли, грохот орудийных залпов, пламя охваченных огнем строений, гибель людей — все это признаки хаоса, ворвавшегося в бытие индивида, социума, универсума и охватившего мироздание. Всякое нападение, всякое разрушение, по мысли М. Элиаде, равноценно возвращению в хаос. Причем через смерть воссоздается ситуация не просто хаоса, но хаоса первоначального, которая существовала еще до сотворения мира. Мир вновь (и уже в который раз!) возвращается к своим истокам, чтобы со временем начать новое существование со всем непочатым многообразием его возможностей и еще не растраченных сил[3085]. Аналоги мотиву приближения и наступления хаоса, содержащемуся в структуре рассматриваемого «бродячего» сюжета, известны во всем мировом фольклоре. В сказании, изложенном Альбрехтом Кранцем (умер в 1517 г.) в «Вандалии», та же участь постигла славянский город Винету. Во времена Карла Великого он был якобы разорен шведами и датчанами вследствие раздоров, вспыхнувших между его жителями. Подобное состояние хаоса перенесла и Атлантида. Согласно диалогу Платона «Тимей», атланты вели войну с прапредками афинян, потерпев в ней поражение как раз перед гибелью этой островной страны. И в данном случае с неизбежной закономерностью реализуется архетип, связанный со смертью как предпосылкой к наступлению хаоса. Причем во всех подобного рода легендах исторические реалии служат средством выражения временной, а географические — пространственной символики[3086].Духовная смерть как предпосылка хаоса
В рассматриваемом цикле обнаруживается и иная версия в развитии сюжета, которая в легендах о невидимом граде Китеже полностью отсутствует, но которая в рамках данного исследования представляет интерес в плане выявления типологического сходства. В основе этой версии, в отличие от представленной легендами о Китеже, лежат верования, связанные не столько с физической, сколько с духовной смертью, что существенно влияет на интерпретацию данного «бродячего» сюжета. Из совокупности материалов, принадлежащих не только русской, но и другим этнокультурным традициям, выясняется, что важнейшей предпосылкой к образованию «провалища» как проявления хаоса служит возобладание греховного над праведным, языческого над христианским, мирского над сакральным, материального над духовным. Так, например, согласно одной из тульских легенд, буйные толпы собравшихся к обедне в большой праздник подрались в самом храме — и тогда церковь вместе со всеми прихожанами вмиг погрузилась в землю, а на месте, где она стояла, образовалось темное и мутное озеро. Аналогичная коллизия обнаруживается и в рассказах, повествующих о несоблюдении христианской обрядности и непозволительной приверженности к языческим игрищам. Так, в каргопольских и заонежских легендах причина «провалища» кроется в пренебрежении святостью воскресных, праздничных и великих дней св. Четыредесятницы (это сорокадневный период от Пасхи до Вознесения). Подобного рода пренебрежение проявлялось прежде всего в участии на протяжении всего этого времени в посиделках (бесёдах), где допускались «пляски, пение соблазнительных песен, сквернословие и непотребства»[3087]. Такие сюжеты сложились на почве негативного переосмысления былых языческих празднеств и, в частности, празднования Купалы (в системе христианского календаря оно трансформировалось в праздник, посвященный Иоанну Предтече). Об этом свидетельствует известное послание игумена Памфила «О Ивановской ночи Претечеве» (1505 г.): «Яко же древле согрешиша людие, не восхотеша закона хранити, седоша ясти и пити и востав начаша играти и прогневати беззаконием своим; сих же пожре земля живых во един день 20 и 3 тысящи»[3088]. Аналогичны легенды, принадлежащие западноевропейским этнокультурным традициям: город, жители которого въезжали в церковь на конях, а когда Бог понизил притолоку дверей, входили туда из гордости не нагибаясь, также постигло «провалище». То же случилось и с селом, жители которого не чествовали дня св. Анны.
Рис. 5. Сени крестьянской избы. Заонежье
Причиной «провалища» служит и отступление от строгой приверженности религиозным верованиям и знаниям, полученным от предыдущих поколений, потому что только верность традиции, окруженной ореолом святости и носящей на себе печать сверхъестественного, может гарантировать стабильность хранящего ее основы социума. «Всякая небрежность в этом деле ослабляет сплоченность группы и подвергает опасности ее культуру вплоть до угрозы самому ее существованию», — пишет Б. Малиновский[3089]. Она осмысляется в легендах как проявление духовной смерти, имеющей соответствующие последствия. Нарушение норм, санкционированных традицией и передающихся от поколения к поколению, имеет обытовленный характер: никто в селе не дал воды страннику (будь это старик, нищий, богомолец, святой или сам Христос); ему грубо отказали в милостыне; смеялись над ним или как-то иначе обидели его; не приютили в бурную ночь; не проявили гостеприимства. Так, город Свитязь был поглощен озером с тем же наименованием за грехи его жителей, нарушивших общеславянскую заповедь гостеприимства: ни одного из путников они не приняли на ночлег, — за что и были наказаны[3090]. Тем более, что странник в народных верованиях и в фольклоре осмысляется как носитель тайных знаний. Этот персонаж связан со множеством преодоленных им локусов, далеких и неведомых, подчас приравниваемых к иному миру. Семантика его образа определяется и представлениями о долгой и полной опасностей дороге, символизирующей судьбу и близкое (особенно на перекрестке) присутствие здесь потусторонних сил. В иных случаях признаком нестабильности микрокосма, соотнесенного смакрокосмом, служат раздоры с соседями. Напомним, что сосед, который в топографической иерархии находится за пределами центрального микромира, принадлежащего обычно рассказчику, в силу своего выпадения из данного социума наделяется особой магической силой. О расшатывании веками установленного порядка свидетельствует и нарушение традиции в отношении к увечным. Так, согласно мифологическому рассказу, слепую монахиню обманули при дележе денег две зрячих. А между тем именно в увечных проявляют себя силы хаоса, делающие границу между мирами взаимопроницаемой[3091]. Другими знаками приближающегося катаклизма служат различные отклонения от этического нормирования социальных отношений со стороны индивида или определенной общности. Причем они распространяются на все сферы бытия. Нарушителями благочестия, например, игнорируются запреты, связанные с брачными ограничениями, что влечет за собой кровосмешение и развращенность. Как повествуется в абхазской легенде, один порочный священник позволял прихожанам брать в жены родственниц и сам женился на двоюродной сестре. В сербской эпической песне об угрозе «провалища», обусловленной тем, что кум с кумой милуются, помнит, например, невеста Марка Кралевича:

Рис. 6. Руины Горицкого монастыря на Белом озере
Одним словом, мир (это может быть град, монастырь, церковь, дом) одряхлел, исчерпал свои потенциальные возможности, свои духовные и физические силы, сделался несовершенным. Как утверждает М. Элиаде, «любая форма ослабевает и изнашивается уже потому, что существует как таковая и длится; чтобы снова набраться сил, нужно, чтобы ее снова поглотила бесформенность (аморфность) <…>; заново влиться в изначальное единство (субстанцию), из которого она возникла; иными словами, вернуться в Хаос…»[3094].
Переживание состояния хаоса
Момент смерти, согласно древним представлениям, как раз и является кратковременным переживанием состояния хаоса, которое в данном случае ознаменовывается смешением стихий и взаимопроницаемостью миров, что служит следствием разрушения изначального порядка в космосе. Согласно одной из версий, водная стихия, теперь уже ничем не сдерживаемая, накрывает город (село) — монастырь (собор, церковь, колокол) — дом (избу), вследствие чего на их месте образуются озеро, пруд, родник, колодец, болото. Средний же мир, населенный людьми, уходит в нижний: «Град Китеж под Светлояром стоит целый…»[3095]. Заметим, что архетип того или иного явления культуры наиболее тонко чувствуют поэты: погружение Китежа в воды изображено в стихотворении М. С. Петровых «Плач китежанки» в духе погребальной обрядности.
Рис. 7. Спасо-Преображенская церковь в Яшезерском монастыре
Седьмая версия сводится к тому, что в потусторонний мир уходит не сам объект, а лишь его обитатели. Например, после разорения Соловецкого монастыря монахи, сохранившие приверженность старой вере, по легендам, направляются в благословенное Беловодье, приравниваемое к сокровенной обители, в то время как монастырь остается на прежнем месте. Таким образом, основанный на одной и той же модели мотив варьируется в сочетаниях различных составляющих компонентов. По аналогичному сценарию, в соответствии с той или иной версией, разворачивается действие и в том случае, если наступление хаоса вызвано не физической, а духовной гибелью социума или индивида. Причем если в легендах и преданиях, повествующих об угрозе разорения селения или культового объекта ввиду приближения врага, «провалище» осмысляется как спасение, ниспосланное Богом по молитве местных праведников («вера там была крепкая больно»; «сильно Богу молились»), то в легендах о духовной гибели людей дело обстоит иначе. «Провалище» интерпретируется как Божья кара за нарушение освященных традицией законов. Например, церковь в вятском селе Спасское ушла под землю вместе с людьми, оттого что ее закрывать хотели. Точно так же церковь, якобы стоявшая в старину близ деревни Сенютина (Псковская губерния), «от беззакония, совершенного в ней, сошла в озеро»[3108]. А под монастырем близ Суздаля, когда на него напали разбойники, затряслась земля — и обитель вместе с нечестивцами скрылась в глубоких провалах, из которых тотчас же выступила вода, образовавшая Поганое озеро. При этом обнаруживается следующая закономерность: если в образовавшееся озеро погружается город, дом, церковь вместе с праведниками, вода в нем всегда чистая и светлая, в противном случае — мутная и темная.

Рис. 8. «Немецкая щелья». С. Вирма. Поморье
В соответствии же с моделью мотива «провалища» в землю формируются, в частности, известные нам мифологические рассказы о наказании приверженцев языческих игрищ и кумирослужения. Так, в Заонежье зафиксированы бывальщины о «прогрязших» домах, которые якобы в давние времена стояли в деревнях Ямка и Хижозеро[3109]. Как повествуют рассказчики, дом погружается в землю подобно судну, получившему пробоину при столкновении с подводным камнем. Характерно, что участницы «бесёды», которая в этот момент идет в доме, обычно даже не подозревают о завершении своего земного бытия и продолжают неистовое веселье. Проявлением наступающего хаоса в данном случае служит и возвращение их перед лицом смерти к своему исконному тотемному облику, к некоему «началу времен»: «<….> народ казался с чудовищными головами, вместо рук медвежьи лапы, с лошадиными ногами…»[3110]. Впрочем, возможна и иная коллизия, распространенная, в частности, в севернорусских преданиях: не локус и не объект, а сами люди (враги, нечестивцы) поглощаются внезапно образовавшимся озером, разверзшейся горой либо накрываются упавшей с неба «щельей» (скалой), а то и просто окаменевают[3111]. Божья кара за то или иное «злейшее пребеззаконие» осуществляется обычно по слову (заклятию, проклятию), произносимому (выпеваемому) жертвой греховных поступков, совершаемых со стороны определенного социума или индивида. В отличие от легенд, где люди оказываются в сокровенном городе (монастыре) в силу своей праведности, в данных произведениях они поглощены водой или землей вследствие своей греховности. Согласно легендам, зафиксированным в различных этнокультурных традициях, наказания в виде «провалища» из всех жителей затонувшего или провалившегося селения удается избежать лишь праведнику. Структура этого мотива довольно устойчива: «благочестивый священник», «одна бедная старушка», по совету «знающего», вовремя покидает селение либо жилище — и оно вскоре поглощается водой или землей. В других легендах среди всеобщих катаклизмов только жилище праведника продолжает оставаться на прежнем месте целым и невредимым: например, волны, минуя хижину бедной старушки, хлынули на город. По многим рассказам, незатопленным оказывается лишь один сакральный предмет, поскольку он принадлежит праведнику. Книги Священного Писания, молитвенник, крест лежат на столике, плавающем в озере, которое образовалось в результате «провалища». Как только хозяин забирает принадлежащие ему сакральные предметы, столик немедленно исчезает в глубинах вод. Библейский аналог этого мотива отчетливо просматривается в эпизоде спасения праведника Лота, после чего на жителей городов Содом и Гоморра обрушивается Божья кара: «И как он медлил; то мужи те (Ангелы), по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. <…> И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И низпроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и (все) произрастения земли» (Быт. 19.16–17, 24–25). Затем, как уже говорилось, местность была затоплена морем, которое с тех пор слывет Содомским, или Мертвым, морем. Игумен Даниил, автор древнейшего из русских описаний паломничества в Святую землю, живший в XII в., так интерпретировал этот библейский мотив: «Море же Содомское мертво, не содержит в себе ничего живого: ни рыбы, ни рака, ни устрицы. И если течение Иорданское выносит рыбу в то море, то она не может быть живой даже небольшое время, но вскоре умирает»[3112]. Пагубное воздействие вод этого моря игумен Даниил объясняет исходящим от него, и особенно во время извержений, сернистым запахом и обилием красной смолы, плавающей на поверхности и лежащей на берегу этого моря. «Тут ведь находится место мучений, под морем тем», — заключает он[3113]. Иначе говоря, это место мучений грешников, приравниваемое к аду. Обратим внимание, что природными стихиями, в которые после наступления хаоса попадают селения-объекты-люди, являются вода, горы, земля, воздух, огонь. Той или иной стихии или определенным сочетаниям стихий предавали и предают умерших. Именно с ними связаны представления о смерти, о центрах потустороннего мира или, во всяком случае, о начале пути в загробное царство. Одновременно эти природные стихии осмысляются как своеобразное средоточие родовой жизненной силы, как производящие и воспроизводящие центры древних коллективов[3114]. Смерть же в космическом мире означала лишь временный частичный хаос, который в течение определенного периода преодолевался и за которым наступала новая жизнь, перерождение. Идея круговорота жизни и смерти, сочетающаяся с неизменными понятиями падения и воздаяния, сформировалась в христианстве. Однако обозначилась она еще в Античности. Эта идея, подспудно пульсирующая и в русских легендах, нашла свое емкое концентрированное выражение в эпопее Вергилия «Энеида», и в частности в эпизоде встречи Энея с Анхизом, основанном на доктрине, восходящей к учению Пифагора о метампсихозе:
Вергилий. Энеида. 6. 739–742, 743–747, 750–751
Сакральный ландшафт и потусторонний мир
«Ушедшее» селение оставляет на земле следы своего былого пребывания в виде определенных топографических объектов, которых якобы здесь раньше не было. Конкретные особенности ландшафта: озеро, пруд, родник, болото, ложбина, овраг, дол, гора, холм, бугор, лес, дерево — нередко осмысляются в легендах как знаки близкого присутствия потустороннего мира, как символы локусов, где при определенных условиях возможно «размыкание» границ между мирами. Здесь, на земной поверхности, оказывается, есть точки, открывающие доступ к мирам, располагающимся в иных системах пространства и времени. В этом отношении окрестности Светлояра как нельзя лучше соответствуют параметрам, определяемым мифологией ландшафта. Вспомним, в частности, описание Светлояра, данное В. Г. Короленко в очерке «В пустынных местах: Из поездки по Ветлуге и Керженцу»: «От Светлояра повеяло на меня своеобразным обаянием. В нем была какая-то странно-манящая, почти загадочная простота. Я вспоминал, где я мог видеть нечто подобное раньше. И вспомнил. Такие светленькие озерка, и такие круглые холмики, и такие березки попадаются на старинных иконках нехитрого письма. <…> Неумелая рука благочестивого живописца знает только простые, наивно правильные формы: озеро овально, холмы круглы, деревца расставлены колечком, как дети в хороводе. И над всем веяние „матери-пустыни“, то именно, чего и искали эти простодушные молители»[3118]. Некоторые дополнительные реалии в картину сакрального ландшафта привносятся современными описаниями Светлояра и его окрестностей: озеро круглое, чуть продолговатое; по одну сторону — низкие, болотистые берега, по другую — три холма, поросшие густым сосновым лесом. С этими топографическими объектами: озером, лесом, деревьями, горами или холмами — связаны определенные представления. Участвуя в формировании мифологии ландшафта, они стимулируют закрепление именно за этой местностью «бродячего» сюжета, основанного на мотиве «провалища», и сами, в свою очередь, сакрализуются в силу подобной привязки.Вода (озеро, пруд, источник)
Вода, поглотившая Китеж или иное селение, в контексте рассматриваемого сюжета служит метафорой хаоса, охватившего мироздание вследствие нарушения порядка, установленного в начале времен: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью» (Быт. 1.7). Причем это не просто погружение в хаос, но возвращение к первобытному хаосу как исходному состоянию всего сущего, к первоначалу[3119], имеющему признаки совершенства. По преодолении хаоса неизбежно последует новая жизнь и новое бытие. В рассматриваемом цикле стихию такого первоначала наиболее отчетливо репрезентируют воды Светлояра. Само определение очертаний озера в параметрах: «круглое», «почти круглое», «овальное», «продолговатое» — по всей вероятности, актуализирует представления о неких совершенных, таящих в себе мистический смысл формах (реальная длина озера 210 м, ширина — 170 м). Примечательно, что округлую форму, как правило, имеют и другие озера, в которых якобы сокрыты города, монастыри, церкви. Таково, в частности, озерко, лежащее в лугах близ деревни Асташиха, на правом берегу Ветлуги, в двух верстах ниже села Благовещенское, либо небольшое озеро Свитязь, находящееся в тридцати верстах от гродненского Новогрудка, и другие озера, связанные с рассматриваемым сюжетом и пользующиеся доброй или худой славой.
Рис. 9. Собеседницы
Глубина подобных озер не поддается измерению в обыденных категориях. Таким представляется местным жителям и поныне Светлояр: «И сейчас никак дна не найдут, глубоко больно»[3120] (в действительности наибольшая глубина, приходящаяся на самый центр водоема, составляет 28 м, что уникально для низменного Заволжья). То же известно и об озерке близ деревни Асташиха. О его глубине рассказчики сообщают, пользуясь своими категориями измерения: «<…> четыре вожжи связывали и опускали камень, а дна не достали»[3121]. Подобный символ бездонности водоема устойчив и в других локальных традициях. Например, в вятской легенде, повествующей об озере Итанькино, которое образовалось на месте «провалища» монастыря, его глубину пытались измерить аналогичным способом: «Раньше его мерили: трое вожжи связывали — не могли измерить!»[3122]. Легенды, предания, былички и бывальщины о небольших округлых и глубоких озерах бытуют на всем пространстве России. Однако речь здесь идет не просто о реальной глубине реальных же озер. Это символ глубины самого мироздания. В качестве такового представлен Светлояр в стихотворении С. М. Городецкого «Алый Китеж»:
Гомер. Илиада. VIII. 13–16

Рис. 10. Спас, странствующий по Руси. По мотивам древнерусской живописи
Дополнительную сакрализацию озеро получает за счет погружения в его воды города праведников. В результате древний культ воды совместился с культом сокровенного города: «На Китеж Богу молиться ходят с тех пор, как ушел он под озеро»[3137]. Или: «Озеро святое, потому что тут город Китеж был»[3138]. Вместе с тем озеро (в данном случае Светлояр), которое якобы образовалось на месте, где прежде стоял город (Китеж), осмысляется в народных верованиях как медиативное пространство, как граница между мирами и путь на «тот свет». О соотнесенности этого ландшафтного объекта с потусторонним миром свидетельствует, в частности, рассказ, записанный в 1925 г. В. Л. Комаровичем в г. Семенове от одной 100-летней местной жительницы («Бурдихи»): «Прежде по озеру ездили только в лодках долбленых. Выдолбят как колоду, из цельного дерева, по две свяжут и едут — они не кувыркаются. А ботник (по Далю: корыто для лодки, без набоев; долбленая колода) — не подымала вода-то»[3139]. Подобная колода вызывает определенные ассоциации с выдолбленным гробом-домовиной, который вплоть до недавнего времени продолжал использоваться в похоронной практике старообрядцев. Так, даже в 1991 г. собирателям удалось зафиксировать следующее свидетельство, полученное от одной из нижегородских старообрядок: хоронить покойника полагается непременно в «колоде», причем самой рассказчице уже выдолбил «колоду» ее «двуродный брат»[3140]. По материалам Владимирской губернии, «колода» изготовлялась из цельного толстого дубового или соснового ствола дерева и потому называлась «чура´чный гроб»: от слова «чурак», что и означает «обрубок дерева», «чурбан», «чурбак»: именно он, что весьма характерно, служит вместилищем семейно-родовых домашних духов. Однако долбленые лодки-колоды служат и средством передвижения по воде. В некоторых архаических традициях они сохранились до наших дней (например, у карелов это «хонгой»). С подобными лодками связаны представления о путешествии на «тот свет» и о сообщении между мирами, что подтверждается и данными языка. Лингвисты обоснованно отмечают совпадение индоевропейских терминов, обозначающих покойника, смерть, гроб и корабль: слав. навь «мертвец», укр. нава — «гроб», и.-е. паи — «смерть», и.-е. паи — «корабль» и пр. В этом свете не выглядит беспочвенным уже высказывавшееся суждение, что две опрокинутые друг на друга лодки образуют гроб. Соответственно и две связанные друг с другом долбленые лодки-колоды, фигурирующие в рассказе 100-летней «Бурдихи», вполне могут интерпретироваться аналогичным образом. Не случайно плавание в одной долбленой лодке («ботнике»), не спаренной с другой, по водам Светлояра в данном случае едва ли не противопоказано. (Ср. с одной из легенд европейского Средневековья, повествующей о рыцаре Лоэнгрине, сыне Парсифаля: герой, пребывая в состоянии сна, приравненном к смерти, приплывает из невидимого замка Монсальват на белой ладье, которую везет по реке белоснежный лебедь, а в урочный час отправляется в обратный путь на этой же ладье, присланной из Монсальвата). Согласно мифологическим представлениям, этаводная стихия имеет различного рода отверстия — «дыры»: окно, дверь, ворота, — где «размыкание» границ между мирами (в данном случае между средним и нижним), соответствующее ритму микрокосма и макрокосма, стимулируется верованиями и обрядами. Вся атрибутика взаимосвязи миров хотя и выражена в реальных категориях, тем не менее служит сакральными символами инобытия. Отверстие («дыру», «дырку»), через которое можно заглянуть в запредельный мир, простому смертному найти непросто, хотя, по рассказам, и известно, что оно «где-то на середине озера»: «А где середина находится — не знают. Ищут. А самая-то середина (курсив мой. — Н. К.) — воронка, там крутится всё»[3141]. Заметим, что середина в мифологической традиции — символ святости, локализация некоего духовного центра, подчас расширяющегося до масштабов вселенной, помещенной в середине мироздания и окруженной хаосом. Вращение же само по себе (водоворот, который бурлит, будто кипящий котел; воронка, в которой «крутится все»), круговращение, движение по кругу, по словам Г. Вирта, является «высшим космическим законом Бога, этическим Основанием Вселенной всего бытия»[3142]. Между прочим, к модели вселенной сводятся и знаки, маркирующие Китеж и Светлояр. Если планировка города представляет собой в данном случае прямоугольник (квадрат), то очертания поглотившего его озера образуют соответственно овал (круг). Соотносясь между собой как земное и небесное начала, квадрат и круг служат знаками-символами вселенной. Способ проникнуть хотя бы взглядом в некий духовный центр и даже, вероятно, в самую глубь вселенной, чудесным образом соотнесенной с сокровенным Китежем, одновременно и прост и сложен («не всякому покажется»). Согласно некоторым легендам, тот, кому удастся отыскать «дыру», небольшую, «ну вроде как с ковш будет», где-то на середине Светлояра и разгрести лежащий поверх нее снег, обнаружит лед, «чистый-чистый». Тогда он, будто сквозь стекло, увидит, «что там на дне делается»[3143]. (Ср. с литовскими нарративами: аналогичную «дыру» ищут на кургане, и брошенные в нее камешки падают на крыши подземных домов; шапка же бедного пастушонка, упавшая в такую «дыру», возвращается наполненной золотом.) По своей семантике этой «дыре», осмысляемой как окно из профанной области в сакральную, эквивалентны двери. Этот невидимый, сокрытый для людей вход в Китеж, как и его главные ворота, также локализуются на самой середине озера, которая, по данным мифологической символики в индоевропейских языках, соотносится с понятиями святости, судьбы, вечности[3144]. Впрочем, координаты «врат» с мирской точки зрения не всегда в достаточной степени определены: «Святые места <…>. Пошли однова три брата, язвицкие, к невидимому граду Китежу; смотрят — на озере старец ложечки моет. „Это вы, говорит, у самых врат наших (курсив мой. — Н. К.) стоите“»[3145]. Подобного рода неопределенность — знак недоступности невидимого града.

Рис. 11. Дверная поковка. Каргополь
Заметим, что ворота — устойчивый атрибут затонувшего города и в нарративах, принадлежащих другим этнокультурным традициям, где этот образ подчас включается в иной контекст. Так, согласно преданиям, металлические ворота затонувшей Винеты были увезены шведами и, по словам старой немецкой песни, ими украсил себя шведский город Висбю на острове Готланд (здесь реальный остров заменил мифологему потустороннего островного мира). Кстати, упоминания о железных или медных воротах, локализованных на острове либо близ него и соотнесенных с водной стихией, а вместе с тем и с культом предков-«панов», обнаруживаются и в севернорусских преданиях[3146]. Вход-выход (своего рода двери, ворота) как знак «размыкания» миров нередко имеет в реальных точках Светлояра свои мифологические координаты, отмеченные особыми свойствами. Например, это залив, расположенный напротив оврага: именно здесь вода долго не замерзает, как бы символизируя возможность прохождения на «тот свет» и обратно. Причем овраг, будучи совершенно реальным топосом, согласно легендам, неким непостижимым образом оказывается включенным в евангельский контекст: в нем якобы лежат «пятнадцать тысяч младенцев, зарубленных Иродом»[3147]. Вследствие такой соотнесенности окрестности Светлояра приравниваются к Вифлеемской местности, сиюминутное время — к сакральному новозаветному, когда Ирод — царь иудейский, узнав о новорожденном Христе, приказал убить в Вифлееме всех младенцев в возрасте до двух лет (Мф. 2. 1, 16), а китежская история — к библейской драме, включаясь в космический процесс на правах некоего духовного центра вселенной. Другим местом возможного «размыкания» границ между мирами является брод, ведущий в озеро и осмысляемый как переходное пространство между земной и водной стихиями. В этом месте озеро якобы никогда не зарастает. К тому же именно здесь причаливают лодки, знак которых имеет не только бытовой, но и метафорический смысл, обусловленный рефлексиями древнего погребального обряда: «Когда идешь на озеро вправо, тут есть тростник и как брод в озеро. Тут лодошники, вроде, лодки водят сюда, к берегу. Этот брод никогда не зарастает»[3148]. Представление о преодолении водной преграды между мирами живых и мертвых вброд (эквивалент: по мосту, на лодке) относится, по утверждению О. А. Седаковой, к самым распространенным в разных, и не только индоевропейских, мифологических системах. Причем временное состояние «брода» заканчивается для усопших по завершении погребального обряда[3149]. В качестве концентрированного метонимического эквивалента дальней дороги, связующей миры, представлен в легендах мост, который лишь в определенный момент возникает из водной поверхности Светлояра: «Ехали обозы и делался мост (курсив мой. — Н. К.) на озере, и старики стояли, будто бы вроде дежурные. Как обозы пройдут, так опять все скроется»[3150]. Преодолеть такой переход могут только души, о чем, в частности, поется в духовных стихах:
Земля
Мифологию ландшафта определяет и земля, отдельные топосы которой могут быть отмечены тем или иным сакральным знаком-символом. Эта природная стихия, хотя и в меньшей степени, чем вода, близка к первозданному хаосу. В ней, по народным верованиям, сформировавшимся еще в эпоху верхнего палеолита, может локализоваться потусторонний мир. Сказанное подтверждается непосредственным анализом легенд, связанных с Китежем: «А это церковь подземная, она в аккурат возле озера, как проходишь. Подземная церковь, невидимая»[3155]. Подобного рода церкви находятся под землей так близко, что когда в прежние времена в этой местности пахали, то, случалось, задевали сохой за их кресты. Иногда люди находят едва ли не на поверхности земли вещественные доказательства близкого присутствия потустороннего мира. По одной из ветлужских легенд, крестьянин, освобождая местность от леса, рубил деревья и выкорчевывал пни, пока не наткнулся на некий предмет. Обкапывая вокруг него землю все глубже и глубже, он увидел поблескивающий колокол. Намереваясь после обеда продолжить работу, крестьянин ненадолго отлучился. Когда же вернулся на прежнее место, то не обнаружил даже признаков своей находки. Его лопата стояла на ровном месте: «как будто вовеки не копывано» — ни ямки, ни бугорка. По слухам, это был колокол прогрузшей здесь в землю церкви. Из сказанного следует, что понятия «близко» и «далеко» в легендах отнюдь не имеют буквального значения: «В пространстве инобытия далеко и близко — это соприсутствие, сосуществование»[3156]. Эта мысль прекрасно иллюстрируется строками из стихотворного цикла А. Блока, посвященного памяти отца: «А хмурое небо низко — Покрыло и самый храм. Я знаю: Ты здесь. Ты близко. Тебя здесь нет, Ты — там».
Рис. 12. «Отечество». Резная деревянная икона из Кемского Спасо-Преображенского собора. XVII в.
Совсем рядом или глубоко, под землей, в далеком-близком пространстве, локализуется и сам Китеж: «Отселева направо вдоль озера сто сажен городу и налево сто сажен городу, а в ширину мера городу полтораста сажен. А кругом всего города рвы копаны и валы насыпаны, а на валах дубовые стены с башнями…»[3157]. На земле, так же как и на воде, есть свои топосы, где периодически размыкается граница — «воротца». Рассказчики утверждают, что они скрыты в земле «у горки» либо в овраге «меж холмов», располагаясь на глубине всего в четверти две (четверть: около 18 см) — «близко, а невидимо», что отнюдь не является «символом „наличия“ (свободной функциональной доступности)»[3158]. По легендам, есть там и своя дверь — «вход». Земля внезапно, с точки зрения обыденного восприятия, открывается — и обнаруживается лесенка, ведущая вниз. Причем начало лестницы, определяющее направление движения (в данном случае — из среднего в нижний, подземный мир) локализуется на земле. Характерно, что в фольклоре, и особенно в сказке, лестница чаще направлена вверх, являясь, по словам В. Я. Проппа, трансформацией более ранних представлений о средствах переправы на «тот свет», каковым считается дерево[3159]. [Ср., например, с «лестницей Иакова»: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ея касается неба; и вот, Ангелы Божiи восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней <…>. Iаков пробудился от сна своего, и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем <…>. Это не иное что, как дом Божiй, это врата небесныя» (Быт. 28. 12–13. 16–18).] В сказочном же типе 301 это лестница, по которой герой спускается в яму и в результате попадает в подземное царство. То же происходит и в светлоярской легенде: улучив краткое мгновение, пока раскрывшаяся земля вновь не сомкнулась, мальчик спускается по лестнице в яму и оказывается в Китеже. Аналог этой легенде зафиксирован, к примеру, в словенской традиции: перед неким праведником, готовым провалиться под землю, лишь бы только не видеть того, что творится на земле, раскрывается пещера и обнаруживаются ступени, ведущие вниз. Спустившись в яму и пройдя сквозь тьму, он попадает в «прекрасный край». Лестница и — шире — переправа в русском фольклоре связана с представлениями о пути умершего в иной мир и сопряжена с погребальным обрядом[3160]. Она же служит средством коммуникации между мирами. Вместе с тем лестница осмысляется как преддверие некоей кульминации, решающего поворота в судьбе[3161]. Устойчивость представлений о взаимопроницаемости данного и подземного миров, имеющих мифо-ритуальное обоснование, подтверждается, в частности, болгарским поверьем, где эта идея выражена в метафорической форме: земля в святочный период, когда контакты между мирами наиболее интенсивны, похожа на решето[3162]. Земля, как и вода, гора, лес (дерево), осмысляется в легендах в качестве священного центра, который не только вбирает в себя сородичей после их смерти, но и обладает воспроизводящей потенцией, обеспечивая их возрождение, перерождение[3163]. Последнее интерпретируется в Священном Писании как пробуждение, воскресение: «И многие из спящих в прахе земном пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12.2). Подземный потусторонний мир, маркированный в легендах знаком Китежа, в полной мере отвечает подобным представлениям.
Гора
Наделенные реальными признаками и действительно существующие, горы (холмы, бугры), расположенные в окрестностях Светлояра, служат тем не менее топосами сакрального ландшафта. Эти «иконные горки» символизируют близкое (в мифологическом смысле) присутствие потустороннего мира. Отчасти они отождествляются с самими соборами, ушедшими в иные измерения времени и пространства: «А горы-то — это соборы Китежа»[3164]. Имеется в виду перевоплощение соборов в горы, их окаменение. В других вариантах горы служат лишь их вместилищем: «<…> церкви в горы ушли»[3165]. Либо они провалились в горы: «Вот под большим холмиком скрыто Знаменье, а где мы сидим — Здвиженье Животворящего Креста Господня, а подальше — там Успение Божьей Матери»[3166]. В этом случае соборы, каждый из которых некогда возвышался на одной из более заметных гор, расположенных на берегу Светлояра, провалились в них при нашествии врага, не дав себя на поругание и сохраняясь там невредимыми в том виде, в каком они, по легендам, стояли в давние времена на земле. Названия соборов, которые часто переносятся на горы, их воплощающие или скрывающие, могут варьироваться. Однако наиболее часто фигурируют Благовещенский, Крестовоздвиженский (на горе, якобы его сокрывшей, стояла часовня), Успенский. В самих названиях соборов Китежа закодирована некая мифологическая символика, ключом к расшифровке которой служит круг представлений, связанных с народным календарем и приуроченных к соответствующим христианским праздникам. Так, Благовещение (25 марта/7 апреля) — по церковному канону, один из двунадесятых праздников, тогда как по народному календарю это одна из ключевых точек в годовом цикле, соответствующая весеннему и соотнесенная с осенним равноденствием (оно приурочивается к Воздвижению, иногда — к смежным праздникам). Благовещение осмысляется как переходный момент между зимой и весной, или как начало весны и весенне-летнего полугодия. Нередко сопоставляется с Пасхой: «Каков день на Благовещение, такой и на Пасху». С Благовещением связано «отмыкание» земли, пробуждение ее ото сна. Характерно, что этот праздник соотносится с Воздвижением (праздник Воздвижения Честнаго Животворящаго Креста Господня — 14/27 сентября), осмысляемым в народном календаре как переход от лета к осени и ознаменованным «замыканием» земли[3167]. Если образ Благовещенского собора символизирует в китежских легендах весеннее «размыкание» земли, пробуждение ее ото сна, а образ Воздвиженского собора — ее осеннее «замыкание», постулируя идею взаимопроницаемости и взаимодействия миров, «того» и «этого», то образ Успенского собора заключает в себе концепт смерти, интерпретируемой как преставление к вечной жизни. Об этом, в частности, свидетельствует тропарь, поющийся на праздник Успения Божией Матери (15/28 августа): «Ты перешла к жизни (вечной), так как Ты Мать Жизни, и Твоими молитвами избавляешь от смерти души наши». Другие же наименования соборов единичны и часто представляют собой весьма причудливые сочетания: «Горами Господь покрыл соборы Китежа. Называются они по названию соборов, которые покрывают. Первая гора — Святитель Николай Чудотворец и святой Илья Пророк. Вторая — Тысяча младенцев: им молятся (по-видимому, имеются в виду младенцы, якобы убитые по приказанию царя Ирода. — Н. К.). Третья — Мать Пресвятая Богородица. Четвертая — Вознесенская. Пятая — Владимирская. Шестая — Успенская, или Успения. <…>. Седьмая — Святые Святители»[3168]. Наименования гор-соборов, упоминающиеся в этой легенде, символизируют персонажей христианского культа и даже в известном смысле эпизоды библейской истории. Сами же горы (холмы) — это церкви (соборы) сокровенного града. И потому «на гору» молятся так же, как на храм. Причем каждой горе адресуется особая молитва: «Святые Святители, горны (курсив здесь и далее мой. — Н. К.) хранители…»[3169]. (Молитва варьируется в зависимости от того, в какой природной стихии: в горе, земле, воде — локализуется невидимый храм и какой из них эта молитва направлена: «Святые угодники, земные скрытники, молите Бога о нас»[3170]. Или: «Батюшка Святое озеро, Святые отцы, молите Бога о нас»[3171]. Поведение на горе либо в ином семантически эквивалентном ей природном локусе строго регламентировано. На каждое движение и каждое слово существуют особые предписания: куда повернуться, в какую сторону направить ту или иную молитву, с какого места следует отправляться домой, и т. п. (Сведения, сохранившиеся об этом обрядовом действе, фрагментарны.) Как выясняется при рассмотрении других локальных традиций, трижды обходить либо оползать с зажженными свечами могли не только озеро (в частности, Светлояр), но и гору, сокрывшую в себе провалившуюся церковь. Имеется в виду обрядовый обход, который в силу общности семантики сменился к середине XIX в. крестным ходом вокруг Шум-горы, называемой также Большой, или Крестовой, Сопкой (Передольский пог., Лужского уезда, Санкт-Петербургской губернии). После обрядового обхода верующие поднимались на вершину Шум-горы и слушали звон запредельных колоколов, свесив голову в яму. По завершении же крестного хода вокруг Шум-горы на ней служили молебен. Если знаком почитания светлоярских гор, сокрывших в себе соборы, являлась часовня, построенная в середине XIX в. на одной из них всем миром, то на Шум-горе, поглотившей церковь, в качестве такового в 1820-е гг. фигурировали три деревянных креста, из которых к середине XIX в. сохранился лишь один. Это сакральные знаки-символы близкого присутствия здесь запредельных храмов и — шире — потустороннего мира. Как и в земле или воде, в горах есть «ворота», ходы-выходы, «дыры», ведущие в Китеж. Причем когда гора раздвигается, то в образовавшемся внутри нее проходе можно свободно пройти хоть пешему, хоть конному. Мало того, через него из «этого» мира в «тот» проезжает целый обоз груженых подвод. Каждая гора раскрывается сама по себе либо последовательно одна за другой, когда некая процессия молящихся монахов в своем шествии переходит из горы в гору.
Рис. 13. Московский Кремль. Фрагмент лубочной картинки «Св. Василий Блаженный». Прорисовка
Ворота в рассматриваемых легендах имеют свою иерархию: они могут вести не только в гору, но и в город (монастырь), храм и даже в алтарь. Кое-кто из местных жителей знал по «приметам», о которых им поведали деды и прадеды, ту точку в реальном ландшафте, где якобы сокрыты ворота, ведущие в невидимый Китеж: «Под этими холмами, — говорили они, — городские стены, и в том месте, где начинается углубление, большие ворота в крепость»[3172]. Эти ворота периодически открываются — закрываются — и вновь «ничего не заметно». Ступенчатое сужение локуса осуществляется в направлении усиления его сакрализации: «Как со Владимирского к озеру идешь, тут будет низкая горка справа — это Успенский монастырь; где часовня была на горе — там Крестовоздвиженский монастырь; где барский дом строить хотели, фундамент еще видать — это Рождественский монастырь. А подале овраг будет — это царские ворота (курсив мой. — Н. К.)»[3173]. Напомним, напротив именно этого оврага локализуется залив, осмысляемый как вход-выход в трансцендентальный мир и обратно. Напротив него находятся и «монастырские ворота», и «большая дорога», ведущая в Китеж и оттуда. И все движение, как выясняется, сориентировано на, казалось бы, обычный топографический объект. И это не случайно: овраг в данном контексте символизирует святая святых «иконной горки» — алтарь китежского храма. Представления о сокрытых в горах обителях, подобных китежским, присутствуют и в других локальных традициях. Они воплощены в легендах о Кирилловых и Жигулевских горах, стоящих над Волгой. Согласно описанию, данному П. И. Мельниковым-Печерским в рассказе «Гриша» и основанному на фольклорном материале, расступаются горы, растворяются «врата великия, белым алебастром об ину пору забранныя» — и навстречу сплавной расшиве, если только на ней все люди благочестивые, выходят из Кирилловых гор блаженные старцы «лепообразные, един по единому». Они передают с судоходцами поклон жигулевским старцам. И вновь ничто не выдает близкого присутствия здесь потустороннего мира. Невидимость обители в полном соответствии с фольклорной традицией, используя мотивы из упомянутого рассказа П. И. Мельникова-Печерского, описывает в своей поэме «Странник» Ап. Майков:
Овидий. Метаморфозы. VII. 409–410
Вергилий. Энеида. VI. 237–238
Дерево (лес)
Согласно мифологическим представлениям, медиативным локусом, разделяющим-соединяющим миры, наравне с водой, землей, горой служит и лес. В качестве устойчивого пограничного пространства он фигурирует в легенде, быличке, сказке. Через лес пролегает путь в мир мертвых. В лесу расположен вход в нижний мир. Образ непроходимого девственного леса, окружающего вход в Аид — подземное царство мертвых, особенно выразителен в античной традиции:Овидий. Метаморфозы. IV. 432–434

Рис. 14. Древнерусский колт (серьги с подвесками). Нач. XIII в. (по Б. А. Рыбакову)
Известна и иная версия мотива сообщений между мирами посредством дерева: через трещину в земле у корней березы молящиеся опускают милостыню китежским праведникам. Правда, этим праведникам подчас уподоблялись и вполне реальные «старцы», которые в подражание легендарным «скрытникам» «спасались» от Антихриста в землянках, вырытых внутри светлоярских гор, о чем, в частности, поведал В. Г. Короленко. Из следственных дел 1851–1857 г. выяснилось, что этими «старцами» опять-таки были бегуны. О том, что в представлениях верующих растущая на берегу Светлояра береза связана с трансцендентальным миром, свидетельствуют легенды, согласно которым находящихся здесь людей посещают видения, о чем подробней речь пойдет ниже. И, наконец, в зелени чудесного дерева, локализованного на одной из светлоярских гор, названной в честь «Семи тысяч младенцев Христовых», скрываются души неродившихся детей. Такое дерево необычайно уже по самой своей природе и визуальным признакам: «Говорят, посадили там березку, а выросла елочка. Кузловатая (узловатая. — Н. К.), уж такое дерево-то Бог поставил (курсив мой. — Н. К.)»[3191]. Это, по сути, материализованное в дереве средоточие душ, которым еще только предстоит появиться на свет из потустороннего мира. Подобный образ во всей полноте присущей ему семантики сохранился в архаических традициях[3192]. Представления о деревьях, связанных с «тем светом», распространены и в других локальных традициях. Так, например, в местности, получившей название Шарпан (в Поволжье, близ деревни Малое Зиновьево), высокая толстая сосна выросла на том месте, где, по легенде, когда-то «ушла в землю» церковь. Сакральными знаками-символами дерева, вырастающего из церкви, служит свет («что-то сияло»), огонь («что-то горело») и колокольный звон («слышали у сосны»)[3193]. Доказательством чудесной природы подобных деревьев служит кара, которая якобы обрушивается на тех, кто, вопреки запрету, отважится срубить хотя б одно из них: «Летось баба тут елошину подрубила. — „Что, говорит, за запрет такой! Срублю, и все тут!“ Как подрубила, дерево ее до смерти и ушибло»[3194]. Варианты легенд, основанных на «бродячем» сюжете о провалившихся церквах, зафиксированы и в других местностях. Согласно уже упоминавшейся легенде о Шум-горе (Лужский р-н, Ленинградская обл.), семья крестьянина, срубившего ель на ее северном склоне, была наказана смертью. Аналогичный вариант записан в Плюсском районе Псковской обл.: девушка, сорвавшая кору с березы, которая стояла у кладбищенской часовни, сразу же лишилась зрения. Дело в том, кроме всего прочего, что часовня была построена на месте, где испокон веков возвышалась церковь, якобы провалившаяся в давние времена под землю. Когда же претерпевшая кару взамен засохшей березы посадила другую, ее зрение восстановилось, но лишь отчасти. Иной вариант этой легенды: крестьянина, который ночью тайком срубил у этой же часовни дерево и привез его домой, наутро скорчило до смерти, а срубленное дерево как ни в чем не бывало продолжало расти на прежнем месте[3195].

Рис. 15. Митрополит Петр и князь Иван Калита поливают дерево Государства Московского. Фрагмент иконы. XVII в.
Во всех приведенных случаях сакральное дерево соотносится с землей либо горой. Однако оно может быть связано и с водой и даже локализовано в ней, особенно если речь идет о подводном Китеже и дороге, ведущей в этот запредельный город: «Говорят, что есть какое-то дерево, как сосна или чего ли, — растет посредине озера и ровное все время, не выходит из воды. Водолазы видели»[3196]; «В озере дерево большое есть: водолазы видели»[3197]. Подводное дерево, принадлежащее нижнему миру, бездне, смерти, является вариантом «антидерева» включенным в общее понятие «мировое древо». Оно соединяет миры, земной и подземный. Отделяет мир космического от хаотического, в известном смысле упорядочивая природный хаос. Локализуясь «посредине озера», оно символизирует сакральный центр вселенной, уподобляясь оси мира[3198]. Таковы основные очертания той архетипической модели, которая объемлет всю совокупность конкретных реализаций образа мирового древа, представленного в данном цикле. Эта модель зачастую сопряжена с другой, в соответствии с которой дерево (дупло, ветви), как и земля, гора, вода, служит топографическим объектом, где размещали умерших, и одновременно священным родовым воспроизводящим центром первобытного социума. Следовательно, реальные точки ландшафта в известной степени осмысляются как символика сокровенного мира. Сакральный же характер этих ландшафтных объектов в приведенном контексте определяется пережиточными представлениями о древних формах погребений, которые служат этнографическим субстратом фольклорных топосов. Иными словами, профанное в данном случае предстает как иерофания, имеющая перманентную природу. При рассмотрении топографических координат сокровенного города (монастыря) встает вопрос, которого мы уже отчасти коснулись выше: должна ли его локализация в определенном районе считаться реальной в буквальном смысле слова, или символической, или реальной и символической одновременно? Отвечая на подобный вопрос, Р. Генон пишет: «Для нас географические, исторические да и все прочие факты сами по себе имеют лишь символический характер, что, впрочем, не только не исключает их непосредственной реальности, но наделяет их высшим смыслом»[3199]. Таким образом, на земной поверхности, согласно легендам, есть вполне реальные точки,якобы открывающие доступ к иному миру и являющиеся сакральными знаками-символами инобытия, располагающегося в иной системе пространства и времени, нежели наш мир.
Инобытие сокровенного города (монастыря)
Погружение в воду, землю, гору, под дерево осмысляется как смерть определенного социума или индивида, селения либо конкретного объекта. Не случайно композитор С. Н. Василенко, работающий с материалом «китежских» легенд, интуицией мастера, склонного к архетипическому мышлению, осознал необходимость сопроводить этот эпизод погребальным перезвоном колоколов и хоровым пением. В дальнейшем развитии рассматриваемого «бродячего» сюжета продолжают сохраняться две версии. В той из них, где мотив «провалища» интерпретируется как Божье заступничество, для «уходящих» возможно преодоление границы человеческого статуса, проникновение в сокровенный сверхчувственный мир, обретение высшего состояния бытия, в конечном итоге — спасение для грядущей жизни в возрожденном космосе. Эта версия развертывается по схеме: за вчерашним профанным и иллюзорным временем начинается настоящая, вечная и могущественная жизнь. В результате в орбиту рассматриваемого цикла вовлекаются мотивы, модель которых сформировалась в легендах, повествующих о потустороннем мире, и прежде всего о земном рае. Именно с этой версией как раз и связаны легенды о невидимом Китеже: независимо от того, в какую природную стихию он погрузился, город стоит целым и в нем поныне живут святые люди. Характерно, что достоверность подобных легенд у носителей фольклорной традиции не вызывает сомнений. В связи с этим вспомним диалог сына и отца, Фомы и Игната Гордеевых, в повести М. Горького «Фома Гордеев»: «— „Город-от Китеж в воде стоит…“ — „То — другое дело! То — Китеж… В нем — одни праведники жили“. — „А в море праведные города не бывают?“ — „Не бывают… <…> Вода морская — горькая, пить ее нельзя…“». (В силу чисто фольклорной логики непригодная для питья вода — единственная препона для жизни людей на дне моря.)
Рис. 16. Святой Еван, апостол Павел и Иоанн Предтеча. По мотивам древнерусской живописи. XIII–XV вв. Владимир
Китеж, по легенде, издавна покоится в бездонной глубине озера, а под воронкой, где «крутится всё», расположен самый его центр. В соответствии с мифологическим сознанием каждый город, храм, дворец, дом спроецирован на Центр Вселенной и стоит в центре Мира. Причем трансцендентальное пространство вмещает в себя множество «центров»[3200]. Как уже неоднократно отмечалось, идея центра, или «середины», в легенде о Китеже действительно актуализирована: «дыра» (окно, дверь, ворота) локализуется посредине озера; самой срединой озера пролегает и дорога, ведущая в Китеж и обратно. Справедливости ради надо сказать, что сакральный объект нередко локализуется в центре и в период своего земного бытия, предшествующий переходу в трансцендентальный мир, что особенно очевидно из следующей легенды: «Старыя людзi кажуць, што гдзе гэтат груд, там даўней было места (город). Вялiкае гэта было места i пасярэдзте стаяла вялiкая цэркаў (курсив мой. — Н. К.)»[3201]. Осмысление Китежа как некоего духовного центра особенно отчетливо проявляется в словах одной православной старушки, которые, по сути, служат концентрированным выражением представлений о координатах сакрального потаенного города в мироздании: «Иные этто побывали и в старом Ерусалиме, и на Соловках, и в Киеве, и в прочих святых местах… А пошто мне туды ходить? и тута место больно свято!.. посвятей будет иных прочиих местов (курсив мой. — Н. К.)»[3202]. Сокровенный город обнаруживает признаки своего инобытия.
Отражение (тень) «ушедшего» города
Утрачивая свою земную жизнь и плоть, город (монастырь) обретает сакральное инобытие в виде тени, отражения, очертания. Отражается в воде весь город либо определенный метонимический эквивалент, особо значимый в плане его сакрализации: церковные кресты, горящие свечи, звонящие колокола и пр. Отражение, тень, очертание, осмысляемые как бесплотное состояние сокровенного города, — устойчивый символ не только в фольклорной, но и в литературной традиции. Причем в литературных произведениях образ города-отражения, города-тени варьируется в том же диапазоне, что и в устной традиции: срабатывает одна и та же архетипическая модель, хранящаяся в подсознании. Так, например, в очерке З. Гиппиус «Светлое озеро» «<…> не город, а лишь отражение города, стоящего на берегу, видят „достойные“ в тихих водах Светлояра»[3203]. В дилемме «город» или «отражение» З. Н. Гиппиус явное предпочтение отдает «отражению», тогда как М. М. Пришвин — «городу»: по его словам, хотя это и «отраженный, но все-таки город»[3204]. В сторону бытовизации картины отражения уходит в своем описании подводного Китежа П. И. Мельников-Печерский в романе «В лесах»: «А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей»[3205]. В отличие от названных писателей Д. С. Мережковский в своем романе «Антихрист» ограничивается лишь емкой метонимической зарисовкой, чтобы дать представление о сакральном городе в целом: «Летними ночами на озере слышится звон колоколов и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей»[3206]. Сама атмосфера близкого незримого присутствия сокровенного Китежа, царящая на берегах Светлояра и воплотившаяся в легендах и поверьях, рассказах и слухах, повлияла сходным образом на побывавших здесь писателей. Независимо от яркой творческой индивидуальности каждого из них, все авторы, как видим, представили град невидимый как град отраженный. В описаниях подводного Китежа при всем их различии используется одна и та же модель, выработанная в архетипической традиции. Эквивалентна отражению в плане семантики тень. Метафоры этих понятий, соотнесенных друг с другом, развернуты в стихотворении С. М. Городецкого «Алый Китеж: Под озером»:Огонь свечей
Внутреннее зрение, созерцающее невидимый град духовными очами, может, по народным рассказам, удостоиться видения огня и света на озере Светлояр, метафорой которых чаще всего служит свеча: «[Как-то раз на озере было большое моление и присутствовали беглопоповцы из Балахны.] И я уж отмолилась-ту и пошла, а те из Балахны остались, еще молились. Гляжу от — была у нас одна така с Городца, вдова, Настастья — от она идет: „Что б тобе, — мне она, — было остаться: там пока еще балахонски-те молились, столь свечей зажглось, своим глазам видела, так ярко горели (курсив мой. — Н. К.), я так и обревелась вся“»[3211]. Причем, по утверждению рассказчицы, свечи вспыхнули прямо-таки в воде, что служит некими знаками-символами запредельного мира. Подобные же свидетельства обнаруживаются и в других легендах. Зажженные свечи поднимаются со дна Светлояра в сакральное время: в полночь, накануне больших праздников. Это происходит, к примеру, на Вознесение Господне, отмечаемое на сороковой день после Пасхи, в четверг, и замыкающее пасхальный цикл, в течение которого души умерших могут посещать родных. Вознесение или его канун почитали праздником мертвых и сопровождали поминальными обрядами[3212]. Поднимаясь в это самое время из глубин Светлояра, горящие уже под водой свечи отнюдь не случайно мерцают на его поверхности: «А по озеру свечи с огнем ягают и ягают. Пылом не пылают, а ягают»[3213]. Как и следовало ожидать, они концентрируются опять-таки на самой середине Светлояра, где, как мы уже отмечали, сосредоточен некий духовный центр, соотнесенный со всем мирозданием. По другим легендам, свечи горят на горах в Пасхальную ночь. Это время, когда, согласно народным верованиям, на земле появляются умершие. Светящиеся на кладбищах огоньки — это и есть вышедшие из могил души. Если свеча (свечной огонь) символизирует человеческую жизнь (ср. фразеологизм «жизнь погасла как свеча»), то огонь — человеческую душу, чистую либо очищенную от грехов. Отождествление горящей свечи с человеческой жизнью устойчиво в народных верованиях. Не случайно в одной из легенд Богородица показывает попавшему в божественный мир крестьянину в разной степени пылающие свечи: «Эти свечи горят — это люди живут, что зажигаются — нарождаются, а догорают и гаснут — умирают»[3214]. Ср. с античной традицией: душа изначально наделена огненной силой, однако ее жар гасится земной плотью; освободившись от бренного тела, душа восстанавливает свою огненную природу:Вергилий. Энеида. VI. 745–747
А. С. Грибоедов. Горе от ума
В. Я. Пропп. Осень

Рис. 17. Свеча в старинном медном подсвечнике
Вместе с тем на берегу Светлояра совершается обряд, имеющий, по сути, встречную направленность, — из «здешнего» мира в запредельный Китеж, панораму которого, по словам рассказчиков, определяют златоверхие соборы, церкви, колокольни. Там, в сокровенном невидимом граде, по легендам, справа расположился собор Воздвижения Честного Креста, рядом с ним — Благовещения Пресвятой Богородицы, слева — Успения Божией Матери (они якобы имеют такой же абрис, как и одноименные соборы в Москве, Ростове, Владимире, Муроме, Городце). Вот каким запечатлел обряд пускания свечей к невидимым храмам М. М. Пришвин, посетивший заповедное озеро в 1908 г. и вместе с богомольцами опустивший в трещину между корнями березы, растущей на берегу Светлояра, милостыню китежским праведникам: «Рада бабушка, что я опустил свою лепту в город невидимый. Делится со мной свечкой: — „Поставь, — говорит, — поставь.“ — „Куда же поставить?“ — „Куда хочешь. Хоть к Знаменью, хоть к Здвиженью или к Успению <…>“. Берет щепку, прилепляет восковую свечу и пускает по озеру. Я делаю то же. Огонек старушки плывет к Знаменью. Мой тоже туда. Проходит по берегу еще кто-то со свечой, и еще, и еще. Праведники невидимого града выходят из темного леса с огнями. Сотни и сотни свечей. Идут безмолвленно вокруг Святого озера, перебирают лестовки, молитву творят»[3217]. Разыгрывающаяся здесь мистерия таит в себе определенный смысл. Согласно идущей из глубин веков традиции, обряд пускания свечей на воду предварялся троекратным оползанием на коленях или обходом озера Светлояр «посолонь», т. е. в соответствии с круговым движением солнца, суточным и годовым («время круг свой замкнет»). Совершенно очевидно, что этот обряд маркируется знаком круга. Круг же как фигура, образуемая правильной кривой линией без начала и конца, в любой своей точке сориентирован на некий центр, в данном случае — на сакральный духовный центр, локализованный посередине Светлояра, в его «бездонных» глубинах. Будучи одним из наиболее распространенных элементов мифопоэтической символики гетерогенного происхождения и значения, круг чаще всего выражает идею сопряженности цикличности времени с цикличностью пространства, идею единства бесконечности и законченности, высшего совершенства[3218]. Кроме того, в обряде оползания или обхода озера содержатся элементы культа предков и элементы поминального ритуала. Не случайно на пути следования участников обрядового обхода вокруг Светлояра есть точки, где они молятся «за родителей», «над родителями», «за упокой». В качестве непременного атрибута этого ритуального действа фигурируют и лестовки, т. е. кожаные четки. Само слово «лестовка», по данным древнерусского языка, означает то же, что лествица, т. е. лестница. Перебирание лестовок в подобном контексте символизирует восхождение участников обхода вокруг Светлояра, определяемое в соответствии со шкалой духовных ценностей. Вместе с тем лестовка, по представлениям старообрядцев, знаменует и замкнутый круг, образ вечной и непрестанной молитвы. Она облегчает подсчет молитв и поклонов, позволяя сосредоточить внимание на последних. Как уже говорилось, обход совершался с молитвами и теплящимися свечами. По его окончании эти же свечи или их огарки укрепляли на щепках, палочках, деревяшках — и маленькие светящиеся кораблики тихо уплывали, отражаясь в прозрачной глубине Светлояра. Сведений о том, что представляли собой такие деревяшки, на русском материале не имеется. Однако они в известном смысле реконструируются на основе сербской этнокультурной традиции. Выясняется, что это легкие прямоугольные дощечки, изготовленные в определенное время (за день до отправления самого обряда, причем на рассвете) конкретным лицом (отцом покойного или кем-нибудь из его старших родственников-мужчин) с соблюдением санкционированных традицией предписаний (натощак, с непокрытой головой, молча). Характерно, что такие дощечки в сербской традиции — непременный аксессуар поминального обряда: эту дощечку с укрепленной на ней зажженной свечой женщины трижды возносят к восходу солнца (к востоку) и к заходу (к западу), что опять-таки соответствует круговому движению солнца, и затем осторожно опускают ее на воду, что имеет аналог в русской традиции. Как отмечает акад. Н. И. Толстой, обряд пускания зажженных свечей, укрепленных на дощечках или щепках, на воду имеет праславянский и даже индоевропейский характер. Обусловленный культом предков, он служит одной из форм общения с душами умерших. Не случайно в сербской традиции это действо приурочивается ко времени вторых поминок, которые справляются в первую субботу после погребения. Причем значение дощечки с горящей свечой в достаточной степени определено: ей предстоит уплыть по течению, т. е. «отправиться на тот свет»[3219]. Если поднимающаяся из глубин озера пылающая свеча символизировала способность ушедших к коммуникации с живыми (напомним, у восточных славян в гроб клали свечи, горевшие при отпевании), то аналогичная свеча, пущенная на воду, — поминовение усопших живыми. Подобная интерпретация соотнесенных между собой мифологем, устойчивых в структуре легенды, подтверждается, в частности, духовной грамотой великого князя Симеона Гордого, датированной 1353 г.: «А пишу вам се слово того деля, чтобы не перестала память роди(те)лии наших и наша, и свеча бы не угасла (курсив мой. — Н. К.)»[3220]. Этому суждению древнерусского князя не противоречит объяснение назначения светлоярских огней, которое дал в 1904 г. «один ветхий старик»: огни зажженных свечей заметят, дескать, в Китеже, живущем на дне озера, и «„возрадуются зело“, что правоверные еще сохранились и не забыли китежан». По его словам, в старину огоньки плавали по всему озеру от края до края: «столь много их бывало, как божьих звездочек на небе…»[3221]. Интенсивность таких огней символизирует прочность связей живых с ушедшими. Идея единения поминающих с поминаемыми, так же как и миров — посюстороннего с потусторонним, особенно отчетлива в следующей легенде: когда женщинам, читающим в праздничный день на Светлояре каноны, не хватило свечей, над озером появился «ковер, а на нем свечек видимо-невидимо — и стало тогда светло»[3222]. В легендах же, повествующих не о подводном, а о подземном либо находящемся внутри горы Китеже, содержится, естественно, иная версия этого мотива: свечи («много свеч-то») доставляются «к образам невидимых храмов» уже не водой, а обозами, которые входят в ворота горы, распахнувшейся, а затем вновь сомкнувшейся. Несколько иную семантику имеет изображение «прекрасного света» и сияния, время от времени исходящих в ночной темноте от озера Светлояр либо прилегающих к нему гор (холмов): «Бывало, в овине летом кто-нито заночует, ночью-то выйдет оборотится к Горам — ан Горы-ти и сияют»[3223]. Согласно же иной, шарпанской, легенде многие верующие видели, как «что-то сияло и горело» на сосне, выросшей на том месте, где некогда стояла ушедшая в землю церковь. Излучение света, сияния, горения — все это знаки-символы сакрального центра и исходящей из него духовной энергии, которая призвана утвердить власть света над тьмой, жизни над смертью, вечности над сиюминутным, преходящим и бренным.
Колокольный звон
Сокровенный град Китеж дает знать о себе не только световыми, но и звуковыми импульсами. Не случайно в индоевропейских языках значение слов «свет, блеск» соотносится со значением «звук»[3224]. Речь идет прежде всего о звоне колоколов, осмысляемых в качестве метонимического эквивалента Китежа, что, например, нашло выражение в поэзии М. А. Волошина:
Рис. 18. «Плачевный звон», миниатюра Лицевого летописного свода середины XVI в. (ГИМ)
К легендам о невидимом граде Китеже и мистериям, происходившим на берегу Светлояра, наибольшее отношение имеет праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Отмечаемый 23 июня/6 июля, он постепенно вытеснил праздник Аграфены Купальницы, приходящийся на этот же день. Праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери был установлен в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата, знаменитого «стояния на Угре», которым было ознаменовано окончание татарского ига, что, разумеется, имеет известное отношение и к рассматриваемой «китежской» легенде. Именно эта икона и была храмовой в селе Владимирском, расположенном в полутора километрах от Светлояра. Как заметил уже П. И. Мельников-Печерский, на холмах у Светлояра в старину люди собирались накануне дня Аграфены Купальницы, в Навий день, на Радоницу: здесь совершались языческие требища, справлялись «оклички» покойников[3226]. При ближайшем рассмотрении убеждаемся, что праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери вобрал в себя семантику не столько последующей, т. е. купальской, обрядности, сколько предыдущей, связанной прежде всего с семицко-троицким циклом, в состав которого, в частности, входили Вторая Вселенская Родительская суббота (суббота накануне Троицына дня), отмечаемая у восточных славян как один из главных в году поминальных дней, и четверг Троицкой недели, называемый в некоторых местностях Навской Троицей или Навским четвергом (его наименование говорит само за себя: навь, навъ, навье — покойник). Поскольку Троица — праздник переходящий (она отмечалась в 50-й день после Пасхи), ни суббота накануне Троицына дня, ни четверг Троицкой недели не имели устойчивого календарного закрепления. По-видимому, отчасти поэтому название праздника, к которому приурочены акустические проявления невидимого града Китежа, нередко так и не приводится, хотя связь его именно с праздником неизменно подчеркивается. Впрочем, сказанное относится и к другим локальным традициям, например, московской, псковской, тульской. В них колокольный звон также раздается просто перед большими праздниками или по праздникам из озер, где сокрыты церкви, провалившиеся туда вместе с прихожанами вследствие некоего кровопролития либо совершенного в них «беззакония». Согласно же севернорусским преданиям и легендам, затонувшие колокола звонят в озере либо из-под земли каждый год в пасхальную ночь, Успеньев день (Успение Пресвятой Богородицы — 15/28 августа) или в канун других больших христианских праздников, отмеченных знаками смерти, поминовения, воскресения. Исследователями уже замечено, что в легендах о сокровенных городах, монастырях, церквах, колоколах сами даты вызывают повторение одних и тех же событий. Впрочем, не только даты, но и определенные обряды создают предпосылки для сакральных проявлений трансцендентального мира. Таковым, в частности, служит обряд обхода или оползания вокруг Светлояра, посредством которого обеспечивается включение человека в сферу сакрального: «Однажды пошли мы с сестрами вкруг озера обходить. Идем. Вдруг подо мной ударило в колокол, у меня даже в ушах задрожало. Сперва в один колокол зазвонили: бум-бум-бум, — а потом стали во все звонить. А церквей-то вокруг нету. Я иду — земля дрожит, волосы дыбом»[3227]. Причем рассказчики, как правило, настойчиво исключают какую бы то ни было возможность земного происхождения этих звонов: поблизости нет церквей; в недальнюю церковь еще не завезены колокола; реальные колокола в селе Владимирском стали звонить спустя некоторое время после того, как отзвонили колокола невидимых храмов, и т. д. Звоны из потустороннего мира доходят до живых разными путями: распахивается озеро — и оттуда раздается колокольный звон: он доносится из прибрежных холмов, под которыми сокрыты церкви и соборы Китежа; его можно услышать, если лечь на берегу озера Светлояр, приложив ухо к земле. Состояние, которое необходимо пережить, чтобы «сподобиться здешней благодати», описал в 1875 г. в романе «В лесах», основываясь на бытующих здесь верованиях, П. И. Мельников-Печерский: «Первое дело — усердие, — стал говорить старик. — Лежи и бди, сон да не снидет на вежди твоя… И в безмолвии пребывайте, православные: что бы кто ни услышал, что бы кто ни увидел — слагай в сердце своем, никому не повеждь. Станет усердного святый брег Светлого Яра качать, аки младенца в зыбке, твори мысленно молитву Исусову и ни словом, ни воздыханием не моги о том ближним поведать…»[3228]. В 1890 г. описание такого состояния отчасти дублирует, а отчасти дополняет новыми штрихами В. Г. Короленко: «Усталые, в истоме между мирами, при огнях на небе и на воде, они (благочестивые люди. — Н. К.) отдаются баюкающему колыханию берегов и невнятному дальнему звону… И порой замирают, ничего уже не видя и не слыша из окружающего»[3229]. В 1913 г. некоторые детали приведенной картины уточняет С. Дурылин: «Уверяют, что усердных берег этого озера ночью убаюкивает, качая их, как детей в люльке, что, говорят они, усердные люди чувствуют сами»[3230]. Иначе говоря, чтобы услышать звон запредельных колоколов, нужно впасть в состояние, характеризуемое фразеологизмом «ни здесь ни там», т. е. оказаться в промежутке между мирами. Для этого следует лечь на берегу Светлояра, но не спать, а «замереть»: ничего не видеть, не слышать, хранить полное безмолвие, сдерживая дыхание. Когда берег заповедного озера начнет качать усердного, словно младенца в зыбке, люльке, колыбели (метафора качелей), и тот почувствует его баюкающее колыхание, то по сотворении молитвы сподобится услышать звон колоколов китежских храмов. Поскольку качание на качелях (в данном случае в «зыбке», «люльке», «колыбели») осмысляется в народных верованиях как один из способов попадания на «тот свет», становится понятным, какой ценой достигается «здешняя благодать». Это состояние полужизни-полусмерти, положение «ни здесь ни там», в промежутке между мирами, тонко подметил и передал в повести «У стен града невидимого» М. М. Пришвин: «Настала полная тьма. <…> На что-то мягкое, живое я наступил. Нагнулся и испугался: на берегу озера под проливным дождем в грязи лежала женщина, лицом к земле. — „Не трогайте, не трогайте ее, — сказал мне кто-то, — она звон слушает“»[3231]. Такую же отрешенность «слушающих» от всего земного воспроизводит и С. Дурылин: два старика, голова к голове, лежат на песке, у самой воды, она едва ли не доплескивает до «белого сияния» их волос. Старики неподвижны и безмолвны. На лицах «светлое и строгое безмятежие». Глаза не закрыты, смотрят, но ничего не видят и не выражают[3232]. Как убедительно доказал акад. Н. И. Толстой, светлоярскому лежанию на земле и слушанию звона китежских колоколов соответствует южнославянский, и в частности западноболгарский, обряд «слушания покойников». Согласно этому обряду, на Русальной (Троицкой) неделе после богослужения молящиеся ложатся на пол церкви, устланной веточками грецкого ореха (это дерево смерти) и слушают своих покойников[3233].

Рис. 19. Звонница Успенского собора в Ростовском кремле
По утверждению рассказчиков, не каждый достоин услышать звон Китежа, несущийся из глубин озера Светлояр: «Ну, да кому как, иной услышит, иной нет…»[3234]. «Услышать этот звон, — пишет архиепископ Иоанн Сан-Францисский, — могут только покаянные люди, очищенные сердцем, сознание которых утончено молитвой и богомыслием»[3235]. Удостаиваются приобщиться к чуду люди благочестивые, набожные, особенно дети и бедняки, которые, по народным представлениям, являются самыми чистыми и безгрешными. Праведный человек слышит «святой звон невидимого града» даже будучи совершенно глухим. В рассказе, зафиксированном В. Г. Короленко, таков, например, живущий в странноприимном доме на берегу Светлояра «старик лет девяноста, седой, как лунь, наивный, как ребенок, и глухой, как тетерев»[3236]. Неким внутренним, духовным, слухом он слышит неразличимый для других китежский звон не только «под Владимирскую», но и во всякие другие дни по утрам: «Выйду этто на зорьке на ранней на кресты невидимые помолиться, а оно и гу-у-удит и бу-у-хает»[3237]. Простым же смертным этот звон кажется шелестом листьев, шумом деревьев. По рассказам, в старину звон китежских колоколов слышали чаще, а теперь редко или вообще не слышат. Нет прежней веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние» (Евр. 11.1). Причем носителей светлоярской фольклорной традиции скорее удивляет не само чудо как таковое, но его отсутствие. Колокольный звон, сводящийся к определенному звуковому спектру («радостный благовест и звон Богослужения»), осмысляется как неотъемлемый атрибут православного культа. Он знаменует час утрени, идущей во граде Китеже. Описание этой полифонии варьируется за счет синонимичности деталей, характеризующих технику исполнения, тембр, силу звука. По словам одного из рассказчиков, который на престольный праздник — «на Владимирскую» вместе со всем народом пошел к Светлояру, он услышал, приближаясь к селу Владимирское, глухой звон, доносящийся будто из-под земли: «Колокол большой — и красиво бьет. А потом и маленький вступил»[3238]. Из другого варианта этого мотива выясняется, что громкий гул большого колокола достигается благодаря тому, что в него звонят ногой: «Как грянет ногой, так до Воскресенского было слыхать»[3239]. «Звон серебряных колоколов… густой звон, малиновый», такой, что «век слушай, не наслушаешься», имеет сакральную сущность.
А. Майков. Странник

Рис. 20. Падение колокола. Миниатюра Лицевого летописного свода середины XVI в. (ГИМ)
Выступая в легендах в качестве метонимического эквивалента затонувшего города (монастыря, храма), колокол осмысляется как средоточие его жизненной силы, нетленной сущности, души. Вот почему возвращение колокола из инобытия, возможность которого постулируется в одном из севернорусских преданий, влечет за собой не только возрождение, восстановление мироздания (оно имеет разные масштабы) после пережитого хаоса, но и возвращение его к истокам. Причем эти истоки наделяются признаками «начала времен», с которым связаны представления об идеальном устройстве и совершенстве мира: «И пошел с той поры у стариков завет — беспременно колокол вытащить. Как его опять на колокольню здынут, да звоном своим серебряным он зазвенит — тут все снова по-старому и пойдет (курсив мой. — Н. К.)»[3249]. Вернется к «началу времен», имеющему в фольклоре разную иерархию, прежде всего космогония: появятся обновленными «гора лесиста», «лес огромадной», «болотца в травах», камни, мох-ягель. А вслед за ней учредится и санкционированный традицией житейский уклад и миропорядок: исчезнут «кипиратив» и сельсовет, школа, почта и больница, «чугунка» и проезжие дороги как знаки очередного временного цикла, клонящегося к своему упадку и одряхлению. И возродятся к обновленному бытию «досюльние люди»: «А как колокол-то зазвонит — так все опять и перевернется: почта и школа скрозь землю провалятся, чугунка лесом зарастет, над больницей камни содвинутся, все дороги мохом-ягелем зарастут и пойдут по прежним лесным варакам девки в снарядных сарафанах собирать княженику-ягоду да малину (курсив мой. — Н. К.)…»[3250]. Этот колокол наделен рядом сакральных признаков: он «серебряной с узорам», «звонит звоном таким-то малиновым». Над ним, отнесенным монахами к реке при приближении «агличанки» (знак надвигающегося хаоса) и спущенным в воду «промежду порогов», тотчас же сам собой наваливается камень (знак погребения), вокруг которого вода, «ровно котел кипящий, завилась» (знак круговорота цикличного времени). Попытка же поднять колокол на данный момент оказалась безрезультатной — он уходит все глубже и глубже под пороги, на дно. «Времени бег круговой» еще не отмерил положенный срок. Этот сакральный атрибут — средоточие неких потенций к грядущему устроению обновленного мира. Роль колокола в попытке затонувшего города вернуться к земному бытию прослеживается и в литовском фольклоре. Так, в одном из мифологических рассказов некая женщина увидела в роднике, который образовался на месте провалившегося Райграда, замок от его ворот. Как только она приподняла замок, за ним потянулись цепи, привязанные к подземным колоколам, — и те зазвонили. Однако, испугавшись, женщина выронила из рук этот сакральный атрибут — и все исчезло. Оказывается, она поднимала затонувший Райград, который, было, уже радовался своему возвращению из подземного плена[3251]. Тот факт, что вызволение обеспечивается именно звонящим колоколом, подтверждается и другой литовской легендой: чтобы спасти город, на месте которого образовалось озеро, со временем затянувшееся мхом, следует улучить краткое мгновение, когда он в очередной раз поднимется со дна, войти в костел и позвонить в колокол[3252]. Заметим, что некоторые параллели к анализируемому мотиву содержатся и в померанской легенде о Винете: в пасхальное утро будто бы видели, как всплывает на поверхность моря Винета с гудящими серебряными колоколами ее церквей, с бронзовыми дверьми и домашней утварью. В других же произведениях, принадлежащих, в частности, белорусской фольклорной традиции, в качестве эманации жизненной силы затонувшего селения может фигурировать крест как эквивалент колокола. Примером служит легенда опровалившейся деревне Пацевичи, на месте которой образовалось озеро Ольховское (Гродненская губерния). Спустя сто лет после случившегося один пастух увидел на берегу озера крест. Подняв его, парень потянул к себе цепь, на которой держался этот крест. Вслед за цепью на поверхность озера всплыла и затонувшая деревня, жители которой на радостях подняли веселый крик. Однако предполагаемый избавитель от неожиданности в испуге выпустил из рук цепь — и селение вновь, на очередное столетие, погрузилось в воду. В другой же легенде колокол, который приплыл к берегу местной реки и зазвонил, удалось поймать с помощью сетей прибывшему сюда крестному ходу, причем в тот самый момент, когда он уже наполовину скрылся в воде. Другой, приплывший с ним, колокол, надо полагать, отплыл дальше. Таким образом, в легендах о невидимом граде Китеже звонящие колокола осмысляются как знаки-символы погребально-поминальной обрядности и сопряженного с ней инобытия. Вместе с тем они представлены в качестве эманации сил, обеспечивающих грядущее обновление провалившегося селения, которое может произойти по истечении определенного срока, чаще всего измеряемого столетиями, после пережитого им состояния хаоса. Все эти составляющие в своей совокупности образуют единый комплекс верований, обусловленный «озаренностью идеей возрождения».
Молитвенное пение

Рис. 21. Крестный ход. Клеймо иконы «Богоматерь Толгская». Ярославль. XVII в.
Акустический код потустороннего мира определяется в «китежских» легендах не только колокольным звоном, но и церковным пением. В одних случаях эти звуковые импульсы поступают из запредельных подводных храмов, знаками-символами которых служат, к примеру, тени церковных крестов, отражающихся в озере в солнечную погоду. В других пение доносится из сокрытой в горе церкви: она обнаруживается в тот момент, когда гора при внезапно наступившей темноте («темища», будто «туча какая серьезная») вдруг затрещала и поднялась. В категориях звукового кода представлен и таинственный крестный ход, видение которого показалось монахине-схимнице в том самом месте, где локализуются «воротца» (никогда не зарастающий брод в озере), ведущие в Китеж. Мелькают огоньки и высокие золоченые хоругви («хирурги»), доносится молитвенное пение. Или это некая процессия молящихся «по всем правилам». Она совершает в один из летних праздничных дней («Жара стояла страшная. А в эти дни праздничек был») ритуальный обход вокруг Светлояра. Лики участников этой мистерии не обозначены: «<…> идут человек двенадцать в черном, платки на них черные и свечки в руках»[3253]. Число «двенадцать», производное от «трех» и «четырех», символизирует целостность динамическую и статическую, идеально устойчивую структуру, абсолютное совершенство[3254], чем и обусловлено согласное пение маркированной этим числом общности. На переднем плане ее акустический образ, выдержанный в рамках определенных стереотипов: «Пели: „Спаси, Господи, люди твоя“»[3255]. Имеется в виду одна из утренних молитв — тропарь креста и молитва за Отечество (поется на Крестовоздвижение — 14/27 сентября): «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным Христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». По-видимому, подобное молитвенное пение слышали в березнике у озера Светлояр во время войны женщины; как только они подошли, пение прекратилось: у озера никого не оказалось. Иная версия: из-под земли, из-под светлоярских берегов, доносится пение «Иже херувимы…». Там, в сокровенном храме, идет Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, поется «Херувимская песнь»: «Иже херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение». Звуковой спектр пения характеризуется в знаковых категориях: «Тихо, плавно они пели, как ангелы». Или: «пение согласное такое да старинное», где каждый голос вливается в общую гармонию. Соответствуя природному ритму, оно включается в ритм мироздания: «Запели все так стройно, а волны в озере только хлоп-хлоп»[3256]. Неполная отрешенность слушающих от «этого» мира («Я сестре говорю: „Слышишь, Анют?“») часто перекрывает мимолетную включенность в инобытие, заявившее о себе звуковыми импульсами, — и тогда результат один: «все пропало», «и нам все прикрылося». Звуковые сигналы, будь то колокольный звон либо божественное пение «стройного клира» — особый язык, служащий целям коммуникации между бытием и инобытием. Как следует из восточнославянских материалов, обычно подземное богослужение идет то раньше, то позже наземного, однако в дни больших праздников, например, в Великий день, т. е. на Пасху, или в Светлую седьмицу, т. е. в субботу накануне Троицына дня, отмечаемую как один из главных поминальных дней в году, они справляются синхронно: «Кажуць, ек правитца на Велик дзень набоженство (богослужение. — Н. К.), то треба лехчь на гэтом грудзе и почуеш, што и там правитца набоженство и чутно, ек звонець и спеваюць»[3257]. Согласно иной версии, церковная служба, идущая «там», интерпретируется как продолжение начатой еще «здесь», до «провалища». Эта версия зафиксирована в различных этнокультурных традициях. Так, по французской легенде, провал города Ис произошел в момент, когда в храме шла обедня, — и до сих пор, но уже на дне моря, священник продолжает ее. Аналогична тирольская легенда: по временам можно видеть, как на дне ходит священник и читает книгу. Кстати, именно эта традиция выдержана в опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»: в преображенном Китеже звучит песня, недопетая на земле. Языческий же вариант подобной легенды представлен в севернорусской бывальщине, где из-под земли доносятся звуки пропавшей, но отнюдь не прекратившейся беседы.
Бытовые звуки
Наряду с сакральной версией происхождения доносящихся из-под земли или из-под воды звуков в легендах о провалившихся городах присутствует и профанная версия. Правда, на русском материале она не получила достаточного развития. И тем не менее ее нельзя сбрасывать со счетов. Мотив «люди и скот под землей» впервые был выделен В. Н. Топоровым. Древнейшую его фиксацию ученый обнаружил в «Гетике», написанной Иорданом на рубеже V–VI вв.: «Можно поверить свидетельству путников, что до сего дня там раздаются голоса скота и уловимы признаки человеческого [пребывания], хотя слышно это издалека…»[3258]. Как отмечает исследователь, здесь заключен мотив слышимости звуков, издаваемых скотом и людьми, оказавшимися под землей или водой. Аналоги этому мотиву обнаруживаются в румынских легендах и поверьях: приложив ухо к земле, можно услышать, как на «том свете» разговаривают люди, ревет скот, звонят колокола или из глубин вод доносится пение петухов. В литовских легендах люди по утрам слышат, как в потонувших поместьях поют петухи, звонят колокола, раздается звук отбиваемых (оттачиваемых) кос[3259]. В типологическом ряду акустических знаков трансцендентального мира, принадлежащих различным этнокультурным традициям, наблюдаются и другие признаки инобытия: стоны, крики, вопли молящихся, лай собак, блеяние коз, мычание коров и т. п. В белорусских нарративах из «провалищ» подчас доносится шум и гомон многолюдных площадей. Не исключаются и звуки, которым в народных верованиях, связанных еще с язычеством, приписывается магический характер: пение женщин и музыка. Добавим к сказанному, что в западноевропейских народных сказаниях, в которых фигурируют сокрытые в горах города и замки, акустическую картину потустороннего мира определяют раздающиеся время от времени звуки воинских труб и рогов, бой барабанов, звон оружия, топот и ржание лошадей — все это признаки приготовлений божественной рати к выступлению в поход. И хотя эта версия также не столь широко освоена в русской традиции, она наряду с другими характеризует особенности периода досуществования или предсуществования, которым предваряется появление возрожденного человечества, подчас персонифицированного в своих героях. Звуки же, слова, как отмечает М. М. Маковский, служат символами божественного творения. Они рождают вещи. Не случайно слова со значением «издавать звуки» в индоевропейских языках нередко принимают значение «явить, явиться» (ср. гот. rodjan «говорить», литов. roditi «показывать», русск. «родить»)[3260].Видение сокровенного града
Картина сакрального мира, представленная как гармония световых и звуковых импульсов, дополняется визуальными символами храма, в котором идет богослужение, а подчас и зримым абрисом самого сокровенного города. Иначе говоря, акустический и оптический коды в этой картине сочетаются с визуальным. Инобытийная реальность обнаруживается в тот момент, когда сакральный пространственно-временной континуум прорывается в профанный хронотоп.
Рис. 22. Мастер делает сосуд. Миниатюра (по Ф. И. Буслаеву)
Обычно это происходит в праздники, а в легендах о невидимом граде Китеже особенно в ночь «на Владимирскую», на утренней заре, т. е. на восходе солнца, с которого в Древней Руси исчислялось начало суток, меняющееся в зависимости от времени года. Чтобы увидеть сокровенный город, нужно так же, как и в случае с колокольным звоном, пережить состояние, подобное лиминальному: «Лежи со усердием, двинуть перстом не моги, дыханье в себе удержи…»[3261]. Оно поддерживается и переживанием молитвенного экстаза («молились всю ночь»), чем достигается отрешенность от всего земного. Знаком пребывания в таком состоянии служит и отмеченность возрастного ранга. Проникновение в сакральное инобытие доступно лишь внутренним, духовным «очесам и ушесам», которые открываются у «самых избранных сосудов», — у тех, кто в своей праведной жизни придерживается «древляго благочестия», кто в повседневном быту соблюдает старинные обычаи. Таков, по словам одной из легенд, некий старичок, ходивший «во всем белом, тканом: штаны, рубаха, поясом препоясанная». Именно перед ним распахнулась гора, в которую некогда «ушел» Успенский собор: «А там поют, свечи горят»[3262]. В другой же легенде перед старушкой (ей пошел девятый десяток; она всю ночь у Светлого озера провела в молитвах) расступилась гора — и под звуки богослужения показались не только иконы и свечи, но и сами китежские старцы: «и такое-то благолепие, все честные старцы стоят и усердно молятся, иконы какие! Свеч — что песка морского, пение — ангелоподобное»[3263]. Причем гора осмысляется как стены храма, а ее нутро, соответственно, — как интерьер собора, вследствие чего она уподобляется раннехристианскому пещерному храму. Согласно иной версии, распахивается озеро — и виднеются очертания города со всей его сакральной атрибутикой: церквами, соборами с золотыми маковками и крестами. Впрочем, может открыться и более широкая панорама потустороннего города: там, за его стенами, зримы церкви и монастыри, княжеские палаты, боярские терема и дома, принадлежащие людям разных сословий. Подчас сакральный пространственно-временной континуум как бы прорывается за свои пределы — и тогда уже здесь, на земле, под звуки благовеста среди огней и свечей воочию движется некая процессия молящихся монахов (старцев, праведников, святых отцов), шествующих по озеру, вокруг него или из горы в гору. Сокровенный город являет свою сакральную сущность. Такая картина — апофеоз веры в невидимую идеальную церковь. На нее спроецированы нравственные, духовные, религиозно-философские искания людей, живущих в «этом» мире. «Глубокой человечностью преломилось „Сказание о Граде Китеже“ в русском сознании <…> Русское сознание питается правдой, лежащей в основе мироздания. Эта правда отражается в произведениях чистого искусства и в подвиге чистой веры», — утверждает, касаясь интересующего нас сюжета, архиепископ Иоанн Сан-Францисский[3264].
Взыскание сокровенного града
Взыскующие града Китежа
Среди нарративов о невидимом Китеже особую группу сюжетов составляют легенды о возможности — невозможности обретения сокровенного града. Неотъемлемое свойство пути к этому граду — его трудность. Это трудность духовного характера, хотя она и может быть выражена в физических категориях: «Дорога тяжела и опасна, потому что на самом деле это дорога от профанного к священному, от преходящего и иллюзорного к реальному и вечному, от смерти к жизни и от человека к Богу»[3265]. Этапы пути, ведущего к взыскуемому граду, соответствуют ступеням духовного восхождения, заповеданного божественным промыслом: «Иисус сказал ему (Фоме. — Н. К.): „Я есмь путь и истина и жизнь“» (Иоан. 14.6). Вот почему «жизнь во Христе» — важнейшая предпосылка к обретению сокровенного града. В рассказе, услышанном П. И. Мельниковым-Печерским в окрестностях Светлояра и воспроизведенном в романе «В лесах», «жил по боге» Перфил Григорьич: человек тихий и кроткий, он никому не причинял обиды — «ни-ни». Отрешившись от мирской суеты, Перфил Григорьич испытывал потребность в духовной пище: «Все, бывало, над книгами сидит, все над книгами…»[3266]. Из них-то и узнал «про этот самый Китеж» — и стал в путь собираться. В числе тех, кто взыскует сокровенного града, и «угодный» старичок Кирила Самойлович, изображенный в очерке В. Г. Короленко «На Светлояре», как и Перфил Григорьич в названном романе П. И. Мельникова-Печерского, на основе устных рассказов, полностью соответствующих архетипическим моделям, выработанным в системе данного цикла. Приходя к заповедному озеру, он залезал в гору — неделями там живал, молился, спасался, уподобляясь китежским старцам. В своем духовном подвижничестве этот праведный человек достиг такого просветления, что у него открылся некий внутренний слух — он стал слышать звон китежских колоколов: «Я вот слышу въяве: это у них к заутрене вдарили»[3267]. И — как следующая ступень в достижении духовного преображения — прозрение «для мира нездешнего»: открылся Кириле Самойловичу как будто из тумана, стелющегося над озером, и сам город. Преодоление духовных глухоты и слепоты, символизирующих неверие, означает вместе с тем преодоление очередной вехи в нравственно-религиозном состоянии героя — переход от неверия к вере, после чего сборы в Китеж — лишь очередная ступень на пути к взыскуемому граду. Приготовления к дальнейшему восхождению по духовной лестнице изображены в полном соответствии с идеологией бегунов, или странников, сводящейся к апологии побега, выхода за пределы «антихристова» мира. Причем идея побега не просто постулируется. Она противопоставляется идее мирской жизни, которая, по мнению странников, чужда самому смыслу правой веры. «Иссякает ревность по вере, люди суету возлюбили, плотям стали угождать, мамоне служить… Последние времена…»[3268], — утверждает один из бегунов в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах», отмечая преобладание в мире плотского над духовным, бренного над вечным, греховного над праведным, человеческого над божественным, что служит знаком надвигающегося хаоса. Выход из этой кризисной ситуации, согласно идеологии бегунского согласия как крайнего течения старообрядчества, представляется в разрыве всех семейных и социальных связей, в отказе от имущества. Подобные постулаты выразительно сформулированы в монологе одного из героев повести М. Горького «В людях»: «Я говорю — освободись, человек. К чему дом, жена и все твое перед Господом. Освободись, человек, ото всего, за что люди бьют и режут друг друга, — от злата, сребра и всякого имущества, оно же есть тлен и пакость. Не на полях земных спасение души, а в долинах райских! Оторвитесь ото всего, говорю я, порвите все связки, веревки, порушьте сеть мира сего — это плетение антихристово»[3269]. Подобная модель отчасти лежит и в основе поведенческого стереотипа Кирилы Самойловича. Намереваясь уйти в Китеж, он «порешил» свое имущество: продал избу, пчельник, пожитки. Однако здесь сказывается и влияние иной модели: Кирила Самойлович предался умерщвлению плоти: перестал есть хлеб, пить квас. «Извелся» телесно, но просветлел духовно: «лик веселый». В подобном поведении проявляется кодекс приготовлений к смерти, сформировавшийся в среде бегунов, которые перед кончиной уходили в лес, переставали есть и практически умирали голодной смертью, принимая тем самым «мученический венец». По иным сведениям, староверы соблюдали сорокадневный пост перед смертью. Соответственно и Кирила Самойлович, уже находясь в лиминальном состоянии, т. е. «ни здесь ни там» и готовясь уйти «туда», напоследок как бы осуществил свои собственные похороны: умылся, причесался, оделся «чистенько», попрощался и — исчез. Собираясь в запредельный мир, он, по сути, уподобляется душе, которая, согласно духовному стиху, уже покинула бренное тело:Приглашенные в град Китеж
Наряду с теми, кто с надеждой отыскать сокровенный град и войти в него отправляется в путь, преисполненный опасностей и лишений, в легендах рассматриваемого цикла фигурируют и персонажи, приглашенные китежскими старцами «жить там до второго пришествия». Как правило, это люди верующие, набожные, благочестивые. Они ведут праведный, молитвенно-углубленный образ жизни: «Мово отца мать праведной жизни была. Ни одну ночь в постельке-то не спала. Как всех уложит, так и пойдет к Богородице. И молится и молится. И ходила она каждый год на Светлое озеро»[3274]. Обычно эти люди уже удостоились права слышать звон запредельных китежских колоколов, видеть свет, исходящий от свечей, поднимающихся зажженными из глубин Светлояра, различать неразличимые для других звуки церковного пения невидимого клира. И вот восхождение на новую ступень духовного прозрения. Возможность приблизиться к вратам сокровенного града и внутренне приобщиться к тайнам потустороннего бытия достигается посредством углубленной сосредоточенной молитвы, позволяющей отрешиться от всего мирского, суетного, сиюминутного и совершить подъем к святому и чудесному. Приближению к вратам сакрального града способствует и обряд троекратного оползания или обхода вокруг Светлояра, чем обеспечивается подключение человека к неким универсальным ритмам многосоставного мироздания. Подобная возможность открывается и при строгом соблюдении древних обычаев, освященных авторитетом старины, восходящей в своих истоках к «началу времен» и повторяющейся посредством ритуала во все времена. Так, например, удостоился приглашения в Китеж некий богомольный старичок, который ходил «во всем белом, тканом: штаны, рубаха, поясом подпоясанная»[3275]. Весьма показательно, что именно такая одежда, сшитая из ткани белого цвета, предпочтительно домотканой, сохранилась в качестве обрядовой «покойницкой» вплоть до наших дней именно в старообрядческой среде, в том числе и у старообрядцев Нижегородской области. И это в условиях, когда домотканина вышла из повседневного употребления в 80–90-е гг. XIX в. Мало того, приглашенные китежскими старцами — это, как правило, люди, достигшие определенного возрастного статуса и вплотную подошедшие к черте, отделяющей земную жизнь от инобытия, иначе говоря, пребывающие в состоянии лиминальности: «Каждая гора — все соборы были. Идут старушки, видят, что раскрылась гора. Видят, что Господь творит. Зовут старушку в горы»[3276].
Рис. 23. Торжественный въезд в город. По мотивам миниатюр из рукописи XVI в.
Знаком-символом достижения праведности взыскующих града Китежа служат его распахнувшиеся «воротца» и открывшаяся к нему дорога: «Одна старушка на Светлояр пришла, обползла вокруг озера три раза, помолилась и видит: перед нею ворота во град Китеж — дорога ей туда открылась. И старцы китежские: из-за ворот зовут, чтобы заходила»[3277]. Та же коллизия наблюдается и в повести М. М. Пришвина «У стен града невидимого»: «Старцы китежские» (праведники, угодники Божии, по своему облику напоминающие иконописного Николая Чудотворца) призывают избранных («если кто приглянется им») в сокровенный град: «Иди к нам, иди к нам, Татьянушка»[3278]. Фольклорные варианты формулы приглашения: «Пойдем к нам, тебе можно»[3279]; «Пойдем, старче, к нам. Мы тебя примем»[3280]. Эта семантическая формула, основанная на глаголе движения, имеющего направленность к произносящему приглашение («иди к нам», «пойдем к нам»), варьируется в известных пределах: в первом случае конкретизируется приглашаемый, во втором — акцентируется внимание на его избранности, в третьем — на смысле приглашения: он будет принят в сообщество китежских праведников. И здесь в развитии сюжета обозначается кульминация. Войдут или не войдут приглашенные в ворота взыскуемого града? Тем более что это не просто ворота. Это дверь в иное пространство, в иное время — в конечном счете, в инобытие. Это точка пересечения пути к истине и границ своего собственного «я», которое необходимо преодолеть. Это предел окончаний, где «выход равен входу»[3281]. Там, за явленными воочию воротами, спасение от антихристовых «плетений», вечная жизнь, духовное блаженство. И все же эти праведные люди, взыскующие града Китежа и посредством богоугодной жизни заслужившие право войти в него, теперь, будучи приглашенными китежскими старцами, вопреки ожиданиям, не торопятся данным правом воспользоваться. «Обождите чуток», — говорит китежским старцам одна набожная старушка[3282]. Даже праведники не всегда готовы преодолеть границы своего человеческого естества. Наиболее распространенная мотивировка отсрочки вхождения в сокровенный град — это желание перед уходом в инобытие попрощаться с родными, что, впрочем, обусловлено и мифо-ритуальной логикой погребальных обрядов. Поведенческий стереотип приглашенного, но откладывающего свое вхождение в Китеж варьируется в параметрах, которые определены данной моделью. «Один очень верующий мужчина» перед распахнувшимися воротами невидимого града спешит не вперед, а назад, в деревню: «Да я дома-то не сказался»[3283]. Не вошла в ворота взыскуемого града и пришвинская Татьяна Горняя. И это несмотря на сделанные ею заблаговременно приготовления: заслышав зов китежских угодников, она не только успела попрощаться с родными, пообещав им прислать весточку «оттуда», но и, по сути, отрешиться от жизни. Мало того, надев на себя черную одежду: сарафан, кофту, плат, — она совсем, было, приготовилась к смерти. Уже встреченная китежскими старцами, уже ощутившая под гудение колоколов признаки приближающегося «правильного» инобытия, она возьми да и вспомни свою внучку: «Вот бы мне сюда Машеньку»[3284]. Оказалась не готовой уйти в святой град и некая мать, женщина праведной жизни: ей жаль оставить дочь, которую зять «что-то не любит». Не удалось преодолеть земных привязанностей и старушке, подумавшей в решающий момент о своем муже: «А как без меня дедушка будет»[3285]. Крепость семейных уз, разрушить которые столь страстно призывали бегуны, на поверку оказывается сильнее тяги к взыскуемому граду. Иная версия: невозможность отказаться от материальных ценностей либо от предметов, их воплощающих, — представлена в легенде, где некий старичок, приглашенный в Китеж, просит об отсрочке, чтобы сходить за оставленным дома крестом — единственным своим богатством (по-видимому, этот крест осмысляется как ценность не только в плане материальном, но и в плане духовном). Причем все приглашенные в Китеж персонажи поспешают в деревню с твердым намерением вернуться и войти в открывшиеся врата сокровенного града: «Сейчас я схожу да вернусь»[3286]; «„Погодите, я только за крестиком схожу“. Вернулся с крестом»[3287]. В легендах подчас передана поспешность, с которой приглашенный (-ая) прощается с родными, собираясь в сокровенный град, и опасение, как бы ворота не закрылись либо вообще не исчезли, прежде чем он (она) вернется: «Бежит, оглядывается, а ворота всё стоят. Прибежала, простилась: „В Китеж, — говорит, — ухожу“. Узелок навязала и назад»[3288]. Заметим, что подобная коллизия обнаруживается не только в китежских легендах, но и в других произведениях рассматриваемого цикла. Так, например, в легенде об «ушедшей» за Волгу васильгородской церкви навстречу некоему мещанину, заплутавшему здесь в болотах, из этого потаенного храма вышел поп с людьми и пригласил его остаться в святой обители. Однако, подобно персонажам других легенд, приглашенный не смог преодолеть узы семейных отношений, хотя сам по себе был и не против принять такое предложение: «Коли, — говорит, — (жена. — Н. К.) отпустит, приду»[3289]. Концовка легенд, относящихся к данной сюжетно-тематической разновидности, представлена различными семантическими вариантами. По возвращении из деревни приглашенная в Китеж пришвинская Татьяна Горняя уже не находит ни ворот, ни города, ни старцев: «<…> опять озеро и на горах сосны стоят. <…>. Ничего нету. Как был лес, так и есть. Дикое место, пустое»[3290]. Аналогичен финал и в устных легендах: «<…> а гора как обычно стоит с деревьями»[3291]; «<…> а ворот уж и нет»[3292]; «<…> а никого уж нет возле озера»[3293]. По той же мифологической закономерности навсегда утрачивается и путь, ведущий к васильгородской церкви. Таким образом, простые смертные, которые ценой праведной, молитвенно-углубленной и сосредоточенной духовной жизни заслужили право войти в сокровенный град, в конечном итоге лишаются этой по большей части единственной возможности. Перед святыми «воротцами», хоть и на краткое мгновение, их все же одолевают земные человеческие привязанности, мирские заботы, сомнения. Они-то и пересиливают духовную тягу к сокровенному граду как раз в то краткое мгновение, когда сакральный континуум прорывается в профанный хронотоп, вследствие чего «тот» мир оказывается проницаемым для «этого». Однако сей краткий миг был упущен. Приглашенные в Китеж, как выяснилось, достигли праведности, но не достигли в ней абсолютного совершенства, они обрели веру, но так и не обрели полной уверенности. Вот почему в решительный момент они не смогли без колебаний преодолеть рубеж, отделяющий земное бытие от сакрального инобытия. И «воротца» закрываются перед взыскующими града, и Китеж теперь показывается им озерным омутом, топью, болотом, обманчивым маревом, горой, лесом, а то и просто ничем — пустым местом. На первый взгляд, в этом извечном противоборстве мирское в рассматриваемых легендах одерживает верх над сакральным. И все же сокровенный град, пусть даже утраченный или оставшийся недосягаемым, неизменно осмысляется как мерило духовности, праведности и веры для людей, живущих на земле.
Ушедшие в Китеж
Сакральный локус имеет черты топографической достижимости и одновременно недоступности. Однако достойные могут попасть в него при соблюдении определенных предписаний и запретов: прежде всего следует пожелать непременно войти во взыскуемый град; ни с кем не делиться своими намерениями; забыть все земное; отправляясь «туда», не брать с собой ничего; достигнуть местности, топографические объекты которой символизируют локализацию сокровенного града; не сходя с места, непрерывно просить позволения «взойти в эту святую обитель, хоть бы пришлось и умереть тут, что и случается (курсив мой. — Н. К.)»[3294], и т. д. Из последнего предписания в очередной раз обнаруживается, что вхождение в Китеж обусловлено в первую очередь смертью либо состоянием, приравненным к ней. По легендам, в Китеж могут попасть лишь люди, «угодные» святым старцам, «избранные» ими. Например, из трех братьев, пришедших к Светлояру и узнавших от китежского старца, моющего здесь, на озере, «ложечки», что они находятся у самых заповедных врат, только один, улучив тот краткий момент («в ока мгновение»), когда миры оказываются взаимопроницаемыми друг для друга, и нисколько не колеблясь, смог войти в них, тогда как остальные братья туда не попали — «неугодны, значит, были святым старцам…» Попасть в Китеж, по народным представлениям, можно преимущественно в возрасте, маркированном, по-видимому, тем или иным знаком «перехода». Согласно одной из легенд, перед женщиной с сыном, оказавшимися на берегу Светлояра, внезапно открылась земля и обнаружилась «лесенка», ведущая вниз. Мальчик спустился по ней, не задумываясь, что имеет, как мы помним, решающее значение. Мать же в это краткое мгновение замешкалась, вспомнив о муже и тем самым нарушив предписание «забыть все земное». Вход закрылся. С тех пор родители часто бродили по берегам озера, зовя сына. О том, что в данном случае осуществился переход от земного бытия к инобытию, свидетельствует концовка рассказа: однажды земля вновь открылась — и мальчик сказал родителям, чтобы они его не ждали. Поскольку сходные даты вызывают сходные события, можно предположить, что подобное раскрытие светлоярской земли было некогда приурочено к определенному календарному сроку.
Рис. 24. Святая обитель. Миниатюра из русской рукописи 1648 г. «Жизнеописание Антония Сийского» (ГИМ). Прорисовка
Иной мир может открыться человеку и в молодом возрасте, близком к лиминальному периоду: «Одна девушка согрешила и забеременела. Уж как она молилась, день и ночь молилась — все грехи замаливала. И домой она не ходила, все на коленях на горе стояла»[3295]. Иначе говоря, отрешенная от всего мирского, девушка пребывала в состоянии длительного молитвенного экстаза и непрерывной углубленной сосредоточенности («день и ночь»), что и обусловило ее положение между мирами, между жизнью и смертью. Следствием такого состояния служит результат: гора перед ней открылась — и люди видели, как девушка вошла в гору. Концовка легенды «Никто ее больше не видел» — своеобразная «формула достоверности» чудесного исхода данной коллизии. В легендах, повествующих об уходе в Китеж людей преклонного возраста, аналогичной семантической формулой служит выражение «старик пропал». В одном случае речь идет о старике, которому с первого раза не удалось воспользоваться приглашением в Китеж, поскольку он отправился в деревню за крестиком, тогда как впоследствии, по мнению рассказчиков, «его, наверное, туда живым взяли». В другом же случае имеется в виду бесследное исчезновение Кирилы Самойловича, которое местные жители объясняли его уходом в Китеж, в то время как люди, свободные от мифологического флера этого происшествия, видели здесь одно лишь мрачное преступление. Впрочем, идея смерти как предпосылки к обретению невидимого града присутствует и в «Книге глаголемой летописец», в частности, в том ее списке, где один из разделов имеет самостоятельное название: «Повесть и взыскание града сокрытого Китежа». Именно в этом списке утверждается, что всякий, кто «обещается истинно итти в него, а не ложно», достигнет цели, хотя бы и умер «пред враты монастыря того»[3296]. Вхождение в Китеж: осмысляется не столько как достижение сакрального инобытия, сколько как обретение просветленного духовного состояния и совершенной праведности. Пребывание в этом состоянии, локализованном в инобытии, преподносится в легендах как некая табуированная тайна, наличие которой — необходимая составляющая в структуре образа китежских праведников. Горящие свечи, колокольный звон, молитвенное пение, несказанно благолепные службы (в старообрядческой среде, естественно, предполагается, что они справляются по древнему уставу), крестный ход — все это сакральные знаки-символы запредельного таинства. Совокупность характерных признаков этого таинства наиболее полно представлена в одном из рукописных памятников, опирающемся не только на устную, но и в значительной степени на книжную традицию. О духовном созревании удостоившегося войти в «место свято», о переживании им райской благодати повествуется в таком легендарно-апокрифическом памятнике, как «Послание к отцу от сына из оного сокровенного монастыря, дабы о нем сокрушения не имели и в мертвы не вменяли скрывшегося от мира. В лето 7209 (1702) июня в 20 день». По словам В. Л. Комаровича, это литературная обработка устной светлоярской легенды[3297]. Однако в этом «Послании…» есть и характерные признаки агиографической литературы. Сын благочестивых и богобоязненных родителей и сам живущий по заповедям Божиим, он решительно отвергает все мирские ценности: семейные привязанности, привычный образ жизни, материальный достаток. Сразу же после свадьбы, тайком, как и полагается в таких случаях, покидает отчий дом, родителей, «друга советного» — молодую жену. Сакральный континуум, куда попадает юноша, о чем домашние узнают спустя три года из посланной им «грамотки», напоминает китежский. Как выяснилось, юноша теперь живет в сокровенном монастыре, в «земном царствии»: это «земной рай» древнерусских апокрифов. Вокруг него не просто праведники, но и «святии отцы», будто «древа не стареющиеся» (ср. с райскими деревьями, с чудесным деревом как источником вечной молодости). Непрестанная молитва, исходящая из уст насельников «места свята», превращается в видимый чудесный свет, символизирующий святость монастырской обители. Материализуясь, она уподобляется «столпам пламенным со искрами огненными». Мало того, от молитвы святых отцов исходит благовоние: «яко фимиам благоуханный и яко кадило избранное». Все это материальные символы духовных понятий, соотносимые с представлениями о рае. Вообще, по сравнению с устными легендами христианские верования в «Послании…» приобретают более концентрированный характер. По словам рукописного памятника, обитатели «монастыря» «возлюбили Бога всем сердцем, душой и помышлением». И сам Господь хранит святых людей: «покры их невидимо дланию своею»[3298]. И «монастырь», и его обитатели невидимы, из чего следует, что это не просто бытие. Однако это и не смерть. Сын, пишущий отцу из сокровенного монастыря, отрицает свою принадлежность к мертвым: «аз бо жив еще есмь», «в мертвых не вменяйте». И все же, в отличие от китежан, уже переживших состояние смерти, обитатели данного монастыря смертны: «егда же приидет смерть, тогда вам ведомость пришлю». Интересно, что данная коллизия обнаруживается и в аналогичных устных легендах: семь святых иноков, которые жили в обители, «перешедшей» вместе с васильгородской церковью за Волгу и ставшей там на болоте, смертны. Как только кто-нибудь из этих иноков умирал, на его место тотчас же заступал благочестивый человек: ему, по Божьему промыслу оказавшемуся здесь в урочное время, открывалась обитель, после чего новый служитель, как и все другие, становился невидимым. Характерно, что инобытие в рукописном памятнике локализуется в «земном царствии», в «месте святом», в «оном сокровенном монастыре», или «обители» — т. е. в «земном рае» древнерусских апокрифов. Сущность совмещения,взаимозаменяемости образов рая и монастыря (обители) в данных произведениях совершенно верно определена В. В. Мильковым: «Монастырь — как подобие рая — это изолированная часть мира, где пребывают праведники. <…> Насельники земного рая символизируют монашество. <…> Все апокрифические сказания цикла о земном рае, дополняя друг друга, формируют представления об аскетизме как форме неприятия земной действительности с ее порядками, соблазнами и заблуждениями. Поэтому хождения в земной рай (или стремление к нему) прежде всего означают уход от мира, каким в реальной жизни являлся уход в монастырь»[3299]. Такой рай, с одной стороны, как бы и не принадлежит миру, но, с другой, — является самой совершенной его частью. В результате земной рай вписывается в целостную картину мироздания, где духовные и материальные первоначала органически дополняют друг друга[3300]. Сущность образа земного рая, отождествляемого с монастырем и с Китеж-градом, проникновенно раскрыл Н. А. Клюев в «Красной песне»:

Рис. 25. Тихвинский монастырь. Фрагмент иконы. XVII в. Москва
В ожидании нового преображенного мира и с надеждой на право обретения его пребывают в невидимом граде Китеже вошедшие в него праведники. В качестве избранных они составят обновленное человечество, живущее в вечном блаженстве: «И возвратятся избавленные Господом <…>; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся» (Иса. 35. 10). А пока в видимом царстве, по мнению старообрядцев-бегунов, господствует неправда. В нем властью овладел Антихрист. В сложившихся условиях, как пишет Н. А. Бердяев, «истинное православное царство уходит под землю. С этим связана легенда о Граде Китеже, скрытом под озером. Народ ищет Град Китеж»[3302].
Контакты между мирами
Исчезнувший из посюстороннего мира Китеж, согласно мифологической логике, занимает соответствующее место в мире потустороннем. По некоторым легендам, «тот свет» находится совсем рядом. Эта близость, равнозначная дальности, может быть выражена в сугубо эмпирических категориях: параллельный мир якобы расположен «всего четверти на две» в глубину. Согласно местным рассказам, в прежние времена, когда пахали на месте Китежа, то сохами цеплялись за кресты китежских церквей: «Близко, а невидимо». В аналогичном мотиве белорусской легенды некий мальчик-пастушок уколол себе ногу о шпиль церкви, которая одно время начала будто бы выступать из земли. Или же едущий по Светлояру на лодке цеплялся днищем или сетями за монастырские ворота, за верхушки китежских соборов, за их кресты: «<…> ехал один, говорят старые люди, днищем за крест зацепился. Грех-то какой!»[3303]. Вариант этого мотива связан уже с озером Нестиар: при полоскании мотков пряжи или белья женщины задевали за кресты сокрытой в его водах церкви[3304]. Аналог содержится в белорусской легенде: некий крестьянин, ловя в озере рыбу, зацепил удочкой за крест деревянной церкви, некогда погрузившейся в воды. Типологическая параллель этому мотиву с удивительной закономерностью проявляется в померанской легенде о Винете[3305]. Рассказчики уверяют, что собственными глазами видели, как два голландских судна наткнулись на беломраморные колонны подводного города. В результате одна из них от этого толчка покосилась, а суда потерпели кораблекрушение (это действительно имело место в 1741 г. близ Дамерова). По другим сведениям, на сверкающих белизною колоннах Винеты, выступающих из воды, местные рыбаки расстилали свои сети для просушки. Правда, это случалось лишь в период морского отлива. В остальное же время колонны якобы находятся на шесть (1,8 м), а стены — на десять футов (3 м) ниже поверхности моря. Однако иные уверяют, что часть стены все-таки достигает его уровня. Соответственно и острова Канарского архипелага[3306] принимаются некоторыми за выступающие из океана вершины гор затонувшей Атлантиды. (Платон. Тимей. 22–25; Критий. 113а—121с). Все это не исключает представлений о пути в трансцендентальный мир как о дальней дороге и его локализации в глубинах вод или земли.Визионеры в потусторонний мир
В светлоярских легендах содержатся различные версии проникновения живых в невидимый град. По одной из них простые смертные попадают в Китеж с обозами хлеба. Как нам предстоит показать в дальнейшем, отправка обозов хлеба (зерна, муки) на «тот свет» ритуально санкционирована: она соответствует предписаниям поминальной обрядности. Обращает на себя внимание прежде всего тот факт, что дорога «туда» и «обратно» открывается с закатом и восходом солнца. Подобная темпоральная соотнесенность не случайна: восход, полдень, закат, полночь — это те краткие моменты в суточном цикле, когда сакральное время прорывается в профанное, что создает предпосылки для коммуникации между мирами. Загадочный проводник, неизвестно откуда здесь взявшийся, но с уверенностью указывающий извозчикам дорогу к селу Владимирскому — Светлояру, а по сути — к невидимому граду, символизирует собой сакральное пространство, прорвавшееся на краткий миг в обыденный мир. Незнание же дороги самими извозчиками находит в легенде псевдобытовое объяснение: они не местные, а вятские. На самом же деле извозчики не знают ее по той причине, что это не простая дорога. Характерный признак «тракта», ведущего «туда», — это его особого рода видимость, которая равнозначна невидимости: как только на него выехали, «стемнело». Такой тракт упирается в тесовые ворота — непременный атрибут огражденного сакрального локуса. А за ними, и опять-таки в темноте, смутно вырисовывается «вроде как монастырь», т. е. предполагается, что это может быть вовсе и не монастырь. То, что происходит уже на территории монастыря, казалось бы, не выходит за рамки сугубо бытовой сцены: пока разгружали телеги, всех провели в дом, накормили, щедро заплатили, а перед рассветом ворота отворили — и обоз, уже пустой, двинулся в обратный путь. И все же это обманчивая обытовленность: выехали, стали судить-рядить, где же они ночью были, обернулись — «а ворот-то уже никаких нет» (варианты: «а город-то уже пропал», «а монастыря-то и нет»)[3307]. Посещение невидимого града может быть представлено и как своеобразное духовное испытание визионера. Согласно одной из легенд, некий паренек — пастушонок, то ли заблудившись, причем опять-таки на заходе солнца («дело-то под вечер было»), у горки, где были скрыты «воротца», то ли по Божиему «попущению», то ли, он сам не знает, какими еще судьбами (свою роль мог сыграть и детский возраст как самый невинный и безгрешный), очутился в Китеже. Величественные старцы приобщили паренька к своей трапезе. Напрашивается сравнение с древнерусским апокрифом XII–XIII вв. «Хождение Агапия в рай»: «Потом взял [старец] меня и привел к трапезе, молитву сотворя. И взял [старец] хлеб и отрезал четверть, и дал мне. Отошел я немного [от трапезы] и увидел, [что] хлеб [тот] цел, как бы не был преломлен»[3308]. И пастушонок, подобно Агапию, вкусил «укрух» хлеба праведников, который «таково вкусен да сладок ему показался». И тем не менее полного приобщения случайного визионера к совместной трапезе, а значит и к святому содружеству, в данном случае не произошло. Пастушонок, спрятав ломтик-другой за пазуху, утаил его от старцев. В результате духовная пища, символом которой служит полученный здесь хлеб, утратила значение таковой: по возвращении пастушонка на землю этот хлеб превратился в гнилушку. Смысл мотива утраченного хлеба раскрывается при сопоставлении данной легенды с апокрифом «Хождение Агапия в рай», где Агапий полученным от св. Илии райским хлебом, смог не только накормить обессиленных немощных мореплавателей или воскресить с его помощью сына одной безутешной матери, но и сам питался оставшейся его частью в течение сорокалетнего пребывания в уединении. Такой эпизод сопоставим с евангельским сказанием о чудесном насыщении народа пятью хлебами. Пастушонок же в «пище, пребывающей в жизнь вечную», в «хлебе истинном», в «хлебе Божием», в «хлебе жизни», отождествляемом с самим Иисусом Христом, увидел лишь «пищу тленную» (Иоан. 6. 27, 32, 33, 35). Визионера, не выдержавшего испытания, старцы на восходе солнца выпроваживают из монастырской обители, прообразом которой в подобных легендах, равно как и в древнерусских апокрифах, является земной рай. Да это и понятно: пастушонок попал к ним «нечаянно», не приготовившись ни нравственно, ни духовно к праведной монастырско-райской жизни: «Не своею волею, не своим обещаньем пришел ты в безмятежное наше жилище, потому и нельзя тебе с нами пребыти, изволь идти в мир»[3309]. И дорога в невидимый град, несмотря на все предпринимаемые в дальнейшем попытки обрести ее, так и осталась навсегда сокрытой для героя легенды.
Рис. 26. Трапеза. По мотивам миниатюр из рукописи «Жизнеописание Антония Сийского». XVII в.
Согласно иной версии, проникновение визионера в Китеж обусловлено неизбывным дерзким стремлением человеческого ума проникнуть в самые глубокие и сокровенные тайны мироздания, которые простым смертным знать не дано. На этой почве сложилась легенда такого типа: один мужик, «смелый такой», «балагур да рассказчик», забравшись «на карачках» под развесистые корни березы, которая еще не столь давно стояла на берегу Светлояра, у родника, решился самовольно проникнуть «туды», где находится «место светлое» и где сидят «старцы светлоликие» — среди них визионер узнал и своего деда. Обычно личностные характеристики при переходе персонажей на некий высший уровень бытия исчезают. Обозначение родственных связей одного из китежских старцев с земным пришельцем при отсутствии индивидуализации других, выступающих в качестве его фона, позволяет видеть во всем этом сообществе предков. Появление живого среди мертвых, ритуально не мотивированное, осмысляется как нарушение правил коммуникаций между мирами. Не случайно «старцы светлоликие» его не видят, как не видят мертвые живого. Родной дед грозит клюкой дерзкому нарушителю идущих от «начала времен» запретов и предписаний. А некая птица — мифический страж потустороннего мира норовит его заклевать. Посещение «того света», не санкционированное мифо-ритуальным этикетом, не проходит для визионера бесследно: оно действует разрушительно. Вместо былого смельчака и балагура «оттуда» возвращается седой молчаливый старик, дрожащий и плачущий горькими слезами[3310]. По другой версии, некий мужик, подобно обмиравшему, прибывает в незнакомый город («храм стоит, дома») вместе со «старичком» (провожатым) и от него узнает, что они уже в Китеже: «Да´, вот я куда попал!». Мотив посещения иного мира типичен и для других локальных традиций. Его обытовленная версия содержится, в частности, в одной из ветлужских легенд: некий предок (это был Матвей Постный, крестьянин деревни Бархотиха) «за свое воздержание» был допускаем в невидимую подземную церковь, которая располагалась неподалеку от Лялиной горы, у починка Поташный. Иногда он заимообразно мог пользоваться церковной казной. Однажды он намеренно или случайно не вернул сполна взятую в долг сумму — «несколько грошей». За это неисправный должник был ослеплен невидимой рукой. Подобная кара может быть интерпретирована как переход нарушителя традиционных запретов из ранга достойных в ранг недостойных видеть то, что постигается духовными очами, открывающимися лишь у праведников.

Рис. 27. Церковь св. Ильи Пророка. С. Самино. Вытегорье
Те, кому, якобы, удалось побывать «там», дают описание сокровенного града. Из совокупности разрозненных деталей, почерпнутых из различных светлоярских легенд, можно воспроизвести мифический облик невидимого Китежа — подводного или подземного: это город «большой, хороший». Окружен белокаменными стенами с воротами. Храмы, по легендам, имеют такой же абрис, как и одноименные соборы в Москве, Ростове, Владимире, Муроме, Городце. Причем, по преданиям, нынешний Городец — это былой Малый Китеж, духовно родственный легендарному Китежу Большому: «оба города построены одной рукой и одним топором»[3311]. В изображении Китежа проявляются различные версии его осмысления: в нем есть элементы монастыря, города-монастыря и просто города. Вот почему общая панорама запредельного Китежа нередко дополняется княжескими узорчатыми теремами, боярскими каменными палатами, дворами посадских людей, высокими домами, белокаменными или же рубленными из кондового, негниющего леса. И этот город, по легендам, цел до сих пор. Концентрированное описание невидимого Китежа, полностью соответствующее фольклорной традиции, содержится в поэме А. Н. Майкова «Странник»:
Возвращенец из Китежа
Из всех фольклорных произведений, относящихся к рассматриваемому циклу, легенда о возвращении праведника, уже обретшего покой в сокровенном Китеже, представляет собой, насколько нам известно, едва ли не исключительный случай. Согласно этой легенде, один из старцев, который «жил-жил» в китежском монастыре, вышел в лес «грибков посбирать». С мирскими намерениями он оказался в том медиативном пространстве, которое, осмысляемое как путь «туда», может оказаться и путем «оттуда». Положение праведника «ни здесь ни там» (в промежутке между мирами) символизирует состояние его духа. При этом кульминация сюжета знаменует возможный поворот в судьбе героя. Если в потустороннем мире основной «фоносферой», определяющей состояние души китежского старца, служит молитвенное пение, то здесь, в лесу, этот акустический фон — мирское пение мирских же женщин (в народных верованиях ему приписывается магическая сила). Прислушавшись «со вниманием» к этому пению, старец и не заметил, как в своем душевном состоянии преодолел границу, которая отделяет сакральное, т. е., согласно концепции Э. Дюркгейма[3320], связанное с коллективными, ритуальными высшими ценностями, от профанного, выражающего индивидуальные, эгоистические, чувственные устремления, сферу низменного быта. Преодоление этой границы влечет за собой и переход от потустороннего к посюстороннему, от вечного к преходящему, от божественного к человеческому, от религиозного к мирскому — в конечном счете от восхождения к нисхождению по духовной лестнице. В результате «все пропало: и град, и стены, и врата святые». Отныне он навсегда исключен из святого сообщества: «одинок остался». И прежняя дорога, ведущая в Китеж, навек утрачена, тогда как обратная дорога еще не найдена: «<…> пошел, сердешный, лесом, куда глаза глядят». Знаками лиминального состояния, которое возвращенцу довелось пережить, служат оборванная одежда, телесная поврежденность (исцарапанное тело): «Что такое, батюшки-светы?..» И все же, хотя и с большим трудом, старцу удалось выйти из лиминального состояния: найдя наугад дорогу к людям, в земной мир, он «прибежал» в Комаров, где и поведал о своих перипетиях[3321]. Возвратившийся «оттуда», как выясняется уже из других легенд, очень часто оказывается не только в ином пространстве, но и в ином времени, поскольку один час, проведенный «там», соответствует ста земным годам. Так, согласно одному из вариантов легенды о васильгородской церкви, приведенному П. И. Мельниковым-Печерским в «Бабушкиных россказнях», некий добродетельный и благочестивый человек отправился как-то в лес «звериныя ради ловитвы». И, по Божьему изволению, открылась ему церковь васильгородская. «Место оно» характеризуется с использованием устойчивой атрибутики земного рая: ангелоподобное пение, лучезарный свет, благоухание. Прослушав в этой невидимой церкви всего лишь восьмой ирмос канона на святую Пасху «Сей нареченный и святый день…», добродетельный человек пошел в обратный путь, славя и благодаря Господа, что удостоил его увидеть сие неизреченное чудо. Когда же тот крестьянин вернулся в свою деревню, его никто не узнал да и сам возвращенец не увидел ни одного знакомого лица: на земле уже жили новые поколения людей. И лишь один древний старец припомнил, что слышал еще в отрочестве от своих родителей: человек с таким же именем, «каковым пришелец сей чудный себя нарицает», «отыде в лес <…> и не возвратися». Тогда возвращенец поведал людям обо всем, что с ним приключилось более ста лет тому назад, после чего испустил дух и переселился в жизнь вечную[3322].Такая концовка типична для подобных легенд: вернувшийся «оттуда» на земле не жилец.Пришельцы из потустороннего мира
В отличие от возвращенцев, пришельцы с «того света» фигурируют в легендах довольно часто. «Бывает, что выходят наверх, на берег озера, люди из града Китежа», — утверждают рассказчики[3323]. Портретные характеристики пришельцев не индивидуализированы. Простые смертные никогда не опознают в них родственников или знакомых, ни живых, ни умерших. В их портрете контурно обозначены лишь возрастные признаки: старец, старичок старенький, старичок седенький. Подобные номинации — концентрированное выражение представлений о соотнесенности мифических пришельцев с давними, преждебывшими временами, о приверженности к идущей из «начала времен» традиции, о благочестии, поддержание норм которого вменялось в обязанность старшим в семейно-родовой общине. Но самое главное — эти персонажи осмысляются как предки: «превращение умершего в Предка соответствует включению индивида в некоторую архетипическую категорию»[3324]. При рассмотрении легенд о невидимом граде Китеже на первый взгляд может показаться, что мотивировкой появления на земле китежан служат хозяйственные нужды и заботы, не покидающие их и на «том свете». И действительно, разве не былой рачительный домохозяин угадывается в пришельце «из горы», когда он завороженно смотрит на крестьянского коня либо ловко останавливает запряженную в телегу лошадь, предлагая тут же сделку купли-продажи? Вот как об этом повествуется в самой легенде: «<…> ехал мужик на лошади мимо Светлояра и вдруг вышел из горы старец да и смотрит-смотрит на лошадь-то. Потом старец ловко так остановил телегу и говорит хозяину: „Продай лошадь“»[3325]. И все же сквозь обытовлённый эпизод здесь проглядывает явная мифологема. Пришелец «оттуда» нуждается в животном — посреднике между мирами. А в качестве такового в легенде, как и в волшебной сказке, представляется прежде всего конь, и особенно белый: «Он, Герасим-то, говаривал, что сидел как-то раз утром на низком берегу Светлояра, напротив гор, да посматривал на ту сторону, где горы-то. И вот видит: к горам лошадей много-много, целый обоз держит путь. <…> И кони только белые (курсив мой. — Н. К.)»[3326]. Подобный фольклорный мотив имеет определенные этнографические истоки. Дело в том, что, согласно языческому погребальному ритуалу славян, покойник для путешествия в иной мир снабжался «транспортными средствами», в числе которых обычно фигурируют взнузданные кони, повозки, иногда ладьи[3327]. Как отмечает В. Я. Пропп, в народных верованиях конь часто уносит умершего в потусторонний мир. Причем везде, где коню принадлежит культовая роль, он всегда белый. Белый же цвет есть цвет потусторонних существ, потерявших телесность, это цвет смерти, невидимости[3328]. В свете изложенных представлений выясняется, что китежский старец, пришелец с «того света», купив у мужика лошадь, да еще с упряжью (что символизирует полное владение животным) получает средство для возвращения в невидимый сокровенный град. Иначе говоря, при каждом появлении гостя с «того света», по сути, вновь и вновь репрезентируется похоронный обряд, один из важнейших атрибутов которого — конь. Столь же многослоен, полисемантичен и другой сюжет, связанный с пришельцем из иного мира. Казалось бы, лишь опыт и навыки крестьянина, испокон веку занимающегося земледельческим трудом и знающего толк в зерне, отражены в одном из эпизодов многократно варьирующейся легенды: «И вот будто бы подошел к нему (одному вятичу. — Н. К.) старичок седенький, посмотрел зерно, попробовал на зуб и говорит: „Я куплю у тебя весь воз ржи“»[3329]. Аналогичный рассказ приводит в своем очерке В. Г. Короленко. Ранней весной ехали из Семенова, с базара, на двух подводах припозднившиеся мужики. Дело было на заходе солнца («солнце чуть за горами показывается»), т. е. в один из четырех моментов суточного цикла, когда сакральный континуум и профанный хронотоп оказываются взаимопроницаемыми и по временным, и по пространственным параметрам. В этих условиях контакты между живыми и «ушедшими» предопределены самой логикой мифо-ритуальной традиции. В урочный час у самого Светлояра оказались и мужики (их лошади, поравнявшись с озером, сами сошли с дороги и направились к берегу), и китежане, «лицом светлые», «монахи не монахи, а вроде того», вдруг выехали на большой подводе «оттуда», прямо из воды, из тумана. Китежское происхождение этих пришельцев маркировано знаком Светлояра да еще образом Кирилы Самойловича, который, по слухам, не так давно ушел в Китеж и которого якобы теперь видели в сообществе праведных старцев. (По-видимому, предполагается, что его образ еще не успел раствориться в архетипической модели.) Китежане остановили лошадей и «давай хлеб на свою телегу перекидывать». Расплатились «честь честью, до копеечки» — и опять в озеро[3330]. Согласно другим легендам, груженные зерном (хлебом) обозы уже продвигаются в сокровенный град по поверхности озера или приближаются к горе и скрываются в той или иной природной стихии: «Слух этот был, что шли в полную ночь подводы, и спрашивают: „А мы, чай, сюды едем?“ — „А вам куда?“ — „А нам в горы“. Шесть подвод, и мы посмотрели, они в горы въехали, в этот вражек, и больше не вернулись»[3331]; «Бывалые люди видали, как гора у озера-то раскрывалась, а в ворота лошади шли с зерном и свечами. Много свеч-то. А потом гора-то опять сходилась, и ничего не заметно»[3332]. Такая поклажа обусловливается потребностями инобытия: «Каждая повозка доверху груженная мешками с зерном да свечами. Мешков-то много, а уж свечей — и того более…»[3333]. Напомним и о тех ранее рассмотренных легендах, в которых мужики сами, по просьбе китежан, отвозили зерно в невидимый город. По другой версии сюжета, китежанин просит милостыню в виде хлеба: «Ехали этто мимо озера извозчики — заночевали там. И вот вышел из лесу старичок старенький и попросил хлеба. Дали ему, а как дали, старичок и пропал»[3334]. Внезапное появление в ночное время в медиативном пространстве (в лесу) «старичка старенького», а затем, по получении милостыни, его мгновенное и бесследное исчезновение выдает в загадочном персонаже пришельца «оттуда».
Рис. 28. Фрагмент иконы «Илья Пророк в пустыне». Иконописец Федор Зубов. 1660 г. Ярославль
Покупка зерна «ушедшими» или получение ими милостыни в виде хлеба от живых имеет свою мифо-ритуальную мотивировку. Подобные эпизоды служат метафорами важнейших элементов погребально-поминальной обрядности, соблюдением которой обеспечивается порядок в мироздании, правильное течение бытия, круговорот в социуме и универсуме. Зерно, как и последующие его трансформации (крупа, мука, кутья, каша, блины, лепешки, хлеб), — пища и живых, и мертвых. Такая пища необходима не только в этом, но и в ином мире. Вот почему у славянских народов зерно либо его эквиваленты — устойчивые атрибуты погребально-поминального ритуала. Так, зерном осыпают лавку, где лежал покойник, либо дорогу, по которой его пронесли. У сербов принято класть кусок хлеба прямо в гроб[3335]. Обычай же преломлять хлебы над умершими зафиксирован еще в Ветхом Завете: «И не будут преломлять для них (умерших. — Н. К.) хлеб (курсив мой. — Н. К.) в печали, в утешение об умершем» (Иерем. 16.7). Там же упоминается и обычай раздавать хлебы «при гробах» неимущим: «Раздавай хлебы твои при гробе (курсив мой. — Н. К.) праведных, но не давай грешникам» (Тов. 4.17–18). В качестве обрядовой еды на поминках издавна используются изготовленные из зерна блюда. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение, обнаруженное в Правилах Владимирского собора 1274 г., согласно которому в новгородской земле «нецыi неосвященiи освящают приносимыя к церкви плодоносiя, рекше крупы или кутья за мертвыя (курсив мой. — Н. К.)»[3336]. Кутья же, по утверждению нижегородских старообрядцев, зафиксированному в наше время, знаменует воскресение мертвых[3337]. В этом свете получение зерна (хлеба) китежанами, вышедшими в определенный момент на землю, или доставка его живыми людьми в сокровенный град может быть истолкована как метафора поминального обряда, предусматривающего кормление усопших. Аналогичную семантику имеет и эпизод, в котором старец, находящийся, по сути, «ни здесь ни там», в промежутке между мирами, моет «ложечки» у самых врат Китежа на виду у пришедших сюда, на берег Светлояра, трех братьев. Напомним, что ложки как один из атрибутов поминальной обрядности символизируют тех, кому они принадлежат, в данном случае — обитателей сокровенного града. Характерно, что в комплексе языческого инвентаря, обнаруженном в погребении вблизи Десятинной церкви, которая была построена князем Владимиром в 989–996 гг. в Киеве, наряду с глиняными и деревянными сосудами, наполненными пищей, содержалась в соответствии с семантикой данного компонента похоронного обряда и ложка[3338]. Структура же поминальной обрядности, по мнению исследователей, идентична погребальной. Поскольку «ложечки», фигурирующие в рассматриваемой легенде, нуждаются в мытье, следует полагать, что поминальная трапеза совершилась и обрядовое кормление мертвых живыми уже состоялось. В легенде, приведенной В. Г. Короленко, лошади у пришельцев из невидимого града «большие, сытые», да и сами «монахи» — «народ тоже гладкой»[3339], что косвенно свидетельствует о регулярном исполнении поминальных обрядов. Обратим внимание, что в легенде покупка хлеба китежанами приурочивается к ранней весне, когда земля «отпотела», т. е. готовится к новой страде. Из этого следует, что этнографическим субстратом рассматриваемого эпизода служит поминовение усопших, которое актуализируется по мере приближения весны и предваряет новый аграрный цикл[3340]. В качестве важнейшего блюда в поминальных обрядах отнюдь не случайно фигурирует кутья, которая готовилась собственно из семян[3341]. Это предположение, высказанное в свое время В. Я. Проппом, как нельзя лучше подтверждается фольклорно-этнографическими материалами, собранными недавно у нижегородских старообрядцев: «А кутья не положена варить. А надо, чтобы семена-ти живые были, чтобы взошли. Вот у нас и не варят (курсив мой. — Н. К.)»[3342]. Причем у федосеевцев Тонкинского района вместо кутьи полагается съесть сорок «живых» зерен (их съедает «отец духовный», иногда — «необмирщенный» ребенок). Зерно, по словам В. Я. Проппа, надолго сохраняет и вновь воссоздает жизнь, приумножая ее. Семя — растение — семя составляет извечный круговорот, обеспечивая нескончаемость жизни[3343]. Анализируя народные верования, связанные с календарными праздниками, ученый отмечает роль предков и — шире — умерших в обеспечении этого круговорота: именно они, превращаясь в своего рода хтонических божеств, имеют власть над урожаем: могут либо ниспослать, либо вовсе лишить его. Вот почему усопших нужно не только умилостивить, поддержать их силы поминальной пищей, но и приобщить к круговороту жизнь — смерть — жизнь, которым живет природа и которому способствуют они сами[3344]. Таким образом, появление пришельцев из невидимого града Китежа вызвано логикой поминальных обрядов, обусловленных культом предков и имеющих аграрную направленность: «Две линии — земледелия и жизни после смерти — пересекаются и сходятся вместе, формируя новый, единый образ бытия, завязанный на дремлющих в земле ростках жизни»[3345]. Эти две линии сошлись и в легендах, повествующих о покупке зерна (хлеба) пришельцами из сокровенного града Китежа. Заметим, что в рассматриваемых нарративах разновидностью поминального обряда, атрибутом которого так или иначе служит зерно, является милостыня, адресованная «святым угодникам», «подземным старцам», «праведным людям» — одним словом, китежанам. Свои приношения верующие опускают в расщелину под корнями или в дупло растущего на берегу Светлояра дерева, отмеченного сакральными знаками (в других локальных традициях, связанных с представлениями о провалившихся церквах, — в яму на горе или сопке; в «озерко»; на растущие в сакральном локусе деревья). Смысл этих действий раскрывается в приговоре, не оставляющем сомнений относительно их поминального характера: «Примите, праведные люди, милостыню от грешной старушки»[3346]. Ср. с соответствующим эпизодом из гомеровского эпоса, имеющим аналогичную, но вместе с тем более детализированную семантику:
Гомер. Одиссея. X. 517–518, 529–530

Рис. 29. «Ангел, увенчивающий царя». Резьба по дереву (фрагмент иконостаса). XVI в. Ярославль
Если живые проявляют заботу об ушедших, то и мертвые/предки не оставляют без своего попечения новые поколения людей/потомков. Прежде всего предки, подобно культурным героям, учреждают, поддерживают установившуюся в данной местности обрядность: ритуальный обход озера, чтение молитв, обращенных к китежским старцам. Так, в одной из легенд некой женщине, совершавшей обход Светлояра, явилось видение: неизвестно откуда взявшийся крестный ход, идущий с молитвенным пением, останавливался то здесь, то там. Идя за ними и повторяя их ритуальные действия и динамические паузы, удостоившаяся этого видения как бы следовала установленному в давние времена «образцу»: «Я и пошла за ними. Они молились по всем правилам; они сойдут с места, там и я помолюсь»[3349]. В другой легенде некий «монах» является молящемуся, чтобы научить его, как правильно молиться китежским старцам: «Что ты, дедушко, молитв слов не знаешь, все на каждом листочке — „Господи, помилуй?“» — «Не знаю». — «Так я тебя научу:

Рис. 30. Александр Ошевенский. Икона XVI в. Каргополье
В светлоярских легендах в достаточной степени определено участие китежан не только в обрядовой, но и в хозяйственной деятельности людей. Так, в одной из них живущие «под земелькой» приглядывают за скотиной, когда она по лесу ходит, чтобы «ни зверь ее не подрал, ни какой вурдулак или нечисть не поели»[3353]. В другой легенде у неудалого грибника («ни одного грибочка нет») после того, как он мысленно призвал на помощь «китежских старичков», корзина вмиг наполнилась до самых краев грибами, да еще какими — один к одному, да все белыми[3354]. [Кстати, мотив заботы умершего о делах живых имеет параллели во всем мировом фольклоре. Вспомним хотя бы исландскую «Сагу о людях из Лаксдаля»: «Тогда Храпп призвал к себе свою жену Вигдис и сказал: „<…> И когда я умру, то такова моя воля, чтобы мне вырыли могилу в дверях дома и чтобы я был погребен стоя в дверях. Так я смогу лучше следить за моим хозяйством“» (гл. XVII).] Известны и легенды о китежанах как чудесных целителях. В одной из них мальчик семи лет «лежал, не вставал с постели», т. е. он, подобно сидню или лежню, не ходил до семи лет. Однажды его мать решила трижды обойти поутру озеро по обету. Вернувшись домой, она увидела, что ее сын как ни в чем ни бывало играет во дворе с товарищем. Выяснилось, что в ее отсутствие приходил некий «дяденька». Стоило загадочному пришельцу взять мальчика за руку и сказать: «Пойдем, сынок, погуляем с тобой», — как тот сразу же поднялся. О том, что незнакомец был непростой смертный, свидетельствует его бесследное исчезновение: «А он от меня не знай куды…»[3355]. В легендах же о кирилловых и жигулевских горах аналогичные китежским старцы предстают и как могущественные повелители природных стихий. Перед плывущими по Волге (опять-таки медиативный локус) в расшиве благочестивыми людьми, исполнившими «завет» и передавшими поклон от кирилловых старцев жигулевским, раздвинутся горы, растворятся врата — и «понесет расшиву, куда надобно», а тех, кто нарушил стародедовский «завет», поглотят «хляби водные». Роль кирилловых и жигулевских старцев, обозначенная в фольклорной традиции, высвечена в поэме А. Майкова «Странник»:
Вергилий. Энеида. VI. 278

Рис. 31. Миниатюра из лицевого Жития Сергия Радонежского. Прорисовка.
И, наконец, в рассматриваемом цикле в качестве своего рода пришельца из иного мира может оказаться и провалившееся вместе с людьми строение, которое на краткое мгновение появляется на поверхности воды или земли. Такая легенда, в частности, зафиксирована в дер. Мелекса Волховского района, Ленинградской области: в давние времена в этой местности стояла церковь Казанской Божьей Матери; неизвестно по какой причине она ушла под воду; с тех пор жители окрестных деревень собирались к сокрывшему ее озерку на праздник Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (8 июля по ст. ст.); и вот однажды эта церковь показалась на поверхности водоема: «Говорят, что оно выстава´ло оттуда наверх, видали. <…> Провалилось туда — и все. А потом вот, вишь, показывалось (курсив мой. — Н. К.)»[3366]. Аналог содержится в померанской легенде: в пасхальное утро якобы видели, как всплывает на поверхность воды Винета с ее бронзовыми дверями, серебряными колоколами и домашней утварью. О подобных литовских параллелях мы уже упоминали выше. Здесь приведем еще один пример: люди видели, как избушка, некогда провалившаяся за грехи своих хозяев, поднималась со дна озера; если бы какой-нибудь смельчак отважился в этот краткий миг войти в нее, то и сама избушка, и ее жильцы остались бы «здесь». Как неоднократно отмечалось исследователями, в легендах об исчезнувших городах, замках, церквах подчас наблюдается циклическое возвращение того, что происходило раньше: каждый год, или семь, или девять, или даже сто лет, в день «провалища», тот или иной затонувший объект показывается на поверхности воды, а ушедший в землю — на поверхности земли, колокола звонят, люди подают голоса, хозяйка выходит из укрытия, но в урочный час все вновь до завершения очередного круговорота исчезает. Попытки же удержать мифического пришельца либо оказываются безуспешными, либо вовсе не предпринимаются. Если «погружение равнозначно растворению форм», то «появление на поверхности есть повторение космогонического акта, в результате которого сущее обретает форму»[3367]. Поскольку ничего подобного пока не происходит, это означает, что период досуществования и бесформенности еще не закончился, хотя попытки репрезентации акта творения уже предпринимаются. И тем не менее предполагается, что по истечении срока, необходимого для очищения и восстановления, — т. е. своего рода лиминального периода, неизбежно последует возрождение ушедшего и начнется новая жизнь со всем потенциалом нерастраченных возможностей. В рассматриваемых произведениях, содержащих реминисценции представлений о цикличности времени, присутствует «озаренность идеей возрождения». В них выражена «вера в круговорот времени, в вечное возвращение, в периодическое исчезновение мира и человечества, за которым следует появление нового мира и нового, возрожденного человечества»[3368]. Однако сказанное справедливо преимущественно для тех легенд, в которых время циклично. В легендах же о невидимом граде Китеже, как и в ряде других (например, в беловодской), основанных уже на христианских представлениях о линейном времени, попытка вернуть город на белый свет даже не предпринимается. Ведь такое «провалище» интерпретируется как Божье заступничество и спасение, как обретение преображенного духовного состояния. После Второго пришествия Христа, который явится в момент пика апокалиптических катастроф, и Страшного Суда сокрытый град Китеж опять станет видимым. Но тогда уже будет новая земля и новое небо, «материальная Вселенная — с ее законами, стихиями и нормативами — опрокинется в вечный световой мир Божественной Троицы»[3369]. Обновление же космоса означает не только спасение Мира, но и реинтеграцию райского существования, включенного, как и в начале творения, в континуум человеческого бытия. В этих условиях проблема взаимодействия миров и контактов между живыми и мертвыми получит свое завершающее решение.
Глава II Беловодье: легенды о «далеких землях»
«И дал мне Бог пройти путь тот…»Игумен Даниил
О, где же вы, святые острова, Где не едят надломленного хлеба, Где только мед, вино и молоко, Скрипучий труд не омрачает неба И колесо вращается легко?О. Мандельштам
Историографический экскурс

Легенды о Беловодье нашли свое выражение не только в устной, но и в рукописной традиции, бытовавшей в крестьянской, и особенно старообрядческой («бегунской») среде. Речь идет в первую очередь о «Путешественнике», описывающем маршрут в Беловодье, равно как и само обетованное царство, где благочестивые архиереи блюдут в чистоте старую веру, заповеданную здесь еще апостолом Фомой, где можно скрыться от «прелести Антихристовой», где господствует правда и справедливость, где сосредоточено сказочное изобилие. В этом рукописном памятнике и аккумулирована устная легенда о Беловодье. В XIX в. списки «Путешественника» получили распространение практически по всей территории России. Однако, нет сомнения, они имели хождение и раньше. Описание маршрутов побега («росписание тракта, куда идти») с перечислением лиц, у которых можно найти убежище, упоминаются уже в следственных делах 30–60-х гг. XVIII в. Эти «росписания тракта», конфискованные у крестьян-беглецов, представляют собой близкую аналогию к известным «Путешественникам», или «путникам», указывавшим дорогу в Беловодье. О более раннем их бытовании за неимением фактов можно говорить лишь предположительно[3370]. Несмотря на то, что «авторство» «Путешественника» нередко приписывается тому или иному конкретному лицу — «самовидцу», якобы побывавшему в Беловодье: в семи вариантах Марку — иноку Топозерского монастыря (Северная Карелия) и в четырех вариантах — некоему иноку Михаилу, — этот «самопутешественник» принадлежит общерусской традиции. По своему же содержанию он соотносится с географией всей страны, с сопредельными и далекими землями, реальными и мифическими, и, наконец, со всем мирозданием, осмысляемым на подсознательном архетипическом уровне. В настоящий момент известно одиннадцать списков «Путешественника». Выявленные в архивных и печатных источниках и собранные воедино, они были систематизированы по трем редакциям и введены в научный оборот К. В. Чистовым[3371]. В отечественной науке установилась своего рода историографическая традиция соотносить легенду о Беловодье с колонизацией Бухтарминской долины, т. е. долины реки Бухтармы — горноалтайского притока Иртыша. Во всяком случае, начало установления тесной связи побегов на Алтай с поисками Беловодья было положено еще в 1845 г. С. И. Гуляевым, который, как и другие, утверждал, что Бухтарма в XVIII в. считалась Беловодьем[3372]. Впоследствии эту точку зрения разделили историки З. Г. Карпенко, Г. П. Жидков, А. Д. Колесников, Н. Н. Покровский. Наиболее развернутое обоснование этой позиции принадлежит К. В. Чистову, А. И. Клибанову, Т. С. Мамсик. Выявляя истоки легенды о Беловодье, «К. В. Чистов[3373] показал, а Н. Н. Покровский[3374] подтвердил, что практика крестьянской колонизации Бухтарминской долины, где поселенцы немалое время прожили вне досягаемости крепостнического государства и церкви, без повинностей, податей, рекрутчины, организованные на артельных началах и с самодеятельными формами управления и суда, что эта практика и послужила формированию „Легенды о Беловодье“», — пишет А. И. Клибанов[3375]. Иными словами, реальным прототипом Беловодья для К. В. Чистова, по словам С. С. Савоскула, была независимая община беглых крестьян, заводских рабочих, солдат, поселившихся во второй половине XVIII в. на Алтае, в долине реки Бухтармы[3376]. За полтора столетия бытования данной концепции лишь один С. С. Лукичев высказал по этому вопросу совершенно иную точку зрения. По его мнению, никто из исследователей не приводит ни одного архивного документа, на основании которого можно было бы утверждать, что Алтай или какой-то из его районов считался в XVIII в. Беловодьем. Мало того, С. С. Лукичев полагает, что Бухтарминская долина, включенная в 1791 г. в состав Российского государства, во второй половине XVIII в. не могла отождествляться с Беловодьем, ибо Горный Алтай был в то время уже хорошо известен, «а Беловодье, как мираж в пустыне, всегда являлось недосягаемым для стремящегося к нему путника»[3377]. И это суждение, на наш взгляд, не лишено оснований. Что касается самого «Путешественника», то исключительная заслуга в его изучении принадлежит К. В. Чистову. Рассматривая среду бытования данного памятника, исследователь обстоятельно охарактеризовал старообрядчество как конфессиональную и социальную общность, и в первую очередь секту «бегунов», или «странников», в качестве крайне левого его ответвления, проанализировал формы эскапизма и особенности эсхатологической концепции старообрядцев. Обратившись непосредственно к изучению «Путешественника», основанного на легенде о Беловодье, исследователь скрупулезно рассмотрел реальные вехи маршрута, якобы ведущего в Беловодье, изложил историю поисков этой «далекой земли», прокомментировал содержание данного рукописного памятника в историческом, социально-экономическом, географическом аспектах. Ему же принадлежит обзор в качестве самостоятельных разделов некоторых других легенд, повествующих о «далеких землях» и относящихся, по мнению автора, отчасти к XVII–XVIII вв. и отчасти к XIX в. («Город Игната», «река Дарья», «Анапа», «новые острова», «Ореховая земля»). Народный утопизм исследуется ученым в тесной связи с историей элитарно-философского и политического утопизма (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.).

Рис. 32. Собор Отцов Церкви. Икона XVI в. Новгород
В отличие от предшественников, в исследованиях которых социальная составляющая легенды о Беловодье была объектом специального рассмотрения, мы сосредоточим свое внимание на мифологическом и религиозно-философском аспекте данной нарративной традиции с учетом специфики, которую она приобрела в процессе длительного бытования в старообрядческой среде. Подобный подход предполагает рассмотрение легенды о Беловодье в контексте различных традиций: предшествующей и сопутствующей; устной, рукописной и книжной; мифологической, фольклорной, этнографической и религиозно-философской. Интересующий нас «бродячий» сюжет может быть прочитан лишь при условии его анализа не только на синхронном, но и на диахронном уровне, проявляющемся в типологической преемственности и интертекстуальных взаимодействиях связанных с ним фольклорных произведений, что в конечном итоге позволит рассмотреть легенду о Беловодье в контексте легенд о потусторонних мирах. На наш взгляд, в «Путешественнике», аккумулировавшем в себе легенды о Беловодье, была продолжена (правда, уже в модифицированной форме) традиция волшебной сказки, повествующей о путешествии героя за тридевять земель в тридесятое царство, а с другой — получил дальнейшее развитие жанр так называемых, сложившихся в рамках древнерусской литературы, «хождений», и прежде всего «хождений» в Святую землю или в рай. (Заметим, что у островных народов эквивалентным «хождениям» является жанр «плаваний».) В качестве примера вспомним «Хождение» игумена Даниила, древнерусского автора, жившего в XII в., или такие апокрифы, как «Хождение Агапия в рай» (XII в.), «Хождение Зосимы к рахманам» (византийский апокриф, датируемый приблизительно V в. и известный на Руси с XIV в.), «Житие Макария Римского» (византийский оригинал, датируемый V–VI вв., на русской почве известный с XIV в.). По своей жанрово-тематической природе «хождения», содержащие элементы ранней христианской традиции и осмысляющие путешествие как паломничество, как поиск высшей истины, сродни «Путешественнику», поскольку повествуют о подвиге «дальнего странства». Будучи по своему происхождению переводными, но необычайно популярными на Руси в течение многих веков, эти апокрифы, пропущенные сквозь призму русского мировосприятия и впитавшие в себя реалии русского быта и русской духовной жизни в сочетании с фольклорными мотивами, были освоены древнерусской литературой. При анализе легенд о Беловодье, и прежде всего «Путешественника», необходимо учитывать, что «для народных масс религиозный язык был естественным и единственным способом оформления собственных идеологических воззрений», и потому исследование данного языка — его «лексики» (средневековые образы-символы) и грамматики (логика мышления)[3378] — основной путь к «прочтению» нарративных текстов, маркированных знаком Беловодья. Нельзя не заметить, что в самом акте формирования «Путешественника», в самой готовности, неоднократно проявляемой на деле, воспользоваться им, чтобы отправиться на поиски сокровенного царства, уже есть «некоторое предварительное его откровение: царство это познается в самом стремлении к нему, в самом факте подъема над обыденностью жизни, ибо этот подъем невозможен без некоторого внутреннего озарения»[3379]. Воспользоваться «Путешественником» может лишь тот, кто готов преодолевать расстояние, каким бы дальним оно ни было. Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов, по мнению Н. А. Бердяева, проявилась в строении русской души: «та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта». Ей присуща природная стихийность[3380]. При подобном менталитете русского человека особенно оправдан постулат: прекрасной осмысляется та земля, путь в которую долог[3381]. Таким в «Путешественнике», как и в древнерусских «хождениях», оказывается путь в святую землю. Не случайно в одном из вариантов рассматриваемого рукописного памятника эта мысль выражена совершенно определенно: здесь речь идет о пути, «надлежащем в святые места» (РГИА-1).
«Далеко-далеко, там, на востоке…», или Путь в Беловодье
Начальный этап пути
В «Путешественнике», как и в «хождении» или сказке, преодолеваемое пространство неоднородно по своему характеру. Начальный этап обозначенного в списках этого памятника маршрута представляет собой некое условное реальное пространство или имитацию такового. И в самом деле, «Путешественник» (во всяком случае, в дошедших до нас списках) соответствует определенному уровню накопленных к XIX в. географических знаний. В связи с этим маршрут странствия на начальном его этапе приобретает существенную конкретизацию. Реальные топонимы, которые играют роль важнейших координат на пути в Беловодье, фактически символизируют «ойкумену», т. е. эмпирически освоенное опытом переселенческого движения из Европейской части России в Сибирь и неоднократно преодолеваемое пространство. При рассмотрении «Путешественника» выясняется, что обозначенный в нем маршрут так или иначе ведет на восток, где, согласно народному мировосприятию и мифосознанию, пульсирующему даже в географических реалиях, и надлежит быть сокровенной стране. Аналог обнаруживается в библейском сказании, по которому Бог насадил рай на Востоке. Маршрут, ведущий в легендарное Беловодье, на определенном его отрезке довольно устойчив. Выявленный из совокупности всех известных списков «Путешественника», он включает в себя следующие основные вехи: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Барнаул — Бейск (Избенск, или Избенка, т. е. Бийск, расположенный на алтайской реке Катуни) — река Катунь (Котунь, Катуль, Котуль, Котурн) — Красноярск (иные версии: Краснокут, Краснокурск, Краснобурх, Краснодар, Красный Яр) — деревня Устюба (Устьюба, Устьба, Устба, Юстьба, Изба). Алтайские старообрядческие деревни Устюба, Ай, Уймонская (в «Путешественнике»: Умоменска, Уммойска, Умонка, Устьменска, Установска, Димонская, Дамаская) реально относились к Бийскому округу. В некоторых случаях между населенными пунктами указываются расстояния в верстах. Следует заметить, что разночтения между списками возникают по мере приближения к конечному пункту данного маршрута — к деревне Устюба, являющейся, на наш взгляд, лишь знаком-символом завершения начального этапа пути. Эти разночтения связаны главным образом с Бийском и рекой Катунью, на берегу которой он расположен. Кстати, именно Бийский округ, согласно следственному делу Томского губернского суда, оказался и в реальной жизни тем своего рода распутьем, к которому некий Фома Егорович, проповедовавший странническое учение и, несомненно, знакомый с «Путешественником», в 50-х гг. XIX в. привел около сотни крестьянских семей из Тобольской губернии, пообещав им найти Беловодье. Именно от Бийска искатели сокровенной земли разбрелись в разные стороны по тайге и окрестным селениям[3382]. Такой исход странствия, по сути, предопределен уже «Путешественником», где Бийск оказывается в центре пересечения многих дорог, что обусловливает коллизию «витязь на распутье». Отсюда, доверясь тем или иным спискам «Путешественника», можно продолжить путь по Сибири, ориентируясь на Красноярск (в двух списках), либо уклониться в сторону Казахстана, к Краснокутску (Краснокуту — в трех списках) на реке Иртыш. (Именно этому направлению странствия К. В. Чистов придает решающее значение, тем более, что он, как отмечает сибирский исследователь В. Г. Иванченко, ошибочно локализует деревню Устюбу в устье казахстанской Убы. На самом же деле эта деревня стояла на левобережье реки Катуни.) И уж совсем неожиданный ориентир указывается в одном из списков «Путешественника»: если ему следовать, то нужно держать курс на некий Краснодар (город, известный нам под таким названием, получил его лишь в 1920 г.; ранее — Екатеринодар). Очередную ситуацию перекрестка создает топоним «Красный Яр», фигурирующий в двух списках «Путешественника»: населенный пункт с таким названием есть в разных местностях. Наименования же «Краснокурск» или «Краснобурх», присвоенные в «Путешественнике» для данной вехи маршрута, вообще создают простор для противоречивых догадок.
Рис. 33. Всадники. Фрагмент иконы «Федоровская Богоматерь». XVII в. Кострома
Сталкиваясь с фактами различных толкований наименований населенных пунктов, осмысляемых как вехи на пути к Беловодью, необходимо учитывать, что неосведомленность в географических реалиях памятника не только простых крестьян, но даже чиновников Министерства Внутренних Дел, осуществлявших, в частности, следствие по поводу массовых поисков Беловодья, была поразительной. Так, начиная разбирательство, чиновники считали, например, что деревня Красный Яр — это город Красноярск, а упоминаемые в «Путешественнике» деревни Устюба и Уймонская находятся в Восточной Сибири. Не удивительно, что возглавлявшему это следствие генерал-губернатору Восточной Сибири так и не удалось обнаружить в Красноярске партию крестьян, собиравшихся бежать в сокровенную землю[3383]. И все же лишь тот, кто из всех пересекающихся путей определит правильную стезю, кто из всех одноименных населенных пунктов выберет надежный ориентир, неизбежно выйдет к деревне Устюба, стоящей у истока одноименного левого притока Катуни и символизирующей конечный пункт данной части маршрута, ведущего в благословенное Беловодье. Еще большее расхождение в обозначениях основных вех пути характерно для слухов и толков, на основе которых, собственно говоря, и сформировался «Путешественник». Именно по слухам Беловодье может локализоваться то в верховьях Енисея, то на озере Оленгур, то на некой реке Карше, то в Турканской (по-видимому, Туруханской) стороне — одним словом, в Западной Сибири, а то и еще дальше — например, где-то около Кобдо, в Монголии[3384]. Причем носителей традиции отнюдь не смущает географическая несовместимость местностей, через которые, по их мнению, пролегает путь к Беловодью. Как свидетельствует Е. Шмурло, один из рассказчиков, поведавший ему о том, что некая партия в поисках сокровенной страны отправилась на реки Тигр и Евфрат (согласно апокрифам, эти реки вытекают из рая и свидетельствуют о близком его местонахождении), чтобы попасть в «Япанское царство», долго не хотел верить, когда он с картой в руках объяснял своему собеседнику, почему искатели Беловодья не могли попасть одновременно и в Месопотамию, и на берега Тихого океана[3385]. Но у носителей традиции на этот счет своя точка зрения: координаты земного и запредельного миров не совпадают. Плохая географическая осведомленность вносит свою лепту в подобную картину мироздания. Возвращаясь же непосредственно к анализу «Путешественника», отметим, что наряду с реальными топонимами в различных его списках встречаются и искаженные географические названия, правильное написание которых обычно выявляется при соотнесении текстов, принадлежащих одной и той же редакции. Так, в Выбернуме или Кабарнауле обнаруживается Барнаул, в Избенске — Бийск, в Каинском — Камский, в реке Катуле, Котуне или Катурне — река Катунь, в дер. Димонской — Уймонская, в дер. Изба — Устюба и т. д. Искаженные наименования символизируют те земли в составе «ойкумены», о которых рассказчики знают лишь понаслышке и которые едва ли не выпадают за пределы эмпирически освоенного пространства. Изредка в ряду топонимов, достоверных или искаженных, проскальзывают и явные мифологемы. Например, в одном из списков «Путешественника» вслед за Тюменью и Барнаулом фигурирует некий «небесный верх» (вариант: «вверх по реке»), образ которого проявился в данном контексте на подсознательном архетипическом уровне. Подобный мифоним, нашедший себе место среди реальных топонимов, служит, несомненно, знаком того, что Беловодье следует искать не только в посюстороннем дольнем мире. Отступления от реальной топонимии, использование географических названий, которые соотносятся с различными населенными пунктами и отдаленными друг от друга местностями, либо однокоренных (в одной или обеих частях) сложных наименований (Краснокут и Краснокурск, Краснодар и Краснобурх, Красноярск и Красный Яр) как раз и создают атмосферу некой сокровенной табуированной тайны, недоступной для простых смертных, но открытой посвященным и открывающейся достойным. Вот почему все неудачные попытки отыскать Беловодье, предпринимавшиеся на протяжении XVIII и XIX вв., не ослабляли веру в его существование и не останавливали все новых и новых мечтателей в надежде найти легендарную страну. Неудача же всегда находила себе оправдание: дескать, взяли слишком вправо, тогда как следовало пойти левее, либо наоборот. И при очередной попытке поисков Беловодья эту досадную оплошность можно якобы исправить. Причем не последнюю роль в осуществлении многочисленных изнурительных, но безрезультатных странствий сыграл рассматриваемый «Путешественник». Несмотря на обилие в нем географических названий, на поверку оказавшихся лишь своеобразными «формулами достоверности», дорога, ведущая в легендарную страну, уже на начальном ее этапе обрела, как и следовало ожидать, некоторые признаки псевдореальной и даже отчасти мифической, хотя бы потому, что она не вела и не могла привести в реальное Беловодье.

Рис. 34. Львы. Детали декора Георгиевского храма в Юрьеве Польском
Описание маршрута в «далекую землю», обозначавшееся в «Путешественнике», основывается, по сути, на той же модели, что и мотив дальнего странствия, который как в устной, так и в книжной нарративной традиции имеет устойчивое наполнение. Этот мотив, например, присутствует в «Хождении» игумена Даниила. В этом памятнике начала XII в. содержится древнейшее из русских описание паломничества в Святую землю. Такой путь, по словам игумена Даниила, нельзя пройти быстро: он тяжел, страшен, безводен. Здесь страннику угрожают «сильные сарацины поганые», разбойники, дикие звери (львы). Его преследуют зной, жажда, бездорожье. И только тот, кто храним Божьей благодатью и укрепляем вышней силой, может преодолеть все испытания и сподобиться увидеть то, что откроет ему Бог. По этой же модели разворачивается мотив дальнего странствия и в древнерусских апокрифах. Имеются в виду прежде всего «Хождение Зосимы к рахманам» и «Житие Макария Римского». Перевод обоих византийских оригиналов получил распространение на Руси, как уже говорилось, не позднее XIV в. В них прославившиеся своими аскетическими отшельническими подвигами старец Зосима или иноки Сергий, Феофил, Югин, «отрекшиеся от жития этого пагубного, мирского», держа путь в восточном направлении, преодолевают пространство, в большей или меньшей степени лишенное географической определенности, но осмысляемое как совокупность многочисленных земных преград: среди них пустыня, пропасть, местности, населенные «множеством зверей лютых, рычащих страшно», или «гадами и змеями, свищущими и скрежещущими зубами», бездорожье, «буря великая», «землетрясение великое», встающая навстречу им тьма. В подобных описаниях «подвига дальнего странства» господствует аллегория. Злоключения, переживаемые игуменом Даниилом, праведником Зосимой или иноками Сергием, Феофилом, Югиным, являются своеобразными испытаниями, мытарствами, преодоление которых позволяет в одном случае войти в Святую землю, в других — в некое преддверие рая. Здесь пустыня обозначает бренный суетный мир, лютые звери и змеи — испытания, выпавшие на долю взыскующих обетованной земли, бури и землетрясения — жизненные невзгоды, обрушившиеся на них, бездорожье — поиски путей от мирского к сакральному, тьма — состояние души, не озаренной светом божественного откровения, восточное направление — приближение к раю, в конечном итоге — к Богу. «Путь понимался как духовное искание. <…> Нравственное совершенство принимало форму топографического перемещения», — пишет А. Я. Гуревич[3386]. Однако в «Путешественнике» мотив дальнего странствия в известном смысле рационализируется, а рационализируясь, утрачивает свой былой аллегоризм. Подобная трансформация соответствует определенным общественно-историческим запросам, новому уровню восприятия и познания мира, и, в частности, новым пространственным представлениям. Нельзя также забывать, что, несмотря на очевидную преемственную связь с древнерусскими «хождениями», «Путешественник» принадлежит качественно иному жанру. И тем не менее, несколько забегая вперед, скажем, что в самих легендах о Беловодье, где географическая конкретика чаще всего отсутствует, аллегоризм повествования, как правило, не утрачивается. Мотив дальнего странствия получил развитие не только в книжной, но и в устной нарративной традиции. В этой связи вспомним предание о поисках города Игната, осмысляемого казаками-некрасовцами как далекая сокровенная земля, в известной мере подобная Беловодью: «По болотам, по горам шли, а двое, что ходили с ним (дедушкой Егором Ивановичем Семутиным. — Н. К.), померли страшной смертью. Шли они так-то, утомились, легли под деревом в лесу спать. Егор Иванович проснулся по нужде. Встал, отошел шагох двадцать в сторону от дерева. А в это время набегли людоеды, убили двоих и съели. Дедушке Семутину случай помог. Не проснись он, и его бы съели людоеды. <…> В те времена, что дедушка Семутин ходил по чужим землям, много людоедох, разбойникох было»[3387]. Этот фольклорный мотив — прямой аналог соответствующему мотиву дальнего странствия, который разрабатывался древнерусскими «хождениями» на определенном этапе параллельно с устными нарративными произведениями. Обе традиции, взаимодействуя друг с другом, оказали влияние и на формирование «Путешественника». Вместе с тем мотив дальнего странствия устойчив и в волшебной сказке. В ней также обозначен отрезок пути, начиная от исходной точки, откуда герой отправляется в тридесятое царство за тридевять земель либо идет «туда, не знаю куда», и кончая тем локусом, где он встречает дарителя и получает чудесный предмет, указывающий ему путь. Этот отрезок в сказке обозначен емким семантическим формульным выражением, основанным на глаголе движения: «пошел путем-дорогой», «шел-шел, шел-шел», «ехал-ехал» и др. Причем пространство в сказке нередко измеряется во временных категориях: «долго ли, коротко ли; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «много ушло времени», «едут месяц, и другой, и третий», «на исходе седьмого года» и т. д. Сохраняясь, по сути, и в «хождениях», и в «путешественниках», эта выработанная в фольклорной традиции модель наполняется в одном случае аллегорическими символами, а в другом — формулами достоверности, выраженными посредством географических реалий и псевдореалий, подчас неотличимых друг от друга. Поскольку влияние устной и книжной (или рукописной) традиций всегда было обоюдным, мотив дальнего странствия, получивший развернутое выражение непосредственно в легенде о Беловодье, нередко обнаруживал характерные признаки и «хождений», и «путешественников» («путников»), вплоть до присущей им аллегории и символики устойчивых образов. Так, в легенде, использованной М. И. Мельниковым-Печерским в романе «В лесах» и изложенной от лица странника, ходившего в Беловодье, пустыня означает суетный мир, звери — испытания, выпавшие на долю паломников, отсутствие воды — духовную жажду. В другой легенде, известной под названием «Сокровенное сказание о Беловодье» (как следует из предисловия, в 1893 г. она была передана некоему В. Г. иеромонахом Вышенской Успенской мужской пустыни Тамбовской губ.; в 1943 г. опубликована за границей; в 1995 г. — в России), описание пути заключает в себе ряд аллегорических образов: непроходимые дороги и переправа; пустыня; болезни и гибель людей и скота; сомнения, охватившие большинство искателей Беловодья и возвращение их; продвижение немногих оставшихся от проводника к проводнику; потеря спутников и одиночество; дорога, поднимающаяся все выше и становящаяся все уже (даже одному по ней едва ли можно пройти); граница, за чертой которой ни один проводник уже не в состояний помочь, а если и берется, то неизбежно погибает; дальнейший, полностью самостоятельный, подъем по пути, пересеченному множеством перекрестков, расходящихся на две, а то и на три тропы (ср. со своего рода «перекрестками», имеющими место в «Путешественнике»); разгадка знаков-символов, маркирующих каждую из этих троп, и — как результат — правильный выбор одной из них, чем в конечном итоге и обеспечивается достижение Беловодья[3388]. Такой путь символизирует всю тяжесть духовного восхождения, подъема к святому и чудесному: он пролегает через преодоление мирских соблазнов, искушений, испытаний. Не случайно поиски Беловодья, по легендам, нередко предваряются иноческим служением и — что еще более действенно — отшельничеством, пустынножительством, осмысляемым как важнейшая предпосылка к успеху задуманного предприятия. Подобная экспозиция типична и для древнерусских «хождений». Так, в «Хождении Агапия в рай» центральный персонаж — игумен монастыря, подвижник, удостоившийся увидеть рай. В «Житии Макария Римского» отправляются в путь, чтобы найти рай, не просто иноки, отрекшиеся от суетного мира. Это монахи, которые успели совершить паломничество к святым местам. В «Хождении Зосимы к рахманам» названный праведник, прежде чем достичь земли блаженных, долгое время жил отшельником в пустыне, строго соблюдая аскетический устав. Учитывая специфику предшествующих и сопутствующих традиций, в контексте которых формировался «Путешественник», основанный на легендах о Беловодье, нельзя не отметить, что к идее реалистичности, нередко высказываемой исследователями в отношении начальной части описываемого в данном памятнике маршрута, необходимо относиться с осторожностью. Симптоматично, что приблизительно в это же время на Руси получило хождение «Сказание о роскошном житии и веселии», где ирреальность маршрута, обозначающего путь в счастливую землю, передана в основном посредством географических реалий и представлена в сатирическом плане как явная пародия на «путники»: «А прямая дорога до тово веселья от Кракова до Аршавы и на Мозовшу, а оттуда на Ригу и Лявлянд (Лифляндию), оттуда на Киев и на Подолеск, оттуда на Стеколню и на Корелу, оттуда на Юрьев и ко Брести, оттуда к Быхову и в Чернигов, в Переяславль и в Черкаской, в Чигирин и Кафимский. А кого перевезут Дунай, тот домой не думай».
Первый этап пути
Согласно «Путешественнику», данный этап маршрута взыскующие Беловодья могут преодолеть лишь с помощью проводника. Его следует спросить в деревне Устюба (Усть-Уба), которой, напоминаем, заканчивается начальный этап пути, ведущего в сокровенную страну. Имеется в виду некий «странноприимец»: по одной версии, Петр Кириллов, по другой — Петр Мошаров. Возможно, это один и тот же персонаж: «спросить странноприимца Петра и Кирила» (Пермь-1). Следствием в свое время был установлен его реальный прототип: согласно произведенному разбирательству, им якобы оказалось лицо, ранее судимое за укрывательство беглых крестьян[3389]. В «хождениях» аналогичную роль играет сам Бог либо его аллегорическое воплощение (например, орел), равно как и чудесные животные (олень, осел, верблюд, змей, голубь и др.), а также деревья, передающие странника с одной своей вершины на другую. В волшебной сказке идентичен этим проводникам чудесный помощник, имеющий зоо-, антропоморфный либо «гибридный» облик.
Рис. 35. Петр Муромский. Фрагмент иконы. XVII в. Муром
От этой точки маршрута начинается пространство, постигаемое лишь неким духовным опытом, качественно отличным от других человеческих знаний. Впереди, за деревней Устюбой, простирается страна пещер. (Реальное наличие в окрестностях деревни Устюба большого количества пещер, в том числе и крупнейших на Алтае, подтверждается и очевидцами.) О них упоминается вразличных списках «Путешественника»: «И тут пещер множество». Это пещеры «скрытые», «тайные». В одном случае они названы «фатерами»: в них живут скрытники. Напомним, что в легендах о невидимом граде Китеже в пещерах светлоярских гор также спасаются скрытники, уподобляясь китежским праведникам. Все это имеет свою подоплеку. В соответствии с учением старообрядческих наставников, нигде нельзя так спасти душу, как в уединении и в пещерах[3390]. Идеал пещерно- и пустынножительства заповедан уже Священным Писанием: «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущелиям земли» (Евр. 11.38). Бегство в горы и пещеры, по словам «Жалобницы» поморских старцев, усилилось с наступлением века Антихриста: «В лето от воплощения слова Божия во исполнение по Писанию числа зверина 1666-е <…> от злочестиваго деяния и лукаваго сонмища злобою и нечестием Никона патриарха, претвориша бо ся пастырие в волчее естество и разсвирипеша на стадо Христовых овец и разгнаша я по горам и пропастям земным (курсив мой. — Н. К.)»[3391]. Если в «Путешественнике» тема пещерножительства лишь контурно обозначается, то в «хождениях» она приобретает достаточно полное освещение. Полисемантизм образа пещер раскрывается в «Хождении» игумена Даниила (известно около 150 списков названного памятника). В нем та или иная пещера, святая, удивительная, весьма чудесная, осмысляется то как место рождения новозаветного персонажа (например, Иоанна Предтечи), то как место пребывания святой Богородицы с Христом и Иосифом, Ильи-пророка со своим учеником Елисеем, Иоанна Крестителя, святых отцов и пр. Пещера предстает и как место погребения. Так, Гроб Господень, по преданию, находился именно в пещере, которая впоследствии заняла центральное место в храме Воскресения. Мало того, в одной из пещер лежат двенадцать пророков в трех раках. В других — мощи многих святых мучеников и даже пришлых странников. Вместе с тем пещера использовалась в качестве раннехристианского храма: здесь Христос начал учить своих учеников. В пещере служил литургию святой Мелхиседек. Пещерные монастыри также восходят к началу христианской эры. Одним словом, пещеры осмысляются как неотъемлемые атрибуты легендарной святой земли. Нередко пещера — знак близости рая. Так, в «Житии Макария Римского» эта тема разворачивается в живописный эпизод: «Божьим провидением нашли мы тропу и пещеру, человеком украшенную. Это увидев, мы обрадованы были. И вошли внутрь, и не нашли ничего. И там благоухание проникало в ноздри наши. И сказали: „Братья, останемся здесь до вечера [и подождем], не придет ли кто сюда?“. И легли мы спать»[3392]. Выясняется, что в этой пещере живет святой Макарий. Он поселился в непосредственной близости от рая, всего в двадцати поприщах от него. (Поприще — римско-греческая миля: около 1480 м.) Как отмечает В. Н. Топоров, в мифологической традиции пещера, осмысляясь как внутреннее, укрытое, невидимое пространство, противостоит видимому. Пещера — сакральное убежище, где скрываются от мира отшельники. В известном смысле это некая изначальная хаотичная стихия, связанная с доктриной предсуществования. Здесь одновременно локализуется и место зачатия, и рождения, и погребения, источник и конец земного бытия. «Слияние в образе пещеры идей жизни, смерти и воскресения объясняет не только то, что пещеры использовались как святилища, но и то, что раннехристианские храмы <…> имели пещерный облик <…>. Сам храм-пещера (курсив мой. — Н. К.) представляет собой модель вселенной», — отмечает ученый[3393]. «Мало подале» либо «недалеко и подале» открываются путникам горы, соотнесенные с пещерами-святилищами в едином мифологическом пространстве. Картина едва ли не аналогичная той, которую засвидетельствовал в XII в. игумен Даниил, приближаясь к Святой земле: «И горы там каменные высоки, и пещер много в горах тех»[3394]. Во всех списках «Путешественника» они простираются на 300 верст. Эти горы отличаются не только своей протяженностью, но и высотой: снег или лед на них никогда не тает. (О том, что и в данном случае за изображением, казалось бы, реальных ландшафтных объектов кроются некие мифологические представления, свидетельствуют показания очевидцев, побывавших в этой местности: на пути от Устюбы («пещер») до Верхнего Уймона («обители») истинно «снеговых гор», и тем более «вечных льдов» на них, нет.) Типичная для христианской традиции твердь (в данном случае — ледовая) призвана разграничить материальную и идеальную сферы мироздания[3395]. Вместе с тем в образе ледовых или снеговых гор выражена идея устремленности к «небесному верху». Данное семантическое значение сакрального топоса со всей очевидностью выявляется при рассмотрении параллелей, имеющих место в древнерусских апокрифах и волшебных сказках. Горы, поднимающиеся выше земных, фигурируют, к примеру, в «Житии Макария Римского». «Гора высокая, похожая на небо», где посредине локализуется многоводное озеро и куда слетаются птицы со всего мира, предстает в «Откровении Варуха». Аналогично этот топос осмысляется и в волшебной сказке: «Издали еще завидели горы — такие крутые, высокие, что и боже мой! Верхушками в небо уперлись (курсив в цитатах мой. — Н. К.). Шарик (магический предмет, полученный героем от чудесного дарителя и указывающий ему путь. — Н. К.) прямо к пещере прикатился»[3396]. Архетипом образа огромной небесной горы послужила мировая гора, классическим примером которой в индуистской мифологии и космографии служит гора Меру — индийский Олимп. Обычно ее помещали к северу от Гималаев. Эта гора якобы возвышается над поверхностью Земли на необычайную высоту. В некоторых мифах она располагается «под полюсом» и звезды вращаются у ее подножия. Осмысляясь же в качестве центра Джамбудвипы, где обитает человечество, она локализуется в центре Земли. Этот сакральный центр, крайне периферийный по отношению к обжитому миру, объединяет в себе черты земного и внеземного. Это страна блаженных предков и богов. По версии монгольских буддистов, гора Меру возникла на Земле первой. Знаменуя начало и конец мироздания, она своим происхождением связана с началом времен и с началом творения, а с концом мира ей уготована участь погибнуть последней[3397]. В «Путешественнике» «великия горы» фигурируют неоднократно: и в период преодоления первого этапа маршрута, и на ближних подступах к Беловодью, и даже на самой взыскуемой земле, о чем будет сказано по мере дальнейшего анализа текстов памятника. Несмотря на явную рационализацию этого мифологического топоса, в его образе все же удерживаются характерные признаки архетипа. Горы, представленные в «Путешественнике», как и в более ранней традиции, соотнесены с небом — «небесным верхом» и символизируют (и этот символ в дальнейшем дублируется!) некий край, где небо сходится с землей. Следует ожидать, что лежащая за такими горами земля непременно окажется связанной не только с дольним, но и с горним миром. По некоторым вариантам «Путешественника» эти горы, как и лед на них, стоят «в своем виде» («во всем виде») от Адама, т. е. со времен Адама — первого человека. Иначе говоря, они незыблемы с самого «начала времен», которому обычно приписываются признаки совершенства и которые имеют вселенский масштаб. Связанный с горами и пещерами локус и есть преддверие сокровенного Беловодья, поиски которого ведут не только в некое иное пространство, но и, как выясняется, возвращают в «допотопное» прошлое. В подобной топографии смешиваются воедино географические сведения с библейскими реминисценциями, положительное знание насыщается морально-символическим содержанием, религиозно-этические ценности накладываются на познавательные, подчиняя их себе. Пути земные сливаются с путями небесными, вследствие чего в одной плоскости совмещается посюстороннее с потусторонним, местное с библейским[3398]. В результате «вертикальный вектор структурирования Космоса как бы поглощается горизонтальным»[3399]. Как уже говорилось, мифологизация гор, присущая древнему мировосприятию, в «Путешественнике» до некоторой степени уже преодолена. Тем не менее ее рудименты позволяют раскрыть изначальную семантику этого образа в плане его типологической преемственности, контекстуальной соотнесенности и, в конечном итоге, в плане выявления пульсирующего здесь архетипа.
Второй этап пути
«Снеговые горы» со множеством скрытых, тайных пещер — это еще и граница, где завершается один и начинается другой этап маршрута, ведущего в обетованную землю. Тот, кто одолеет «оные горы», вставшие ему на пути, обнаружит за ними деревню, название которой, будучи реальным, в списках «Путешественника» чаще всего сильно искажено: Умоменска, Оумайска, Умайска, Уммойска, Умонка, Димонска, Дымонское, Дамаская и, наконец, Уймон, т. е. старообрядческая деревня Уймонская (Алтай). В этой деревне, согласно первой редакции «Путешественника», есть часовня, а согласно второй — часовня и монашеская обитель. (Заметим, что постройка тайных старообрядческих часовен, а тем более использование их для укрывательства беглецов, были строжайше запрещены указом 1826 г.) В соответствии с традицией ступенчатого сужения образа после деревни и часовни (или часовни плюс обители) внимание паломника направляется на служителя, находящегося при ней. В одном случае это инок, и не просто инок, но схимник, т. е. монах, принявший схиму, которая в православной церкви является высшей монашеской степенью и требует от посвященного в нее соблюдения особо строгих аскетических правил поведения и затворнического образа жизни. В другом случае это настоятель (игумен) здешнего монастыря. Монастырь же, кстати, в древнерусских апокрифах нередко символизировал земной рай. Имя этого инока-схимника почти во всех вариантах «Путешественника» — Иосиф (лишь в одном из списков — Иоанн). Оно означает, по святцам, Божия благодать, что в данном контексте вполне оправдано. По-видимому, для нас небезынтересен тот факт, что исправник Бийского округа Томской губернии, сопоставив обстановку в своем округе с текстом «Путешественника», пришел к выводу, что упоминаемый в этом памятнике инок не кто иной, как крестьянин Оренбургской губ. Иван Гудков, числившийся вместе с братом в бегах более 20 лет и теперь живший в дер. Ай в доме, состоявшем из многих потайных комнат и ходов, куда к нему приезжали старообрядцы даже из других округов. Если на предыдущем этапе путь искателям Беловодья указывает странноприимец, т. е. человек, привечающий странников, то теперь, по мере приближения к Беловодью, эту роль играет уже инок. Не случайно и сам текст «Путешественника» приписывается монаху, который якобы побывал в этой сокровенной земле. Аналогична фигура посвященного в тайну местонахождения Беловодья и в легенде, зафиксированной П. И. Мельниковым-Печерским: именно игумен монастыря дает отправляющемуся в странствие «для памяти тетратки, как и где искать благочестивых архиереев». И даже в упоминавшемся выше «Сокровенном сказании о Беловодье» тайну о стране извечной справедливости и счастья поведал на исповеди, предчувствуя близкую кончину, отец Сергий — старец, монах, отшельник. Причем это было тысячу лет тому назад, при князе Владимире, во времена крещения Руси. Сам же отец Сергий узнал об этой земле от настоятеля Афонского монастыря, а тот, в свою очередь, возводит это сказание к глубокой древности, к знанию мудрецов, прибывших с Востока, — т. е., по сути, к некоему «началу времен». Можно заметить, что инок в «Путешественнике» отнюдь не наделен признаками, какими отличается чудесный проводник в «хождении» и особенно в сказке (время бытования и жанр памятника и здесь дает о себе знать). Однако в самой соотнесенности маршрута, ведущего в Беловодье, с монастырем, монахом, настоятелем, отшельником в какой-то мере заключена характеристика обетованной земли. Согласно одному из вариантов «Путешественника», уже здесь можно скрыться «от антихристовой руки». И именно здесь, как утверждается во многих списках этого памятника, есть люди, которые способны вести взыскующих Беловодья дальше. Мотив передачи путников от одного проводника к другому, известный «Путешественнику» по аналогии с «хождением» и сказкой, имеет аллегорический смысл: лишь тот способен достичь конечной цели, кто, встав на путь, пройдет все его вехи. «Проход» («ход»), начавшийся от обители, где пребывает монах-схимник Иосиф, характеризуется, в отличие от двух предыдущих этапов пути, как «весьма трудный». В большинстве списков, восходящих, несомненно, к одному протографу, он пролегает через Китайское государство (Китайскую землю). Во второй редакции «Путешественника» этому, казалось бы, реальному пространству оказывается эквивалентной некая «Кижиская земля», а в третьей — земля, вообще не обозначенная какими бы то ни было названиями.
Рис. 36. Святой Лука Евангелист. Миниатюра XII в. Прорисовка
Преодоление расстояния в «Путешественнике», так же, как и в волшебной сказке, независимо от наличия или отсутствия на этом этапе знаков географической привязки, измеряется во временных категориях. Согласно спискам первой редакции, протяженность пути по Китайскому государству составляет сорок четыре дня. В списках же второй редакции эта числовая модель распадается на две далеко не равных составляющих: одна из них («сорок») символизирует сферу реального, а точнее, условно реального, пространства, а другая («четыре») — сферу некоего иного, надо полагать, выходящего за пределы земного континуума, обозначенного искаженными, если и вовсе не существующими наименованиями: «От той обители есть ход, 40 дней со отдыхом и чрез китайскую землю, и 4 дни куканию (?)» (ГИМ); «В той обители есть ход, 40 дней с роздыхом через Кижискую (sic!) землю, потом 4 дня ходу в Титанию» (Щ). Создается впечатление, что этот «ход», преодолимый лишь за 44 дня, начинается в самом монастыре и открывается тому, кто войдет в него. Своего рода ядром этой числовой модели, ориентированной на качественно-количественную характеристику пути, служит вынесенная за пределы связанного с ней семантического поля цифра «4». В известном смысле она является кодовой. Именно эта цифра символизирует соотнесенность дальнейшего продвижения с четырьмя сторонами света, с четырьмя главными направлениями, определяет ориентацию во Вселенной, в мировом универсуме[3400]. Вместе с тем сорок дней в обрядах и верованиях — это лиминальный период, в течение которого совершается переход из одного качественного состояния в другое[3401], что особенно очевидно из параллели, содержащейся, например, в апокрифе «Хождение Зосимы к рахманам»: «Я же, Зосима, вышел из пещеры Бога моего и пошел, не ведая, куда иду, [и шел] 40 дней (курсив мой. — Н. К.). Изнемог дух мой, и ослабело тело мое, и там молился я 3 дня Господу Богу своему»[3402]. Мифологема сорокадневного состояния перехода дублируется в экспозиции к мотиву странствия: праведник Зосима, прежде чем отправиться в путь, «не вкушал ни хлеба, ни питья 40 дней и 40 ночей (курсив мой. — Н. К.) и не видел лица человеческого»[3403]. Об устойчивости соотнесения между собой данных мифологем — сорокадневного странствия и предшествующего ему голодания — свидетельствует и «Житие Макария Римского»: «А мы уже много дней не вкушали пищи никакой. И помолились мы Богу, [и шли] 40 дней (курсив мой. — Н. К.)»[3404]. Мифологему голодания в некоторых списках «Путешественника» заменяет образ «голодной степи». Если сказанное верно и соотнесенность голодания со странствием в рассматриваемом контексте действительно устойчива, то следует признать, что здесь мы имеем дело с мотивом открепления от земного бытия, который, хотя и в завуалированной форме, связан с уходом в Беловодье. И это обстоятельство также характеризует далекую сокровенную землю. Несколько иной вариант представлен списком, принадлежащим к третьей редакции «Путешественника». В нем географическая приуроченность очередного этапа пути, ведущего в Беловодье, подменяется топографической: «Двенадцать суток ходу морем и три дня голодной степью» (Б.). Заметим, что цифра «12» есть производное от четырех (семантика последнего уже рассматривалась) и трех. В данном случае цифра «3», вынесенная за пределы общей числовой модели, служит важнейшим кодом к раскрытию ее семантики. Это знаковая константа мифопоэтического макро- и социокосма, символ динамической целостности. Она обусловлена древними верованиями, в соответствии с которыми числа управляют миром. Несмотря на то, что подобная символика ведет свое начало от древнекитайской и пифагорейской традиций[3405], она проявляется в различных, в том числе и в русской, этнокультурных традициях. Точка, которой отделяется основная часть числовой модели от кодовой, крайне неустойчива и вряд ли соотносится с какими бы то ни было реалиями: во второй редакции — это кукания или Титания, в третьей — граница между морем и голодной степью плюс горой, что уводит подобные наименования да и сами локусы исключительно в область знаков-символов пространства, преодолеваемого искателями Беловодья. Искаженные, а то и вовсе не существующие географические названия либо топографические обозначения символизируют мир чужой, незнаемый, подчас приравниваемый мифосознанием к миру смерти. В «хождениях», и в частности в «Житии Макария Римского», с этим локусом до некоторой степени идентифицируются «далекие земли», населенные мифическим народами, а иногда и запредельные области мытарств человеческой души.
Третий этап пути
Следующий этап маршрута, представленный в «Путешественнике», связан уже с водной преградой. Причем в первой редакции данного памятника эта преграда дублируется: Беловодье находится и за рекой Буран или Бурат (в двух списках — Губан, Губань и в двух других случаях — неизвестно как оказавшаяся здесь река Кубань), и за «окияном-морем»; во второй — лишь за «океяном-морем»; в третьей — просто за морем, но не забывается и река: правда, здесь она разделяет уже села, расположенные в самом Беловодье, которое простирается в пределах водного пространства или в его заливе. И даже в том единственном списке «Путешественника», который относится к третьей редакции, где Беловодье локализуется за некой высокой каменной горой, оно тем не менее отделено от внешнего мира морем. Ведь на пути к этим отрогам «двенадцать суток ходу морем». Водная преграда в качестве устойчивого локуса фигурирует и в устных легендах о Беловодье: «Но немного им (искателям Беловодья. — Н. К.) и осталось дойти-то. <…>. Дальше идет море глубокое, и на том его берегу <…> живут праведники <…>. Попасть к ним можно, перейдя это море (курсив мой. — Н. К.)»[3406]. И даже Аркадий, именовавший себя «беловодским архиепископом» (о нем пойдет речь дальше), утверждал, путая географические названия, что Беловодья он достиг морским путем. Кстати, где-то далеко за морем, как повествуется в преданиях казаков-некрасовцев, живших с 80-х гг. XVIII в. на озере Майнос (Турция) — в 30-ти км от Мраморного моря, сокрыта от посторонних глаз некая идеальная страна, именуемая рассказчиками городом Игната. Образ реки, озера, моря, океана, моря-океана как границы между мирами настолько устойчив в легендах о «далеких землях», что обнаруживается даже в тех нарративах, где Беловодье внезапно открывается прямо посреди тайги. В этом случае Беловодье все равно локализуется на другом берегу озера.
Рис. 37. К далеким берегам. Мотив миниатюры из рукописи XVI в. Лицевой летописный свод. Прорисовка
Идея водной преграды, отделяющей сокровенную страну от мира, формируется в «Путешественнике», как и в устных легендах, по той же модели, что и в «Хождении Зосимы к рахманам», в «Хождении Агапия в рай», отчасти в «Послании о рае» (1347 г.) новгородского архиепископа Василия Калики. Так, старец Зосима, преодолев многочисленные земные преграды, достигает непроходимой реки Евмааси, которую исследователи не без оснований сравнивают с мифической рекой Стикс. Ширина этой реки 30 верст, глубина — «до бездны». Из ее вод поднимается до самых небес облачная стена. Она окружает рай, ограждая его от внешнего мира: через нее не может проникнуть ни птица, ни дуновение ветра, ни луч солнца, ни человек, ни, тем более, дьявол. В «Послании о рае» новгородец Моислав и его сын Иаков достигли рая, локализованного на высокой горе, куда их принесло ветром после долгих скитаний по морю и куда далеко не всем удалось доплыть: одна из трех юм утонула. Аналогичная коллизия вырисовывается и в «Хождении Агапия в рай»: «И довел орел [Агапия] до морского залива и отлетел от него [орел]. Агапий же стоял около моря, [так] думая: „Как бы [мне] перейти через глубины морские? [Ибо] были звери лютые в морских тех заливах, способные поглощать людей, [если б те оказались в водах этих] (курсив мой. — Н. К.)“»[3407]. Морской залив символизирует здесь водную преграду, отделяющую рай от мира. В основе этого образа лежит мифологема пограничной реки (озера, моря, океана, моря-океана), разделяющей мироздание на две части: свой, познанный и освоенный мир (мир живых) и иной, чужой, незнаемый, отождествлявшийся с миром мертвых[3408]. Аналогичная дифференциация наблюдается и в сказке. Водная преграда встает на пути героя, отправившегося в тридесятое царство: «Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону; ехал, ехал и приехал к синю морю, остановился на бережку и думает: „Куда теперь путь держать?“»[3409]. Таким образом, в «Путешественнике», равно как и в фольклорных произведениях (легендах, сказках), с одной стороны, и в древнерусских «хождениях», с другой, иной мир располагается за горами либо водой или одновременно за горами и водой (вариант: за водой и горами). Обе эти преграды могут находиться на близком или значительном расстоянии друг от друга в соответствии с фольклорной формулой «близко ли, далеко, долго ли, коротко». Их назначение не только разделять миры, «тот» и «этот», потусторонний и посюсторонний, запредельный и земной. Одновременно водная и горная стихии служат путем проникновения в иной мир. Это и способ испытания искателей «далекой земли». Мифическая граница, разделяющая миры, в рассматриваемых списках «Путешественника» последовательно синтезируется с реальной границей, разделяющей страны. По мнению искателей Беловодья, эту сокровенную страну можно обнаружить за границей. В качестве такой «заграницы» в данном случае представлено главным образом Опоньское (Апонское, Японское, Анонийское либо Осеонское) государство (царство). Обусловленные определенным мифосознанием, за границей предпринимались и реальные поиски. Так, в 1898 г., с 22 мая по 24 сентября, уральские казаки О. В. Барышников, В. Д. Максимычев и Г. Т. Хохлов с целью найти Беловодье совершили длительное путешествие по маршруту: Одесса — Константинополь — Афон — о. Кипр — Бейрут — Иерусалим — Порт-Саид — Суэцкий канал — о. Цейлон — о. Суматра — Сингапур — Сайгон — Гонконг — Шанхай — Нагасаки. Из Японии через Владивосток — Читу — Иркутск — Красноярск они вернулись в Уральск[3410]. Такой маршрут был обусловлен знакомством с «Путешественником», о чем сообщает сам Г. Т. Хохлов: «Прежде чем приступить к описанию нашего путешествия, я поясню читателям, что именно побудило нас к этим трудам. В текущем столетии распространилось много письменных маршрутов, указывающих, что на Японских, Сандвичевых и Аланских островах народы цветут христианским благочестием от проповеди Фомы-апостола. В особенности маршрут под названием инока Марка (бывшей Белозерской (?) обители), который будто бы сам с двумя товарищами путешествовали через Китайское государство и достигли этих островов и Беловодии»[3411]. В данном случае казаки преодолели даже не одну-две, а множество государственных границ, подчас осмысляемых странниками как мифические. Искатели Беловодья посетили, в частности, константинопольского патриарха, о чем свидетельствует в своей книге Ф. А. Малиновцев, побывавший у патриарха уже после них, в 1900 г.: «Эти люди оказались теми уральскими казаками, которые уже несколько лет подряд ездят за границу и ищут неведомое и несуществующее Камбайское Беловодское царство, где будто бы процветает полное благочестие при патриархе и сонме митрополитов, епископов и священников… Найти же оное (как недающийся клад) не могут… Казаки эти представляются немалыми фантазерами, буквально помешанными на идее разыскивания фантастического Камбайского Беловодского царства. И яро отвергают уверения знающих географию людей, доказывающих им, что такого царства не существует. Они остаются при своем убеждении и продолжают мыкаться со всевозможными лишениями по свету»[3412]. Известны также попытки найти Беловодье в Афганистане, Индии. В последнее время обнаружен ряд материалов, свидетельствующих о поисках Беловодья уральцами в Африке[3413]. Эту обетованную землю пытались найти и в других странах. Анализируя два путеводителя, оказавшиеся в его распоряжении, А. И. Клибанов пишет: «„Объявление путешествию“ (в Беловодье) есть та же „Дарога заграницу“ (курсив мой. — Н. К.). Беловодье нашло место среди других стран, населенных такими же „беловодцами“, но в Турции, Молдавии, Австрии»[3414]. Таким образом, традиционные представления о границе, которая продолжает осмысляться на подсознательном архетипическом уровне, внесли свою лепту в определение маршрута, ведущего в Беловодье. Легендарное Беловодье следует искать вдали, мы бы сказали, в далекой дали. Имеется в виду, что прилагательное «далекий» отправляет нас к некоему умозрительному локусу — пространству мечты, что оно символизирует недоступность, недосягаемость, т. е. описывает нечто, принципиально отличное от простой «пространственности»[3415]. Вместе с тем путь в Беловодье так же далек, как и близок. С одной стороны, он простирается «от Москвы до самых до окраин», и не только через свои, российские, но и, что еще более важно, через чужие земли. Основные вехи маршрута, обозначенные в «Путешественнике» и спроецированные на позитивные географические знания людей той эпохи, дают представление о подобного рода дальности. С другой стороны, эта дальность может оказаться весьма близкой. Согласно алтайским легендам, Беловодье при достаточно сильном желании может открыться прямо здесь и сейчас. Мало того, случается, что оно обнаруживается где-то в недальней местности. Например, алтайские старообрядцы, покинувшие родные земли уже в 30-х гг. XX в., нашли Беловодье якобы на севере томской тайги[3416]. Как нам еще предстоит показать, близость и дальность Беловодья в конечном итоге определяется степенью духовной готовности воспринять связанное с ним откровение. Не удивительно, что пространственные понятия оказываются здесь неразрывно связанными с религиозно-моральными[3417].
Беловодский маршрут в свете типологии
Нельзя не заметить, что наряду с «Путешественником» в различных локальных и этнических традициях бытовали и соотнесенные с ним устные нарративы, указывающие иные маршруты в Беловодье или в типологически сходные с ним сокровенные страны. Вот что, к примеру, удалось узнать в 1926 г. на Алтае Н. К. Рериху относительно беловодского маршрута: «Седобородый строгий старовер скажет вам, если станет вам другом: „Отсюда пойдешь между Иртышом и Аргунью. Трудный путь, но коли не затеряешься, то придешь к соленым озерам. Самое опасное это место. Много людей уже погибло в них. Но коли выберешь правильное время, то удастся тебе пройти эти болота. И дойдешь ты до гор Богогорше, а от них пойдет еще труднее дорога. Коли осилишь ее, придешь в Кокуши. А затем возьми путь через самый Ергор, к самой снежной стране, а за самыми высокими горами будет священная долина. Там оно и есть, самое Беловодье“»[3418]. Именно в этом направлении, как выяснил художник, ходил искать Беловодье дед Атаманова (речь идет о семье алтайских староверов, у которых останавливались Рерихи): «Через Кокуши горы. Через Богогорше. Через Ергор по особому ходу. А кто пути не знает, тот пропадет в озерах или в голодной степи…»[3419]. Под впечатлением от услышанной здесь легенды о Беловодье Н. К. Рерих написал в 1927 г. картину «По Ергору едет всадник». Художник упоминает также о путях и потаенных, известных лишь избранным тропинках, которые ведут к священному Беловодью. Их показывали Н. К. Рериху местные жители, когда он проходил через алтайские высоты. Художник даже пытается идентифицировать услышанные в устном описании маршрута названия гор с реальными горными хребтами: Богогорше — это Бурхан-Будда, Кокуши — Кокушили, Ергор — Чантанг, что расположен у Трансгималаев, «уже в виду вечных снегов»[3420]. И тем не менее наименования гор, как и другие географические названия, связанные с маршрутом в Беловодье, носят неопределенный, а то и вымышленный характер. Это лишь символические обозначения пространства, которое предстоит преодолеть. Поскольку на Алтае легенда о Беловодье, по мнению Н. К. Рериха, приобрела некоторые черты легенды о Шамбале (Шамбхале), то и Беловодье стало локализоваться там же, где и Шамбала — в Гималайских горах. Именно в этом направлении был указан путь, ведущий в Беловодье, «седобородым строгим старовером». Однако, если верить ламе, повстречавшемуся Н. К. Рериху, там же, в Гималайских отрогах, где виднеются пять вершин Кинчинджунги, расположена и другая сокровенная страна — Шамбала, или Агартха, что значит «недоступная», «недосягаемая». В нее можно попасть, пройдя подземными ходами через ледяные пещеры. (Варианты: посвященные указывают сакральную гору Саур, с вершины которой в ясные дни будто бы видны горы Шамбалы, либо гору, за которой она расположена.) В формировании этих представлений также не последнюю роль сыграл культ гор и пещер. Если пещерный облик, как уже говорилось, имел раннехристианский храм, то ледяная пещера должна соответствовать ледяному святилищу. Возможность подобного соотнесения подтверждается «Житием Макария Римского», где огромной ледяной церковью представлен рай: его увидели трое странствующих иноков, вставших после сна (эквивалент: пребывание в состоянии сна, обеспечивающем лиминальность). А небольшая белая льдина, оказавшаяся на вкус слаще меда, питала этих иноков в пути, символизируя высшее приобщение к христианской вере. В легенде же о Шамбале образ ледяной пещеры поддерживается образом ледяного соленого источника, осмысляемого как знак третьей границы этой священной земли, что исключает случайный характер имеющейся здесь символики льда. По свидетельству Н. К. Рериха, и в устных сказаниях, и в книгах о Шамбале ее местонахождение описывается в высоко символических выражениях, почти недоступных для непосвященных[3421]. Добавим, что сказанное относится и к Беловодью, и к другим потаенным землям. Речь идет, например, о Белой, или Чистой, земле Сукхавати, о которой повествуют буддийские легенды. В иконографии Сукхавати изображается долиной, простирающейся в гористой местности. По представлениям последователей культа будды Амиды в Японии, лишь пройдя сто миллионов стран, можно упереться в Восточную дверь, или Восточный вход, через который попадают в Белую землю. К ней ведет белая дорога, пересеченная двумя реками — рекой Зла и рекой Зависти: их предстоит преодолеть. Однако и Белая Земля, и другие таинственные страны, сближаясь с Шамбалой, локализуются, в отличие от Беловодья, в основном на западе — там, где сходятся величайшие горные системы Центральной Азии: Тяньшань, Куньлунь, Гималаи и Гиндукуш. Впрочем, в буддийской монгольской легенде о Шамбале, имеющей общие признаки с Белой землей, эта сокровенная земля располагается «на Северном море». Возможно, что Беловодье в устных легендах, записанных на Алтае, а также в третьей, сибирской, редакции «Путешественника», переместилось с морского залива или с «окияна-моря» за высокие снежные горы под влиянием соседствующей буддийской традиции. Причем подобные горы фигурируют и в тех списках «Путешественника», где морской этап маршрута, ведущего в Беловодье, является конечным. Естественно, влияние буддийских легенд на русскую устную традицию сказалось в гораздо большей степени, чем на рукописную. Однако обнаруживаются и следы обратного влияния: локализация Шамбалы «на Северном море», уже упомянутая выше, более органична для Беловодья. Заметим попутно, что некоторое сходство с подобными сокровенными землями обнаруживает и Пайтити — город (страна) из чистого золота, представления о котором сложились в южноамериканской, перуанской, мифологии. В этом городе, затерявшемся в самой середине сельвы, якобы нашли спасение и, по некоторым мифам, обрели бессмертие инки, некогда бежавшие сюда от испанцев. В этом неопределенном и недоступном «далёко» есть еще два селения инков. Однако, чтобы добраться туда, надо пересечь море. Есть большой город и в море. Его сможет достигнуть лишь тот, кто переплывет море верхом на двух тиграх[3422]. Возможно, что в этом рассказе, по сути, совмещены различные версии локализации одного и того же сакрального и сокровенного «города», типологически сходного с селениями (странами) других «далеких земель». Таким образом, реальный поиск мифической земли одновременно не реален. Топографическая неопределенность, в различной степени присущая каждому из этапов пути в чудесную страну, будь то Беловодье, Белая земля или Шамбала, Пайтити, таит в себе предрасположенность к проявлениям мифологичности, что уже совсем недалеко до коллизии, когда земное странствие может привести в иной мир[3423].«Острова, называемые Беловодие…»
Согласно «Путешественнику», преодолев водную преграду, можно попасть в Опоньское (Апонское, Японское, Анонийское) либо Осеонское царство (государство), в пределах которого якобы и локализуется Беловодье. Следует ли соотносить эту легендарную землю с той или иной конкретной страной? Вряд ли, хотя бы потому, что реальное и идеальное неизбежно находятся в различных пространственно-временных континуумах: если идеального нет «здесь», то оно непременно есть «там»; если его нет сейчас, значит, оно уже было в «начале времен» либо неотвратимо наступит в будущем.Островная страна
Из совокупности списков «Путешественника» выясняется, что Беловодье — островная страна, расположенная в открытом морском пространстве или в его заливе: «… в пределах окияна-моря есть острова, называемые Беловодие» (ИРЛИ-1); «Живут в губе окияна-моря, место называемое Беловодие» (ГИМ). Обычно упоминается 70 островов (в одном списке, причем в несколько ином контексте — 100). Такое обозначение достаточно условно, поскольку всех либо одних только «малых» островов «исчислить невозможно». Некоторые из них весьма велики: простираются на 500, а в одном списке — на 600 верст. Вариант: общая протяженность всех островов — 500 верст. Эти острова локализуются где-то в районе «Опоньского» царства, а быть может, и в нем самом. В отношении своего местоположения Беловодье сходно с чудесной страной Фусан. О ней поведал в 499 г. буддийский монах Хуай Шень: раскинувшись на десяти морских островах, эта страна также находится в районе Японских островов, о которых, вероятно, в те далекие времена доносились лишь самые неопределенные слухи. Иначе говоря, островов может быть больше или меньше, они располагаются «там», но, как выясняется, и не совсем «там». Такая неопределенность служит знаком не изжившей себя в этом локусе мифологемы. Совокупность островов, крупных и мелких, — это рационализированная трансформация мифического «океанийского острова», отделенного от греховного и суетного либо неблагополучного и неустроенного мира. В русской фольклорной традиции нередко проявляется соответствующий подобной трансформации архетип. В качестве острова, представляющего собой отличный от земного локус, в преданиях казаков-некрасовцев фигурирует, к примеру, город Игната: «За Грецией, на острове, в горах, живут люди русские, на вас похожие, одежа у них такая же. <…> Живут они на большом острове» (курсив мой. — Н. К.)[3424].
Рис. 38. Встреча странствующего. По мотивам миниатюры из рукописи «Жизнеописание Антония Сийского». XVII в. Прорисовка
Архетипической моделью подобных удаленных локусов, расположенных в море, океане, океане-море, служит остров блаженных, райский остров, остров мертвых (в своих семантических проявлениях они достаточно взаимопроницаемы). Такие острова можно обнаружить в мифах различных народов мира, в устной и книжной традициях. Например, в «Слове о рахманах», памятнике утопической мысли Древней Руси конца XV в., в качестве острова блаженных представлен некий «рахманский остров» (прообразом рахманов послужили индийские брахманы, или брамины): «Когда царь Александр дошел до внутренней Индии и обошел землю, он достиг великой реки Океан и рахманского острова»[3425]. В индийской мифологической традиции обитель блаженных расположена не просто на острове, но на Белом острове (Шветардвипа). В греческой мифологии на Белом острове (Левка), отождествляемом с реальным Змеиным островом (в северной части Черного моря, в устье Дуная), находится мифическая страна, где по воле богов ведут блаженную жизнь герои. Здесь обитает после смерти в своей счастливой вечной жизни Ахилл. Согласно одной из версий, этот остров был поднят из морских пучин Посейдоном по просьбе матери Ахилла, Фетиды, чтобы ее сын мог поселиться на чистой, еще ничем не запятнанной земле. Это остров блаженных, своего рода Элизиум. Вместе с тем Белый остров — остров смерти или остров покойников, души которых воплотились в белых птицах. В течение долгих столетий Левка была в глазах верующих кусочком загробного мира здесь, на земле. Остров, населенный тенями усопших, не случайно называется Белым. В символике сакрально-мифологических образов, основанных на представлениях о смерти, белый цвет играет знаковую роль[3426]. Чудесный остров фигурирует и в ирландской саге «Плавание Брана, сына Фебала». Вобрав в себя древние языческие представления кельтов о «том свете» и в какой-то мере испытав влияние античных мифов, эта сага оказалась под флером христианских сказаний о земном рае:

Рис. 39. Горы и «провалище». Фрагмент миниатюры XV в. Новгород
Согласно большинству списков «Путешественника», между островами, лежащими в пределах «окияна-моря», возвышаются «великия горы». Остров-гора, или остров, на котором стоит гора, или гора в качестве границы между мирами, типичные для мифологической традиции, трансформируются в данном случае в горы «междутеми островами». Эти горы, помимо их высоты, обычно не наделяются никакими другими признаками, поскольку они, по сути, дублируют те, которые встают на одном из промежуточных этапов пути, предваряющем морской. Впрочем, в древнерусской традиции, как и в «Путешественнике», сакральные горы могут локализоваться и по преодолении водного пространства. Так, в «Послании о рае» юму, где находились Моислав-новгородец и сын его Иаков, принесло к высоким горам с нерукотворным изображением «Деисуса». («Деисус» — композиция, в центре которой изображен Христос, судящий людей после конца мира, по сторонам — Богоматерь и Иоанн Креститель, молящие Христа о милости.) Написанный «лазорем чудесным», этот деисус создан как будто не человеческой рукой, но «Божиею благодатью». В апокрифе «Хождение Агапия в рай» эквивалентны горам «стены высокие», поднимающиеся от земли до самого неба и ограждающие рай. В этом свете горы между островами, упоминаемые в «Путешественнике», можно, по-видимому, считать «обмирщенным» дубликатом ограды, отделяющей сакральное пространство. Мало того, в одном из списков го´ры локализуются на самих островах, населенных благочестивыми беловодцами: «<…> а на горах (курсив мой. — Н. К.) живут о Христе подражатели Христовой церкви, православные христиане» (Щ.) — Подобные топосы дублируются деревьями: «Тамо древа равны с высочайшими горами» (ИРЛИ-2). Вариант: «Тамо древа с высочайшими горами (курсив в цитатах мой. — Н. К.) равняются» (ИРЛИ-1). [Ср. с солнечным (восходным) деревом фусан (букв. «поддерживающее тутовое дерево»), локализованным на крайнем востоке в чудесной стране Фусан. В этом образе, сформировавшемся в китайской мифологии, воплощены представления о космической вертикали, связанные с идеей мирового древа[3430].] Если дерево, поднимающееся вровень с высочайшей горой, символизирует мировое древо, то сама такая гора осмысляется как его эквивалент. В свою очередь остров с подобными горой и деревом либо, что служит известного рода разветвлением единого локуса, многочисленные острова с горами и деревьями осмысляются как некий духовный центр, что, однако, должно подтвердиться и при дальнейшем рассмотрении сокровенной страны. В данном же контексте остров, помимо прочего, воплощает в себе идею стабильности: «он непоколебимо высится среди вечно бушующих волн, служащих изображением „внешнего мира“»[3431]. Из списков «Путешественника», относящихся ко второй редакции, выясняется, что Беловодье не просто острова в «окияне-море», но некое «место» в его губе, т. е. заливе (оно-то и носит это название), где локализуется озеро Лове либо множество безымянных озер. А уж на нем либо на них и располагается остров либо совокупность островов. Здесь наблюдается ступенчатое сужение водного пространства: «окиян-море» — губа — озеро (-а). В связи с этим уместно вспомнить о второй части наименования «Беловодье», которая, на наш взгляд, может быть соотнесена с диалектным водья, что означает окошко в болоте, озерко среди топи[3432]. В данном же случае это окошко-озерко расположено в морском заливе. А залив, согласно легендам, — тот локус, через который осуществляется коммуникация между мирами. (Ср. с заливом озера Светлояр, где, по представлениям рассказчиков, находятся «ворота», ведущие в Китеж). Такое окошко-озеро служит знаком сакрализации соотнесенной с ним таинственной страны. Здесь сосредоточен, если можно так в данном случае сказать, своего рода свет среди вечно бушующих волн «внешнего мира». Каноны жанра «хождений» в обетованную, святую или райскую землю нередко требовали локализации здесь некоего баснословного града, маркированного определенными знаками сакральности. Такой град, с одной стороны, как бы находится в пределах самой совершенной части «этого» мира, но, с другой стороны, будучи помещенным на острове, он отделен от людей. Эта традиция, хотя и в рационализированном виде, была неожиданно продолжена в «Путешественнике». В Беловодье есть чудесный город, равного которому нет во всей «поднебесной»: «В том месте град есть по имени Скитай, оудивлению достойный, яко подобна ему [н]есть по всей подсолнечней» (ИРЛИ-1). Однако причислением этого удивительного града к «друзим градам» несколько снимается его ирреальность: «Такожде и друзии грады обретаются тамо мнози, ко сожитию человеческому весьма способны» (ИРЛИ-1). Аналогичные города вырисовываются и в других, типологически сходных фольклорных произведениях. Как весьма подходящий для жизни определенного сообщества представлен в преданиях казаков-некрасовцев город Игната, осмысляемый в качестве «царства некрасовцех». Этот город построил для своих сподвижников «Некраса-сударь» (т. е. Игнат Некрасов), найдя для него землю за морем, которое иногда названо «Пещаным». Город стоит на большом острове или на берегу моря, в горах или среди мертвой пустыни. Со всех сторон обнесен высокой каменной стеной. В ней четверо ворот, соотнесенных с различными сторонами света: западом, востоком, севером, югом, что предполагает его локализацию в центре мира. Все ворота закрыты. Только восточные бывают открыты днем. Город охраняется «оружейными» казаками. У ворот стоят часовые. Ночью они ходят и по городским стенам. Здесь есть «церква» (вариант: «пять церквох»). Описание чудесного города в какой-то мере рационализировано: рядом со стеной — «кузня», столовая; каменные дома с садами; на улицах и в садах цветы цветут — «такая красота кругом!» За стенами — «земли хорошие, лесох много»[3433]; вокруг нет никого, кто так или иначе был для казаков-некрасовцев врагом, этническим или социальным, всех тех, в среде которых они могли бы раствориться как этническая группа, оказавшаяся на чужбине, в Турции. Сниженным эквивалентом чудесного города или городов в третьей редакции «Путешественника» являются «селения большие», разделенные рекой. Заметим, что источник — неотъемлемый атрибут райской земли, традиция изображения которого определилась уже в древнерусской литературе. В Беловодье, этой островной местности, лежащей в «пределах окияна-моря», «жители имеют пребывание», иными словами, «там есть люди». Появление народа в Беловодье связано с различными, но неизменно кризисными для всего мира ситуациями. Оно проецируется в очень давние и не столь давние времена. Согласно спискам «Путешественника», относящимся ко второй редакции, в Беловодье 500 лет тому назад появились «асирияне» (ассирийцы), «отлучившиеся» из своей земли, поскольку «от папы римского гонимы были» (ГИМ). Тогда-то для них и «приискивали» место два каких-то старца (ГИМ; Щ.), очевидно, соотнесенных с монастырем, от которого путь к раю наиболее близок. По первой редакции «Путешественника», народ («много народу»), проживающий на беловодских островах, в свое время «уклонился» «в те восточные места» («в те самыя восточныя страны») от «гонения римских еретиков» («от гонения римских западных папежских еретиков»). Причем, по словам одного из вариантов, «сие место», т. е. Беловодье, «наполняет» сам Бог. В «Путешественнике» обнаруживаются реминисценции определенных событий, связанных с историей христианства. Дело в том, что с разделением Римской империи на Западную и Восточную, имевшим место в 395 г., началось и постепенное разделение христианской церкви. Богословские основы православия определились уже в Византии в IX–XI вв. В качестве самостоятельной православная церковь сложилась в 1054 г., после чего и оказались возможными гонения со стороны римского папы и римских «еретиков», упоминаемые в «Путешественнике». С появлением же в Беловодье россиян, которыми также «наполнилися те места», связана очередная кризисная ситуация, нарушившая правильное течение бытия в мироздании и приведшая к хаосу. Россияне «отлучилися от своих мест», бежали и отправились в Беловодье «от лет Никона патриарха» (вариант: «от числения Никона патриарха»), т. е. во времена, когда патриархом в Московском царстве был Никон. Как известно, Никон фактически возглавлял русскую православную церковь с 1652 по 1658 г.; официально он был низложен лишь в 1667 г. Мотивировкой же бегства немалого числа россиян с насиженных мест служит, согласно «Путешественнику», «изменение благочестия» (вариант: «изменение церковного чина»), предпринятое Никоном — патриархом Московским (вариант: Никоном-еретиком). Но об этом следует сказать подробней. Дело в том, что «изменением благочестия» в «Путешественнике» названы церковные реформы, осуществленные Никоном как раз в тот самый период, когда именно русская церковь считала себя хранительницей истинного православия, когда сам Никон чувствовал себя вершителем судеб всего православного мира и готов был стать русско-греческим вселенским патриархом[3434]. Движимый этими замыслами, он задумал устранить расхождения между русской и константинопольской церквами — осуществить унификацию богословской системы и церковно-обрядовой практики на основе греческого образца[3435]. Причем перемены в обрядах были произведены в соответствии с греческими книгами венецианского издания конца XVI-начала XVII в. и с практикой константинопольской церкви. В числе нововведений оказалась замена византийского и старого русского двоеперстия на новогреческое троеперстие при совершении крестного знамения, а также «трисоставного» (восьмиконечного) креста на двоечастный (четырехконечный), хождение во время обряда крещения «посолонь» (по солнцу) — на хождение против солнца, двоение «аллилуйи» — троением, написание имени Христа «Исус» — на «Иисус» и др. Объем текста, подлежавшего чтению и пению, как и продолжительность службы, были сокращены. Одним словом, старинный русский церковный обряд и устав подверглись переделке не просто на греческий, но на новогреческий лад. Эти замены воспринимались противниками нововведений как искоренение чистого православия на Руси и как переход на латинский образец. И действительно, по словам авторитетного исследователя русского старообрядчества С. А. Зеньковского, в большинстве случаев эти исправления были не нужны и крайне спорны, так как основывались на более поздних греческих текстах, чем русские печатные издания[3436]. Как установлено в работах историков церкви второй половины XIX — начала XX в., чины и обряды русской церкви XVII в., до никоновской реформы, являлись чинами и обрядами, заимствованными у константинопольской церкви в IX–XI вв. Однако в XI–XV вв. в чинах и обрядах самой греческой церкви под влиянием различных причин произошли изменения, что и сделало их непохожими на русские[3437]. И потому всякие утверждения греков о русских искажениях, якобы допущенных при переписке книг, оказались совершенно беспочвенными[3438]. Введение новых обрядов и богослужения по исправленным книгам многими было воспринято как нарушение «лепоты» русского богослужения, как отход от заветов православия, как подмена древней истинно православной веры новой, незнакомой — наполовину греческой, наполовину латинской («еретической») римской. Возникло опасение, что теперь христианское чистое учение может пропасть и на Руси. В нововведениях усматривался отказ от издревле принятой церковной традиции, освященной авторитетом старины — предков, святых угодников и чудотворцев. И это в условиях, когда из всех качеств опыта предков важнейшим на Руси всегда считалось сохранение традиции. Как утверждает Б. Малиновский, «общество, которое провозглашает свои традиции священными, тем самым достигает стабильности и укрепляет свою власть. Следовательно, такие верования и практика, окружающие традицию ореолом святости и накладывающие на нее печать сверхъестественного, будут иметь „ценность, способствующую выживанию“ для того типа цивилизации, в котором они развились»[3439]. Церковная же реформа 1652 г. нарушила преемственность и цельность духовной жизни в России. Этот надрыв «дал взлет внимания к религиозной сфере, обострил вероисповедный момент, взрывоопасно проявил, усилил теологическое миросозерцание на грани секуляризованного Нового времени», что повлекло за собой небывалое развитие эсхатологических идей и мистико-богословской литературы[3440]. Реакция русского общества на нововведения была незамедлительной. Уже в 50–60-х гг. XVII в. возникло движение сторонников старой веры. Именно их последователям и приписывается «авторство» «Путешественника», в котором Никон назван «еретиком», а его деяния — «изменением церковного чина <…> и древняго благочестия». В своей оценке происходящего данный памятник соответствует фольклорной и книжно-рукописной традициям Древней Руси. Так, в «Житии Корнилия Выговского», в видении, ниспосланном старцу Чудова монастыря, Никон изображен в облике «змия великого пестрого и страшного зело», который, обогнув туловищем царские палаты, но «главу и хобот» простирая в палате, «шепчет во ухо цареви». Старцу якобы удалось узнать, что в ту ночь царь Алексей Михайлович беседовал с Никоном. Это видение истолковывается как предзнаменование: на Руси изменятся все церковные чины и уставы, будет новый Бог и начнется «гонение велие» на церковь Христову[3441]. Это страшное предзнаменование, по мнению старообрядцев, сбылось. Так, например, в «Ответе православных» дьякона Феодора, отца пустозерского, утверждается, что торжество православия на Руси, когда «церковь наша <…> светлее солнца показася», закончилось с «наскочением Никонова патриаршества» и с собором апокалиптического 1666 г. Тогда Сатане удалось совершить свое дело: «И великое российское наше царство — увы! — отторже Сатана хоботом своим Никоном»[3442]. «Дух самого Сатаны» усмотрел в «Никонияньском духе» и протопоп Аввакум[3443]. Соловецкий монастырь не признал никоновских нововведений, о чем живописно повествует инок Епифаний: «Тогда у нас в Соловецком монастыре святии отцы и братия начаша тужити и плакати горько и глаголати сице: „Братия, братия! Увы, увы! Горе, горе! Пала вера Христова, яко ж и в прочих землях, в земли Русской…“»[3444]. И даже новопечатные книги, присланные в монастырь и запертые в церкви, без всякого человеческого участия, но якобы исключительно по «чуду», явленному Зосимой и Савватием от 14 июня 1668 г., оказались за пределами обители, на берегу моря[3445]. Соловецкий монастырь становится духовным центром противостояния «новой вере», гибельной, по мнению старцев, не только для души, но и для земного существования (см. «Повесть о видении инока Ипатия»). Здесь формируется идеал добровольного безвинного страдания за истинную веру.

Рис. 40. Башня Соловецкого монастыря
Начавшееся с тех пор противоборство старой веры, маркированное в «Путешественнике» знаком Соловецкого монастыря, и новой, символом которой служит имя «еретика» Никона, соответствует дуальным моделям, или бинарным оппозициям: старое — новое, истинное — ложное, праведное — греховное, спасительное — пагубное. Усиление второй стороны в этом извечном противостоянии повлекло за собой нарушение устойчивого равновесия в мироздании и вторжение в него сил хаоса. Проявлением последнего служит, в частности, кровавая драма, разыгравшаяся в стенах Соловецкого монастыря и освещенная в фольклорной традиции. Отныне в земном бытии для соловецких праведников нет места — и ранее неведомая недосягаемая «далекая земля» принимает их. Тогда-то, согласно «Путешественнику», и произошло массовое переселение россиян в Беловодье: «<…> бежали из Соловецкой обители и прочих мест Российского государства немалое число» (ИРЛИ-1). Варианты: «<…> оуклонилось из Соловецкой обители и ис прочих мест много» (ИРЛИ-2); «<…> отлучились от своих мест <…>, а проход их был от Зосима и Саватия соловецких» (ГИМ). И именно отцы, посланные из монастыря Зосимы и Савватия — соловецких «чюдотворцов», теперь «приискивали» для тех, кому более не было места в земном бытии, новое пристанище.

Рис. 41. Зосима, Савватий и иноки Соловецкого монастыря. Деталь средника иконы. XVI в.
Поскольку в рассматриваемом памятнике в силу его специфики данный мотив лишь контурно обозначен, для рассмотрения этого эпизода есть смысл обратиться к такому фольклорному произведению, где эти же события получили достаточно полное освещение. Созвучной интересующему нас мотиву «Путешественника» в плане тематики, хронологии и интерпретации изображаемых событий является историческая песня о Соловецком восстании, в действительности имевшем место в 1667–1676 гг. и закончившемся штурмом монастыря 22 января 1676 г. Здесь как раз и содержится развернутое описание событий, исход которых и побудил соловецких старцев искать спасения в «далекой земле». Причем упоминанию об изменении церковного чина «еретиком» Никоном, содержащемуся в «Путешественнике», в исторической песне соответствует неслыханное распоряжение царя Алексея Михайловича искоренить в Соловецком монастыре старую веру, не останавливаясь ни перед уничтожением старых книг, ни перед разорением монастыря, ни перед истреблением всех старцев и казнью самого архимандрита. Даже избранному для этой роли «воеводе, большому царскому боярину» такое поручение представляется кощунственным — и он пытается возразить царю:

Рис. 42. Св. Зосима и Герман на пути к Соловкам. Фрагмент иконы. XVI в. Заонежье. Прорисовка
Если в «Путешественнике» отказ соловецкой братии и других сторонников старой веры принять никоновские нововведения выявляется лишь из скупых штрихов финального действия, заключающего данный эпизод, то в исторической песне о Соловецком восстании такой финал предваряется кульминацией, развернутой и экспрессивно окрашенной:

Рис. 43. На Соловках. Монастырь Св. Зосимы и Савватия
Аналогична трактовка последствий гибели («толикая горчайшая мучения», «<…> таковыя многоболезненныя смерти») соловецкой братии и в древнерусской литературе XVII в., и в частности в «Повести об осаде Соловецкого монастыря» («Историа о отцех и страдалцех соловецких, иже за благочестие и святыя церковныя законы и предания в настоящая времена великодушно пострадаша»). В этом памятнике судьба соловецких старцев, получивших как раз накануне штурма монастыря возможность предсмертного обращения к Богу с молитвой о спасении души («молебны с тепльшими слезами сотвориша») и явивших образец тихого и безвинного страдания за веру («мужественно смертную чашу за отеческия законы испиша»), выражена посредством мотива воздаяния и переселения их «на оное безмятежное и вечное житие». Это путь, преодоленный «чрез нужду страдания» «из тмы настоящаго живота» (вариант: «от странствия настоящаго жития») «к светлости будущаго царствия» (варианты: «к будущему, никогдаже ветшающему и преходящему дому», «к вечным селом»). Здесь соловецкие мученики обретают «вечьное упокоение» и «незаблудное спасение». В этом «немерцающем присносущем свете» страдалец за веру «честную душю свою в руце Богу предаде». Причем будущее царствие «неправоверным и грешным не дается»[3457], что имеет многочисленные параллели и реминисценции и в устной традиции. По легендам, при очередных кризисных ситуациях в сфере духовного и нравственного состояния общества, когда на Руси воцаряется неправда, Беловодье пополняется все новыми и новыми поселенцами: «множество народу умножилося». По рассказам крестьян, живущих в верховьях реки Бухтармы, в один из таких кризисных моментов, произошедших сравнительно недавно, великий князь Константин Николаевич «ушел на Беловодье, на острова, и увел туда сорок тысяч душ мужских и женских»[3458].

Рис. 44. Земля и море. Миниатюра (по Ф. И. Буслаеву). Прорисовка
В отличие от града Китежа, который и сам вместе с людьми перемещается из посюстороннего мира в потусторонний, Соловецкий монастырь (во всяком случае, визуально) остается «здесь», тогда как его обитатели и духовно родственные им люди отправляются в далекую сокровенную землю, где надлежит быть некоему надприродному пространству, в котором, однако, чудесным образом сосредоточились все идеальные стороны человеческого бытия. Наряду с этими сложились и другие представления: в Беловодье «ушли» и сами Соловки. Теперь, по легенде, это Новые Соловки. В одних списках «Путешественника» народ отправляется в Беловодье «от Зосимы и Савватия, св. соловецких чудотворцев», кораблями через Ледовитое (Леденое, Ледовое и даже в одном случае Литовское) «море»; в других — из Соловецкой обители и прочих мест Российского государства «Ледовитым морем и сухопутным путем». Совмещение путей, преодолеваемых по суше и по морю, типично для фольклорной прозы, поскольку это особый путь, не сводимый к обычному продвижению по воде или земле. Эта мысль подтверждается одним из преданий казаков-некрасовцев, где Игнат Некрасов уплывает со всеми своими сподвижниками и со всем «богатством большим» на волшебном корабле, который в равной мере может идти «хоть по морю, хоть по земле», оставаясь невидимым для стороннего глаза[3459] (в данном случае — для турок) и уподобляясь летучему кораблю волшебной сказки. Можно сказать, что в Беловодье ведет путь и тот и другой либо, наоборот, не ведет ни тот ни другой. Такая неопределенность — знак стершейся мифологемы ухода в иной мир посредством преодоления водного пространства или дальней дороги. Подобного рода уплывание, уход, странствие может рассматриваться «как своего рода символическая смерть, поскольку предполагает утрату изначального социального статуса, с одной стороны, и обретение нового места обитания, с другой»[3460]. Если уплывание символизировало смерть, то корабль — атрибут погребения. Не случайно обнаруженные в Центральной Европе изображения кораблей локализовались на могильных камнях или вблизи захоронений в эпоху бронзы. Этот символ несет на себе несомненный архаический оттенок в позднейшей традиции, каким бы трансформациям и рационализации ни подвергался он в дальнейшем. В ряду таких символов оказывается и путешествие на кораблях «чрез Леденое море», представленное в «Путешественнике». Если сказанное верно, то взыскуемая «далекая земля» должна иметь признаки острова мертвых. Во всяком случае, эта мифологема имеет типологическое сходство с соответствующим мотивом гомеровского эпоса, где, преодолев Океан, мореплаватель попадает в царство мертвых:
Гомер. Одиссея. X. 508–510

Рис. 45. Заонежская сойма. Реконструкция по рассказам старожилов
Из сказанного следует, что одно из основных значений полисемантического образа Беловодья определяется представлениями об островах умерших, об островах отошедших праведных душ. «Теория продолженного существования превращает смерть в простой переход в новую страну», — отмечает Э. Тэйлор[3464]. Причем локализация островного Беловодья соответствует древним пространственным представлениям: она соотносится не с вертикальным, а, безусловно, с горизонтальным, линейным строением мира. Подобное осмысление данного сакрального локуса заложено уже в первой части его наименования, связанного с лексемой «белый». Как следует из русского прозаического фольклора, ею в данном случае определяется цвет смерти и невидимости, цвет потусторонних существ, потерявших телесность[3465].
Страна спасения
Беловодье осмысляется в легендах как страна будущего, куда попадут лишь те, кого сам Бог удостоит пройти ведущий туда нелегкий и дальний путь, и где они обретут безмятежное житие. «Града настоящего не имамы, а грядущего взыскуем» — один из важнейших постулатов старообрядцев-«бегунов». Вместе с тем Беловодье предстает и как страна прошлого, наделенного признаками идеального, как некое «начало времен», куда избранные могут вернуться. Так или иначе это земля без греха, выключенная (и не только территориально) из суетного мира. Ее отдаленность во времени, прошлом или будущем, выражена в топографических категориях. Подобная страна обычно локализуется в труднодоступной потаенной части мироздания, в изображении которой проявляется архетипическая модель, связанная с потусторонним бытием, или инобытием. Однако в дошедшем до нас виде эта мифологема до некоторой степени рационализирована. И все же даже в этом обытовленном изображении легендарное Беловодье продолжает сохранять признаки своего типологического родства со сформировавшимся в западноевропейской средневековой традиции сакральным локусом, каким, например, является остров Монсальват. Кстати, его название в буквальном смысле означает «гора спасения». Этот остров также обозначен на дальних рубежах, к коим не приближался ни один смертный. Согласно первой редакции «Путешественника», Беловодье в качестве страны спасения локализуется на востоке: «в восточных странах», «в тех восточных странах». Такая локализация, маркированная знаком «Опоньского государства» как Страны Восходящего Солнца, подразумевается и в других вариантах. Связь с востоком обнаруживается во многих легендах, повествующих о «далеких землях». На лубочной карте, называемой «Книга глаголемая Козмография…», на восточной стороне всесветного океана обозначен «остров Макарийский, первый под самым востоком солнца (курсив мой. — Н. К.) близь блаженного рая»[3466]. В известной мере сходный с Беловодьем и Макарийским островом священный остров Монсальват также вздымается из моря в областях, за которыми поднимается солнце. С «восхода солнца стороной» у народов Сибири и Севера связано положительное начало всего существующего, причем не только в мифологии, но и в различных обрядах, запретах, предписаниях и приметах. С востоком связано все «чистое», живое, возрождающееся[3467]. В народно-христианской традиции восток вообще наделяется особого рода сакральностью. Не случайно, по библейским сказаниям, именно в этой стороне света располагается рай, насажденный во времена творения для Адама, первого человека: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке (курсив мой. — Н. К.); и поместил там человека, которого создал» (Быт. 2.8). Соответственно и старец Агапий, как следует из древнерусского апокрифа, направляется в поисках рая из монастыря именно на восток. Возможно, что эти собственно мифологические представления подпитывались преданиями о распространении христианства в Средней Азии, Индии, Китае, Монголии, на Цейлоне еще с III в. манихеями, а с V в. — несторианами. Рассматривая вопрос о локализации Беловодья в восточной части света, нельзя сбрасывать со счетов еще одно значение понятия «восточные страны». В представлениях носителей традиции, связанной с легендами о Беловодье, именно в тех восточных странах, которые издревле приняли христианское учение и которые давно оторвались от главной церкви, истерявшей свой авторитет, якобы и доныне сохранилась первозданная, ничем не замутненная чистота этой веры. На западе же, по их мнению, она была в свое время утрачена. И вот теперь истаивает на Руси. И все же справедливости ради надо сказать, что близкую семантику в мифологической традиции нередко имеет и запад как символ захода, заката, в конечном итоге — умирания. Там, где заходит солнце, лежит страна мертвых. Реминисценции представлений о локализации некой загадочной страны на крайнем западе обнаруживаются в греческих, а затем и римских мифах об Элизиуме (Елисейских полях), где обитают герои, праведники и благочестивые люди (позднейшая география локализовала их на островах Атлантики). В далеком западном океане помещает и Гесиод счастливые острова блаженных, отождествляемые с Елисейскими полями и предназначаемые для душ умерших («Дела и дни». 166–173). В той же стороне света, согласно бриттской легенде, расположен и Аваллон, где умирающий король Артур мог дождаться «Лучших дней». Далеко на западе находится и известная по буддийским легендам Сукхавати — Белая, или Чистая, земля. Подобная локализация соответствует мировосприятию, зафиксированному у так называемых первобытных народов. Например, у аборигенов Австралии (и не только у них) сохранились представления, что именно там, где садится солнце («куда солнце падает»), и расположены острова умерших, страна отошедших душ, жилище предков[3468]. Беловодье, отделенное от нашего мира Океаном, локализуется за пределами Земли, на окраине Вселенной. Характерно, что за этими дальними рубежами (правда, не в восточной, а в западной стороне света), согласно античной традиции, располагаются острова блаженных — Элизиум:Гомер. Одиссея. IV. 563–565

Рис. 46. Зосима Соловецкий. С иконы XVIII в. Прорисовка
В этом свете изображение Беловодья как некоего средоточия святости не выглядит неожиданным. Сокровенная «далекая земля» названа в «Путешественнике» «святыми местами», где незыблемо стоят «святые отеческие Монастыри». Пришельцы, все чаще появляющиеся в Сибири в поисках Беловодья, называют его «святой страной». Она находится под Божьим покровительством, суть которого выражена в Христовом «словеси»: «Се аз с вами есмь до скончания века неложно обещаюсь» (РГИА-1). По одному из списков «Путешественника», «бл[а]г[ода]ть наполняет сие место» (Пермь-1). В подобном осмыслении Беловодья проявилось неприятие существующей действительности в эпоху раскола русской православной церкви. «В народе проснулось подозрение, что православное царство, Третий Рим (согласно доктрине: „Москва — третий Рим“. — Н. К.), повредилось, произошла измена истинной веры. Государственной властью и высшей церковной иерархией овладел антихрист. Народное православие разрывает с церковной иерархией и с государственной властью», — утверждает Н. А. Бердяев[3475]. То, что, по мнению старообрядцев, не удалось сохранить в Московской Руси, соблюдается в чистоте в Беловодье. По словам некоего Аркадия, выдававшего себя за епископа «беловодского поставления», «ересей и расколов, как в России, там нет»[3476]. В то время как на Руси пропадает христианское чистое учение, а глава церкви, «Никон-еретик», отошел от заветов православия, в Беловодье, по свидетельству «Путешественника», «и доныне имеется благочестие». Мало того, здесь жива традиция «древляго благочестия православного священства». Именно она обеспечит спасение каждого и всех вместе — «своея души» и «душ наших», тех, кто уже здесь, и тех, кому еще предстоит преодолеть ведущий сюда путь, внимая призыву «Путешественника»: «И как возможно старайтесь до оного благочестия <…>. Споспешествуйте, на сие Бог вам в помощь» (Б.). Этому призыву как нельзя лучше соответствует дело неких крестьян Земировых из алтайской деревни Солнечной, намеревавшихся бежать «на Беловодье». В нем в очередной раз подтверждаются все те же слухи о данной обетованной земле: «Главное же, сберегается и процветает на Беловодье святая, ничем не омраченная вера со всеми благодатными средствами спасения»[3477]. В «святых местах», именуемых Беловодьем, по рассказам, можно, не подвергаясь никаким мирским соблазнам, молиться Богу и без всяких препятствий отправлять богослужение по старым обрядам[3478]. Это подтверждает и якобы побывавший там крестьянин Томской губернии. Дементий Матвеевич Бобылев: «Я находился на море Беловодье. Живут русские старообрядцы, имеют епископов и священников и церкви по старому закону»[3479]. Беловодцы, согласно «Путешественнику», отличаются от народа, живущего в никоновской «ереси»: «А народ от России особенный» (ГИМ) или: «Разница, и народ отменно от России» (Л.). В некоторых вариантах контурно обозначены их наиболее существенные признаки: это «христиане, бежавшие от Никона-еретика», православные — «подражатели Христовой церкви» («подражатели соборной апостольской церкви»), живущие «во Христе». Еще более определенна в своих характеристиках сокровенной земли устная легенда: «<…> на Беловодье, на море, на островах, живут святые люди; если попасть туда, то можно живьем сделаться святым (курсив мой. — Н. К.)»[3480]. Иначе говоря, в Беловодье, где хранится сокровище истинной веры, локализуется сообщество ревностных благочестивых христиан, святых, праведных людей. Заметим, что в других нарративах, типологически сходных с «беловодской» легендой, акцент может быть сделан на сохранении не столько старой веры, сколько этнической самоидентификации, принадлежащей носителям традиции. Так, например, для сравнительно небольшой группы казаков-некрасовцев, оторвавшихся от своей национальной метрополии и оказавшихся волею судеб в Турции, где возникла реальная опасность их ассимиляции, идеальной представляется та «далекая земля», где в чистоте блюдутся стародедовские традиции, и особенно те из них, в которых наиболее ярко и определенно проявляется этническая самобытность: «Женщины, девки того города (города Игната. — Н. К.) носят сарафаны, балахоны, кокошники. У девок золотые мохры заплетены в косах»[3481].

Рис. 47. Сотворение Адама. По миниатюре XIV в. Прорисовка
Если описание города Игната в качестве страны спасения выдержано исключительно в этнографическом, бытовом, плане, то изображение Беловодья — преимущественно в религиозном. В этом сакральном локусе, согласно «Путешественнику», «с помощью Божиею» сосредоточено множество христианских (православных) храмов и «святых отеческих монастырей». Причем монастырь уже сам по себе осмысляется в христианском сознании как земной рай. Но самое удивительное в Беловодье то, что здесь насчитывается 170 (вариант: 70) церквей «асирского языка» (вариант: «сирского языка»), т. е. ассирийского (новосирийского, айсорского) относящегося к семитской ветви семито-хамитской семьи языков. Обозначенное в «Путешественнике» соотнесение беловодских храмов, по сути, с сирийским языком отнюдь не случайно. Так, в некоторых памятниках отреченной русской литературы (в частности, в апокрифических «Вопросах от скольких частей создан был Адам»), равно как и в южнославянском сказании «О письменах» черноризца Храбра, утверждается, что Бог сотворил первоначально именно сирийский язык и что на нем говорил Адам, а затем и все люди вплоть до Вавилонского столпотворения. И посредством «сурьянского» языка Бог «хощет всему миру судити». Ассирия же — древнее государство, располагавшееся в Северном Двуречье, на территории современного Ирака. Подобного рода соотнесенность беловодских церквей служит знаком-символом определенного пространственно-временного континуума, связанного хронологически с древнейшей цивилизацией, в некотором смысле с «началом мира» и уж во всяком случае с периодом раннего христианства, а территориально — с Ближним Востоком, где зародилось христианское учение. Из сказанного следует, что давно минувшее здесь, в суетном мире, поныне живо там, в сокровенном Беловодье. Помимо «асирских», в этой удаленной от нас во времени и пространстве стране сконцентрировано «российских словенского (славянского — Н. К.) языка до 40 церквей» (вариант: «сущих христианских российских церквей 44»). Заметим, что в устных легендах о Беловодье неизменными знаками-символами сакральной земли служат православные церкви и доносящийся до пределов реального мира колокольный звон. В этой потаенной православной автокефальной церкви, сохранившей в первозданной чистоте древлеправославное благочестие, соблюдается практикуемое еще с IV в. иерархическое деление высших духовных лиц на патриарха, митрополитов и епископов. Поскольку нынешний глава русской православной церкви, Никон, впав в ересь, уже не имеет права претендовать на роль объединителя православных христиан всего мира, что еще недавно казалось столь возможным, эту функцию в условиях Беловодья взял на себя, как следует из «Путешественника», общий для церквей «асирского» и «словенского» языков святейший патриарх (вариант: «православный патриарх») «антиохийского поставления», или «Патриарх Антиохийский» (варианты: «Патриарх Ассирийский», «Патриарх Сирианский»). Антиохия расположена близ Средиземного моря. Это древняя столица Сирии, которая в известный период входила в состав Ассирии. Впоследствии эти земли стали частью Римской, позднее Византийской империи. В античные времена и в первые века христианства Антиохия — культурная столица эллинизма, важный экономический и административный центр. Здесь возникла первая община христиан. Этот город — место пребывания патриарха, проведения многочисленных церковных соборов. С Антиохии по-настоящему начинается миссионерский путь апостола Павла. Тем самым и беловодский патриарх, имея антиохийское поставление, восходит к первопрестольному апостолу. Соответственно, и беловодские митрополиты — главы крупных епархий, высшие православные священнослужители, а также беловодские епископы — главы определенных церковно-административных территориальных единиц, высшие духовные лица, по словам «Путешественника», «существуют от Апостолов», «занялись от патриарха Сирианского» (Л.). Причем независимо от того, имеют ли они попечительство над церквами «асирского» либо над церквами «словенского» языка, «все особы духовные» прошли через общее «асирское поставление». Напомним, что, по свидетельству данного памятника, «асирияне» поселились в Беловодье уже пятьсот лет тому назад, т. е. задолго до раскола в русской православной церкви. Находясь в самой совершенной и изолированной от суетного мира стране, беловодцы избежали грехопадения, не впали в ересь. Напротив, в этой «далекой земле» они сохранили первозданную чистоту христианского вероучения. Мало того, в Беловодье, согласно «Путешественнику», осуществилась многовековая мечта о единении русской православной церкви с древними восточными церквами на основе верности благочестию, восходящему к периоду раннего христианства, новозаветному «началу времен». То, что могло стать реальностью, но так и не сбылось в «этом» мире, совершилось в сокровенной «далекой земле», осмысляемой в христианских понятиях и категориях. Вполне вероятно, что моделью для изображения сонма благочестивого духовенства послужили в данном случае аналогичные описания, сформировавшиеся в древнерусской литературе. Так, в «Хождении» игумена Даниила его автор, живший в XII в., сообщает, что, «похотев» увидеть «святый град Иерусалим и землю обетованную», он посещает на своем пути в числе других островов Кипр, оставив в известной мере аналогичное «беловодскому» описание: «На нем двадцать четыре епископа, митрополия же одна. И святых на нем лежит без числа»[3482]. Впрочем, на формирование образа Беловодья, осмысляемого как средоточие духовных лиц, как благословенная земля, мог повлиять и иной памятник, имевший с XIII–XIV вв. широкое хождение на Руси, — «Сказание об Индийском царстве». В нем от лица некоего восточного христианского государя — священника Иоанна, который в действительности никогда не существовал, но был принят в Западной Европе за реальное лицо, сообщалось, что в его дворе «сто пятьдесят церквей; одни сотворены Богом, а другие — человеческими руками»[3483]. Число священнослужителей в этом Индийском царстве неслыханно велико. Так, в трапезе, совершаемой ежедневно в обеденное время за столом царя-попа Иоанна, принимают участие, помимо прочих, двенадцать патриархов, двенадцать митрополитов, сорок пять протопопов, триста попов, сто дьяконов, пятьдесят певцов, девятьсот клиросников, триста шестьдесят пять игуменов. А в его соборной церкви служат триста шестьдесят пять игуменов, пятьдесят попов и тридцать дьяконов. Мало того, по словам Иоанна, в его царстве лежат мощи апостола Фомы. Есть все основания полагать, что в этом аспекте «Индийское царство» — прообраз Беловодья. В Беловодье, согласно «Путешественнику», сложилась идеальная модель страны: здесь «народами» и «всеми людьми» управляют «духовные власти»: «И светского суда не емеют. Управляют духовным судом тамо» (ИРЛИ-4). (Опять-таки напрашивается сравнение с «Индийским царством», где государем является священник.) Причем епископы и священники, живущие в некоем беловодском селении за рекой, как следует из третьей редакции «Путешественника», отправляют службы босыми («все служат босы»). Аналогичны слухи, изложенные в деле крестьян Земировых из алтайской дер. Солнечной, в конце 30-х гг. XIX в. поступившем в архив Томского губернского правления. По этим слухам, епископы, которых в Беловодье множество, «по святости своей жизни и в морозы ходят босиком»[3484]. На эту деталь обратим внимание особо. Босота — это ослабленная форма ритуальной наготы, восходящей к первозданной чистоте, имеющей место в начале творения, в начале времен: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2. 25). Позднее нагота — признак неутраченной соотнесенности с первоначалом, наделенным чертами совершенства. В этой связи вспомним «Хождение Зосимы к рахманам» и «Слово о рахманах», где рахманы — народ благочестивый, совершенно лишенный стяжательства, покорный судьбе, посланной Богом, — живут нагие у реки, всегда восхваляя Господа. Это те самые брахманы, в стране которых, по словам Фирдоуси, побывал Искандер (Александр Македонский):

Рис. 48. Св. Василий Блаженный. Икона XVII в. Прорисовка
Представления о Беловодье как идеальной стране, где правят «духовные власти», основываются на устойчивой модели «там нет ни… ни…» Причем в формулах, соответствующих этой модели, заключены отрицательные понятия в нравственно-этической, моральной или социальной сферах[3486]. Правда, в «Путешественнике» эти формулы оказываются в большей или меньшей степени трансформированными: «В тамошних местах татьбы и воровства и прочих противных закону (пакостей. — Н. К.) не бывает» (МП-1); «В тамошних местах воровства, татьбы и протчих дел не обретается, противных закону не бывает» (ИРЛИ-4); «<…> а воровства никогда не бывает» (ГИМ); «<…> варваров никаких нет и не будет» (Щ.) В «ставленой» грамоте так называемого Аркадия Беловодского эта формула адаптирована соответственно христианским понятиям: «Воровства, обману и грабежу, убийства и лжи, и клеветы в христианах нет же, но во всех едино сердце и едина любовь»[3487]. В своей классической конструкции подобная формула представлена в преданиях казаков-некрасовцев, в которых рисуется город Игната, локализованный в «далекой земле»: «И нет у них ни бедных, ни сирот, ни хворых»[3488]. Аналогичная семантическая формула определилась уже в древнерусской литературной традиции, и в частности в «Хождении» игумена Даниила[3489], а также в «Сказании об Индийском царстве»: «<…> а нет в моей земли ни татя, ни разбойника, ни завидлива человека»[3490]. В «Слове о рахманах» данная семантическая формула приобретает дополнительную нравственно-этическую, моральную и социальную конкретизацию: «У них же (т. е. у рахман, живущих на рахманском острове, „близь рая“. — Н. К.) нет <…> ни царя, ни купли, ни продажи, ни распрей, ни драк, ни зависти, ни вельмож, ни воровства, ни разбоя…»[3491]. В Беловодье, осмысляемом как «земля без греха», «никогда не бывает», «нет и не будет» греховных дел и помыслов — и потому здесь «светского суда <…> несть» (ИРЛИ-1). Поскольку это земля праведников, «тамо Антихрист не может быть и не будет» (ГИМ). Одним из параметров Беловодья, как выявляется из «Путешественника», служит и благословенный мир. Формула «им вовсе не ведома война» используется в легендах, принадлежащих различным этнокультурным традициям и повествующих о счастливых странах. Так, например, она находит себе применение в восточноазиатском сказании о мифической стране Фусан, о которой поведал буддийский монах Хуай Шень. Влияние этой формулы ощутимо и в легенде о стране брахманов, где, по словам Фирдоуси, нет места войнам:
Страна обилия
Беловодью в «Путешественнике» приписывается необычайное обилие, и прежде всего в растительной сфере: «А земныя плоды всякия весьма изобильны бывают; родится виноград и сорочинское пшено (сарацинское — арабское — пшено, т. е. рис. — Н. К.) и другие сласти без числа (курсив мой. — Н. К.)» (ИРЛИ-1). Представая, по сути, как сад, полный плодов, Беловодье уподобляется райскому острову или острову блаженных. Помимо обильно плодоносящих деревьев, «тамо» растет трава «со стветами (цветами. — Н. К.) хорошыми». Подобное изображение типично и для других «далеких земель». Так, в нарративной традиции казаков-некрасовцев в виде сада с плодоносящими деревьями и распустившимися цветами представлен город Игната. Этот сад вырастает из «разносветных зернышек», в которые превратилась в момент своей гибели «серая змея — судьба некрасовцех». Из этих зернышек, символизирующих судьбу казаков, чудесным образом выросли здесь виноград, пальмы, инжир, персики, яблони, сливы, а также разные цветы. А вокруг города-сада поднялся лес, и в нем тоже распустились цветы[3497]. Аналогичный сад — «деревья многоплодные фруктовые» (их «много, без числа») и обширные виноградники, — согласно «Хождению» игумена Даниила (начало XII в.) локализуется в Святой земле, на пригорьях вокруг Вифлеема, где родился Спаситель. А в «Хождении Агапия в рай» подобный сад помещен в земном раю. Причем из числа различных неназванных плодов виноград выделен особо как неотъемлемый атрибут сакрального локуса. И потому в данном апокрифе ему посвящено специальное описание: «И виноград стоял с разными гроздьями: одни — багряные, другие — красные, третьи — белые, такие не видел никто»[3498].
Рис. 49. Лоно Авраамово. Фрагмент иконы XVIII в. Новгород. Прорисовка
Обилие плодов и, в частности, винограда в Беловодье — знак покровительства обетованной земле со стороны самого Господа. Не случайно игумен Даниил, заметив необычайное плодоношение садов в местности близ Иерусалима, не мог не воскликнуть: «Это ли не благословение Божие земле той святой!»[3499]. В осмыслении обилия в растительной сфере древнерусский автор следует Священному Писанию, где оно прорицается и ниспосылается свыше: «<…> виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои» (Зах. 8.12). Кстати, виноград как один из атрибутов сказочного обилия, адаптированный позднее христианством, фигурирует наряду со злаками и тучными стадами уже в гомеровском эпосе, где он опять-таки локализуется на мифическом острове:
Гомер. Одиссея. XV. 403–406

Рис. 50. Фрагмент резного декора крестьянской избы. XIX в. Нижегородская губерния
Однако указание «Путешественника» на произрастание южных культур, в том числе и винограда, в Беловодье, противоречит описанию необычайно суровых зим в этой «далекой земле»: «Во время зимы мразы бывают необычайны с разселинами земными, а в летное время громы бывают страшны, яко и земли колебатися и трястися» (ИРЛИ-1); «Во время свое бывают мразы необыкновенныя, с разселинами земными. Гром и молнием бывают с страшными ударами. И бывают землетрясении» (ИРЛИ-4). В «хождениях» этими деталями может определяться трудность пути, ведущего в обетованную землю. Включением подобных климатических реалий в «Путешественник» достигается двоякий эффект. С одной стороны, ими оправдывается постулат, что произрастание южных культур в Беловодье нельзя понимать буквально, поскольку оно имеет аллегорический символ. С другой стороны, указанием на суровые зимы преодолевается инерция описания сказочного изобилия, присущего, к примеру, островам блаженных либо райским островам, вследствие чего ирреальное изображение, отвечая изменившемуся мировосприятию, переводится в плоскость реального.

Рис. 51. Святой Лазарь Муромский. Икона XX в. Муромский монастырь
«Идея произрастания, процветания, плодоношения связана с идеей святости», — отмечает М. В. Рождественская, опираясь на разыскания В. Н. Топорова[3500]. Подобная мифологема, представленная в «Путешественнике» в свернутом и обытовленном виде, реконструируется при соотнесении с предшествующей, и прежде всего апокрифической, традицией. Так, Беловодью, где «древа с высочайшими горами равняются», где в изобилии вызревают «всякие земные плоды», в «Книге Еноха», повествующей о библейском патриархе Енохе, якобы живым взятом на небо, соответствует рай, также представленный в качестве страны изобилия. Здесь, посредине рая, локализуется древо жизни, заключающее в себе «все деревья растущие и все плоды» (ср. с «древом всех семян», упомянутым в иранской мифологии, в «Авесте»)[3501]. Аналогом плодоносящему Беловодью в апокрифе «Видение апостола Павла» служит «земля обетованная», куда идут души праведных, когда покидают тело: «И были на берегу реки той деревья насаждены, полные плодов. И каждое дерево приносило десять плодов, сладких и разнообразных, каждый час. И видел я финики высотой тридцать локтей, а другие — двадцать локтей»[3502]. Обилию «всяких земных плодов», отмеченному в Беловодье, соответствует и сказочное плодородие рахманского острова. Здесь, в отличие от «земли обетованной», где плоды созревают каждый час, собирают несколько урожаев в году: «И на том острове, по неизреченному Божьему промыслу, никакие плоды никогда не оскудевают во все времена года, ибо в одном месте цветет, в другом растет, а в третьем собирают урожай»[3503]. Античный аналог этому мотиву обнаруживается в произведении Гесиода «Дела и дни»: на острове блаженных, расположенном на краю земли и имеющем признаки золотого века, плодородная земля дает три урожая в год. Впрочем, как следует из буддийских легенд, обилие может достигаться и за счет необычайной величины созревших плодов (в данном случае — хлебных зерен). В этом отношении показательна легенда о счастливой земле Шамбалын, записанная, в частности, в Алашане от буддистов-монголов Н. М. Пржевальским[3504]. Земные плоды, на которых концентрируется внимание в различных по своей этнокультурной принадлежности легендах, осмысляются в качестве пищи праведников. Эта идея отчетливо выражена в «Хождении Агапия в рай»: «Агапий же пробудился от сна и <…> пришел в некоторые места, где цвели различные цветы, были различные плоды. <…>. И места же эти — райские, плоды же эти — апостольская пища и праведных душ (курсив мой. — Н. К.)»[3505]. Плоды земли являются также пищей и святых мудрецов-брахманов, как об этом афористично сказал в своей эпопее «Шах-наме» Фирдоуси:

Рис. 52. В чудесной стране. По мотивам древнерусских миниатюр
И, наконец, предметом рассмотрения станет очередной аспект обилия, которым отличается Беловодье. В этой «далекой земле», как сообщается в «Путешественнике», «злата и сребра несть числа» (МП-1, ИРЛИ-2, ИРЛИ-3). Здесь же «драгоценнаго бисера и камения драгаго» (ИРЛИ-2, ИРЛИ-3) или, наоборот, «драгоценнаго камения и бисера драгого» (МП-1) «весьма много» (вариант: «зело много»); «яко и оумом непостижимо» (ИРЛИ-1). Знаками благородных металлов, драгоценных камней и жемчуга маркирован и город Игната, вырисовывающийся в преданиях казаков-некрасовцев: «Золота, зеньчуга, рубенох у них много»[3521]. Характерно, что «злато, и сёребро, и каменья самоцветные» — неотъемлемая атрибутика иного царства, представленного в русской волшебной сказке. Причем само это царство может определяться как медное, серебряное, золотое и даже подчас жемчужное. Однако его материалом могут служить и драгоценные камни: «Иван-царевич <…> приходит к такому дворцу, что и господи боже мой! — так и горит в бриллиантах и самоцветных каменьях»[3522]. Помимо фольклорной, на формирование образа изобилующего сокровищами Беловодья могла повлиять и литературная традиция — в частности, «Сказание об Индийском царстве», которое ведется от лица Иоанна, царя и попа: «Двор у меня вот каков: пять дней надо идти вокруг двора моего; в нем много палат золотых, серебряных и деревянных, изнутри украшенных, как небо звездами, и покрытых золотом <…>. Есть у меня другая палата золотая на восьмидесяти столбах из чистого золота; а каждый столб по три сажени в ширину и восемьдесят саженей в высоту. В этой палате пятьдесят столбов чистого золота, и на всех столбах по драгоценному камню. Камень сапфир цвета белого и камень топаз как огонь горит. В той же палате есть два столба, на одном из которых камень, называемый троп, а на другом столбе камень, называемый кармакаул, ночью же светит тот драгоценный камень, как день, а днем — как золото, а оба велики, как корчаги»[3523]. Об обилии драгоценных камней (алмазов, яхонтов, изумрудов, акинфов), вместе с бисером и жемчугом лежащих «по краям и берегам морским», а также об обилии «по дну морскому» руд (золотых, серебряных, медных, оловянных, железных) повествуется и в «Сказании о роскошном житии и веселии». Аналогичное описание некой загадочной страны, составленное по слухам и ассоциируемое с Японией, оставил Марко Поло (около 1254–1324 гг.) в своей книге, которая считается шедевромхристианской средневековой географии. По его словам, в этой таинственной земле большой царский дворец крыт чистым золотом, полы в покоях, коих здесь множество, также покрыты чистым золотом пальца два в толщину, и все во дворце, и залы, и окна сияют золотыми украшениями. Здесь обилие жемчуга, розового, крупного, круглого. В этом дворце есть и драгоценные камни. В таких же параметрах Марко Поло характеризует и 7448 островов, якобы расположенных далеко в Южном море: «А сколько тут золота и других драгоценностей, так это просто диво!»[3524]. Не удивительно, что и упоминаемый ранее Пайтити, представленный в южноамериканской мифологии, — это город из чистого золота (варианты: где добывается золото; где скрыты сокровища инков). Благородные металлы и драгоценные камни — неотъемлемый признак сакральных городов и стран, принадлежащих к сфере некой высшей реальности, — таких, скажем, как затонувшие Атлантида, Винета, Китеж, либо находящаяся в горах или под землей Шамбала, либо «далекая земля», локализованная в ином времени и пространстве. Не исключено, что прообразом легендарного Беловодья в известном смысле служит и Великий город, который снизойдет с неба после Второго пришествия Христа и Страшного Суда: его знаками-символами также являются золото и драгоценные камни. К этому же типологическому ряду относится и Беловодье, хотя в отличие от большинства названных локусов оно соответствует не вертикальному, а горизонтальному строению мира. В легендах о Беловодье, изобилующем сокровищами (впрочем, как и в легендах об аналогичных странах), речь идет не столько о материальных ценностях, хотя данное обстоятельство, и особенно в самом позднем слое фольклорного произведения, полностью не исключается, сколько о той или иной магической силе, в них заключенной. В этом плане прямым аналогом Беловодью является мифическая островная страна Фусан, где ни золото, ни серебро не осмысляется как богатство. Как справедливо отмечает Т. А. Новичкова, в русской традиции золото воспринималось в качестве символа избранничества, счастья и высшего суда. Золотая символика, уходящая своими корнями в дохристианские верования, функционируя в условиях постепенной христианизации культуры, сливалась с религиозными понятиями[3525], и, в частности, с идеей воздаяния. Не случайно в «Видении апостола Павла» град Христов, населенный праведниками, «был весь из золота». Аналогичным образом сформировался и весь спектр символов, связанных с каждым из благородных металлов и драгоценных камней. Что касается жемчуга, то он в данной традиции символизировал духовный свет. К сожалению, в силу определенной схематичности, присущей данному жанру, эти сведения в «Путешественнике» не конкретизированы. Но то, что каждый конкретный металл и камень, будучи атрибутом сакрального локуса, таил в себе обусловленный традицией смысл, выявляется из символики атрибутов, характеризующих иные «далекие земли». В этом отношении опять-таки показательно «Индийское царство», где, по словам его царя-попа, по большому камню-сапфиру вковано в два золотых яблока — «для того, чтобы не оскудела наша храбрость», а четыре камня помещены на столбах «для того, чтобы чародейки не могли чар творить над нами»[3526], и пр. Таким образом, обильное плодоношение и сокровища Беловодья переводятся в рассматриваемой легенде из сферы материального в сферу духовного первоначала, что опять-таки характерно для рая. Впрочем, это отнюдь не противоречит распространенным в Центральной Азии представлениям, в соответствии с которыми страна счастья, богатства и полного покоя называется Белой землей.
Посещение сокровенной страны
Мотив поисков сокровенной земли сформировался, несомненно, в устных легендах, слухах, молве. Он контурно очерчен в многостраничных следственных делах о намерениях крестьян той или иной губернии, волости уйти в Беловодье. В «Путешественнике» этому мотиву соответствует содержащийся в нем призыв бежать «прелести антихристовой», покинуть грешный мир, искать и обрести обетованную «далекую землю»: «И глаголют они (т. е. беловодцы — „тамошние жители и все духовенство“. — Н. К.): „Вы все осквернились в великих и разных ересях антихристовых, писано бо есть: изыдите из среды сих нечестивых человеки и не прикасайтеся им“» (МП-1). В качестве руководства к действию взыскующим Беловодья служит очередной список «Путешественника», в котором описывается маршрут в страну спасения: «Любители Христовы, грядите вышеозначенною стезею» (Щ.) «Пришедшие сюда будут спасены, подобно той „жене“, которая скрылась в расселинах земных, убегая от „змия, гонящагося“ за нею». Здесь имеет место реминисценция соответствующего эпизода из «Откровения святого Иоанна Богослова»: «Горе живущих на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей в след жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей» (Апок. 12. 12–16). Заключенная в «Путешественнике» мифологема, которая пульсировала и в устной традиции, на этот раз оказалась реализованной в тайных листках, писанных крестьянской рукой. Например, в одном из списков «Путешественника» значится: «Писал христьянин Бирючевской волости селения Пачоскогородского Ефрем Леонтиев Булыгин 1882 года июля 7 дня. Булыгин» (Тих.-1). Мифологема поисков сокровенной земли, как это ни удивительно, на долгие годы определила реальные поступки людей, отправлявшихся на поиски страны спасения, благословенной Богом земли, некоего преддверия рая.
Рис. 53. Часовня св. Николая Мирликийского в деревне Летняя Река. Карельский берег Белого моря
Поиски Беловодья не были простым следованием колонизационной традиции, сложившейся в ходе освоения Сибири. В многочисленных документах, представляющих собой дела «о бывших в побеге за границей» крестьянах, обнаруживается единая в своей основе религиозная идеология. Она сводится к эсхатологическим постулатам, к осознанию необходимости душеспасения путем удаления от мира и поисков места, где такое спасение наиболее осуществимо. Немалую роль в формировании данных религиозных воззрений играет вера, что будущее человечества зависит от Второго пришествия Христа. С ним связывают окончательное решение своей дальнейшей участи и те, кто уже находится в Беловодье: «Имать приноситися до втораго пришествия Христова» (Пермь-1). В этом свете сводить поиски Беловодья лишь к надежде на решение социальных проблем было бы неправомерным. Ведь в числе взыскующих Беловодья, и особенно их «путеводителей», обнаруживаются и представители обеспеченных слоев крестьянства. Анализируя конкретные факты, исследователи уже заметили, что «избыток в домообзаводстве», достаточная экономическая дееспособность отнюдь не препятствовали стремлению крестьян отправиться в иные земли[3527]. Не случайно один из соседей ушедшего на поиски Беловодья заявлял, что «истинной причины побега постигнуть не может, ибо при деревне их состоит изобилие в земле, лесах и прочих угодьях»[3528]. Разлагающиеся феодальные отношения, распад патриархального социума, раскол русской православной церкви обусловили особенности самосознания человека, живущего в переходный период между «концом» Московского царства и «началом» Российской империи.
Взыскующие Беловодья
Для попадания в далекую страну существуют различные предпосылки: «В землю эту Беловодие только те могут по рассказам этого путешественника достигнуть, которые всеревностное и огнепальное желание (курсив мой. — Н. К.) положат вспять не возвратитеся» (ИРЛИ-1). Из приведенной формулировки следует, что только тот, кто подвергнет себя самосожжению, приняв «мученический венец», достигнет обетованной земли. Не случайно в «Повести об осаде Соловецкого монастыря» утверждается, что «огнепалением от здешных в будущая преселивыйся добре»[3529]. Поскольку огонь, обладающий особой очистительной силой, согласно представлениям самосожженцев, способен переносить души умерших в загробный мир, то прошедшие через акт самосожжения получали мистическую возможность преодолеть огненную реку, осмысляемую как граница между реальным и потусторонним миром. Иными словами, участник самосожжения, побеждая огнем огонь, попирал, подобно Христу, смертью смерть[3530]. Подобные представления, на мой взгляд, генетически восходят к обряду кремации.
Рис. 54. Часовня св. Варвары. Дер. Крохино. Заонежье
Вместе с тем, по свидетельству устных легенд, «Путешественника» и древнерусских «хождений», найдет эту сокровенную страну, осмысляемую как континуум спасения, как место, где локализуется будущее, тот, кому откроется ведущий туда путь. Для его преодоления нужен некий духовный, а не просто житейский опыт. Не случайно на поиски Беловодья нередко отправляются и даже достигают его именно иноки (в «Путешественнике» это Марк, иногда Михаил), уже выдержавшие испытание монастырской аскезой. Иная версия подготовки к паломничеству содержится в легендах, повествующих о том, что прежде чем отправиться на поиски Беловодья, путники живут в обители шесть недель (эквивалент: сорок дней). В стенах монастыря они приобретают некоторый духовный опыт. Обычно этот опыт приумножается по мере преодоления многотрудного пути, возможность пройти который дается самим Богом. Подобный путь бывает долгим и не столь долгим. Так, например, попасть в Беловодье можно, перейдя «море глубокое», по которому обозначена вехами дорога, где лошади лишь по брюхо[3531]. И этот путь преодолим в течение одних (по иным версиям: трех, двенадцати) суток. С другой стороны, его прохождение может быть и результатом мгновенного озарения, осенившего странников также не без Божьего промысла. Оно обусловлено достаточно сильным желанием найти эту сокровенную страну, равно как и безоглядной верой в ее существование. В данном случае эта «далекая земля» открывается человеческому глазу здесь («в любом месте») и сейчас («внезапно»). Иначе говоря, удаленность Беловодья отнюдь не исключает его непосредственной близости. В свете подобного мировосприятия не удивительно, что, по легендам, бытующим на Алтае, с этого берега моря слышно, как на той стороне, где лежит Беловодье, звонят колокола. Локализация сокровенной страны не подлежит определению в реальных категориях. Дж. Кэри, основываясь на анализе типологически сходных ирландских легенд, приходит к выводу, что иной мир, хотя и присутствует везде, несоизмерим с нашим и существует вне определимых пространственных отношений с миром смертных. И потусторонняя география не соотносится с нашей[3532]. (Как попытку обнаружить среди реальных топосов потаенные признаки некоего идеального мира, совершенно отличного от нашего, интерпретируется фольклорный мотив поисков русским человеком легендарного Беловодья в картине Н. К. Рериха «Танг-Ла».) Характерно, что данной мифологемой стимулировались реальные действия людей, решившихся отправиться в Беловодье. Задумавший такое предприятие сводил под корень свое хозяйство, несмотря на то, что ранее слыл исправным крестьянином. Как показывают источники, даже Дементий Бобылев, от которого в МВД впервые услышали о Беловодье и который упорно добивался позволения у местных и столичных властей отправиться в эту благословенную землю, в итоге забросил свое хозяйство[3533]. В подобных случаях у соседей нередко возникало подозрение: не собирается ли этот крестьянин в Беловодье? Дальнейшее развитие событий нередко исчерпывается формулой: «и с тех пор его больше никто не видел»; «и с того времени люди не слышали о нем» и т. п. Причем эта формула заключала в себе не реальный, а мифологический смысл. Имеются некоторые сведения, что уход на поиски сокровенной страны регламентировался определенными календарными сроками. Он мог быть приуроченным к Петрову посту, осмысляемому как переходный период, когда миры, «этот», здешний, обыденный, и «тот», находящийся за некой границей (в народном восприятии она не представлялась без мифологического флера), оказываются взаимопроницаемыми. Формула «коли выберешь правильное время (курсив мой. — Н. К.), то удастся тебе пройти…», произнесенная «седобородым строгим старовером» в разговоре с Н. К. Рерихом[3534] по поводу «трудного пути» в Беловодье, таила в себе, надо полагать, именно такой смысл. Взыскующий Беловодья, судя по рассказам, обычно не оставлял себе возможности для возвращения. Переправившись через реку, символизирующую границу между мирами (хотя бы это была и реальная река: в данном случае это Чуя — приток Катуни), он решительно уничтожал лодку, а проходя по горам, ломал мостки через провалы (напомним, что мостки, или мосты, осмысляются в народных верованиях как путь в иной мир). Согласно этой фольклорно-мифологической логике, ушедший и не вернувшийся обратно, пропавший без вести, а то и просто погибший, считался в среде односельчан достигшим взыскуемого Беловодья. В. Г. Короленко, прекрасно знающий психологию искателей Беловодья, пишет по этому поводу: «Нет сомнения, что эти „другие“ (т. е. те, кто не вернулся) погибают где-нибудь в Китае или в суровом, негостеприимном и недоступном для европейца Тибете. Но наивная молва объясняет это исчезновение иначе… По ее мнению, эти пропавшие без вести остаются в счастливом Беловодском царстве»[3535]. Однако даже в том случае, когда к этой «далекой земле» удается приблизиться, попасть в нее не просто: «неправедный не попадет туда». Беловодье не доступно и для людей «маловерных», сомневающихся в реальности этой сакральной страны. Подобный мотив типичен едва ли не для всех нарративов, повествующих об обетованной земле. Так, например, не открывается взыскующим и город Игната: «Прошло время, казаки с Мады пошли искать город. <…> казаки доходили до одного озера, слыхали, как кочеты кричали, звоны звонили, собаки лаяли, люди говорили. Слыхали, как песни играли, а найти — не нашли города. Туманом закрыт он. С какой стороны ни подходили, а увидать так и не увидали. Походили вокруг озера казаки да ушли»[3536]. Туман, в котором размываются привычные ориентиры, оказывается своеобразной завесой, отделяющей наш мир от иного (ср. с бриттскими легендами об острове Аваллон). Водная преграда, отделяющая сокровенную землю от суетного мира, не всегда преодолима. По одной из устных легенд, озеро, через которое должен пройти рассказчик, чтобы попасть в Беловодье, оказывается для него чересчур глубоким, тогда как его более ревностному спутнику оно было едва ли по колено — и тот благополучно достиг Беловодья[3537]. Ср. со сказкой: «Шел-шел и очутился возле большого озера. Вдруг озеро разделилось на две стороны — промеж вод открылась сухая дорога»[3538]. Подобный эпизод напоминает библейскую коллизию: «И сказал Господь Моисею: „…A ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше“ <…>. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею; и разступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону» (Исх. 14. 15–16, 21–22). Согласно иной версии, сами беловодцы, святые люди, по водам выезжали верхом на конях навстречу путникам, приблизившимся к обетованной земле, и звали их к себе. Однако кони, на которых взыскующие пытались добраться до Беловодья, тонули — и святые люди возвращались обратно[3539]. Коллизия под стать евангельской: Иисус идет по бурному морю, как по суше; один из учеников, Петр, по приглашению Иисуса, пошел по воде ему навстречу; как только Петр перестал верить в возможность чуда, он испугался и начал тонуть; Иисус поддержал Петра, сказав: «<…> маловерный! зачем ты усумнился?» (Матф. 14.31). Та же мотивировка неудачи имеет место и в анализируемой легенде: у взыскующих Беловодья, как выяснилось, оказалось слишком мало веры, но много сомнений — и сокровенная земля осталась для них недоступной. Аналог рассматриваемому мотиву обнаруживается в фольклоре казаков-некрасовцев. Так, в предании о городе Игната к казакам, безуспешно пытающимся найти эту счастливую землю, «прибегает» оттуда по морю таинственный корабль. Однако и в данном случае взыскующие града не выдержали испытания. Объяснения неудачи могут быть разными: один из казаков, уже находясь на загадочном корабле, матерно выругался и все дело испортил; преждебывшие старики нарушили «заветы Игната» (законы, которыми регламентировались разные стороны жизни некрасовцев) и не пошли в свое время «за Некрасой», выпав из определяемого им сообщества: «Кто пошел со мной, тот мой»[3540]. Так или иначе взыскующим града не хватило веры ни в дело Игната Некрасова, ни в его заповеди, воплотившие в себе опыт предков. Не проявили они и благочестия, выраженного на этот раз не столько в религиозных, сколько в мирских, нравственно-этических категориях. Поиски Беловодья, города Игната либо некой иной сокровенной «далекой земли» оказываются чаще всего тщетными. Но неизбывной остается мечта найти и обрести эту счастливую страну: «Искали, да не нашли! Где только казаки ни бывали!.. От разных людей слух до нас шел, что есть такая земля и люди в ней живут на нас похожие, а найти их майнозским (живущим на озере Майнос, в Турции. — Н. К.) не довелось»[3541]. И если все же искателям удается взять верное направление, то итог прохождения по этому пути для каждого оказывается разным. Тем же, кто не ищет священной страны, она вообще никогда не откроется. По словам одного из монгольских вождей, некий бурятский лама с проводником достигли заповедной границы Шамбалы. На их глазах совсем близко от «этого замечательного места» в полном незнании прошли тибетские купцы с караваном яков, груженных солью. Но они не заметили рядом ничего необычного. Простым смертным никогда не откроется то, чего они не должны видеть. (В этом свете особенно курьезной выглядит просьба неких китайцев, с которой они в начале XX в. обратились к таши-ламе, выдать им паспорта в Шамбалу, о чем сообщает Н. К. Рерих.)

Рис. 55. Федор Стратилат. Миниатюра XIV в. Москва. Прорисовка
Однако и нашедшим Беловодье либо город Игната попасть в эти обетованные земли не просто. По свидетельству В. Ф. Долгих, который в 1967 г. рассказал легенду о поисках Беловодья от первого лица, «опоньские» власти пропускали желающих попасть в их страну лишь после трехлетнего испытательного срока. Характерно, что в данном случае это обстоятельство побудило рассказчика вернуться. Иная версия рассматриваемой легенды обнаруживается в записи, сделанной Н. К. Рерихом на Алтае. Уймонцы поведали художнику, что их «деды Атаманов и Артамонов тоже ходили в Беловодье. Пропадали три года и дошли до святого места. Только не было им позволено там остаться и пришлось вернуться»[3542]. Аналог выявляется в преданиях казаков-некрасовцев, где раскрывается весь драматизм коллизии: взыскуемый град найден, но не обретен. Согласно этому преданию, разыскать город Игната удалось дедушке Егору Ивановичу Семутину. Прототипом этого персонажа послужило реальное лицо. Е. И. Семутин (1825–1923), родившись на озере Майнос (Турция), сорок лет своей жизни посвятил поискам чудесного города: побывал в Африке (Египте, Эфиопии), в странах Ближнего и Среднего Востока, вплоть до Индии и Китая, во многих европейских государствах, дважды приезжал в Россию. Ему-то, по преданию, не только удалось разыскать город Игната, но и приблизиться к самым его воротам. Эти ворота, как и вход в иной мир, охраняются стражами — только в данном случае не мифическими существами, а «часовыми оружейными». Часовой, доложивший в городе Игната о дедушке Семутине и его спутниках, вернулся со словами: «Атаман не признал вас за некрасовцех. Пускать в город не приказал». Четыре дня просидели здесь пришедшие издалека казаки, все еще надеясь на изменение решения, пока вышедший из города некрасовец не повторил отказ: «Уходите и не приходите больше до нас, раз вы отстали от Игната. Мы не желаем вас признавать»[3543]. И вернулись казаки с вестью: город, построенный «Некрасой» и осмысляемый как земной рай, есть; в нем живут те казаки, которые «с Игнатом ушли»; людей же с Майноса и Мады их атаман не признал за «некрасовскую кость», поскольку они нарушили «заветы Игната», а значит, и традиции предков.

Рис. 56. Заонежанин
Для чего же устремляются в сокровенное Беловодье свято верящие в его существование? С одной стороны, чтобы остаться там навсегда: это страна спасения, земля изобилия. С другой стороны, чтобы вернуться, обретя от неких восточных ветвей христианства «древлее благочестие православного священства, которое весьма нужно ко спасению» (МП-1). Суть этих намерений более развернуто определена П. И. Мельниковым-Печерским, опирающимся на знание «Путешественника», легенд, слухов и толков. Выясняется, что конечная цель поисков Беловодья в соответствии с доктриной старообрядцев — спасение всего христианства. Для этого из множества древлеблагодатных епископов и митрополитов, сосредоточенных в сокровенном Беловодье, нужно вывезти в наши российские пределы хотя бы одного из них и тем самым утвердить в России «корень священства». Тогда бы у нас были свои попы, а не «беглецы никонианские». И люди, живущие по древлеблагочестивой вере, смогли бы обрести благодать спасительную, а в «будущем веце» — ниспосланное от Господа «неизглаголанное блаженство»[3544]. Смысл сказанного проясняется, если учитывать некоторые реалии, связанные с расколом русской православной церкви. Дело в том, что выделившаяся из нее «древлеправославная церковь», которая состояла из сторонников старой веры, оказалась лишенной епископства. А между тем из Священного Писания, из святоотеческих сочинений старообрядцы знали, что церковь без епископа существовать не может. Этому противоречию они нашли свое толкование: поскольку их «древлеправославная церковь» истинная, то она непременно должна иметь и своих епископов. А если их нет, то только потому, что о местонахождении таковых владык пока ничего не известно. С тех пор в народе пошли слухи и толки о «древлеправославных владыках», якобы пребывающих в неких Богом спасаемых градах и обителях, расположенных «далеко-далеко, там, на востоке», где твердо и нерушимо блюдется «древлее благочестие» и где многочисленные епископы, верные святители, сияют, аки солнце. Подобные слухи нередко связывались с Антиохией, хранящей святоотеческие предания и обычаи. Позднее они стали приурочиваться к Беловодью. Так, согласно «Путешественнику», инок Марк Топозерский, отыскивая «с великим любопытством и старанием древляго благочестия православного священства» (МП-1), нашел его в Беловодье, где тамошние христиане имеют всех высших иерархов: «патриарха православного антиохийского постановления», митрополитов и епископов. Вербальный код легенды, заключенный в «Путешественнике», все чаще смещался в сторону акционального. И подвиги дальнего странствия с целью найти спасение в этой святой стране либо отыскать законное епископство Славяно-Беловодской иерархии совершались едва ли не с конца XVII в. и вплоть до начала XX в.
Принятый в Беловодье
Н. К. Рерих, прикоснувшийся к фольклорной традиции, связанной с Беловодьем, во время своей экспедиции на Алтае, чутко уловил представления об иерархических ступенях включенности искателей в сакральную сферу обетованной земли: «Коли душа твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, тогда примут тебя жители Беловодья. А коли найдут они тебя годным, может быть, даже позволят тебе с ними остаться (курсив мой. — Н. К.). Но это редко случается»[3545]. Все зависит от состояния души, от ее готовности соответствовать сообществу праведников: «Да не дается оно всем, Беловодье. Недостойный, неправедный душой не попадет туда»[3546]. Тот, кто позван, приглашен, избран самими беловодцами, сможет не только отыскать эту благословенную страну, но и войти в нее. Как следует из сокровенного сказания, лишь для семерых в каждое столетие предуготована возможность попасть в заповедное Беловодье. Причем шестеро из них (вариант: лишь один) остаются там навсегда, тогда как одному из семерых (вариант: шестерым) предстоит вернуться в «этот» мир. (Ср. с аналогичными легендами об «убежавших» церквах.) С другой стороны, в Беловодье приглашаются те, кто желает «пребыти (в тех местах) до конца своей жизни»(ИРЛИ-1). Так, по словам старца Марка Топозерского, которому приписывается первая редакция «Путешественника», пришедшие к ним «два инока согласились тамо вечно остаться, приняли святое крещение» (ИРЛИ-3). Согласно этому памятнику, «приходящих из России» беловодцы «крестят совершенно в три погружения». Поскольку пришельцы из грешного мира, по мнению «тамошних жителей и всего духовенства», «осквернились в великих и разных ересях антихристовых» (МП-1) [Вариант: «осквернились зверем лютым антихристом» (ИРЛИ-1)], их в Беловодье принимают «первым чином», т. е. требуя не только «исправы» и «проклятия ересей» (третий чин) или приобщения посредством «миропомазания»(второй чин), но даже заново перекрещивая[3547]. В то же время, по свидетельству уже упоминавшегося Аркадия, который выдавал себя за архиепископа, получившего хиротонию в Беловодье, в Опоньском царстве, от патриарха Мелетия, приходящих «из православия и раскола» принимали в «Беловодское согласие» через миропомазание. Этот чин предварялся анафемами «никонианской ереси» — «лукавому еретическому мудрованию». За отречением от ереси следовало пространное исповедание веры, в котором принимаемый обязывался быть в послушании и повиновении священникам, поставленным митрополитами и архиепископами, которые, в свою очередь, получили хиротонию от патриарха «настоящего святейшего Славяно-Беловодского». (Характерно, что последний упоминается здесь наряду с «прежде бывшими восточными патриархами: Константинопольским, Антиохийским, Александрийским, Иерусалимским».) По исполнении предварительных церемоний, предшествовавших самому миропомазанию, в данном чине следовали «вопрошения» святителя. И на них должны были «отвещевати» лица, поступающие под духовное водительство «Беловодской» иерархии. Вот один из основополагающих вопросов: «Проклинаеши ли и отрицаешилися нововведенный раскол и ересь от Никона <…>, новое учение, новое толкование, новые книги и всякую хулу?»[3548]. Что же сообщают о Беловодье те немногие, которые в качестве избранных были приняты в эту сокровенную страну? Ответ на этот вопрос преимущественно сводится к формуле умолчания, устойчивой в цикле мифологических рассказов, повествующих о посещении «того света»: «Много чудес говорили они об этом месте. А еще больше чудес не позволено им сказать»[3549]. Если в данном случае посвященные в тайну Беловодья не рассказывают о нем в силу запрета, то в других типологически сходных легендах побывавшие в сокровенной стране не могут поведать о ней, поскольку утратили дар речи. Так, например, в легенде о загадочной стране Хуфай, относящейся к фольклору «болотных арабов» Ирака, живущих в пойме рек Тигра и Евфрата, возвратившийся из этой мифической страны правды, справедливости, полного изобилия начинает говорить нечленораздельно, так что ничего нельзя понять. Не сообщают не только об увиденном, но даже о своем местонахождении и те, кто присылал из Беловодья письма: «Говорят, Соколиха туда попала. Звали ее Зиновья Харитоновна Соколова, а за характер прозвали Соколихой. <…> Немолодая уже женщина, лет пятьдесят ей тогда было. Муж у нее умер. С ней поехали ее ребята — парни лет 15 и 17. Говорили, что присылала она оттуда письмо, да адрес свой не указала»[3550]. Формула умолчания получила на этот раз свое рационализированное выражение. Семантика данного сакрального локуса, понимаемого не столько как пространство, сколько как определенное духовное состояние, в некоторой степени проясняется и в сокровенном сказании о Беловодье, записанном в 1893 г. со слов отца Владимира, иеромонаха Вышенской Успенской мужской пустыни, Тамбовской губернии, Шацкого уезда[3551]. Необычным по сравнению с земным в Беловодье оказывается и время. Находящиеся там теряют счет времени: оно для них остановлено. Беловодье оказывается вневременным, а точнее, все времена сосуществуют здесь в вечном настоящем, совмещенном с прошлым и будущим[3552]. [Ср. с известным изречением, содержащимся во Втором соборном Послании св. апостола Петра: «<…> у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (3.8).] В этом отношении Беловодье также сопоставимо с иным миром. Для сравнения приведем одну из бывальщин. Жених в день своей свадьбы по пути за невестой заехал на кладбище, где был похоронен его друг. Могила раскрылась — и жених попал на «тот свет». За краткие мгновения, пока гость трижды выпил там по чаше вина, предложенной ему покойным другом, на земле прошло три столетия. Вернувшись, жених не обнаружил на прежнем месте ни былых домов, ни знакомых людей. И новый священник, справившись по книгам, поведал, что это происшествие случилось с возвращенцем триста лет тому назад[3553].
Рис. 57. Дом в деревне Терехово. Заонежье
Этот локально-темпоральный континуум наделен и другими сверхъестественными особенностями. В Беловодье, согласно сокровенному сказанию, в означенный срок постигается «все новое, удивительно мудрое и чудесное», чего не может вместить человеческий ум. Здесь обретается тайное знание, получают развитие новые чувства как проявления лучших свойств души, познается высшая истина. Здесь известно все, что творится в мире, и не только известно, но все видно и все слышно, независимо от земной хронологии происходящих событий. Душа, высвобожденная из бренного тела, получает возможность побывать на самой высокой горе либо прилететь в Царьград, Киев. Традиция, зафиксированная еще Гесиодом (Теогония. 736–739) и связанная с верованиями, что в ином мире (Тартаре) заключены начала и концы всего сущего, подспудно пульсирует и в рассматриваемом сказании о Беловодье. Еще в большей степени эта традиция восходит к волшебной сказке, где героя, отправляющегося на «тот свет», встречные просят узнать, отчего три дня не светило солнце, почему высох колодец, долго ли стоять старому дубу, сколько времени служить на переправе перевозчику, когда кончатся мучения наказанных, и т. д. И герой, выполняя эти поручения, узнает в ином мире ответы на все вопросы. В качестве источника высших знаний Беловодье и в данном случае отождествляется с иным миром. Небезынтересно отметить, что в числе лиц, якобы принятых в Беловодье, согласно слухам и толкам, фигурируют творческие люди, известные философским осмыслением бытия, поисками правды и справедливости. Такая молва разнеслась, в частности, о Л. Н. Толстом, якобы побывавшем в «Беловодии». В связи с этим Г. Т. Хохлов писал В. Г. Короленко: «У нас на Урале сложилась о Л. Н. целая легенда. Говорят, что он будто бы ездил за границу, был в Беловодии, присоединился там и принял на себя какой-то духовный (?) сан»[3554]. Поводом для подобных слухов послужило опубликованное в газете «Уралец» сообщение о переписке Л. Н. Толстого с одним ученым индусом, который, в частности, сообщал: «По нашему мнению, истинное учение Христа не расходится с нашей верой и с нашей философией. Истинный христианин — индус во многих отношениях, а настоящий индус — христианин по существу». Эти слова уральские казаки поняли буквально, заключив, что «истинное учение Христа» и «истинные христиане» пребывают в Индии, по соседству с которой, если не в ней самой, и находится сокровенное Беловодье. Следуя этой логике, они пришли к выводу, что корреспондент Л. Н. Толстого, а быть может, и сам Л. Н. Толстой, сможет указать прямой путь в страну древнего благочестия. Свою роль могли сыграть и дошедшие до старообрядцев сведения, что Л. Н. Толстой ездил за границу. Но именно за границей в представлении взыскующих Беловодья и локализуется сокровенная земля, находящаяся как бы за чертой «этого» мира: именно там и сохранились догматы и обряды православия, существовавшие на Руси до церковной реформы патриарха Никона. Формированию молвы о посещении Л. Н. Толстым Беловодья в немалой степени способствовали и достигшие старообрядцев слухи о сложных взаимоотношениях писателя-мыслителя с официальной церковью, по-своему истолкованные в их среде. «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему», — писал Л. Н. Толстой в 1901 г. в «Ответе на определение Синода» об отлучении его от церкви. По логике старообрядцев, отрекшийся и отлученный от официальной церкви не мог не пристать, подобно им, к истинной православной церкви, каковой им представлялась сокровенная Беловодская иерархия. Данные обстоятельства и побудили уральских казаков-старообрядцев, неоднократно предпринимавших безуспешные поиски благословенной страны (первое их путешествие на Восток состоялось в начале 70-х гг. XIX в., второе — в 1898 г.), обратиться к Л. Н. Толстому, чтобы уточнить маршрут в Беловодье. 13 ноября 1903 г. уральские казаки появились в Ясной Поляне, доложив, что приехали издалека по «важнеющему делу». Как впоследствии выяснилось, ими оказались Логашкины, отец и сын. Л. Н. Толстой в тот момент был очень болен. И тем не менее он принял уральских казаков, по их словам, «так душевно», «с такой радостью, ровно близких родных после долгой разлуки». Логашкин-отец стал объяснять цель их визита. Он говорил о религиозных нуждах старообрядцев, о неимении «истинного священства», об архиепископе Аркадии, о Беловодском царстве, о бесплодных его поисках и, наконец, об упомянутой переписке графа с индусом. Однако Л. Н. Толстой (о нем Логашкины впоследствии скажут: «это не простой человек», «этакого большого ума человек») так и не смог тогда понять, чего же добивались от него настойчивые посетители. Узнав об этом визите к писателю из сообщений в газетах, В. Г. Короленко, чтобы прояснить ситуацию, прислал Л. Н. Толстому письмо от 4 января 1904 г., а также книгу Г. Т. Хохлова «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство» (СПб., 1903) со своим предисловием, в котором был объяснен смысл поисков Беловодья. Этот смысл емко сформулирован им в письме Н. Ф. Анненскому от 26 октября 1900 г.: путешествие в эту сокровенную страну обусловлено «поисками истинной церкви». В указанном же письме Л. Н. Толстому В. Г. Короленко объясняет и появление уральских казаков в Ясной Поляне: «Их поездка к Вам есть как бы продолжение того же путешествия в Беловодию с целью разобраться и найти истину по вопросу, имеющему для них и отвлеченное, и самое насущное значение»[3555]. В ответном письме, адресованном В. Г. Короленко от 20 января 1904 г., Л. Н. Толстой писал: «<…> Ваше предисловие объяснило мне их (казаков. — Н. К.) посещение. На очень, очень важные мысли наводит это удивительное и трогательное явление»[3556]. Что же касается Логашкиных, то по возвращении в свою станицу Соболевскую, они стали собираться в новое путешествие — для отыскания царства, где процветает истинное православие. В качестве человека, который удостоился быть принятым в Беловодье, предстает в легендах, записанных в Верхнем Уймоне, и Н. К. Рерих. Он попадает туда как человек праведный и «многобытный»: «Три года по всем дорогам путешествовали»[3557]. В столь длительных путешествиях ему, по мнению рассказчиков, и посчастливилось попасть на ту единственную тропу, которая ведет в Беловодье. «Далекая земля» изображается на этот раз в сугубо материальных категориях. Н. К. Рерих со спутниками живет там три дня. Вернувшись, он приносит вещественные доказательства своего пребывания в сокровенной стране: фотографии, а также скатерть и рубаху, которые «возвращенец» дарит уймонским крестьянам. От одного из беловодцев Н. К. Рерих узнал якобы даже адрес того, у кого можно остановиться: «„Будешь в Уймоне, заходи к Вахрамею Семеновичу Атаманову“. Он как приехал, так сразу к Вахрамею Семеновичу, у него и остановился»[3558]. Вполне возможно, что эти удивительные истории, используя мотивы услышанных им легенд о Беловодье и Шамбале, придумал сам Н. К. Рерих. Однако они оказались настолько созвучными бытующему на Алтае фольклору, что с готовностью были восприняты местной устной традицией.
Пришельцы и возвращенцы из Беловодья
Во время экспедиции на Алтае Н. К. Рериху удалось зафиксировать отголоски представлений, согласно которым пришедшие из Беловодья люди «дадут всему народу великую науку»[3559]. Аналогичные легенды, но связанные на этот раз уже с Шамбалой, художнику довелось слышать в Гималаях. Ожидания посланца из Беловодья приобрели в старообрядческой среде специфический характер. Здесь ждали не просто мессию, который бы открыл истину и указал путь к спасению, но иерарха, имеющего непресекаемую преемственность от дониконовских «древлеправославных» архипастырей. Подобные представления были обусловлены определенными обстоятельствами, о которых поведали, в частности, историки П. Н. Милюков и Ф. Е. Мельников[3560]. В их трудах показано, как, лишившись епископов, поскольку те оказались приверженцами никонианства, старообрядцы уже с 30-х гг. XVIII в. предпринимают усиленные поиски древлеправославных архиереев, не принявших «никоновских применений». На этой почве возникла и оказалась востребованной легенда о «Беловодии» в том виде, в каком она преломилась в «Путешественнике». Как отмечает П. Н. Милюков, именно в Беловодье «поместил раскол свою благочестивую Утопию». На практике же старообрядцы продолжали вести переговоры с различными архипастырями о рукоположении для их древлеправославной церкви епископа. Особые надежды они возлагали на Восточную иерархию, которая, по словам Ф. Е. Мельникова, казалась им «проще, доступнее и чище в своем иерархическом и нравственном достоинстве». Известно даже, каким представляли себе будущего епископа старообрядцы. По их мнению, этот архипастырь должен отличаться «простотой жизни, высоконравственными качествами и доступностью». А между тем в своих поисках ревнители «древлего» благочестия, как описывает П. Н. Милюков, претерпевали неудачи одну за другой. Уже был рукоположен в епископы, и притом самим Антиохийским патриархом Даниилом, старообрядческий инок из Стародубья, Рафаил, но по дороге в Россию, где-то в Турции, он умер. Затем на эту же роль претендовал добродушный пьяница и сластолюбец Епифаний: сан епископа он получил от Ясского митрополита. Епифаний оказался весьма далеким от убеждений и житейских привычек поборников старой веры. И когда он был вскоре арестован по приказу императрицы Анны Иоанновны, паства отнеслась к данному факту без особого сожаления. На этом поприще Епифания сменил красавец-пройдоха Афиноген, самозванно объявивший себя архиереем и после разоблачения бежавший за границу, где преуспел в военной карьере и женитьбе. Теперь в качестве претендента на архиерейство оказался московский колодник Анфим: в епископы его должен был посвятить все тот же бесподобный Афиноген. Утратив доверие старообрядческих общин, Анфим был утоплен в Днестре казаками. Идея найти где-то в «далеких землях» настоящего «древлеправославного» архиерея, сохранившего старую веру во всей ее неприкосновенности, в силу ряда причин не раз актуализировалась и в последующие периоды Причем несмотря на то, что 28 октября 1846 г. учредилась «полная и правильная» Белокриницкая иерархия (с расположением в Буковине, которая тогда входила в состав Австрии). С нее ведет свое начало существующая у старообрядцев иерархия. Однако коль мечта о «древлеправославном» архиерее — выходце из некой сокровенной земли оставалась не изжитой, то востребованный ею персонаж рано или поздно должен был появиться. Так и случилось: в России появился архиепископ, якобы получивший хиротонию в Беловодье. Вхождение некоего Аркадия в образ архиепископа было обусловлено в данном случае легендами о Беловодье, списками «Путешественника», агиографической литературой. Однако и сам образ, возникнув на подготовленной почве, в свою очередь, оказывал влияние на связанную с Беловодьем традицию. Скажем сразу, он отнюдь не совпадал со своим реальным прототипом, хотя и создавался не без участия последнего. Первые сообщения о самозванном «архиепископе всея России и Сибири старообряцкой церкви», выдававшем себя за представителя Беловодской иерархии, появились в печати в 1880 г.[3561] Параллельно вокруг его имени в народе, и особенно в старообрядческой среде, начали циркулировать слухи и толки: «— „Что ты за человек?“ Аркадий отвечал: „Я архиепископ“. <…>. — „Где ты ставлен?“ Он отвечал: „В Беловодии…“»[3562]. В 1890 г., отвечая на моление не вполне еще уверившихся своихпоследователей, просивших «смиренного архиепископа» дать истинный ответ о его рукоположении, Аркадий писал, используя при этом «бродячий» фольклорный мотив: «Если я, раб Божий Аркадий, против этого что солгал или неправду сказал, то пожри меня земля (курсив мой. — Н. К.)»[3563].
Рис. 58. Святые. Изображение месяцеслова
Из совокупности слухов и толков, отчасти исходящих от него самого, отчасти от его последователей, но вылившихся в определенные архетипические формы, вырисовывается своего рода «житие» этого «владыки». Так, давая показания исправнику, Аркадий заявил: «Сорок пять лет тому назад я ушел с родины помолиться святым местам. После многих странствований, проплывая много морей, я попал в Индию к патриарху Мелетию и от него в пятидесятых годах получил рукоположение в архиепископа, при чем получил имя Аркадия»[3564]. Однако соотнесенность с Индией нельзя понимать буквально: это скорее символ сакрального локуса, чем сама местность. Не случайно в ставленой грамоте «архиепископа» Аркадия Мелетий фигурирует как «патриарх Славяно-Беловодский, ост-Индийский сирского языка и прочих островов Индийских и Японских и Англо-Индийских»[3565]. В народной интерпретации место, где Аркадий был хиротонисан в архиепископа и откуда послан в Россию, названо «Японией Индийской, где какое-то есть Беловодие»[3566]. По иной версии, он был рукоположен «в Беловодии, в Камбайском королевстве, в городе Левеке»[3567], что вызывало у слушателей естественный вопрос: «И вправду ли есть такая земля — Беловодие и такое королевство?»[3568]. По-видимому, аккумулируя сведения, излагаемые в «Путешественнике» и отчасти в устных легендах, Аркадий утверждал, что Беловодье — островная страна. В ней 2700 тысяч жителей, из них 500 тысяч — русских поселенцев. В этом царстве 700 церквей[3569]. В главном же городе этой страны, осмысляемом как прообраз всего сокровенного царства («по их языку названный град Трапензангунскик, а по географии и по-русски называется Левек»[3570]), насчитывается 700 тысяч жителей и 300 церквей. Здесь пребывает патриарх и четыре митрополита «сирского языка»[3571]. Известно, что эти слухи постепенно распространялись и в народе. По словам одного старообрядца Пензенской губ., «там, в Беловодии, есть и патриарх благочестивый, именем Мелетий; <…> священницы там не то, чтобы откуда прибегли, а тамошние природные, имея рукоположение преемственное от Фомы Апостола»[3572]. Здесь мы имеем дело с реминисценциями из ставленых грамот Аркадия «Беловодского». По свидетельству этих грамот, когда святые апостолы отправились на проповедь Евангелия, то апостолу Фоме выпал жребий проповедовать в числе других народов «индияном». В «Индии» Фома поставил первого епископа Дионисия, от которого якобы и продолжилась святая хиротония там, в «далеких землях», за неведомыми морями, в этом преславном царстве, в «Японии Индийской», в сокровенном Славяно-Беловодском патриаршестве. Даже имя «Мелетий», данное в ставленых грамотах Аркадия беловодскому патриарху, выбрано не случайно. Под таким именем известен архиепископ Мелетий Антиохийский — обличитель арианской ереси, память которого церковь отмечает 12 февраля. Поскольку это благочестивое священство удалено от грешного мира не только в пространстве, но и во времени (оно приближено к началу христианства) и уж, во всяком случае, не знает каких бы то ни было никоновских «новоприменений», то в Беловодье, естественно, по сию пору соблюдается «от Апостол проповеданное православие».

Лицевой подлинник. Миниатюра. XVII в. Прорисовка
Помимо главного, по свидетельству Аркадия, в Беловодье есть и столичный город. В нем живет, как следует из «указов» и «мирноотпущенных» грамот, принадлежащих Аркадию «Беловодскому», «благочестивый царь и великий краль», именуемый Григорием Владимировичем. Характеристика Беловодья, осмысляемого в качестве благословенной страны, в грамотах «архиепископа», как и в «Путешественнике», а также в некоторых памятниках древнерусской литературы, основывается на одной и той же выработанной в традиции модели «там нет ни… ни…»: нет ни ересей, ни расколов, ни лжи, ни клеветы, ни обмана, ни воровства, ни грабежа, ни убийства. У всех живущих там христиан одна коллективная душа, единая сущность и единая любовь. В этом свете не удивительно, что сюда, «в Беловодие, в Камбайское королевство», как повествуется в «указах», или «мирноотпущенных» грамотах, Аркадия, отправились в свое время из России за «корнем священства» именитые люди. Они поведали тамошним царю и патриарху о бедственном положении в Московии «древлеправославной» церкви «и упросили и умолили» патриарха Славяно-Беловодской иерархии о поставлении для Руси владыки. Просьба была уважена. Бот тогда-то Беловодский освященный собор и хиротонисал Аркадия в архиепископа и послал его в Российское государство. В письме уже упомянутого старообрядца из Пензенской губернии сообщается, что архиепископ пришел сюда не один, а с четырьмя митрополитами — «два из них пострижены в схимники, а два непостриженные, а просто митрополиты»[3573]. Причем краткая ставленая грамота как доказательство подлинности Беловодской хиротонии Аркадия в архиепископа подписана «смиренным Мелетием, патриархом Славяно-Беловодским» и четырьмя митрополитами «сирского языка». Пространная же ставленая грамота дана, кроме патриарха, «царем и кралем» Григорием Владимировичем, 38 митрополитами, 30 архиепископами, 24 епископами, 38 архимандритами и 27 игуменами[3574]. Хотя ставленые и «мирноотпущенные» грамоты, коими располагал Аркадий «Беловодский», датированы в основном 1850-м г., начало его архиерействования, когда он сам рукополагал священников для своих последователей, приходится лишь на конец 60-х - середину 70-ых годов XIX в. С тех пор новоявленный «архиепископ» сумел привлечь на свою сторону многих старообрядцев[3575], увидевших в нем представителя Беловодья в мире людей. Правда, иные приходили к Аркадию, чтобы узнать, какими путями он выехал из Беловодья в Россию. Однако «архиепископ» «уклонялся открыть свой путь и местонахождение Беловодии». И этому находилось объяснение: отныне спасение с его помощью можно обрести и здесь и больше нет нужды в дальнем странствии. Образ Аркадия «Беловодского» в формирующейся вокруг него традиции создается по модели, которая выработана преимущественно агиографической литературой. Некая связанная с ним возвышенная чарующая тайна — неотъемлемая составляющая такого персонажа. «В наших краях появилась новая вещь, чудная и для нас не безопасная!»[3576], — пишет озадаченный старообрядец своему адресату, искушенному в тонкостях Священного Писания, с которым, как предполагает автор этого письма, несомненно связана и неразрешимая для него тайна явленного чуда — прихода из сокровенного Беловодья «древлеправославного» архиепископа. В визуальном облике Аркадия «Беловодского» его последователи готовы узреть черты подвижника, каким он обычно изображается в житиях и иконописи. Они воспринимают «владыку» как глубокого старца, тем более что тот сам утверждал, что родился в 1814 г. (на самом же деле, как выяснилось в ходе разбирательства дела в Самарском окружном суде, рождение Аркадия относится едва ли не к 1832 г.). По рассказам крестьян, «владыка» все время ходил в монашеской черной одежде, с длинными волосами. Суждения об аскетизме его облика подтверждаются документально. В «Деле о рассмотрении архиерейских принадлежностей», хранившемся в Самарской духовной консистории, значится, что почти все его облачения оказались из дешевого материала, ветхие, дырявые, грязные и, как засвидетельствовано в этом документе, «не приличные к употреблению при богослужении»[3577]. Надо полагать, что данное обстоятельство объяснялось не одним только плачевным состоянием дел самозванного владыки, но и принятой им на себя аскезой. Своим образом жизни Аркадий «Беловодский» в глазах его сторонников ничем не отличался от подвижника, идеал которого сформировался в житиях святых. Во всяком случае, он преуспел в создании, как сейчас сказали бы, собственного имиджа. Впечатлительный старообрядец Пензенской губ. уподобляет «владыку» раннехристианским святым: «Жизнь его чудна, как и древних святых, постник и воздержник»[3578]. Действительно, Аркадий вошел в избранную им роль «архиепископа всея России и Сибири старообряцкой церкви», получившего хиротонию в «далекой земле», в сокровенном Беловодье. О том, какое впечатление производила проповедь Аркадия на простой русский народ, свидетельствует, в частности, письмо, найденное у одного из его последователей: «И если все это верно, что в Беловодском округе священство, рукополагаемое от святых апостол по-ряду безпрерывно, и вы там рукоположены Мелетием патриархом, то мы подкланяем все свои выи и вручаем свои души Вашему Благословению, чему поставляем свидетеля Бога»[3579]. В другом письме старообрядцы просят известить их как можно скорее, где сейчас находится Аркадий, и справляются, «не было ли от него каких чудес»[3580]. Свершение чуда, по их мнению, — это естественное проявление посланца из сокровенного Беловодья. В соответствии с «житием», которое, помимо самого Аркадия, творили, проецируя на него, последователи, «владыка» был человеком «обходительнейшим» и кротким. По рассказам старообрядцев, он начисто лишен мздоимства и стяжательства: за требоисправления, крещения и исповедь не брал ничего. «Ни за какие тысячи» не поступался строгими правилами исполнения церковного обряда, хотя бы и по причине отсутствия лишь одного из его атрибутов (например, свадебных венцов). В глазах своих почитателей Аркадий Беловодский предстает полнейшим бессребреником: «<…> у меня денег нет и взять неоткудова. Было рублей около семидесяти, то Пронька отобрал и все лахмотья»[3581]. В своих письмах он являл образец смирения, кротости и безвинного страдания. Не имея средств на дорогу, «владыка», по его собственным словам, готов идти пешком туда, куда направит Господь. Будучи тяжело больным, «смиреннейший архиепископ» молится в слезах, уповая на милость Божию. Сценарий жизни Аркадия «Беловодского» разыгрывается также в полном соответствии с канонами жития. Как и полагается подвижнику, он претерпевает за истинную веру «зельные мучения», «узы изгнания», «узы заточения». По утверждению одного из наставников пензенских беспоповцев, придя из Беловодья в Россию и поначалу основав в архангельских лесах обитель, сей «благоговейный муж» пережил разорение монастыря. Тогда присланные царем солдаты перебили весь народ (мало кто уцелел), а сам «владыка» получил ранения в руку и бедро. (Кстати, факты ранения Аркадия при освидетельствовании его судебным следователем и врачом, которое было произведено при очередном аресте, не подтвердились: «особых примет» на теле «архиепископа» не обнаружено.) Довелось перенести ему и заточения в различных острогах. По освобождении Аркадия «Беловодского» его последователи едут за триста верст к этому «чудному» архиепископу и три дня ведут с ним беседы. Внимание старообрядцев к его личности лишь усиливается. И когда Аркадий в очередной раз был предан суду за то, что именовал себя не принадлежащим ему званием «архиепископа всея Руси и Сибири», старообрядцы, с живейшим интересом относящиеся к делу новоявленного «владыки», посылают своих нарочных посмотреть и послушать, что он скажет на суде. И нарочные с чувством умиления и благоговения «пред доблестным исповедником» поведали обществу, что Аркадий не отступился ни от своего архиерейства, ни от беловодского рукоположения, представ в своем непостижимом величии. И, по их словам, на заседании Ржевского окружного суда секретарь якобы читал ставленую и «мирноотпущенную» грамоты Аркадия «Беловодского» «громогласно, во услышание всем». И это обстоятельство интерпретировалось в среде старообрядцев как знак неопровержимой правоты и праведности «благоговейного мужа», которую не могли не признать даже его обвинители. В действительности же данный эпизод — плод фантазии приверженцев «доблестного исповедника»: при разбирательстве дела «владыки» никаких грамот не зачитывали, хотя они и были взяты при его аресте. Совершенно очевидно, что данный эпизод формировался исключительно по законам фольклорной и агиографической традиций, где судимый подвижник возвышается над судьями и окружается ореолом мученичества за истинную веру. Образ «смиреннейшего архиепископа», сложившийся на основе слухов, толков и рассказов, распространяемых отчасти самим Аркадием «Беловодским», отчасти его приверженцами, оказался, как выясняется, едва ли не полным соответствием той модели, которая обозначилась в «мирноотпущенной» грамоте, будто бы полученной «владыкой» от самого беловодского патриарха Мелетия: «муж благ, во священных законех воспитан, и в молитвах, и в чистоте жития известен»[3582]. Из сказанного следует, что легенда о Беловодье неисповедимыми путями на долгие годы предопределила жизнь, во всяком случае, ее внешнюю, показную сторону, самозванного владыки и что в своем вхождении в образ беловодского архиепископа Аркадий весьма преуспел. А между тем при наведении справок о личности Аркадия и разбирательствах его дела в окружных судах выяснилось, что сей муж, воспитанный «во священных законех», не кто иной, как обер-офицерский сын Антон Савельевич Пикульский. Стало также известно, что в различных местностях он выдавал себя попеременно то за священника или протоиерея, то за иеромонаха или архимандрита. Для обоснования же своего архиерейства он воспользовался легендами о Беловодье, равно как и потребностью старообрядцев в такого рода иерархе. В знак своего беловодского поставления Аркадий, помимо грамот, предъявлял еще и «подлинник», написанный якобы одновременно на «сирском» и «арабском», а то и на «сирско-индо-арабском» языке. Однако этот документ не содержал ничего, кроме крючков и зигзагов. На локализацию же Беловодской иерархии, обозначенную в этих грамотах, повлиял старинный французско-русский учебник географии, который был изъят при задержании «владыки» осенью 1885 г. и в котором оказались отмеченными названия отдельных городов и островов, совпадающие с упомянутыми в грамотах Аркадия «Беловодского». Имея за плечами опыт неоднократных «превращений», Антон Пикульский с 60–70-х гг. и, насколько нам известно, вплоть до начала XX в. выступает в роли «беловодского архиепископа». Живет в Пермской, Новгородской, Петербургской, Олонецкой, Томской и других губерниях. «Собирая овцы Христовы в ограду Христову от прелести Антихристовой»[3583], он к 80-м гг. имеет значительное число приверженцев. И среди них уже есть священники и диаконы Аркадиева поставления. Несмотря на то, что в официальной печати самозванный архиепископ был заклеймен как «дерзкий проходимец», слухи и толки о нем, возникшие под влиянием легенды о Беловодье, не прекращались и затихли лишь с ее угасанием, а вместе с тем и с прекращением реальных поисков этой ирреальной страны. В отличие от Аркадия, возвращенцы из Беловодья, фигурирующие в «Путешественнике», видят возможность спасения не в этом грешном мире, а в сокровенной земле, недосягаемой для «прелести Антихристовой». В качестве такого возвращенца предстает «действительный самовидец инок Марк, Топозерской обители, бывший в Опоньской царстве» (МП-1), как выясняется уже из другого варианта, в лето 7382 г., т. е. в 1874 г. (ИРЛИ-1), или же «тот самый, который сам там был <…> многогрешный инок Михаил» (ГИМ). Распространяя «Путешественник», эти иноки призывают россиян совершить подвиг дальнего странствия, чтобы в преодолении многотрудного и длительного пути достичь такого духовного подъема и нравственного совершенства, когда сам Бог откроет дорогу идущему по ней и взыскующему святого и чудесного. Вместе с тем известны и несколько иные легенды о пришельцах из святой страны, каковыми оказываются Беловодье или Шамбала. Они были зафиксированы Н. К. Рерихом на Алтае[3584]. Этим легендам присуща лаконичность, скупость изобразительных средств, недоговоренность как неотъемлемая составляющая некой неразгаданной, недоступной человеческому пониманию тайны. Сам факт появления таких пришельцев привязан к определенному пространственно-временному континууму: преодолев путь по особым ходам, они появляются в особые сроки чаще всего верхом на конях. Иногда этих всадников видят около пещер, из которых открывается вход в их страну — Беловодье или Шамбалу. Впрочем, подземный ход в Шамбалу нередко оказывается чрезвычайно узким: два обитателя сокровенной страны, вышедшие к людям, чтобы приобрести породистого барана, нужного им «для научных опытов», с большим трудом вели его через тесный проход.

Рис. 59. Успенская церковь в с. Девятины. XVIII в. Вытегорье
Вид у пришельцев из святой страны также особый. Если это женщина, то обязательно высокая, станом тонкая, лицом строгая и «темнее наших». Одежда ее напоминает древнюю, впоследствии используемую в качестве обрядовой, — «долгую рубаху, как бы в сарафан». Если мужчина, то это «незнакомый человек, высокий и не в нашей одежде», «совсем особого вида». В одних случаях пришельцы не вступают в контакт с простыми смертными (их видят лишь издалека), в других — они участвуют в жизни людей: «Ходила по народу — помощь творила, а затем ушла назад в подземелье»[3585]. Согласно легенде, пришелец из святой страны появляется на базаре. Покупая овощи, он расплачивается золотой монетой. Когда ее рассмотрели, то выяснилось, что «таких денег уже тысячу лет как не бывало»[3586]. Из сказанного следует, что время святой страны, проецируясь в далекое прошлое, продолжается в настоящем и что в ином мире оно несоизмеримо с нашим земным. Таким образом, религиозно-утопическая легенда о Беловодье на протяжении более чем двух столетий являлась своего рода учением о благословенной стране спасения. В ней шла речь о земле праведников, соотнесенной, с одной стороны, с первыми веками христианства, а с другой — с кризисными ситуациями в истории человечества, на протяжении которой эта «далекая земля» пополнялась все новыми и новыми мучениками за веру. Здесь они находили спасение, сохраняя в изначальной чистоте истинную христианскую веру, соблюдая древние обряды и обычаи, и сами, в свою очередь, спасали тех, кто, преодолев долгий и трудный путь, оказывался достойным войти в эту благословенную страну. Здесь вызревает и будущее человечества, которому предуготовано место на обновленной земле под обновленным небом: оно наступит после Второго пришествия Христа и Страшного Суда. Мечта о Золотом веке, пульсирующая в фольклоре и адаптированная христианством в книжной традиции, получила свое завершенное выражение в легенде о «далекой земле» — «Беловодии», содержащей в себе зачатки всех тех возможностей, которые должны проявиться в будущем и которые ознаменуют конец катастрофы, потрясшей мир и разрушившей прежний миропорядок ради установления нового[3587]. И в этом вневременном будущем повторится «совершенство начала», столь тщательно сберегаемое в Беловодье.

Глава III На «том свете»: легенды о загробной жизни
Не позволишь ли ты мне, Господи, По раям походити, по адам посмотрети?Из русского духовного стиха
«Яви мне путь, о коем ты поведал, Дай врат Петровых мне увидеть свет И тех, кто душу вечной муке предал». Он двинулся, и я ему вослед.Данте Алигьери
Видение рая

В народно-христианской нарративной традиции сфера, обозначенная этим наименованием, представляет собой сакральный локус, огражденный от бренного мира. Это сад (луг, поле) либо город (селение, монастырь, храм, дворец, дом), наполненный светом, благоуханием, птичьим (ангельским) пением. В этом «царствии», уготованном Богом, пребывают после смерти и частного суда (вплоть до всеобщего) праведники и святые. Состояние непрестанной радости и вечного блаженства, которое они здесь испытывают, осмысляется как посмертное воздаяние за их богоугодную и благочестивую жизнь, как проявление высшей справедливости. Рай может локализоваться на небе, под землей либо где-то за пределами (на краю) земли, за «морем-океаном», на острове (островах). Все зависит от того, какая из моделей мира, горизонтальная или вертикальная, преобладает в мифологическом сознании носителей традиции при каждой конкретной реализации данного архетипа. Причем, как уже замечено исследователями, пришедшая на смену двухчастной трехчастная плоскостно-вертикальная модель мира повлекла за собой перенесение многих параметров нижнего яруса на верхний. В результате небесное и подземное нередко стали отождествляться[3588], что соответствующим образом сказалось и на локализации рая. Истоки подобной неопределенности — в размытости или, по выражению богословов, «прикровенности» изображения трансцендентного мира и его составляющих в самом Священном Писании. Они же коренятся и в известных отношениях преемственности христианизированных представлений о «том свете» с дохристианскими воззрениями, по которым иной мир выглядит нерасчлененным, и в сущности, однородным по своим ценностным характеристикам. Как феномен религии и культуры народов мира понятие «рай» нашло освещение главным образом в словарных статьях: одна их них принадлежит С. С. Аверинцеву[3589], другая — С. Я. Серову[3590]. Оба исследователя коснулись вопросов этимологии наименования данного сакрального локуса, его топографии, обратив прежде всего внимание на связь этой сферы с небом. Ими была затронута и проблема типологии рая в системе древних этнокультурных традиций. Причем С. С. Аверинцев, основываясь преимущественно на библейских и «околобиблейских» текстах, выделил три основные его испостаси: сад, город, небеса. Что же касается интерпретации рая в русской и — шире — восточнославянской народной нарративной традиции, то она может быть выявлена на основе анализа определенного цикла легенд, имеющих не только устную, но и рукописную форму бытования. Публикации текстов данных фольклорных произведений, повествующих об «обмирании» (временной смерти) и посещении загробного мира визионером, равно как и исследования этих текстов, содержатся в статьях акад. Н. И. Толстого, С. М. Толстой, А. В. Гуры, О. А. Терновской, М. Л. Лурье, А. В. Тарабукиной, В. Е. Добровольской[3591]. Рукописная же нарративная традиция, связанная с видениями потустороннего мира, представлена публикацией текстов, их комментариями и анализом в статьях И. М. Грицевской, А. В. Пигина, акад. Н. Н. Покровского, Е. М. Юхименко[3592] и др. Однако райская сфера в этих работах не стала объектом специального освещения. Исследователи, как правило, отмечали невыразительность картин рая по сравнению с изображениями ада, которое оказывается более развернутым и детализированным. Выявление истоков, семантики, типологии и структуры данного сакрального локуса, предпринимаемое на основе анализа легенд, соотнесенных с апокрифами и житиями, равно как и с предшествующей, а также сопутствующей фольклорной традицией, — цель данного исследования.
«Огражденное место»
Тот из обмерших либо умерших, кто сможет перейти по мосту, шнуру, нити через реку (огненную реку) или пропасть, а то и вовсе преодолеть преграду без всякого моста, несомненно, попадает в рай. Переход на противоположную сторону символизирует перемещение из бытия в инобытие: «<…> положена кладка через реку. <…> который негрешный человек, тот пройдет и уходит… Этот — в рай, в рай попадает»[3593]. Рай нередко представляется визионеру обнесенным оградой местом: кстати, такое восприятие соответствует одному из предполагаемых значений слова «рай», восходящего, по мнению некоторых ученых, к древнеиранскому pairidaeza[3594]. В изображении ограды, окружающей рай, заметна «золотая» символика: это, например, золотая решетка (вариант: решетка «как бы из золота»), горящая ослепительно, словно жар, с золотыми херувимчиками наверху. Ассоциация золота со светом, светлостью, огнем идет из языческой древности. Она имеет место не только в вербальном творчестве, но и в иконографии, архитектуре. Так, например, по словам Ипатьевской летописи, под 1175 г., церковь Рождества Богородицы в Боголюбове «удиви» «светлостью же не како зрети, зане вся церкви бяше золота (курсив мой. — Н. К.)»[3595]. Вместе с тем на языческие по своей природе представления о сакраментальной магической силе сокровищ и в данном случае наслоились христианские. Под влиянием нового вероучения с золотом стали ассоциироваться понятия о премудрости, об искуплении, о судах Господних и — как следствие — о воздаянии. Сама же стена осмысляется как «некая духовная конструкция», означающая тот окончательный предел, за которым начинается истинная, подлинная, настоящая жизнь, соотносимая с вечностью. Пришедший к такой стене обычно воспринимает ее извне, на пути «туда», и редко замечает ее изнутри, на пути «оттуда»[3596]. Метонимическим эквивалентом стены, знаком-символом огражденного пространства служат ворота (вариант: множество ворот). Они фигурируют даже тогда, когда сама ограда не изображается. Их материал, эстетические достоинства раскрывают сущность огражденной духовной сферы: «Ворота из хрусталя, красоты неописанной». Одновременно ворота — знак «замыкания» и «размыкания миров», знак коммуникации между бытием и инобытием. Их роль особенно усиливается в тех легендах, где река (огненная река) отсутствует и ворота оказываются единственной преградой на пути обмершего (или умершего), ведомого провожатым. У ворот проверяется правильность соблюдения предписанных в таком случае условий коммуникации, испытывается праведность оказавшейся на самых подступах к раю души. Осмысление этого важнейшего атрибута сакрального локуса сообразуется в легендах прямо или опосредованно с известным евангельским постулатом: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их» (Мф. 7.13, 14). Соответственно узок путь, ведущий в рай, и в легендах: «Попалась ему тропочка. Он по ей пошел. Пришел он к райским воротам (курсив мой. — Н. К.)»[3597]. Такой путь не только узок, но и долог: «Долго шли они; наконец увидели перед собою дверь (курсив мой. — Н. К.)»[3598]. На традиционной атрибутике потустороннего мира сказалось влияние христианских представлений, где дверь символизирует самого Христа: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Иоан. 10.9).
Рис. 60. Фрагмент иконы «Богоматерь Тихвинская». XVII в.
Границы рая, по свидетельству визионера, строго охраняются. У его ворот, на скамейке, сидит некий человек средних лет: русый, борода круглая, не очень большая (по одному из вариантов, рыжая), волосы до плеч. На нем длинная белая одежда. В руках связка ключей. В этом привратнике легко узнаваем апостол Петр, хотя обмершему его имя как бы неизвестно. Вербальное изображение вытекает из иконописного (по словам Иосифа Волоцкого, иконы — «книга для неграмотных») и само, в свою очередь, влияет на него, давая ему народное истолкование. Напомним, на иконах первоверховный апостол Петр изображен одетым в хитон, т. е. одежду наподобие длинной рубахи, и в гиматий — плащ из прямоугольного куска ткани. Здесь, как и в легендах, его непременным атрибутом служит связка ключей. В богословии она означает совокупность церковных Таинств, являющихся символическими ключами от Царства Небесного[3599]. «И дам тебе ключи от царства небесного» (Мф. 16.19), — говорит Христос апостолу Петру. По легендам, Петр всегда открывает ворота рая праведнику, удостоившемуся права при жизни увидеть загробный мир. Перед грешником же, даже если за него вознес молитву к небу святой, «вельми угодный Богу и им любимый», и ангел-хранитель, по этой молитве, уже успел принести его к воротам рая, Петр, не получив такого разрешения от самого Господа, все-таки не отпирает дверей в священную обитель. (Заметим, что подобное толкование образа райских врат соответствует апокрифическим памятникам Древней Руси: «Блажен вошедший во врата эти, ибо все виновные [в грехах] остаются вне [их], это же место — только для беззлобных и чистых сердцем»[3600].) Иная версия: ключи «от неба» находятся в руках Николая Чудотворца. Этим представлениям соответствует один из обычаев, зафиксированных на Руси в XVI в. Д. Флетчером: при похоронах в руки покойнику кладут письмо, адресованное св. Николаю — стражу врат Царствия Небесного[3601].

Рис. 61. Ключ от церкви. Заонежье
В других легендах роль привратников принадлежит ангелам: «Пришел он к райским воротам. Тут святые андели, у ворот караульшыки не пушшают иво: „Нет суды не входят в телесах“»[3602]. Этот фольклорный мотив сопоставим с апокрифической традицией. Например, в «Книге Еноха» рай охраняют «300 ангелов пресветлых»[3603]. Данная коллизия несколько напоминает библейскую, где у врат Эдема после изгнания Адама и Евы был поставлен на страже херувим с огненным мечом (Быт. 3. 24). Впрочем, в иных легендах в этой же роли могут оказаться и едва ли не сказочные, отнюдь не христианизированные персонажи — например, звери, которые «на разные голоса гавкали, мяукали». От подобных зооморфных привратников совсем уже недалеко до пса Цербера, охранявшего, по древнегреческим мифам, вход в Аид (Гесиод. Теогония. 769–774).
Овидий. Метаморфозы. 449, 450
Данте. Божественная комедия: Ад. VI. 13, 14
Рай-сад
Рай в русской и — шире — славянской традиции осмысляется как несказанное чудо, постигнуть которое невозможно обыденным сознанием: остается только «смотреть и удивляться». И все же эта неземная красота, очерченная в легендах скупыми, но характерными штрихами, выражена в земных категориях: «зелень, вода, красота и светло кругом». В легендах о странствиях души по загробному миру рай чаще представляется садом: «неизреченной красоты сад зеленый» виднеется сквозь красивую решетку со многими воротами. Такое восприятие сообразуется с данными древнерусского языка, где слово «рай» переводится в первую очередь как «сад». В греческом языке адекватен «раю» «парадиз», т. е. «сад». В древнееврейском оно означает «закрытый сад». Само же слово «рай», по мнению некоторых ученых, персидского происхождения и означает «сад». Моделью для формирования образа рая-сада в христианской культурной традиции послужил прежде всего образ библейского Эдемского сада, насажденного Богом для Адама: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека, которого создал» (Быт. 2. 8).
Рис. 62. В раю. Древнерусская миниатюра XVII в. (прорисовка)
Такое представление о рае имеет глубокие корни. Основываясь на материале духовных стихов, уже Г. П. Федотов заметил, что из двух символов рая в христианской культуре — сада и града — «народ предпочитает решительно первый, перенося на него свою „сублимированную“ любовь к матери-земле»[3604]. Иногда рай предстает в легендах как прекрасный луг или «добровидное» поле, где, однако, локализуется сад либо город. В таких случаях рай, сад, луг, поле оказываются взаимозаменимыми: «Вошли мы в рай. Это прекраснейший луг (курсив мой. — Н. К.)»[3605]; «Виде себе ведому двоими некоими световидными на некое поле зело добровидное и многи сады и древие имуща с плодом многа, и приведше ю на оное поле (курсив мой. — Н. К.)»[3606]. Представления о вечно зеленеющем рае сформировались еще у славян-язычников. Об этом свидетельствуют арабские авторы, поведавшие уже в первой половине X в. о бытовании у руссов верования в рай: туда попадают умершие по совершении погребального обряда посредством сожжения. И рай тогда также представлялся прекрасным и зеленым[3607]. В восточнославянской традиции обнаруживаются древнейшие, дохристианские пласты, когда рай еще не выделился достаточно отчетливо из общего трансцендентного пространства. Случается, что рай изображается в виде совокупности садов, соотнесенных друг с другом иерархически. В одной из украинских легенд из пяти садов состоит, по сути, весь загробный мир. Эти сады разнятся между собой по степени усиления или ослабления связанной с ними идеи воздаяния — вознаграждения либо возмездия, — обусловленной уже христианским вероучением. По аналогичным параметрам дифференцируются райские поля и «места» в русской нарративной рукописной традиции: по сравнению с первым полем, «весьма добровидным», другое поле и «место» красивее и лучше, зато третье «добро поле» и «ино место» уступают по своей красоте первому. Специфика каждой из взаимосвязанных «райских» сфер может быть обусловлена, в частности, их ориентацией на разные стороны света, имеющей знаковый характер. Так, восток соотносится с понятием «верх», с мифологическими представлениями о небе, о восходе солнца. В легендах здесь локализуется имеющая наивысшие ценностные характеристики сакральная сфера. В соответствии с бинарной оппозицией запад связан с понятием «низ». Сторона, где заходит солнце, осмысляется в народных верованиях как мир смерти. В фольклорной традиции эта семантика распространяется и на северо-запад, север. Юг же в качестве стороны тепла воплощает в себе доброе начало. В христианизированной топографии загробного мира, основанной на нравственно-этических началах, восток — место блаженства праведников, запад — локус мучений грешников (обозначение других направлений имеет эпизодический характер). В свете всего сказанного можно утверждать, что совмещение разных в ценностном отношении локусов, каждый из которых в анализируемой легенде одинаково называется «садом», восходит к дохристианскому неразличению ада и рая. Райский сад — это сад вечно зеленеющий, цветущий, плодоносящий. Зелень деревьев здесь дополняется сочной зеленью трав, цветущие деревья — диковинными цветами, каких на земле не бывает. «Цветочная» символика пронизывает все находящееся в этом сакральном пространстве. Если визионеру на его пути в загробном мире попадается «хороший домик», то он «весь в цветочках», если же покойная мать — то опять-таки она «вся в цветочках». Образ плодоносящего сада, локализованного в раю, наиболее часто встречается в рукописной нарративной традиции. «Многи сады и древие имуща с плодом многа» являют собой неземное обилие, которое даруется самим Богом и не требует человеческих усилий. Райскую флору в таких случаях определяют виноградные лозы, кипарисовые и финиковые деревья, образ которых в русском нарративе сформировался несомненно под влиянием апокрифов, где они символизируют благодать, исходящую от христианского учения, и святость. Впрочем, в устных легендах райский сад, по сути, ничем не отличается от самого обычного, но обильного плодами сада. В одной из украинских легенд крестьянин Ефрем Бабенко, который, «замирая» в течение пяти дней, побывал в раю, описывает увиденный там сад в земных категориях: «А тоди повив мене (старец. — Н. К.) в сад, та такый же гарный, та богато-богато всего, та й каже: „Ось, дывысь, чоловиче, яке добро все тут“!»[3608]. Однако вполне реальные атрибуты сакрального мира символизируют здесь некие сверхъестественные сущности. В этой боговдохновенной картине даже скромные «ягодные кусточки» осмысляются как «райские кущи». Разумеется, образ прекрасного зеленого сада, цветущего и плодоносящего — иногда золотыми и серебряными либо молодильными плодами (яблоками), — восходит к фольклорной, прежде всего сказочной, традиции. Например, в одной из волшебных сказок, также связанной с путешествием в загробный мир, к зеленому саду, обнесенному золотой решеткой, приносит волной героиню. Сюда она попадает, севши в лодку, неизвестно откуда взявшуюся. Однако с христианизацией народной культуры в изображении не просто сада, но рая-сада все более заметным становится влияние апокрифических и агиографических памятников Древней Руси, повествующих о хождениях в рай. «Видел я все деревья благоцветные, плоды их, зрелые и благоухающие <…>. И нет дерева бесплодного. Всякое дерево имеет хорошие плоды, и все [эти] места благословенны»[3609], — сообщает Енох, который якобы своими глазами видел премудрое, непостижимое и неизменное Царство Божие. Это место обитания небожителей и праведников. Подобные представления сообразуются с библейскими: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» (Быт. 2. 9).

Рис. 63. Райские птицы. Древнерусская миниатюра XVII в. (прорисовка)
Античным аналогом таким садам в известном смысле служит сад Гесперид, который локализуется на крайнем Западе или на краю земли, на противоположном берегу реки Океан. Он изобилует золотыми яблоками, дарующими вечную молодость, а тем самым — бессмертие. В изображении рая, данном и в византийской, и в русской нарративной традиции, есть реминисценции подобных представлений. Так, например, согласно «Проложному житию» (помещено под «11 сентября»), Ефросину удалось вынести из рая три целебных яблока. Соответственно и в русской легенде именно яблоко дает обмершей находящийся на «том свете» свекор, когда она прилетела в Ерусалим-город, стоящий вечно на небесах[3610]. В другой легенде плоды раздавала хорошенькая маленькая девочка, которая подошла к обмершей и пообещала дать ей хорошее, самое любимое яблоко, а через два года — еще такое же[3611]. Яблоки предназначаются не только для тех, кто должен после обмирания вернуться к жизни, но и тем, кто, с точки зрения обыденного сознания, уже мертв навсегда. Как повествуется в легенде, в некоем прекрасном месте, уготованном для праведников, стоит стол, а на нем не то стеклянное, не то хрустальное блюдо, полное всяких яблок[3612]. Охарактеризовать его в определенных материальных категориях невозможно, поскольку это не просто блюдо, а некое средоточие жизни и судьбы. По иной версии, яблоки висят в раю прямо над столом, «сильно снаряженным и уставленным <…> пищами»[3613]. Именно яблоками играют в райском саду крещеные дети. Как следует из болгарской легенды, на Петров день в загробном мире св. Петр и Павел раздают красные яблоки умершим («ведут нас на красные яблоки»). Данные плоды, предназначенные для умерших и обмерших, в качестве эквивалента семени символизируют жизнь и бессмертие. (Разумеется, тот, кто, нарушив запрет, отведал яблок до второго Спаса, лишается такой возможности навсегда.) Сообразуясь с византийской традицией, принесшей на Русь христианские представления о рае, русская и — шире — славянская легенда оказалась в типологическом родстве с античной мифологией, не утратив при этом своей древнейшей, еще дохристианской основы.

Рис. 64. Райская птица. Древнерусская миниатюра XVII в. (прорисовка)
Как следует из легенд, сущность рая-сада постигается визионером посредством всех органов чувств. Это нечто приятное не только для глаза, но и для слуха, вкуса и даже обоняния. В картине рая-сада есть зрительный и звуковой коды: «Там сады зеленеют, пташки поют. Поют все молитвы!»[3614]. Озвученная картина рая явственно вырисовывается даже в легендарной сказке. В особой комнате, куда Господь привел своего гостя — купеческого сына, цветут разные цветы и пташечки сидятрайские, песенки поют херувимские. В этом хоре не всегда ясно, кто из крылатых персонажей — птицы, ангелы или херувимы — поют в райском саду. Несомненно одно: это песни ангельские, херувимские, сладкогласные, богохвальные, прославленные. Такими эпитетами описывается райское пение и в духовных стихах:

Рис. 65. Райский остров. Фреска «Чудо о злате». XVII в. Москва. (прорисовка)
В ценностной характеристике рая подчас используются и данные, полученные посредством осязания, и прежде всего вкусовых ощущений. «Хороший, смачный» коржик, который там предложили визионеру, не убывает: сколько его ни ешь, он остается целым, уподобляясь «неразменному» рублю, неубывающему полотну в мифологических рассказах, чудесному предмету типа скатерти-самобранки в волшебной сказке либо неубывающему хлебу в апокрифе «Хождение Агапия в рай». Христианизация народной культуры вносила в традиционные образы и атрибуты тот или иной символический смысл, обусловленный новым вероучением. В этом свете и чудесные плоды, вызревающие в райском саду, истолковываются как плоды, которые приносит истинная вера и приобретенный духовный опыт. Не случайно в византийской легенде, вошедшей в состав «Повести о житии и деяниях Филарета Милостивого», визионер, сообщая о растущих в раю деревьях, о вьющихся вокруг них виноградных лозах, покрытых тяжелыми гроздьями, и финиковых пальмах, заключает, что в райском саду есть все, что «украшает людскую трапезу». В этом пречудном цветущем саду, по его свидетельству, стояли мужчины, женщины и дети в белых ризах и вкушали плоды от тех деревьев и кустарников[3618]. Иногда рай-сад, определяемый прежде всего в пространственных категориях, отождествляется с золотым веком, имеющим в первую очередь временны´е параметры. Реминисценции подобных представлений обнаруживаются в славянской фольклорной традиции. Так, в одной из болгарских легенд «наставник», который родился еще при золотом веке, ведет обмершую в тот изначальный идеальный век, чтобы показать, сколь счастливо жили люди в его время. Открывшееся ей там пространство, оказавшееся в ином темпоральном измерении, по сути, не отличалось от рая: те же сады, зелень, чудные цветы, тропинка вдоль реки, яркий свет и светлые высокие люди в белых одеяниях[3619]. Архетип подобного континуума сформировался задолго до христианства. Уже Гесиод (около 700 г. до н. э.) — первый исторически достоверно установленный европейский (греческий) поэт, переводя представления о сакральном локусе из пространственной плоскости во временну´ю, сообщает о золотом веке, начавшемся после сотворения человека. Одним из характерных признаков золотого века, как и рая или «далекой земли» легенд, служит обилие плодов, произрастающих в самых разнообразных видах и избавляющих человеческий род от забот, труда и печалей. Неотъемлемым атрибутом картины рая-сада в легендах является и источник (озеро, река). И все же в данных произведениях, в отличие от апокрифов и даже от библейских сказаний об Эдеме, этот топос выделяется здесь редко, да и то преимущественно в рукописной нарративной традиции: «В раю увидела родник. Около него человек в белой одежде, весь седой, красивый: борода длинная, седая, клином. Кому даст из родника пить, а кому нет. Я также подошла, но мне он сказал: „Сейчас тебе нельзя. Через три года будет можно, но помни — первый глоток будет горек, второй тоже, и третий глоток также будет весьма горек“»[3620]. Этот образ сопоставим с райским источником, который видят во сне монахи, пустившиеся на поиски рая («Житие Макария Римского»), либо лицезрел уже в самом раю Агапий («Хождение Агапия в рай»). В «Житии Макария Римского» это источник бессмертия, казалось бы, подобный сказочному топосу. Однако в апокрифе он уже христианизирован: этот источник вытекает из-под алтаря локализованной в раю ледяной церкви. В библейском сказании об Эдеме аналогом ему в какой-то мере служит река, разделяющаяся за его пределами на четыре реки, две из которых, Тигр и Евфрат, соотносятся с реальными и две, Фисон и Тихон, или Теон, до сих пор составляют предмет самых разноречивых догадок и предположений. Если источник символизирует незамутненную веру и вечную жизнь[3621], для достижения которых душе предстоит выдержать много трудов и испытаний, то проточная вода — символ благодати: «И будет он (блажен муж. — Н. К.) как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1. 3). Совершенно очевидно, что образ рая-сада, представленный в легенде, как и ряд других христианизированных образов, — синтез фольклорной, преимущественно сказочной, традиции, апокрифических памятников, святоотеческой книжности и библейских сказаний. При этом нельзя сбрасывать со счетов и взаимное влияние друг на друга вербальной и иконописной традиций. Впрочем, для славянина за райскую вполне могла б сойти и земная красота. Так, в украинских легендах о святом Николае Чудотворце и святом Петре рай изображается в виде березовой рощицы, по которой течет чистый, светлый поток. А вокруг зелень шелковых трав, разноцветье цветов, деревья со спелыми плодами. Отовсюду разносится благоухание. Слышится пение соловьев и других птиц. У воды прекрасные дети в белых, как снег, одеждах поют так сладко, что и выразить невозможно[3622]. В подобных легендах запредельный мир отличается от реального лишь состоянием блаженства души, недоступным человеку в неправедном и несправедливом земном бытии.
Рай-город (селение)
Другим символом рая, причем не столько в устной, сколько в рукописно-книжной и иконографической традициях, является город (град): «И виде ту другое поле, краснейше перваго и лучше, и на том поле град зело пречуден и велик (курсив мой. — Н. К.)»[3623]. Аналогичный образ встречается и в русской агиографической литературе. Чудесный город, расположенный на «преславном и прекрасном» месте, изобилующем всеми немыслимыми благами, видел в состоянии обмирания некто по имени Даниил — благоговейный муж, украшенный многими добродетелями и имевший страх Божий. Этот город, по его словам, был построен из чистого золота и драгоценных камней, а в нем «крылатые мужи» воспевали приятные песнопения. И было там так радостно и весело, что и сам визионер вошел в ту великую радость[3624]. Отличительным признаком рая-города в «Видении девицы Пелагеи» служит стена, «чрезвычайно высокая, и в ней столь благолепныя врата, что каждого человека приведут в изумление от происходящего над ними сияния». Блистающим сиянием изображается и «муж», охраняющий те врата[3625].
Рис. 66. Монастырь в саду. Фрагмент иконы «Богоматерь Тихвинская». Прорисовка
Образ рая-города полисемантичен. Он соответствует связанной с этим локусом языковой стихии. В древнерусском языке слово «град» имело значения: ограда, ограждение; укрепленное поселение; город; сад, огород[3626]. Рай-город в легендах наделяется всеми этими качествами с превалированием одного из них в каждой конкретной реализации данного образа. В результате четкой дифференциации между раем-садом и раем-городом в традиции не существует: те и другие признаки могут совмещаться в образе рая. Истоки представлений о рае-городе обнаруживаются прежде всего в фольклорной традиции. Как отмечает В. Я. Пропп, в виде большого города, окруженного семью стенами, с громадным дворцом, где живет царица мертвых, изображают загробное царство народы, развившие высокую древнюю культуру, например, ассирийцы[3627]. Подобные представления, сформировавшиеся еще задолго до христианства, получили свое преломление и в русской волшебной сказке. Таков, например, «Подсолнешной город», «стена и крепость» которого составляет «12 сажен кверьху»[3628].Таков и город с запертыми воротами, обнесенный вокруг стенами: «на них струны проведены, на струнах колоколы повешаны», в самом «городу <…> горят свещы»[3629]. Основываясь на фольклорной почве, изображение рая-города в легенде не могло не испытать на себе влияния уже христианских представлений. Моделью для создания подобной картины, по мнению С. С. Аверинцева, послужило новозаветное описание Небесного Иерусалима[3630], проявившееся впоследствии и в русской книжно-рукописной традиции: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба <…>. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов <…>. Стена его построена из ясписа, и город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. <…> А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин» (Апок. 21. 2,12,18, 21). Вместе с тем нельзя не учитывать, что представления о городе как пристанище покинувших земной мир душ обнаруживаются уже в античной мифологии:
Овидий. Метаморфозы. IV. 437–442
Овидий. Метаморфозы. IV. 443

Рис. 67. Портал церкви архангела Гавриила. Г. Кириллов, Вологодская обл.
В некоторых легендах земному раю уподобляется не только монастырь или церковь, но и святые места, пу´стыни: оказавшись в Царстве Божием, визионер «по святым местам, в пустыне был, в церкви, старцев видал»[3632]. В райской церкви («а красоты церковной и описать нельзя»), как и в китежских запредельных храмах, идет обедня. Священнослужитель изображен «в таком блестящем облачении, что и сказать нельзя». Не поддается описанию ни цвет ризы (не то черная, не то синяя: синий цвет — знак сияния), ни ее материал (шелковая либо какая иная). На груди таинственного священнослужителя прекраснейший крест, излучающий удивительное сияние. Выразить увиденное словами невозможно: оно непостижимо человеческим сознанием. Выясняется, что службу в раю правит сам Господь, Отец Небесный[3633]. В этом сакральном локусе постоянно свершается чудо Преображения, явленное на земле лишь единожды в виде вечного света и Отчего сияния, воплощенных в свете Божеского естества на горе Фавор. Вместе с тем рассматриваемый сакральный локус, в котором могут быть совмещены признаки рая и загробного мира, имеет тенденцию к ступенчатому сужению: город (селение) — дом (дворец, «хоромина», «обитель») — комната («полата», «покой») — стол. В одной из легенд женщина в сонном видении попадает в какой-то дворец, где находится много умерших, затем направляется в комнату, где у каждого свой стол[3634]. Такое же сужение запредельного локуса наблюдается в легендарной сказке «Как купцов сын у Господа в гостях был», где в Царстве Божием, представленном как селение, есть некая прекрасная комната, в которой накрыт стол с невиданными, никогда не убывающими яствами, что служит символом воздаяния за праведность. В легенде об умершей Федо´ре, которую навестил на «том свете» святой Григорий преподобный, рай также изображается в виде некоего селения, сужаясь до комнаты: «А Федо´ра тут недалеко в раю живет — в камла´тке. С ей женчины ишо две»[3635]. Основные отсеки и атрибуты жилища эквивалентны самому дому: «Изофункционализм отдельных элементов дома детерминирует семантические отношения между ними особого рода, при которых горница и светлица, стол и лавка предстают как синонимы, т. е. каждый из них является центром своего, концентрически замкнутого в другом, круга и имеет общее значение центра дома как места покойного и самых важных событий обряда»[3636]. Сказанное справедливо и в отношении запредельного дома. Образ жилища, локализованного в раю, имеет свою символику. В легенде, основанной на мотиве воздаяния, в «изобке», где по своей кончине поселился отец обмершей женщины, «светло-светло»: он был «добрая душа», оттого у него и светло. По одному из рукописных нарративов, в «хорошем домике», который «весь в цветочках», поселились по своей кончине сестры Прасковия и Зиновия Ивановны, поскольку они были добродетельны[3637]. В другом рукописном нарративе обмершая увидела «негде тамо храмину зело красну и всю аки бе позлащенну», где жила ее покойная мать, в то время как саму обмершую туда и близко не подпустили[3638]. Подобные дома, по легендам, заранее предуготовляются на «том свете» для праведников. Иной раз и визионеру, которому еще суждено вернуться на землю, показывают его загробное жилище: «„Пойдем, покажу тебе твою обитель, где ты будиш одыхать после смерти до Страшного Суда“. И увела (Царица Небесная. — Н. К.) меня во вторую прекрасную комнату, убранную так, что я не помню себя…»[3639]. Иногда такие дома не только предуготовляются, но и населяются теми, кому они предназначены, еще при их жизни. В таком случае визионер видит праведника на «том свете», а вернувшись «оттуда», рассказывает святому об уготованном ему «там» месте (см. «Житие Александра Свирского»). Подобное жилище — одно из проявлений воздаяния. Так, особая «храмина» («покой») станет загробным обиталищем некоего отца, поскольку он многие души «ко Христу привел и о спасении их попеклся»[3640]. Однако стоит благочестивому человеку нарушить праведный образ жизни, как это сразу же скажется на целостности постройки, созидаемой для него в ином мире: «И ей (жене. — Н. К.) построен был дом, но по пиремени ея жизни перменился. Ах, что с нею будет по смерти?!»[3641]. Такая «хоромина» может остаться до конца не достроенной: стены есть, а дверей нет; если же двери есть, то нет крыльца и ступеней. Из-за отсутствия этих конструктивных деталей затрудняется и беспрепятственное вхождение умершего в предуготовленное для него посмертное жилище. У здания, символизирующего загробную участь его будущего обитателя, могут оказаться и другие недоделки: у хороших добротных домиков, построенных «хозяйственным манером», нет надежных крепких крыш — и потому их жильцы не будут защищены от ненастья. Отсутствие тех или иных конструктивных элементов в идеальной модели дома может быть восполнено путем преодоления и устранения тех предпосылок, которыми данная кризисная ситуация обусловлена. Так, в «Видении некоей старухи» покойная мать говорит своей обмершей дочери, посетившей ее на «том свете»: если дочь примет святое крещение и сохранит его в чистоте, без всякой греховной скверны, то «храмине», для нее предуготовленной, будут «добрым житием вданы» ступени: их в настоящий момент у постройки нет[3642]. Однако образ дома, в котором недостает определенных, прежде всего регламентирующих вход, элементов, заключает в себе и чисто языческую символику: такое жилище эквивалентно гробу. Дом с окошечками (одним или тремя), воспринимаемый в сне-гадании как загробное пристанище умершего (погибшего), — устойчивый символ в быличках и бывальщинах о покойниках[3643]. Этими же представлениями пронизаны пословицы и поговорки: «Дом строй, а домовину ладь!»; «Дома нет, а домовище будет!»; «И бездомник не без домовища»[3644] и т. д. О тождестве осмысления дома и гроба свидетельствуют, помимо данных языка, похоронные причитания и духовные стихи, где дом, домовина, домовище, хоромина, колода, гроб употребляются в качестве синонимов:
Место обитания праведников
В некоторых легендах рай напрямую не соотносится ни с садом, ни с городом (селением). Он характеризуется лишь как некое «красивое место» или «всякие прекрасные места». По свидетельству визионера, «там красиво, хорошо», «это такая красота…» и т. п.
Рис. 68. Явление Богоматери и Николы пономарю Юрышу. XVIII в. Каргополье. Прорисовка
«Царствием красоты» назвал Царство Небесное в своем «Похвальном слове преподобному Сергию» (Радонежскому) Епифаний Премудрый (?—1420). Заметим, что само слово «красота» происходит от лексемы «красный», что, помимо всего прочего, означало не только красивый, прекрасный, но и дарующий радость, благодатный, светлый (в этом смысле понятия «свет» и «красота» сходятся в легендах воедино). Красота рая, мыслившаяся как «неизреченная» и неописуемая, редко подвергалась вербализации, а если и подвергалась, то представлялась по аналогии с земной красотой, «только возведенной в более высокую степень совершенства». В качестве прекрасной эта сфера небесных чинов, Царства Небесного доставляла человеку духовное наслаждение. Как справедливо отмечает В. В. Бычков, осмысление прекрасного в категориях духовного вообще было характерно для эстетического сознания Древней Руси[3648]. Соответственно, красота рая, манифестируемая в легендах, символизирует святость, благочестие обитающих там праведников, равно как и весь комплекс духовных ценностей, связанных с этим сакральным локусом. Помимо красоты, созданной Божьей благодатью, рай наделяется в легендах и необычайными световыми знаками-символами: он часто называется светлым, пресветлым. В этом сакральном локусе много света, яркого света: «Сколько там свету: если пятьдесят солнцев будут светить, и то так светло не будет»[3649]. Это описание рая имеет сходство с его изображением в апокрифических памятниках Древней Руси: райский свет «в семь раз этого света светлее»[3650]. Как следует из рассказов, приписываемых Моиславу-новгородцу и сыну его Иакову (на них ссылается в своем Послании новгородский архиепископ Василий), это даже не свет, а некая самосветящаяся и многообразно светящаяся субстанция, сопоставимая разве что с Фаворским светом — «нетварным сиянием божественной энергии, превосходящим всякий ум и всякое чувство, но доступным восприятию даже чувственным зрением при помощи божественной благодати»[3651]. Без этой благодати на такой свет человеку ни смотреть, ни рассказать о нем невозможно. Уходя корнями в дохристианские представления, образ света трансформируется в легендах: теперь это знак-символ торжества веры Христовой и светлости воскресения. В устной, равно как и в рукописно-книжной традиции, проявились христианские воззрения, в соответствии с которыми одних только человеческих чувств недостаточно, чтобы увидеть и постичь во всей полноте неизреченную красоту и неизглаголанный свет рая. Не в состоянии это сделать и само Священное Писание: «<…> не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2. 9). Однако и это лаконичное загадочное описание рая восходит, как выясняется, к ветхозаветному изречению пророка Исайи, непосредственно с раем не связанному: «<…> от века не слыхали, не внимали умом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него» (Ис. 64. 4). Интерпретация Церковью рая как некой непостижимой обыденным сознанием тайны обусловила известный лаконизм его изображения в фольклорной, апокрифической, агиографической традициях. Обходя рай, визионер видит праведников со светлыми и радостными лицами, высоких, красивых, в белых одеждах. Смысл обозначившейся здесь «световой» символики раскрывается в рукописном нарративе: «Смотри на народ здешней, кои просвещены святым крещением, каковы суть светлы лицем (курсив мой. — Н. К.) и честны»[3652]. Здесь после смерти поселяются те, кто при жизни был добродетелен. Среди них обмершая видела, например, старца Пафнотия (одного из первых выговских жителей) «зело светла» и «сияюща преизмечтанно». Соответственно степени своей праведности умершие, по легендам, могут поселяться в различных отсеках рая. Здесь, так сказать, имеет место блаженство «по сортам». Например, в восточной стороне рая живут ангелы и архангелы, на «полуденной» — младенцы до семилетнего возраста, на «закатной» стороне — взрослые. Впрочем, крещеные младенцы, умершие вскоре после рождения и не попробовавшие соски, по устным легендам, могут помещаться там же, где и ангелы. Вариант обнаруживается в рукописном нарративе: обмершая, странствующая по раю, видит «внучка своего малаго, четырех лет суща, его же крестиша в немощи и тако умре, и того ради вданы быша ему крыле белы (курсив мой. — Н. К.)»[3653]. Младенцы же некрещеные, а значит, и безымянные, хотя и живут в раю, слепы: они не просветились светом святого крещения. В устных легендах, не столь христианизированных, существуют и иные варианты иерархии праведников, определяемой, к примеру, принадлежностью умерших к той или иной возрастной группе: «А народ как войско идет по порядку: большие всех взади, впереде´ — молоденькие, а с имя анделы — их забавляют»[3654]. Тот же принцип дифференциации сохраняется и в украинской легенде: в цветущем саду находятся маленькие дети, в другом таком же саду — парни и девушки, в третьем, не столь уж богатом растительностью, — молодые женщины и мужчины, в четвертом — старики и старухи. Близкий аналог обнаруживается в белорусской легенде, где души дифференцируются по размерам, соответствующим опять-таки возрасту умерших: среди них есть вяликие, середние, с локоть высотой и «как комары»[3655]. В некоторых легендах есть признаки социальной дифференциации насельников рая или, во всяком случае, загробного мира. Своими корнями они уходят в дохристианские верования и обряды, связанные с погребением и поминками. Отголоски наиболее ранней формы дифференциации умерших по-своему интерпретированы в философско-сатирическом диалоге Лукиана «Любитель лжи»: души возлежат в Аиде по племенам и фратриям в обществе друзей и родственников. Каждая из таких групп обитателей рая и — шире — загробного мира недоступна для душ, по той или иной причине к ней не принадлежащих. Так, некая жена, которая «еще не согласилася со староверцами», будучи на «том свете», не смогла «примешаться во един полк с ними», получив от данного сообщества решительный отказ[3656]. Несмотря на то, что по христианскому учению насельники загробного мира — бестелесные сущности, не нуждающиеся ни в чем материальном, тем не менее их инобытие рисуется в легендах и духовных стихах в материально-чувственных параметрах. Не исключено, что таковые в какой-то мере служат выражением духовных категорий. Однако плохое освоение абстрактной христианской духовности обыденным крестьянским сознанием побуждало носителей данной нарративной традиции перевести ее в план конкретно-чувственной реальности. В подобном изображении рая проявились и пережитки прежних языческих представлений об ином мире. Вспомним хотя бы древний ритуал похорон русса, о котором сообщил арабский писатель Ибн-Фадлан. В соответствии с этим ритуалом, сжигая наряду с женами и слугами предназначавшиеся покойному вещи, его обеспечивали всем необходимым для жизни после смерти. Помимо пищи: хлеба, мяса, лука, крепкого напитка, плодов, — усопшего снабжали оружием, лошадьми, быками, даже петухом и курицей[3657]. Вместе с тем потребность в пище со стороны насельников рая обусловлена и семантикой поминального обряда. Между обрядовым кормлением мертвых, совершаемым на земле, и принятием угощения усопшими, пребывающими в загробном мире, как следует из легенд, существует причинно-следственная связь, которой обеспечивается сопричастность друг другу обоих миров. Эта пища, так или иначе соотносимая с зерном, служит метафорой поминальных блюд: «<…> а в раю-то сидят да ядут. <…> А по етым по сторонам по всим сидят — пряники, печенье, кутья, вот все лепешки. И усе ядут»[3658]. Представления о связи состояния душ за гробом с поминальной обрядностью поддерживаются апокрифической традицией: просвещается, насыщается и радуется та душа, по которой живые отслужили молебен, поставили свечу, а также приготовили просвиру, кутью в память усопшего и, конечно же, подали милостыню[3659]. Наличие пищи у обитателей рая служит и выражением идеи загробного воздаяния. У того, кто не скупится на пожертвования в храм, кто подает милостыню нищим, всегда на столе много хлеба, опять-таки осмысляемого в контексте поминальной обрядности. Выражением идеи воздаяния служит и наличие у праведников одежды. Согласно «Видению иеросхимонаха Нижегородского Печерского монастыря Мардария. 1845 г.», попав в небесную церковь, названный старец встречает там одного своего знакомого одетым в кафтан, которым этот праведник при жизни наделил нищего, коим оказался сам Христос[3660]. Подобная атрибутика рая аналогично интерпретируется в духовных стихах. Удовлетворение потребности праведников в пище и одежде как непременных составляющих материально-чувственного наслаждения приравнивается здесь в известной мере к вечному райскому блаженству, что, по сути, противоречит христианскому учению и служит пережитком языческих представлений об инобытии:

Рис. 69. Райская птица. Роспись на коробе. Г. Городец, Поволжье
По некоторым легендам, в раю сохраняется имущественная дифференциация умерших, хотя она и облачена в форму все того же поминального ритуала. Локализованный в загробном мире стол, на котором лежит много хлеба, означает, что умер богач — и поминки в его честь были обильными; другой стол, на котором виднеется не так уж много хлеба, — свидетельство того, что «так себе человек помер», — и поминки справлены соответственно среднему достатку; третий же стол, на котором визионер заметил лишь множество отдельных кусков, принадлежит, как выяснилось, бедным старцам: при жизни они, отнимая кусок от себя, делились насущным хлебом с другими[3662]. Совершенно очевидно, что идея имущественного неравенства в некоторых случаях подменяется идеей загробного воздаяния, обусловленной похоронно-поминальными обрядами. Однако наиболее приемлемым для выражения данной идеи оказался образ, сформировавшийся в рамках сказочной традиции: это пища, состоящая из множества невиданных яств и не убывающая, сколько бы ее ни ели. Подобный образ был христианизирован уже в «Житии Василия Нового» (X в.), где неубывающая пища предназначена святым, вошедшим в рай. В таких случаях духовное райское блаженство передается посредством изображения материально-чувственного наслаждения. По народным представлениям, в раю возможна встреча новоприбывших, в том числе и обмерших, с ранее ушедшими в иной мир родственниками и знакомыми: «И она (Антонина. — Н. К.) побачила там (на небесах, в Ерусалим-городе. — Н. К.) девочку свою, она двенадцати годов померла <…>. Побачила свекра»[3663]. Или: «Я, — говорит, — на том свете был, папаню своего видел, маманю»[3664]. В одной из полесских легенд обмершая видит всех троих своих покойных мужей. В русском рукописном нарративе даже грешница была допущена в состоянии обмирания в рай, и только потому, что там получил свое вечное пристанище ее брат. Как повествуется в этой легенде, при появлении обмершей вместе с проводниками у врат рая «муж, блистающ сиянием», спросил их: «Для чего сюда привели сию грешницу?» А получив ответ, он промолвил: «За все то (т. е. за грехи. — Н. К.) ей здесь не надлежит, но толко можно пропустить для ея родственников (курсив мой. — Н. К.)». Однако перед вошедшей в порядке исключения во врата рая несли распущенную сетку как знак изолированности грешницы от этого пресветлого царства. Тем не менее обмершей удалось повидать своего брата — и они обрадовались друг другу. И брат, идя за сестрой в молчании, ступал по ее следам, «чтоб можно было бы въпредь придти на ето место»[3665], т. е. стараясь приобщить душу грешницы к душам праведных. Встреча обмершей с родственниками происходит не только в раю, но и в качественно нерасчлененном загробном мире, что является реминисценцией языческого восприятия инобытия: «Родственников своих умерших там встречала…»[3666]. Эта неразрывная связь поколений живых с жившими в давние и не столь давние времена особенно выразительно передана в украинской легенде: «Видел всех на том свете — деды и прадеды, вся родина»[3667]. В древнейших сказаниях Вед такой «родине» соответствует весь «свой исход». Подобные представления формировались при поддержке апокрифической традиции. Согласно одному их таких памятников, на вопрос Иоанна Богослова, заданный самому Господу, знают ли друг друга на «том свете» души умерших, вопрошаемый отвечал утвердительно: они знают там друг друга так же, как и мы на земле[3668]. В русских народных легендах праведные души, находящиеся в раю, либо просто души, пребывающие в нерасчлененном загробном мире, общаются между собой: они навещают друг друга, сидят на скамеечках, ходят по дорожкам. Их жизнь является продолжением земной.

Рис. 70. Св. Иоанн Евагелист и Прохор. Фрагмент древнерусской миниатюры. Новгород, 1495 г. Прорисовка
Родственные связи, которые, по легендам, поддерживаются в ином мире умершими, целиком и полностью спроецированы на земные отношения и чувства. Нередко они христианизированы. Так, будут «видитца» лишь «тыи» муж и жена, «которы повенчавши в церквы», а остальных же друг другу «не покажут». Нового родства здесь не возникает и возникнуть не может, если только данная фольклорная коллизия развивается в соответствии с известным евангельским постулатом. Когда у Христа спросили, кому будет женой по воскресении женщина, бывшая поочередно супругой у семи братьев, Иисус сказал в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж; но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Матф. 22. 29, 30). Блаженство праведников в мире вечных сущностей и подлинного бытия характеризуется приближенностью к Богу, единением с Ним. Отчасти оно распространяется и на тех, кто лишь на краткое время оказался в этом сакральном локусе. В одном из нарративов обмершую по окончании обедни, прошедшей в райском храме, манит к себе Царь Небесный: «„Господи, Отец Небесный! Недостойна я к Тебе подойти, как я к Тебе подойду?“ — „Не бойся, — сказал он мне. — Много у вас на земле последних, которые для меня лучше других. Ты меня всегда вспоминаешь, и вот Я увидел твои страдания, твои слезы и захотел утешить тебя“»[3669]. Слова Царя Небесного, обращенные к обмершей, являются реминисценцией евангельского изречения: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Матф. 19.30). Соответствует евангельским постулатам и осмысление рая как Царства Божиего, манифестируемое в легендах с минимумом его конкретных характеристик. Вспомним эпизод, когда раскаявшийся разбойник обратился к распятому Христу: «<…> помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое!» — и услышал в ответ: «<…> истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23. 42, 43). Однако при анализе легенд нельзя недооценивать и влияния на фольклорную традицию произведений историко-библейского апокрифического характера, по которым Господь, как выясняют исследователи, не пребывает в раю, а спускается туда с небес[3670]. Особенно это касается тех случаев, когда рай не локализуется на небе. Вместе с тем на фоне картин рая нередко выделяются — и особенно в рукописной нарративной традиции — ветхозаветные и новозаветные персонажи, разнообразные фигуры святых, очерченные несколькими штрихами и подчас объединенные в некоей жанровой сцене, относящейся к райской жизни: «Пошли дальше, стоят три святителя Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. И отец Сава к ним подошел, как вроде что-то советовать»[3671]. Речь идет о трех популярных в Византии, а впоследствии и на Руси церковных деятелях, живших в IV в.: о Василии Великом — епископе г. Кесарии (Малая Азия), Григории Богослове — епископе г. Назианза (Малая Азия), Иоанне Златоусте — епископе г. Константинополя. Возможность увидеть раннехристианских святителей, открывшаяся перед обмершей, обусловлена отсутствием пространственных и временных границ в этом сакральном локусе. В представлениях о Царстве Божием как в легендах, так и в самом Священном Писании есть некая табуированная недосказанность, неизреченная и сокровенная тайна. И тем не менее потребность в достижении совершенной праведности и вечной правды базируется на доктрине обожения человечества, выработанной Новым Заветом: «<…> мы теперь дети Божии: но еще не открылось, что´ будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3.2). В этом свете неудивительно, что само слово «рай» сконцентрировало в себе множество понятий, которые рассредоточены в родственных словах, принадлежащих различным языкам индоевропейской семьи. Имея множественную этимологию, слово «рай» и родственные ему лексемы обозначают богатство, сокровище, счастье, дар, владение и др[3672]. Нет необходимости разъяснять, что в системе христианского вероучения категориями, группирующимися вокруг понятия «рай», стали пользоваться для выражения исключительно духовных ценностей. Образ рая в русских и — шире — восточнославянских легендах — результат сближения двух взаимонаправленных процессов. С одной стороны, фольклорная традиция, уходящая своими корнями в язычество, оказалась в известной мере востребованной для выражения постулатов христианского вероучения в привычных для обыденного сознания категориях. С другой стороны, христианская традиция, накладываясь на дохристианскую, адаптировалась к общенародному культурному фонду. И тем не менее картина рая пронизана идеей посмертного воздаяния, которая славянину-язычнику была, по сути, неведома. В легендах и духовных стихах, по меткому суждению Ф. И. Буслаева, «наши предки нашли примирение просвещенной христианской мысли с народным поэтическим творчеством»[3673].
Посещение ада
Единство и дифференциация локусов загробного мира
Дифференциация загробного мира на рай и ад в русской, как и в других славянских фольклорных традициях, не отличается устойчивостью. Да и сама загробная топография, по общему мнению исследователей, крайне запутанна. И все же в воззрениях крестьян рай и ад чаще осмысляются как пространства, характер соотношения которых определяется бинарными оппозициями: такие локусы в большей или меньшей степени удалены друг от друга, хотя полностью не исключается и их соседство. Вместе с тем расположение рая и ада обусловлено общей картиной мироздания. При горизонтальном его строении оба полюса локализуются на противоположных берегах реки, разделяющей загробное царство, либо по разным сторонам «елани — чистого места», правой или левой, наконец, они могут быть сориентированы на разные стороны света. В соответствии же с представлениями о вертикальномстроении мира, преимущественно трехчастном, или трехъярусном, рай расположен вверху, на небе, где живет сам Бог с ангелами и святыми. Среднюю часть мироздания — землю — населяют люди. Под землей же локализуется ад, где обретаются черти и грешники. «Рай на небе, а ад в земле. Потому и называют „тот свет“ темным, а „этот“ белым», — утверждают рассказчики[3674]. Помимо изложенных, в русской фольклорно-этнографической традиции просматривается еще одна точка зрения: и рай, и ад помещены на «белом свете», но не на небе, не на земле, т. е. в некой отделенной и изолированной от мира части пространства, в ином его измерении. Преобладающая тенденция поляризации обоих локусов, достигаемая теми или иными средствами, соответствует культивируемой христианством бинарной оппозиции: вознаграждение за праведную жизнь — наказание за грехи.
Рис. 71. С. Заозерье. Прионежье
Однако при изучении вопроса о локализации рая и ада нельзя сбрасывать со счетов и дохристианских представлений о загробном мире, которые, в частности, проявились в изображении его как достаточно однородного пространства. И лишь новые формы, сосуществуя со старыми, вносят в эту картину свои коррективы. В тех легендах, в которых продолжена идущая из глубин язычества традиция, обитатели трансцендентного мира дифференцируются не столько по степени праведности или греховности, сколько по иным категориям: например, по возрасту, по половой принадлежности, по социальному статусу и пр. Каждая из этих категорий душ занимает пространство, качественно однородное. Приведем пример. В одной из украинских легенд, сохранивших архаические черты нерасчлененного на рай и ад загробного мира, «тот свет» представляется в виде пяти садов. И визионер вместе со своим проводником побывал в каждом из них. В первом саду, который был весь в цвету, он увидел маленьких детей, играющих яблоками и бубликами (эквивалент хлеба, что служит символом жизни). Во втором, и тоже цветущем, саду «парубки и дивчата» сидели и пели песни. Третий сад не отличался особым обилием растительности. Здесь не было и такого благоухания цветов и пения райских птиц, как в первых двух. На траве, мирно беседуя, сидели молодые женатые мужчины и замужние женщины. В четвертом саду по правую сторону расположились старики и курили трубки — от дыму здесь едва можно было продохнуть. По левую сидели старухи и плевали по сторонам, так что все вокруг них было оплевано. Подходя к пятому саду (и это опять-таки сад!), визионер еще издали почувствовал жар и запах смолы. Приблизившись, он увидел голых людей, ворочавших руками комья горящей смолы. Там тайнозрителю опалило ноги — и он поспешил оттуда удалиться[3675]. Дифференциация по возрасту, отчасти и полу в условиях христианизации народной культуры, судя по рассматриваемой легенде, в какой-то мере перекрывается разграничением обитателей иного мира в зависимости от степени праведности и греховности, что превращает, казалось бы, однородные пространства в места блаженства (первый и второй сады) и в места мучений (четвертый и пятый) при наличии промежуточного локуса (третий сад). В последнем помещены души, пребывающие в состоянии между праведностью и греховностью. Загробное пространство, которое изначально осмыслялось как нерасчленимое, под влиянием христианской доктрины о загробном воздаянии со временем постепенно дифференцировалось. Концепт изначальной нерасчлененности загробного мира, по мнению специалистов, оставляет свои следы и в языке: «Архаическое (дохристианское) неразличение ада и рая отразилось в таких старославянских и древнерусских терминах, как порода „рай“ и род, родство, рожьство „преисподняя“ (см.: Срезневский. II. Стлб. 1208–1209; Срезневский. III. Стлб. 138–140, 143–144, 146). <…> Представляется совершенно очевидным, что названия рая и ада были восприняты на славянской почве как производные от корня род, выступавшего, надо думать, как общее обозначение царства мертвых (обители предков)», — утверждает Б. А. Успенский[3676]. К аналогичному выводу приходят и церковные исследователи. «Идеи ада в представлениях предка-язычника не находим. Ад с его муками мог явиться у предка только тогда, когда у него могла составиться известная сумма нравственных убеждений, когда он резко мог различать порок от добродетели, следствием чего должна была бы явиться идея возмездия за дурные дела, но этой идеи у предка-язычника мы не замечаем. <…> Язычник злых и порочных поселял там же, где и добродетельных», — пишет священник А. Н. Соболев[3677]. Идея неразличения «светлого места» и «темного места» с элементами некоторого их разграничения сформировалась еще в античности. По древнегреческим мифам, в темных безднах Эреба — царства мертвых, вечно погруженного во мрак, обитают души разных усопших: молодых дев, малоопытных юношей, сраженных в битвах мужей, убеленных сединами старцев (Гомер. Одиссея. XI. 36–41). Иначе говоря, в Аиде (само это слово означает «невидимый»), или в Эребе, находятся души всех умерших, без различий по возрасту, полу, роду смерти и даже в данном случае по социальному статусу. С другой стороны, в этой же поэме избранные герои попадают после смерти в некую островную страну блаженных — в Элизиум (Елисейские поля), где царит вечная весна и беспечально текут дни человеческой жизни (Гомер. Одиссея. IV. 563–568). В поэме же Гомера «Илиада» противопоставление осуществляется, скорее, по модели «верх-низ»: полярными друг другу оказываются Олимп и Тартар (VIII. 12–14), т. е. горно-небесное обиталище богов и мрачная бездна в глубине земли. Однако в поэме Вергилия «Энеида» разграничение царства мертвых обозначено довольно отчетливо: противоположными по своим ценностным характеристикам являются Элизиум и Тартар. Пути к ним, как выясняется, начинаются из одной точки:
Вергилий. Энеида. VI. 540–543

Рис. 72. «Восстал зверь из бездны». По миниатюре из собрания Ф. И. Буслаева (прорисовка)
Если рай ассоциируется с возделанным садом, то ад (правда, по понятным причинам это встречается крайне редко) — с лесом, невозделанной, неокультуренной природной стихией: «За рекой виден лес, покрытый каким-то огненным инеем. Там тоже мучаются грешники (курсив мой. — Н. К.)»[3680]. Или: «<…> и тут лес, мрак же и темнота, и смрад (курсив мой. — Н. К.) оттоле исхождаше»[3681]. Мало того, ад, подобно раю, может локализоваться и в поле. В одной из легенд уральских казаков адский «огромнеющий» костер из цельных дубовых бревен, который горит-пылает «ужасть как жарко», так что к нему за сто сажен не подойти, разложен среди открытого поля[3682]. Аналогична топография ада и в рукописной нарративной традиции: на поле, «зело великом и смердящом», визионер видит тех, кто скорбит и тужит, боясь Страшного Суда Божиего. В процессе дифференциации ада из общего загробного пространства в качестве его локализации используется и река (или иной водоем), с которой, как уже говорилось, обычно соотносятся понятия «граница», «преграда», «путь», «судьба», «испытание». В свете этих представлений главный ад, по свидетельству визионера, обнаруживается теперь под рекой. В одной из легенд ад изображается в виде омута: «Идем, говорит, по бе´рёгу, идем по бе´рёгу — омут такой страшимой!»[3683] Выясняется, что это место мучений пьяниц. Обытовленной метафорой такого водоема в русской легенде служит «грязь да жижа навозная» либо «така ямка большая», а в ней все шевелится. В отличие от людей, которые по земле ходят, грешники в аду «по воды плавают», «мыряют»: «И пригрезилось ей: заживо, бат, мыряют (ныряют). Люди вот ходят, живут, а на том свете они заживо мыряют»[3684]; «Некрещеные мучаются <…>, страдают, по воды все плавают»[3685]. В других случаях ад — это не просто водная, а огненноводная стихия. Например, ад изображается в виде большой реки, в которой, как в чугуне, кипит вода. Ей уподобляется и огненная река — преграда, в которую при переходе падают грешные души. В белорусской легенде грешники сидят по шею в озере, где вместо воды — смола. С одной стороны, подобный локус соответствует евангельскому: «<…> брошены в озеро огненное, горящее серою» (Апок. 19.20); «И смерть и ад повержены в озеро огненное» (Апок. 20.15). С другой стороны, данное изображение ада соотносится с апокрифической традицией, и, в частности, с «Видением апостола Павла», его русской редакцией: «И видел реку, пылающую огнем, и многое множество мужей и жен, погруженных в нее до колена, а другие — до пояса, другие же — до уст, а другие — до волос на главах»[3686]. Кроме того, ад, как повествуется в рукописной нарративной традиции, локализуется в «великой пропасти»: тайнозрителю удалось ее обнаружить в некоем поле. В этой пропасти были различимы печи, похожие на те, в которых обжигают кирпичи, и множество людей, опаленных «яко же главни»[3687]. Архетип подобного локуса в какой-то мере проявился уже в античной мифологии в образе сумрачного Тартара, лишенного, однако, идеи наказания (Гомер. Илиада. VIII. 13, 14). Со всей же атрибутикой адских мучений он сформировался в библейских сказаниях о преисподней. В редких случаях ад представляет собой огражденное пространство. Только на этот раз ограда оказывается железной. В средневековых западноевропейских «видениях», которые вобрала в себя поэма Данте, символом железной ограды служат железные ворота:
Данте. Божественная Комедия: Ад. VIII. 115

Рис. 73. Сошествие во ад. Древнерусская миниатюра XVI в. (прорисовка по Ф. И. Буслаеву)
Как и в античной традиции, где расположение Элизиума и Тартара определяется бинарной оппозицией «правый — левый», локализация ада по отношению к раю в русских нарративах обусловливается все той же закономерностью, которая может дублироваться дуальной моделью «белый — черный», «светлый — темный», связанной с символикой цвета: «Идет она (обмершая. — Н. К.): по правую руку женщины в белых халатах сидят, по левую — в черных. Душе говорят, что в черных — некрещеные, а в белых (курсив мой. — Н. К.) крещеные»[3691]. Бинарная оппозиция «правый — левый», определяющая топографию рая и ада, подчас подменяется дуальной моделью «одна сторона — другая сторона». Так, например, по словам рассказчиков, крещеные направляются в одну сторону, а некрещеные — «совсем в другую сторону»[3692]. Подобное разделение душ умерших, символизирующих расположение ада и рая, сохраняется и в духовных стихах:
Место мучений грешников
Ад, как и рай, в легендах о хождении по «тому свету» познается визионером посредством опыта, добытого чувственным путем. Этот визуально воспринимаемый локус озвучен: «Крик везде, шум, плачут, котлы со смолой кипят…»[3696]. Оттуда раздается страшный рев, вой, стон, «плач вельми ужасный», «скрежет зубовный». В подобных картинах обнаруживаются реминисценции евангельского описания места мучений: «там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13. 42; 22.13). Маркированное отрицательными знаками пространство узнаваемо и по запаху: из ада разносится чад, смрад, нестерпимая вонь. В описании места мучений грешников, познанного посредством обоняния, особенно преуспела рукописная нарративная традиция: вода, которая кипит в адской реке, такая вонючая, «как будто в ней лет десять подряд конопли мочили, и образовался гнилой кисель с таким отвратительным запахом»[3697]. Об аде у визионера складывается впечатление и под воздействием органов осязания. Приблизившись к аду, обмерший опаляет себе ноги, а сопровождающий его ангел — крылья. Каково же душам грешников, кипящим в смоле, свинце и олове! В основном по таким параметрам описывается ад и в духовных стихах:Овидий. Метаморфозы. IV. 643
Кара за преступления против стихии рода и плодородия
Насельники ада, группируясь по определенным категориям, помещаются в различных его «отсеках». В числе самых значительных разновидностей прегрешений, совершаемых в традиционном социуме, легенды называют преступления против стихии рода и плодородия во всех их многочисленных проявлениях, Г. П. Федотов, основываясь на анализе духовных стихов, усматривает в подобных случаях нарушение одного из трех основных моральных законов — закона родовой жизни, названного им теллургическим[3702]. Сюда, в частности, относятся магические действия («заломы», «закрутки», «завитки», «зажимы»), посредством которых ведуны вынимали из ржи «спорину», «спорынью», «спорость» — иначе говоря, то свойство, значение которого определяется прилагательным «спорый»[3703]. По свидетельству визионера, бабы, которые на «том свете» солому гнут, — это «колдуницы», делавшие при жизни «зажин». Такие же грешники фигурируют и в белорусских легендах: те женщины, которые на полях «заломы» или «завитки» (пучок скрученных или сломленных с целью наведения порчи колосьев) делали, оказавшись в ином мире, крутят солому. Эквивалентным магическим действием является выдаивание молока у чужих коров. Подобно тому, как пчела изнутри цветка извлекает мед, так колдунья вытягивает «спор» из жита, из молока и «из всего это». Иначе говоря, такие грешницы при жизни отнимали у людей некое средоточие обилия[3704]. Аналогичная коллизия обнаруживается в духовных стихах, где душа, расставшаяся с телом, признается в совершении этих же злодеяний:
Рис. 74. О девице, потаившей грех. Миниатюра из сборника повестей и притчей. Рукопись конца XIX в. Научная библиотека МГУ. Прорисовка
В религии рода, как отмечает Г. П. Федотов, имеет значение и «объективно-природная норма половой жизни»[3717]. За ее нарушение в виде блуда и кровосмешения грешников ожидает суровое возмездие. В легендах о посещении загробного мира визионер оказывается свидетелем страшных мук, претерпеваемых там виновными в названных преступлениях. Хотя это лишь души грешников, но они, повторяем, сохраняют за собой способность чувствовать физическую боль, не говоря уже о душевных страданиях. (Такие представления в известной мере соответствуют описанию души, данному преподобным Макарием Египетским: «душа имеет свое око, которым видит, ухо, которым слышит, язык, которым говорит, руки, все свое тело и все его члены…»)[3718]. У блудниц, которые «волочатся» за чужими мужиками, сосут груди, обвившись вокруг, две змеи. Или же им суждено здесь держать огненный столб: «„А тут, говорит, стоўб стоит огненной“. Ак она ей указала: „А это ште, мол?“ — говорит. — „А вот это, говорит, которые за цюжим-то мужовьям бегают, дак заставлеют тут держеть этот стоўб-от!“ Видишь, какой грех? Нельзя!»[3719]. Не менее устрашающей оказывается и следующая картина: «Котел со смолой кипит, в котле женщина сидит и говорит: „Ой, согрешила я, блудница, прелюбодейка и чародейка…“»[3720]. Наглядные формы выражения приобретает кара за прелюбодеяние и в апокрифической традиции. Обличенные в этом грехе, как повествуется в «Видении апостола Павла», после своей смерти пребывают до половины в великом и черном огне, поднимающемся из огненной же пропасти. И так будет продолжаться до Страшного Суда, но и на нем грешники вряд ли могут рассчитывать на спасение, о чем упоминается в рукописной нарративной традиции: «<…> блудники — с кем творили грех, тот тут с тем и связан <…> скорбят и тужат все, боящеся Страшного Суда Божия»[3721]. Но особенно тяжким грехом в народе считается духовное прелюбодеяние, понятие которого сформировалось под влиянием христианства. Заподозренный в таком грехе кум, находясь в аду, кипит в смоле, и только за то, что при жизни, по словам рассказчицы, «подбивался» к куме. Этот мотив соотносится с совершенно конкретной заповедью, данной Христом в его Нагорной Проповеди. Если в Ветхом Завете подобная заповедь сводилась к наказу «Не прелюбодействуй», то в формулировке Нового Завета она получила дальнейшее развитие: плохо, если человек даже просто смотрит на женщину с вожделением (Мф. 5. 27–30). В рассматриваемой же легенде за этот грех достается и куме: на «том свете» ее кладут на кумову кровать, стоящую «у самой смолы». Сверху на куму льют воду, снизу жгут солому. Далее ее ждет испытание: если женщина дотянется до кола, стоящего посередине кипящей смолы, и удержится, ухватившись за него, значит, она не виновна, в противном случае — грешна. Протянув руку, испытуемая схватилась за кол и — спаслась. Вернувшись «оттуда», кума сетовала, что пострадала, будучи невиновной, и показывала на пояснице ожог величиной с блюдце[3722]. И даже рассказ о наказании за блуд, который потерпевшая не совершала, не утрачивал своей назидательной силы. Он воспринимался как грозное предостережение нарушителям традиционных семейных, а в данном случае и церковных устоев. Такой рассказ осмыслялся в ряду типологически с ним сходных, где возмездие полностью соответствовало прегрешению. Подобные легенды, обосновывающие нравственный закон народа, созвучны духовным стихам, постулирующим эту же идею. Так, в стихе о Голубиной книге к числу самых страшных грешников относится тот, «кто блуд блудит с кумой крестовыя». В апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» кум и кума, согрешившие после участия в совершении обряда святого крещения, находятся после смерти в смоляной реке с огненными волнами. Данная коллизия, однако, нуждается в специальном разъяснении. Дело в том, что кум и кума, которые в качестве крестных родителей участвовали в обряде крещения новорожденного и приобщили его к Богу, вступали в отношения, определяемые Церковью как «духовное родство». В народной традиции такой статус исключал взаимные браки и внебрачные отношения: половые связи между кумом и кумой рассматривались как кровосмешение. С подобными представлениями связана, в частности, легенда, повествующая о том, как восприемники, возвращаясь после крещения, вступили в греховную связь друг с другом. Кара настигла незамедлительно: за нарушение запрета они провалились сквозь землю и на этом месте образовалось озеро, которое слывет в народе Кумовым. В свете традиционных представлений любое прелюбодеяние — грех. Прелюбодеяние же между крестными родителями, отношения между которыми, будучи освященными церковным обрядом, строились на совершенно иной, чем супружеская, религиозно-нравственной основе, считалось особо тяжким грехом[3723]. Степень данного прегрешения раскрывается в сопоставлении с другими преступлениями против Божиих заповедей, что особенно очевидно в духовных стихах:
Кара за прегрешения по отношению к ближнему
В судных местах визионер видит и людей, пренебрегших нравственно-этическими нормами, принятыми в данном социуме. В этой группе грешников Г. П. Федотов, основываясь на материалах духовных стихов, усматривает нарушителей каритативных заповедей, т. е. законов любви и милосердия[3737].
Рис. 75. Заварной чайник и масленка бондарной работы. Заонежье
Самой распространенной мотивацией кары, настигающей данную категорию грешников на «том свете», служит отказ в милостыне. Осуждение подобного проступка основывается на христианской заповеди, внедрившейся в обыденное сознание народа: «Просящему у тебя дай» (Мф. 5.42); «Продавайте имения ваши и давайте милостыню» (Лк. 12.33); «Давайте, и дастся вам <…> какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6. 38). Эти постулаты получили свое наглядное выражение в нарративной традиции. Так, в одной из легенд обмершая видит в загробном мире своего отца. Тот сидит за столом — и там «нет ничего накрыто». На удивленный вопрос дочери: «Господи, чево ето у моего отца ничево на свете нету?» — провожатый отвечает, что он жадный был — нищим не подавал. И та вспомнила: когда ходили «собирашки», причем «молодые, здоровые мужичуги», отец, бывало, ничего им не подавал или же отрезал корку хлеба, упрекая этих, с его точки зрения, «лодырников»: «Идите работайте»[3738]. А между тем и корка хлеба может сыграть решающую роль в посмертной участи человека, и это неудивительно: в ином мире, по христианским верованиям, засчитывается каждое прегрешение и каждое благодеяние. Как повествуется в западноевропейском «видении», богатый скупец предстал во сне перед судом Христа, и уже страшные «мавры» взвешивали его грехи, излагая их, на весах. Тогда некие мужи в сияющих одеждах, пытаясь помочь грешнику, положили на другую чашу кусок хлеба, некогда даже не поданный, а брошенный им просящему. И тем не менее этот хлеб уравновесил чашу весов. И богатый скупец был отпущен из загробного мира для покаяния. Вернувшись, он переродился и стал творить благодеяния[3739]. Напомним, что в русских легендах в виде нищего, имеющего внешне обманчивый облик неприглядности либо обыденности, часто ходит сам Христос. И потому, отказав нищему в милостыне, всегда есть опасность оскорбить самого Господа. К числу нарративов, связанных с обиходным кодексом религиозно-нравственных понятий и, в частности, с заповедью «просящему у тебя дай», относится легенда о грешной матери. Эта легенда известна во многих вариантах с приурочением к разным лицам Священного Писания уже в XI в. Подобный сюжет бытовал не только у славянских, но и у других народов, причем не только в виде легенд, но и сказок, духовных стихов, песен, колядок[3740]. Структура этой легенды довольно устойчива: 1) Скупая женщина грубо отказывает нищим в милостыне; лишь однажды по просьбе своего добродетельного сына она дает нищему (страннику, старцу), в облике которого появился сам Христос, лук, головку или стрелку (в некоторых этнокультурных традициях — веревку): «Женщина копала в огороде. Пришел старичок и попросил луковочку: „хоть маленьку подай“, говорит. Женщина отказывает, а ее сын — шестилетний мальчик пристал к ней: „подадим, мама!“ — „Ну, ишо луковицу захотел…“ — ворчит мать. Мальчик настойчиво просит. Не могла мать отвязаться, подала старичку луковицу»[3741]. 2) По своей кончине мать за скупость попадает в ад, тогда как ее добродетельный сын (в южнославянской и итальянской традициях это апостол Петр), естественно, — в рай. Вариант: купеческий сын, прибыв «в гости» к самому Господу, узнает там о посмертной участи, которая уготована его матери. В этом «заведеньи» он видел «превеличающий котел» с кипящей смолой, откуда «вымырнуло» лицо его матери[3742]. В обрисовке мучений этой грешной женщины обнаруживается влияние не только легенд или духовных стихов, но и апокрифа «Видение апостола Павла». 3) Сын просит Бога за мать, находящуюся в кипящей смоле, и получает разрешение попытаться вызволить ее из ада. Грешницу можно спасти лишь с помощью того предмета (чаще всего это луковица), который при жизни она дала нищему. Луковицу (варианты: стебель или стрелку лука) привязывают к нитке и спускают в ад. 4) Женщина хватается за луковицу. Однако другие грешные души цепляются за ее одежду и друг за друга, надеясь вместе выбраться из ада. Грешная мать, сохранившая и на «том свете» свой злой характер, с бранью отталкивает их ногами: «дескать, для меня луковка спушшена…». Луковица (стебель, стрелка лука) обрывается — и грешница еще глубже падает в бездну ада (пекла). Иногда такая попытка предпринимается трижды, но всякий раз она заканчивается безуспешно. Не составляет исключения и тот случай, когда купеческий сын, находясь в гостях у Бога, видит посмертную участь своей матери. Получив позволение у Господа выловить ее из кипящей смолы, сын «пымал» мать «за власы» и совсем было вытащил ее, но — волосы остались у него в руках, а грешница — опять в смолу. Когда, вернувшись с «того света», сын рассказал матери об увиденном там, женщина, скинув платок, «хватила, а у ней голова-то го´ла!»[3743]. Назидательный смысл подобных легенд сводится к постулату: тех, кто при жизни был скупым, ждут после смерти муки сообразно их грехам. Они могут быть наказаны не только огнем, но и холодом. По легенде, находясь в «темном домике», такой грешник стоит на льду босой и нагой[3744]. Это имеет свою мотивировку. В украинской легенде грешник, будучи на «том свете» объятым пламенем, дрожит от холода, потому что когда-то зимой, в стужу и пургу, не пустил на ночлег путника — и тот замерз под тыном[3745]. Аналогичный мотив есть в апокрифе «Видение апостола Павла»: мужчины и женщины с отрезанными руками и ногами стоят на снегу и льду нагими, и черви едят их. Такая мука выпала на их долю за то, что при жизни эти люди не проявили милосердия к сиротам, вдовицам, нищим. Как показано в рукописной нарративной традиции, уготовано возмездие и для грешников, обижавших бедных: у них щипцами отрывают тело, а когда оно заново нарастает, мука повторяется — и это продолжается до бесконечности[3746]. Устойчивость народных представлений о неотвратимости кары за нарушения нравственно-этических норм, и прежде всего каритативных заповедей, подтверждается и наличием аналогичных мотивов в духовных стихах, обличающих немилосердие к обездоленным:

Рис. 76. Кованый капкан («кляпицы»). Пудожье
В числе нарушителей нравственно-этических норм визионер видит в местах мучений и тех, кто при жизни был склонен к оговору, клевете, лжи, доносительству, злоязычию, кто не соблюдал заповеди любви к ближнему. И в легендах, и в духовных стихах, и в апокрифах особенно осуждается ненавистный народу грех клеветы, принимающий бытовые формы подслушивания и оговора:
Кара за нарушения ритуальных законов Церкви

Рис. 77. Церковь Благовещания. XVII в. С. Палтега, Вытегорье
Еще одну группу грешников составляют нарушители церковно-ритуальных законов (на материале духовных стихов эта категория также выделена Г. П. Федотовым). При рассмотрении легенд выясняется, что наказанию в первую очередь подвергаются не посещавшие богослужений. Так, например, пьяница, который «в церкву не ходил, лоб не крестил», обретается на «том свете» в «жиже навозной». Положение грешника в данном случае усугубляется еще и тем обстоятельством, что его сын не ставил за отца поминальной свечи. Не миновать вечных мук и вдове священника, которая перестала почитать воскресные и праздничные дни и начала устраивать пиры, произнося смехотворные шутки. Подобные легенды сопоставимы с картинами нарушений ритуального закона, изображенными в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам», где мужчины и женщины, которые в Святое Воскресенье не вставали к утрене, а спали, как мертвые, в загробном мире возлежат на огненных одрах. Однако прегрешения церковно-ритуального характера более детально описываются в духовных стихах. В числе тяжких грехов, помимо непосещения церковных служб, в этих произведениях упоминаются нарушения, связанные с исповедью, причастием, постами, христианскими праздниками:
Ни рай, ни ад
Помимо двух полярных локусов, где блаженствуют праведники и мучаются грешники, в топографии загробного мира, вопреки учению православной церкви, но в полном соответствии с народными легендами, выделяется еще некое промежуточное место, именуемое рассказчиками «ни рай — ни мука», или «между раем и мукой». Здесь обитают души наполовину праведные — наполовину грешные (по выражению А. Н. Веселовского, это «безразличные и обоюдные»): у каждой из них наберется и добрых, и злых дел поровну. Поэтому ни туда, ни сюда их поселить невозможно. И живут они «между раем и мукой» не то чтобы в большом удовольствии, но и не то чтобы в большой неволе. Сам же рассказчик, по его словам, был бы этим местом очень доволен да еще и предоволен[3772]. Аналогичный мотив обнаруживается и в рукописной традиции. Так, в «Сказании о дивном видении» девицы Маргариты дядюшка тайнозрительницы при жизни колебался «между заветами добра и зла», а потому после смерти обрел место не в раю и не в аду, а где-то посредине, на севере или юге[3773].
Рис. 78. Мотивы севернорусских вышивок
Данный мотив мог бы и вовсе показаться случайным, если б время от времени он не появлялся в иконописи. Так, в коллекции икон А. В. Морозова, хранящейся в собрании Третьяковской галереи, есть две иконы Страшного Суда новгородского письма XV и XVI в. На них, в частности, изображен пограничный столб, отделяющий райскую сторону загробного мира от адской. К столбу привязан человек. Надпись поясняет, что он при жизни творил дела милостивые, но вел жизнь неправедную. Возможно, он олицетворяет тот преобладающий в человечестве тип, которому одинаково чужда «и небесная глубина, и сатанинская бездна». И иконописцу не оставалось ничего другого, как поместить его посредине, в промежутке между душами, которые справа и слева от него направляются в предназначенные им сферы загробного мира[3774]. Он созерцает муки грешников, хотя сам избавлен от них. Он видит райские врата, но лишен райского блаженства. Характерно, что такой персонаж обнаруживается уже в «Житии Василия Нового», где перед Господним судом среди разных грешников и праведников предстают люди, пребывающие в среднем состоянии: это грешники, но в них заключена и частица благодати. Будучи по суду избавлены от вечных мук, они вместе с тем лишены и вечной жизни. По легендам, в локус «ни рай — ни мука» определяются, в частности, те, кто родился в нечестивой (иной либо дохристианской) вере. Например, это «милостивые татары», исповедующие «мухаметову» веру. По делам быть бы им в раю, да вера не та, а сослать в ад — жалко. Вот им и отведено место между полярными отсеками загробного мира[3775]. В особом месте, по некоторым легендам, оказываются и души умерших без крещения детей, не принятых ни в рай, ни в ад. Вопреки иным поверьям, в подобном же локусе могут находиться и души людей, не по своей воле лишившихся жизни и до конца не исчерпавших срока, отведенного им на земле[3776]. Однако удельный вес таких легенд в данном цикле невелик. Непризнание православной церковью наличия в загробном мире места «между раем и мукой», по-видимому, сыграло здесь свою ограничительную роль. Из сказанного следует, что в традиционном обществе каждое обыденное действие расценивалось в соответствии со шкалой христианских или христианизированных ценностей, определяющих позитивные либо негативные стереотипы поведения. В результате индивид включался во вселенскую историю человечества, имея возможность в перспективе навечно приобщиться к Богу либо навсегда лишиться его милости, заслужить воздаяние за добродетель либо принять возмездие за прегрешения. Народная христианская философия находила выражение в наглядно-чувственных картинах блаженства праведников и мук грешников. Повседневность крестьянского быта рассмотрена в легендах в свете христианского учения, которое постепенно постигалось через церковные проповеди, через ознакомление со Священным Писанием, святоотеческой, агиографической, апокрифической литературой, которая, в свою очередь, находилась в разных формах взаимодействия с фольклорной традицией и дохристианскими верованиями, предшествующими и сопутствующими христианству, переосмысляемыми или отрицаемыми новым учением. Весь этот материал получил в народной герменевтике поэтическое истолкование, не исключая в процессе его освоения и некоторой доли вульгаризации. Он был воспринят идущей из глубины веков и непрерывающейся устной традицией, в очередной раз проявившей удивительную способность к новой и на этот раз коренной адаптации.
От мытарств до Страшного Суда
Посмертные испытания души, или частный суд
Если душа человека при его жизни — арена постоянной борьбы между силами добра и зла, то таковой она остается и после его кончины. Причем любой вид человеческой деятельности оценивается с учетом этого противоборства и выступает в определенном нравственном освещении[3777]. В загробном мире испытание, обусловленное данной бинарной оппозицией, или дуальной моделью, начинается с мытарств, которые, по народным верованиям, новопреставленная душа проходит в течение сорока дней после физической смерти человека. Характерно, что и путешествие визионера по «тому свету» в известном смысле приравнивается к хождению по мытарствам, которым отчасти уподобляются различные отсеки трансцендентального мира: «Ты видела, что я тебе показал, — говорит провожатый обмершей, — так все опиши людям, потому что человеческие души проходят через эти мытарства (курсив мой. — Н. К.)»[3778]. Не случайно обмершая в данной легенде ходила по «тому свету» в течение сорока дней и видела, «яки дела важились на весах». И лишь на сороковой день она была отправлена обратно: «Тебе уже пора сходить». Если в русских легендах обмершая представлена лишь как сторонний наблюдатель мытарств, через которые проходили новопреставленные души, то в украинской легенде она, надо полагать, — их непосредственный участник. На ноги девушки, которая в состоянии обмирания побывала в загробном мире, родственники надели чулки, «щоб ноги не попекти по мытарству ходитиме (курсив мой. — Н. К.)»[3779]. Однако в большинстве устных легенд обмерший пока не подлежит суду, хотя бы и частному, поскольку ему еще предстоит вернуться к земному бытию.
Рис. 79. Суд Божий. Древнерусская миниатюра (по Ф. И. Буслаеву)
В легендах хождение по мытарствам может быть вполне заменено расспросами обмерших у тех, кто уже прошел через эти испытания и обрел вечный покой: «— „А каково тебе, Федо´ра, мытара´ства были?“ — „Сорок мытарств прошла, сорок ступенек, и на кажной ступени вражье кричат: „душа наша, душа наша!“ (Оне все пишут про нас, все худое, а добро анделы пишут… Оне все и кричат про грехи). Ох, святой Григорий, чужало проходить мытарства!.. <…> Прошла! Андели говорят: „Душа наша, она очищена“. Вот и прошла она в пресветлый рай“»[3780]. Мотив мытарств, причем претерпеваемых непосредственно самим визионером, органически вошел и в рукописную нарративную традицию, и в частности в «Повесть о душеполезном видении» Андрея Денисова Иконникова. 1785 г., где он достиг большого драматизма и экспрессии: «А потом наидоша на них (визионера и ангела-проводника. — Н. К.) множество ефиопов, которые крайне начали нападати и Андрея от отрока к себе хватати, кричаще, что „Сей наш есть!“ И показоваше тут все Андреевы дела греховныя, на хартиях написанныя толь выразительно, что, когда и в кий день и час какой и где грех содеях, даже до самых малейших грехов и от самых малых ево лет, аки бы от трех годов, каковых грехов многих он и не помнит. И наступали велми крепко, хотя похватати к себе Андрея». И лишь защита со стороны ангела спасла визионера от похищения его мытарями[3781]. Сходная коллизия развивается и в «Видении девицы Пелагеи»: священника Григория спас по его кончине, перенеся через мытарства, его святой отец, которого Григорий поминал всю жизнь. Неудивительно, что мотив мытарств обнаруживается и в апокрифах, например, в «Видении апостола Павла»: «И дошли они до властей [мира сего], и вышел навстречу ей грех забывчивости ее и сказал: „Куда идешь, о душа, и отваживаешься взойти на небеса? Помедли, чтобы мы посмотрели, нет ли ничего нашего в тебе“. <…> И все власти вышли навстречу ей и не обрели в ней ничего своего»[3782]. Как отмечают В. М. Хачатурян и В. В. Мильков, тема мытарств, которая известна только в византийско-русской традиции, восходит, очевидно, к популярному в Древней Руси византийскому книжному источнику — «Житию Василия Нового» (X в.)[3783]. В одной из частей этого жития как раз и дано подробное описание всех мытарств и порядка их следования друг за другом в воздушной бездне. Монах Григорий — ученик и последователь Василия Нового, желая знать, какая участь постигла за гробом Феодору, прислужницу Василия, удостоился, по молитве этого святого, узреть в духовном видении саму Феодору и услышать от нее рассказ о пройденных ею в течение сорока дней мытарствах[3784]. Не отголоском ли византийского сказания, сложившегося еще в X в., служит записанная в сибирской деревне уже в XX в. и приведенная нами выше устная легенда о некой Федо´ре, которая, также пройдя мытарства, поведала о них старцу — и опять же святому Григорию? Правда, по сравнению с византийским книжным источником данная коллизия в русской устной легенде в значительной степени обытовлена. Федора «пошто-то» не стала с мужем жить. Она пришла проситься к старичкам — святому Василию преподобному и святому Григорию преподобному (они вдвоем только жили). Будучи принятой, она помогала им по хозяйству. Прожив «там сколько годов», Федора умерла — и старцы ее похоронили. Вскоре затосковавший по покойной Григорий с помощью святого Василия навестил ее в раю, где и услышал рассказ о мытарствах. Понятие мытарства, с которым связан рассматриваемый фольклорный мотив, нуждается в некотором разъяснении. Мытарства — это некие сферы воздушной бездны (в легендах, однако, они могут быть переведены и в горизонтальную плоскость), осмысляемые как преграды — испытания на пути души, расставшейся с телом, к Божьему престолу. В каждом из них властвует свой демон. Будучи персонификацией того или иного человеческого греха, он норовит навсегда заполучить виновную в данном грехе душу. И у каждого из двадцати одного, если судить по «Житию Василия Нового», мытаря душе предстоит доказать свою непричастность к тому греху, которым ведает очередной демон. Византийский реестр мытарств корректируется в «Слове о небесных силах» (XII в.), сформировавшемся на русской почве под влиянием «Жития Василия Нового» и меняющем некоторые акценты в соответствии с менталитетом русского народа. Согласно этому памятнику, новопреставленная душа проходит через двадцать мытарств: «Первое мытарство — оболгания, второе — оклеветания, третье — зависти, четвертое — гнева, пятое — ярости с гневом, шестое — гордости, седьмое — срамословия и плясания, осьмое — резоимания и ограбления, девятое — тщеславия, десятое — златолюбия и сребролюбия, одиннадцатое — пьянства и запойства, двенадцатое — злопоминания, тринадцатое — чародейства и волхвования, четырнадцатое — объядения и ранняго ядения и пития, пятнадцатое — всякой ереси и веры в стречю, в чех, в полаз и в птичьи грай, ворожю, и еже басни бают и в гусли гудут <…>, шестнадцатое — прелюбодеяния, семнадцатое — убийства, осьмнадцатое — татьбы и всякого крадения, девятнадцатое — всяк блуд <…> и наконец двадцатое мытарство — скупости и немилосердия»[3785]. И все же ввиду чрезвычайной популярности на Руси «Жития Василия Нового» трудно определить, какой из двух памятников оказал большее влияние на формирование представлений о мытарствах в сознании русского человека. Тем более что в «Житии Василия Нового» борьба между злым демоном и ангелом-хранителем за человеческую душу изображается в ярких и запоминающихся картинах: когда ангелы заверяют демонов, что в сей душе нет им «ни части, ни жребия», те не без ехидства восклицают: «Ничего не найдете в ней!!. Эти грехи чии? Не она ли сделала это и это?!!»

Рис. 80. Ангел. Миниатюра XIV–XV в. (прорисовка)
Сами же демоны, по рассказу одной из обмиравших, «черные, глаза и рот, как из огня. Нос громадный, безобразный, на лице какие-то язвы, рога прямые, острые, как у коровы, копыта, как у лошади, хвост длинный, кудрявый. Вообще настолько безобразны, что и представить нельзя»[3786]. В споре между добрыми и злыми силами, как об этом упоминается и в русских легендах, и в средневековых западноевропейских «видениях», используются весы. В ход идут и книги, в которых ангелы записывают добрые дела человека, а демоны ведут учет человеческих грехов. В итоге, по легендам, Книгу жизни читает сам Господь, сидя за столиком, на котором горят свечи. В случае поражения лукавые духи приходят в недоумение, затем поднимают плачевные вопли и удаляются, лишенные своей жертвы. В противном же случае они увлекают грешников в ад, где держат до Страшного Суда. «Прикровенное» в Священном Писании, учение о мытарствах как частном посмертном суде вошло в жития святых: преподобного Антония Великого (под 17/30 января), преподобного Василия Нового (под 26 марта/8 апреля) и святого Иоанна Милостивого (под 12/25 ноября). Его признаки обнаруживаются и в апокрифах «Вопросы Иоанна Богослова Аврааму о праведных душах», «Видение апостола Павла». Это понятие встречается и в сочинениях св. Отцов и Учителей: Ефрема Сирина, Макария Великого, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского. Мало того, учение о мытарствах излагается и в некоторых церковных молитвах. Так, например, в каноне Ангелу Хранителю поется: «… буди ми защититель и поборник непоборим, егда прехожду мытарства (курсив мой. — Н. К.)…». (канон Анг. Хран., песн. 9 троп.). Причем прохождение мытарств осмысляется как борьба покровительствующих человеку и противостоящих ему сил: «Предстанут пред вами, с одной стороны, силы небесные, с другой — власть тьмы, злые миродержатели, воздушные мытареначальники, истязатели и обличители дел наших…» (Потребник. Приготовление к погребению). Мотив мытарств, осмысляемый как немедленный посмертный суд души, за которым следует индивидуальное загробное воздаяние, вошел и в традиционную иконографию Страшного Суда. По мнению специалистов, он повлек здесь некоторые изменения, поскольку в византийской иконографии этот мотив был лишь отчасти намечен[3787]. (Заметим, что одним из древнейших изображений частного суда считается лубочная картина, написанная Авраамием Смоленским, умершим в 1221 г.[3788]) И, наконец, неизбежность частного суда, т. е. «малой эсхатологии», наступающей сразу по кончине каждого конкретного индивида, хотя и в «прикровенной» форме, обоснована, по сути, уже в Св. Писании, в Послании апостола Павла: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евр. 9. 27). Как повествуется в легендах, душа, прошедшая все мытарства, направляется в рай, не выдержавшая же испытания в одном из таких судилищ препровождается в ад. Однако, по некоторым легендам и духовным стихам, это еще не окончательный суд. Окончательный суд, т. е. «большая эсхатология», откладывается до завершения человеческой истории, когда на Страшном Суде, время которого сокрыто, предстанут, вновь обретя плоть, все люди, когда-либо жившие на земле. Реминисценции этого официального церковного учения обнаруживаются в легендах и житиях, равно как и в духовных стихах, где локусом временного пребывания душ оказывается не только рай или ад, но и некое «темное место», в котором им предстоит дожидаться окончательного суда. Не случайно, по одной из легенд, души нерожденных детей, напомним, хранятся до Второго пришествия Христа в ветхой избушке, на полках, завернутыми в тряпочки. Там они долей даются Судного дня, когда за ними придут матери. Некое промежуточное место пребывания душ упоминается и в духовных стихах:
На Страшном Суде Божием
По преданию, изложенному в Лаврентьевской летописи, именно изображение Страшного Суда, выполненное на «запоне» (полотне), явил князю Владимиру греческий проповедник: «И се рек, показа Володимеру запону, на ней же бе написано судище Господне»[3796]. При этом он объяснил, что вступивший в их веру воскреснет по своей кончине и затем уже не умрет вовеки, тогда как принявший другой закон будет на «том свете» гореть в огне. По-видимому, для князя Владимира это был веский довод в пользу принятия христианства — учения, обосновавшегодоктрину Страшного Суда. Как повествуется в легендах, тот, кто в состоянии обмирания попадает на краткий момент в загробный мир, успевает, случается, запечатлеть в своей памяти картины Страшного Суда: «Рассказывает, что на том свете видел. Прошел, говорит, и ад и рай. Видел этот самый Суд Страшный»[3797]. В «Видении Агнии» обмершая не просто сторонний наблюдатель происходящего, но и сама предстает перед Страшным Судом, имеющим вселенский характер и космические масштабы. Пребывая на «том свете», Агния глядит на восток, где отчетливо обозначились распятие и «суд уже готовый». Мертвые воскресли. Поскольку воскресают все когда-либо жившие люди, они «стоят на земле густо» и так же, как и обмершая, смотрят в ожидании суда на восток, который в мифологии ассоциируется с небом. И, действительно, посмотрев вверх, Агния увидала разверстое небо, где стоял «страшный престол» и сиял «великий свет». Сильно устрашившись, обмершая предстала перед Судией, моля его о прощении. Созданная вербальными средствами картина, на которой Судия сидел на руках матери «во образе отрочате», соответствует иконописному изображению Божией Матери с младенцем. Он никак не прощал Агнию. И лишь когда Богородица, всегда осмысляемая в легендах, апокрифах, житиях как извечная заступница за грешный человеческий род, сняв Сына с колен и посадив на престол, поклонилась ему, только тогда Бог простил обмершую[3798]. Не являясь в системе рассматриваемого цикла сюжетообразующим, мотив общего, вселенского суда, что наблюдается и в данном случае, сливается с мотивом частного, индивидуального суда.
Рис. 81. Мертвые встают из гробов. Фрагмент миниатюры из Лицевого Апокалипсиса XIX в. Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ. Прорисовка.
Мотив Страшного Суда развернут в самостоятельный сюжет лишь в духовных стихах, где он имеет множество вариантов. Судия, именуемый правым, праведным, страшным, грозным, вернется в мир в «последнее времене», означающее «лет наших кончину», светопреставление. Его приход в изображении духовных стихов сопровождается катаклизмами в универсуме — природном космосе и социуме: сотрясается земля, распадаются камни, солнце и месяц меркнут, погружаясь во тьму, звезды падают на землю, как листья с деревьев, угасают зори, небо сворачивается в свиток, огненная река пожирает на своем пути все живое. Сцена конца света, изображенная в духовных стихах, под стать апокалипсису: «<…> и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесныя пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Апок. 6. 12–14). Согласно духовным стихам, ангелы либо архангелы трубят в золотые небесные трубы. Глава небесного воинства Михаил Архангел, который в русском религиозном сознании может отождествляться с Христом либо выступать в роли посредника между Богом и людьми[3799], вострубит в первый раз — и души в телеса войдут, во второй — из гробов мертвые встанут. Разбуженные трубными звуками, усопшие поднимутся из могил. Картина возвращения души в тело наиболее детально разработана в похоронных причитаниях:

Рис. 82. Книга жизни. По мотивам древнерусских миниатюр (прорисовка)
На небе свершается мистерия явления Животворящего Креста. Будучи некогда орудием позорной казни, он теперь становится символом жизни и победы над грехом[3803]. Ангелы спускают с небес на землю престол Господень. Оттуда же «на светоносном на облаце» нисходит и сам Христос. В грозном величии он садится на престол своей славы, чтобы творить суд, названный в духовных стихах истинным, правым, праведным, справедливым, неложным, страшным, немилостивым, животворящим, что связано с понятиями «правда», «справедливость», «возмездие», «воскресение». [Характерно, что в других этнорелигиозных традициях Страшный Суд называется «вселенским судом» (лат.), «последним судом» (нем.), «судным днем» (англ.)[3804]. И только в сознании русского человека, быть может, оттого что оно лишено идеи чистилища, а следовательно, и возможности очиститься, даже находясь в загробном мире, такой суд осмысляется как страшный.] Перед Господом открываются книги — и все человеческие дела, добрые и злые, становятся явными. Образ книги жизни, обнаруживаемый и в легендах, и в духовных стихах, — это реминисценция евангельских сказаний об атрибуте Божьего суда: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля; и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими (курсив мой. — Н. К.)» (Апок. 20. 11–12). По словам певцов, Божественный Судия произносит свой приговор. Оборотясь к находящимся одесную (справа), он приглашает всех праведных «христолюбимых» в «пресветлое Царство Небесное», даруя им от лица самого Бога Саваофа вечную жизнь. Повернувшись же к стоящим ошуюю (слева), Господь говорит с грешниками, как утверждается в духовных стихах, «с грубостью, со яростью, со великою с нелюбовию». Грозные ангелы гонят окаянных, «яко скота несмысленного, яко скота бессловесного», в пропасти земные, где их ждут «прелютыя муки различныя»: огонь и пламя неугасимые, лютые черви неусыпаемые, смола неутолимая. Услышав приговор, грешники плачут, каются, но приносить покаяние теперь уже поздно. Господь обличает их в тяжких грехах, за которые предписывается кара и на частном посмертном суде. В некоторых вариантах духовного стиха о Страшном Суде за грешников вступается сама Богородица. Ради Матери Иисус готов помиловать грешников. Однако во искупление грехов человечества ей в таком случае предстоит пережить вторичное распятие Христа. Подобная цена прощения грешников для Матери неприемлема:

Рис. 83. Черт, держащий душу грешника. Рисунок в рукописи XVI в. (РНБ). Прорисовка
На формирование мотива Страшного Суда в легендах и духовных стихах повлияла и иконография, сама вобравшая в себя рефлексы вербального творчества. Наиболее известной из икон на этот сюжет считается новгородская икона (третья четверть XV в.) из морозовской коллекции, хранящаяся в собрании Третьяковской галереи. Верхний уровень иконы составляет изображение Спасителя в окружении двенадцати небесных тел. Справа от Господа расположен Небесный Иерусалим с чином праведников. Средний и нижний уровни этой иконы определяются изображением деисусного чина: Христа в овальной мандорле, перед которым предстоят Матерь Божия, Иоанн Креститель, а также двенадцать апостолов, окруженных ангелами. Там же, в центре иконы, помещен трон этимасии. Это символ Страшного Суда: «Когда же приидет Сын человеческий во славе своей <…>; тогда сядет на престоле славы своей» (Мф. 25.31). Возле трона находится ангел со свитком небес, другие же ангелы, трубя, будят мертвых для воскресения. Рядом чин праведников в ожидании воздаяния. Ниже изображены Адам и Ева: преклонив колени, они молятся за свое потомство. Еще ниже представлены рай и лоно Авраамово, которое, по мнению большинства исследователей, осмысляется как некое промежуточное место, где праведники дожидаются Страшного Суда. Здесь находится Матерь Божия, а также спасенные, среди них и благоразумный разбойник. По левую сторону от Господа четыре природные стихии, извергающие покойников для всеобщего суда. Здесь «огненная река выходила и проходила пред Ним» (Дан. 7. 10). Отсюда виднеются отсеки ада. В этом месте ангелы и демоны спешат предъявить списки добрых и злых дел умершего[3810]. Как и всякое другое произведение, в известной мере имеющее отношение к фольклору в широком смысле этого термина, данный иконописный сюжет бытует во множестве вариантов, с учетом которых его еще предстоит рассмотреть. Так, анализируя другой вариант данного изобразительного сюжета, связанного с судьбами мира и человечества, В. Сахаров раскрывает его смысл и истоки: «Из приведенного содержания картины Страшного Суда мы видим, что она обнимает собою все состояние человека и человечества в загробном мире, как по смерти (мытарства), так и на общем суде и после суда, даже больше этого: она, изображая царство Антихриста, захватывает и последние дни этого мира. Имея в основании Св. Писание, она <…> в миниатюре заключает в себе все существенное содержание эсхатологических сказаний»[3811]. Таким образом, легенды «визионерского» плана представляют собой сложный конгломерат различных вербальных стихий, соотнесенных с древнерусским иконописным искусством. Сообразуясь с предшествующей, еще дохристианской, устной традицией, эти легенды оказываются вовлеченными в сложные межжанровые взаимодействия, с одной стороны, с быличками, бывальщинами, поверьями, с другой стороны, с духовными стихами. Испытывая на себе прямо либо опосредованно влияние книжнорукописной и иконографической традиций, они в основных своих параметрах и интерпретации ориентируются на мотив, связанный с идеей Второго пришествия Христа и Страшного Суда. (Заметим, что и этот мотив основывается на пульсирующем в традиции архетипе. Вспомним, к примеру, о загробных судьях человеческих душ, каковыми в древнегреческой мифологии в той или иной мере оказались представленными Эак, Минос, Радамант.) Эсхатологическими настроениями пронизаны едва ли не все христианские легенды о потусторонних мирах, где речь идет о посещении «того света», об инобытии провалившихся городов, о достижении «далеких земель». Именно в этих легендах пульсирует вера, что после Второго пришествия Христа и Страшного Суда достойные навсегда обретут Царство Небесное. Тогда же воскреснут обитатели загробного мира, станут видимыми сокровенный Китеж и затерянное Беловодье. Однако радость блаженной вечности уготована лишь для праведных, порочные же, запятнанные нечистотою мира, обречены на вечную муку, телесную и душевную. Такая перспектива санкционируется евангельскими постулатами: «<…> наступит время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Иоанн. 5. 28, 29). Или: «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; И долготерпение Господа нашего почитайте спасением» (2 Петр. 3. 13–15). Осмысляя под влиянием христианского учения земную жизнь лишь как подготовку к вечной жизни, народ в легендах и духовных стихах формирует свой нравственный идеал. Изображая картины повседневного быта, которые этому идеалу противопоставлены, данные фольклорные произведения приобретают устрашающе-дидактический характер. В них утверждаются подлинные и отвергаются мнимые ценности человеческого бытия.

Заключение
Легенды о посещении «того света», о поисках провалившихся городов и «далеких земель», маркированные знаками-символами Китежа и Беловодья, впервые рассмотрены в данной работе как соотнесенные между собой циклы. Несмотря на то, что каждый из этих циклов имеет свою специфику, все они объединены общими структурно-архетипическими проявлениями, философско-мировоззренческими и религиозными установками. Адаптация этих легенд к текущей вербальной традиции в каждом конкретном случае осуществляется посредством всевозможных трансформаций, переосмыслений и модификаций. Она же происходит и с помощью локализации изображаемой коллизии в том или ином пространственно-временном континууме. Своими корнями исследованные нами «бродячие» сюжеты уходят в дохристианские представления, связанные с устройством мироздания и местом человека или его души в универсуме. В числе важнейших философско-антропологических проблем, осваиваемых мифологическим сознанием и нашедших выражение в соответствующих архетипах, оказываются вопросы о жизни и смерти, бытии и инобытии, а также о взаимосвязи, взаимовлиянии и взаимопроницаемости миров, достигаемых, по народным верованиям, посредством ритуальной практики. Мифосознанием решается и вопрос о роли божественных сил во вселенской истории человечества, отдельно взятого социума либо конкретного индивида. Структура рассматриваемых легенд обусловлена такими дуальными моделями, как жизнь — смерть, сакральное — профанное, религиозное — мирское, божественное — человеческое, вечное — бренное, праведное — греховное, правильная вера — ложная вера, старина — новизна и т. п. Преобладание той или иной части в подобных бинарных оппозициях предопределяет развитие сюжетной коллизии, связанной с состоянием универсума, социума, индивида, равно как и устойчивость мироздания либо вторжение в него сил хаоса. В структуре подобных произведений превалируют универсальные мифологемы: расставание души с телом, путь в потусторонний мир, преодоление границы-преграды, топография и устройство инобытия, возвращение оттуда, рассказ об увиденном в запредельном локусе и т. п. Связанные с этими представлениями архетипы сформировались в рамках мифов об островах мертвых, об островах блаженных, о далеких, чаще островных, землях, затерянных где-то во времени и пространстве, или же в мифах о золотом веке, который обычно помещается в прошлом, но может быть приурочен и к будущему. Архетипы, пульсирующие впоследствии в рассмотренных легендах, сложились и в традиции, повествующей о стране сказочного изобилия или о стране, где сосредоточено человеческое бессмертие, заключенное в чудесных плодах или источнике. Моделью для многих нарративов послужил и «миф о вечном возвращении» (М. Элиаде), где все утраченное заново обретается или восстанавливается, где репрезентируется акт первотворения. Легенды о сокровенных Китеже и Беловодье принадлежат в своей основе к нарративам, повествующим о потусторонних мирах, которые не ограничиваются загробным миром, в большей или меньшей степени выходя за его пределы. Во всех случаях потусторонний мир, само собой разумеется, расположен по другую сторону от границы, отделяющей его от «этого», земного мира, освоенного посредством эмпирического опыта. Имеется в виду некое изолированное пространство, невидимое для обыденного взора, недоступное для непосвященных и не соблюдающих правил коммуникаций, обусловленных определенным ритуалом. Это запредельное пространство одним покажется и подчас даже откроется, а для других так и останется невидимым и недосягаемым. Если локализация потустороннего мира основывается на горизонтальной стратификации, то его следует искать где-то на востоке, там, где восходит солнце (в иных легендах — на западе, где оно заходит), за линией горизонта. Место, где небо визуально стыкуется с землей, осмысляется мифосознанием как край света. В случае же превалирования космологических представлений, обусловленных плоскостно-вертикальной стратификацией (двух- или трехчастной), потусторонний мир помещается под землей, горами, водой либо располагается на небесах. Так или иначе от освоенного и познанного людьми пространства он отделен границей — рекой, озером, морем, океаном, «морем-океаном», лесом, горой, воздушной стихией. Преодолеть эту преграду дано не каждому и не всегда. Одновременно это и путь в запредельную сферу, и средство испытания вступившего на него. «Та сторона» определяется в особых темпоральных категориях. Если земное бытие измеряется в единицах времени, то в инобытии господствует вечность, не имеющая ни начала, ни конца. Люди на земле, по народным верованиям, живут в рамках цикличного времени. Попав же «туда», они, согласно некоторым легендам, могут оказаться, по земным меркам, в прошлом — золотом веке либо, наоборот, в будущем, не лишенном признаков совершенства, присущего «началу времен». В «этом» мире прошлое, настоящее и будущее достаточно дифференцированны. В потустороннем же они слиты в нерасчленимом единстве. Измерения одного и того же темпорального отрезка в обоих мирах также несопоставимы. Краткий миг, проведенный «там», на земле приравнивается к нескольким годам, а подчас и к целому столетию. И тем не менее, по народным представлениям, в иной мир можно не только попасть, но и вернуться оттуда, улучив момент «размыкания» миров, определяемого некими темпоральными, равно как и локальными параметрами. Одним словом, трансцендентный мир изображается в рассматриваемых легендах как особого рода пространственно-временной континуум, отличный от земного. Описание топографического пространства инобытия (провалившегося города, «далекой земли», как и загробного мира) в большей или меньшей степени основывается на моделях, выработанных еще в рамках дохристианского мировосприятия. Ирреальная топография не совпадает с реальной. И тем не менее в некоторых легендах потусторонний мир, не лишенный реалий крестьянского быта, удивительно похож на земной, хотя и осмысляется как непостижимо совершенный в тех случаях, когда, будучи уже христианизированным, он представлен в качестве места, уготованного Господом для праведников. В дошедших до нас легендах древнейший пласт зримо проступает сквозь толщу последующих наслоений и привнесений. В процессе многовекового бытования данных «бродячих» сюжетов архаические элементы подчас удержались в них лишь в рудиментах. Однако они не выглядят чужеродными в соседстве с более поздними элементами, посредством которых и оказалась возможной трансформация сюжета, обеспечивая его дальнейшую живучесть. В нашем случае эта модификация осуществилась под мощным воздействием нового, христианского учения, пришедшего на Русь и укоренившегося в ее культуре. Трансформации в рассматриваемых легендах происходили под влиянием церковных проповедей, святоотеческой литературы, агиографической и особенно апокрифической традиций, в доступной форме доносивших до сознания прихожан основные постулаты христианского учения, и прежде всего Св. Писания. Попадая на Русь из Византии через южнославянские земли и постепенно адаптируясь в новой этнокультурной среде, эти памятники книжно-рукописной традиции теми или иными путями привносили новый смысл в старые, бытовавшие на русской почве фольклорные сюжеты, в которых содержались ответы на вопросы о сущности души, о жизни после смерти, об устройстве мироздания и т. д. Подобные формы оказались пригодными для наполнения христианизированным содержанием, для изображения соответствующего христианской доктрине «случая», нередко приуроченного к конкретному лицу и атрибутированного локальными и темпоральными знаками-символами. Переосмысление старых сюжетов стимулировалось христианской идеей воздаяния — награды за добродетель и возмездия за прегрешения. Свою лепту в трансформацию традиционных сюжетов внесла и доктрина, связанная с представлениями о Втором пришествии Христа и Страшном Суде. Подобного рода структуры оказываются открытыми и для проникновения элементов не только религиозно-утопических, но и социально-утопических легенд. Однако в них так и не были окончательно стерты пласты, сформировавшиеся в условиях господства былых, дохристианских представлений. В легендах, как и в духовных стихах, «просвещенная христианская мысль» нашла возможность состыковаться с устным народным поэтическим творчеством. Впрочем, такое примирение обеих традиций не осталось для каждой из них без последствий, во всяком случае в рамках интересующих нас нарративов. С одной стороны, наши предки стали христианизировать прежние дохристианские представления о потусторонних мирах. С другой стороны, они же подчас «оязычивали» некоторые христианские понятия. Мало того, аллегорические образы, довольно часто используемые для выражения основных идей религии, попадая в легенды, нередко воспринимались буквально и переводились из абстрактных в разряд конкретно-чувственных картин, детали которых во многом сводились к реалиям повседневного крестьянского быта. Тем не менее легенды о загробном мире и сокровенных землях могут быть «прочитаны» лишь в широком культурологическом контексте, основу которого составляют переводные, освоенные на новой почве, и оригинальные памятники литературы Древней Руси, равно как и параллельно развивающаяся иконографическая традиция, соотносимая с вербальной. Из всего их обилия к данному исследованию привлечены именно те апокрифы, жития, сочинения Отцов Церкви, сюжеты иконописи, которые в том или ином аспекте сопоставимы с рассматриваемыми фольклорными произведениями. Обращение же к идущей из Византии книжно-рукописной традиции неизбежно приводило нас к экскурсам в античную культуру, в недрах которой в известной мере вызревали не только сугубо фольклорные сюжеты, но и воззрения, воспринятые христианством. Включение разностадиальных и качественно отличных друг от друга элементов, дохристианских и христианских, в рамки единого сюжета или же наслоение более позднего пласта на предшествующие регулируется, с одной стороны, возможностями архетипа, задействованного в данном сюжете, к приспособлению в изменившихся условиях. С другой — способностью порожденных новыми верованиями элементов занять места в старых «ячейках» традиционной структуры нарратива. И то и другое обеспечивается непреложными законами преемственности, присущими фольклорной традиции как феномену народной культуры, в формировании которого участвуют многие поколения его носителей. Различного же рода реалии, включенные в структуру «бродячего» сюжета, символизируют его связь с определенной исторической эпохой и с конкретной местностью, где этот сюжет в очередной раз оказался востребованным.
Примечания
1
См.: Северные предания (Беломорско-Обонежский регион) / Изд. подгот. Н. А. Криничная. Л., 191; Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987; она же. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. Л., 1988; она же. Легенды. Предания. Бывальщины. М.,1989; она же. Указатель типов, мотивов и основных элементов преданий. Петрозаводск, 1990; она же. Предания Русского Севера. СПб., 1991. (обратно)2
Криничная Н. А. Персонажи преданий. С. 54–55. (обратно)3
Толстой Н. И., Толстая С. М. Ответы на анкету по проблемам реконструкции древней славянской духовной культуры// Сов. этнография. 1984. № 4. С. 78. (обратно)4
Криничная Н. А. Концепция происхождения человека: По данным мифологии, фольклора и ранних философско-медицинских учений // Фольклористика Карелии. 1989. С. 4–21. (обратно)5
Криничная Н. А. Персонажи преданий. С. 31, 32, 35, 43, 52, 60, 64, 65, 67, 74–76, 82, 118, 123, 151 и др. (обратно)6
Там же. С. 35–43. См. также: Криничная Н. А. Мотив реинкарнации в преданиях народов уральской языковой семьи// Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. М., 1989. Т. 1. С. 337–339. (обратно)7
Gennep A., van. The rites of passage. London, 1961. (обратно)8
Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. (обратно)9
См.: Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983. (обратно)10
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 5. (обратно)11
Там же. С. 6. (обратно)12
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд. М., 1986. Т. 2. С. 473. (обратно)13
Сахаров И. П. Сказания русского народа. М., 1836–1839. Т. 1–3; Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1837–1839. Вып. 1–4; Терещенко А. В. Быт русского народа. СПб., 1848. Т. 1–7. (обратно)14
Даль В. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1880 (переизд. 1994). (обратно)15
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1865–1869. Т. 1–3 (репринт, 1994). (обратно)16
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. (обратно)17
Народные русские сказки/ Изд. А. Н. Афанасьев. М., 1855–1863. Вып. 1–8. (Это собрание неоднократно переиздавалось, но уже в трех томах); Сб. великорусских сказок архива Русского географического общества/ Изд. А. М. Смирнов. Пг., 1917. Вып. 1–2; Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губернии): Сб. Н. Е. Ончукова. СПб., 1908; Сказки и песни Белозерского края / Зап. Б. и Ю. Соколовы. М., 1915. (обратно)18
Сказки и песни Белозерского края. С. XXXIX–XLV, LVIII–LX. (обратно)19
Северные сказки. С. XXI. (обратно)20
Померанцева Э. В. Жанровые особенности русских быличек// История, культура, фольклор и этнография славянских народов: VI Международный съезд славистов. М., 1968. С. 279. (обратно)21
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 29. Имеется в виду монография С. А. Токарева «Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX века». М., 1957. (обратно)22
Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов / Пер. с нем. Н. А. Прушинской; отв. ред. Н. А. Криничная. Петрозаводск, 1991. Ср. Криничная Н. А. Указатель типов, мотивов и основных элементов преданий. (обратно)23
Зиновьев В. П. Указатель сюжетов сибирских быличек и бывальщин// Локальные особенности русского фольклора Сибири. Новосибирск, 1985. С. 62–76. (обратно)24
Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995; Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. М., 2000; Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1991; Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян: Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994 и др. (обратно)25
Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974; они же. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период). М., 1965; Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. (обратно)26
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефименко. Ч. 1: Описание внешнего и внутреннего быта// Изв. Имп. об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 30: Труды этнографического отдела. М., 1877. Кн. 5. С. 25. Материалы, собранные П. С. Ефименко в середине прошлого века, дополнены и скорректированы нашими полевыми наблюдениями на Русском Севере. (обратно)27
Красовский М. Курс истории русской архитектуры: Деревянное зодчество. Пг., 1916. Ч. 1. С. 17. (обратно)28
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 25–26. (обратно)29
Повесть временных лет/ Подгот. текста Д. С. Лихачева. М.; Л., 1950. Ч. 1.С. 12. (обратно)30
Юст Ю. Баня, лечение и обычаи/ Русский быт по воспоминаниям современников: XVIII в. М., 1914.4.1. С. 86. (обратно)31
Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого/ Россию поднял на дыбы. М., 1987. Т. 2. С. 605–606. (обратно)32
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 52. (обратно)33
Легенды. Предания. Бывальщины / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и примеч. Н. А. Криничной. М., 1989. С. 212. (обратно)34
Архив Карельского научного центра РАН (далее — АКНЦ). 192. № 99 (первая цифра обозначает номер коллекции, вторая — единицу хранения в ней); Фонотека Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (в дальнейшем — Фонотека). 3273/17 (первая цифра обозначает номер кассеты, вторая — порядковый номер записи). (обратно)35
Швецов. Очерк промышленности Мезенского уезда // Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864. С. 99. (обратно)36
Южанин А. С. Суеверия и обычаи в Поморье// Ярославские зарницы. 1910. № 43. С. 4. (обратно)37
Петров К. Повенецкие карелы: Их домашний и общественный быт, поверья и предания// ОГВ. 1863. № 29. С. 109. (обратно)38
Самоделова Е. А. Былички о колдунах и домашних духах в сопоставлении со свадебной магией// Сказка и несказочная проза. М., 1992. С. 75. (обратно)39
Карамзин Н. М. История государства Российского (Репринтное воспроизведение 5-го изд.). М., 1988. Кн. 1. Т. 1. Примеч. 121. Стб. 50. (обратно)40
Послание к Ефесянам. 5.26. (обратно)41
Годлевский В. В. Материалы для учения о русской бане. СПб., 1883. С. 8. (обратно)42
Миролюбов Ю. Русская мифология: Очерки и материалы. München, 1982. С. 55. (обратно)43
Петров К. Повенецкие карелы: их домашний и общественный быт, поверья и предания// ОГВ. 1863. № 14. С. 50. (обратно)44
АКНЦ. 149. № 86. (обратно)45
В севернорусских диалектах баня звучит как байна: отсюда — баенник, дух-«хозяин» бани. (обратно)46
О жизненной силе (нетленной сущности, душе) и ее вместилищах: волосах, черепе, шейном позвонке, ребрах, поте, крови, сердце, легких, печени, внутренностях, а также об инкарнации и реинкарнации и отражении связанных с ними представлений в фольклорной традиции см. подробнее: Криничная Н. А. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. Л., 1988. С. 31, 32, 35, 43, 52, 60, 64, 65, 67, 74–76, 82, 118, 123, 151 и др. (обратно)47
АКНЦ. 6. № 81. См. также: № 84а. (обратно)48
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. М., 1922. Разд. VI. С. 76. (обратно)49
См.: Иванов В. В. Змей// Мифы народов мира. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 468. (обратно)50
Легенды. Предания. Бывальщины. С. 212. (обратно)51
Simonsuuri L. Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen. Helsinki, 1961. F61. S. 98 (Folklore Fellows Communication. № 182); Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов/ Пер. с нем. Н. А. Прушинской. Петрозаводск, 1991. F 61С. 125. (обратно)52
Цит. по: Honko L. Geiterglaube in Ingermanland. Helsinki, 1962. S. 408. (обратно)53
Ibid. S. 426. (обратно)54
Вытегорский погост// ОГВ. 1885. № 4. С. 35; Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губернии и различные гаданья// ОГВ. 1889. № 48. С. 516. См. также: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865. Т. 1. С. 650; Верования великоруссов Шенкурского уезда: (Из летней экскурсии 1916 года)/ Собрал и записал П. Г. Богатырев// Этнографическое обозрение. 1916. № 3–4. С. 61; Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии: Сб. сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. 2. // Изв. Имп. об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 69: Труды этнографического отдела. М., 1890. Т. 2. Вып. 1. С. 121. Аналогичные верования зафиксированы и в белорусской традиции. См.: Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах / Собрал в Витебской Белоруссии Н. Я. Никифоровский. Витебск, 1897. № 1252. С. 165. (обратно)55
Топоров В. Н. Кот, кошка// Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 11. (обратно)56
Исмрин В. М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славянорусской литературах: Исследование и тексты. М., 1897. С. 117. (обратно)57
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 54. (обратно)58
Там же. С. 53. (обратно)59
АКНЦ. 134. № 20; Фонотека. 1620/20. (обратно)60
Цит. по: Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 405. (обратно)61
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 58. (обратно)62
Цит. по: Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 435. (обратно)63
Карельские народные загадки / Изд. подгот. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1982. С. 28, 87. (обратно)64
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и автор коммент. О. А. Черепанова. СПб., 1996. № 198. С. 59. (обратно)65
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 51. (обратно)66
Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянская мифология// Мифы народов мира. Т. 2. С. 452. (обратно)67
Там же. (обратно)68
Суеверия и предрассудки в простом народе// ОГВ. 1885. № 73. С. 650. (обратно)69
Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянская мифология// Мифы народов мира. Т. 2. С. 452. (обратно)70
Былички и бывальщины/ Сост. К. Шумов. Пермь, 1991. № 105. С. 124–125. (обратно)71
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины // Крестьянское искусство СССР: Искусство Севера. Л., 1928. Т. 2. С. 81. (обратно)72
Сказки и предания Самарского края/Собр. и зап. Д. Н. Садовниковым. СПб., 1884. № 69а. С. 230. Зап. Имп. Русского географического об-ва по отделению этнографии. Т. 12. (обратно)73
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 81; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 54. (обратно)74
Сказки и предания Северного края/ Зап., вступ. статья и коммент. И. В. Карнауховой. Предисл. Ю. М. Соколова. М.; Л., 1934. № 80. С. 165. (обратно)75
Новые поступления в Фольклорный архив кафедры русской литературы Горьковского университета 1977–1984 гг.: Несказочная проза/ Сост. К. Е. Корепова, Т. М. Волкова, О. В. Соловьева. Горький, 1988. № 255. (обратно)76
АКНЦ. 192. № 123; Фонотека. 3275/4. См. также: Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири/ Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. № 178. С. 121. (обратно)77
Топоров В. Н. Осина// Мифы народов мира. Т. 2. С. 266–267. (обратно)78
АКНЦ. 23. № 587. (обратно)79
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 177. С. 120. (80
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 163. (обратно)81
АКНЦ. 23. № 587. См. также: АКНЦ. 192. № 123; Фонотека. 3275/4. (обратно)82
Частушки в записях советского времени/ Изд. подгот. З. И. Власова и А. А. Горелов. М.; Л., 1965. № 2501. С. 133. (обратно)83
Сказки и предания Северного края. № 80. С. 165. (обратно)84
Загадки русского народа/ Сост. Д. Н. Садовников. М., 1959. С. 133. (обратно)85
Будовская Е. Э. Баня// Русская речь. 1990. № 4. С. 106. (обратно)86
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 59. (обратно)87
АКНЦ. 192. № 123; Фонотека. 3275/4. (обратно)88
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 54. (обратно)89
Там же. (обратно)90
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 117. С. 83. (обратно)91
Вытегорский погост. С. 35; Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 122. (обратно)92
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда// Живая старина. 1892. Вып. 3. С. 120. (обратно)93
Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1902. Вып. 4. С. 60. (обратно)94
Карельские народные загадки. С. 87. (обратно)95
Цит. по: Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 426. (обратно)96
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 58. (обратно)97
Там же. С. 59. (обратно)98
Сказки и предания Самарского края. № 69 г. С. 232. (обратно)99
АКНЦ. 23. № 528. (обратно)100
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 54. (обратно)101
Олонецкий сборник. Вып. 4. С. 60. (обратно)102
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 120. С. 84. (обратно)103
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания// Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 9. См. также: Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 119. С. 84. (обратно)104
Там же. № 122. С. 84–85. (обратно)105
Там же. № 73. С. 54. (обратно)106
Олонецкий сборник. Вып. 4. С. 60. (обратно)107
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 50. См. также: С. 54. (обратно)108
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губернии и различные гаданья// ОГВ. 1889. № 46. С. 496. (обратно)109
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда// Отечественные записки. 1848. Т. 4. Отд. VIII. С. 148. (обратно)110
Олонецкий сборник. Вып. 4. С. 60. (обратно)111
АКНЦ. 6. № 81. (обратно)112
Там же. 23. № 528. (обратно)113
Сказки и предания Северного края. № 122. С. 229. (обратно)114
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 59. (обратно)115
Сказки и предания Северного края. № 80. С. 164. (обратно)116
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 148. (обратно)117
АКНЦ. 134. № 46; Фонотека. 1623/4. (обратно)118
Карельские народные загадки. С. 87. (обратно)119
АКНЦ. 84. № 197; Фонотека. 2304/19. (обратно)120
Сказки, песни, частушки Вологодского края/ Сост. В. В. Гура. Вологда, 1965. № 38. С. 25. (обратно)121
АКНЦ. 84. № 197; Фонотека. 2304/19; Сказки, песни, частушки Вологодского края. № 38. С. 25. (обратно)122
В. И., В. Т. Береза// Мифы народов мира. Т. 1. С. 169. (обратно)123
Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба. М., 1985. С. 106. (обратно)124
Карельские причитания/ Изд. подгот. А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976. № 107–109, 145, 169, 193–194; Карельское народное поэтическое творчество/ Подгот. и перевод текстов В. Я, Евсеева. Л., 1981. С. 147. (обратно)125
Карельские причитания. № 107–109, 145, 168, 193–194; Карельское народное поэтическое творчество. С. 148–149; Степанова А. С. Карельские свадебные причитания и ритуальная свадебная баня// Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 120. (обратно)126
Там же. (обратно)127
АКНЦ. 25. № 6. (обратно)128
Карельские причитания. № 145; Карельское народное поэтическое творчество. С. 148. (обратно)129
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина// Отечественные записки. 1851. Т. 76. № 6. Отд. 2. С. 58. (обратно)130
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 26. (обратно)131
Степанова А. С. Карельские свадебные причитания и ритуальная свадебная баня. С. 121–123. (обратно)132
Легенды. Предания. Бывальщины. С. 212. (обратно)133
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 75. (обратно)134
Из Фольклорного архива Финского литературного общества. (обратно)135
Балашов Д. М., Красовская Ю. В. Русские свадебные песни Терского берега Белого моря. Л., 1969. С. 54, 150. (обратно)136
Карельские причитания. № 145. С. 266–267. (обратно)137
Степанова А. С. Карельские свадебные причитания и ритуальная свадебная баня. С. 121–122. (обратно)138
Simonsuuri L. Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen. F63,64. S. 98; Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. F 63, 64. С. 125–126. (обратно)139
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 165. (обратно)140
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1839. Вып. 4. С. 145. (обратно)141
Легенды. Предания. Бывальщины. С. 212. (обратно)142
Сказки и песни Белозерского края/ Зап. Б. и Ю. Соколовы. М., 1915. № 64. С. 113. (обратно)143
Северные сказки: Сб. Н. Е. Ончукова. СПб., 1908. № 29. (обратно)144
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 50, 54. (обратно)145
Неуступов А. Д. Представления и рассказы о домашних духах и нечистой силе в Кадниковском уезде// Ярославские зарницы. 1910. № 49. С. 4. (обратно)146
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 52. (обратно)147
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 58. (обратно)148
Песенный фольклор кестеньгских карел/ Изд. подгот. Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1989. № 68. С. 135. (обратно)149
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 47. (обратно)150
Там же. С. 165. (обратно)151
Былички и бывальщины. № 101. С. 120. Ср. с одним из финских мифологических рассказов: «„Хозяйка“ бани, женщина, мылась-мылась, да и ушла на чердак». Из Фольклорного архива Финского литературного общества. (обратно)152
Былички и бывальщины. № 104. С. 123. (обратно)153
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 59. (обратно)154
АКНЦ. 32. № 77. (обратно)155
Сказки Карельского Беломорья: Сказки М. М. Коргуева / Зап., вступ. статья и коммент. А. Н. Нечаева. Петрозаводск, 1939. Кн. 2. С. 94–95. (обратно)156
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. С. 168. (обратно)157
Лавонен Н. А. Функциональная роль порога в фольклоре и верованиях карел// Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 171–179. (обратно)158
Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 344–353. (обратно)159
Там же. С. 347. (обратно)160
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губернии и различные гаданья. С. 496. (обратно)161
Суеверия и предрассудки в простом народе// ОГВ.1885.№ 76. С. 673 (обратно)162
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 165. (обратно)163
Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. С. 353. Примеч. С. А. Токарева. (обратно)164
Там же. С. 350–352. (обратно)165
Там же. С. 353. (обратно)166
Веселовский А. Н. Поэтика сюжета. Л., 1940. С. 577. (обратно)167
Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987. С. 56–60. (обратно)168
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии// Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 328. (обратно)169
Штернберг Л. Я. Первобытная религия. Л., 1936. С. 336. (обратно)170
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 51. (обратно)171
Там же. (обратно)172
Олонецкий сборник. Вып. 4. С. 60. (обратно)173
АКНЦ. 32. № 77; Легенды. Предания. Бывальщины. С. 212. (обратно)174
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 50, 52. (обратно)175
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии в связи с народными верованиями// Живая старина. 1898. Вып. 3–4. С. 361. (обратно)176
Демидович П. Из области верований и сказаний белорусов// Этнографическое обозрение. 1896. Кн. 28. № 1. С. 114. (обратно)177
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 418. (обратно)178
П. М. Из быта и верований карел Олонецкой губернии//ОГВ. 1892. № 79. С. 825. (обратно)179
Simonsuuri L. Typen- und Motiwerzeichnis der finnischen mythischen Sagen. B341. S. 47; F61, 63, 64. S. 98; Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. В341. С. 59; F 61, 63, 64, 125–126. (обратно)180
Максимов С. В. Крылатые слова. 2-е изд. СПб., 1899. С. 298–299. (обратно)181
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 52. (обратно)182
АКНЦ. 32. № 77. (обратно)183
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 53. (обратно)184
Simonsuuri L. Typen- und Motiwerzeichnis der finnischen mythischen Sagen. E 261. S.88; G.411. S. 104; Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов. Е261. С. 112–113; G. 411. С. 132. (обратно)185
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1838. Вып. 2. С. 1. (обратно)186
Максимов С. В. Крылатые слова. С. 299. (обратно)187
Фаминцын А. С. Божества древних славян. СПб., 1884. Вып. 1. С. 210, 252. См. тексты: Сказки и предания Северного края.№ 80. С. 164; Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 84. (обратно)188
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 401. (обратно)189
Вытегорский погост. С. 35. (обратно)190
Библейская энциклопедия. М., 1891. С. 552–553. (обратно)191
Сказки и песни Белозерского края. № 64. С. 113. (обратно)192
Суеверия и предрассудки в простом народе. С. 650. (обратно)193
Аналогичный вывод сделан на основе анализа коми этнографических материалов. См.: Семенов В. А. Сакральное время в коми обрядах жизненного цикла: полдень/полночь // Народная культура Севера: «первичное» и «вторичное», традиции и новации: Тезисы докладов и сообщений региональной науч. конф. 28–30 мая 1991 г. Архангельск, 1991. С. 169–171. (обратно)194
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 285, 340,404,412 (впервые книга вышла на немецком языке в 1927 г.); Кагаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов// Изв. имп. Академии наук. VI серия. Пг., 1917. Т. 11. № 9. С. 645; он же. Состав и происхождение свадебной обрядности // Сб. Музея антропологии и этнографии. 1929. Т. 8. С. 171–173. (обратно)195
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 54. (обратно)196
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 10. (обратно)197
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 199. С. 59. (обратно)198
Там же. № 200. С. 60. (обратно)199
Там же. (обратно)200
Сказки Терского берега Белого моря/ Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л., 1970. № 126(2). С. 362. (обратно)201
Памятники русского фольклора Водлозерья: Предания и былички/ Изд. подгот. В. П. Кузнецова. Петрозаводск, 1997. № 104–105. С. 97 (обратно)202
Сказки и предания Северного края.№ 80. С. 165. (обратно)203
АКНЦ. 32. № 77. (обратно)204
Сказки и предания Северного края. № 137. С. 263. (обратно)205
Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым. Т. 3// Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1885. Ч. 3–4. С. 106–115. (обратно)206
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 35–36. (обратно)207
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Т. XII: Акты Холмогорской и Устюжской епархий. 1500–1699. СПб., 1890. С. 1454. (обратно)208
Котошихин Г. О Московском государстве в середине XVII столетия// Памятники литературы Древней Руси. XVII в. М., 1989. Кн. 2. С. 265. (обратно)209
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. С. 147. (обратно)210
Там же. С. 25. (обратно)211
Барсов Е. В. Обзор этнографических данных, помещенных в разных губернских ведомостях за 1873 г.// Изв. Имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XIII. Вып. 1: Труды Этнографического отдела. 1874. Кн. 3. Вып. 1. С. 81. (обратно)212
Частушки в записях советского времени. № 2183. С. 120. (обратно)213
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. С. 15–20. (обратно)214
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 327. (обратно)215
Новые поступления в Фольклорный архив кафедры русской литературы Горьковского университета 1977–1984 гг.: Несказочная проза. № 276. С. 33–34. Впрочем, согласно ингерманландской традиции, ребенка можно вернуть и иным способом: «Но так как знахарка очертила следы злого духа кругом, то он принес ребенка назад и положил на окно бани». См.: Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 430. (обратно)216
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 327, 331. (обратно)217
Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 393. (обратно)218
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 327, 331. На карельском материале см.: Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. С. 34–36, 42, 46, 48. (обратно)219
Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 169. (обратно)220
Суеверия и предрассудки в простом народе// ОГВ. 1885. № 75. С. 666–667. (обратно)221
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 325. (обратно)222
АКНЦ. 39. № 200. (обратно)223
Усть-Ницынская слобода Тюменского уезда Тобольской губ.// Живая старина. 1898. Вып. 2. С. 152. (обратно)224
Потебня А. Этимологические заметки// Живая старина. 1891. Вып. 3. С. 120. (обратно)225
Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 415. (обратно)226
Криничная Н. А. Концепция происхождения человека: (по данным мифологии, фольклора и ранних философско-медицинских учений) // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1989. С. 17 и др. Заметим, что формулой человекотворения определяется происхождение многих фольклорных персонажей. Так, исцеляющийся Илья Муромец предстает как порождение различных элементов природы: земли (ее метафора: погреб), воды (метафорическая замена: питье) и огня (длительное сидение на печи). См.: Там же. С. 9, 15–17. (обратно)227
Анимистические представления о жизненной силе, нетленной сущности, или душе, оказали значительное влияние на формирование многих фольклорных образов, коллизий и мотивов. Об этом см.: Криничная Н. А. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. С. 32, 35, 45, 60, 65, 67, 75–76, 97, 118, 123, 151–152 и др. (обратно)228
См.: Суеверия и предрассудки в простом народе// ОГВ. 1885. № 75. С. 666; Из быта и верований карел Олонецкой губернии (продолжение).// ОГВ. 1892. № 74. С. 780. (обратно)229
Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 395, 397. (обратно)230
Книга Степенная царского родословия. Ч. 1–2// ПСРЛ. СПб., 1908–1913. Т. 21. С. 29. (обратно)231
Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства// Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 3-е. изд. Л., 1925. Ст. 219 (РИБ. Т. 13. Вып. 1) (обратно)232
Повесть о Стефане, епископе Пермском// Древнерусские предания (XI–XVI вв.)/ Сост., вступ. статья и коммент. В. В. Кускова. М., 1982. С. 182, 217, 354. (обратно)233
Великие Минеи-Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием/Изд. Археогр. комис. М.; СПб., 1868–1917. Окт. 4–18.809. (обратно)234
Слово на святое Богоявление святого Ипполита, епископа римского и мученика (II–III вв.)// Глаголы жизни. 1992. № 1.С. 12. (обратно)235
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 199. С. 59. (обратно)236
АКНЦ. 32. № 77. (обратно)237
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 177. С. 120. (обратно)238
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. С. 31. (обратно)239
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 177. С. 120. (обратно)240
Сказки и предания Северного края. № 80. С. 164. (обратно)241
Там же. С. 165. (обратно)242
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 177. С. 120. (обратно)243
Былички и бывальщины. № 118. С. 137. (обратно)244
Сказки и предания Северного края. № 80. С. 164–165. (обратно)245
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 177. С. 119. (обратно)246
Там же. № 178. С. 121. См. также: АКНЦ. 192. № 123; Фонотека. 3275/4. (обратно)247
Максимов С. В. Куль хлеба. Л., 1987. С. 458, 461–462; Южанин А. С. Свадьба в Поморье// Ярославские зарницы. 1910. № 33. С. 3–4. (обратно)248
Тэрнер В. Символ и ритуал. С. 169–170. (обратно)249
Плесовский Ф. В. Свадьба народов коми. Сыктывкар, 1968. С. 136–137. (обратно)250
Относительно семантики свадебной бани существует и иная точка зрения: мытье невесты рассматривается как пережиток древнего обряда свадьбы с духом бани — банником, которому невеста отдает свою девственность. См.: Кагаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов. С. 645. (обратно)251
Конкка У. С. Имя, волосы и «белая воля» невесты — главные объекты оплакивания в карельских свадебных плачах// Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1978. С. 71–94. (обратно)252
Самоделова Е. А. Былички о колдунах и домашних духах в сопоставлении со свадебной магией. С. 74. (обратно)253
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киев, 1890. С. 204. (обратно)254
Конкка А. П. Viдndцi — время летнего «поворота» в календарной обрядности карелов // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 28–29. (обратно)255
АКНЦ. 8. № 259а. (обратно)256
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 101. (обратно)257
Козырев Н. Свадебные обряды и обычаи в Островском уезде Псковской губернии // Живая старина. 1912. Вып. 1. С. 79–80. (обратно)258
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 80. (обратно)259
Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. С. 146. (обратно)260
Косменко А. П. Функция и символика вепсского полотенца (по фольклорно-этнографическим данным)// Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1983. С. 50. (обратно)261
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 101; Максимов С. В. Куль хлеба. С. 461; Южанин А. С. Свадьба в Поморье. С. 3–4; Будовская Е. Э. Баня… С. 109. (обратно)262
Будовская Е. Э. Баня… С. 107. (обратно)263
Ордин Н. Г. Свадьба в подгородных областях Сольвычегодского уезда// Живая старина. 1896. Вып. 1. С. 69; Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 4. С. 145. (обратно)264
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. С. 132. (обратно)265
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 59. (обратно)266
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. М., 1957. Т. 1. № 137. С. 285. (обратно)267
Сказки и предания Самарского края. № 69 г. С. 232. (обратно)268
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 148. (обратно)269
П. М. Из быта и верований карел Олонецкой губернии. С. 825. (обратно)270
Олонецкий сборник. Вып. 4. С. 60. (обратно)271
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 84. (обратно)272
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 52. (обратно)273
Там же. С. 50. (обратно)274
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 80. (обратно)275
Сказки и предания Самарского края. № 69 в. С. 230–231. (обратно)276
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 52–53. (обратно)277
Сказки и предания Самарского края. № 69а. С. 230. (обратно)278
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии// Этнографическое обозрение. 1914. № 3–4. С. 109. (обратно)279
Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 394. (обратно)280
Смоленский этнографический сборник /Сост. В. Н. Добровольский. СПб., 1891. № 24. С. 554. (обратно)281
Сказки и предания Самарского края. № 69 г. С. 231. (обратно)282
Неклюдов С. Ю. О функционально-семантической природе знака в повествовательном фольклоре// Семиотика и художественное творчество. М., 1977. С. 225. (обратно)283
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 101. (обратно)284
АКНЦ. 21. № 124. (обратно)285
Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе // Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 1913. Т. 2. С. 15 (Зап. Моск. археол. ин-та. Т. 18). (обратно)286
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1. С. 72. (обратно)287
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 391. (обратно)288
Зеленин Д. К. Русские народные обряды со старой обувью// Зеленин Д. К. Избранные труды: Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М., 1994. С. 222; он же. Восточнославянская этнография. С. 93, 391. Аналогичные представления о поминальной бане зафиксированы и в ингерманландской традиции. Как отмечает Л. Хонко, обычно мытье в бане умерших связано с ночью, в которую происходит смена года, с кануном праздника Всех святых (Кекри). См.: Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 424. (обратно)289
Иванов А. И. Верования крестьян Орловской губернии // Этнографическое обозрение. 1900. Кн. 47. № 4. С. 89. (обратно)290
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 26. (обратно)291
Ефименко П. С. Обереги и подходы// Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 г. Архангельск, 1864. № 22. С. 19–20. (обратно)292
Сказки, песни, частушки Вологодского края. С. 210. (обратно)293
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Т. 1. № 141. С.306. (обратно)294
Карельское народное поэтическое творчество. С. 319. (обратно)295
Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 398. (обратно)296
Ibid. (обратно)297
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина: По материалам Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. СПб., 1903. С. 193, 196. (обратно)298
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии// Живая старина. 1890. Вып. 1. С. 120. (обратно)299
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 196, 199. (обратно)300
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. С. 120. (обратно)301
Подробнее об этом см.: Рыбкин Я. Р., Криничная Н. А., Антохин В. И. и др. Баня, банька, баенка. Петрозаводск, 1992. С. 61–70. (обратно)302
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. С. 121. (обратно)303
АКНЦ. 192. № 34; Фонотека. 3270/6. (обратно)304
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. С. 121. (обратно)305
Астахова А. М. Заговорное искусство на реке Пинеге// Крестьянское искусство СССР: Искусство Севера. Л., 1928. Вып. 2. С. 75. (обратно)306
АКНЦ. 27. № 78, 88–89. (обратно)307
Там же. 134. № 120; Фонотека. 1620/20. (обратно)308
АКНЦ. 192. № 55; Фонотека. 3271/7. (обратно)309
АКНЦ. 192. № 54; Фонотека. 3271/6. См. также: Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел / Изд. подгот. Р. Ф. Никольская, А. П. Косменко. Л., 1981. С. 110–111. (обратно)310
Об обряде поднятия лемби см. подробно: Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел// Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 73–76. (обратно)311
Лесков Н. Ф. Поездка в Корелу// Живая старина. 1895. Вып. 3–4. С. 291. (обратно)312
Суеверия и предрассудки в простом народе. С. 673. (обратно)313
АКНЦ. 27. № 104. (обратно)314
Астахова А. М. Заговорное искусство на реке Пинеге. С. 67. (обратно)315
Суеверия и предрассудки в простом народе// ОГВ. 1885. № 77. С. 682. (обратно)316
АКНЦ. 149. № 36. (обратно)317
Лесков Н. Корельская свадьба// Живая старина. 1894. Вып. 3–4. С. 516. (обратно)318
Там же. С. 504. (обратно)319
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. С. 127. (обратно)320
Этнографическое обозрение. 1905. № 2–3. С. 226. (обратно)321
Там же. (обратно)322
АКНЦ. 149. № 36. (обратно)323
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 53. (обратно)324
Будовская Е. Э. Баня… С. 110. (обратно)325
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губернии и различные гаданья. С. 496. (обратно)326
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 53. (обратно)327
Там же. (обратно)328
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 404. (обратно)329
Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным: В 4 ч. М., 1880. Ч. 1. С. 27. (обратно)330
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 75. (обратно)331
АКНЦ. 134. № 46; Фонотека. 1623/4. (обратно)332
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 425. С. 294. (обратно)333
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 74. (обратно)334
Петров К. Повенецкие карелы: Их домашний и общественный быт, поверья и предания. С. 109. (обратно)335
Балов А. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания// Этнографическое обозрение. 1898. № 4. С. 77. (обратно)336
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 324. (обратно)337
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 77. (обратно)338
Лесков Н. Корельская свадьба. С. 515. (обратно)339
Зайцева М., Муялонен М. Образцы вепсской речи. Л., 1969. С. 274. (обратно)340
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 53–54. (обратно)341
Будовская Е. Э. Баня… С. 107. (обратно)342
Частушки в записях советского времени. № 5243. С. 244. (обратно)343
Там же. № 5329. С. 248. (обратно)344
АКНЦ. 149. № 86. (обратно)345
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 165. (обратно)346
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 84. (обратно)347
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 327. (обратно)348
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 165. (обратно)349
Там же. С. 168. (обратно)350
Там же. С. 163–164. (обратно)351
Там же. С. 163. (обратно)352
АКНЦ. 27. № 123(9). (обратно)353
Там же. 23. № 528. (обратно)354
Там же. 149. № 86. (обратно)355
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 50. (обратно)356
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. С. 165. (обратно)357
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 50. (обратно)358
Там же. С. 53. (обратно)359
АКНЦ. 149. № 69. (обратно)360
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 52. (обратно)361
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… С. 165. (обратно)362
АКНЦ. 149. № 86. (обратно)363
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 199. С. 59. (364
АКНЦ. 149. № 86. (обратно)365
Там же. 192. № 95; Фонотека. 3273/13. (обратно)366
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 50. (обратно)367
АКНЦ. 160. № 138; Фонотека. 2737/24. (обратно)368
АКНЦ. 192. № 95; Фонотека. 3273/13. (обратно)369
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 200. С. 60. (обратно)370
Там же. № 192. С. 58. (обратно)371
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 53. (обратно)372
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 80. (обратно)373
Смоленский областной словарь/ Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск, 1914. С. 22. (обратно)374
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 84. (обратно)375
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 51. (обратно)376
Там же. С. 59–60. (обратно)377
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины. С. 84. (обратно)378
Новые поступления в Фольклорный архив кафедры русской литературы Горьковского университета 1977–1984 гг.: Несказочная проза. № 280. (обратно)379
Смоленский областной словарь. С. 22. (обратно)380
АКНЦ. 27. № 91. (обратно)381
Там же. № 93. (обратно)382
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 50. (обратно)383
Смоленский этнографический сборник. № 25. С. 91. (обратно)384
Там же. (обратно)385
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 59. (обратно)386
Сказки и предания Северного края. № 122. С. 229. (обратно)387
Сказки и песни Белозерского края. № 64. С. 113. (обратно)388
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 59. (обратно)389
Сказки и песни Белозерского края.№ 64. С. 113. (обратно)390
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 60. (обратно)391
Там же. С. 50. (обратно)392
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 327. (обратно)393
Там же. (обратно)394
АКНЦ. 32. № 77. (обратно)395
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 53. (обратно)396
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 58. (обратно)397
Там же. (обратно)398
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 148–149. (обратно)399
См. об этом: Криничная Н. А. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. С. 37–41. (обратно)400
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 327–328. (обратно)401
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд. М., 1986. Т. 2. С. 120. (обратно)402
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 314. (обратно)403
Харузин Н. Н. Очерк развития жилища у финнов. М., 1895. С. 26. (обратно)404
См.: Никольский Н. М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. М., 1929. С. 24. (обратно)405
Suomen historia. 1985. B. 1. S. 41. (обратно)406
Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. М., 1973. С. 18. (обратно)407
Ганцкая О. А. Народное искусство Польши. М., 1970. С. 119. (обратно)408
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 262. (обратно)409
Архив Карельского научного центра РАН (далее — АКНЦ). 192. № 49 (первая цифра обозначает номер коллекции, вторая — единицу хранения в ней). (обратно)410
Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 18; Чижикова А. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища// Русские. Историко-этнографический атлас: Из истории русского народного жилища и костюма (украшение крестьянских домов и одежды). Середина XIX— начало XX в. М., 1970. С. 26. (обратно)411
Стасов В. В. Коньки на крестьянских крышах// Изв. имп. Археологического об-ва. СПб., 1861. Т. 3. Вып. 4. Стб. 267. (обратно)412
Суворов Н. Н. О коньках на крестьянских крышах в некоторых местах Вологодской и Новгородской губерний: Письмо Н. Н. Суворова к В. В. Стасову// Изв. имп. Археологического об-ва. СПб., 1863. Т. 4. Вып. 2. Стб. 170; Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье. М., 1962. С. 181, 269; Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 18–19. (обратно)413
Иваницкий Н. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // Живая старина. 1898. Вып. 1. С. 70. (обратно)414
Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. С. 29; Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киев, 1890. С. 237. (обратно)415
Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 18–19. (обратно)416
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М… 1868. Т. 2. С. 118. (обратно)417
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 498. (обратно)418
Суворов Н. Н. О коньках на крестьянских крышах… Стб. 171. (обратно)419
Там же; Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 20. (обратно)420
Будде Е. Ф. О говорах Тульской и Орловской губерний // Сб. Отделения русского языка и словесности имп. АН. 1904. Т. 76. № 3. С. 52. (обратно)421
Едемский М. Б. О крестьянских постройках на Севере России // Живая старина. 1913. Вып. 1–2. С. 38. (обратно)422
Суворов Н. Н. О коньках на крестьянских крышах… Стб. 170; Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 19. (обратно)423
Дмитриева С. И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М., 1988. С. 148, 164. (обратно)424
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 300. (обратно)425
Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. С. 26–27. (обратно)426
Там же. С. 27. (обратно)427
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 278–279. (обратно)428
Ошибкина С. В. Неолит Восточного Прионежья. М., 1978. С. 122. (обратно)429
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 303–304. (обратно)430
Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 19. (обратно)431
Едемский М. Б. О крестьянских постройках на севере России. С. 61. (обратно)432
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1991. Т. 4. С. 343. (обратно)433
Строгальщикова З. И. Традиционное жилище Межозерья. Л., 1986. С. 64. (обратно)434
Ср.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 2. С. 360. (обратно)435
Там же. Т. 4. С. 132. (обратно)436
Чижикова А. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. С. 29. (обратно)437
Стасов В. В. Коньки на крестьянских крышах. Стб. 261. (обратно)438
Габе Р. И. Интерьер крестьянского жилища// Архитектурное наследство. М., 1955. № 5. С. 87. (обратно)439
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд. М., 1986. Т. 2. С. 284. (обратно)440
Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд. М., 1983. Т. 2. С. 70. (обратно)441
Ополовников А. Успенская церковь в селе Варзуге// Архитектурное наследство. М., 1955. № 5. С. 42. (обратно)442
Суворов Н. Н. О коньках на крестьянских крышах… Стб. 170. (обратно)443
Южанин А. С. Суеверия и обычаи в Поморье//Ярославские зарницы. 1910.№ 43. С. 4. (обратно)444
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 305. (обратно)445
Словарь русского языка XI–XVII вв. М… 1988. Вып. 14. С. 307. (обратно)446
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. 3. С. 240–241. (обратно)447
Там же. С. 243. (обратно)448
Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 95. (обратно)449
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 205. (обратно)450
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 305; Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. С. 88. (обратно)451
Там же. (обратно)452
Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища. С. 183. (обратно)453
Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. С. 12. (обратно)454
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 296. (обратно)455
Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 19. (обратно)456
Берг Ф. Н. Памятники древней письменности и искусства: Нечто о древности типа деревянных построек и резьбы в Важском крае. СПб., 1882. С. 3, 6. (обратно)457
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 462. (обратно)458
Там же. С. 466. (обратно)459
Балов А. Следы языческого культа в русских народных домашних украшениях: (Историко-этнографический очерк) // Русский вестник. 1906. Июль. Т. 304. С. 102; Гришина И. Е. О развитии декоративных мотивов в деревянном крестьянском зодчестве Российского Севера // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера. Петрозаводск, 1991. С. 79. (обратно)460
Берг Ф. Н. Памятники древней письменности и искусства… С. 4. (обратно)461
Стасов В. В. Коньки на крестьянских крышах. Стб. 271. (обратно)462
Там же. (обратно)463
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 391. (обратно)464
Стасов В. В. Коньки на крестьянских крышах. Стб. 271. (обратно)465
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 462. (обратно)466
Там же. С. 461. (обратно)467
Там же. С. 499–500. (обратно)468
Ганцкая О. А. Народное искусство Польши. С. 119 (обратно)469
Суворов Н. Н. О коньках на крестьянских крышах… Стб. 170. (обратно)470
Едемский М. Б. О крестьянских постройках на Севере России. С. 66. (обратно)471
Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища. С. 175–178. (обратно)472
Там же. С. 189. (обратно)473
Там же. С. 202. (обратно)474
Косменко А. П. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984. С. 165–168. (обратно)475
Бабаянц Г. Н. Поморские куклы «панки»// Этнография народов Восточной Европы. Л., 1977. С. 113. (обратно)476
Чижикова А. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. С. 51. (обратно)477
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 592–593. (обратно)478
Там же. С. 587. (обратно)479
Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. С. 12. (обратно)480
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 260. (обратно)481
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 89 (обратно)482
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 260. (обратно)483
Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1983. Вып. 10. С. 136. (обратно)484
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 435. (обратно)485
Словарь русского языка. Т. 2. С. 368. (обратно)486
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. С. 128. (обратно)487
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994. Вып. 1. С. 336. (обратно)488
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. С. 89. (обратно)489
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 305. (обратно)490
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 343. (обратно)491
Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского Севера. С. 21. (обратно)492
Новгородская вторая летопись// Новгородские летописи. Изд. Археогр. комис. СПб., 1879. С. 73. (обратно)493
Хождение Трифона Коробейникова, 1593–1594 гг. / Под ред. Х. М. Лопарева// Православный палестинский сборник. СПб., 1889. Т. 9. Вып. 3. С. 18. (обратно)494
См.: Косиков И. Г. Кампучия. М., 1982. С. 77. (обратно)495
Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 61–62. (обратно)496
Ополовников А. Успенская церковь в селе Варзуге. С. 50. (обратно)497
Снегирев И. Памятники московской древности. М., 1842–1845. С. XXXIX. (обратно)498
Динцес А. А. Дохристианские храмы Руси в свете памятников народного искусства// Советская этнография. 1947. № 2. С. 67–94; Косменко А. Л. Народное изобразительное искусство вепсов. С. 93–94. (обратно)499
Там же. С. 95. (обратно)500
Даркевич В. П. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси// Советская археология. 1960. № 4. С. 56. (обратно)501
Прибыткова А. Деревянное зодчество Томска// Архитектурное наследство. М., 1955. № 5. С. 112. (обратно)502
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 305; Чижикова Л. Н. Архитектурные украшения русского крестьянского жилища. С. 11. (обратно)503
Анисимов А. Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований. М.; Л., 1958. С. 48. (обратно)504
Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка// Москвитянин. 1844. № 9. С. 150. (обратно)505
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 494. См. также: С. 480–481. (обратно)506
Варнава, епископ (Беляев). Место молитвы (храм и его внешняя обстановка): из книги «Основы искусства святости»// Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 84. (обратно)507
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Кн. 1: Государев двор, или дворец. М., 1990. С. 208. (обратно)508
Байбурин А. К. «Строительная жертва» и связанные с ней ритуальные символы у восточных славян// Проблемы славянской этнографии. Л., 1979. С. 162. (обратно)509
Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987. С. 54, 58–60. (обратно)510
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 42. (обратно)511
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов// Этнографическое обозрение. 1896. № 2–3. С. 151. (обратно)512
Бедов Е. Ф. Приметы и поверья// Живая старина. 1901. Вып. 3–4. Отд. V. Смесь. С. 136. (обратно)513
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии в связи с народными верованиями// Живая старина. 1898. Вып. 3–4. С. 362. (обратно)514
Луганский К. (Даль В.). Домовой: О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа// Иллюстрация. 1845. Т. I. № 5. С. 77. (обратно)515
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 34. (обратно)516
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 403. (обратно)517
Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах/ Собрал в Витебской Белоруссии Н. Я. Никифоровский. Витебск, 1897. № 1086. С. 146. (обратно)518
Криничная Н. А. Русская народная историческая проза. С. 50, 52. (обратно)519
Там же. С. 58. (обратно)520
Медведев А. Ф. Усадьбы ростовщика и ювелира в Старой Руссе// Археологические открытия 1977 г. М., 1978. С. 23–24. (обратно)521
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. Дмитров, 1930. С. 180. (обратно)522
Подробнее см.: Криничная Н. А. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. Л., 1988. С. 45. (обратно)523
Криничная Н. А. Русская народная историческая проза. С. 56, 59. (обратно)524
Демич В. Ф. О змее в русской народной медицине (Культурно-этнографический очерк)// Живая старина. 1912. Вып. 1. С. 47; Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 99. (обратно)525
Каменев А. А. Из мира поморских легенд и предрассудков // Архангельские губернские ведомости (в дальнейшем — АГВ). 1910. № 230. С. 3–4. (обратно)526
Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… № 1554. С. 201. (обратно)527
Демич В. Ф. О змее в русской народной медицине… С. 47. (обратно)528
Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. Helsinki, 1962. S. 169 (Folklore Fellows Communications. № 185). (обратно)529
Демич В. Ф. О змее в русской народной медицине… С. 47. (обратно)530
Там же. С. 39. (обратно)531
Иванов В. В. Змей// Мифы народов мира: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 468–470. (обратно)532
Там же. С. 470. (обратно)533
Афанасьев А. Н. Дедушка-домовой// Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1850. Кн. 1. Отд. 6. С. 24, 28. (обратно)534
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках// Сб. Харьковского историко-филологического об-ва. Харьков, 1893. Т. 5. Вып. 1. С. 31. (обратно)535
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии// Этнографическое обозрение. 1914. Вып. 3–4. С. 127. (обратно)536
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 110. (обратно)537
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 312. (обратно)538
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 106. (обратно)539
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов: Этнографический очерк. Гродно, 1895. С. 66. (обратно)540
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77. (обратно)541
Топоров В. Н., Соколов М. Н. Петух// Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 309–310. (обратно)542
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 110. (обратно)543
Покровский Н. А. Из истории народного двоеверия// Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13, вып. 1: Тр. этнографического отдела. 1874. Кн. 3, вып. 1. С. 105. (обратно)544
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77; Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. СПб., 1902. Т. 3. С. 310. (обратно)545
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865. Т. 1. С. 532; М., 1868. Т. 2. С. 71.539–541; Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 73–74; Демидович П. П. Из области верований и сказаний белорусов// Этнографическое обозрение. 1896. № 1. С. 118; Демин В. Ф. О змее в русской народной медицине… С. 43, 46; Луганский К. (Даль В.). Басни, притчи и сказки: (Поверья, суеверья и предрассудки русского народа, ст. XVI)//Иллюстрация. 1846. Т. 2. № 22. С. 344; Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… № 1306. С. 172; Синозерский М. А. Летучий огненный змей// Живая старина. 1896. Вып. 1. Отд. V. Смесь. С. 143; Харузина В. Н. К вопросу о почитании огня // Этнографическое обозрение. 1906. № 3–4. С. 104; Южанин А. С. Суеверия и обычаи в Поморье. С. 3. (обратно)546
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 344. (обратно)547
Клингер В. Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911. С. 264–265. (обратно)548
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии// Этнографическое обозрение. 1899. № З. С. 34. (обратно)549
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 367. (обратно)550
Живая старина. 1899. Вып. 3–4. С. 428. (обратно)551
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 36; Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 29. (обратно)552
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 102. (обратно)553
АКНЦ. 23. № 327. См. также: М. З. Домовой// Общезанимательный вестник. 1857. № 11. С. 413; Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии// Сб. сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. 2. С. 122 (Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 69: Тр. этнографического отдела. М., 1890. Т. 11. Вып. 1); Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 32, 38,47. (обратно)554
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 152. (обратно)555
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 34. (обратно)556
Никольский Н. М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. М., 1929. С. 17. (обратно)557
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 35. (обратно)558
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 98. (обратно)559
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 44. (обратно)560
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 98. (обратно)561
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77; Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. С. 308; Никольский Н. М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. С. 17; Осокин С. Народный быт в северо-восточной России: Записки о Малмыжском уезде в Вятской губернии// Современник. 1856. Т. 60 (ноябрь-декабрь). С. 10. (обратно)562
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 34. (обратно)563
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 152. См. также: Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе // Этнографическое обозрение. 1890. № 4. С. 32. (обратно)564
Криничная Н. А. Русская народная историческая проза. С. 59. (обратно)565
М. З. Домовой. С. 413–414. (обратно)566
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 178. (обратно)567
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 174. (обратно)568
Потанин Г. Н. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы// Живая старина. 1899. Вып. 2. С. 192. (обратно)569
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 104. (обратно)570
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 180. (обратно)571
Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… № 1007. С. 136. (обратно)572
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 36. (обратно)573
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 108. (обратно)574
Там же. С. 175. (обратно)575
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 372. (обратно)576
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77; Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. 3. С. 310. (обратно)577
Былички и бывальщины / Сост. К. Шумов. Пермь, 1991. № 79. С. 103. См. также № 67. С. 93–94. (обратно)578
АКНЦ. 23. № 273а; Фонотека. 1438/6. (обратно)579
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 41–42. (обратно)580
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 361. (обратно)581
Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 3-е изд. Петрозаводск. 1991. Т. 3. С. 190. (обратно)582
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 181. (обратно)583
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. М., 1922. Разд. 4. С. 75. (обратно)584
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 380. (обратно)585
Там же. С. 371. (обратно)586
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 107. (обратно)587
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе. С. 31. (обратно)588
Балов А. Сон и сновидения в народных верованиях// Живая старина. 1891. Вып. 4. Отд. V. Смесь. С. 208. См. также: Луганский К. (Даль В.). Привидения: Поверья, суеверья и предрассудки русского народа. Ст. XVII// Иллюстрация. 1846. Т. 2. № 24. С. 384; Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда// Отечественные записки. 1848. Т. 4. Отд. 8. С. 134. (обратно)589
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии// Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 324. (обратно)590
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 540. (обратно)591
Костоловский И. В. Из поверий Ярославского края// Этнографическое обозрение. 1913. № 1–2. Смесь. С. 252. (обратно)592
Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов/ Пер. с нем. Н. А. Прушинской. Петрозаводск, 1991. А1–100. С. 46–47. (обратно)593
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1.С.72. (обратно)594
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156. (обратно)595
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 498. Зарисовки домовых из раскопок А. В. Арциховского см.: там же. С. 500. (обратно)596
Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Велозерск. М., 1969. С. 274; Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983. С. 49. (обратно)597
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 35–36. (обратно)598
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 362. (обратно)599
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 101–102. (обратно)600
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина// Отечественные записки. 1851. Т. 76. № 6. Отд. 2. С. 60. (обратно)601
См.: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 99; также: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 122. (обратно)602
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 98. (обратно)603
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 31. (обратно)604
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда учительницей Е. М. Резановой// Курский сборник. Курск. 1902. Вып. 3. Ч. 2. С. 104; См. также: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 102–104. (обратно)605
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 250, 252. (обратно)606
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков// Зап. Об-ва изучения Амурского края. Владивосток, 1904. Т. 9. Вып. 1. С. 5. (обратно)607
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии / Собраны в 1861–1888 гг. // Зап. имп. Русского географического об-ва по отд-нию этнографии. 1890. Т. 19. Вып. 2. С. 23. (обратно)608
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 35. (обратно)609
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 31. (обратно)610
См.: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 99. (обратно)611
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 31. (обратно)612
Там же. (обратно)613
Осокин С. Народный быт в северо-восточной России: Записки о Малмыжском уезде в Вятской губернии. С. 10. (обратно)614
См.: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 102. (обратно)615
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 106. (обратно)616
Былички и бывальщины. № 78. С. 102. (обратно)617
См.: Осокин С. Народный быт в северо-восточной России: Записки о Малмыжском уезде в Вятской губернии. С. 10–11,13. (обратно)618
Афанасьев А. Н. Дедушка домовой. С. 27. (обратно)619
Белорусский сборник: Заговоры, апокрифы и духовные стихи/ Собрал Е. Р. Романов. Витебск, 1891. Вып. 5. № 87. С. 180. (обратно)620
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина. С. 60. (обратно)621
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 34. (обратно)622
Анисимов А. Ф. Религия эвенков… С. 72. (обратно)623
Иванов А. И. Верования крестьян Орловской губ.// Этнографическое обозрение. 1900. Кн. 47. № 4. С. 86; Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 27; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 31, 34; Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. С. 22. (обратно)624
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 361. (обратно)625
Суеверия и предрассудки русского народа. М., 1907. С. 16. (обратно)626
Карнаухова И. В. Суеверия и бывальщины // Крестьянское искусство СССР: Искусство Севера. Л., 1928. С. 82. (обратно)627
Иванов А. И. Верования крестьян Орловской губ. С. 87. (обратно)628
АКНЦ. 134. № 129; Фонотека. 1625/15. (обратно)629
Анисимов А. Ф. Религия эвенков… С. 57. (обратно)630
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 50. (обратно)631
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 178. (обратно)632
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 76; Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1990. Т. 3. С. 348. (обратно)633
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 50. (обратно)634
Верования великоруссов Шенкурского уезда: (Из летней экскурсии 1916 г.)/ Собрал и записал П. Г. Богатырев// Этнографическое обозрение. 1916. № 3–4. С. 57–58. (обратно)635
Беляев П. Религиозные и психологические представления первобытных народов// Этнографическое обозрение. 1913. № 1–2. С. 49–56. (обратно)636
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина. С. 56. (обратно)637
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. (обратно)638
Логинов К. К. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан// Заонежский сборник. Петрозаводск, 1992. С. 98–117. (обратно)639
Былички и бывальщины. № 94. С. 112–113. (обратно)640
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 33. (обратно)641
Подробнее об этом см.: Криничная Н. А. Дом: его облик и душа: К вопросу о тождестве символов в мифологической прозе и народном изобразительном искусстве. Петрозаводск, 1992. (обратно)642
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 36. (обратно)643
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 176. (обратно)644
Былички и бывальщины. № 65. С. 92. См. также: № 68. С. 94; № 70. С. 97. (обратно)645
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 300. (обратно)646
Былички и бывальщины. № 83. С. 105. (обратно)647
Там же. № 84. С. 106. (обратно)648
АКНЦ. 28. № 89. (обратно)649
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 96. (обратно)650
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 4–5. (обратно)651
Там же. С. 5. (обратно)652
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 111–112. (обратно)653
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. С. 109. (обратно)654
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 361. (обратно)655
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. С. 109. (обратно)656
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Т. 1. С. 72; Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 499. Правда, суждение относительно существования такого мифологического персонажа, как Чур, разделяется далеко не всеми исследователями. См.: Толстой Н. И. Чур и чушь// Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 364–369. (обратно)657
Радченко Е. С. Село Бужарово Воскресенского р-на Московского округа// Тр. Об-ва изучения Московской области. 1929. Вып. 3. С. 126. (обратно)658
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 45. (обратно)659
Логинов К. К. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан. С. 109. (обратно)660
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1989. Т. 1. С. 366. (обратно)661
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 176. (обратно)662
Былички и бывальщины. № 63. С. 91. (обратно)663
Там же. № 64. С. 91. (обратно)664
Там же. № 58–59. С. 87–88. См. также № 93. С. 112. (обратно)665
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 116–117. (обратно)666
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 351. (обратно)667
Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1977. Вып. 4. С. 69. (обратно)668
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 300; Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 496. (обратно)669
Потебня А. Этимологические заметки// Живая старина. 1891. Вып. 3. С. 127. (обратно)670
Денисова И. М. Дерево — дом — храм в русском народном искусстве// Советская этнография. 1990. № 6. С. 104, 106. (обратно)671
Едемский М. Б. О крестьянских постройках на Севере России. С. 37. (обратно)672
АКНЦ. 84. № 16; Фонотека. 2302/16. (обратно)673
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 367. (обратно)674
Цеханская К. В. Икона в русском доме// Этнографическое обозрение. 1997. № 4. С. 75. (обратно)675
Колчин Б. А., Хорошев А. С. Михайловский раскоп// Археологическое изучение Новгорода. М., 1978. С. 171; Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 19. (обратно)676
Янин В. Л. Я послал тебе бересту. М., 1965. С. 79. (обратно)677
Балов А. Следы древних верований в народном иконопочитании// Живая старина. 1891. Вып. 3. С. 218; Едемский М. Б. О крестьянских постройках на севере России. С. 28. (обратно)678
Сумцов Н. Ф. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребенка// Журнал Министерства народного просвещения. 1880. Ч. 212. С. 83. (обратно)679
Балов А. Следы древних верований в народном иконопочитании. С. 218. (обратно)680
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)681
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 34. (обратно)682
Там же. С. 31; Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 96. (обратно)683
М. З. Домовой. С. 413. (обратно)684
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 115–116. (обратно)685
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. С. 82. (обратно)686
Былички и бывальщины. № 61. С. 90. (обратно)687
АКНЦ. 23. № 328; Фонотека. 1441/7. (обратно)688
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 105. (обратно)689
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 29; Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. С. 23. (обратно)690
АКНЦ. 23. № 253; Фонотека. 1437/5. (обратно)691
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. С. 303. (обратно)692
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)693
Едемский М. Б. О крестьянских постройках на Севере России. С. 33. (обратно)694
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 154; Сказки и предания Северного края/ Зап., вступ. статья, комент. И. В. Карнауховой; предисл. Ю. М. Соколова. М.; А., 1934. № 79. С. 164. (обратно)695
Легенды. Предания. Бывальщины / Сост., подгот. текстов, вступ. статья, примеч. Н. А. Криничной. М., 1989. С. 210. (обратно)696
АКНЦ. 23. № 393; Фонотека. 1443/26. (обратно)697
Там же. 8. № 101а (обратно)698
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 104. (обратно)699
Былички и бывальщины. № 92. С. 111. (обратно)700
Веселовский А. Н. Поэтика сюжета. Л., 1940. С. 577. (обратно)701
Изборник: Повести Древней Руси/ Вступ. статья Д. С. Лихачева; сост. и коммент. Л. А. Дмитриева, Н. Н. Понырко. М., 1986. С. 276–277. (обратно)702
Будде Е. Ф. О говорах Тульской и Орловской губерний. С. 5 2. (обратно)703
Балов А. Сон и сновидения в народных верованиях. С. 208. (обратно)704
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 29. (обратно)705
Велецкая Н. Языческие представления о загробной жизни и рудименты их в славянской народной традиции: Македонски фолклор. Ckopje, 1969. Год II. Бр. 3–4. С. 317; Котляревский А. А. О погребальных обычаях языческих славян// Соч. СПб., 1891. Т. 3. С. 33; Куликовский Г. И. Похоронные обряды Обонежского края // Этнографическое обозрение. 1890. Вып. 1. С. 415; Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 326; Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936. С. 336. (обратно)706
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 113. (обратно)707
Афанасьев А. Н. Дедушка домовой. С. 16. (обратно)708
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 150. (обратно)709
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 94–95. (обратно)710
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 29. (обратно)711
Там же. С. 31. (обратно)712
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 92. (обратно)713
Глинка Г. Древняя религия славян. Митава, 1804. С. 92. (обратно)714
Афанасьев А. Н. Дедушка домовой. С. 21. (обратно)715
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 111. (обратно)716
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 46. (обратно)717
АКНЦ. 21. № 171. (обратно)718
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 32. (обратно)719
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 367. (обратно)720
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 103; Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 31; Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 152; Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 33. (обратно)721
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 31. (обратно)722
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 108–109. (обратно)723
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 361. (обратно)724
Демидович П. П. Из области верований и сказаний белорусов. С. 114. (обратно)725
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 363. (обратно)726
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах// Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13, вып. 1: Тр. этнографического отдела. 1874. Кн. 3. Вып. 1. С. 89 (обратно)727
Мансикка В. Заговоры Шенкурского уезда// Живая старина. 1912. Вып. 1.С. 129. (обратно)728
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 115–116. (обратно)729
Демидович П. П. Из области верований и сказаний белорусов. С. 118–119. (обратно)730
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 154. (обратно)731
Там же. С. 152. (обратно)732
Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995. С. 238. (обратно)733
Зеленин Д. К. Русские народные обряды со старой обувью// Зеленин Д. К. Избранные труды: Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М.,1994. С. 222. (обратно)734
Там же. С. 222, 224. См. также: Зеленин Д. К. Народный обычай «греть покойников»// Зеленин Д. К. Избранные труды. С. 164–178. (обратно)735
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 69. (обратно)736
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)737
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 78. (обратно)738
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)739
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 133–134. (обратно)740
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 108–109. (обратно)741
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 31. (обратно)742
Логинов К. К. О жертвоприношениях в Заонежье// Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 54. (обратно)743
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 72; Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 31; Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии… С. 23. (обратно)744
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979. С. 120. (обратно)745
Семенова О. П. Смерть и душа в поверьях и в рассказах крестьян и мещан Рязанского, Раненбургского и Данковского уездов Рязанской губернии// Живая старина. 1898. Вып. 2. Отд. 2. С. 232. (обратно)746
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды. С. 121. (обратно)747
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. С. 23. (обратно)748
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 30, 41. (обратно)749
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. С. 23. (обратно)750
См.: Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982. С. 196–197, 231, 233. (обратно)751
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 88. (обратно)752
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 111. С. 80–81. (обратно)753
АКНЦ. 23. № 327. См. также: № 392–394; Фонотека. 1441/6.; 1443/25–27. (обратно)754
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 94. С. 68. (обратно)755
Анисимов А. Ф. Религия эвенков… С. 94, 98. (обратно)756
Ригведа/ Изд. подгот. Т. Я. Елизаренкова. М., 1989. С. 33. (обратно)757
Там же. С. 305. (обратно)758
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 38. (обратно)759
А. В. Обряды и обычаи у некоторых народов по случаю рождения детей // Этнографическое обозрение. 1896. № 1. С. 149. (обратно)760
Неуступов А. Д. Следы почитания огня в Кадниковском уезде (по программе В. Н. Харузиной)// Этнографическое обозрение. 1913. № 1–2. Смесь. С. 246. (обратно)761
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 34. (обратно)762
П. М. Из быта и верований карел Олонецкой губернии// Олонецкие губернские ведомости. 1892. № 74. С. 780. (обратно)763
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 115. (обратно)764
Вестник имп. Русского географического об-ва. 1857. Вып. 4. С.258. (обратно)765
Семенов В. А. Обряды жизненного цикла в традиционной духовной культуре русских Нижней Печоры: В контексте мифопоэтических представлений // Устные и письменные традиции в духовной культуре Севера. Сыктывкар, 1989. С. 115. (обратно)766
Соловьев С. М. Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, во времена языческие // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1850. Кн. 1. С. 35–36. См. также: Балов А. Следы языческого культа в русских народных домашних украшениях. С. 101; Никольский Н. М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. С. 23. (обратно)767
Срезневский И. И. Роженицы у славян и других языческих народов // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855. Кн. 2. Половина 1-я. С. 108. (обратно)768
Княжеский З. Болгарские поверья // Журнал Министерства народного просвещения. 1846. Ч. 52. № 12. Отд. 2. С. 210. (обратно)769
Мифы народов мира: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 624; М., 1982. Т. 2. С. 169, 226, 290. (обратно)770
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1957. Т. 2. № 305. С. 439. (обратно)771
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 444. С. 304; См. также: № 443. С. 303 (обратно)772
Там же. № 83. С. 61–62. (обратно)773
Смоленский областной словарь/ Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск, 1914. С. 179 (обратно)774
Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. М., 1880. Ч. 2. С. 253. (обратно)775
Там же; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 22. (обратно)776
Русский народ… Ч. 2. С. 249. (обратно)777
Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. 3. С. 488. (обратно)778
Смоленский областной словарь. С. 179. (обратно)779
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 88. (обратно)780
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 221. (обратно)781
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной имп. Русским геогр. об-вом. Юго-западный отдел: Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. Т. 4: Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны. СПб., 1877. С. 9. (обратно)782
АКНЦ. 6. № 103. (обратно)783
Там же. (обратно)784
Смоленский областной словарь. С. 180. (обратно)785
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 34. (обратно)786
Там же. (обратно)787
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 97. (обратно)788
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 36. (обратно)789
Покровский Н. А. Из истории народного двоеверия. С. 105. (обратно)790
Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876. № 20; Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 96. (обратно)791
Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков, 1881. С. 186–192. (обратно)792
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу Т. 2. С. 36. (обратно)793
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 96. (обратно)794
Сельские обычаи в некоторых местностях Суражского уезда Черниговской губернии // Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13. Вып. 1: Тр. этнографического отдела. 1874. Кн. 3. Вып. 1. С. 82. (обратно)795
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 35. (обратно)796
Неуступов А. Д. Следы почитания огня в Кадниковском уезде. С. 246. (обратно)797
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 96. (обратно)798
Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885. С. 129–130. (обратно)799
Былички и бывальщины. № 66. С. 92–93. (обратно)800
АКНЦ. 149. № 72. (обратно)801
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 34. (обратно)802
Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских. С.190 и др. (обратно)803
Неуступов А. Д. Следы почитания огня в Кадниковском уезде. С. 246. (обратно)804
Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. 3. С. 325. (обратно)805
Сельские обычаи в некоторых местностях Суражского уезда Черниговской губернии. С. 82; Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях. С. 129–130. (обратно)806
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 37. (обратно)807
Там же. (обратно)808
Там же. С. 34. (обратно)809
АКНЦ. 29. № 122. (обратно)810
Там же. 160. № 19; Фонотека. 2737/14. (обратно)811
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 369; Смоленский областной словарь. С. 180. (обратно)812
Иванов А. И. Верования крестьян Орловской губ. С. 87. (обратно)813
М. З. Домовой. С. 414. (обратно)814
Будде Е. Ф. О говорах Тульской и Орловской губерний… С. 52. См. также: Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 154. (обратно)815
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской гуоернии. С. 23. (обратно)816
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77. (обратно)817
Луганский К. (Даль В.). Привидения. С. 384. (обратно)818
Коми легенды и предания/ Вступ. статья, сост., примеч., пер. Ю. Г. Рочева. Сыктывкар, 1984. С. 173. (обратно)819
Будде Е. Ф. О говорах Тульской и Орловской губерний… С. 52. (обратно)820
АКНЦ. 149. № 82. (обратно)821
Смоленский областной словарь. С. 180. (обратно)822
Чулков М. Д. Абевега русских суеверий. СПб., 1786. С. 191; Афанасьев А. Н. Дедушка-домовой. С. 21. (обратно)823
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 95–97. С. 69–74. (обратно)824
АКНЦ. 83. № 12; Фонотека. 2223/12. (обратно)825
Там же. 149. № 84. (обратно)826
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 50; Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. С. 74. (обратно)827
АКНЦ. 29. № 122. (обратно)828
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 444. С. 304. (обратно)829
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 364. (обратно)830
Там же. (обратно)831
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 30. (обратно)832
Христолюбова Л. С. Обряды, связанные с рождением ребенка// Этнокультурные процессы в Удмуртии. Ижевск, 1978. С. 56. (обратно)833
Белорусский сборник: Заговоры, апокрифы и духовные стихи. С. 180. (обратно)834
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 115. (обратно)835
Балов А. Следы языческого культа в русских народных домашних украшениях. С. 101. (обратно)836
Там же. (обратно)837
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 89. (обратно)838
Георгиевский А. Народная демонология// Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1902. Вып. 4. С. 60. (обратно)839
АКНЦ. 149. № 70. (обратно)840
Осокин С. Народный быт в северо-восточной России. С. 12. (обратно)841
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 100. (обратно)842
Осокин С. Народный быт в северо-восточной России. С. 12. (обратно)843
АКНЦ. 149. № 84. (обратно)844
Там же. 23. № 328; Фонотека. 1441/7. (обратно)845
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77. (обратно)846
Тэйлор Э. Первобытная культура. М., 1939. С. 266. (обратно)847
АКНЦ. 149. № 84. (обратно)848
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77. (обратно)849
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)850
Там же. С. 5–6; Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77. (обратно)851
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 34. (обратно)852
Былички и бывальщины. № 70. С. 97. (обратно)853
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. С. 23. (обратно)854
Былички и бывальщины. № 80. С. 100–101. (обратно)855
Там же. № 82. С. 105. (обратно)856
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. С. 130. (обратно)857
АКНЦ. 28. № 89. (обратно)858
Никифоровский Н. Я. Нечистики: Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе// Виленский временник. 1907. Кн. 2. С. 63. (обратно)859
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. С. 26. (обратно)860
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 101; Перетц В. Н. Кикимора / / Энциклопедический словарь /Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1895. Т. 15. С. 51. (обратно)861
Сахаров И. Сказания русского народа. СПб., 1849. Т. 2. Кн. 7. С. 16–17. (обратно)862
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)863
Криничная Н. А. Концепция происхождения человека: По данным мифологии, фольклора и ранних философско-медицинских учений // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1989. С. 4–21. (обратно)864
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 7; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 64; Сахаров И. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 7. С. 17. (обратно)865
Перетц В. Н. Кикимора. С. 51. (обратно)866
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 125; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 64; Неуступов А. Д. Представления и рассказы о домашних духах и нечистой силе в Кадниковском уезде// Ярославские зарницы. 1910.9 дек. № 49. С. 3–4. (обратно)867
Перетц В. Н. Кикимора. С. 52. (обратно)868
Криничная Н. А. Нить жизни: Реминисценции образов божеств судьбы в мифологии и фольклоре, обрядах и верованиях. Петрозаводск, 1995; она же. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов: В 3 т. Петрозаводск, 2000. Т. 2. (обратно)869
Коми легенды и предания. № 144–145. С. 145–146, 173. (обратно)870
АКНЦ. 149. № 67. См. также: Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77. (обратно)871
АКНЦ. 149. № 32. (обратно)872
Там же. 102. № 69; Фонотека. 2466/24. (обратно)873
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 96. С. 70. (обратно)874
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 113. (обратно)875
Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. 3. С. 326. (обратно)876
Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… № 1026. С. 138. (обратно)877
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 290. Подробнее см.: Толстой Н. И. Бадняк// Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 127–131. (обратно)878
АКНЦ. 83. № 6; Фонотека. 2223/6. (обратно)879
Виноградова Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели)// Славянский и балканский фольклор. М., 1981. С. 14; она же. Функции приговоров в ритуалах славянских гаданий // Традиционные культуры и среда обитания: 1-я Международная конференция: Тез. М., 1993. С. 112–116. (обратно)880
Георгиевский А. Народная демонология. С. 61. (обратно)881
П. Святочные гадания// ОГВ. 1893. № 100. С. 5; АКНЦ. 160. № 153; Фонотека. 2737/21. (обратно)882
Максимов С. Крылатые слова. 2-е изд. СПб., 1899. С. 299. (обратно)883
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефименко. М., 1877. Ч.1. С. 168. (обратно)884
Там же. С. 169. (обратно)885
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 322. (обратно)886
П. Святочные гадания. С. 5. (обратно)887
Балов А. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания…// Этнографическое обозрение. 1898. № 4. С. 76. (обратно)888
Завойко Г. К. Гаданья у крестьян Владимирской губернии// Этнографическое обозрение. 1915. № 1–2. С. 113. (обратно)889
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 154. (обратно)890
Шеппинг Д. Мифы славянского язычества. М., 1859. С. 165, 169. (обратно)891
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 290. (обратно)892
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 35. (обратно)893
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 289. (обратно)894
Пословицы русского народа. Сб. В. Даля: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 224. (обратно)895
Терещенко А. Быт русского народа. СПб., 1848. Ч. 7. С. 266; Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 290. (обратно)896
АКНЦ. 39. № 217. См. также: Надеждин А. П. Остатки старины в гаданьях Олонецкого края// ОГВ. 1889. № 95. С. 1000. (обратно)897
АКНЦ. 39. № 18. (обратно)898
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 71. (обратно)899
Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда// ОГВ. 1900. № 134. С. 2. (обратно)900
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 73. (обратно)901
П. Святочные гадания. С. 6; Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… Ч. 1. С. 169; Надеждин А. П. Остатки старины в гаданьях Олонецкого края. С. 1000. (обратно)902
Балов А. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания… С. 76. (обратно)903
Лесков Н. Святки в Кореле// Живая старина. 1894. Вып. 2. С. 222. (обратно)904
Куликовский Г. И. Иванов день в селении Кузаранде Петрозаводского уезда// ОГВ. 1888. № 54. С. 516. (обратно)905
Там же: Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2. (обратно)906
АКНЦ. 39. № 136. (обратно)907
Петров К. Похороны и поминки// ОГВ. 1863. № 15. С. 53. (обратно)908
Надеждин А. П. Остатки старины в гаданьях Олонецкого края. С. 1000. (обратно)909
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья// ОГВ. 1889.№ 48. С. 514; Щеголев И. Святочная ворожба в Олонии// ОГВ.1906.№ 136. (обратно)910
Неуступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде// Изв. Архангельского об-ва изучения Русского Севера. 1913. № 1. С. 23. (обратно)911
Балов А. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания… С. 71. (обратно)912
Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2. (обратно)913
Неуступов А. Д. Следы почитания огня в Кадниковском уезде. С. 246. (обратно)914
Там же; Пидьмозерский В. Таржепольский приход Петрозаводского уезда (Из моих воспоминаний)// ОГВ. 1902. № 23. С. 2. (обратно)915
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 71; Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2; Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 292; Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда// Живая старица. 1892. Вып. 3. С. 124; Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 108. (обратно)916
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1838. Вып. 2. С. 47–48. (обратно)917
Маяк. 1843. Вып. 11. С. 31.39; Терещенко А. Быт русского народа. Ч. 7. С. 233, 249. (обратно)918
Неуступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде. С. 24. (обратно)919
АКНЦ. 149. № 66; Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2; 77. Святочные гадания. С. 6. (обратно)920
Пословицы русского народа. Т. 2. С. 224. (обратно)921
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 285. (обратно)922
П. Святочные гадания. С. 5 (обратно)923
Балов А. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания… С. 71–74. (обратно)924
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 108; см. также: Святки// ОГВ. 1843. № 6. С. 28. (обратно)925
Балов А. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания… С. 74; Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 71. (обратно)926
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 108. (обратно)927
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… Ч. 1. С.169. (обратно)928
Пидьмозерский В. Таржепольский приход Петрозаводского уезда. С. 2. (обратно)929
Сказки и песни Белозерского края/ Зап. Б. и Ю. Соколовы. М., 1915. С. 19. (обратно)930
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья // ОГВ. 1889. № 46. С. 496–497. (обратно)931
П. Святочные гадания. С. 6. (обратно)932
Святки. С. 28; Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 107. (обратно)933
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 2. С. 44. См. также: АКНЦ. 149. № 66; Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2. (обратно)934
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 515; Лесков Н. Святки в Кореле. С. 223. (обратно)935
П. Святочные гадания. С. 6. (обратно)936
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 330. (обратно)937
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии// Живая старина. 1890. Вып. 1. С. 120. (обратно)938
Там же. (обратно)939
АКНЦ. 39. № 137. (обратно)940
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 496. (обратно)941
Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2; Пидьмозерский В. Таржепольский приход Петрозаводского уезда. С. 2; Завойко Г. К. Гаданья у крестьян Владимирской губернии. С. 115. (обратно)942
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 514. (обратно)943
АКНЦ. 84. № 76; Фонотека. 2302/19. (обратно)944
Там же. 23. № 139; Фонотека. 1430/12. См. также: 128. № 24; Фонотека. 1373/10. (обратно)945
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 71. (обратно)946
Терещенко А. Быт русского народа. Ч. 7. С. 239. (обратно)947
П. Святочные гадания. С. 6; Пословицы русского народа. Т. 2. С. 224; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 323. (обратно)948
Терещенко А. Быт русского народа. Ч. VII. С. 239. (обратно)949
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 514. (обратно)950
АКНЦ. 21. № 203; Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 496; Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2; Куликовский Г. И. Иванов день в селении Кузаранде Петрозаводского уезда. С. 516; П. Святочные гадания. С. 6. (обратно)951
Кофырин Н. Суеверия крестьян села Песчаного Пудожского уезда. С. 2; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила С. 323. (обратно)952
Куликовский Г. И. Иванов день в селении Кузаранде Петрозаводского уезда. С. 516. (обратно)953
Там же. См. также: Терещенко А. Быт русского народа. Ч. 7. С. 249. (обратно)954
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 74. (обратно)955
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 107–108. (обратно)956
Там же. С. 108. (обратно)957
Святки// ОГВ. 1843. № 5. С. 21. (обратно)958
Завойко Г. К. Гаданья у крестьян Владимирской губернии. С. 113. (обратно)959
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 322–323. (обратно)960
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 108. (обратно)961
Балов А. Следы языческого культа в русских народных домашних украшениях. С. 101. (обратно)962
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. 1. С. 169; Надеждин А. П. Остатки старины в гаданьях Олонецкого края. С. 1000. (обратно)963
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 327. (обратно)964
Балов А. Следы языческого культа в русских народных домашних украшениях. С. 101. (обратно)965
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 288. (обратно)966
Былички и бывальщины. № 127. С. 154. (обратно)967
Легенды. Предания. Бывальщины/ Сост., подгот. текстов, вступ. статья, примеч. Н. А. Криничной. М., 1989. С. 214. (обратно)968
Балов А. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания… С. 76–77. (обратно)969
Пословицы русского народа. Т. 2. С. 224; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 324. (обратно)970
Легенды. Предания. Бывальщины. С. 239. (обратно)971
АКНЦ. 84. № 167; Фонотека. 2306/10; Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 72–73; Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 496. (обратно)972
Повенецкие карелы: Их домашний и общественный быт, поверья и предания // ОГВ. 1863. № 18. С. 65. (обратно)973
П. Святочные гадания. С. 5. (обратно)974
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 496. (обратно)975
АКНЦ. 23. № 645. (обратно)976
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 108. (обратно)977
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии. С. 120. (обратно)978
Пидьмозерский В. Таржепольский приход Петрозаводского уезда. С. 2; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 330. (обратно)979
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии. С. 119. (обратно)980
Пословицы русского народа. Т. 2. С. 224. (обратно)981
Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губ. и различные гаданья. С. 496. (обратно)982
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 87. (обратно)983
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 181. (обратно)984
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 325. (обратно)985
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 540. (обратно)986
Сказки и предания Северного края. № 79. С. 164. (обратно)987
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 107. (обратно)988
Там же. С. 106. (обратно)989
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 67; Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 56. (обратно)990
АКНЦ. 83. № 10; Фонотека. 2223/10. (обратно)991
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 100. С. 75. (обратно)992
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 107. (обратно)993
Живая старина. 1890. Вып. 2. С. 60. (обратно)994
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 31. (обратно)995
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе. С. 32–33. (обратно)996
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 67, 70. (обратно)997
Неуступов А. Д. Представления и рассказы о домашних духах и нечистой силе в Кадниковском уезде. С. 3. (обратно)998
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 153. (обратно)999
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 108. С. 79. (обратно)1000
Там же. С. 80. (обратно)1001
Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края… Т. 3. С. 334. (обратно)1002
Там же. (обратно)1003
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 69. (обратно)1004
Демидович П. П. Из области верований и сказаний белорусов. С. 119. (обратно)1005
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания// Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 11. (обратно)1006
Белорусский сборник: Сказки космогонические и культурные/ Собрал Е. Р. Романов. Витебск, 1891. Вып. 4. № 52. С. 90. (обратно)1007
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 362. (обратно)1008
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 561. (обратно)1009
Там же. С. 71. (обратно)1010
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края… С. 176. (обратно)1011
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 42. (обратно)1012
Там же. С. 13. (обратно)1013
Там же. (обратно)1014
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе. С. 33. (обратно)1015
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 148. (обратно)1016
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 89. (обратно)1017
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 137. (обратно)1018
Honko L. Geisterglaube in Ingermanland. S. 162. (обратно)1019
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 140. (обратно)1020
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 180. (обратно)1021
Там же. (обратно)1022
Анимистические представления о жизненной силе, нетленной сущности, или душе, оказали значительное влияние на формирование многих фольклорных образов, коллизий и мотивов. Об этом см.: Криничная Н. А. Персонажи преданий. С. 32, 35, 45, 60, 65, 67, 75–76, 97, 118, 123, 151–152 и др. (обратно)1023
Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян: Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994. С. 76. (обратно)1024
Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… № 1086. С. 146. (обратно)1025
Георгиевский А. Народная демонология. С. 59–60. (обратно)1026
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 56. (обратно)1027
Там же. (обратно)1028
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 96. (обратно)1029
Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. 3. С. 310. (обратно)1030
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 96. (обратно)1031
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 30. (обратно)1032
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 153 (обратно)1033
Смоленский областной словарь. С. 178; Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 152. (обратно)1034
АКНЦ, 149. № 86. (обратно)1035
Там же. № 85. (обратно)1036
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 176. (обратно)1037
Ефименко П. Обереги и подходы// Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864. С. 20. (обратно)1038
Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. С. 79; Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 176. (обратно)1039
Там же. С. 180. (обратно)1040
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 73. (обратно)1041
Ефименко П. Обереги и подходы. С. 20. (обратно)1042
Астахова А. М. Заговорное искусство на реке Пинеге// Крестьянское искусство СССР: Искусство Севера. Л., 1928. Вып. 2. С. 47–48. (обратно)1043
АКНЦ. 149. № 72. (обратно)1044
Там же. 84. № 73; Фонотека. 2302/16. (обратно)1045
Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. С. 39. (обратно)1046
Неуступов А. Д. Следы почитания огня в Кадниковском уезде. С. 246; Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 176. (обратно)1047
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. С. 124. (обратно)1048
АКНЦ. 149. № 28. (обратно)1049
Там же. 160. № 157; Фонотека. 2737/25. См. также: Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 105–106. (обратно)1050
Осокин С. Народный быт в северо-восточной России. С. 10. (обратно)1051
Былички и бывальщины. № 87. С. 108. (обратно)1052
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 362. (обратно)1053
М. З. Домовой. С. 412. (обратно)1054
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 100. (обратно)1055
АКНЦ. 149. № 79. (обратно)1056
Криничная Н. А. Нить жизни. С. 15–16 и др. (обратно)1057
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 67. (обратно)1058
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах С. 87. (обратно)1059
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 96. (обратно)1060
Балов А., Дерунов С., Ильинский Я. Очерки Пошехонья: 3. Народные гадания. 4. Обрядность обыденной жизни. 5. Болезни и их лечение; смерть, похороны и поминки; загробная жизнь// Этнографическое обозрение. 1898. № 4. С. 85. (обратно)1061
Вербицкий В. Предрассудки и суеверия приалтайских крестьян // Томские губернские ведомости. 1863. № 12. С.)5. (обратно)1062
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда. С. 123–124. (обратно)1063
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 39. (обратно)1064
Там же. С. 38. (обратно)1065
АКНЦ. 149. № 79. (обратно)1066
Былички и бывальщины. № 89. С. 109. (обратно)1067
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 99. (обратно)1068
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77. (обратно)1069
АКНЦ. 149. № 85. (обратно)1070
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 103–104. (обратно)1071
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 87. (обратно)1072
Ильинский Я. Очерки Пошехонья… С. 85–86. (обратно)1073
Там же. С. 85. (обратно)1074
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 331. (обратно)1075
Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. С. 8, 25. (обратно)1076
Сахаров И. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 7. С. 65. (обратно)1077
Балов А. Следы языческого культа в русских народных домашних украшениях. С. 98; Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 78; Осокин С. Народный быт в северовосточной России. С. 10 и др. (обратно)1078
Сахаров И. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 7. С. 3–4, 47. (обратно)1079
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 99. (обратно)1080
Там же. (обратно)1081
Сахаров И. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 7. С. 65. (обратно)1082
АКНЦ. 149. № 72. (обратно)1083
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе. С. 32. (обратно)1084
Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг. М., 1998. № 1166. С. 202. (обратно)1085
Там же. (обратно)1086
Там же. № 1083. С. 193. (обратно)1087
Там же. № 1008. С. 182. (обратно)1088
Надеждинский. Народное здравие// Тобольские губернские ведомости. 1864. № 21. С. 160. (обратно)1089
Никифоровский М. Русское язычество. СПб., 1875. С. 117. См. также: Криничная Н. А. Леший и пастух: По материалам севернорусских мифологических рассказов, поверий и обрядов // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 181. (обратно)1090
М. З. Домовой. С. 413. (обратно)1091
Демидович П. П. Из области верований и сказаний белорусов. С.119. (обратно)1092
Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… № 992. С. 134. (обратно)1093
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 35. (обратно)1094
Демидович П. П. Из области верований и сказаний белорусов. С.119. (обратно)1095
Байбурин А. К. Восточнославянские гадания, связанные с выбором места для нового жилища// Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. Л., 1977. С. 123–130. (обратно)1096
Там же. С. 130. (обратно)1097
Криничная Н. А. Дом: его облик и душа. С. 16; она же. Русская народная историческая проза. С. 54, 58–60. (обратно)1098
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 85. (обратно)1099
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 26. (обратно)1100
Княжеский 3. Болгарские поверья. С. 204. (обратно)1101
Беляев П. Религиозные и психологические представления первобытных народов. С. 55–56. (обратно)1102
АКНЦ. 149. № 84. (обратно)1103
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 83 (обратно)1104
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии. С. 375. (обратно)1105
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 68. (обратно)1106
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 178. (обратно)1107
Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи. № 1031. С. 139. (обратно)1108
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 34. (обратно)1109
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 178. (обратно)1110
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 175. (обратно)1111
Иванов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. С. 35. (обратно)1112
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии… С. 372. (обратно)1113
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 84; Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 3. С. 333. (обратно)1114
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 109–110; Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 67; Покровский Н. А. Из истории народного двоеверия. С. 105. (обратно)1115
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 83. (обратно)1116
Там же. С. 84. (обратно)1117
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 175. (обратно)1118
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 84; Покровский Н. А. Из истории народного двоеверия. С. 105; Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 175; Этнографический сборник. СПб., 1862. Т. 5. С. 84. (обратно)1119
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 88; Этнографический сборник. СПб., 1864. Т. 6. Ст. 8. (обратно)1120
Неуступов А. Д. Следы почитания огня в Кадниковском уезде. С. 245. (обратно)1121
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 178. (обратно)1122
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 175. (обратно)1123
Былички и бывальщины. № 61. С. 90. (обратно)1124
АКНЦ. 149. № 86. (обратно)1125
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. С. 106–107. (обратно)1126
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 105. С. 77. (обратно)1127
Иванов В. В., Топоров В. Н. Волосыни// Мифологический словарь. М., 1991. С. 128. (обратно)1128
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156; Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 175. (обратно)1129
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156. (обратно)1130
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити/ Сост. К. Шумов, Е. Преженцева. Пермь, 1993. № 12. С. 17. (обратно)1131
Хопко Ф., прот. Основы православия. Минск, 1991. С. 198. (обратно)1132
Криничная Н. А. Домашний дух и святочные гадания. Петрозаводск, 1993. С. 6–8. (обратно)1133
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 498. (обратно)1134
Там же. С. 84. (обратно)1135
Криничная Н. А. Лесные наваждения: Мифологические рассказы и поверья о духе-«хозяине» леса. Петрозаводск, 1993. С. 24. (обратно)1136
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити. № 21. С. 21. (обратно)1137
Былички и бывальщины. № 94. С. 112–113. (обратно)1138
Войно-Ясенецкий Л., архиеп. Дух, душа, тело. Б. г., б. м. С. 63. (обратно)1139
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 115–116. (обратно)1140
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина. С. 65. (обратно)1141
Там же; Новгородский сборник. Новгород, 1865. Вып 1. С. 283. (обратно)1142
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина. С. 66. (обратно)1143
Криничная Н. А. Эпические произведения о принесении строительной жертвы// Фольклор и этнография. Л., 1984. С. 161; она же. Дом: его облики душа. С. 16, 25. (обратно)1144
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 123. (обратно)1145
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)1146
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 105. (обратно)1147
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 116–117. (обратно)1148
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156. (обратно)1149
Там же. С. 155. (обратно)1150
Луганский К. (Даль В.). Домовой. С. 77–78; Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина. С. 66. (обратно)1151
Токарев С. А. Сущность и происхождение магии// Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959. С. 26. (Тр. Ин-та этнографии. Нов. сер. Т. 51). (обратно)1152
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити. № 13. С. 18. (обратно)1153
Тэйлор Э. Первобытная культура. С. 266, 278. (обратно)1154
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 115. (обратно)1155
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 122. (обратно)1156
Этнографические материалы, собранные в д. Саломыковой Обоянского уезда… С. 105. (обратно)1157
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великорусов. С. 156. (обратно)1158
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… Ч. 1. С. 135. (обратно)1159
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити. № 14. С. 18. (обратно)1160
Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. С. 104. (обратно)1161
Журнал Министерства внутренних дел. 1858. № 4. С. 101–102. (обратно)1162
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… Ч. 1. С. 135. (обратно)1163
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити. № 14. С. 18. (обратно)1164
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 97. (обратно)1165
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити. № 8. С. 16. (обратно)1166
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 180. (обратно)1167
Журнал Министерства внутренних дел. 1858. № 4. С. 101–102. (обратно)1168
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити. № 11. С. 17. (обратно)1169
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 97. (обратно)1170
Рассказы о полтергейсте и прочей нежити. № 16. С. 19. (обратно)1171
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156. (обратно)1172
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 5. (обратно)1173
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156. (обратно)1174
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 175. (обратно)1175
Сахаров И. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 7. С. 54–55. (обратно)1176
АКНЦ. 149. № 86. (обратно)1177
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 117. (обратно)1178
Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края… Т. 3. С. 324. (обратно)1179
Сахаров И. Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 7. С. 54–55. (обратно)1180
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156. (обратно)1181
Никольский Н. М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. С. 24. (обратно)1182
Смоленский областной словарь. С. 179. (обратно)1183
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 180. (обратно)1184
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 156. (обратно)1185
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 180. (обратно)1186
Смоленский областной словарь. С. 179. (обратно)1187
Там же. (обратно)1188
Там же. С. 178. (обратно)1189
Сахаров И.Сказания русского народа. Т. 2. Кн. 7. С. 3, 8, 19–20, 65. (обратно)1190
Криничная Н. А. Дом: его облик и душа. С. 19–20. (обратно)1191
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С.105. (обратно)1192
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. С. 23. (обратно)1193
Там же; Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 155. (обратно)1194
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С.69. (обратно)1195
Ср. с аналогичным мотивом в сюжете «невеста из бани»// Криничная Н. А. «Сынове бани»: Мифологические рассказы и поверья о баеннике // Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 70. (обратно)1196
Логинов К. К. О жертвоприношениях в Заонежье. С. 55. (обратно)1197
Демидович П. П. Из области верований и сказаний белорусов. С. 118. (обратно)1198
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков. С. 4–5. (обратно)1199
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 155. (обратно)1200
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 67–68. (обратно)1201
Там же. С. 86. (обратно)1202
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 155. (обратно)1203
Там же. С. 189. (обратно)1204
Балов А. Следы языческого культа в русских народных домашних украшениях. С. 99; «На каждый день» И. Тюменева. Кн. 6. С. 132 (Прилож. к журн. Русский паломник); Нечистая сила: Этнографическое Бюро князя Тенишева. СПб., 1890. С. 99. (обратно)1205
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С.107. (обратно)1206
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 183. (обратно)1207
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 70. (обратно)1208
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина. С. 66. Сн. 32. (обратно)1209
Криничная Н. А. Магия слова и народный этикет: К семантике и тождеству формул приглашения домового в новое жилище // Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995. С. 69. (обратно)1210
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии // Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864. С. 64–65. (обратно)1211
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 180. (обратно)1212
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 87. (обратно)1213
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. Разд. 4. С. 75. (обратно)1214
М. З. Домовой. С. 414. (обратно)1215
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. С. 179. (обратно)1216
Афанасьев А. Н. Религиозно-языческое значение избы славянина. С. 59. (обратно)1217
Балов А. Следы древних верований в народном иконопочитании. С. 218. (обратно)1218
М. З. Домовой. С. 412. (обратно)1219
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания// Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 8. (обратно)1220
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда// Отечественные записки. 1848. Т. 4. Отд. 8. С. 141. (обратно)1221
Архив Карельского научного центра РАН (далее — АКНЦ). 84. № 3 (первая цифра обозначает номер коллекции, вторая — единицу хранения в ней); Фонотека Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (далее — Фонотека). 2300/3 (первая цифра обозначает номер кассеты, вторая — порядковый номер записи на ней). (обратно)1222
АКНЦ. 7. № 11. (обратно)1223
Там же. 41. № 152. (обратно)1224
Там же. 23. № 134; Фонотека. 1430/7. (обратно)1225
Там же. 128. № 27; Фонотека. 1374/4. (обратно)1226
Там же. 23. № 297; Фонотека. 1439/17. (обратно)1227
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефименко: Описание внешнего и внутреннего быта. М., 1877. Ч. 1. С. 164. (обратно)1228
АКНЦ. 23. № 395. (обратно)1229
Там же. № 136; Фонотека. 1430/9. (обратно)1230
Там же. № 400; Фонотека. 1444/5. (обратно)1231
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. М., 1922. С. 76. (обратно)1232
АКНЦ. 23. № 326; Фонотека. 1441/5. (обратно)1233
Там же. № 453; Фонотека. 1446/19. (обратно)1234
Там же. 192. № 35; Фонотека. 3270/7. (обратно)1235
Сказки и предания Самарского края/ Собр. и зап. Д. Н. Садовниковым. СПб., 1884. № 94. С. 283. (обратно)1236
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983. С. 164 (обратно)1237
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов: Этнографический очерк. Гродно, 1895. С. 78. (обратно)1238
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост., автор коммент. О. А. Черепанова. СПб., 1996. № 136. С. 48. (обратно)1239
АКНЦ. 149. № 64. (обратно)1240
Там же. 39. № 38. (обратно)1241
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 79. (обратно)1242
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. С. 75. (обратно)1243
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 8. (обратно)1244
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях// Живая старина. 1908. Вып. 1. С. 7. (обратно)1245
АКНЦ. 39. № 13а. (обратно)1246
Лесков Н. Представления кореляков о нечистой силе// Живая старина. 1893. Вып. 3. Отд. V. Смесь. С. 418. (обратно)1247
АКНЦ. 134. № 147. (обратно)1248
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 7. (обратно)1249
АКНЦ. 134. № 148. (обратно)1250
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 34. (обратно)1251
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 8. (обратно)1252
Былички и бывальщины/ Сост. К. Шумов. Пермь, 1991. № 29. С. 54–55. (обратно)1253
Симонсуури Л. Указатель типов и мотивов финских мифологических рассказов/ Пер. с нем. Н. А. Петрушинской. Петрозаводск, 1991. К. 2. С. 144. (обратно)1254
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов// Этнографическое обозрение. 1896. № 2–3. С. 158. (обратно)1255
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 70, 72. (обратно)1256
Чулков М. Д. Абевега русских суеверий. СПб., 1786. С. 233. (обратно)1257
АКНЦ. 6. № 85. (обратно)1258
Сказки и предания Самарского края. № 68а. С. 227. (обратно)1259
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе // Этнографическое обозрение. 1890. № 4. С. 34. (обратно)1260
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 74–75. (обратно)1261
Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. СПб., 1849. Т. 2. Кн. 7. С. 61. (обратно)1262
Там же. (обратно)1263
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 161. С. 53. (обратно)1264
АКНЦ. 192. № 137; Фонотека. 3276/3. (обратно)1265
Там же. 23. № 326; Фонотека. 1441/5. (обратно)1266
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. С. 76 (обратно)1267
АКНЦ. 21. № 210. (обратно)1268
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 72. (обратно)1269
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 36. (обратно)1270
Сказки Терского берега Белого моря/ Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л., 1970. № 36. С. 119. (обратно)1271
Былички и бывальщины. № 26. С. 52. (обратно)1272
Криничная Н. А. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа. Л., 1988. С. 133. (обратно)1273
Сказки и предания Самарского края. № 68а. С. 226–227. (обратно)1274
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 10. (обратно)1275
Сказки и предания Самарского края. № 94. С. 283. (обратно)1276
Там же. № 68 в. С. 227. (обратно)1277
Сказки и предания Северного края/ Зап., вступ. статья, коммент. И. В. Карнауховой; предисл. Ю. М. Соколова. М.; Л., 1934. № 145. С. 294. (обратно)1278
Там же. № 116. С. 219. (обратно)1279
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. С. 76. (обратно)1280
АКНЦ. 21. № 194. (обратно)1281
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 36. (обратно)1282
Цейтлин Г. Знахарства и поверья в Поморье// Изв. Архангельского об-ва изучения Русского Севера. 1912. № 4. С. 157. (обратно)1283
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. № 41. С. 35. (обратно)1284
Там же. Комментарии. № 41. С. 329. (обратно)1285
АКНЦ. 23. № 446; Фонотека. 1446/12. (обратно)1286
Верования великоруссов Шенкурского уезда: Из летней экскурсии 1916 года / Собр. и зап. П. Г. Богатырев// Этнографическое обозрение. 1916. № 3–4. С. 49. (обратно)1287
АКНЦ. 83. № 28; Фонотека. 2225/1. (обратно)1288
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии// Этнографическое обозрение. 1899. № 3. С. 20. (обратно)1289
АКНЦ. 40. № 11. (обратно)1290
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 74. (обратно)1291
Былички и бывальщины. № 39. С. 66. (обратно)1292
Там же. № 32. С. 57–58. (обратно)1293
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 158. (обратно)1294
Легенды. Предания. Бывальщины / Сост., подгот. текстов, вступ. статья, примеч. Н. А. Криничной. М… 1989. С. 184. (обратно)1295
Из преданий и поверий Череповецкого уезда / Сообщил М. Н. Герасимов // Этнографическое обозрение. 1898. № 4. Смесь. С. 130. (обратно)1296
АКНЦ. 134. № 45; Фонотека. 1622/3. (обратно)1297
Неуступов А. Д. Представление и рассказы о домашних духах и нечистой силе в Кадниковском уезде // Ярославские зарницы. 1910. № 49. С. 3. См. также: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 36. (обратно)1298
АКНЦ. 39. № 14а. (обратно)1299
Там же. (обратно)1300
Криничная Н. А. Персонажи преданий. С. 133. (обратно)1301
Там же. С. 134. (обратно)1302
АКНЦ. 23. № 297; Фонотека. 1439/17. (обратно)1303
Там же. 83. № 30; Фонотека. 2225/3. (обратно)1304
Щепанская Т. Б. Культура дороги на Русском Севере. Странник// Русский Север: Ареалы и культурные традиции. СПб., 1992. С. 102–126. (обратно)1305
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 50. (обратно)1306
Былички и бывальщины. № 27. С. 52. (обратно)1307
Там же. (обратно)1308
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 7. (обратно)1309
Былички и бывальщины. № 26. С. 52. (обратно)1310
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 72. (обратно)1311
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии// Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864. С. 49. (обратно)1312
АКНЦ. 127. № 1; фонотека. 1176/1. (обратно)1313
Былички и бывальщины. № 44. С. 71. (обратно)1314
АКНЦ. 23. № 235; Фонотека. 1436/3. (обратно)1315
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 72. (обратно)1316
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 33. (обратно)1317
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 72. (обратно)1318
Новгородский сборник. Новгород, 1865.1. С. 284; Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 7. (обратно)1319
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 49. (обратно)1320
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 139. (обратно)1321
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. С. 76. (обратно)1322
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 158. (обратно)1323
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 34. (обратно)1324
АКНЦ. 23. № 310; Фонотека. 1440/12. (обратно)1325
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефименко. М… 1878. Ч. 2. С. 51. (обратно)1326
Легенды. Предания. Бывальщины. С. 197. (обратно)1327
АКНЦ. 23. № 297; Фонотека. 1439/17. (обратно)1328
Былички и бывальщины. № 31. С. 56–57. (обратно)1329
АКНЦ. 23. № 297; Фонотека. 1439/17. (обратно)1330
Там же. 192. № 25; Фонотека. 3269/11. (обратно)1331
Там же. 34. № 57. (обратно)1332
Там же. 127. № 6; Фонотека. 1176/6. (обратно)1333
Там же. 23. № 326; Фонотека. 1441/5. (обратно)1334
Там же. № 297; Фонотека. 1439/17. (обратно)1335
Былички и бывальщины. № 28. С. 54. (обратно)1336
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 8. (обратно)1337
АКНЦ. 23. № 136; Фонотека. 1430/9. (обратно)1338
Там же. № 297; Фонотека 1439/17. (обратно)1339
Там же. 127. № 1; Фонотека. 1176/1. (обратно)1340
Там же. № 6; Фонотека. 1176/6. (обратно)1341
Там же. 23. № 398; Фонотека. 1444/3. Варианты: АКНЦ. 23. № 134а, 354; Фонотека. 1430/7,1442/9. (обратно)1342
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефименко. Ч. 2. С. 153. (обратно)1343
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 20. (обратно)1344
Легенды. Предания. Бывальщины. С. 184–185. (обратно)1345
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 47. (обратно)1346
См., например: АКНЦ. 23. № 321; Фонотека. 1440/23. (обратно)1347
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 78. (обратно)1348
Криничная Н. А. Персонажи преданий. С. 45. (обратно)1349
АКНЦ. 23. № 385; Фонотека. 1443/18. (обратно)1350
Там же. 102. № 67; Фонотека. 2466/22. (обратно)1351
Там же. 23. № 378; Фонотека. 1443/11. (обратно)1352
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе. С. 36; Чулков М. Д. Абевега русских суеверий. С. 233. (обратно)1353
АКНЦ. 6. № 97. (обратно)1354
Там же. 25. № 18. (обратно)1355
Криничная Н. А. Персонажи преданий. С. 133–134. (обратно)1356
АКНЦ. 192. № 137; Фонотека. 3276/3. (обратно)1357
Соловьев С. М. Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, во времена языческие // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. 1850. Кн. 1. С. 15. (обратно)1358
АКНЦ. 23. № 136; Фонотека. 1430/9. (обратно)1359
Там же. 39. № 146. (обратно)1360
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 5 2. (обратно)1361
АКНЦ. 84. № 75; Фонотека 2302/18. (обратно)1362
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 137. (обратно)1363
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе. С. 35. (обратно)1364
Ушаков Д. Материалы по народным верованиям великоруссов. С. 160. (обратно)1365
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 24. (обратно)1366
Там же. (обратно)1367
О том свете и об этом/ Зап. Г. К. Заварицкий// Этнографическое обозрение. 1916. Кн. 109–110. № 1–2. Смесь. С. 79. (обратно)1368
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефименко. М., 1877. Ч. 1. С. 194. (обратно)1369
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 38. (обратно)1370
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 131. С. 48. (обратно)1371
Смоленский этнографический сборник/ Сост. В. Н. Добровольский. СПб., 1891. Ч. 1. № 32. С. 94 (Зап. имп. Русского географического об-ва по отделению этнографии. Т. 20). (обратно)1372
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 69. (обратно)1373
Там же. С. 69–70. (обратно)1374
См.: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 44. (обратно)1375
Подробнее см.: Криничная Н. А. Персонажи преданий. (обратно)1376
Иванов В. В. Волк // Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 242. (обратно)1377
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 10–11. (обратно)1378
Сказки и предания Северного края. № 116. С. 219. (обратно)1379
Сказки и предания Самарского края. № 94. С. 283. (обратно)1380
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 50; Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 70–71. (обратно)1381
АКНЦ. 128. № 8; Фонотека. 1372/8. (обратно)1382
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 46. (обратно)1383
Архангельские губернские ведомости (далее — АГВ). 1849. № 27. (обратно)1384
Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1: Запреты на охоте и иных промыслах// Сб. Музея антропологии и этнографии. Л., 1929. Т. 8. С. 96–97. (обратно)1385
Сказки и предания Самарского края. № 68 в. С. 227. (обратно)1386
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 30. (обратно)1387
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 49. (обратно)1388
Смоленский этнографический сборник. № 21. С. 88. (обратно)1389
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 58. С. 47. (обратно)1390
Там же. № 59. С. 48. (обратно)1391
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 51–52. (обратно)1392
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 7. (обратно)1393
Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1875. Вып 1. С. 43. (обратно)1394
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 51. (обратно)1395
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 205. (обратно)1396
АКНЦ. 23. № 134; Фонотека. 1430/7. (обратно)1397
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 52. (обратно)1398
Южанин А. С. Суеверия и обычаи в Поморье// Ярославские зарницы. 1910. № 43. С. 3. (обратно)1399
N. Большая Шалга (сельский приход в Каргопольском уезде)// ОГВ. 1888. № 98. С. 971. (обратно)1400
Южанин А. С. Суеверия и обычаи в Поморье. С. 3–4. (обратно)1401
АКНЦ. 23. № 134; Фонотека. 1430/7. (обратно)1402
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 23. (обратно)1403
N. Большая Шалга (сельский приход в Каргопольском уезде)// ОГВ. 1888. № 99. С. 979. (обратно)1404
Великорусские заклинания: Сб. Л. Н. Майкова / Послесл., примеч., подгот. текста А. К. Байбурина. СПб.; Париж, 1992. № 368. С. 158. (обратно)1405
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 137. (обратно)1406
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. С. 137. (обратно)1407
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 137. (обратно)1408
АКНЦ. 23. № 134; Фонотека. 1430/7. (обратно)1409
Сказки, песни, частушки Вологодского края/ Сост. В. В. Гура. Вологда, 1965. № 8. С. 209. (обратно)1410
Там же. № 7. С. 208. (обратно)1411
Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда// Живая старина. 1892. Вып. 3. С. 42. (обратно)1412
АКНЦ. 23. № 288; Фонотека. 1439/8. (обратно)1413
Харитонов А. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. С. 144. (обратно)1414
Минорский П. Из мира народных поверий жителей Вытегорского уезда// ОГВ. 1875. № 91. С. 1, 014. (обратно)1415
Там же. (обратно)1416
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 71. (обратно)1417
Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киев, 1890. С. 392–393. (обратно)1418
N. Большая Шалга. С. 971. (обратно)1419
Röhrich L. Die Sagen vom Herrn der Tiere. Kiel; Berlin, 1961. S. 349. (обратно)1420
Повесть временных лет/ Подгот. текста Д. С. Лихачева. М.; Л., 1950. Ч. 1. С. 25. (обратно)1421
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 39–40. (обратно)1422
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. С. 306. (обратно)1423
Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 40. (обратно)1424
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 50. (обратно)1425
АКНЦ. 149. № 64. (обратно)1426
Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1961. С. 16, 24. (обратно)1427
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии// Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 315–316. (обратно)1428
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 10. (обратно)1429
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 7. (обратно)1430
Там же. С. 8. (обратно)1431
Там же. (обратно)1432
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 52–53. (обратно)1433
Там же. С. 50. (обратно)1434
АКНЦ. 127. № 28; Фонотека. 1177/15. (обратно)1435
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 51. (обратно)1436
Там же. (обратно)1437
Там же. (обратно)1438
Там же. (обратно)1439
АКНЦ. 23. № 526. (обратно)1440
Там же. 136. № 51. Фонотека. 2523/22. (обратно)1441
Там же. 127. № 28. Фонотека. 1177/15. (обратно)1442
Там же. 136. № 51. Фонотека. 2523/22. (обратно)1443
Криничная Н. А. О сакральной функции пастушьей трубы: По материалам северных пастушеских обрядов // Русский Север: Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики. Л., 1986. С. 184–186. См. также статьи о пастушестве в этом же сборнике: Бобров А. Г., Финченко А. Е. Рукописный отпуск в пастушеской обрядности Русского Севера (конец XVIII — начало XX в.); Гуляева Л. П. Пастушеская обрядность на р. Паше: Традиция и современность; Фишман О. М. Связь пастушеской и свадебной обрядности у карел; Щепанская Т. Б. «Знание» пастуха в связи с его статусом: Севернорусская традиция XIX — начала XX в. (обратно)1444
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда. Олонецкой губернии. С. 315. (обратно)1445
Там же. (обратно)1446
Ефименко П. С. Договор найма пастухов// Зап. имп. Русского географического об-ва по отделению этнографии. 1878. Т. 8. Отд. 1. С. 62–63. (обратно)1447
Ефименко А. Я. Юридические обычаи лопарей, карел и самоедов Архангельской губернии// Зап. имп. Русского географического об-ва по отделению этнографии. СПб., 1878. Т. 8. Отд. 2. С. 132. (обратно)1448
АКНЦ. 136. № 113; Фонотека. 2525/35. (обратно)1449
Линевский А. М. 1) Материалы к обряду «отпуска» в пастушестве Карелии (Летнеконецкая вол. Карельской АССР)// Этнограф-исследователь. 1928. № 23. С. 41–45; 2) Материалы по этнографии и обычному праву карел Сегозерского района // Археолого-этнографический сборник / Сост. А. М. Линевский. Петрозаводск, 1936–1937. С. 169–196 (АКНЦ. ф. 1, оп. 32, ед. хр. № 194). (обратно)1450
Линевский А. М. Материалы по этнографии и обычному праву карел Сегозерского района. С. 176. (обратно)1451
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 51. (обратно)1452
АКНЦ. 136. № 103; Фонотека. 2525/25. (обратно)1453
Рейли М. В. Былички и поверья об «отпуске» пастуха (По материалам Архангельской области)// Русский фольклор. Л., 1989. Т. 25. С. 190. (обратно)1454
АКНЦ. 23. № 526. (обратно)1455
Там же. 134. № 41; Фонотека. 1621/20. (обратно)1456
Там же. 23. № 526. (обратно)1457
Там же. 134. № 41; Фонотека. 1621/20. (обратно)1458
Rantasalo А. V. Karjataikoja. 2// Suomen kansan muinaisia taikoja. Helsinki, 1933. Vol. 4. S. 687. (обратно)1459
Рейли М. В. Былички и поверья об «отпуске» пастуха. С. 190. (обратно)1460
АКНЦ. 136. № 51; Фонотека. 2523/22. (обратно)1461
Там же. 134. № 41; Фонотека. 1621/20. (обратно)1462
О магической функции батога в карельской обрядности см: Сурхаско Ю. Ю. Козичендашаува — жезл колдуна на карельской свадьбе// Сб. Музея антропологии и этнографии. Л., 1972. Вып. 28. С. 199–207. См. также: Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 57–58. (обратно)1463
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 5 2. (обратно)1464
Линевский А. М. Материалы по этнографии и обычному праву карел Сегозерского района. С. 174–175; Тароева (Никольская) Р. Ф. Материальная культура карел: Этнографический очерк. М.; Л., 1965. С. 33. (обратно)1465
АКНЦ. 6. № 76. (обратно)1466
См.: Гаген-Торн Н. О «бабьем празднике» у ижор (Ленинградского района)// Этнография. 1930. № 3. С. 74. (обратно)1467
Рейли М. В. Былички и поверья об «отпуске» пастуха. С. 191. (обратно)1468
Там же. (обратно)1469
АКНЦ. 133. № 197; Фонотека. 1943/13. (обратно)1470
Линевский А. М. Материалы к обряду «отпуска» в пастушестве Карелии. С. 45. (обратно)1471
Rantasalo A. V. Karjataikoja. 2. S. 672. (обратно)1472
Бурцев А. Е. Нечистая сила. Пг., 1915. Т. 1. С. 20. (обратно)1473
АКНЦ. 134. № 41; Фонотека. 1621/20. (обратно)1474
Там же. (обратно)1475
Там же. 23. № 329; Фонотека. 1441/8. См. также: № 385; Фонотека. 1443/18. (обратно)1476
Былички и бывальщины. № 56. С. 83–84. (обратно)1477
АКНЦ. 23. № 347; Фонотека. 1442/2. (обратно)1478
Там же. 128.№ 9; Фонотека. 1372/9. (обратно)1479
Былички и бывальщины. № 36. С. 63. (обратно)1480
АКНЦ. 39. № 38. (обратно)1481
Там же. 23. № 544. (обратно)1482
Рейли М. В. Былички и поверья об «отпуске» пастуха. С. 190. (обратно)1483
АКНЦ. 192. № 75; Фонотека. 3272/13. (обратно)1484
Там же. 23. № 446; Фонотека. 1446/12. См. также: № 329; Фонотека. 1441/8. (обратно)1485
Там же. № 385; Фонотека. 1443/18. (обратно)1486
Былички и бывальщины. № 35. С. 61–62. (обратно)1487
Там же. С. 62–63. (обратно)1488
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 22. (обратно)1489
Там же. (обратно)1490
АКНЦ. 192. № 137; Фонотека. 3276/3. (обратно)1491
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 309. (обратно)1492
АКНЦ. 102. № 67; Фонотека. 2466/22. (обратно)1493
Там же. 84. № 74; Фонотека. 2302/17. (обратно)1494
Там же. 23. № 379; Фонотека.1443/12. (обратно)1495
Там же. № 399; Фонотека. 1444/4. (обратно)1496
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 316. (обратно)1497
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 40. (обратно)1498
АКНЦ. 23. № 395; Фонотека. 1443/28. (обратно)1499
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии// Сб. сведений для изучения быта крестьянского населения России. М., 1890. Вып. 2. С. 124 (Изв. Имп… Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 69: Тр. этнографического отдела. 1890. Т. 11. Вып. 1). (обратно)1500
АКНЦ. 192. № 63; Фонотека. 3272/1. (обратно)1501
Там же. 23. № 399; Фонотека. 1444/4. (обратно)1502
Суеверия и предрассудки в простом народе// ОГВ. 1885. № 76. С. 673; Георгиевский А. Народная демонология// Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1902. Вып. 4. С. 56–57. (обратно)1503
Суеверия и предрассудки в простом народе. С. 673. (обратно)1504
Там же. (обратно)1505
Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края. Дмитров, 1930. С. 181. (обратно)1506
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. С. 316. (обратно)1507
АКНЦ. 23. № 329; Фонотека. 1441/8. (обратно)1508
Там же. 6. № 85. (обратно)1509
Там же. 23. № 395; Фонотека. 1443/28. (обратно)1510
Там же. 21. № 219. (обратно)1511
Там же. 192. № 75; Фонотека. 3272/13. (обратно)1512
Живая старина. 1908. Вып. 4.№ 77. С. 75. (обратно)1513
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. С. 124. (обратно)1514
Былички и бывальщины. № 35. С. 61–63. (обратно)1515
Там же. (обратно)1516
АКНЦ. 102. № 67; Фонотека. 2466/22. (обратно)1517
Там же. 6. № 97. (обратно)1518
Там же. 23. № 384; Фонотека. 1443/17. (обратно)1519
Там же. № 386; Фонотека. 1443/19. (обратно)1520
Там же. 192. № 35; Фонотека. 3270/7. (обратно)1521
Там же. 128. № 27; Фонотека. 1374/4. (обратно)1522
Там же. № 93. (обратно)1523
Там же. 21. № 100. (обратно)1524
Там же. 134. № 148. (обратно)1525
Там же. 128. № 27; Фонотека. 1374/4. (обратно)1526
Там же. № 93. (обратно)1527
Там же. 134. № 148. (обратно)1528
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 2. С. 340. (обратно)1529
АКНЦ. 84. № 146; Фонотека. 2305/14. (обратно)1530
Там же. 192. № 47; Фонотека. 3270/19. (обратно)1531
Веселовский А. Н. Поэтика сюжета. Л., 1940. С. 517. (обратно)1532
АКНЦ. 128. № 10; Фонотека. 1372/10. (обратно)1533
Там же. 127. № 1; Фонотека. 1176/1. (обратно)1534
Там же. 192. № 30; Фонотека. 3270/2. (обратно)1535
Там же. № 114; Фонотека. 3274/11. (обратно)1536
Там же. 102. № 66; Фонотека. 2466/21 (обратно)1537
Там же. (обратно)1538
Там же. 23. № 400; Фонотека. 1444/5. (обратно)1539
Там же. 192. № 154; Фонотека. 3277/2. (обратно)1540
Там же. 102. № 66; Фонотека. 2466/21. (обратно)1541
Там же. 83. № 9; Фонотека. 2223/9. (обратно)1542
Там же. 127. № 100; Фонотека. 1181/13. (обратно)1543
Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губернии): Сб. Н. Е. Ончукова. СПб., 1908. № 179. С. 444. (обратно)1544
АКНЦ. 102. № 66; Фонотека. 2466/21. (обратно)1545
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 340. (обратно)1546
АКНЦ. 127. № 4; Фонотека. 1176/4. (обратно)1547
Там же. № 97; Фонотека. 1181/10. (обратно)1548
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 341. (обратно)1549
АКНЦ. 25. № 18. (обратно)1550
Там же. 128. № 10; Фонотека. 1372/10. (обратно)1551
Там же. 25. № 18. (обратно)1552
Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре: По поводу сказки о Несмеяне // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 203. (обратно)1553
Там же. С. 184–185, 188–191. (обратно)1554
АКНЦ. 192. № 153; Фонотека. 3277/1. (обратно)1555
Там же. № 109; Фонотека. 3274/6. (обратно)1556
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 342. (обратно)1557
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 21. (обратно)1558
Анисимов А. Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований. М.; Л., 1958. С. 72. (обратно)1559
АКНЦ. 102. № 66; Фонотека. 2466/21. (обратно)1560
Там же. 192. № 32; Фонотека. 3270/4. (обратно)1561
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 6. (обратно)1562
АКНЦ. 6. № 104. (обратно)1563
Там же. 149. № 78. (обратно)1564
Там же. 84. № 146; Фонотека. 2305/14. (обратно)1565
Там же. 83. № 9; Фонотека. 2223/9. (обратно)1566
Там же. 23. № 138; Фонотека. 1430/11. (обратно)1567
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах// Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13. Вып. 1: Тр. этнографического отдела. 1874. Кн. 3. Вып. 1. С. 89. (обратно)1568
Минорский П. Из мира народных поверий жителей Вытегорского уезда. С. 1, 014. (обратно)1569
Георгиевский А. Народная демонология. С. 57. (обратно)1570
АКНЦ. 84. № 3; Фонотека. 2300/3. (обратно)1571
Там же. 23. № 135; Фонотека. 1430/8. (обратно)1572
Там же. 128. № 89. (обратно)1573
Там же. № 13; Фонотека. 1372/13. (обратно)1574
Там же. 134. № 45; Фонотека. 1622/3. (обратно)1575
Там же. 23. № 135; Фонотека. 1430/8. (обратно)1576
Там же. 41. № 16. (обратно)1577
Там же. 23. № 137; Фонотека. 1430/10. (обратно)1578
Там же. 41. № 16. (обратно)1579
Там же. 127. № 101; Фонотека. 1182/1. (обратно)1580
Там же. 41. № 16. (обратно)1581
Там же. 7. № 24. (обратно)1582
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 9. (обратно)1583
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 88. (обратно)1584
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии. С. 23–24. (обратно)1585
АКНЦ. 21. № 209. (обратно)1586
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 88. (обратно)1587
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. С. 75. (обратно)1588
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 6. (обратно)1589
Там же. С. 5. (обратно)1590
АКНЦ. 21. № 194. (обратно)1591
Там же. (обратно)1592
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1. С. 66. (обратно)1593
Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии… Ч. 1. С. 194. (обратно)1594
Лесков Н. Представления кореляков о нечистой силе. С. 419. (обратно)1595
АКНЦ. 21. № 209. (обратно)1596
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 52. (обратно)1597
АКНЦ. 84. № 36; Фонотека. 2301/1. (обратно)1598
Там же. № 10; Фонотека. 2302/13. (обратно)1599
Там же. 134. № 44; Фонотека. 1622/2. (обратно)1600
Там же. (обратно)1601
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 6. (обратно)1602
Былички и бывальщины. № 55. С. 83. (обратно)1603
АКНЦ. 6. № 104. (обратно)1604
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. С. 54. (обратно)1605
АКНЦ. 15. № 9. (обратно)1606
Там же. 127. № 100; Фонотека. 1181/13. (обратно)1607
Там же. № 100; Фонотека. 1182/1. (обратно)1608
Там же. 15. № 9. (обратно)1609
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 75. (обратно)1610
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 5 3. (обратно)1611
АКНЦ. 39. № 37; Сказки Терского берега Белого моря. № С. 360. (обратно)1612
АКНЦ. 149. № 78. (обратно)1613
Добровольский В. Н. Нечистая сила в народных верованиях. С. 7. (обратно)1614
АКНЦ. 84. № 36; Фонотека. 2301/1. (обратно)1615
Там же. 21. № 194. (обратно)1616
Там же. 149. № 38. (обратно)1617
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Т. 1.С.66. (обратно)1618
N. Большая Шалга (сельский приход в Каргопольском уезде). С. 971. (обратно)1619
Ефименко П. Демонология жителей Архангельской губернии. С. 52. (обратно)1620
АКНЦ. 23. № 565. (обратно)1621
Там же. № 590. (обратно)1622
Криничная Н. А. На росстани: Мифологема судьбы в фольклорно-этнографическом освещении// Этнографическое обозрение. 1997. № 3. С. 32–45. (обратно)1623
АКНЦ. 134. № 5,16; Фонотека. 1620/5,16. (обратно)1624
Там же. № 16; Фонотека. 1620/16. (обратно)1625
Там же. (обратно)1626
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1838. Вып. 2. С. 45. (обратно)1627
АКНЦ. 128. № 8; Фонотека. 1372/8. (обратно)1628
Там же. 39. № 13в. (обратно)1629
Там же. 83. № 20; Фонотека. 2224/7. (обратно)1630
Виноградова Л. Н. Функции приговоров в ритуалах славянских гаданий // Традиционные культуры и среда обитания: 1-я Междунар. конф.: Тез. Москва, 15–19 мая. М., 1993. С. 114. (обратно)1631
Верования великоруссов Шенкурского уезда. С. 72. (обратно)1632
АКНЦ. 39. № 14а. (обратно)1633
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 125. С. 47. (обратно)1634
АКНЦ. 83. № 28; Фонотека. 2225/1. (обратно)1635
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 151. С. 51. (обратно)1636
Аверинцев С. С. Вода// Мифы народов мира. М., 1980. Т. I. С. 240. (обратно)1637
Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987. С. 43–53. (обратно)1638
Аверинцев С. С. Вода. С. 240. (обратно)1639
Архив Карельского научного центра Российской Академии наук (в дальнейшем — АКНЦ). 23. № 503 (первая цифра обозначает номер коллекции, вторая — единицу хранения в ней). (обратно)1640
Там же. № 274. (обратно)1641
Там же. № 132. (обратно)1642
Там же. 160. № 155. (обратно)1643
Мифологические рассказы о водяном отчасти уже рассматривались нашими предшественниками. См.: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975; Зиновьев В. П. Жанровые особенности быличек. Иркутск, 1974; Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири/ Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. (обратно)1644
Беседников П. Куштозерский приход и озеро Куштозеро// Олонецкие губернские ведомости (в дальнейшем — ОГВ). 1875. № 68. С. 768. (обратно)1645
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания// Живая старина. 1894. Вып. I. С. 9. (обратно)1646
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах// Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 13. Вып. I: Труды этнографического отдела. 1874. Кн. 3. Вып. I. С. 89. (обратно)1647
АКНЦ. 149. № 80. (обратно)1648
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 92. (обратно)1649
Былички и бывальщины/ Сост. К. Шумов. Пермь, 1991. № 12. С. 38. (обратно)1650
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983. С. 34. См. также: Встану я благословясь…/ Изд. подгот. Ю. И. Смирновым, В. Н. Ильинской. М., 1992. № 9. С. 16 (№ 4. С. 14). (обратно)1651
Анализу образа русалки посвящена специальная монография: Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Пг., 1916. Новейшее, основанное на славянских материалах исследование см.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской мифологии// Славянский и балканский фольклор: Верования, текст, ритуал. М., 1994. С. 16–44. (обратно)1652
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. С. 34. (обратно)1653
АКНЦ. 127. № 5. (обратно)1654
Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1988. Кн. I. Т. I. Гл. III. Стб. 55. (обратно)1655
Романов Е. Г. Белорусский сборник. Вильна, 1912. Вып. VII. С. 289. (обратно)1656
Иванов В. В. Лунарные мифы// Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 79. (обратно)1657
АКНЦ. Разр. 6. Оп. I. № 22. Л. 20–21. (обратно)1658
Там же. 23. № 320. (обратно)1659
Волжский фольклор/ Сост. В. М. Сидельников, В. Ю. Крупянская. М., 1937. № 21. С. 65–66. (обратно)1660
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 91. (обратно)1661
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 89. (обратно)1662
Смирнов М. И. Сказки и песни Переславль-Залесского уезда. М., 1922. Разд. 2. С. 73–74. (обратно)1663
Сказки и предания Самарского края/ Собр. и зап. Д. Н. Садовниковым. СПб., 1884. № 68з. С. 229. (обратно)1664
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 90. (обратно)1665
Былички и бывальщины. № 13. С. 41. (обратно)1666
АКНЦ. 84. № 39. (обратно)1667
Верования великоруссов Шенкурского уезда (Из летней экскурсии 1916 года) / Собр. и зап. П. Г. Богатырев// Этнографическое обозрение. 1916. № 3–4. С. 59. (обратно)1668
Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губ.): Сб. Н. Е. Ончукова. СПб., 1908. № 273. С. 552–553. (обратно)1669
АКНЦ. 23. № 133. (обратно)1670
Там же. Разр. 6. Оп. I. № 22. Л. 19. (обратно)1671
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979. С. 292. (обратно)1672
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 103–104. (обратно)1673
Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. СПб., 1910. С. 21. (обратно)1674
АКНЦ. Разр. 6. Оп. I. № 22. Л. 19–21. (обратно)1675
Там же. 32. № 173. (обратно)1676
Там же. 29. № 126. (обратно)1677
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 89. (обратно)1678
Р-в Г. Народная легенда// ОГВ. 1865. № 9. С. 136. (обратно)1679
Иваницкий Н. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность// Живая старина. 1898. Вып. I. С. 71. (обратно)1680
Сказки Терского берега Белого моря/ Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л., 1970. № 117з. С. 356. (обратно)1681
Там же. № 122. С. 360. (обратно)1682
Георгиевский М. Д. Кое-что об олонецких рыбаках// ОГВ. 1901. № 43. С. 2. (обратно)1683
АКНЦ. 32. № 173. (обратно)1684
Из олонецких легенд// Этнографическое обозрение. 1891. № 4. Смесь. С. 197. (обратно)1685
Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. СПб., 1849. Т. 2. Кн. 7. С. 21. (обратно)1686
Колпакова Н. Терский берег. Архангельск, 1937. С. 96. (обратно)1687
Сказки Терского берега Белого моря. № 120. С. 358–359. (обратно)1688
Георгиевский М. Д. Кое-что об олонецких рыбаках // ОГВ. № 42. С. 2. (обратно)1689
Криничная Н. А. Эпические произведения о принесении строительной жертвы// Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 154–161. (обратно)1690
АКНЦ. 27. № 114. (обратно)1691
Великорусские заклинания: Сб. А. Н. Майкова/ Послесл., примеч. и подгот. текста А. К. Байбурина. СПб. — Париж, 1992. С. 135. (обратно)1692
Цит. по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 54. (обратно)1693
Георгиевский М. Д. Кое-что об олонецких рыбаках // ОГВ.№ 37. С. 2. (обратно)1694
Барсов Е. В. Северные сказания о лембоях и удельницах. С. 89. (обратно)1695
Сказки Терского берега Белого моря. № 117з. С. 356. (обратно)1696
Георгиевский М. Д. Кое-что об олонецких рыбаках. № 37. С. 2. (обратно)1697
Там же. № 37, 42. С. 2. (обратно)1698
АКНЦ. 8. № 103. (обратно)1699
Чулков М. Д. Абевега русских суеверий. СПб., 1786. С. 68. (обратно)1700
Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии// Сб. сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. 2 (Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 69: Труды этнографического отдела. М., 1890. Т. XI. Вып. I). С. 125. (обратно)1701
Народные русские легенды А. Н. Афанасьева. Новосибирск, 1990. № 2. С. 34. (обратно)1702
Былички и бывальщины. № 10. С. 35–36. (обратно)1703
АКНЦ. 84. № 19. (обратно)1704
Легенды. Предания. Бывальщины/ Сост., подгот. текстов, вступ. статья и примеч. Н. А. Криничной. М., 1989. С. 216. (обратно)1705
Там же. С. 204. (обратно)1706
Смоленский областной словарь / Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск, 1914. С. 74. (обратно)1707
Северные сказки. № 90. С. 241. (обратно)1708
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 54. (обратно)1709
АКНЦ. 149. № 25. (обратно)1710
Сказки и предания Самарского края. № 68д. С. 227–228. (обратно)1711
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 54. (обратно)1712
Цит по: Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. С. 54. (обратно)1713
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 90. (обратно)1714
Тэйлор Э. Первобытная культура. М., 1939. С. 63. (обратно)1715
Южанин А. С. Суеверия и обычаи в Поморье// Ярославские зарницы. 1910. № 43. С. 3. (обратно)1716
Тэйлор Э. Первобытная культура. С. 63. (обратно)1717
Ляцкий Е. А. Представления белоруса о нечистой силе// Этнографическое обозрение. 1890. № 4. С. 37. (обратно)1718
Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. С. 59–60. (обратно)1719
Иваницкий Н. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность. С. 71. (обратно)1720
АКНЦ. 83. № 31. (обратно)1721
Там же. 192. № 18. (обратно)1722
Бурцев А. Е. Нечистая сила. Пг., 1915. Т. I. С. 25. (обратно)1723
АКНЦ. 192. № 17. (обратно)1724
Криничная Н. А. Лесные наваждения: мифологические рассказы и поверья о духе-«хозяине» леса. Петрозаводск, 1993. С. 27–28. (обратно)1725
Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Т. 2. Кн. 7. С. 85. (обратно)1726
Глинка Г. Древняя религия славян. Митава, 1804. С. 123. (обратно)1727
Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии// Этнографическое обозрение. 1899. № 3. С. 26–27. (обратно)1728
Георгиевский А. Креснозеро// ОГВ. 1904. № 43. С. 3. (обратно)1729
Цит. по: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 464; Пигин А. В. Народная мифология в севернорусских житиях// Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1992. Т. 48. С. 332. (обратно)1730
Перетц В. Н. Деревня Будогоща и ее предания. С. 9. (обратно)1731
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 54. (обратно)1732
Пигин А. В. Народная мифология в севернорусских житиях. С. 332. (обратно)1733
Криничная Н. А. «Сынове бани»: мифологические рассказы и поверья о баеннике// Этнографическое обозрение. 1993. № 4. С. 70–71; она же. «На роду написано»: мифологические рассказы и поверья о домашнем духе как вершителе жизненного цикла// Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1993. С. 12; она же. Лесные наваждения… С. 39. (обратно)1734
Верования великоруссов Шенкурского уезда… С. 54. (обратно)1735
АКНЦ. 192. № 65. (обратно)1736
Там же. № 45. (обратно)1737
Криничная Н. А. «Сынове бани»: мифологические рассказы и поверья о баеннике. С. 69. (обратно)1738
Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии// Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 322. (обратно)1739
АКНЦ. 127. № 5. (обратно)1740
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. С. 33–34. (обратно)1741
АКНЦ. 23. № 64. (обратно)1742
Северные предания (Беломорско-Обонежский регион)/ Изд. подгот. Н. А. Криничная. Л., 1978. № 188. С. 133. (обратно)1743
Р-ов Г. Народная легенда. С. 136. (обратно)1744
АКНЦ. Разр. 6. Оп. I. № 36. Л. 29. (обратно)1745
Криничная Н. А. Домашний дух и святочные гадания. Петрозаводск, 1993. С. 8. (обратно)1746
Там же. С. 20; Криничная Н. А. Лесные наваждения… С. 44–45. (обратно)1747
Афанасьев А. Н. Ведун и ведьма// Комета: учено-литературный альманах. М., 1851. С. 87–164. См. также: он же. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 422–595. (обратно)1748
Там же. С. 91. (обратно)1749
Юсим М. А. Ведьмы// Мифы народов мира: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 226–27. (обратно)1750
Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Ведьма // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 70–73; Слащев В. В. Ведьмак// Там же. С. 73–74. (обратно)1751
Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Ведьма // Славянские древности: Этнолингвистический словарь под ред. Н. И. Толстого: В 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 297–301. Подробнее см.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. К сравнительному изучению мифологических персонажей: вештица и ведьма // Балканские чтения — 1: Симпозиум по структуре текста. М., 1990. С. 112–115; Виноградова Л. Н. Общее и специфическое в славянских поверьях о ведьме// Образ мира в слове и ритуале: Балканские чтения — 1. М., 1992. С. 58–73. (обратно)1752
Чулков М. Абевега русских суеверий. М., 1786. С. 72–76. 79–80. (обратно)1753
Былички и бывальщины/ Сост. К. Шумов. Пермь. 1991. С. 257. 392–393. (обратно)1754
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и автор коммент. О. А. Черепанова. СПб., 1996. С. 165–166, 171. (обратно)1755
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. С. 313–318. (обратно)1756
Власова М. Новая АБЕВЕГА русских суеверий: Иллюстрированный словарь. СПб., 1995. С. 69–78, 180–187. (обратно)1757
Русский демонологический словарь/ Автор-сост. Т. А. Новичкова. СПб., 1995. С. 64–78, 243–270. (обратно)1758
Гуревич А. Я., Петрухин В. Я. Ведьмы// Мифологический словарь. М., 1991. С. 118–119; Петрухин В. Я. Колдуны// Там же. С. 293. (обратно)1759
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 109–132 (Колдун-чародей); С. 133–146 (Ведьма); С. 173–185 (Знахари-шептуны). (обратно)1760
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 423. (обратно)1761
Балов А. В. Очерки Пошехонья// Этнографическое обозрение. 1901. Кн. 51. № 4. С. 112. (обратно)1762
Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков// Зап. об-ва изучения Амурского края. Владивосток. 1904. Т. 9. Вып. 1. С. 30. (обратно)1763
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 299. С. 79. (обратно)1764
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. С. 316, 318. (обратно)1765
Власова М. Новая АБЕВЕГА русских суеверий. С. 165. (обратно)1766
Русский демонологический словарь. С. 252. (обратно)1767
См.: Славянская мифология. С. 404; Мифологический словарь. С. 712. (обратно)1768
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 303. С. 80. (обратно)1769
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1989. Т. 1. С. 237–238. 243. 330, 336. (обратно)1770
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 2. С. 212. (обратно)1771
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1991. Т. 4. С. 583. (обратно)1772
Ср.: Там же. Т. 1. С. 688; Т. 2. С. 135. (обратно)1773
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 6 вып. СПб., 1994. Вып. 1. С. 169. (обратно)1774
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1995. Вып. 2. С. 254–255. (обратно)1775
Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983. С. 15. (обратно)1776
Там же. (обратно)1777
Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898. С. 2. (обратно)1778
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1. С. 26. (обратно)1779
Там же. (обратно)1780
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 330. С. 87. (обратно)1781
Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1. С. 25. (обратно)1782
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 34. (обратно)1783
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 343. С. 90. (обратно)1784
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 175. (обратно)1785
Былички и бывальщины. № 261–265. С. 304–308. (обратно)1786
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 303. С. 80. (обратно)1787
Там же. № 357. С. 94. (обратно)1788
Там же. № 367. С. 96. (обратно)1789
Там же. № 360. С. 94. (обратно)1790
Былички и бывальщины. № 239. С. 280. (обратно)1791
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 350. С. 92. (обратно)1792
Там же. № 347. С. 92. (обратно)1793
Там же. № 315. С. 83. (обратно)1794
Былички и бывальщины. № 245. С. 289. (обратно)1795
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 353. С. 93. (обратно)1796
Там же. № 348. С. 92. (обратно)1797
Былички и бывальщины. № 276. С. 320–322. (обратно)1798
Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия… С. 30. (обратно)1799
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды: В 4 вып. М., 1837. Вып. 1. С. 90. (обратно)1800
Лаврентьевская летопись// Полное собрание русских летописей. Л., 1926. Т. 1. С. 179 (воспроизведение текста издания 1926–1928 гг. М., 1962). (обратно)1801
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 1. С. 91. (обратно)1802
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 241. С. 170. (обратно)1803
Там же. № 243. С. 172. (обратно)1804
Акты Московского государства, изданные Академией наук/ Подред. Н. А. Попова: В 3 т. СПб, 1890. Т. 1. 304. (обратно)1805
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 187. (обратно)1806
Там же. С. 188. (обратно)1807
Там же. С. 190. (обратно)1808
См. также: Криничная Н. А. Язычество и крестьянский быт: мифологические рассказы о лешем как покровителе диких животных и охотников// Традиционная культура: общечеловеческое и этническое. Проблемы комплексного изучения этносов Карелии: Материалы симпозиума. Сентябрь 1993 года. Петрозаводск, 1993. С. 112–117; она же. Леший и пастух (по материалам севернорусских мифологических рассказов, поверий и обрядов) // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 154–181, 189–190. (обратно)1809
Былички и бывальщины. № 246. С. 292. (обратно)1810
Там же. № 317. С. 371. (обратно)1811
Там же. № 303. С. 355. (обратно)1812
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. № 331. С. 87. (обратно)1813
Криничная Н. А. На синем камне: мифологические рассказы и поверья о духе-«хозяине» воды. Петрозаводск, 1994. С. 24–40. (обратно)1814
Былички и бывальщины. № 158. С. 198. (обратно)1815
Там же. № 10. С. 36. (обратно)1816
Там же. № 227. С. 267–269. (обратно)1817
Виноградов Н. Описание пчеловодства Семиловского прихода Шишкинской волости Костромского уезда // Материалы по описанию пчеловодства Костромской губернии. Кострома, 1904. Вып. 2. С. 77. (обратно)1818
Криничная Н. А. Нить жизни: реминисценции образов божеств судьбы в мифологии и фольклоре, обрядах и верованиях. Петрозаводск, 1995. (обратно)1819
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 188–189. (обратно)1820
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 303. С. 209. (обратно)1821
Там же. № 316. С. 217. (обратно)1822
(обратно)
Последние комментарии
12 часов 22 минут назад
21 часов 13 минут назад
21 часов 16 минут назад
3 дней 3 часов назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 9 часов назад