Слово о сыновьях [Зинаида Трофимовна Главан] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Слово о сыновьях
ОТ АВТОРА
Давно отшумели битвы на полях Великой Отечественной войны, отгремели залпы орудий, но каждый год в светлый майский день народ нашей страны и все прогрессивное человечество радостно отмечают праздник победы над гитлеровской Германией. Невероятных усилий, огромных жертв и безмерных страданий стоила нам эта победа. Только наш социалистический строй, наше советское государство, созданные великой партией Ленина, смогли выдержать такие тяжелые испытания. Мы не только выстояли и победили черные силы фашизма. Мы на весь мир возвеличили красу и гордость советского человека, его героизм, мужество, беспредельную любовь к Родине. Родина! Свободная и гордая, неугасимый маяк мира! Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей. У многих тысяч и миллионов матерей война жестоко отняла самое дорогое в жизни — детей. Наверное, нет такой советской семьи, которая не понесла бы тяжелой утраты. Геройской смертью пали на поле брани и два моих сына — Борис и Михаил. Оба они в первые дни Великой Отечественной войны добровольцами ушли на фронт, стали воинами Красной Армии. Сначала их зачислили в рабочий батальон. Они копали окопы, строили военные сооружения, блиндажи, продвигаясь в глубь страны. Вскоре судьба разъединила их. Когда после сильных боев под г. Николаевом наши войска оставили город, рабочий батальон расформировали. Братья были на разных участках и потеряли друг друга из виду. Несколько дней Борис ходил из одного военкомата в другой с просьбой зачислить его в ряды Красной Армии. Документов у него не было, но всё же его старания увенчались успехом: его зачислили в санитарно-хирургический отряд. Однако вскоре, узнав, что он хорошо знает румынский язык, перевели сначала в штаб дивизии, а потом в штаб полка переводчиком. Между тем Михаил, после тщетных усилий найти брата, обнаружил в своей походной сумке адрес дяди, который жил в г. Краснодоне. Михаил решил идти туда. У него не было денег на пропитание, и ему приходилось работать на полях колхозов или совхозов. Так дошел он до Донбасса. Впервые увидел он шахты, увидел, как женщины и девушки, мужья и отцы которых сражались на фронте, грузили уголь, и решил хоть немного помочь им. Только через месяц Михаил пришел в г. Краснодон. В то время мы с мужем уже жили у его брата, эвакуировавшись с большими трудностями из Молдавии. Вскоре пришло письмо от Бориса. С радостью сообщал он, что его уже зачислили в ряды Красной Армии. Михаил пробыл у нас несколько дней. Он не хотел отставать от брата и пошел в военкомат с просьбой отправить его добровольцем на фронт. Просьбу его удовлетворили: он уехал в школу миномётчиков, закончил её и с боями прошел до берегов Балтики, освобождая родную землю. Михаил погиб в бою за освобождение Эстонии в августе 1944 года. Похоронили его в селе Лапково Эстонской ССР. Летом 1942 года в боях под г. Харьковом часть, в которой служил Борис, попала в окружение. Оставался один выход: ликвидировать всё имеющееся у них имущество, часть продуктов раздать населению, а самим отдельными группами пробираться вслед за фронтом и ни в коем случае не сдаваться в плен. Борис с товарищами добрался до Краснодона, когда город уже заняли вражеские войска. Жить стало трудно. Страдание и горе вселились в каждый дом, в каждую семью. В эти мрачные дни встреча с любимым сыном была мукой. В городе повсюду бродили фашисты. Мысль, что я могу потерять сына, холодила сердце. Немцы могли в любую минуту арестовать Бориса. Когда я рассказала ему о своей материнской тревоге, Борис ласково обнял меня и тихо, но твердо сказал: «Ты напрасно не волнуйся. За наше правое дело не страшно и умереть! Не они нас, а мы их всех уничтожим и снова будем свободны». Борис, как и Михаил, не думал долго задерживаться в городе, он хотел только повидаться с нами и идти вперед, постараться во что бы то ни стало перейти линию фронта. Но этой надежде не суждено было осуществиться. Мы жили по соседству с Громовыми и Поповыми. Общительный, с открытой душой, Борис быстро познакомился с комсомольцами Ульяной Громовой и Анатолием Поповым, а потом и с другими комсомольцами, которые после неудавшейся попытки уйти из оккупированного немцами города создали свою подпольную комсомольскую организацию, назвав её «Молодая гвардия». Вся организационная и боевая деятельность «Молодой гвардии» проходила под непосредственным руководством партийной организации. Без колебаний вступил Борис в её ряды, дал клятву на верность родине и, всё время помня, что он комсомолец, дерзко и гордо смотрел в глаза опасности. Все свои силы, знания, всю страстность молодости отдал он делу священной борьбы с фашистскими захватчиками. Бессмертный подвиг молодогвардейцев известен всему миру и будет сиять в веках, как вдохновляющий пример служения Родине, беззаветного мужества и отваги. В центре Краснодона, в парке, среди деревьев и цветов, возвышается холм братской могилы и памятник, на котором начертаны все имена и фамилии погибших. Здесь похоронены отважные юноши и девушки, отдавшие свою жизнь за свободу и счастье советского народа. Здесь лежит и мой незабвенный, горячо любимый сын Боря. Не дожил он до радостного дня победы, не увидел свою родную Молдавию свободной и счастливой. Тысячи людей приезжают в Краснодон почтить светлую память героев и унести в своём сердце частицу беспримерного подвига юных подпольщиков. Приезжают из Польши, Чехословакии, Болгарии, Кубы, Монголии и многих других стран, и все, посетив музей «Молодой гвардии», оставляют в Книге отзывов трогательные записи. Вот некоторые из них:«Восхищены подвигом молодёжи Краснодона, которая погибла в борьбе за свою и нашу свободу». Польские студенты Томаки и Сосновец. «Мы — кубинцы. Нам выпало счастье первыми посетить музей «Молодой гвардии». Мы восхищены подвигом советской молодёжи в борьбе против фашизма, лозунгом которой было: «Кровь за кровь! Смерть за смерть!» Нашим лозунгом стало: «Родина или смерть! Мы победим!» По поручению кубинской делегации Герберт Лотт. «Почти у всех народов есть свои герои, но таких героев, каких дал миру советский народ в справедливой борьбе против фашизма, не дал ни один другой народ. Особое место в этой борьбе занимают молодогвардейцы, которые своим героизмом, своей самоотверженностью показали пример всей прогрессивной молодёжи мира. Многострадальный греческий народ восхищается величием духа славных сынов советского народа. Честь и слава бессмертным героям!» — Анестиз Феликидиз.А вот еще одна запись, сделанная 27.IX-1953 г. студентами Луганского пединститута им. Т. Г. Шевченко.
«Только посетив музей «Молодой гвардии», мы в полной мере увидели и осознали величие советского народа и Коммунистической партии, породивших и воспитавших таких замечательных сыновей и дочерей — пламенных патриотов своего отечества. Мы гордимся подвигом наших земляков и будем свято хранить и продолжать их традиции».…Светлую память о героях Краснодона глубоко чтит молдавский народ. Это я почувствовала сразу, как только вернулась из эвакуации на родину моих сыновей — в село Царьград. К нам приходили односельчане, выражали сочувствие в постигшем нас горе, высказывали свое восхищение подвигами молодогвардейцев и гордились боевыми делами своих земляков — наших сыновей — Бори и Миши. И позднее, когда из-за болезни мужа мы переехали в Кишинев, я получала много писем из городов и сел Молдавии и разных городов Советского Союза. В теплых и дружеских письмах советские люди не только разделяли наше большое горе, но и просили рассказать о жизни наших сыновей.
«Мы просим Вас написать нам подробно о детстве и школьных годах ваших сыновей, а мы, в свою очередь, обещаем Вам, что никогда не забудем имена героев, отдавших свои молодые жизни за свободу и счастье любимой Родины. Мы будем стараться хорошо учиться и быть такими же мужественными и храбрыми, какими были Ваши сыновья», — писали мне пионеры, школьники, комсомольцы.Нужно было отвечать на письма. Тяжело было в каждом письме рассказывать о своем горе, постоянно растравлять глубокую рану, которая не заживает, несмотря на прожитые годы. Тяжело и невыносимо больно было описывать те мучения, которым подвергались юноши и девушки в фашистских застенках. Много встреч и бесед провела я со школьниками, студентами, бойцами Советской Армии. И, хотя трудно было мне рассказывать о геройской гибели моих сыновей, я охотно шла на эти встречи. Я видела счастливых ребят, которые с горящими глазами, затаив дыхание, слушали мой рассказ. Они забрасывали меня вопросами: «Скажите, а Вы знали Олега Кошевого? А какой был Сережа Тюленин? Вы его видели? А хорошо они учились? Кто из молодогвардейцев остался в живых?» Иногда мне приходилось слышать и такой вопрос: «А почему вы не напишите обо всем, что рассказали нам?» Вот после таких встреч у меня и возникла мысль написать книгу о моих сыновьях. Мне хотелось, чтобы эта книга о Борисе, Михаиле и их товарищах вызывала у молодежи стремление стать верными сынами Советской Родины, достойными продолжателями того дела, за которое боролись молодогвардейцы. После выхода первого издания книги «Слово о сыновьях» моя переписка и встречи со школьниками не только не прекратились, а, наоборот, стали еще активнее. Годы идут, но память о героях не угасает! На слете страшеклассников-комсомольцев Черновицкой области школьник Геннадий Намяков сказал: «Мы никогда не забудем имена тех, кто сражался за нашу великую Родину и если не в боях, то в труде продолжим славные традиции ленинского комсомола». «Когда читаешь книгу «Слово о сыновьях», самому хочется стать лучше!» — пишет в своем письме Галина Чарова, ученица пятого класса школы № 34 гор. Кишинева. «Благодарю Вас, Зинаида Трофимовна и Григорий Амвросиевич, за воспитание отважных сыновей нашей Родины, какими были Ваши сыновья Борис и Михаил», — пишет участник Великой Отечественной войны Ярцев Георгий Яковлевич из гор. Краснодона. «Кто из молодогвардейцев остался в живых?» — часто спрашивают меня в письмах и на встречах. Я обратилась с запросом в музей «Молодой гвардии» в гор. Краснодоне и получила оттуда ответ. Только двенадцати коммунистам и комсомольцам-подпольщикам удалось в ту пору избежать ареста и уйти от преследования фашистского гестапо. По-разному сложились их судьбы после освобождения Краснодона. Командир «Молодой гвардии» Туркенич Иван Васильевич в рядах Советской Армии-освободительницы прошел через всю Украину и летом 1944 года при освобождении братского польского народа пал смертью героя и был похоронен на кладбище советских воинов в гор. Жешова (Польша). Коммунист Савенков Илья Александрович в рядах Советской Армии участвовал в изгнании оккупантов из Донбасса. В 1944 году погиб на фронте. Комсомолец Сафонов Степан Степанович перешел линию фронта. В боях за освобождение гор. Каменска в Донбассе 20 января 1943 года был убит и похоронен на Рыгинском кладбище в гор. Каменске. Ковалев Анатолий Васильевич 31 января 1943 года, когда молодогвардейцев везли на казнь, бежал. Известно, что до мая 1943 года находился на территории Запорожской области, потом его следы теряются. Ковалев пропал без вести. Левашов Василий Иванович ушел из Краснодона в сторону фронта. Вскоре после войны окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. Моряк. На крейсере «Свердлов» был заместителем командира корабля по политчасти. Сейчас он преподаватель Высшего военно-морского училища имени А. С. Попова. Арутюнянц Георгий Минаевич с марта 1943 года служит в рядах Советской Армии. В 1957 г. закончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. Сейчас он подполковник, преподаватель Военно-политической академии им. В. И. Ленина. Лопухов Анатолий Владимирович в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях. Закончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. Сейчас служит в Севастополе в рядах Советской Армии. Юркин Радий Петрович окончил авиационное училище, осваивал реактивные самолеты, обучал молодых летчиков. Сейчас офицер запаса. Работает в родном г. Краснодоне в автоколонне. Шищенко Михаил Тарасович после освобождения Краснодона работал секретарем, Ровеньковского райкома комсомола. Теперь заместитель управляющего трестом «Фрунзеуголь» Луганской области. Иванцова Нина Михайловна добровольно ушла на фронт. Участвовала в боях. Окончила заочно пединститут. С 1955 г. работает инструктором Луганского обкома партии. Иванцова Ольга Ивановна работала в системе трудовых резервов. Сейчас начальник промышленного отдела рабочего снабжения треста «Ленинруда» в Кривом Роге. Борц Валерия Давыдовна после войны окончила испанское отделение Института иностранных языков. Сейчас работает в одном из научно-исследовательских институтов г. Москвы. 29 сентября 1962 года во Дворце культуры на торжественный пленум Луганского обкома и Краснодонского райкома комсомола, посвященный 20-летию со дня создания подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», собрались представители общественности города, родители молодогвардейцев, многочисленные гости из разных городов и областей Советского Союза. Из прославленного партизанскими делами города Людиново приехала делегация во главе с Семеном Федоровичем Шумавцовым — отцом руководителя комсомольского подполья, Героя Советского Союза Алексея Шумавцова. Среди гостей — посланцы Азербайджана, группа моряков, посланцы экипажей теплоходов «Иван Земнухов», «Олег Кошевой», «Сергей Тюленин». Зал переполнен. В торжественной тишине вносятся знамена областной и районной комсомольских организаций. Знамя «Молодой гвардии», которое постоянно хранится в музее, несут члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» В. И. Левашов, Н. М. Иванцова и Р. П. Юркин. Несмотря на то, что прошло столько лет, на душе грустно и тяжело. Нам, матерям, всё кажется, что наши дети живы, что они находятся вместе с нами в этом зале, веселые, жизнерадостные. Зазвучала песня:
В ЦАРЬГРАД
Лето 1919 года. На необъятных просторах России полыхает пожар гражданской войны. В жестоких боях с белогвардейцами и интервентами утверждается народная власть — власть Советов. В то незабываемое лето я ехала навстречу новой, неизвестной жизни — на родину мужа, в Молдавию. С Григорием Амвросиевичем Главаном я познакомилась в Севастополе, куда наша семья переехала из Петрограда для лечения тяжело больной матери. Врачи уверяли, что южный климат может благотворно повлиять на лечение. И, действительно, матери вскоре стало лучше. Здесь, в шумном южном городе — русской военной крепости на Черном море, — я подружилась с высоким статным артиллеристом Григорием Главаном, служившим тогда в береговой охране Севастополя. Мы полюбили друг друга и собирались пожениться. Война безжалостно разрушила наши планы, надолго разлучила, заставив жить в тревоге и неизвестности. Но вот, кажется, все невзгоды позади. Мы опять вместе. В стареньком, поскрипывающем и позвякивающем поезде едем мы по не знакомой мне земле. В вагоне тесно и душно. Я стою у открытого окна и жадно гляжу на мелькающие за окном пейзажи нового края, где мне придется жить. Степь, изрезанная холмами и лощинами, редкие перелески, поля, напоминающие своей пестротой лоскутное одеяло, виноградники на склонах. Узкие длинные полоски кукурузы и подсолнуха близко подступают к железнодорожному полотну. Цветущий, в желтом венчике, подсолнух старательно заглядывает в лицо солнцу; привольно шумит на ветру раскидистая кукуруза, поблескивая глянцем листьев. Наш поезд то ныряет вниз, то, тяжело дыша, карабкается вверх по склону. И опять в знойном мареве плывет перед глазами волнистая степь. Мне немного грустно. Позади остались девичьи годы, привычная жизнь, родные места. Впереди — неизвестность. На душе горько и оттого, что на пограничной станции нас как большевиков задержали румынские военные, и я впервые услышала страшное слово — сигуранца[1]. Муж с трудом добился разрешения следовать дальше. Встреча с румынскими пограничниками оставила на душе горький осадок. — Ты не волнуйся, они скоро уйдут из Бессарабии, — успокаивает меня Григорий Амвросиевич. — Непременно уйдут. Они самому Ленину обещали. Что ж, обещали — значит, должны уйти. — Уже Дрокия близко, — определяет Григорий Амвросиевич по знакомым ему с детства приметам. Вскоре впереди показались белые домики, затерявшиеся среди густо разросшихся вишен и акаций. Поезд остановился у темного кирпичного здания вокзала, и пассажиры, спеша и толкаясь, стали выходить из вагонов. — Вот мы и дома, — радостно сказал муж, сойдя на перрон. — Теперь до Царьграда рукой подать. По перрону веселой гурьбой прогуливались парни и девушки. Они над чем-то подшучивали, смеялись. Или, смолкнув, сосредоточенно лузгали семечки. В лучах заходящего солнца на их лицах играл розовый отсвет, и оттого они казались еще более юными и свежими. Когда поезд, дав прощальный гудок, скрылся за поворотом, молодежь стала с песнями расходиться по домам. Оказывается, они, по заведенному здесь обычаю, каждый вечер выходят навстречу поезду, чтобы разнообразить время и отдохнуть после трудового дня. В большое молдавское село Царьград, раскинувшееся в трех километрах от станции Дрокия, мы прибыли в сумерках. Природа здесь, на севере Молдавии, не такая пышная и яркая, как на юге Крыма. Редко где увидишь на южном склоне виноградник или фруктовый сад. Село Царьград утопает в зелени. Белая акация со старым кряжистым комлем и широко раскинувшейся кроной, кудрявая, в мелкой листве вишня с красными бусинками плодов, откуда-то забредший клен, густая поросль сирени — все это плотно обступает дома и зеленой листвой шумит перед окнами. Мы поселились в маленьком домике в самом центре села. Мать мужа, приехавшая в родное село повидать сына, встретила нас радушно. Три года она не получала от него никаких вестей и все это время терзалась страшной мыслью: уж не погиб ли он на войне? И вот Григорий вернулся. Как же тут не порадоваться матери? Она хлопотливо угощает нас, и слезы радости катятся по ее старческим щекам. Но после счастливой встречи в первый же день произошла маленькая размолвка. Узнав, что сын женился на городской, старуха окинула меня недобрым взглядом, упрекнула Григория: — Чего же ты городскую-то в жены взял? Не приживется она здесь. Нежные они больно. Через день, холодно простившись с нами, она возвратилась к дочери, в соседнее село. Знакомые свекрови изредка передавали мне поклоны от нее. Старуху интересовало одно: не сбежит ли сноха — «городская белоручка», сумеет ли она взять ухват в руки. Вначале я очень переживала все это, но потом смирилась. Что поделаешь? У свекрови было неверное представление о людях из города. Клятвами и обещаниями ее не убедишь. Потомственная крестьянка привыкла верить не словам, а делу. Забыв о размолвке, я с увлечением принялась за устройство нашего семейного гнезда.СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
Первое время мне и впрямь приходилось трудно. После таких больших и шумных городов, как Петроград и Севастополь, с привычным для меня укладом жизни, я оказалась в сельской глуши, где все основано на не знакомом мне крестьянском труде. Глинобитный дом, доставшийся Григорию Амвросиевичу после смерти его отца, нуждался в ремонте. Сад и двор были запущены. С утра до поздней ночи мы возились по хозяйству. Муж починил забор, крышу, ворота, я вымыла и побелила комнаты (у нас их было две и кухня). В саду посадили малину, виноград, перекопали огород. И хотя с непривычки у меня болели руки и спина, зато спала я здоровым, крепким сном. Вставала рано, еще до восхода солнца, и снова принималась за работу. Особенно хотелось мне развести вокруг дома побольше цветов. Дорожку от калитки до дома я засадила по одну сторону лилиями, по другую — ирисами. Односельчане Григория Амвросиевича проявляли большой интерес к своему вернувшемуся из дальних краев земляку. Часто заходили они к нам. Усевшись на завалинке или прямо на теплой земле, подробно расспрашивали мужа о том, что происходит в России, смогут ли большевики удержаться у власти, не собирается ли Ленин послать Красную Армию в Бессарабию, чтобы выгнать румынских оккупантов. Осторожно выражали надежду: не вернется ли в Бессарабию бригада Котовского? Женщины составляли отдельный кружок. Горестно вздыхая, говорили они о погибших на войне близких и любимых людях, о трудной вдовьей жизни, о хозяйственных нехватках. Иногда в разговоры вторгалась и радостная нотка: кто-нибудь сообщал о предстоящей свадьбе или о том, что удалось купить корову. Сочувствуя мне, неопытной, начинающей хозяйке, женщины приносили саженцы, клубни пионов, георгин, вместе со мной высаживали их. Вскоре наш дом, сад и двор приняли вполне обжитой вид. Зеленели молодые деревца, ярко цвели цветы. Вечерами, сидя во дворе на скамейке, мы с удовольствием вдыхали тонкий аромат цветущих пионов, ириса. По праздникам перед домом под скрипку, трубу и барабан в веселом жоке кружилась молодежь. Хороши молдавские песни и танцы, богаты, разнообразны, как и сама жизнь народа. Они то навеют грусть, то опалят горячей удалью, разгульным весельем, умной шуткой, то в спокойном и медленном, как течение Днестра, напеве дойны ярко прозвучит народная мечта о счастье и свободе. Незаметно, в труде и заботах, текли наши сельские будни. После жаркого лета наступила дождливая осень. Деревья в саду оголились, цветы увяли. Уныло и однообразно стучит в окно дождь. На улице непролазная грязь, дороги непроезжи. Село притихло. Но в каждом доме под надежной крышей не утихает беспокойная человеческая жизнь. Долгие осенние вечера я заполняю вышиванием, чтением книг или, отдавая дань своему давнишнему увлечению, рисую. Медленно тянется непостоянная и капризная в этих краях зима. Часто выпадают дожди. Вдруг неожиданно установятся теплые солнечные дни. От земли курится пар, набухают почки на деревьях, и думаешь: пришла весна. Но подует холодный ветер, ночью ударит мороз, тучи заволокут небо, и на скованную льдом землю начнет падать мягкий, пушистый снег. …В один памятный мне зимний день в нашей семье произошло радостное событие. 24 декабря 1920 года у нас родился сын. Еще задолго до его появления на свет муж говорил мне: — Если родится сын, назовем его Борисом…РАДОСТИ И ТРЕВОГИ
Рождение первенца всегда приносит большую радость молодым родителям. С появлением ребенка в доме становится как-то веселее, жизнь протекает интереснее, крепнут семейные узы. Но и забот становится больше. Сколько страхов переживала я, когда кто-нибудь брал на руки маленького, совсем беспомощного моего сына. Как бы не стиснули, не повредили его хрупкое тельце! — Да полно тебе, — успокаивал меня муж. — Такой крепыш растет. Боря действительно рос крепышом. Был он спокоен, не капризен и рано стал проявлять склонность к самостоятельности. Однажды летом, когда ему не было еще и трех лет, я вывела его погулять во двор, а сама вернулась готовить обед. Прошло часа два. Выхожу на крыльцо — Бори нет. Встревоженная бегу на улицу. Смотрю, важно переваливаясь на своих коротких ножках, идет по пыльной дороге Боря с шоколадкой в руках. — Мамочка, смотри, я сам купил! — кричит он мне издали. Оказывается, Боря вышел со двора и отправился в другой конец села — в лавочку. В ней мы покупали продукты и иногда брали с собой сына. Он хорошо запомнил дорогу и решил сам пойти туда. Лавочник дал ему в долг шоколадку. Встретив Борю, я сделала вид, что очень рассердилась. А он обнимал меня пухлыми ручонками, ласкался и все приговаривал: — Я сам купил, сам. — Нехорошо, сынок, уходить без спросу, — пожурила его я и пообещала рассказать отцу: отца он немного побаивался. — Я не буду больше, мамочка. Не говори папе. О своем обещании Боря скоро забыл, и через несколько дней юный покупатель в кредит повторил путешествие в лавочку. Как-то отец взял его с собой в Сороки. В городе муж остановился у знакомого, у которого была дочь — ровесница Бори. Оставив сына с няней-подростком, Григорий Амвросиевич ушел по своим делам в город. Боря недолго играл в чужом саду. Воспользовавшись тем, что няню позвали в дом, он открыл калитку и улизнул на улицу. Вернувшийся к обеду Владимир Иванович (так звали нашего знакомого) не обнаружил юного гостя и поднял переполох. Прежде всего, конечно, досталось няне. А потом Владимир Иванович сообщил о случившемся в полицию. Григорий Амвросиевич, вернувшись, также бросился на поиски сына. Полиция по приметам отыскала Борю в другом конце города. Узнав беглеца, полицейский остановил его. Боря не растерялся и важно заявил: — Меня зовут Борис Главан. Я ищу своего папу. Несмотря на такой солидный тон, полицейский взял Борю на руки и отнес к Владимиру Ивановичу. Увидев отца, Боря вдруг расплакался и с укором сказал: — Куда же ты ушел, папа? Я тебя ищу, ищу… Дома он оживленно рассказывал мне о своих похождениях. Теперь я уже не решалась отпускать его с мужем в город.НОВЫЕ ЗАБОТЫ
В конце октября 1923 года у меня родился второй сын. Назвали его Михаилом. С рождением Миши забот, естественно, прибавилось. Но и Боря стал серьезнее, будто повзрослел, и, на правах старшего, покровительственно относился к своему брату. Он очень полюбил малыша и самоотверженно старался помогать мне: катал Мишу в коляске по комнате, следил, чтобы тот не обронил соску, отдавал подаренную ему конфету, а когда Миша спал, говорил шепотом. Эта привязанность с каждым месяцем крепла. В день, когда Миша начал самостоятельно ходить, Боря торжествовал. — Теперь мы с ним будем играть и бегать. Правда, мамочка? — Да он и ходить-то еще не умеет, а ты уже бегать, — смеялась я. — Так это ж совсем легко, — доказывал Боря. Я не стала спорить, радуясь, что Боря заботится о своем младшем брате: строит ему из кубиков домики, сооружает башни, «подземные ходы» и что-то старательно объясняет. Самой любимой игрой моих мальчиков была «поездка в Сороки». Заходя в комнату, я часто заставала там ужасный беспорядок: скамейки и стулья перевернуты, впереди сидит Боря с кнутом в руке, за ним — Миша, он держит на руках котенка и радостно покрикивает на «кучера». — Мы в Сороки едем, — поясняет мне Боря и подхлестывает кнутом «лошадь». Приходилось мириться с беспорядком и не мешать их игре. Детство Бори и Миши проходило в деревне, и они почти не видели настоящих игрушек. Было у них только по ведерку и лопаточке, которые я привезла из города. Боря все мечтал о «настоящей» лошадке. Как-то мы взяли его с собой в Бельцы. Проходя но главной улице, Боря внимательно рассматривал витрины магазинов и вдруг, остановившись, радостно закричал: — Мамочка, смотри, лошадь! Купи, пожалуйста! На витрине, действительно, красовался темно-рыжий, с гордо поднятой головой, в позолоченной уздечке конь. Мы зашли в магазин, спросили цену. Красавец-конь стоил непомерно дорого, не по нашим деньгам. Боря был очень огорчен этим и всю обратную дорогу вспоминал о сказочном коне, увиденном в магазине. — А ты не горюй, — успокаивал его отец. — Вот накопим денег и купим коня. А пока будешь скамейки переворачивать. И я и муж часто рассказывали детям сказки. Боря особенно любил сказки о богатырях, о храбрых и сильных людях, которым не страшны никакие враги. В долгие зимние вечера, когда в трубе завывал ветер, дети сидели у горячей печки и слушали. В комнате тепло и уютно. В такой обстановке кажутся особенно грозными битвы богатырей с темными силами зла. Заканчивалась сказка, и дети опять просили: — Папа, расскажи еще. Про Фэт-Фрумоса[2] расскажи, про Иляну Косынзяну… И Григорий Амвросиевич негромким басом снова начинал: — В некотором царстве, в некотором государстве… Он рассказывал до тех пор, пока у ребят не начинали слипаться глаза. Полусонных я раздевала их и укладывала спать. Среди сказок были и такие, которые толкали к раздумью над жизнью. Помню, однажды муж рассказал детям такую, похожую на быль, сказку. — В некотором царстве, в тридевятом государстве жил один богатый человек. Был он страшно скупой и жадный, и люди не любили его. Но когда богач проходил по улице, все низко кланялись ему, и только один старик не хотел ему кланяться, отворачивался. Это был гордый и честный старик. Он не мог уважать богача, который издевался над крестьянами, кормил их гнилыми огурцами и заплесневевшими сухарями. Вот как-то летом, в самую страдную пору, народ не вышел на работу к богачу. Созревшие хлеба начали осыпаться. Тогда в дом богача пришел старик: «Видишь, как плохо быть жадным, — сказал он богачу. — Из-за своей жадности ты можешь потерять весь урожай. Не скряжничай, корми крестьян сытно, и они уберут твой хлеб». Всю ночь не спал богач. Не хотелось ему уступать, но и хлеб было жалко потерять. Под утро он кликнул слуг, велел зарезать несколько баранов, накрыть на дворе столы и досыта накормить крестьян. — Молодец старик, добился своего, — радовался Боря. Росли наши дети вместе, были неразлучны, а вот характеры, наклонности у них были совсем разные. Мы выписали румынский детский журнал «Диминяца копиилор»[3]. Боря и Миша с удовольствием слушали стихи о забавных похождениях Хапли — постоянного комического героя этого журнала. Кроме стихов, рассказов и картинок, журнал издавал приложение, рассчитанное на развитие детской смекалки. В журнале печатались замысловатые фигуры, из которых, если правильно вырезать их и склеить, можно было сделать различные игрушки: самолет, пушку, корабль, домик. Боря и Миша часами возились над этими приложениями. Вот тут-то и было видно, кто из них настойчивее и терпеливее. Мише быстро надоедала игра, он или откладывал приложение, или же просил меня помочь. Боря, наоборот, подолгу сидел за столом, вырезывал не торопясь, аккуратно, старался точно следовать линиям, которые были на рисунке. Он забывал обо всем: об улице, о товарищах и сосредоточенно работал ножницами. Борю увлекало желание увидеть, что же из этого получится, какая игрушка. Он не бросал работу, пока не добивался своего. А закончив, спешил ко мне. — Смотри, мама, какой красивый самолет получился, — и бежал с игрушкой на улицу, чтобы показать ее товарищам. Ребята придирчиво рассматривали самолет. Недовольные тем, что Борю приходится подолгу ждать, они не выказывали своих восторгов, а деловито замечали: — Упрямый ты, Борька.ПАМЯТНЫЙ ГОД
Тот горестный год мне очень хорошо запомнился. Январь стоял лютый, морозный. По ночам стены трещали от стужи. — Это мороз пробивает щели. Хочет к нам в дом забраться, — шутил муж. Снегу выпало много, и старики, глядя на заваленные сугробами улицы, сокрушенно качали головами: — Давненько не было такой зимы. Как-то вечером, впустив за собой клубы белого пара, к нам зашел сосед Герасим. Он обмел веником снег с валенок, снял кушму, перекрестился и негромко печально произнес: — Слыхали, в России Ленин умер? — Кто сказал? — вскочил Григорий Амвросиевич. — На мельницу ездил, в Бельцы… Люди говорили, будто в газетах пропечатано… Рабочие мельницы митинг устроили… почтить Ленина… Полиция, говорят, двоих арестовала. Наступило тяжелое молчание. Муж и Герасим, чтобы скрыть свое волнение, понурив головы, стали свертывать цигарки. За окном потрескивал мороз. — Как же теперь, Григорий Амвросиевич? — растерянно спросил Герасим, сделав глубокую затяжку. — Говорили, Ленин пошлет Красную Армию освободить нас. А как же теперь… без Ленина? Григорий Амвросиевич молчал. Чем он мог утешить потрясенного горем крестьянина? Он, как и многие другие, считал румынскую оккупацию случайным явлением и надеялся, что правительство Румынии выполнит обещание: выведет свои войска из Бессарабии. Но шли годы, а оккупанты продолжали хозяйничать на бессарабской земле. Надежды на освобождение молдавские крестьяне связывали со светлым именем Ленина. И вот его не стало… — Видать, самим придется выкручиваться, — со вздохом говорит Герасим. — Только, что из этого выйдет?.. Вон в Хотине поднялись, а что получилось? — Он жадно затянулся дымом, словно хотел заглушить тяжелые мысли. — Нет, без России нам нету житья, — вдруг убежденно говорит Герасим и, нахлобучив кушму, молча выходит. Ленин… Мне вспоминается бурная весна 1917 года. Толпы народа у Финляндского вокзала в Петрограде. Рабочие на руках вносят Ленина в Царский зал. А потом он с броневика произносит вещие слова: «Да здравствует социалистическая революция!..» …«Как же теперь, без Ленина?» — вспомнились мне горькие слова Герасима. В то время я сама не нашлась бы, что ответить. Но ленинские идеи проникали во все уголки земного шара, поднимая угнетенных на борьбу за лучшую жизнь. Правобережные молдаване, насильственно отторгнутые от своих братьев с левого берега Днестра, не хотели склонить голову. Однажды в сентябрьский день 1924 года муж вернулся с работы хмурый, взволнованный. Не отрывая глаз от газеты, он возмущенно бормотал: — Негодяи! Ах, подлецы! — Что случилось? Кого ты ругаешь? — спросила я. — Вот, читай, — протянул он мне газету, — в Татарбунарах крестьяне не хотят признавать румынскую власть. Так королевские войска бросили против них артиллерию и расстреливают безоружных людей. Звери! Позднее мы узнали, что на юге Бессарабии произошли грозные события. В Татарбунарах и во многих расположенных вокруг селах вспыхнули народные восстания. Восставшие изгоняли румынских бояр и помещиков и создавали органы народной власти — Советы. В первые дни успех был на стороне восставших. Они очистили от оккупантов большой район и провозгласили в нем Советскую Республику. Румынское правительство бросило туда крупные силы пехоты и артиллерии. Много деревень было разрушено и сожжено, тысячи невинных людей расстреляны и брошены в тюрьмы. В 1925 году в Кишиневе состоялся суд над участниками Татарбунарского восстания, так называемый «Процесс 500». В нашем доме только и было разговоров, что об этом процессе. Пятилетний Борис, очень чуткий к словам взрослых, спросил меня. — Мама, а зачем этих дядей убивают? Они плохие, да? — Нет, сынок, они хорошие. Вырастешь большой — узнаешь. В том же году Бессарабию посетил известный французский писатель Анри Барбюс. Он написал книгу «Палачи», в которой на весь мир заклеймил румынских колонизаторовА НУ, КТО ЛУЧШЕ?
Весна и лето — самая желанная пора для детей. Сколько радости и забот приносит она! Как только зажурчат весенние ручьи, можно отправлять в плавание игрушечные корабли и парусные лодки или, выйдя в сад, слушать пение прилетевших из теплых краев птиц. Высоко в небе разливается звонкая трель невидимого жаворонка, а на вершинах деревьев, взмахивая крылышками, захлебываются от весенней радости скворцы. Где-то внизу подсвистывают им дрозды и синицы. Почки на деревьях набухли, они вот-вот лопнут и выпустят первые клейкие листочки. Как только сойдет снег и немного подсохнет земля, начинается работа на полях и огородах. Мы с Григорием Амвросиевичем вскапываем грядки, сажаем помидоры, огурцы, арбузы, дыни. Боря и Миша с лопаточками и ведерками хлопотливо помогают нам: рыхлят землю, поливают. Их интерес к работе особенно усиливается после того, как молодые побеги, окрепнув, пойдут в рост. Однажды рано утром я пошла поливать огород и, к своему удивлению, увидела там Борю и Мишу. Они стояли на краю грядки и о чем-то спорили. Я остановилась, прислушалась. — Да… ты себе забрал самые лучшие кусты, — обиженно говорил Миша. — Я папе скажу. — Ничего и не лучшие, — возражал Боря, — у тебя тоже такие. Скажи просто, что ты струсил. И все. — Ничего и не струсил. Я по-честному хочу. Обернувшись, Боря заметил меня. — Мама, мы поспорили… Ну, как это… у кого красивее помидоры и арбузы будут. Ты судья. Ладно? Я согласилась и отвела им совершенно одинаковые участки. Боря и Миша с большим усердием принялись за дело. Роль главного судьи взял на себя муж. Мы поддерживали всякое начинание детей, если оно помогало развивать у них любовь к труду. Соревнование понравилось: можно было видеть, кто лучше и быстрее работает. Начавшись с борьбы за «красивые помидоры», соревнование затем распространилось на все, чем занимались наши дети. Мастерили они что-нибудь из дощечек или самодельных кубиков, отправлялись ли на прогулку в поле, поливали цветы — всюду можно было услышать: — А ну, кто лучше? Каждый из них старался гладко обстрогать доску, поймать самых красивых бабочек и самых больших кузнечиков, больше полить цветов. Все сделанное они показывали отцу. Григорий Амвросиевич, как главный судья, оценивал работу ребят и определял победителя. Первое место чаще всего занимал Боря. Очень любили дети наши прогулки за село. Стоило только выйти за левады — и перед любопытным ребячьим взором открывались чудесные картины. Вот в зеленой пойме пасется стадо коров, а поодаль от него — отара овец. У овец, видимо, «обеденный перерыв», они сбились в кучу и стоят, понурив головы, отбиваясь короткими хвостами от мошкары. А может, они слушают музыку? Под старым развесистым вязом старик-пастух играет на флуере. Грустная тягучая мелодия плывет далеко-далеко и будто тает в раскаленном воздухе. Боря и Миша внимательно вслушиваются в знакомый им мотив. — Мама, это дойна. Да? — спрашивает Боря. — Я бы целый день слушал. Но через минуту они с Мишей уже прыгают по сухой комковатой земле в погоне за бабочками. Набегавшись, садятся на межу и дотошно расспрашивают меня о том, как из гречки, которая растет вот здесь, получается каша, а из пшеницы — хлеб, почему кукуруза такая высокая. Весело трещат кузнечики. На горизонте дрожит голубоватое марево, в тихой задумчивости стоят холмы. С прогулки возвращаемся поздним вечером с целой коллекцией бабочек и жучков. Когда мы усталые, но довольные входим в наш уютный двор, на севере загорается первая звезда. Как-то само собой получилось, что Боря становился заводилой во всех играх, и дети охотно признавали его своим вожаком. Вероятно, их привлекала его бьющая через край жизнерадостность, сердечность и простота. Правда, звание «главного» надо было отстаивать. Среди ребят были смельчаки, которым тоже хотелось верховодить. Помню, однажды Боря пришел в слезах. Всхлипывая, он рассказал, что пришел один из знакомых соседских мальчиков и сам стал заводить игры. Боря не пожелал уступить своего первенства, и они подрались. Свое поражение он переживал тяжело и даже пожаловался отцу в надежде на его поддержку. Но разговор с отцом принял совершенно неожиданный для Бори оборот. — За дело тебя побили, — выслушав сына, сказал Григорий Амвросиевич. — Командовать надо по очереди, а не одному тебе… И потом запомни: последнее дело жаловаться на своих товарищей. Чтобы я этого не слышал. Боря больше никогда не приходил с жалобами. Если ему случалось рассориться с мальчиками, он уходил с улицы. Потихоньку открыв калитку, чтобы не заметил отец, он перебегал двор и прятался в саду или за домом. Там, в одиночестве, Боря переживал свое поражение. Но сердиться долго он не мог. Утром, едва открыв глаза, он спрашивал: «Ребята ждут?» Торопливо вскакивал с постели и спешил к окну. Если ребята сидели у калитки, то трудно было заставить Борю умыться и покушать: он рвался на улицу.САМ ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ
Я сижу у окна и вышиваю. В доме тихо. Дети ушли гулять, муж на работе. С сердитым жужжанием бьется о стекло большая зеленая муха. Она отвлекает мое внимание. Я открываю окно. Хлопнула калитка. Через двор прошел чем-то озабоченный Боря. Наверное, поссорился с ребятами и, по обыкновению, хочет уединиться, пережить свое горе. Но Боря не свернул в сад, а прошел на кухню. Что он там делает? Неужели успел проголодаться? Когда я, тихо открыв дверь, вошла в кухню, Боря торопливо доставал из раскрытого шкафчика куски хлеба, сахар, яички и все это укладывал в корзиночку. — Куда это ты собираешься, Боря? — спросила я. Он вздрогнул и, смущенный, обернулся ко мне. — Мамочка, не сердись… я играл с одним мальчиком, а потом мы зашли к нему домой. Его мама сильно-сильно болеет. А они голодные. Петя и его сестричка плачут, хотят есть. Мне их жалко… и я хочу отнести им покушать. — Очень хорошо, что ты решил так поступить, — одобрила я. — Но почему ты делаешь это украдкой? Разве помогать людям стыдно? Боря еще больше смутился. — А я боялся, что ты не разрешишь. Думал: пусть мама накажет меня, зато я помогу Пете. Ведь папа говорил нам: сам погибай, а товарища выручай. Я покачала головой: — Плохо ты понял суворовскую заповедь. Товарища надо выручать, но делать это нужно открыто и честно. А ты хотел тайком… Некрасиво. Пристыженный, Боря дал мне слово никогда не делать ничего подобного. Каждое утро он относил Пете корзиночку с продуктами, помогал детям и их больной матери. Возвращался он довольный, как человек, исполнивший свой долг. Когда Петина мама выздоровела,она пришла к нам и поблагодарила за помощь. — Добрый у вас растет мальчик. Боря покраснел от похвалы и вышел из комнаты. Желание сделать людям что-то хорошее доходило иногда до крайностей. Хватишься, бывало, молотка или гвоздей — нет их. — Куда девались? — Мы дяде Герасиму помогали чинить повозку, — отвечает Боря. — Хорошо. Но зачем же ты без спросу уносишь из дому последние гвозди? — сердито спрашивает отец. — Так дяде Герасиму было нужно… А ты ведь сам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай». Вот мы и стараемся. У Бори большая дружба с нашим соседом Герасимом. Возвращаясь с поля, тот сажает, бывало, Борю в каруцу и катит по улице. Въехав во двор, Боря спрыгивает на землю и старательно помогает Герасиму распрягать лошадей. Но больше всего нравилось Боре, когда Герасим, усадив его верхом и дав ему поводья, через все село вел лошадей на водопой. Боря гордо восседал на лошади, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, словно хотел сказать: смотрите, какой я молодец. У бережливого расчетливого Герасима мои сыновья перенимали крестьянскую сметку и умение хозяйствовать. Как-то я заметила в сенях большой ящик. Открыв сто, поразилась: ржавые гвозди, дверные ручки, гайки, старые подковы, банки. — Зачем это вы натаскали? — спросила я Борю. — В хозяйстве все пригодится, — ответил он. В его голосе звучали соседовы нотки. — Вон у дяди Герасима ни один гвоздь зря не пропадает. — Дядя Герасим, как Плюшкин, все в свою нору тащит. — Какой Плюшкин? Пришлось обстоятельно рассказать об одном из известных героев «Мертвых душ». Боря слушал внимательно. А когда я окончила, он убежденно сказал: — Нет, дядя Герасим не такой. Он хороший.«У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ…»
Еще до поступления ребят в школу мы старались обучить их грамоте, привить любовь к книге. Обязанности у нас распределялись: муж хорошо знал молдавский фольклор и умел увлекательно рассказывать о легендарных гайдуках, об их славных атаманах Кодряне, Тобултоке, Бужоре, о том, как мужественно боролись они против турецких янычар и угнетателей-бояр за освобождение народа. Я с увлечением изучала русскую литературу. Боре было года четыре, когда я впервые прочитала ему стихи Пушкина. Его, видимо, покорили их необычайная музыкальность и тот удивительный мир, с которым он познакомился в «Руслане и Людмиле». — Мама, почитай еще, — просил меня Боря. И я взволнованно, как в детстве, читала:В ШКОЛУ
Осень 1926 года. Пришла пора отдавать Борю в школу. Трудно тогда было учить детей простому человеку, ох как трудно! Нужда, голод цеплялись, за каждые рабочие руки, какими бы маленькими и беспомощными они ни были. Не в школу, а батрачить на помещика посылали своих шести-семилетних детей крестьяне. Лишь немногим удавалось закончить сельскую школу. Но мы с Григорием Амвросиевичем твердо решили: как бы ни было нам трудно, а учить детей будем. — Я буду летчиком, — говорил Боря, складывая из бумаги самолет. Кто из мальчиков, переступая порог детства, не мечтал быть летчиком, танкистом, моряком! Но только в школе по-настоящему выявляются их способности и наклонности. Старательно готовился наш сын к своему первому школьному дню. Сам смастерил пенал, очинил с десяток карандашей, положил в сумку целую стопку тетрадей, чернильницу, ручку. — Зачем ты берешь с собой столько карандашей и тетрадей? — спросила я Борю, разглаживая новенький костюмчик, сшитый специально для школы. — Пригодится. Запас карман не ломит, — хозяйственно ответил он. Утром первого сентября мы встали раньше обычного. Я приготовила завтрак, а Боря, тщательно умытый, вертелся в новом костюмчике перед зеркалом. Григорий Амвросиевич критически оглядывал его, заставлял поворачиваться то спиной, то грудью. Настроение у нас было приподнятое, радостное. Еще бы! Сына в школу отдаем! Только Миша угрюмо посматривал из своей постели на торжественные сборы Бориса. Он явно завидовал старшему брату. Ведь они всегда были вместе, а теперь школа на долгих полдня разлучала их. Да и интересы пойдут уже разные. Оттого Мише и грустно, оттого и не спешит он подняться. Поправив на Боре костюмчик, проверив, все ли уложено в сумку, я повела сына в школу. Утро стояло теплое, солнечное. В воздухе плыла серебристая паутина. Когда мы вошли в класс, там уже толпились мальчики и девочки. Они смущенно рассматривали друг друга, с любопытством встречали каждого входившего. Среди первоклассников были и товарищи Бори — Петя и Гриша. Прозвенел звонок, и в класс вошел учитель. Он познакомился с маленькими школьниками, рассадил их. Потом начался урок. Возвратился Боря из школы веселый, довольный. — Знаешь, мама, а мои лишние тетрадки и карандаши пригодились. У ребят не было, так я с ними поделился. Учитель меня похвалил.ХОРОШО И ПЛОХО
По утрам за Борей заходил соседский мальчик Гриша, и они вместе шли в школу. Боря рано выучился читать и писать, так что теперь учеба давалась ему легко. Первое время все шло гладко. Боря вел себя на уроках скромно и только исподтишка подсказывал товарищам. Но понемногу он начал скучать. Привыкнув к школьной обстановке, он осмелел и уже не стеснялся шуметь, громко, на весь класс подсказывать. Учитель делал ему замечания. Боря принимал серьезный вид и… скатав из хлеба шарики, целился в чью-нибудь чернильницу. Один из таких шариков упал на стол учителя. — Кто это сделал? — строго спросил учитель, окидывая класс испытующим взглядом. Все насторожились. Ребятишки оборачивались и тревожно всматривались в своих соседей. — Это ты бросил, Главан? — спросил учитель, увидев залитое краской лицо Бори. — Он, господин учитель, — пожаловалась девочка с черными косичками. — Он все время кидается. Боря встал и угрюмо буркнул: — Я… больше не буду, господин учитель. Боря умел держать слово. С этого дня он сидел на уроках тихо, но зато придумал новое занятие — стал тайком читать книги. Пока учитель объяснял и показывал, как пишутся буквы, Боря, впившись глазами в раскрытую книгу, бродил по далеким, неведомым землям. Однажды, уже будучи учеником второго класса, он так увлекся чтением, что не сделал классного упражнения и получил двойку. Домой Боря пришел расстроенным. — Ты что это такой грустный? — поинтересовался отец. Боря швырнул на пол сумку и вдруг расплакался. — Я не пойду больше в школу, — говорил он, всхлипывая. — Он придирается. — Кто это «он»? — Учитель. — И так же неожиданно Боря кинулся к отцу: — Папа, я учу, я все знаю… Что ему от меня нужно? Григорий Амвросиевич легонько оттолкнул от себя сына и сурово сказал: — Когда человек считает себя всезнайкой — это очень плохо. Правильно наказал тебя учитель. Не сразу перекипела в нем обида. Но со временем он понял, что учитель поставил ему двойку за дело. Больше жалоб от него мы не слышали. Однако нам было ясно одно: не следует рано учить детей грамоте, этим можно отбить интерес к школе. И, что опаснее всего: у ребенка может выработаться легкомысленное отношение к урокам и к учебе вообще. Боря счастливо избежал этой «болезни». Курьезные случаи, о которых я рассказала, произошли в самом начале учебы и больше не повторялись. Боря учился хорошо и успешно переходил из класса в класс. Очень любил наш сын стихи и читал их неплохо. Но и на этом поприще не всегда все шло гладко. Помню, на школьном вечере Боря декламировал стихотворение Эминеску «Что шумишь ты, лес дремучий?» Дочитав до середины, он сбился. Красный от стыда, стоял перед притихшими ребятами. Шли секунды, минуты, Боря напрягал память и, как назло, ничего не мог припомнить. Миша, который в то время учился в первом классе, с жалостью смотрел на брата. Вдруг, виновато улыбнувшись, Боря сказал: — Вы немножко подождите. Я подумаю и начну все сначала. Школьники рассмеялись, обстановка разрядилась, и ободренный Борис, вспомнив забытую строку, с воодушевлением дочитал стихотворение. Теперь Миша и Боря опять были неразлучны. Вместе ходили в школу, вместе готовили уроки, вместе играли на улице. А время неумолимо шло вперед. На два года раньше своего младшего брата Боря окончил сельскую школу. Со всей остротой встал вопрос: что делать дальше? Теперь Боря мечтал стать учителем. Но о гимназии и университете мы и помышлять не смели. Да и нужно ли пытаться поступать в эти учебные заведения, если все равно потом, после их окончания, придется метаться в поисках работы? В педучилище тоже не попасть. Нет, надо выбрать что-то попроще и понадежнее. На семейном совете было решено отдать Борю в ремесленное училище. — Папа, а есть такие школы, где на учителя учат? — мечтательно спросил Боря. — Есть. Но не для нас, они, сынок, — ответил Григорий Амвросиевич. На следующий день, сентябрьским утром 1932 года, он отвез Борю в село Корбул, где тогда находилось одно из бессарабских ремесленных училищ.НА НОВОМ МЕСТЕ
Чужим и неприветливым показалось Боре село Корбул. Один, без друзей, без родительской ласки, со своими горестными мыслями… Нет, так жить нельзя! Тоска по дому, по той привычной жизни, где все шло своим чередом, где все так мило сердцу, захватила Бориса. Покинув родительский дом и расставшись с близкими и дорогими людьми, он чувствовал себя совсем одиноким, никому не нужным. На десятый день Боря не пошел на занятия в училище. Расспросив у корбульских крестьян о дороге на Царьград, Борис отправился домой. Помню, был погожий осенний день. Я сидела на скамейке во дворе и вышивала, поджидая с работы мужа. Солнце уже клонилось к закату, из садов тянуло прохладой. Я собиралась было пойти в дом за теплым платком, как вдруг… скрипнула калитка и, к моему удивлению, появился Боря. Вид у него был усталый, брюки и рубашка в пыли. — Мама! — радостно закричал он и бросился ко мне. — Что случилось? — растерянно спросила я, пораженная этой встречей. А Боря уже обнимал меня, целовал, бормоча сквозь слезы: — Мамочка, я не могу без вас… Я умру там… Он горячо убеждал меня, что одному жить невозможно, что он никуда не уйдет из родного дома. Я сочувствовала Боре, хотя понимала, что отец не одобрит его поступка. Григорий Амвросиевич встретил сына холодно. — Сбежал? — строго спросил он, увидев Бориса. И, не дав беглецу опомниться, осуждающе сказал: — Ну и малодушный же ты, братец! — Папа… — со слезами на глазах умоляюще заговорил Боря. Но отец оборвал его: — Утри слезы, ты не девчонка. Ишь, нюни распустил. В твои годы парни идут на заработки в город. А тебя отвезли учиться за тридцать километров от дома, хотят в люди вывести, дать специальность. А ты… — отец махнул рукой. Боря молчал. Да и что он мог сказать? Переночевал он дома, а утром Григорий Амвросиевич нанял лошадь и доставил раскаявшегося беглеца в училище. Спустя два года окончил сельскую школу и Миша. Его отдали в Сорокское ремесленное училище. Туда же мы вскоре перевели и Борю. Братья снова были вместе. А в доме без детей стало уныло и пусто. Вся моя жизнь теперь свелась к мучительному ожиданию того дня, когда мои дорогие мальчики приедут домой на каникулы. Но вскоре и мы с мужем покинули Царьград.КАНИКУЛЫ
Ребята ждали каникул с неменьшим нетерпением. Учиться в ремесленном было нелегко. С утра до обеда проходили теоретические занятия, а после обеда нужно было работать в производственных мастерских. На подготовку уроков оставалась только ночь. Ребята сильно переутомлялись. Но зато, когда они, бледные, похудевшие, приезжали домой, мы старались создать все условия дли их отдыха. Однажды Боря приехал озабоченный. Сняв форменный пиджак, он стал рассказывать: — В нашем классе двух учеников хотят исключить из училища. — А что такое? Почему? — спросил Григорий Амвросиевич. — Понимаешь, папа, они очень бедные и не могут уплатить за учение. Им надо как-то помочь. Мы с Мишей всю дорогу говорили об этом, думали, как можно поддержать ребят. Но ничего не придумали. Теперь мы всей семьей стали думать, что предпринять, как помочь одноклассникам Бори? Вносились различные предложения. Большинство из них сводилось к тому, что нужно каким-то путем заработать деньги. Но Григорий Амвросиевич решительно возражал. — Вы приехали отдыхать, а не работать, — говорил он. — Наработаетесь в мастерских. Нужно придумать что-то другое. Выход был найден совершенно неожиданно. В канун рождества Боря прибежал сияющий, возбужденный. — Где папа? — спросил он меня. — Дома. А что такое? Что-нибудь случилось? — Я говорил с Гришей Повстован и Володей Маня. Мы придумали… — Что вы придумали? — улыбаясь, спросил отец, выходя из соседней комнаты. — Придумали, как заработать деньги. Помнишь, папа, мы в Царьграде колядовали? — Ну, ну… — Вот мы и здесь пойдем колядовать. — Хорошо придумано, — одобрил Григорий Амвросиевич. — Да выбирайте дома побогаче. Ребята так и сделали. Вчетвером они наколядовали немалую сумму денег и по приезде в Корбул отдали их своим товарищам. Те горячо поблагодарили Борю и Мишу. Деньги были внесены в кассу училища, и ребята могли продолжать учебу. Особенно памятны мне летние каникулы. Прогулки в лес, рыбная ловля, поездка в гости к родственникам заполняли все каникулярные дни. В двух километрах от села раскинулся большой лес. Я любила ходить туда с детьми. Еще с вечера мы запасались провизией, чистили самовар — в лесу чай кажется особенно вкусным и душистым! Из дому выходили пораньше, пока солнце не грело так жарко. В лесу находили небольшую полянку с развесистым дубом посредине и располагались на ней. — Мама, а может, под этим дубом гайдуки сидели? Может, сам Кодрян? А? — спрашивает Боря. — Все может быть, — отвечаю я. — Дуб долго живет, по тысяче лет. Боря и Миша убегают в лес за сухими ветками для костра. Они озорно перекликаются — эхо уносит вдаль их голоса и спустя мгновение возвращает обратно. Кажется, кто-то настойчиво передразнивает их. Это подзадоривает ребят, и они еще старательнее выводят: — Ау-у-у! Эхо затихает, и вскоре из чащи доносится звонкий голос Бориса:ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Боря закончил четвертый класс училища. Для перехода в пятый, выпускной, класс необходимо было пройти практику непосредственно на производстве. Борису пришлось поехать в Бельцы и там поступить в частные механические мастерские, принадлежавшие некоему Розентулеру. Здесь Боря впервые столкнулся с жизнью рабочих, о которой раньше знал только понаслышке. Он был потрясен тяжелыми условиями их труда, ничтожным заработком и страшной бедностью. Вот что писал он нам в своем первом письме оттуда.«Работая в мастерской, я увидел своими глазами, какой тяжелой жизнью живут рабочие. С утра и до вечера работают они, отдавая все свои силы и здоровье. И что же, владелец этих мастерских, толстый, с заплывшими от жира глазами, старается всеми способами обмануть рабочих, находя для этого разные причины. Заработанные рабочими деньги он платит очень неаккуратно. За какой-нибудь сломанный, совсем не по вине рабочего, инструмент он удерживает из заработка столько, что мало что приходится получать на руки. А ведь дома рабочего ждут ребятишки, жена, которой, кроме домашней работы, приходится еще и на поденные работы идти, чтобы прокормить семью. Я был у нескольких из них дома и видел, как бедно они живут. Но все они такие добрые и хорошие, много расспрашивали о вас, как вы живете в селе, и просили заходить еще к ним. Теперь я вспоминаю, как ты, папа, учил меня любить справедливость и ненавидеть ложь и обман. Вспоминаю, как мама рассказывала мне о тяжелой жизни рабочих на фабриках и заводах и крестьян при царской власти. Я вспоминаю теперь, как трудно приходилось крестьянам, которые вовремя не могли уплатить налоги: у них забирали последние вещи, и если они не вносили деньги в назначенный срок, то их вещи продавали с торгов. Теперь все это я увидел своими глазами и решил: когда вырасту и стану самостоятельным, я всегда буду стараться быть справедливым и помогать бедным».Это письмо и обрадовало нас, и удивило. Мы радовались, что у Бори такой верный взгляд на жизнь, и одобряли его благородное стремление бороться за справедливость. И вместе с тем мы удивлялись: как незаметно наш мальчик стал юношей и глазами взрослого взглянул на жизнь. Раньше все вокруг казалось ему радужным, приятным, и он, не задумываясь, с детской непосредственностью всему радовался. А теперь он уже стал замечать, что жизнь куда сложнее, чем она представлялась в беспечные годы детства. Когда Боря после окончания практики приехал домой, мы сразу заметили происшедшую в нем перемену. Он стал серьезнее, задумчивее и уже не разделял того восторженного восприятия жизни, которое выказывал Миша. — Ты — слепой котенок, — говорил он младшему брату. — Ничего не видишь, кроме хорошего. Я тоже плохого почти не замечал. А вот столкнулся с рабочими, погнул вместе с ними спину, посмотрел, как они живут… Сердце разрывается! Голову бы свернуть этой свинье Розентулеру… Как он над людьми издевается! Присматриваясь к Боре, прислушиваясь к его разговорам с товарищами, я с удовлетворением отмечала: Борис на верном пути.
«МЕНЯ ПРОЗВАЛИ БОЛЬШЕВИКОМ!»
Весной 1937 года Боря окончил ремесленное училище. После выпускного вечера, на котором ему было вручено свидетельство о присвоении квалификации слесаря-токаря по металлу, Боря приехал домой. Мы горячо поздравили его с успешным окончанием учебы и получением специальности. Он смущенно улыбался и, как взрослый, крепко жал нам руки. Боря и в самом деле стал взрослым. Высокий, статный, с веселыми голубыми глазами и густой шевелюрой каштановых волос, он выглядел старше своих шестнадцати лет. «Красивый парень!» — думала я, любуясь им. И Григорий Амвросиевич с радостью смотрел на сына. — Ну, что теперь собираешься делать? — спросил он, стараясь подавить возникшее чувство нежности к сыну. Боря ответил не сразу. — Отдохнуть ему нужно, а там… — вступилась было я. Но сын будто не слышал моего замечания. — Знаешь, папа, учиться дальше хочется, — высказал он свое заветное желание. У отца исчезла с лица улыбка. Не такого ответа ждал он от сына. Ему одному трудновато было тянуть целую семью, и он надеялся на скорую поддержку сыновей. А они вот что, об учебе мечтают… Но Григорий Амвросиевич спокойно сказал: — Ну, что ж, я не против. Только куда же ты пойдешь учиться? — Папа, ты согласен? — обрадовался Боря. Он не ожидал, что отец так легко согласится. — Вы ведь знаете, я хотел быть учителем… Но раз это невозможно и я решил стать техником, то пусть хоть хорошим, знающим. Правда ведь? — Это правда, сынок, но в Бессарабии нет технических школ. Боря, по-видимому, давно готовился к этому разговору. Воодушевленный согласием отца, он выложил перед ним свои планы. — Я узнал: в Бухаресте есть высшее ремесленное училище. Вот куда бы мне попасть! Как ни тяжело было нам, а осенью пришлось проводить Бориса в Бухарест. Он отлично выдержал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс высшего четырехгодичного ремесленного училища. Миша уехал продолжать учебу в Сороки, и наш дом опять опустел. Я совсем загрустила. Младший хоть близко, в двадцати километрах, с ним можно видеться каждое воскресенье. А вот Боря… Далеко от родных мест, в большом чужом городе. Как ему там живется? Время было тревожное. Фашисты в Румынии с каждым годом наглели все больше. Постепенно они прибирали власть к своим рукам. Самой крупной партией у них была «Железная гвардия», которая поддерживала тесную связь с гитлеровской Германией. Фашисты всеми силами стремились привлечь на свою сторону молодежь: создавали спортивные организации, открывали свои клубы, сетью ячеек опутывали учебные заведения. Мы боялись, как бы по неопытности Боря не стал жертвой их пропаганды. Но наши опасения оказались совершенно напрасными. Боря не только не увлекся идеями «Железной гвардии», но даже оказался ее противником. Молодчики из «Железной гвардии» относились к нему с подозрением, может быть, потому, что он был бессарабцем, а в Бессарабии было сильнее развито антифашистское движение. Вызывало ненависть у железногвардейцев и его чисто славянское имя — Борис. За все это они и прозвали его «большевиком». В первый год учебы, еще не понимая смысла этого слова, Боря спрашивал отца: — Папа, что такое «большевик»? Почему они меня так называют? — Это сложный вопрос, — отвечал Григорий Амвросиевич. — Но все же давай разберемся. И между ними завязывалась оживленная беседа. Постепенно Боря осознал, что фашисты называют большевиками всех, кто сочувственно относится к успехам Советского Союза, кто не желает подчиняться оккупантам, кто борется с ними. — Они, пожалуй, правы, что так меня называют, — сказал Боря, приехав на каникулы по окончании третьего курса. — Я действительно очень интересуюсь делами Советского Союза. Говорят, хорошо живут там трудовые люди. Эх, посмотреть бы на советскую жизнь! — И неожиданно спросил: — Как ты думаешь, мама, русские освободят Бессарабию? — А ты как думаешь? — спросила я в свою очередь. Он быстро огляделся вокруг, словно опасаясь, что нас подслушивают, и с юношеским жаром выпалил: — Освободят. Только бы скорее!ПРИШЛА ЖЕЛАННАЯ ПОРА
Лето в 1940 году выдалось жаркое. Знойные безветренные дни. Духота — дышать нечем. Поникли деревья, свернула свои листья кукуруза, пожелтели поля. Только с наступлением вечера на село опускалась прохлада. В один из таких июньских вечеров мы с мужем сидели на скамейке в своем садике. Ночь была темная, луна еще не взошла. На небе тихо светились звезды. Свежий воздух был насыщен медовым ароматом цветущей липы. Мы засиделись допоздна. — Пора спать, — поднимаясь со скамейки, наконец сказала я. — А может, пройдемся? — предложил Григорий Амвросиевич. — Куда? Он наклонился и тихо сказал мне на ухо: — Москву давно не слушали. — Я что-то устала сегодня. Иди один. Я вернулась в дом и легла спать. А муж пошел к нашим близким знакомым, у которых был сильный радиоприемник. Румынские власти строго запретили слушать передачи из Москвы. Всякий, кто нарушал этот запрет, рисковал нажить большие неприятности. Потому-то мы наглухо закрывали двери, окна, ставни и только тогда в настороженной тишине включали приемник. И вот сквозь далекий шум и треск прорывается знакомый голос Левитана: — Говорит Москва. Передаем последние известия… Лежа в постели, я представляла себе, как муж и наши друзья, обступив радиоприемник, с жадностью ловят каждое слово об успехах советских людей, об их трудной борьбе за новую жизнь. Вспомнилась Россия, суровый родной Петроград, Черное море, Севастополь… Неужели я больше никогда не побываю в родных краях? С такими мыслями я засыпаю. — Зина, проснись, — сквозь сон слышу знакомый и такой далекий голос — Проснись, Зина. Проснись. Новость-то какая! Я с трудом открываю глаза. Комната залита лунным светом. У постели стоит муж. Он почему-то улыбается, глаза радостно блестят. — Говори скорее, что такое, — прошу я. — А вот угадай, — усмехается Григорий Амвросиевич, подогревая мое любопытство. — Ну, не томи, Гриша. Муж сел рядом, обнял меня и все с той же сияющей улыбкой сказал: — Поздравляю с новой жизнью. Русские освобождают Бессарабию. У нас будет установлена Советская власть. — Правда? — Передали по радио. Румынские войска должны в течение двух дней покинуть Бессарабию. — Господи, наконец-то… Мы так были взволнованы этой радостной вестью, что не могли уснуть и проговорили до самого рассвета. А на утро все село знало о предстоящем приходе Красной Армии. Все теперь только этим и жили. На другой день, покинув укрепленный район на правом берегу Днестра, через село прошли хмурые, подавленные румынские солдаты. В усадьбе помещика Пержу царил страшный переполох. В повозки поспешно укладывалось имущество. Злой, весь заплывший жиром помещик покрикивал на возниц: — Пошевеливайтесь, говорю вам. К поезду опоздаем. Проклятие королю! — и, схватившись за голову, он убегал в дом. Видно, жалко было расставаться с награбленным добром. Крестьяне с усмешкой смотрели на суетившегося помещика. — Солому не забудь погрузить, господин Пержу. Королю подаришь, — под общий смех крикнул кто-то. Помещик, словно ужаленный, оглянулся и, сердито бормоча угрозы, уселся в бричку и укатил на станцию. Помещик Пержу славился своей скупостью. Он годами не выплачивал крестьянам заработанные ими деньги. Батраков и поденщиков он кормил такой соленой брынзой, что те потом опивались водой, наживая желудочные болезни. В том году стояла суровая морозная зима. Небольшие запасы топлива, которые были у крестьян, быстро иссякли. На полях помещика много лет гнили огромные скирды соломы. Тогда жители Радулян попросили Пержу отпустить им на топливо соломы в счет денег, которые он был им должен. Помещик отказал, опасаясь, что крестьяне возьмут соломы больше, чем им положено. Ее ведь не взвесишь. Эту солому и вспомнили удиравшему помещику. Но вот и помещичья бричка скрылась в пыльной дымке. Потеряв ее из виду, крестьяне облегченно вздохнули. Старое навсегда уходило из их жизни. А новое? Новое еще было скрыто в неизвестности. От помещичьей усадьбы толпа двинулась к зданию бывшей примарии[5], чтобы там встретить Красную Армию. Боря и Миша весь день пропадали неизвестно где. Рано утром я нашла на столе записку: «Мамочка, не волнуйся, мы идем встречать Красную Армию». Но в толпе встречавших сыновей я не нашла. Радулянцы ждали освободителей. Для дорогих гостей были приготовлены хлеб-соль, букеты цветов, кувшины с вином, прикрытые ярко вышитыми полотенцами. Взоры всех собравшихся устремлены на восток. Вдруг из переулка выскочил запыхавшийся парнишка. — Идите скорее… — еще издали крикнул он. — Там советский самолет! Все бросились за ним. Но никакого самолета за селом не оказалось. Ворча и поругивая сорванца, вернулись обратно. А через час другой мальчик принес новую весть: на Сорокском шоссе видна пыль. — Это точно Красная Армия идет, — убеждал он с таким жаром, что все поверили ему, и толпа хлынула в противоположный конец села. Но как пристально ни всматривались мы в протянувшееся серой лентой шоссе, никакого движения на нем не было видно. Уже в сумерках возвратились мы к зданию примарии. Решено было не расходиться отсюда до тех пор, пока не дождемся Красной Армии. — Может, они прошли мимо? — высказал кто-то сомнение. — Не должны. Радуляны на большом тракте стоят. Часов в десять вечера те же вездесущие ребятишки первыми заметили подходившую к селу красноармейскую часть. — Идут! Идут! — радостно возвестили они. Толпа бросилась навстречу колонне. Объятия, поцелуи, радостные всхлипывания. Старик, убеленный сединами, служивший когда-то в русской армии, на расшитом рушнике преподносит советскому командиру хлеб-соль: — Нашим дорогим освободителям. От жителей села Радуляны, — взволнованно говорит он и низко кланяется. Красноармейцев забрасывают цветами. По рядам уже пошла добрая чарка вика… Кто-то трясет меня за плечо. Оборачиваюсь: Боря и Миша. Оба необычайно веселы, глаза их светятся большим юношеским счастьем. У обоих на фуражках повыше козырька поблескивают красные звездочки. — Ты нас искала? Да, мама? А мы в Сороках были… Уже познакомились с красноармейцами… Это они подарили, — Миша срывает с головы фуражку. — Вижу… Но что же вы делали в Сороках? — Красную Армию встречали, а потом дорогу в Радуляны показывали. — Молодцы! — похвалил сыновей Григорий Амвросиевич. — А мне вот что советский командир дал, — Боря выхватил из-за пазухи книгу в коричневом переплете. В лунном свете на обложке золотом блеснуло: «Котовский». Наш разговор заглушает красноармейская песня. Над окутанными сумерками Радулянами торжественно звучит:МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
Приближалась осень 1940 года. Боря и Миша целиком были поглощены заботами о своей дальнейшей учебе. Перед ними открывалось столько широких дорог, что они терялись, не знали, по какой пойти. Газеты теперь часто печатали сообщения о вновь открываемых учебных заведениях в Кишиневе, Бельцах, Сороках. — Что же нам выбрать? — растерянно спрашивал Боря, читая объявления. — Ты смотри: педагогический, сельскохозяйственный… — А чего гадать вслепую? — заметил Миша. — Давай поедем в Кишинев и выберем, что нам понравится. В Кишиневе они встретили товарищей по Сорокскому училищу и решили устраиваться вместе. — А ведь неплохо быть агрономом, — рассуждали они, стоя у подъезда сельскохозяйственного техникума. На стене призывно выделялись крупные буквы: «Объявляется набор студентов…» Ниже сообщалось, кого готовит техникум и в какие сроки. Но больше всего привлекали ребят ничем не выделяющиеся, мелко написанные слова: «Принятые в техникум обеспечиваются стипендией». — Зайдем, — предложил Борис, и вся ватага двинулась за ним. Директор техникума принял их радушно. Он подробно отвечал на все вопросы об условиях учебы в Советском Союзе. Узнав, что многие из них окончили четыре класса Сорокского ремесленного училища, директор предложил им поступить на последний курс техникума. Ребята, не задумываясь, сдали свои документы. Но Боре не повезло. Его документы находились в Бухаресте, а при нем была только зачетная книжка. — Жаль, — сказал директор, выслушав Бориса. — Без документов принять не могу… А впрочем, поступайте на второй курс. Согласны? До сих пор Боря всегда был первым и шел на два курса впереди Михаила. Теперь ему предлагают поменяться с ним местами. Нет, он на это не пойдет. — Подумаю, — уклончиво ответил Борис. — До свидания, — и первым вышел из кабинета. По пути домой Боря остановился в Бельцах и решил попытать счастья. Повсюду, как и в Кишиневе, на заборах и фасадах зданий пестрели объявления о наборе студентов. Борис зашел во вновь открываемое педагогическое училище. — Я давно хотел стать учителем, но раньше я не мог… пришлось в ремесленное… Если я буду поступать в ваше училище, неужели мне нужно будет начинать все сначала, с первого курса? — спросил Боря директора, после того как поведал ему о своей учебе в Бухаресте. — Нет, зачем? — успокоил его директор. — Мы вас на четвертый примем. На другой день Боря увидел и свою фамилию в списке зачисленных на выпускной курс училища. — Видишь, мама, все-таки я добьюсь своего: буду учителем, — говорил он мне, вернувшись домой. — Да еще как скоро! Окончу училище, а на будущий год поступлю в институт. Теперь будет легко учиться. — Благодари Советскую власть. Это она дала такую возможность, — сказала я взволнованному Боре. Первое сентября снова разлучило нас с детьми. Для них начинались дни интересной учебы в советской школе, где все было необычным, новым, все открывало такие широкие горизонты, что дух захватывало А для нас с мужем опять потекли дни ожидания, наполненные беспокойством о сыновьях. Когда у человека сбываются заветные мечты, он весь отдается выстраданному счастью. Так случилось и с Борисом. Весь жар своей юной души он отдавал теперь новой жизни. Общительный по натуре, скромный и отзывчивый, он быстро завоевал уважение товарищей и был избран старостой класса. Боря буквально горел на работе. Он агитировал сдавать нормы на значок ГТО, вступать в Красный Крест. Он был так перегружен общественной работой, что даже во время моих нечастых приездов в Бельцы не мог побыть со мной. — Ты извини, мамочка, у нас кружок сегодня. Я скоро вернусь. В другой раз он говорил мне: — Ты знаешь, мама, меня назначили помощником инструктора физкультуры. Значит, доверяют? Правда? Не было в училище такого начинания, в котором не участвовал бы Борис. Он выступал в спортивных соревнованиях и очень гордился, что их училище почти всегда занимает первое место. — Первенство само в руки не идет. Надо постоянно заниматься, — неустанно твердил он мне. Иногда я ходила смотреть на его тренировки. Мне было приятно видеть, как легко и свободно перебрасывал Борис свое мускулистое тело через турник, прыгал через козла, метал гранату, вертелся на трапеции. В минуты задумчивости он признавался мне: — Знаешь, мама, я только теперь понял, что такое счастье, к которому я стремился. Понял, почему не мог сблизиться с ребятами в Бухаресте. Я не представлял себе всего этого ясно, но сейчас понял, что вступил в новую жизнь. Я буду всеми силами стараться, чтобы жизнь моя была такой, какой живут советские люди. Постараюсь принести хоть маленькую пользу своей Родине. Как мечтал Борис, чтобы люди сказали о нем: — Да, он настоящий советский человек! Незаметно наступила весна. Сыновья усердно готовились к выпускным экзаменам. Мы ждали их на отдых и часто говорили о том, куда поедем на каникулы, собирались навестить своих старых друзей в Царьграде, покататься по Днестру… Но вдруг все изменилось.ГРОЗА
После дождливой весны установилось солнечное жаркое лето. На полях, перекатываясь зелено-желтыми волнами, зрели высокие густые хлеба. Глядя на них, крестьяне с радостью говорили: — Урожай нынче богатый выдался. Заживем… — И земля-то, видать, теперь свободнее вздохнула. Не скупится для простого человека. В Кугурештской МТС, где я работала бухгалтером, деятельно готовились к уборке урожая. Под навесом стояли поблескивающие краской новенькие жатки и комбайны. У мастерских оглушительно фыркали тракторы. Механизаторы обстоятельно проверяли машины перед выходом в поле. Директор МТС, Василий Никитич Мишин, энергичный и беспокойный человек, поторапливая всех, убеждал: — Это наше первое испытание. Надо постараться. Помню, в тот жаркий субботний день на западе громоздились тяжелые темные тучи. Постепенно заволакивая горизонт, они настигли солнце и закрыли его. Вихрем налетел горячий ветер, взметая пыль. Вот черное небо рассекла яркая вспышка молнии, оглушительно ударил гром, и первые крупные капли шлепнулись в пыль. А через минуту на земле уже плясал ливень. Дождь шел всю ночь, и только к утру прояснилось. На чисто вымытом голубом небе ярко засияло солнце. Напоенная влагой, паром дышала земля. Был воскресный день. Мы сидели в садике, наслаждаясь наступившей после дождя прохладой. Стукнула калитка, и во двор вошел подавленный и словно съежившийся Мишин. Он угрюмо поздоровался и, сев на лавочку, опустил голову. Мы не привыкли видеть его таким и сразу поняли: что-то случилось. Мишин поднял голову и посмотрел на нас. — Не слыхали, что ли? — Слышал, — спокойно ответил Григорий Амвросиевич. — Тут один прохожий говорил. — А что такое? — встревожилась я. — Война… Немцы напали… — сдавленно проговорил Мишин. Мы молчали, потрясенные. А Василий Никитич рассказывал нам о первых горестных вестях войны. — Фашистские самолеты бомбили Кишинев и Бельцы… Начались пожары. Жестокой болью обожгли меня эти слова. Дети! Ведь они там учатся — в Кишиневе и Бельцах. — Гриша, их надо скорее вызвать, — сквозь слезы крикнула я. — Их могут убить. — Не волнуйся, они уже не маленькие, сами знают, что нужно делать, — успокаивал меня муж. — Вы приходите завтра пораньше, Зинаида Трофимовна, — попросил Мишин и, попрощавшись, ушел. Он еще находился в том подавленном состоянии, когда внезапно обрушившееся горе порождает у человека растерянность. Все, к чему он так старательно готовился, во что вкладывал всю душу, — рухнуло. Война перевернула всю жизнь, разрушила мечты. Не жаворонки теперь были хозяевами неба — самолеты бороздили его. Где-то вдалеке, видно над Бельцами, шли воздушные бои. Ночью тьму пронизывали полосы прожекторов и огненные нити трассирующих пуль.Иногда мы видели загоревшийся в воздухе самолет. Распустив огненный хвост, он метеором падал на землю. Наш или вражеский — кто знает? Всю ночь в небе полыхало зарево пожаров. Война! Серые тучи низко ползут над землей. Мелкий дождик моросит вот уже несколько дней. Я печально смотрю на разлинованное дождевыми струями окно и с болью думаю о сыновьях… Вот в сетке дождя выплыла из-за угла знакомая фигура. Неужели Михаил? Худой, осунувшийся, еле передвигает ноги. Я выбежала навстречу. — Миша, дорогой… Он поднял на меня красные, воспаленные глаза и с трудом выговорил: — Устал очень… Войдя в комнату, он, не раздеваясь, повалился на кровать и моментально уснул. Спал он долго и только вечером, за ужином, рассказал о себе: — Оставаться в Кишиневе больше было невозможно. Немцы бомбят по нескольку раз в день. Сначала мы целые сутки проводили на крыше училища, боролись с зажигалками. А потом нам объявили, что занятия временно прекращаются, и предложили разойтись по домам. Железная дорога, сами знаете… Я боялся, как бы вы не уехали, и страшно спешил. Сто сорок километров прошел… Иначе сложилась судьба Бориса. В училище спешно заканчивали учебный год. Несмотря на тяготы военного времени, были проведены выпускные экзамены. Директор поздравил выпускников, в числе которых был и Боря, с окончанием училища и, вместо обычного пожелания успехов на благородном педагогическом поприще, обратился с призывом: — Молодые патриоты! Наша Родина в опасности. Коварный враг нарушил мирный созидательный труд советского народа. Ваше место в рядах его защитников. Кто смел и честен, кому дороги завоевания Советской власти, тот откликнется на мое обращение и вступит в ряды бойцов истребительного отряда… В такой отряд записался и Боря. Бойцы отряда вылавливали вражеских парашютистов, сигнальщиков, диверсантов. После ожесточенных боев врагу удалось сломить оборону и вплотную подойти к городу. Командование приказало бойцам истребительного отряда покинуть Бельцы.ПО ВОЕННЫМ ДОРОГАМ
Отдохнуть Михаилу не пришлось. На другой день его вызвали в сельсовет. Началась всеобщая мобилизация. Отправка мобилизованных были назначена на следующее утро. Погода по-прежнему стояла дождливая. Но в хлопотах, приготовлениях люди не замечали ненастья. Всю ночь мы не гасили огня. Я готовила Мише белье, теплые носки, напекла в дорогу пирожков и лепешек. А Григорий Амвросиевич как бывалый солдат заботливо учил сына не быть безрассудным в бою, не подставлять понапрасну голову пуле. Настроение у нас было подавленное. Угнетала не только близкая разлука с младшим сыном, но и то, что мы ничего не знали о Борисе. Я все думала о нем. Жив ли? Куда забросила его военная судьба? Со страхом отгоняла мысль, что он мог погибнуть. Рано утром мы уже были в школе. Еще издали услышали гул голосов. Матери просили сыновей беречь себя, писать почаще. Мужья наказывали женам, как вести хозяйство. А молодушки да невесты, не стесняясь народа, обнимали, целовали своих любимых и плакали. Я еле сдерживала душившие меня слезы. Вдруг прибежал мальчик и, дернув меня за юбку, сообщил: — Тетя Зина, ваш Борис пришел… я видел… Я кинулась к двери и в коридоре едва не столкнулась с Борей. Грязный, похудевший, с винтовкой за плечами, он шел мне навстречу и улыбался усталой, измученной улыбкой. — Боря, родной мой… Он все улыбался, совсем повзрослевший, возмужавший. — Я шел домой, но мош Гаврила сказал, что вы тут. Вот я и пришел, — сказал он, словно оправдываясь за свой неопрятный вид. — Миша уходит в Красную Армию, — сообщила я. — Это хорошо. Я тоже пойду с ним. — Тебе отдохнуть нужно, Боренька, — взмолилась я. — Теперь не время отдыхать, мама. Отдохнем, потом, когда разобьем фашистов, — ответил Боря, и я поняла, что передо мной не прежний послушный мальчик, а получивший боевое крещение самостоятельный мужчина. Но и я не сдалась: уж очень хотелось мне, чтобы он хоть немного побыл с нами. Я обратилась за поддержкой к мужу. Григорий Амвросиевич только пожал плечами: дескать, что я могу сделать? — Ну, Боря, родной, ну на денек, — умоляла я сына. — Не могу, мамочка. Не сердись, — и, поцеловав меня, Боря прошел в комнату комиссии. Просьбу его удовлетворили, и он со своей неразлучной винтовкой, полученной в истребительном отряде, присоединился к колонне мобилизованных. Его назначили старшим и поручили следить за порядком. Вскоре колонна тронулась. Прощаясь с сыновьями, я дала им на всякий случай адрес деверя, который жил в Донбассе, в городе Краснодоне. — Может, нам придется переехать туда, — говорила я им. По грязной, размытой дождями дороге колонна медленно двинулась к Рыбницкому мосту. Матери, жены, родные брели за ней, причитая и всхлипывая. Я еще раз обняла сыновей и долго смотрела им вслед, пока колонна не скрылась за холмами. Усталая, обессиленная вернулась я в село. У школы мне бросилась в глаза толпа людей в чужой военной форме. На некоторых из них белели повязки бинтов. Плотным кольцом их окружали ребятишки, старики, женщины. — Что здесь такое? — спросила я соседку. — Пленных привели. Только теперь я разглядела немецких и румынских солдат. Они располагались на отдых и изредка наглым, звероватым взглядом посматривали на толпу. Был здесь и конвой из красноармейцев. Вдруг из-за угла с грохотом выкатилась повозка, запряженная парой лошадей. Осадив взмыленных коней, из нее выскочил Борис. Он побежал к школе и, увидев пленных, остановился, пораженный. Лицо его гневно пылало, глаза горели лютой ненавистью. Не помня себя, он вскинул винтовку. — Эй, не балуй. По безоружным не стреляют, — крикнул красноармеец из конвоя. Борис словно только теперь опомнился. Тяжело дыша, он опустил винтовку и прошел в школу. Возвратился он оттуда вместе с председателем отборочной комиссии. Я окликнула их: — Чего ты вернулся, Боря? Взволнованной скороговоркой он ответил: — Дошли до леса… несколько человек сбежало… кулацкие сынки… Я вернулся, чтобы доложить властям… А тут эти… гады. Быстро простившись со мной, он сел в повозку и укатил. И вот мы опять одиноки. Сыновья ушли на фронт. Когда-то увидимся снова? Потекли тревожные дни. Орудийный гул все ближе и ближе. Через село идут отступающие части Красной Армии. Лица у бойцов такие, словно они стыдятся того, что оставляют нас врагу. Фронт неумолимо приближается к нашему селу. Посоветовавшись, мы решили эвакуироваться. — Поедем к Косте, в Донбасс… — предложил муж. — Там безопаснее. Немцы туда не дойдут. Я согласилась, и мы стали собираться в путь.ЗЕМЛЯ В ОГНЕ
Самым трудным делом в то горестное время было раздобыть подводу или грузовик. И вот мы стоим у дороги, тщетно надеясь остановить попутную машину. Так прошла неделя. Наконец нам посчастливилось. Водитель военной машины, нагруженной мешками с мукой, согласился подвезти нас. Обрадованные, мы стали таскать узлы. — Э, с таким грузом не возьму… Вообще-то нам гражданских нельзя возить, — заупрямился шофер. Пришлось оставить почти все, что мы уложили в узлы, и взять только немного белья и верхнюю одежду. Когда, неотступно преследуемые артиллерийским гулом, мы выехали за село, на душе стало легче. Теперь, думала я, мы не попадем в лапы врагу. У Рыбницкого моста, где мы должны были переправиться на левый берег Днестра, скопилось множество автомашин, подвод, ожидающих своей очереди. Немцы непрерывно бомбили переправу. Вода в реке кипела, огромными столбами вздымалась вверх, но мост оставался невредим. Фашистские летчики, озлобленные неудачей, с бреющего полета расстреливали скопившихся у переправы женщин и детей. Нет, никогда не забуду я ужасов первой бомбежки. Кажется, небо разверзлось, и оттуда с оглушительным воем прямо на наши головы летят бомбы. Земля содрогается от взрывов, слышатся душераздирающие крики перепуганных и раненых детей… Зажмурив глаза, мы лежим в кукурузе, охваченные ужасом. Но смерть миновала нас. И оттого мы стали смелее и уже спокойнее воспринимали тревожный сигнал: «Воздух!» Земля оказалась более надежной защитой, чем она представлялась в памятную первую бомбежку. В этот день нам повезло — подошла наша очередь переправляться на другой берег. Медленно подкатываем к мосту, за которым зеленеют сады левобережья, а за ними Украина, просторы России… — Что везешь? — спрашивает шофера подошедший к нашей машине военный. — Муку, товарищ капитан. — Поворачивай обратно. Машины с продовольствием собираются в селе Васильевка и оттуда следуют по особому указанию. Ясно? Шофер, чертыхаясь, вывел машину и погнал ее по новому адресу. Мы с трудом уговорили его «подбросить» нас на три километра ниже Рыбницкого моста. Там была другая переправа. По дороге, ведущей в Вадрашково, мы догнали несколько крестьянских подвод. Узнав, что они едут к переправе, мы попросили возчиков подвезти и нас туда. В село Вадрашково мы въехали ночью. Жуткая тишина стояла вокруг. Некогда красивые улицы превратились в груды развалин, кое-где курился дым. На дороге валялись убитые лошади, коровы. Из уцелевших домов люди на улицу не выходили: отсиживались в подвалах. Одни эвакуированные оживляли это почти вымершее село. Среди ожидающих переправы оказалась табельщица нашей МТС. — И директор наш, товарищ Мишин здесь. Он в истребительном отряде. Помогает переправлять людей на тот берег, — охотно рассказывала она. — Хотите повидать его? Она привела нас к камышовому шалашу. На земле, устланной соломой, спали, подложив под головы винтовки, воины истребительного отряда. Я разбудила Мишина. — А? Что случилось? — вскочил он и, узнав меня, радостно улыбнулся: — Кого вижу, батюшки мои! Здравствуйте, — и бросился обнимать нас. — Выбрались?.. Очень, очень рад. Извините, на одну минутку оставлю вас. Вскоре Мишин вернулся, неся в глиняной миске несколько кусочков вареного мяса и хлеб. — Больше ничего не смог достать, — оправдывался он. Мы только теперь вспомнили, что весь день не ели, и с жадностью набросились на еду. — Переправиться я вам помогу, — успокаивал нас Мишин. Действительно, этой же ночью нас на барже перевезли на левый берег Днестра. Остаток ночи мы провели в местечке Рашково, в чьем-то саду. А утром, сложившись с другими семьями, наняли подводу, чтобы добраться до станции Кодыма. Попасть в поезд оказалось очень трудно. Перегруженные составы, идущие на восток, не делали остановок на станциях, а лишь замедляли ход, и пассажиры на ходу вскакивали в вагоны. Лишь на третий день решились мы прыгать на ходу. Я вскочила на подножку, и чьи-то заботливые руки подхватили меня. Муж успел вскочить в соседний вагон. Теперь мы чувствовали себя спокойнее. Поезд мчал нас в глубь страны, все дальше и дальше от фронта. Фашистские самолеты преследовали наш мирный, беззащитный эшелон, часто бомбили и обстреливали из пулеметов. Не раз, остановившись в поле, машинист давал тревожный гудок, и, покинув вагоны, мы прятались в хлебах. Никогда не забуду двух сестер, ехавших в одном с нами вагоне. Младшая из них в одну из бомбежек потеряла пятилетнего сына и лишилась рассудка. Она то пела песни, то начинала дико кричать: — Ванюшка мой, Ванечка! После каждого налета в поезде начинался переполох: матери искали своих детей, дети — родителей. У города Первомайска мы всю ночь простояли у закрытого семафора. Город был объят пламенем: немцы сбросили на него зажигательные бомбы. Еще одна страшная ночь запомнилась мне. Мы стояли на какой-то небольшой разрушенной станции. В бледном свете луны возвышалась чудом уцелевшая водокачка. На ней непрерывно и как-то зловеще кричал сыч. А поодаль, возле склада с зерном, выли привязанные сторожевые собаки. В вагоне безутешно рыдали матери, потерявшие детей. Все это так угнетало, что хотелось бежать от этой мертвой станции куда глаза глядят. Только утром к поезду прицепили паровоз, и мы двинулись дальше. Труден был путь в Краснодон. Нам пришлось ехать на открытой платформе под проливным дождем, и по нескольку дней сидеть, скучившись у разбитых вокзалов, на станциях. Только через две недели добрались мы до станции Семейкино, в трех километрах от которой, как нам объяснили, находился город Краснодон. Оставив мужа с вещами на вокзале, я пошла отыскивать деверя. Передо мной во всей красе раскинулась донецкая степь. Словно большие длинноногие птицы, возвышались над ней копры, весело белели шахтерские поселки. Меня так тянуло к домашнему уюту, что я, преодолевая усталость, довольно бодро зашагала к раскинувшимся в степи домикам. Но когда я уже была у цели, оказалось, что это не город, а поселок Краснодон. — До города от нас восемнадцать километров, — объяснила мне вышедшая из крайнего дома женщина. Раздумывать было некогда. Расспросив о дороге на Краснодон, я пошла дальше. Константин Амвросиевич очень обрадовался, увидев меня. — А Гриша где? — забеспокоился он о брате. — На станции ждет. На второй день рано утром, раздобыв где-то подводу, Константин Амвросиевич уехал на станцию за братом. Мы хорошо устроились в Краснодоне. Оба поступили на работу. Не хватало главного — спокойствия. Мы с нетерпением ждали вестей от ребят. Но они не приходили.НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Пожалуй, самое худшее для родителей — это неизвестность о судьбе детей. Горе можно пережить, а вот неизвестность долго и мучительно томит, угнетает человека. Мы прожили в Краснодоне уже больше полутора месяцев, а от сыновей никаких известий не было. Горестные, тоскливые мысли одолевали меня. А тут еще с фронта приходили печальные вести. Наша родная Молдавия была оккупирована врагом. Бои шли на подступах к важнейшим центрам Украины. Земля пылала в огне, исходила слезами. В те дни люди мало говорили. У каждого было свое горе. Как-то к нам, в контору райпотребсоюза, зашел Константин Амвросиевич. Он был непривычно весел, улыбался, и мы решили, что он принес радостные вести. — Потрясающая новость, Зина. Иду я в магазин за хлебом. Навстречу мне хлопец, усталый такой, запыленный: длинный, видно, путь прошел. «Вы не скажете, где здесь Колхозная улица?» — спрашивает. «Скажу, — отвечаю. — А ты что? Ищешь там кого?» «Да, — говорит, — дядя у меня здесь проживает, Константин Амвросиевич Главан…» Вот как мы с племяшом встретились… Я так и подскочила: — Где он?.. Боря, Миша? — Младший. Из окружения выбрался. Я отпросилась у председателя и побежала домой. С того времени, как мы расстались, Миша удивительно изменился. За два месяца война перековала застенчивого мальчика в смелого, мужественного воина. Прихлебывая горячий чай, он неторопливо рассказывал: — Зачислили нас в рабочий батальон. Копали рвы, строили укрепления: готовили позиции для наших войск. И вот однажды мы работали под Ананьевом. Смотрим, неподалеку от нас остановились подводы, с них соскочили люди с винтовками. И кто, ты думаешь, был среди них? Директор МТС, товарищ Мишин. Он так обрадовался, когда нас увидел! От него мы и узнали, что вы выехали в Краснодон. Отдохнули они маленько и дальше отправились. Мишин тепло распрощался с нами и дал немного денег. Тогда мы с Борей решили, что за вас можно не тревожиться: к немцам теперь не попадете. — А как же вы потеряли друг друга? — нетерпеливо прервала я. — Э, мама, такое было! — вздохнул он. — Неожиданно все получилось. Мы с Борей работали на разных участках, когда немцы окружили наш батальон. Командование приказало выходить из окружения. Один из наших тянул меня в Бессарабию. Но я отказался. Чего я там, у фашистов, не видел? За год Советской власти мы хорошо узнали, что такое свободная жизнь. Об этом никак нельзя забыть. Вот я все обдумал и решил выбираться из окружения. Ох и трудная была дорога! Целый месяц добирался Михаил до Краснодона. У него не было ни денег, ни хлеба. В пути он нанимался на работу: в колхоз или на шахту. Последней его остановкой был Ворошиловград. Здесь он два дня нагружал уголь, а потом, встретив попутчика до Краснодона, пошел с ним. Первый человек, к которому он обратился в поселке, оказался его родным дядей. — Я очень переживал, что потерял Бориса. Ведь вдвоем любую беду легче перенести. А одному как-то страшно. Шел и все думал: «Что с Борей? Не захватили ли его немцы? Сумел ли он выйти из окружения?» Тревога за судьбу Бориса заполнила теперь все мои мысли. — Нечего тебе так убиваться, Зина. Если Миша ушел от них, то Боря и подавно уйдет, — подбадривал меня муж. Он оказался прав. Спустя несколько дней почтальон принес мне маленький бумажный треугольник. Взглянув на него, я сразу узнала почерк Бори. Боря сообщал, что ему удалось вырваться из окружения и присоединиться к отступающим войскам.«Где Миша и что с ним, ничего не знаю, — писал он. — В суматохе окружения мы потеряли друг друга… Мне горько сообщать тебе об этом, мама. Но скрывать правду я не могу. Меня временно определили в санитарно-хирургический автотранспорт».
СНОВА В СТРОЮ
Это письмо словно подхлестнуло Мишу. Он вскочил с табурета и горячо заговорил: — Нет, я не могу ни минуты оставаться здесь. Боря на фронте, бьется с фашистами, а я отсиживаюсь в тылу! Позор! — он метнулся было к двери, но на пороге остановился: — Папа, ты знаешь, где военкомат находится? Отговаривать Михаила было бесполезно. Григорий Амвросиевич назвал адрес военкомата, и Миша отправился туда. Недели через две мы снова проводили его в Красную Армию. Некоторое время он был в Саратове, а потом его послали в Челябинск, на учебу. Перед выездом на фронт он писал:«Я очень рад, что наконец наступил долгожданный день отправки на фронт. Рад, что теперь и я стану в ряды борющихся за честь и свободу нашей Родины, буду ее боевым защитником. Теперь, когда я иду на такое большое дело, заверяю вас, дорогие родители, что буду драться так, чтобы ни один фашист не остался на нашей советской земле. Прошу Вас, напишите Боре, что я вызываю его на соревнование нещадно бить врагов».Мы с мужем жили в далеком донецком городке, а все наши мысли были на фронте, там, где в трудной, кровавой схватке бились с врагом наши сыновья. Письма от них стали для нас самой большой радостью.
«Вчера я получил боевое крещение, — писал Михаил. — Вчера мною были пущены первые мины по фашистским гадам. Это очень важный день в моей жизни».Борису недолго пришлось служить в санитарно-хирургическом автотранспорте. Узнав, что он владеет румынским языком, командование назначило его переводчиком и связистом при штабе дивизии. Здесь он вел допрос захваченных в плен румын. В ноябре 1941 года Боре было присвоено звание сержанта. Но наиболее важным событием в его жизни в ту тяжелую военную зиму было вступление в ряды ленинского комсомола. В своем письме, поздравляя нас с новым, 1942 годом, Борис писал:
«Я очень рад, что меня приняли в комсомол, и постараюсь оправдать оказанное мне доверие. У нас на фронте все бойцы считают, что наступающий год будет годом победы. Такие у всех надежды и желания. Дела у нас идут неплохо. Скоро так ударим по фашистам, что ни один из них не сумеет удрать. У нас сейчас стоят морозы, которые дают себя хорошо чувствовать фашистской армии. Немцы и их союзники ходят, как привидения, в одеялах, головы обматывают платками. Мы все хотим, чтобы морозы были еще сильнее — пусть мерзнут фашисты. Особенно плохо одеты итальянцы. Их много берут в плен. Они такие голодные, что готовы есть даже отбросы».В дни, когда на фронте шли ожесточенные бои, когда жажда мести гнала и молодых, и старых на поле боя, Боре было мучительно трудно оставаться в штабе. Его тянуло на передовую, туда, где можно лицом к лицу столкнуться с врагом и померяться с ним силами. Как-то Борис не утерпел и выложил все это начальнику штаба. — Я понимаю вас, сержант Главан, но отпустить на передовую пока не могу, нам нужен переводчик, — ответил ему начальник штаба. — Разрешите хотя бы участвовать в ночной разведке, товарищ полковник. — Это другое дело. Через несколько дней Борю вызвал к себе начальник разведки. — Ну вот, сержант, ваше желание сбывается. Сегодня с наступлением темноты пойдете с двумя бойцами. Необходимо достать «языка». Весь день Борис провел в волнении, несколько раз проверял и чистил оружие, изучал маршрут, по которому нужно было пройти на позиции противника, еще и еще раз обдумывал детали. Ночная операция была проведена удачно. Разведчики бесшумно похитили из румынской воинской части офицера и солдата и доставили их в штаб. «Языки» оказались болтливыми, от них удалось получить ценные сведения. Так Борис стал разведчиком. К весне 1942 года он уже был помощником начальника разведки, и ему было присвоено звание младшего лейтенанта. С болью писал он нам о том, что видел на территории, занятой врагом:
«Сердце обливается кровью при виде того, что натворили фашисты на нашей земле. На месте многих городов и деревень остались только зола и пепел. Тысячи невинных людей расстреляны или угнаны на каторгу в Германию. Я буду мстить немецким извергам, пока бьется в груди сердце».Летом 1942 года на юге начались сильные бои. Часть, в которой служил Борис, была переброшена под Харьков и после напряженного двухнедельного боя попала в окружение. Борис получил приказ спасти ценности и имущество полка, но, несмотря на все усилия, сделать этого не смог. Тогда командование приказало часть имущества уничтожить, а другую часть и провизию раздать населению. Сделав все это, Борис с товарищем стал пробираться на восток. Фронт уже ушел далеко вперед, в селениях и на дорогах шныряли немцы. Днем Борис и его спутник прятались в хлебах, в лесу или отлеживались в кустах на берегу какой-нибудь речки. А ночью, держа наготове автоматы, шли дальше. — Мы не собирались дешево отдать врагу свои жизни, — рассказывал нам потом Борис. — Сражаться до последнего патрона, а последнюю пулю — в свое сердце. Живыми не сдаваться — так мы решили. Как-то вечером они подошли к большому украинскому хутору. Слышалась немецкая речь, шум моторов. Заходить в хутор было опасно. А на отшибе, в поле, белел одинокий домик. Направились туда. В домике стояла такая тишина, что он казался вымершим. Но на тихий и осторожный стук Бориса дверь открылась, из нее вышел высокий худощавый старик. Увидев советских офицеров, он испугался: — Боже мой, куда вы?.. Немцы тут… — Не пугайся, дед, мы скоро уйдем догонять своих. Только помоги нам. — С дорогой душой, с дорогой душой, — закивал старик. — Ох, и время настало! Господи, господи… С минуту все помолчали. — Вы-то, поди, изголодались, — спохватился старик. Он торопливо поставил на стол миску холодного борща, нарезал крупными ломтями хлеб. — Спасибо, дед, за хлеб-соль. Теперь можно и в дорогу. Только вот что: у тебя старая, потрепанная одежонка найдется? А то в этом, — Борис кивнул на форменную гимнастерку и галифе, — трудно идти. — Понимаю, — сказал старик. — Обождите чуток, посмотрю на чердаке. Жинка туда складывала. Вскоре он принес обоим рваные штаны, рубашки, разбитые ботинки. — Вот… нашел, — даже смутился старик. — Только тут, кажись, и греха не прикрыть. — Ничего, сойдет. Борис и его товарищ быстро переоделись. Свое военное обмундирование и автоматы они зарыли на огороде и попросили старика хранить это в тайне. — Скоро вернемся, дедушка, заберем свое добро. Ты уж постарайся, сбереги. — Не сомневайтесь, — заверил старый шахтер и обнял ребят. — Ждать вас будем… Дай вам бог удачи. Теперь можно было идти и днем и не бояться попасть на глаза немцам. Узнав, что от станции Миллерово недалеко до Краснодона, Боря уговорил своего спутника зайти к нам.
КРАСНОДОН В ТЕ ДНИ
Немало тревог пришлось пережить нам в Краснодоне. Еще осенью 1941 года, когда немцы бешено рвались к Москве, город стал готовиться к эвакуации. Однажды утром меня вызвал к себе председатель райпотребсоюза. Вид у него был озабоченный. — Вот что, Зинаида Трофимовна, — глухо заговорил он. — Надо будет сжечь все архивы и оставить только последние финансовые документы. Может быть, придется оставить город. Подолгу сидели мы у топившихся печек, сжигая документы. Скорбные, тяжелые мысли не давали покоя. Трудно было примириться с необходимостью оставить город на разграбление врагу. Но мы утешали себя тем, что предстоящая разлука будет временной и короткой. Положение с каждым днем осложнялось. Уже рассчитали почти всех работников потребсоюза, оставив только меня и Валю Качуру. Все наиболее цепное имущество было уложено в тюки, и мы только ждали приказа выехать из города. Однако этот час оттягивался, и, чтобы понапрасну не терять времени, мы занялись вязкой носков и рукавиц для фронта. Шерсти на складе нашей заготовительной конторы лежало много, и мы были рады случаю пустить ее в дело. Краснодонские женщины дружно подхватили наш почин, и скоро возникла большая артель вязальщиц. В меру своих сил мы старались помочь родной Красной Армии. Был ясный осенний день 1941 года. Склонившись над вязанием, мы молчали. Было тихо, только позванивали спицы в руках женщин. Сидевшая рядом со мной Валя Качура, взглянув в окно, радостно вскрикнула: — Смотрите… Наши возвращаются. Мы бросились к окнам. Ломая тонкий ледок на лужах, по улице шли красноармейцы. Они шли на запад. — Чего же мы смотрим? — и, схватив кипу готовых рукавиц, я выбежала на улицу. По нашей просьбе командир остановил колонну. Бойцы с улыбкой и благодарностью принимали подарки. — Вовремя, мамаши, догадались, — услышала я чей-то ласковый басок. — Пообносились ребята;.. — Словно по заказу угадали… — Спасибо вам, — слышалось отовсюду. Красноармейская часть ушла на запад, круто изменив настроение жителей города. Теперь появилась уверенность, что немцев можно остановить и отбросить. Распоряжение об эвакуации было отменено. Зима прошла сравнительно спокойно. Но с наступлением весны Краснодон стали наводнять беженцы. Поползли слухи, что немцы наступают по всему южному фронту, сжигают города и села, истребляют мирное население. Утихшие было разговоры об эвакуации теперь вспыхнули с новой силой. То и дело слышались сильные взрывы: шахтеры выводили из строя шахты, чтобы не оставить их врагу. А по дороге к Донцу шел нескончаемый поток машин, подвод, ручных тележек, нагруженных домашним скарбом. Только очень немногим посчастливилось перейти Донец. С утра и до поздней ночи немецкие самолеты бомбили реку. Все мосты и переправы были разрушены. Многие жители Краснодона, убедившись, что перебраться через реку невозможно, возвратились домой. Мы тоже не смогли переправиться. Все притихли и насторожились в тревожном ожидании. На всю жизнь запомнилось мне хмурое июльское утро. Погода стояла пасмурная. Низко над землей ползли тяжелые дождевые тучи. Где-то поблизости выпал град. Тянул прохладный ветерок. А в городе было тихо-тихо. И вдруг… На западе зарокотали моторы. Это со станции Верхнедуванной шли к Краснодону немцы. На мотоциклах, бронемашинах, грузовиках они двигались напрямую садами и огородами, сваливая изгороди и подминая под колеса фруктовые деревья. В наш двор въехала кованая повозка, запряженная парой крупных рабочих лошадей. Из нее спрыгнули несколько немцев в засаленном обмундировании. Они распрягли лошадей и пустили их пастись на наш небольшой огород. За одну ночь огород был вытоптан. Молодую картошку немцы выкопали и съели. С каждым днем немцев в городе становилось все больше и больше. Они рыскали по домам, отбирали у населения вещи, не брезговали даже такой мелочью, как ножницы, косынки, кошельки. Все награбленное они отправляли в Германию. На заборах появились грозные приказы. В течение 24 часов предлагалось сдать огнестрельное оружие. В случае невыполнения — расстрел. Коммунисты и комсомольцы обязаны были явиться на регистрацию. У нас в доме поселилось одиннадцать гитлеровцев. А мы все были бесцеремонно вытеснены на кухню. Немцы обшарили чемоданы, шкаф, буфет, забрали весь наш запас продуктов. В комнате, которую они заняли, стояло пианино. Опьянев, немцы били по клавишам и орали: — Вольга, Вольга, матка… Или, увидев кого-нибудь из нас, кричали: — Россия капут! Берлин — Владивосток! Хайль Гитлер! Как только немцы заняли город, они стали выгонять население на ремонт моста, взорванного отступающими частями Красной Армии. Я пришла с лопатой и, увидев, как немцы с криком и руганью заставляют жителей носить землю, камни, поваленные деревья, невольно остановилась. Работать на врага? Эта мысль обожгла мое сознание. Может быть, только вчера по этому мосту проходили мои сыновья, а потом взорвали его, чтобы задержать врага. И вот я своими руками должна восстановить мост, чтобы по нему хлынули фашистские машины. Нет, этого никогда не будет! Стоявший поблизости немецкий часовой прикрикнул на меня: — Arbeiten![6]— и пригрозил автоматом. Я взялась за лопату, но как только часовой отвернулся, мы с соседкой бросились бежать за пригорок. К счастью, никто не заметил нашего побега. Глухая ненависть советских людей к фашистским оккупантам вылилась в открытую месть врагу. Даже свою первую ночь в Краснодоне немцы не смогли провести спокойно. В комнате наших непрошеных квартирантов шум не прекращался всю ночь. Они громко ругались, в темноте хватали автоматы и выскакивали на улицу. Они боялись малейшего шороха. Неспокойно провели и мы первую ночь под одной крышей с захватчиками. Вскоре по городу разнесся слух, что кто-то хотел взорвать здание треста, в котором расположился немецкий штаб. Позднее мы узнали, что от Ф. П. Лютикова было получено указание отменить взрыв дирекциона, так как это могло привести к массовому уничтожению населения. Жизнь в оккупированном городе с каждым днем становилась все труднее. Чтобы сбить с толку советских людей, немцы пустили в ход самую разнузданную пропаганду. В газетах, по радио и в листовках они уверяли, что Красная Армия разбита, что взяты Ленинград и Москва, и для большей убедительности, печатали фотоснимки, на которых изображались немцы, гуляющие по Красной площади или купающиеся в Неве. Оккупанты продолжали грабить население. Люди всячески приспосабливались, чтобы как-то прокормить семью. Мы ходили за 10—12 километров от города и на полях собирали колоски пшеницы, ячменя. Как-то мы вышли совсем рано, еще до восхода солнца. Трава и истоптанные хлеба стояли, усыпанные каплями росы. В воздухе разливалась утренняя прохлада. В тот день нам посчастливилось: мы набрели на просяное поле. К полудню стало жарко, и мы, уставшие, прилегли отдохнуть на теплую землю, подложив под голову мешки с колосками. Лежа среди неутихающего птичьего гомона и вдыхая запах разогретой солнцем земли, я вспомнила прогулки с детьми в поле. Давно ли это было? Давно ли встречали мы наших освободителей, а осенью провожали сыновей на учебу? Мы так радовались наступившим переменам!.. Высоко в небе послышался знакомый гул самолета. Хотя его не было видно в облаках, это был наш, я не могла ошибиться. Мы уже привыкли по звуку определять: наш или чужой. Гул стих, и вдруг из-за облака, как стая белых голубей, кружась и перевертываясь, полетели… листовки. Они спускались медленно, ветер относил их в сторону, и мы, забыв про мешки, бросились догонять вестников с Большой земли. Я настигла листок, зацепившийся за репейник, и жадно впилась в него глазами.«Красная Армия просит население сохранить спокойствие. Не верьте лживым немецким сводкам. В боях под Сталинградом враг несет огромные потери и вынужден будет отступить. Смерть фашистским захватчикам!»Спрятав листок, я понесла его домой, как самый драгоценный подарок. А немцы упорно вводили свои порядки. В городе открылась биржа труда. Все население обязано было зарегистрироваться. За уклонение — расстрел. И здесь оккупанты снова столкнулись с открытой непокорностью советских людей. Полицейские и агенты гестапо чинили зверские расправы над советскими патриотами. Так, в ночь на 29 сентября 1942 г. без всякого следствия и суда в городском парке были закопаны живыми 32 советских патриота. Они предпочли мученически умереть, но не склонили голову перед врагом: отказались явиться на регистрацию. Шахтеры умирали, как герои, с пением «Интернационала». Весть о совершенном злодеянии быстро разнеслась по городу. Население тяжело переживало гибель своих земляков. Их подвиг вдохновил на борьбу будущих молодогвардейцев, которые единодушно решили: беспощадно мстить врагу!
НА ПЕРЕПУТЬЕ
Стоял ясный августовский день. Мы только что пообедали. Я мыла на кухне посуду, а муж и его брат сидели на балконе, беседовали. Никто из нас не заметил, как во двор вошли два молодых, очень исхудавших оборванных парня. Их легко можно было принять за нищих, и потому никто не обратил на них особого внимания. Подойдя ближе, один из них с улыбкой посмотрел на Григория Амвросиевича. — Не узнаешь, что ли, папа? Это же я, Борис. Муж даже вздрогнул от неожиданности. Они расцеловались, и Григорий Амвросиевич, обняв сына, привел его ко мне. — Вот, мать, принимай блудного сына. — Боренька! — вскрикнула я. — Откуда? Он печально улыбнулся: — Из окружения, мама… Из-под Харькова… К своим пробираемся. Гости отмылись, переоделись, побрились и с жадностью набросились на еду. — Два дня ничего не ели, — признался Борис. На другой день спутник Бориса ушел в город Каменск, к своим знакомым. — Ну, Боря, пока набирайся сил, — сказал он на прощанье. — Встретимся там, — он показал в сторону востока. — Мы еще сведем счеты с немцами. — Я дня три, больше не задержусь, — ответил Боря, провожая товарища. — Теперь не время отлеживаться. Появление Бориса было замечено. Стоявший на квартире в соседнем доме румынский офицер заинтересовался им. Пришлось выдумать, что это наш племянник, что он работал на заводе в Ворошиловграде, но завод теперь закрылся, и он приехал к нам. Офицер, кажется, поверил этой выдумке и больше о Борисе не спрашивал. А Боря ходил хмурый, подавленный. Он стыдился того, что живет рядом с врагами, видит их злодеяния и бездействует. Он не находил покоя от сознания этой своей вины и жаждал скорее опять вступить в борьбу с фашистами. Мне было тяжело расставаться с ним. — Ну поживи хоть неделю, — говорила я Борису. — Ты совсем раздет, и у нас нет ничего — все забрали немцы. Я хоть починю твою одежду. Но он и слышать не хотел. — Нет, мама, мое место там, на фронте. Разве я могу спокойно смотреть на то, как они хозяйничают на нашей земле? Или ты хочешь, чтобы они схватили меня и отправили на каторгу в Германию? Я и в самом деле боялась за него. Общительный, прямой и открытый, Борис искал новых знакомств. К тому же он хорошо знал, как трудно переходить линию фронта одному, и искал попутчика. Вот он и зачастил к нашему соседу комсомольцу Анатолию Попову. В юности люди быстрее сходятся, особенно если их объединяет единство взглядов на жизнь. После первой же встречи с Толей Поповым Боря понял, что тот смертельно ненавидит фашистов и тут же, не колеблясь, предложил Толе вместе перейти линию фронта. Но Толя не согласился, и это возмутило Бориса. — Мямля какая-то, а не комсомолец, — жаловался он на Попова. — Не горячись, Боря, — успокаивал его отец. — Толя, по-моему, юноша разумный… — Слюнтяй он, а не разумный, — злился Борис. Чтобы как-то отвлечь Бориса, двоюродная сестра Лида познакомила его со своей школьной подругой Выриковой. Борис как будто немного успокоился, раза два сходил с девушками в клуб на танцы, попросил у Выриковой что-нибудь почитать. Она принесла ему «Тихий Дон» и «Поднятую целину» М. Шолохова, и Боря с головой ушел в чтение. Позавтракав, он уходил в поле, ложился на сухую траву и глубоко переживал удачи и горести шолоховских героев. Борис научился читать очень рано. Самые любимые его книги были те, в которых рассказывалось о богатырях, о героях, о сильных, смелых и благородных людях. Когда нам случалось достать книжку Пушкина или Лермонтова, Некрасова, Борис жадно прочитывал страницу за страницей, выучивал наизусть стихи и с наслаждением декламировал их. Румыны запрещали чтение русских классиков, считая их «большевистской агитацией». Когда же Молдавия стала свободной республикой, дом наш наполнился книгами русских и советских писателей. Борис в короткий срок перечитал массу книг, из которых особое впечатление произвела на него книга Н. Островского «Как закалялась сталь». Бережно, как реликвию, хранил Борис эту книгу. Когда у него случались какие-нибудь неудачи, он снова читал ее и с новой энергией приступал к делу. С самого начала войны Боря всюду носил с собой эту книгу, но, к сожалению, не смог ее сохранить. Когда его часть попала в окружение, Борис потерял свой вещевой мешок, а с ним и книгу. Итак, неудовлетворенный своим положением, Борис метался по соседям, уговаривал Толю Попова пойти с ним. По Толя по-прежнему упрямился, неубедительно возражал и что-то не договаривал. Однажды Боря пришел от него вконец рассерженный. Была поздняя ночь, но я не спала. Боря со злостью срывал с себя одежду и швырял ее на стул. — Чем ты так расстроен, Боря? — тихо спросила я. Он глубоко вздохнул, словно ему не хватало воздуха, и, присев на кровать, быстро заговорил. — Ох, мама, знала бы ты, как мне тяжело. В такое время я сижу дома и ничего не делаю. Разве можно так жить? Разве это по-комсомольски?.. Я должен пробиться к своим, и я это сделаю. Но одному идти трудно. Я хотел найти товарища из краснодонских комсомольцев, чтобы вместе перейти линию фронта. А они не доверяют мне, что-то скрывают… — Почему ты так думаешь? — Я понял это из сегодняшнего разговора с Толей Поповым. Он окончательно отказался идти со мной и сказал, что будет ждать Красную Армию здесь. Я его упрекнул, что это не по-комсомольски. А он говорит: «Ну, знаешь ли, и здесь тоже можно бить врага». Мы крепко поссорились. Я чувствую, что он что-то не договаривает. Может, они хотят организовать партизанский отряд? Но почему же скрывают от меня? Я видела, что Борис болезненно переживает сдержанное к нему отношение Толи Попова, и старалась успокоить сына. — Ты очень горяч и самолюбив, — говорила я Боре. — Ты хочешь, чтобы через три дня после знакомства Толя во всем был откровенен с тобой? Так не бывает. Наберись терпения, будь спокойнее, и все уладится. Утром я попросила Борю принести воды из колодца. Боря долго не возвращался, а вернувшись и поставив ведра на кухне, спросил: — Мама, что это за девушка живет по соседству с нами? У нее такие чудесные косы, а глаза большие, умные. — Что, влюбился? — пошутила я. Я много слышала о семье Громовых, что жила рядом с нами. Громов работал на шахте, а жена его была очень больна, и все дела дома вела их дочь Ульяна, или, как все ее ласково называли, Уля, красивая девушка с большими карими глазами. — Это Ульяна Громова, — сказала я Боре. — Очень милая девушка. — Когда я набирал воду, она подошла к колодцу, посмотрела на меня как-то странно и ушла. Я долго стоял у колодца, думал, она придет еще. А она не пришла… Неожиданно в комнату вошла Лида. Подойдя к Борису, она что-то шепнула ему на ухо. — Хорошо, сейчас приду, — кивнул он и, повернувшись ко мне, сказал: — Я иду к Поповым. У Анатолия Боря застал Ульяну Громову. Она что-то писала и, увидев Бориса, поспешно спрятала бумажку в карман кофточки. — Знакомьтесь, — сказал Анатолий, подводя Бориса к Ульяне. — Мы, кажется, сегодня виделись у колодца, — смущенно сказал Борис, пожимая руку девушки. — Да, виделись. Анатолий мне рассказывал, что вы были на фронте. А как же вы попали к нам, в Краснодон? — Ну, это длинная история… Война загнала, — ответил Борис. — Выйдем-ка в сад, — предложил Толя. В саду они сели на скамейку под яблоней, и Боря рассказал все, что с ним случилось с самого начала войны. Не скрыл он и того, что ищет товарища, чтобы вместе пробиваться через линию фронта. Боря не догадывался тогда о целях «допроса», который учинила ему Уля Громова. Интерес, проявленный к его биографии, он принял за обычное при знакомстве с новыми людьми любопытство.РЕШАЮЩИЙ РАЗГОВОР. КЛЯТВА
После памятной встречи в саду Толя Попов стал частым гостем в нашем доме. В его разговорах с Борисом не чувствовалось прежней настороженности, голубые глаза Анатолия как будто потеплели, в их взгляде уже не было прежнего недоверия. Я догадывалась, что между ними произошло серьезное объяснение, сблизившее их, и радовалась этому. Действительно, у Бориса с Анатолием завязалась прочная дружба, основанная на большом доверии, на общности интересов и ясности цели, к которой они стремились. Вот как это было. Для откровенного разговора Толя избрал укромное место: он завел Бориса в старое разрушенное здание бани в каком-то тихом безлюдном переулке и, усаживаясь в высоком бурьяне, серьезно сказал: — Вот здесь нам никто не помешает. Боря окинул заросшие развалины опытным взглядом разведчика. — Да, место надежное. Ничего не скажешь, — сказал он. Дружественный обмен репликами, видимо, располагал к откровенности, и Толя без дальних слов признался: — Я позвал тебя сюда, Боря, чтобы сказать всю правду, почему я не могу пойти с тобой… — Почему же? — нетерпеливо спросил Борис. — А то ты, кажется, сердишься на меня? — В ясных голубых глазах Анатолия блеснул озорной огонек. — Рассказывай, Толя, не томи. Толя приподнялся, еще раз осмотрелся и, сев на свое место, спокойно начал: — Теперь я узнал тебя лучше и могу быть откровенным… Мы тоже рвались из Краснодона, когда к нему подходили немцы. Но проскочить через переправу на Донец не успели. Немцы на танках вошли к нам в тыл… Пришлось вернуться. Конечно, первое время мы приуныли. Всех нас, комсомольцев, мучил вопрос: как жить дальше. Примириться с врагом? Это немыслимо, это равносильно измене. Уйти в лес, создать партизанский отряд и оттуда ударить по фашистам? Но нам некуда уходить. Здесь кругом голая степь и взорванные шахты. Что же делать? — Анатолий замолчал и стал пристально наблюдать за божьей коровкой, взбирающейся по высокому стеблю репейника. — И вот, подумави посоветовавшись со старшими товарищами, решили: будем здесь, на месте, вести беспощадную борьбу с фашистами, будем, не щадя сил своих и самой жизни, уничтожать гитлеровскую нечисть, пока не изгоним последнего гада с нашей земли. — Веснушчатое лицо Толи пылало гневным румянцем, в широко открытых глазах полыхала ненависть. — Ты понял меня, Борис? — Понял… Только как же вы собираетесь действовать? — Мы создали свою подпольную организацию и назвали ее «Молодая гвардия». Помогать Красной Армии в тылу немцев, — вот наша задача. Теперь тебе ясно, почему я отказывался от твоего предложения? Вот так, Боря. — И, словно боясь упустить главную нить разговора, Толя спросил: — Ты слышал о героическом подвиге комсомолки Зои Космодемьянской? Перед смертью она сказала, что за нее отомстят. Да, мы отомстим за нее, отомстим за мученическую смерть наших тридцати шахтеров, за все злодеяния фашистов на нашей земле. Мы будем делать все: собирать оружие, чтобы в нужный момент перейти к открытой борьбе, печатать и распространять листовки, чтобы народ знал правду и верил в победу Красной Армии, рвать связь, взрывать фашистские эшелоны. — Толя опять замолчал и от волнения стал приглаживать свои непослушные вихры. — Скажи, Борис, ты с нами? Боря, не колеблясь, порывисто протянул руку: — Ты извини меня, Толя. Я нехорошо о тебе думал… Я ведь не знал и злился. — Бывает, — усмехнулся Толя, и все веснушки на его лице засияли. — Завтра я познакомлю тебя с нашими. Боря вернулся оживленный, весь вечер шутил, и я удивлялась резкой перемене в его настроении. Утром он встал раньше обычного, умылся и, не дождавшись завтрака, ушел. — Я скоро вернусь, мама, — с улыбкой сказал он мне с порога. Толя Попов привел Бориса на квартиру Олега Кошевого. Когда они вошли туда, члены штаба были в сборе. Была здесь и Ульяна Громова. Олег Кошевой — широкоплечий плотный юноша с умным, энергичным лицом и большими черными глазами, поздоровавшись с Борисом, сказал: — Расскажи все о себе, открыто и честно. И Боря, волнуясь, с запинками поведал о своей жизни. Когда он закончил, Кошевой встал, взял листок бумаги. — Теперь ты должен дать клятву на верность. Борис, застыв в стойке «смирно», повторял следом за Кошевым, торжественные слова клятвы:«Я, Борис Главан, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь: Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати двух шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь! Смерть за смерть!»— Мы верим тебе, Борис, — убежденно сказал Олег. — Поздравляю тебя со вступлением в «Молодую гвардию», — и он крепко пожал Боре руку. К Борису подходили другие члены штаба, поздравляли его. С этого дня у Бори началась тревожная жизнь. Он не приходил домой по нескольку дней. А если забегал, то ненадолго, — веселый, возбужденный, весь проникнутый неудержимой решимостью. На мои расспросы о том, где он пропадает, беззаботно отвечал: — Напрасно ты беспокоишься, мама. Я был в клубе, задержался немного… ночевал у товарища. Мне показалось странным, что племянница Лида возвращается одна из клуба, и я как-то спросила ее: — Почему ты не ходишь вместе с Борисом? — Так его ж в клубе не бывает, — простодушно ответила Лида. — Как? — изумилась я. — А где же он бывает? — Не знаю, тетя. Я встревожилась. Значит, Борис обманывает меня. Что же он делает по ночам? Я не ложилась спать, чутко прислушиваясь к каждому шороху за окном. Борис пришел очень поздно и, осторожно прикрыв дверь, стал тихо пробираться к своей постели. Увидев меня, он остановился. — Ты не спишь, мама? — Я не могу спать, Боря. Я очень встревожена твоим поведением. Где ты пропадаешь дни и ночи? В клубе ты не бываешь… Ты обманываешь меня? Боря сел рядом со мной на кровати, обнял меня за шею и заговорил горячим шепотом: — Мамочка, дорогая, не сердись на меня. Это большая тайна, но тебе ее открыть, конечно, можно. Волнуясь, он рассказал мне о своем вступлении в «Молодую гвардию». — Теперь моя жизнь принадлежит этой организации Это большое доверие, мама, и я должен оправдать его. Об одном прошу тебя: никому ни слова. Я молча поцеловала его. А он, как в детстве, прижался головой к моей груди. Он понял, что я благословила его на великую и опасную борьбу.
ТАЙНАЯ СХВАТКА
Боре удалось устроиться на работу. Место работы было далеко, по ту сторону небольшой речки, за хутором Гавриловка. Слесарное и токарное дело, которое он освоил в ремесленном училище, теперь ему пригодилось. Его назначили помощником механика. Немцы хотели отремонтировать тракторы и сельскохозяйственные машины, чтобы использовать их в хозяйстве обосновавшегося в Краснодоне барона. Механик — всегда нетрезвый, с красным носом и осоловевшими глазами, покрикивал на своего помощника: — Где твоя работа… Зачем ты разбираешь все машины? Смотри, выгоню! Борис улыбается. — Ну, чего ты кричишь? — спокойно говорит он грязному, насквозь проспиртованному человеку. — Спрашиваешь работу, а где инструменты? Грозишься выгнать?.. Да я и сам скоро уйду. Механик сопит и, махнув рукой, уходит проспаться. — Начальник у меня хоть куда, — насмешливо отзывается о нем Боря. — Всегда под мухой… Придет, пошумит и опять идет к бутылке прикладываться. Пользуясь бесконтрольностью, Борис приспособился изготовлять зажигалки, которые мы обменивали на продукты. По моей просьбе он сделал для дома ведро и три жестяные кружки. Каждый день я относила Борису обед и всякий раз заставала у него Толю Попова. Они о чем-то оживленно разговаривали. Но как только я появлялась, смолкали, и Толя спешил уйти. — Значит, вечером встретимся в клубе. Сегодня будут показывать интересные номера, — говорил он и украдкой подмигивал. Боря молча съедал обед, и когда я, уложив в кошелку посуду, собиралась уходить, ласково просил: — Мамочка, может быть, я задержусь сегодня. Ты не волнуйся, не жди меня, ложись спать. Хорошо? Однажды я сказала ему, что напрасно он вступает в пререкания с механиком. Боря, горько усмехнувшись, согласился: — Ты, конечно, права. Нельзя подчиненному так дерзко вести себя. Но у нас с ним совсем разные цели. Ему нужно, чтобы машины были пригодны. А мне, наоборот, чтобы они никуда не годились. Это первое серьезное задание штаба. Понимаешь, мама? Я понимала трудность положения Бориса и искренне сочувствовала ему. Впервые я задумалась над тем, какая нужна выдержка, находчивость и изворотливость, чтобы обмануть врага, не вызвать подозрений. …Однажды утром я пошла на базар купить табака. У большого немецкого плаката я увидела толпу людей. «Опять фрицы что-нибудь придумали», — решила я и хотела было пройти мимо. Но, к моему удивлению, люди отходили от плаката довольные, будто их там медом угощали. Тогда я тоже пробилась поближе и только теперь заметила небольшой листок, наклеенный рядом с плакатом.Властям, видимо, уже кто-то сообщил о появившихся на базаре листовках. Грубо расталкивая людей, к плакату пробивался полицейский. — Чего глазеете? Аль сроду бумагу не видали? — сердито ворчал он и вдруг побледнел, увидев рядом с плакатом листовку. Дрожащей рукой сорвал ее, сунул в карман и озлобленно закричал: — А ну, расходись! Стрелять буду! Кто-то в сутолоке (потом выяснилось, что это сделал комсомолец Вася Пирожок) приклеил на спину полицейскому записку:ЗЕМЛЯКИ! КРАСНОДОНЦЫ! ШАХТЕРЫ! КОЛХОЗНИКИ!
Все брешут немцы. Сталин находится в Москве. Гитлер все врет о войне. Война только разгорается. Красная Армия еще вернется в Донбасс. Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов, мужей, сыновей и дочерей. Не ездите в Германию, если хотите в скором времени на своей родной земле, у себя дома обнять мужа, сына, брата! Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запугать нас, поставить на колени. Бейте проклятых оккупантов! Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе! Родина в опасности. Но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. «Молодая гвардия» будет рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы горькой она ни была для России. Правда победит! Читайте, прячьте листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок. Смерть немецким захватчикам!«Молодая гвардия».
«Ты продаешь наших людей за кусок колбасы, за пачку махорки, а заплатишь за это своей жизнью. Берегись, предатель!»Люди то шарахались от полицейского, читая приговор, вынесенный ему неизвестными смельчаками, то ехидно посмеивались над незадачливым полицейским. А он, ничего не подозревая, важно прошел по всему базару, став посмешищем непокорных краснодонцев. Я купила табак у одной знакомой женщины и торопилась домой, чтобы поделиться важными новостями. Но женщина задержала меня: — Вам далековато нести, еще рассыплете. У меня есть клочок бумаги, дайте-ка я вам заверну. Уже далеко от базарной площади я остановилась отдохнуть и, поправляя уложенные в сумку покупки, ахнула. Кулек с табаком развернулся, и на его внутренней стороне виднелись слова:
«Товарищи! Земляки! Краснодонцы! Неправда, что немецкие войска идут парадом по Красной площади…»«Листовка!» — подумала я и, осторожно оглядевшись, быстро зашагала домой. На улице встретились мне Боря и Толя Попов. Я торопливо рассказала им о листовках, о полицейском. Выслушав, они многозначительно переглянулись, и я поняла, чьих рук это дело. — А вы куда так рано? — спросила я. — Тоже на базар, — ответил Боря. — Там сегодня немцы парад устраивают. И изменники участвуют, в форме донских казаков. Охота посмотреть… Пригодится. Вернулся он с парада мрачным. — Сволочи! Видела бы ты, как они выслуживаются перед фашистами, — возмущался он сборищем предателей. — Отвратительно было смотреть на эту гнусную шайку… Эх, забросать бы их гранатами! Но ничего, мы их сфотографировали. Сбережем снимки для наших. Массовое появление листовок всполошило немцев. Короткие, четкие воззвания «Молодой гвардии» появлялись на заборах, телеграфных столбах, подбрасывались под двери биржи труда, гестапо. Они проникали и в близлежащие поселки и хутора. Полицейские с ног сбились в поисках распространителей «большевистской заразы». Но все напрасно: действия «Молодой гвардии» с каждым днем становились все более решительными, все более смелыми. В летнем театре немцы демонстрировали свои фильмы. Однажды вечером, когда перед началом сеанса в зале выключили свет, присутствующие там молодогвардейцы стали разбрасывать листовки. Воспользовавшись темнотой, два комсомольца проникли на сцену и сорвали висевшее там немецкое знамя с черной свастикой. Все это было сделано так молниеносно, что, когда зажегся свет, немцы ничего не заметили. Только на второй день они спохватились и подняли тревогу. В распространении листовок принимали участие все члены «Молодой гвардии». Но особенно много смекалки и старания вложили в создание своей маленькой типографии Жора Арутюнянц и его отец, Ваня Земнухов и Володя Осьмухин. Маленькие листочки, писавшиеся сначала от руки на школьных тетрадях, а потом печатавшиеся на самодельном станке, были для людей вестниками близкой победы над врагом. Они призывали к борьбе, к стойкости, к вере в нашу победу.
НАС ПАРТИЯ ВЕДЕТ
С каждым днем «Молодая гвардия» становилась все более грозной силой для фашистских оккупантов. Все шире охватывала она своим влиянием юношей и девушек шахтерского края. В ее рядах уже насчитывалось более ста молодых патриотов из города и поселка Краснодон, с хуторов Гавриловка, Изварово, Гундеровка, Таловое. Это была молодежь в основном 16—19 лет, беззаветно преданная Советской Родине, готовая на подвиг и самопожертвование. Связь с партийным руководством осуществлялась через молодого коммуниста Евгения Мошкова и коммунистку Налину Георгиевну Соколову. Руководитель подпольного райкома партии Ф. П. Лютиков до войны работал начальником центральных электромеханических мастерских, а позднее заместителем начальника шахты № 22. С приближением фронта коммунисты во главе с Ф. П. Лютиковым ушли в подполье. 20 июля 1942 г. гитлеровцы оккупировали г. Краснодон и с первых же дней начали вводить «новый порядок»; зверские расправы над мирными жителями, грабежи, расстрелы за малейшее неповиновение. В тяжелых условиях оккупации начали свою работу подпольщики. Несмотря на огромный риск, Лютиков явился в дирекцион и заявил о своем желании работать у немцев. По его рекомендации был принят на работу Н. П. Бараков. Он стал начальником электромеханических мастерских, которые превратились в главный центр подпольной организации. В различных цехах здесь работало немало коммунистов и комсомольцев. Комсомольцы Владимир Осьмухин, Анатолий Орлов, Юрий Виценовский, по совету старших партийных товарищей, организовывали саботажи, диверсии, всячески препятствовали исполнению приказаний немецких властей. Члены «Молодой гвардии» создавали боевые пятерки (одной из таких пятерок руководил Борис), старались устроиться на работу в полицию, на биржу труда, на электростанцию, в гараж — всюду, где можно было вредить врагу. Молодогвардейцы вели тяжелую и неравную борьбу с врагом. С риском для жизни они добывали оружие и прятали его в разрушенном здании бани. Не прошло и месяца с начала деятельности штаба, а на тайном складе уже лежали автоматы, винтовки, револьверы, гранаты, патроны, взрывчатка. В этом опасном деле особенно проявил себя храбрейший из молодогвардейцев начальник штаба Сережа Тюленин, участвовали и другие члены штаба: Олег Кошевой, Иван Земнухов, Иван Туркенич. Девушки: Ульяна Громова и ее подружки — Саша Бондарева, Майя Пегливанова, Нина Минаева — подготовили необходимый запас медикаментов. В шкафчике на квартире Ули Громовой лежало много бинтов, ваты, йода, индивидуальных пакетов. На случай, если бы немцы все это обнаружили, было приготовлено объяснение: — У меня часто болеет мама, и ей нужны медикаменты. Подпольная большевистская организация Краснодона направляла деятельность «Молодой гвардии» через своих связных. На квартире Кошевых часто бывала «молочница» Налина Георгиевна Соколова — связная Лютикова. Это о ней сказано в романе А. Фадеева «Молодая гвардия»:«Она должна была стать его (Лютикова. — З. Г.) глазами, руками, ногами».Соколова не только передавала указания подпольного райкома партии членам штаба «Молодой гвардии», но и устраивала личные встречи Филиппа Петровича Лютикова с Олегом Кошевым. Известно о двух таких встречах. При первой встрече с Олегом Лютиков обращал внимание Олега на воспитание молодежи в духе революционных традиций. — Воспитывайте в себе гордость за наш родной Донбасс. Помнишь, как боролись наши старшие товарищи — Артем, Клим Ворошилов, Пархоменко?.. В чем слава нашего Донбасса?.. Как бы трудно нам ни было — и в годы гражданской войны, и после, и в первую пятилетку, и во вторую, и теперь, в дни войны, — всегда мы выполним наш долг с честью. На прощание Лютиков наказывал Кошевому свято помнить и строжайше соблюдать главное условие суровой подпольной борьбы: бдительность — мать подполья. Вторая встреча Лютикова с Олегом состоялась уже в самый разгар боевой деятельности «Молодой гвардии». Руководители подпольного райкома партии, высоко оценивая огромную по своему размаху борьбу молодогвардейцев, были встревожены двумя обстоятельствами. «Молодая гвардия» слишком широко распахнула двери для вступления всех желающих. Это могло привести в ее ряды провокаторов и шпионов. Вызывал тревогу и тот факт, что молодогвардейцы слишком часто собирались на квартирах Олега Кошевого и Ивана Туркенича. Такие многолюдные сборища на квартирах руководителей «Молодой гвардии» могли вызвать подозрение у гестапо и привести к печальным последствиям. Кроме того, организация слабо использовала легальные возможности для широких связей с молодежью. Вторично встретившись с Олегом Кошевым, Филипп Петрович Лютиков посоветовал ему от имени молодежи обратиться к немецким властям с просьбой открыть пустующий клуб имени Горького, чтобы проводить концерты самодеятельности, вечера танцев. Используя клуб, молодогвардейцы могли бы безопасно собираться для обсуждения своих конспиративных дел. Известно, что «Молодая гвардия» претворила в жизнь предложение Лютикова. Краснодонский подпольный райком ВКП(б) развивал свою деятельность не только в городе. Его активисты работали среди населения близлежащих поселков и хуторов. Контакт с ними поддерживался через Ваню Земнухова, Нину и Олю Иванцовых — связных-комсомольцев, выделенных штабом «Молодой гвардии». В течение августа-сентября в оккупированный Краснодон возвратилась группа комсомольцев старшего поколения — те, кто сражался с врагом на фронтах, в партизанских отрядах и диверсионных группах, солдаты и офицеры Советской Армии: Иван Туркенич — младший лейтенант, связист Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Василий Ткачев и Николай Жуков, медсестра Антонина Иванихина, Василий Левашов и Люба Шевцова, Борис Главан — разведчик и переводчик, стрелок-радист Евгений Мошков, Виктор Третьякевич. Член Луганского подпольного горкома комсомола Евгений Шепелев — кавалерист, Владимир Загоруйко и Сергей Левашов — диверсанты, заброшенные в тыл врага. Опираясь на этих комсомольцев, коммунисты создали в городе широкую сеть комсомольского подполья. Нити руководства разветвленной сетью подпольных организаций и партизанских отрядов тянулись также в крупный промышленный центр Донбасса — Ворошиловград. Здесь, часто меняя явки и квартиры, неустанно действовал подпольный обком партии. Сюда для встречи с одним из руководителей обкома несколько раз приезжала Люба Шевцова. Как-то вечером Борис сидел у Олега Кошевого. В комнату порывисто вошла Люба Шевцова. Она только что возвратилась из Ворошиловграда. — Ну как, удалось? — с нетерпением спросил ее Олег. Она улыбнулась своей милой улыбкой и кокетливо ответила: — Разве может случиться такое, чтобы Любке что-то не удалось. Конечно удалось, — и она быстро подала зашифрованную записку Олегу. — Это тебе от товарища Антона. Трудно было его найти. Просил передать большевистский привет членам «Молодой гвардии»… Ой, знаете, меня немцы на легковой машине катали. Я артисткой назвалась и дочерью бывшего фабриканта. Поверили. Вот остолопы! — Она весело рассмеялась. Олег прочел записку и тут же сжег ее. Товарищ Антон радовался первым боевым делам «Молодой гвардии», желая ей дальнейших успехов и давал некоторые советы. — Молодец, Люба, — похвалил Олег Шевцову и крепко пожал ей руку. Однажды Борис пришел поздно и был особенно бодрым. — Ты знаешь, мама, почему у нас дела идут хорошо? — И гордо ответил: — Потому что нас ведет партия. От первого дня оккупации до радостного часа освобождения города мы чувствовали организующую волю подпольной партийной организации. И даже в самые тяжкие дни, когда по доносу предателей начались массовые аресты подпольщиков, коммунисты не прекратили своей деятельности. Они поддерживали в советских людях веру в победу над врагом, звали к беспощадной мести. Как обрадовала, взволновала и ободрила нас в то горестное время листовка, выпущенная коммунистами-подпольщиками.
«Граждане Краснодона! Шахтеры, колхозники, служащие, все советские люди! Братья и сестры! Враг раздавлен могучей Красной Армией и бежит! В бессильной звериной злобе хватает он ни в чем не повинных людей, предает их нечеловеческим пыткам. Пусть же помнят выродки: мы — здесь! За каждую каплю крови советского человека они заплатят нам своей подлой жизнью. Пусть содрогнутся сердца врагов от нашей мести! Мстите врагу, уничтожайте врага! Кровь за кровь! Смерть за смерть! Наши идут! Наши идут! Наши идут!»
РЕЮТ КРАСНЫЕ ФЛАГИ
Приближался большой праздник советских людей — XXV годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Молодогвардейцы решили в этот день еще и еще раз доказать врагу, что советские люди даже в невероятно трудных условиях не теряют присутствия духа. За две недели до годовщины Боря обратился ко мне с просьбой. — Мама, ты можешь дать мне старую простыню? Только ее надо покрасить в красный цвет… — Зачем она тебе? — Понимаешь, мамочка, скоро будем отмечать годовщину Октября. Штаб решил вывесить в этот день флаги. — Простыню я найду. А вот краску… — Постарайся, мамочка. И я постаралась. Неподалеку от нас жила женщина, которая еще до прихода немцев красила одежду. Вот я и направилась к ней. — Что вам нужно покрасить? — Мне показалось, что женщина насторожилась. — Лучше бы принесли мне материю, платье, юбку или что у вас там… Я бы покрасила. Дорого не возьму. Принесите кувшин молока да пышку в придачу. Пришлось выкручиваться. — Да краска не мне нужна, знакомой одной, — говорю я. — Сама она болеет, далеко идти не может, вот и попросила меня. — Туго теперь с красками, — жалуется красильщица. — Ладно, я небольшой запасец сделала. Так и быть, продам тебе один порошок… Красный, говоришь? — спрашивает она таким тоном, будто догадывается о наших с Борей намерениях. Я благодарю и, рассчитавшись, поспешно ухожу. Ночью, когда из комнаты квартирантов доносился могучий храп, я вскипятила воду и покрасила простыню. А утром Боря унес ее. В канун праздника, уходя с товарищами в Первомайку, Боря сказал мне: — Мама, ты меня не жди. У нас будет маленькая вечеринка. Я всматриваюсь в его большие голубые глаза, в открытое лицо и стараюсь понять: правду говорит или успокаивает меня? Боря старается избежать моего пристального взгляда, чмокает в щеку и стремительно выходит из дому. Хлопнула калитка. Кругом стало тихо. Ночь надвигается быстро. Холодная, ветреная ноябрьская ночь. Я зажигаю коптилку. Окна усеяны мелкими дождевыми каплями. На улице слякоть и беспросветная темь. В комнате за стеной еще гогочут немцы. Но вот и они утихомирились. Кто-то храпит — даже стены вздрагивают. Потрескивает фитиль коптилки, и легкие ажурные тени, разбегаясь, пугливо жмутся по углам. Я сижу на кровати, дожидаясь сына, и прислушиваюсь к каждому шороху. За окном по-прежнему шумит ветер, мелкий дождь стучит в стекла. Догорев, гаснет фитиль, и плотная тяжелая темнота обступает меня. Я прикасаюсь головой к подушке, и тревожный сон заставляет забыть все… Просыпаюсь от легкого стука. В темноте белеет пустая постель Бориса. — Мама, открой скорее, — слышится горячий шепот за дверью. Входит Борис. Радостно обнимаю его. Он весь мокрый, в грязи, но, прижавшись ко мне, восхищенно говорит: — Ох и поработали мы сегодня! Ты утром пораньше пойди в город и посмотри. Завтра ведь большой праздник. Через несколько минут уже слышится его ровное дыхание. Я почистила пиджак Бориса, простирала брюки и повесила их у горячей печки, чтобы к утру высохли. За окном медленно занимается поздний осенний рассвет. Я уже не ложусь. Наскоро поев, спешу в город. Дождь уже перестал. На улицах необычное для такого раннего часа оживление. Из поселков, слободок, хуторов люди по грязи пробираются к центру города. Поднявшись на гору, я увидела здание бывшего райпотребсоюза, где недавно работала, и остановилась. На крыше гордо развевался на ветру красный флаг. Люди, удивленные и обрадованные, шли дальше, к школе имени Ворошилова, над которой развевалось самое большое красное полотнище. Здесь, внизу у лестницы, собралась целая толпа. На стене размашисто, с восклицательным знаком выведено: «Заминировано!» Полицейские с белыми повязками на рукавах мечутся вокруг здания, но никто из них не осмеливается подняться на чердак. А красный флаг, словно поддразнивая их, весело реет на ветру, горит алым цветом. — Голубчики, родненькие, да кто же это порадовал нас ради такого дня? — сквозь слезы радости приговаривает стоящая позади меня женщина. Словно перекликаясь, приветственно машут друг другу флаги с аптеки, шахты № 1-бис, с самого высокого дерева в парке. К заборам, телеграфным столбам и фасадам тоже прибиты маленькие флажки. Они алеют повсюду, как цветы, и оттого пасмурный день кажется веселым, солнечным. Полицейские и немцы, прибывшие из комендатуры, злобно срывают флаги, разгоняют народ. Люди нехотя расходятся, не переставая оглядываться. Весь день над школой гордо реял флаг, радуя взоры советских людей. Только к вечеру немцы привезли откуда-то минеров, и те осмелились пройти на чердак… к пустой консервной банке, опутанной для видимости проводами. — А мы вчера Москву слушали, — таинственно сообщил нам Боря за ужином. — Немцы скоро получат крепко по зубам. Вот увидите. Действительно, каждый новый день приносил ободряющие вести, которые с молниеносной быстротой разносились по городу. Из дома в дом передавали, что неизвестный отряд партизан взорвал немецкий эшелон, направляющийся на фронт, что на Ворошиловградском шоссе подорвалась на мине немецкая штабная машина и три офицера убиты. Немцы, стоявшие в городе, заметно приуныли, усилили охрану, опасаясь нападения вездесущих партизан. Но самым радостным для нас и ошеломляющим для оккупантов было известие о победе Красной Армии под Сталинградом. Всю ночь напролет трудились молодогвардейцы. А на утро фасады домов, заборы, столбы белели листовками. Боря пришел домой под утро, усталый, грязный, но счастливый. Закрыв на крючок дверь, он протянул мне сложенный вчетверо листок бумаги. — Почитай, только потом сожги, — и, раздевшись, повалился на постель.Воодушевленные победой наших войск под Сталинградом, молодогвардейцы стали деятельно готовиться к приходу Красной Армии.ТОВАРИЩИ КРАСНОДОНЦЫ!
Долгожданный нас нашего освобождения приближается. Войсками Юго-Западного фронта линия обороны прорвана. Наши части двадцать пятого ноября, взяв станицу Морозовскую, продвинулись вперед на сорок пять километров. Движение наших войск на запад стремительно продолжается. Немцы в панике бегут, бросая оружие. Враг, отступая, грабит население, забирая продовольствие и одежду. Товарищи! Прячьте все, что можно, дабы не досталось оно гитлеровским грабителям. Саботируйте приказы немецкого командования! Да здравствует наша освободительница — Красная Армия!Ш М Г.
ПЕРВЫЙ АРЕСТ БОРИСА
Борис все чаще отлучался из дому по ночам. Зная, что он с головой ушел в боевые комсомольские дела, я успокаивала себя мыслью, что он выполняет очередное задание штаба. Однако вот уже третий день он совсем не появлялся дома, и я начинала волноваться. Наконец, не выдержала, встала и, набросив на плечи теплую шаль, пошла к Поповым. Толя, насупившись, сидел за столом. Увидев меня, он смущенно отвел глаза. Я заметила его растерянность, и недоброе предчувствие сжало сердце. — Третий день Боря не приходит домой. Я очень беспокоюсь… Ты не знаешь, где он? Не глядя на меня, Толя мрачно проговорил: — Борис арестован. Его задержали с приемником. От неожиданности я присела на скамейку. Арестован? Борис арестован?! — Как? Почему же ты не сказал мне? — закричала я в отчаянии. Толя стал успокаивать меня: — Не волнуйтесь, его скоро выпустят… Он держится молодцом. Мы сегодня пойдем в полицию. — Он в полиции? — и, не простившись, я выбежала на улицу. Наскоро собрав кое-что из продуктов, захватив табака и теплую фуфайку, мы с племянницей отправились в полицию. Оказалось, что торопилась я напрасно. Время еще было раннее, а передачи принимали только с двенадцати часов. Чтобы не томиться четыре часа в ожидании, мы решили зайти к Кате Хайруллиной, о которой Боря очень хорошо отзывался и обещал познакомить меня с ней. — Я так просила его в тот вечер не брать приемник, будто чуяла беду, — говорила Катя сквозь слезы. — Но он все стоял на своем. «На Первомайке нужен приемник, говорит, и я его должен установить там. Пусть люди знают правду». Я не стала спорить и завернула приемник в одеяло. Когда Боря переходил темную улицу, его окликнули: — Стой! Кто идет? Боря не отозвался и прибавил шагу. — Стой! Стрелять буду, — повторился окрик, и двое вооруженных вплотную подошли к нему. Боря остановился. Нащупав в одеяле что-то громоздкое, патруль предложил Борису следовать за ним. В полиции у него отобрали приемник и после краткого допроса заключили в одиночную камеру. Два-три раза в день начальник полиции Соликовский вызывал Бориса на допрос. Он допытывался, где Борис достал приемник, почему не сдал его в комендатуру и что собирался с ним делать. Боря односложно отвечал, что приемник испорчен и его нечего сдавать, что он взял его для изготовления зажигалок. Все эти подробности Катя узнала от ребят, которые по заданию «Молодой гвардии» работали в полиции. — Ребята очень обеспокоены арестом Бориса, — продолжала Катя. — Они собрали денег, купили хлеба, табака и отнесли ему… Они опасаются, как бы Боря случайно не проговорился… Но я верю, что он скорее умрет, чем выдаст своих товарищей. У меня стало легче на душе от того, что эта незнакомая девушка, с которой я впервые встречаюсь, так верит Борису. Но было немного обидно: кто-то сомневается в его стойкости. Словно угадав мои мысли, Катя заговорила: — Вы не обижайтесь. Ведь они мало знают Борю. Все-таки он приезжий. Но он докажет, я уверена… А тут еще, знаете, Зинаида Трофимовна, арестом Бориса заинтересовалось гестапо. Они давно рыщут по городу. Но Боря молодец: правильно держится. Я уверена, что он выкрутится. В двенадцать часов мы отнесли передачу в полицию. Узнать что-либо о Боре не удалось, и я с тяжелым сердцем вернулась домой. Боря молодой, неопытный, он еще почти не бывал в серьезных переделках. «Как бы не опутали там его», — с тревогой думала я о сыне. Меня особенно пугало то, что в дело Бориса вмешалось гестапо. О зверствах гестапо мы очень хорошо знали. Прошла еще одна бессонная ночь. Меня то терзало горькое раздумье, то я утешала себя слабой надеждой. «Я уверена, что он выкрутится… Скорее умрет, чем выдаст товарищей, — вспомнились слова Кати Хайруллиной. — Нет, Боря не выдаст — в этом я не сомневаюсь. Но ведь он может пострадать сам. Ведь они могут отнять его у меня…» Поднимаюсь рано с больной, точно свинцом налитой головой. Мучительно медленно ползет время. Приготовила продукты, уложила, а на часах только десять. Не могу больше ждать, выхожу из дому и вдруг… С горы, весело размахивая руками, бежит Борис. Он кидается ко мне и, подняв, легко кружит вокруг себя. Обнявшись, входим в дом. — Ну, рассказывай скорее. Я столько пережила за эти дни. Но он уже куда-то спешит. — Некогда, мама. Расскажу потом, — говорит Боря, роясь в своих инструментах. — Я должен сейчас же вернуться в полицию и показать им свои зажигалки. Меня отпустили с условием, что я принесу туда все мое добро… А ловко я провел их! Дурачье, они надеялись что-то от меня выпытать. Не на того напали! Взяв одну готовую и две недоделанные зажигалки, Боря спешит к двери. — Говорят, кое-кто за тебя опасается? — Я уже был там, мамочка. Не беспокойся, все в порядке. И у Жени Шепелева был. Собираю раздаренные зажигалки. Чем больше покажу их немцам, тем крепче поверят, что я мастер зажигалочных дел и политикой не занимаюсь. До свидания, мама. Не волнуйся. — Он широко распахивает дверь, но вдруг, захлопнув ее, убежденно обещает: — А радиоприемник на Первомайке я все-таки установлю. Увидев зажигалки ручной работы, немцы поверили Борису и отпустили его. Но, отпустив, они установили за ним слежку. В мастерской, где снова стал работать Боря, ежедневно появлялся подозрительный человек. Он крутился возле Бориса, приглядывался к каждому, кто к нему приходил, прислушивался к тому, что и с кем он говорил. Такая опека, конечно, была весьма неприятной. Но, несмотря на все трудности, Борис выполнил задание штаба. Сколько ни журил механик своего помощника, ему так и не удалось восстановить машины. Борис попортил их основательно, растащив по частям. Установил он и радиоприемник в Первомайке.БОЕВЫЕ ДЕЛА
Константин Амвросиевич, по обыкновению, рано утром уходил на базар. Он приносил скудные покупки и с наигранной веселостью говорил: — Ну вот, считай, еще день прожили. Сегодня он вернулся озабоченный, возбужденный. — В городе переполох. Горит какое-то здание. Дымище — солнца не видать! А что горит, допытаться не смог. Услышав слова дяди, Боря откидывает одеяло и обрадованно переспрашивает: — Горит, говорите? Вот хорошо! — и украдкой подмигивает мне. Встает он оживленный, одевается и не перестает кого-то нахваливать: — Вот молодцы! Спасли тысячи людей от каторги. Все списки в огонь. Замечательно! — Чем ты восторгаешься, не понимаю? — пожимает плечами Григорий Амвросиевич. — Как чем? Да тем, что горит биржа труда, — поясняет Боря. — Через нее наших людей отправляли в Германию. А теперь ее нет. Сгорела — и все! Еще не успели мы забыть о большом пожаре на бирже труда, как в городе заговорили о новых боевых делах комсомольцев. Но об этом я хочу рассказать подробнее.…Боря и его новый друг Женя Шепелев осторожно пробираются небольшим, но густым лесом к полотну железной дороги. Вдали заманчиво поблескивает Донец. Идти трудно: кругом глубокие воронки от бомб и снарядов, наполненные водой. Земля мягкая, топкая, расползается под ногами. На спинах ребят мешки с инструментом и взрывчаткой. Гаечные ключи, кусачки обернуты тряпкой, чтобы не гремели. Но кажется, они все-таки позвякивают, и Борис сердито хмурится, прижимает мешок рукой. Вот они и в чаще леса. Здесь надо переждать до наступления темноты. Тут уже спокойнее, и хорониться так не нужно. Выбрав сухое место, они ложатся под старым раскидистым деревом. Лесная настороженная тишина, запах опавшей листвы, знакомый лесной уют навеяли Борису что-то родное и близкое. Глубоко вздохнув, он чуть слышно запел:
ТРУДНЫЕ ДНИ
В ночь под новый, 1943 год молодогвардейцы провели последнюю боевую операцию, закончившуюся для них трагически. У клуба имени Горького остановилась немецкая автомашина, доверху нагруженная какими-то тюками. Комсомольцы тотчас выяснили, что в тюках запакованы подарки для немецких солдат, и, выждав, пока шофер отлучится погреться, похитили несколько мешков и спрятали их в подвал клуба имени Горького, в котором Женя Мошков руководил кружком самодеятельности. Приступая к этой операции, комсомольцы думали о большом, благородном деле. Они надеялись сбыть подарки на рынке, а вырученные деньги раздать многодетным женщинам, мужья которых сражались в Красной Армии. Немцы сразу заметили пропажу и, вызвав полицию, произвели обыск в ближайших к клубу домах, но ничего не нашли. На другой день полицейский, которому было поручено искать исчезнувшие вещи на базаре, задержал там мальчика, продававшего немецкие сигареты. На допросе мальчик сначала сказал, что выменял сигареты на кусок хлеба. Ему не поверили, избили и бросили в холодную. Не дав опомниться от побоев, его снова вызвали на допрос, на этот раз в камеру пыток. Мальчик испугался и сказал, что сигареты ему дал Мошков, а других он не помнит. Мальчика выпустили. Но спустя час в клубе были арестованы Женя Мошков, затем Виктор Третьякевич. Сережа Тюленин, находившийся в это время за кулисами, немедленно сообщил об аресте Туркеничу, Кошевому идругим молодогвардейцам. Узнав об аресте своих боевых друзей, Ваня Земнухов пошел в полицию — пытался доказать, что они ни в чем не виноваты. Домой Земнухов не вернулся, он тоже был арестован. Первого января Боря с самого утра слесарничал дома. Я попросила его сделать ручную крупорушку, чтобы смолоть зерно и напечь по случаю праздника пшеничных лепешек. Он усердно взялся за дело, предвкушая сытный новогодний завтрак. Закончив возиться с крупорушкой, он встал с табуретки и шутливо сказал: — Ну вот, мама, мельница готова. Можно засыпать зерно. Пока я возилась со стряпней, Боря куда-то уходил, видимо, в штаб. Вернулся он взволнованный, побледневший. Он бесцельно шагал по кухне, не находя себе места, и, улучив момент, шепнул мне: — Мама, надо поговорить. Выйди в сад. Торопливо накинув на плечи платок, я вышла следом за Борисом. Мы сели на скамейку, и Боря с трудом, словно ему сдавило горло, выговорил: — Знаешь, мама, случилась большая беда: арестовали Женю Мошкова… Помнишь, я рассказывал, мы освободили его из лагеря военнопленных… и еще арестовали Ваню Земнухова и Третьякевича, который недавно пришел к нам из Ворошиловградского партизанского отряда. Мы еще не знаем, выдал кто-то из нас или это случайное подозрение. — Что же делать, Боря? — спросила я в отчаянии. — Ты не волнуйся. Может, мы напрасно тревожимся. Могут продержать несколько дней и, ничего не добившись, выпустить, как выпустили меня. Но нам надо быть готовыми ко всему. Немного помолчав, Боря со вздохом признался: — Возможно, нам придется уйти из города. Это мы решим сегодня… Вот, мама, какие дела. Я пойду в штаб, ты не горюй. Из штаба он пришел поздно вечером. Дожидаясь Бориса, у нас сидел Толя Попов. — Знаешь, Боря, приходил квартальный и назначил нас с тобой дежурить около того дома, в котором вчера кто-то всю семью убил… — Новое дело! — сердито отозвался Боря. — Никуда я не пойду. — Не выдумывай. Лишнее подозрение вызовешь. Лучше подежурить, — со спокойной настойчивостью сказал Толя. Боря согласился, и они ушли. Под впечатлением разговора с сыном я не могла уснуть. Предчувствие чего-то страшного, неотвратимого не покидало меня. Боря несколько раз заходил погреться. Он сидел, подпирая голову руками, и жадно курил. Или вдруг сердито бросал папиросу и опять уходил на свой пост. Нетрудно было заметить, что он глубоко переживал арест своих товарищей. Под утро он еще раз зашел в комнату. — Боря, на дворе холодно. Может, согреть тебе чаю? — предложила я. — Да нет, не стоит. Нас уже скоро сменят. Завалюсь спать. Но спать в тот день ему не пришлось. На утро стало известно о новых арестах молодогвардейцев. Узнав фамилии арестованных, Борис даже за голову схватился. Это уже не были члены кружка самодеятельности при клубе. Значит, кто-то выдал тайну организации. — Да неужто среди нас затесался предатель? — все твердил Борис — Вот что самое страшное. Один малодушный может загубить всю организацию. Он перечислял фамилии арестованных и прилагал отчаянные усилия отыскать предателя: Третьякевич? Он пришел к нам из Ворошиловграда, представился партизаном. Не выдержал пыток, смалодушничал?.. Не хочется верить. Но ясно одно: нас кто-то предал. Иначе откуда немцы узнали фамилии комсомольцев, не принимавших участия в кружке самодеятельности. Взвинченный до предела, терзаемый сомнениями, Боря то шел к Анатолию отвести душу, то спешил в штаб, где в горячих спорах решался вопрос: что делать. — Главное — не терять присутствия духа, — говорил Олег Кошевой. — Надо уничтожить или спрятать понадежнее все, что может вызвать подозрение у полицейских. Следует ожидать обысков. Дальше. Я думаю, надо связаться с Ворошиловградом и посоветоваться: как нам быть. Есть предложение послать с таким поручением Ваню Туркенича. Возможно, нам на время придется оставить город. Боря решил, что непременно придется уходить из города, и стал готовиться к этому. Катя Хайруллина обещала дать ему адрес своих дальних родственников, которые жили в селе, километрах в пятнадцати от Краснодона. А мне он сказал: — Мама, ты приготовь мне большую простыню. Если я уйду, то буду пробиваться на соединение с Красной Армией. Теперь зима, придется маскироваться в белое. Прошла еще одна трудная ночь. Рано утром Боря ушел куда-то из дому. Я боялась за него и мучительно переживала его отсутствие. Он пришел мрачный, но, стараясь казаться спокойным, сказал: — Мы пока уходить не можем. С часу на час должен вернуться Ваня Туркенич… Ждем распоряжений главного партизанского штаба. Вынужденное безделье и неизвестность угнетали Бориса. Он сильно похудел, осунулся, глаза покраснели. Обрушившееся вдруг несчастье разбило все его лучшие надежды. — Как обидно бросать дело в самом разгаре, — с болью жаловался он мне. — Ведь у нас все было подготовлено к встрече Красной Армии, разработан подробный план. Каждый знал, где его место, когда к городу будут подходить наши войска… И вот все рушится… Кто, кто мог предать? А в городе продолжались аресты. Говорили, что на помощь местной полиции прибыло подкрепление из Ровеньков. Оставшиеся на воле молодогвардейцы ждали возвращения Ивана Туркенича из Ворошиловграда. Но он не приходил. Я так была парализована нависшим над нашей семьей горем, что ничего не могла посоветовать Боре и еле сдерживала душившие меня слезы. Я знала: Боря глубоко переживает за нас, опасаясь, что в случае, если он уйдет или его арестуют, немцы жестоко отомстят нам, родителям, за него. Ему хотелось и утешить нас, и скрыть от нас мучившее его раздумье о своей и нашей судьбе. Так прошел еще один день. Разве думали мы тогда, что видим своего старшего сына последние часы?НОЧНАЯ ОБЛАВА
Вечер Борис провел у Анатолия. Долго говорили они обо всем, потом завели патефон и переиграли пластинки, какие были у Толи. Но музыка не успокаивала их. Оба были удручены тем, что так долго не возвращается Иван Туркенич. Большие, хотя и не совсем ясные надежды возлагали молодогвардейцы на своих старших товарищей из Ворошиловграда. Домой Борис пришел поздно. Измученный бессонными ночами, он отказался от чая и, повалившись на постель, моментально уснул. Было уже за полночь, когда в дверь сильно постучали. — Кто там? — спросил брат мужа. — Это я, квартальный Попов. Откройте. Попов нередко приходил по ночам и выгонял на дежурство мужа или его брата. Думая, что ему опять что-то понадобилось, Константин Амвросиевич открыл дверь. Вслед за Поповым в комнату ввалилось четверо дюжих полицейских. — Где ваш сын Борис? — спросил Попов у Константина Амвросиевича. — Мой сын на фронте, — спокойно ответил брат мужа. — Да не тот, — поморщился Попов. — Борис Главан… У меня помутилось в глазах, и я, пошатнувшись, невольно рукой потянулась к постели сына. — А ну, поднимай его, — приказал Попов, и два полицейских подступили к постели Бориса. Он открыл глаза и, увидев полицейских, вскочил на ноги. — А, знакомый! Вроде бы, мы с тобой уже виделись, — с ехидцей заметил один из полицейских. И вдруг гаркнул: — Одевайся! Живо! Боря, словно не слыша, повернулся ко мне. — Мама, положи побольше табака. — Никакого табака! Вишь, чего захотелось, — заорал полицейский и, сорвав с гвоздя полотенце, бросился связывать Борису руки. — Эх вы… Пятеро одного боитесь, — с презрительной усмешкой сказал Борис. Его толкнули к двери. Боря обернулся и так, будто уходит ненадолго, сказал: — До свидания, дорогие мои, — но в глазах его я прочитала глубокую, невыразимую печаль. Таким я и запомнила его на всю свою жизнь… Только когда уводили Бориса, я заметила стоявшего в коридорчике окровавленного, со связанными руками Анатолия Попова. Силы покинули меня, и я без чувств рухнула на пол. Когда я пришла в себя, в комнате стояла тишина. У постели сидел муж и ласково гладил меня по голове. Лицо его резко осунулось, у рта и под глазами пролегли глубокие морщины. Я схватила его руку и зарыдала. — Не надо, Зина, не надо, — тихо говорил он. — Может, опять все обойдется. Утром ко мне зашла мать Толи Попова, Таисия Прокофьевна. Молча мы обнялись и, присев на лавку, поплакали. — Пора идти в полицию, — вытирая слезы, сказала Таисия Прокофьевна. Я быстро собралась, и мы понесли передачу нашим арестованным сыновьям. У здания полиции собралась толпа женщин. Оказывается, в эту ночь арестовали Женю Шепелева, Васю Бондарева, Демьяна Фомина и еще несколько человек. Многие матери даже не знали, что их сыновья и дочери были активными участниками «Молодой гвардии». — За что посадили наших детей? — в отчаянии сквозь слезы спрашивали они. — Ведь у них еще молоко на губах не обсохло. Какие они партизаны? Подруга Бориса Катя Хайруллина тоже каждый день относила передачи в полицию. Опасаясь, как бы не навлечь на нее подозрений, я посоветовала: — Катя, вы сами не ходите в полицию. Оставляйте передачу у вашей тети, а я отнесу ее Борису. Но Катя все-таки не послушала меня и продолжала носить сама. Мать Анатолия Попова каждое утро заходила за мной, и мы вместе отправлялись в полицию. Как-то она зашла оживленная, повеселевшая и торопливо поведала мне приятную новость. — Вы знаете, Иван Туркенич вернулся. Он заходил к нам… Узнав о новых арестах, снова поспешил в главный партизанский штаб, чтобы добиться вооруженного нападения на здание полиции и освободить арестованных. В этом только выход. Дай бог ему удачи. Это была наша последняя надежда на спасение.ЛУЧШЕ СМЕРТЬ В БОРЬБЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ В НЕВОЛЕ
Каждый день относили мы передачу Борису. Долгие, томительные часы простаивали на морозе у ворот полиции, ожидая, пока, наконец, полицейские соизволят принять продукты. Обращались они с нами бесцеремонно: избивали прикладами, выталкивали со двора на улицу. Часто мы видели, как во двор въезжали подводы с награбленным у населения добром и полицейские, побросав дела, накидывались на добычу. При этом они ссорились и даже дрались. В таких случаях появлялись начальник полиции Соликовский и его помощник Захаров. Они отбирали себе лучшие вещи, а остальные бросали полицейским, как собакам кости. Если долго не принимали передач, ожидающие с насмешкой говорили: — Видно, опять из-за добра грызутся. Из всего, что мы приносили детям, только самая малая толика доходила до них. Полицейские бесцеремонно забирали себе продукты и теплые вещи. На наши протесты они нахально отвечали: — Нехай будут довольны тем, что им дают. Нам тоже жить охота. В записке, которую Боре удалось передать с пустой посудой, он писал:«Не беспокойтесь, мои дорогие папа и мама. Правда, нас все время вызывают на допросы, но ничего опасного нет. Вот только прошу вас приносить побольше хлеба и, если возможно, то и табака».Боря старался успокоить нас и умалчивал о тех муках и надругательствах, которые ему пришлось перенести. Но мы узнали о них. И вот как. В один из январских дней мы долго стояли у закрытых ворот, поджидая, когда выйдет полицейский и возьмет у нас передачу. Мороз был до 30 градусов, ветер обжигал лицо, башмаки примерзали к мостовой. Продрогшие насквозь, мы от нетерпения стучали, напоминая о себе. Наконец, вышел полицейский и, злобно усмехнувшись, сказал: — Чего стучите? Не до еды им теперь. Без сознания лежат. Ох, нелегко нам было слышать эти страшные слова! Но страшнее всего было то, что полицейский говорил правду. В этом мы убедились на другой день. Таисии Павловне, матери Жени Шепелева, велели пройти вглубь тюрьмы. Чего только мы не передумали, дожидаясь ее! Через час ее вытолкнули на улицу бледную, избитую. Оправившись немного, она, глотая слезы, стала рассказывать: — Ввели меня в комнату. Бросился ко мне немец с нагайкой в руках, сует в лицо записку Жени и орет: «Кто разрешайт? Убить надо… Твой сын партизан». Потом ударил меня нагайкой по спине. Хотел по лицу, да я рукой прикрылась. Потом немец сел за стол и мне тоже велел сесть. Смотрю, у стола стоит и переводчик, продажная шкура — Шурка Рейбанд. Его-то я раньше и не приметила. Шурка говорит: «Ты должна рассказать всю правду о сыне, о партизанах, где они находятся, их фамилии. Если будешь молчать, худо будет и тебе, и сыну твоему». Ну что я могла им сказать? Говорю, ничего я не знаю, никаких партизан сроду не видела. Немец еще несколько раз нагайкой ударил, а потом, вот, вытолкал. Звери они! Если с нами так, то что они с нашими-то делают! Господи, господи… Однажды к нам вышел сам начальник полиции Соликовский. Огромного роста, жирный, с заплывшими, как у свиньи, глазками, с нагайкой в руках, наглый и самоуверенный, он был отвратителен. Презрительно выслушав жалобы матерей о том, что теплые вещи часто не доходят до арестованных, Соликовский визгливым голосом закричал: — Ничего не принимать!.. Щенки большевистские, партизаны. Им не теплые вещи, а лед в камеры. — И, повернувшись к Бондаревой, накинулся на нее: — Это твоя дочь дала свою косынку вывесить вместо флага? Ишь, какая героиня! Теперь ей холодно? Ой, ой!.. Бороться с нами захотели? Молокососы! Придется самим головой поплатиться, — он злобно щелкнул нагайкой и ушел. Натолкнувшись на железное упорство арестованных молодогвардейцев, немцы подвергли их невероятным пыткам и истязаниям. Нашим детям загоняли под ногти иголки, выжигали раскаленным железом на спине и животе пятиконечную звезду, выламывали кости, отрезали груди у девушек, выкалывали глаза. Трудно говорить об этом мне, матери. Но пусть все знают, какими извергами были те, кто пытал наших дорогих детей, и какими стойкими оказались комсомольцы-подпольщики. Молодогвардейцы сдержали клятву и в страшных фашистских застенках, измученные и обессиленные, ни одним словом, ни одним жестом не нарушили ее. «Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе!» — писали они в своей первой листовке, и сами пошли на смерть, но не покорились. А потерявшие человеческий облик фашисты не преминули поживиться на своих жертвах. На второй день после ареста Анатолия Таисия Прокофьевна увидела полушубок сына на одном из полицейских. На другом я узнала пальто Бориса. Тяжелые дни, которые нельзя передать словами, полные тревоги за судьбу своих детей, переживали мы. Не зная, что предпринять для облегчения их участи, мы к тому же и бессильны были что-либо сделать. Таисия Прокофьевна, мать Анатолия, узнав, что в полиции работает следователем ее кум, решила пойти к нему домой — узнать, что ожидает наших детей. Но он не пожелал с ней разговаривать. — Куда ты смотрела? Не видела, где сын пропадает! Может, еще скажешь, не знала, что он партизан? Сама теперь и расхлебывай. Только несдобровать им! Мы понимали, что только взяткой можем добиться хоть слова о наших детях. Каждый день по дороге в полицию я проходила мимо дома, в котором жила тетя Кати Хайруллиной. У нее на квартире поселился полицейский, и, чтобы выпытать некоторые сведения о Борисе, Катя каждый день приходила сюда и приносила полицейскому сметану, молоко. Ей удалось узнать, что Борис сидит в маленькой холодной камере, разделенной на две части. Во второй половине находился арестованный коммунист Лютиков. Катя хорошо знала Лютикова и старалась устроить передачи ему и Борису. Полицейский охотно брал продукты, табак, теплые вещи. Но доходили ли они до них — мы так и не знаем. С каждым днем артиллерийский гул слышался все ближе. Советские войска уже взяли город Каменск и подходили к Большому Суходолу. Все чаще появлялись над Краснодоном самолеты с красными звездами на крыльях. Они бомбили немецкие эшелоны, склады, железнодорожные пути. Чувствуя приближающийся час расплаты, немцы без разбора хватали юношей и девушек и бросали их в тюрьму. Все больше матерей приходило по утрам к зданию полиции. Шестнадцатого января 1943 года я совсем уже собралась было идти к тюрьме, как вдруг в комнату ввалились двое полицейских. Они принялись ворошить наши вещи; разбросали постели, вспороли матрацы, перетрясли чемоданы, забрали все, что им приглянулось, и ушли. Один из них, с отекшим лицом пьяницы, со шрамом на правой щеке, кинул мне с порога: — Ну и сын у вас!.. — и, дико вытаращив глаза, скрипнул зубами. Едва закрылась за ними дверь, как ко мне прибежала встревоженная мать Толи Попова. Оказывается, и у них шарили полицейские. Почувствовав что-то недоброе, мы взяли корзины с продуктами и поспешили в полицию. По дороге я забежала к Катиной тете и по строгим горестным лицам поняла, что случилось непоправимое. Не сдержав рыданий, всхлипывая, Катя бросилась ко мне, и, прижимаясь мокрой щекой, с трудом выдохнула страшные слова: — Бори уже нет… В глазах у меня потемнело. Привалившись плечом к стене, я едва удержалась на ногах. «Нет? Моего сына?.. Моего Бори?.. Что они с ним сделали?» И вдруг страстное желание увидеть его хоть мертвого захлестнуло меня. Я оттолкнулась от стены и, не помня себя, помчалась в полицию. Там у закрытых ворот толпились женщины. Передач не принимали. На стене белела какая-то бумажка. К ней подходили матери, что-то выискивали и с плачем отходили. Словно в тумане, подошла и я. «Список отправленных в Ворошиловград», — прочитала я расплывающиеся буквы. Дальше шли фамилии. «Борис Главан…» — Сыночек мой!.. — только и сказала я и, чтобы не упасть, придержалась за стену. Не помню, как шла домой, не помню, как вошла в комнату, ничего не помню… Когда я открыла дверь и муж увидел у меня в руках нетронутую корзинку с продуктами, он все понял. Потрясенная горем, я двигалась, как во сне. Я ничего не видела, я ни о чем не думала… «Боря! Боря! Сыночек! Что они с тобой сделали?» — только и было у меня в голове. Вдруг мы услышали плач в соседнем доме. И тогда я припомнила, что в роковом списке, вывешенном на здании полиции, рядом с именем Бориса стояли имена его боевых друзей — Толи Попова и Жени Шепелева. Меня невольно потянуло к Поповым. Муж, не отпускавший никуда меня одну, пошел со мной. Но не успели мы войти в дом Поповых, как раздался стук и в комнату ввалились два полицейских. — Что за сборище? Разойдись! — закричал один из них. — Ваши документы, — обратился он к мужу. — А ты — вон отсюда! — прикрикнул он на меня и вытолкнул за дверь. Из нашего дома прибежала за мной племянница. — Тетя Зина, опять полицейские за вещами пришли, — встревоженно сказала она. — Что вам еще нужно? — в отчаянии спросила я орудовавших в комнате полицейских. — Это не нам… Это вашему сыну нужно, — осклабившись, ответил один из них. — Его в Германию отправляют… И вот ждут одежонку в Ворошиловграде. — Почему же нам об этом не сказали? — Начальству виднее, — усмехнулся он. Вскоре мы узнали, что вся эта история с отправкой наших детей в Германию была ложью, придуманной для того, чтобы замести следы преступлений и оправдать грабежи, которые совершали полицейские. Поздно вечером шестнадцатого января к нам постучала Катина тетя. — Вы знаете, — начала она сквозь слезы, — мой постоялец нахлестался, как зюзя. Вылез из-за стола и спрашивает меня: «Чего нос повесила? Эх, ты… Хочешь, новость скажу?.. Только смотри, не проболтайся, а то худо будет…» Усмехнулся и прищелкнул пальцем: «Ну, так вот… вашего Бориса и всех этих молокососов, как их… молодогвардейцев вчера на тот свет отправили… Живыми в шахту сбросили…» — Сыночек! — жгучая боль пронзила мне сердце. Казалось, оно не выдержит, остановится. Большое материнское горе, горе матери, у которой палачи отняли сына, поглотило меня, завладело моими мыслями и чувствами. Я потеряла всякий интерес к жизни. Все стало безразличным, ненужным. Только одно желание цепко жило во мне — увидеть сына. Мертвого, изуродованного, только бы увидеть… Больше мне ничего не было нужно. Но пробраться и шахте № 5, куда сбросили казненных молодогвардейцев, нам всем не удавалось. Позднее мы узнали от одного парня, который тоже был посажен в то время в тюрьму, о последнем дне молодогвардейцев. Пятнадцатого января вечером нашим истерзанным детям объявили, что их отправляют в Германию. Но когда во дворе тюрьмы появилась грузовая автомашина с пьяными полицейскими, молодогвардейцы поняли, что наступил их смертный час. Ульяна Громова азбукой Морзе передала во все камеры последний приказ штаба: «Последний приказ… Скоро повезут нас на казнь. Нас повезут по улицам города… Держаться перед смертью будем так, как жили, — мужественно. По дороге запоем любимую песню Ильича: «Замучен тяжелой неволей». В эти последние минуты своей жизни молодогвардейцы не забывали о героической смерти тридцати двух шахтеров, умиравших с пением «Интернационала». В морозную январскую ночь шли по Краснодону немецкие машины с обреченными на казнь, но непокоренными молодогвардейцами. В прозрачном студеном воздухе величественно и страшно звучало:
В ОСВОБОЖДЕННОМ КРАСНОДОНЕ
Немцы не желали сдавать город без боя. С лихорадочной поспешностью они возводили укрепления, устанавливали пушки, пулеметные гнезда. Вокруг нашего дома стояли ящики со снарядами, и мы с опаской проходили мимо них. В восемнадцати километрах от Краснодона, в Большом Суходоле, не умолкая гремела артиллерийская канонада. По улицам города днем и ночью шли немецкие, румынские, итальянские войска. На грузовиках, мотоциклах, подводах везли раненых солдат и офицеров. Закутанные в одеяла, женские шали, шерстяные кофточки, с обмороженными руками или ногами, уныло брели солдаты хваленой гитлеровской армии, похожие на грабителей с большой дороги. С озлоблением набрасывались они на безоружных мирных жителей, забирали скот, птицу, последние продукты. Это не походило на организованное отступление на новые позиции, как хвастливо заявляло о том немецкое радио, это было позорное бегство. У нас каждый день, а то и несколько раз в день менялись постояльцы. Немного отдохнув, угрюмые, злые немцы садились в машины и спешили «на помощь» отступающим. Наступление войск Красной Армии было столь стремительным, сила их удара столь велика, что немцы окончательно смешались. Рано утром четырнадцатого февраля, оглушительно тарахтя, к нашему дому подкатил мотоцикл. С него соскочил немец, вбежал в комнату, где спали гитлеровцы, и что-то крикнул. Послышалась возня, ругань. Немцы поспешно одевались, хватали оружие и выбегали на улицу, не забыв закутаться в платок или одеяло. Когда все стихло, я вышла во двор. Весь город проснулся. Повсюду слышались крики и ругань немцев, стук машин, ржание лошадей. Из соседнего дома зашла к нам Таисия Прокофьевна. — Отступают, паразиты! — гневно сказал она, в глазах ее блестели слезы. — Деточки наши бедные не дождались этого счастливого часа. А ведь так немножечко осталось… Вместе с немцами удирали и их прихвостни — полицейские. К нам во двор ворвались двое полицейских. Белых повязок на рукавах у них уже не было. Услышав, что они спрашивают родителей Бориса Главана, я вздрогнула. «Убьют!» — мелькнула мысль. Но полицейские только перетрясли пустые чемоданы, обшарили пустой буфет и, сорвав со злости наволочки с подушек, ушли, чертыхаясь. Совсем близко шел жаркий бой. И вдруг наступила тишина. Город опустел. На дороге валялась брошенная немцами техника и несколько повозок с награбленным добром. В напряженном ожидании мы толпились у ворот. И вот шариком скатился с горы чей-то подросток. — Наши танки в городе, — кричал он, задыхаясь. — Идите на Садовую… Захлебываясь от радости, побежали мы к центру города. Там уже собралось много людей. Плотным кольцом обступили они советских воинов. Ветер доносил до нас приветственные возгласы и крики «ура». Бойцы спрыгивали с танков и тотчас попадали в объятия краснодонцев. Осиротевшие матери сквозь слезы рассказывали о зверствах немцев, о геройской смерти замученных палачами комсомольцев-подпольщиков. — А где эта тюрьма? — спросил командир танка. — Может, в ней люди томятся. Узнав адрес тюрьмы, он прыгнул в люк и повел машину туда. Толпа двинулась за ним. Тюремный двор был усеян трупами. Это немцы в последний момент расстреляли военнопленных. В камерах тоже валялись трупы, обрывки окровавленной одежды, по полу растекались кровавые разводы. С ужасом переходили мы из одной камеры в другую, всматривались в надписи на стенках, в куски одежды, надеясь хоть что-нибудь найти от наших детей. Как тяжело было нам тогда! На двери узкой и тесной, как гроб, камеры я увидела нацарапанную ногтем надпись: «Взят четвертого января 1943 года. Борис Главан». Боренька мой, сыночек мой хороший… Здесь, в сырой холодной камере, с крохотным, в железной решетке, оконцем под самым потолком, провел он свои последние дни. Плохо ему тут было. Ох, как плохо! И меня не было с ним в эти его самые тяжелые минуты. Не было… Глядя на родной почерк сына, я плакала. Плач доносился и из других камер. Вот на стене густо очерченное углем сердце. В овале четыре фамилии:Бондарева, Минаева, Громова, Самошина.Еще надпись:
«Погибли от руки фашистов 15.I.1943 года, в 9 часов ночи».Около окна рукой Ули Громовой четко выведено:
«Прощайте, мама, Прощайте, папа, Прощайте, вся моя родня. Прощай, мой брат любимый Еля, Больше не увидишь ты меня. Твои моторы во сне мне снятся, Твой стан в глазах всегда стоит. Мой брат любимый, я погибаю! Крепче стой за Родину свою! До свидания!»Любу Шевцову немцы арестовали в Ворошиловграде, куда она ездила, чтобы выручить рацию, полученную в партизанской школе. Продержали ее в Краснодоне до 31 января, а в феврале 43 г. вместе с Виктором Субботиным, Дмитрием Огурцовым и Семеном Остапенко отправили в Ровеньки, в окружную жандармерию. За день до бегства немцев из Ровенек многих советских граждан фашисты расстреляли в городском парке. В их числе были и молодогвардейцы. В одной из камер, в углу, на стене, нашли надпись, сделанную Любой Шевцовой:
«Прощай, дорогая мама! Твоя дочь Люба уходит в сырую землю… 5.II.43 г.»Ниже нацарапано:
«Мама, я сейчас тебя вспомнила.Еще чуть ниже приписка:Твоя дочурка Любаша».
«Любу Шевцову взяли навеки 7.II.43 г.».А над всем этим через всю обрызганную кровью стену, как призыв и завещание, начертано:
От бывшего здания гестапо мы все пошли к шахте № 5. Нет, не шли мы — бежали. Ноги сами несли нас туда. Что мы там увидели! Много лет прошло с тех пор. Но так же ноет душа, так же ясно стоит все это перед глазами. Видно уж, и в могилу унесу я эту боль, и это видение. У подножья террикона разрушенной шахты зияла черная пасть шурфа. Вокруг валялись куски одежды, шапки, валенки. Снег алел кровью мучеников. Прилегающая к шурфу стена также была в крови. Здесь от старика-сторожа узнали мы новые подробности жестокой расправы над нашими детьми. Пятнадцатого января ночью к разрушенной бане подошли две машины. Из них вытолкали связанных молодогвардейцев. У шурфа на толстых бревнах стояли полицейский и немецкий следователь. К ним подводили связанного юношу или девушку, ставили на бревно. Немец ударом ноги сталкивал обреченного в шахтный колодец глубиной в шестьдесят два метра. Сбросив несколько человек, гестаповцы кидали в колодец гранаты, камни. Завершив свое черное дело, они уехали, оставив двух полицейских для охраны. Несколько дней из глубины шахты доносились глухие стоны. Но сторож ничем не мог помочь несчастным: гестаповцы не подпускали его к шурфу. Только одному из приговоренных к казни молодогвардейцев удалось спастись — Анатолию Ковалеву. Рослый, здоровый, он еще нашел в себе силы для того, чтобы разорвать веревки, оглушить ударом полицейского и прыгнуть из машины. Охранники открыли стрельбу из автоматов, но Ковалев сумел скрыться. Его, окровавленного, укрыл у себя старый шахтер, вылечил раны, одел и помог перейти линию фронта. Дальнейшая судьба А. Ковалева неизвестна. В Краснодоне была восстановлена Советская власть, и над зданием горисполкома взметнулся красный флаг. Глядя на него, шахтеры с гордостью вспоминали об отважном поступке молодогвардейцев, дерзнувших в черные дни оккупации вывесить красные флаги в праздник Октября. Потом… Потом началась для меня ночь сплошных кошмаров… Несколько дней извлекали из шахты трупы молодогвардейцев. Сперва эту трудную работу поручили инженеру Громову. Но он почему-то всячески оттягивал ее. Его, как потом выяснилось, терзал страх: страшно было увидеть дело своих рук. Громов оказался предателем. Шахтер Андросов, дочь которого, Лидия, погибла вместе с нашими детьми, взялся извлечь их тела. На бадье поднимали трупы из глубины шахтного колодца. Эти милые, хорошие юноши и девушки были так изуродованы, что их нельзя было узнать. Только по остаткам одежды узнавали мы своих сыновей и дочерей. Двадцать седьмого февраля мы опознали Бориса. Не могу я писать об этом, дорогие мои, не могу… Похоронили молодогвардейцев в братской могиле, в самом красивом месте — в парке имени Комсомола. На похороны пришли сотни людей из города, поселков и хуторов. Пришли бойцы гвардейской кавалерийской дивизии, участвовавшие в освобождении Краснодона, пришли боевые друзья погибших — Ваня Туркенич и Жора Арутюнянц, одними из первых ворвавшиеся в город, чтобы освободить своих товарищей. Поздно они пришли… поздно… Пришли и другие, оставшиеся в живых члены «Молодой гвардии»: Нина и Оля Иванцовы, Валя Борц, Радик Юркин. У открытой могилы боевой командир «Молодой гвардии» лейтенант Иван Туркенич долго от волнения не мог говорить. Спазмы подступали к горлу, слезы навертывались на глаза. — Прощайте, мои дорогие друзья, — наконец выкрикнул он. — Нам не удалось спасти вас. Но я клянусь здесь, у вашей могилы, мстить за вас, пока бьется мое сердце. Никогда не забудем мы вас. Никогда! Разрывая сухой морозный воздух, грянул салют. Страна с почестями провожала в последний путь отважных. Свежий могильный холм был засыпан цветами. Стоял почетный караул. А на душе было так пусто, так одиноко… На могиле героев был поставлен временный деревянный обелиск. Пусть никогда-никогда не забудут их люди! Они заслужили это. Всей жизнью своей, смертью своей заслужили. Вот они, имена тех, кто жил и боролся вместе с моим Борей: Олег Васильевич Кошевой, Иван Александрович Земнухов, Сергей Гаврилович Тюленин, Любовь Григорьевна Шевцова, Ульяна Матвеевна Громова, Анатолий Владимирович Попов, Николай Степанович Сумской, Степан Степанович Сафонов, Сергей Михайлович Левашов, Евгений Яковлевич Мошков, Виктор Владимирович Петров, Александра Емельяновна Дубравина, Анна Дмитриевна Сопова, Майя Константиновна Пегливанова, Геннадий Александрович Лукашев, Владимир Андреевич Осьмухин, Анатолий Александрович Орлов, Леонид Алексеевич Дадышев, Владимир Павлович Рогозин, Владимир Александрович Жданов, Семен Маркович Остапенко, Антонина Захаровна Елисеенко, Василий Маркович Пирожок, Александр Тарасович Шищенко, Виктор Дмитриевич Лукьянченко, Василий Иванович Бондарев, Александра Ивановна Бондарева, Антонина Михайловна Мащенко, Ангелина Тихоновна Самошина, Анатолий Георгиевич Николаев, Демьян Яковлевич Фомин, Нина Петровна Минаева, Нина Николаевна Герасимова, Лилия Александровна Иванихина, Лидия Макаровна Андросова, Антонина Александровна Иванихина, Георгий Кузьмич Щербаков, Нина Илларионовна Старцева, Надежда Степановна Петля, Владимир Тихонович Куликов, Евгения Ивановна Кийкова, Николай Дмитриевич Жуков, Владимир Михайлович Загоруйко, Юрий Семенович Виценовский, Клавдия Петровна Ковалева, Евгений Никифорович Шепелев, Михаил Николаевич Григорьев, Василий Прокофьевич Борисов, Нина Георгиевна Кезикова, Антонина Николаевна Дьяченко, Николай Иванович Миронов, Василий Иванович Ткачев, Павел Федорович Палагута, Дмитрий Уварович Огурцов, Виктор Федорович Субботин, Виктор Иосифович Третьякевич, Надежда Никитична Петрачкова, Юрий Федорович Полянский, Иван Васильевич Туркенич, Василий Сафронович Гуков, Анатолий Васильевич Ковалев. На этом обелиске написано и такое дорогое, такое родное имя: Борис Григорьевич Главан.«Смерть немецким оккупантам»
ПАЛАЧАМ НЕ УЙТИ ОТ СУРОВОЙ РАСПЛАТЫ
Вскоре после похорон состоялся суд над теми, кто пресмыкался перед врагом и, спасая свою шкуру, предал «Молодую гвардию». Перед судом предстал Геннадий Почепцов. На вопрос судьи: почему он предал своих товарищей, Почепцов ответил, что к этому его принудил отчим, инженер Громов. Немцы обещали Почепцову деньги, хорошую жизнь, если только он поможет найти партизан. И Почепцов составил большой список фамилий молодогвардейцев, которых он знал, в том числе имя руководителя пятерки — Бориса Главана. На скамье подсудимых оказалась инженер Громов, следователь Кулешов, квартальный Попов. Они всячески извивались, пытаясь уклониться от предъявленных обвинений. Но, прижатые к стене свидетельскими показаниями, были вынуждены сознаться в преступлении. Всю эту мразь народный суд приговорил к расстрелу. Имена предателей навечно прокляты народом. Однако, к великому нашему огорчению, некоторым палачам, истязавшим молодогвардейцев, удалось скрыться и избежать народной кары. На судебном процессе, состоявшемся в 1943 году, не все удалось узнать, что касалось предательства «Молодой гвардии». Подлые изменники родины — жалкий трус Почепцов и помогавший немцам в расправах над членами «Молодой гвардии» следователь по профессии, предатель по призванию Кулешов — продавшийся гитлеровцам, всячески извивались, чтобы скрыть подлинных преступников, выдавших врагу «Молодую гвардию». Они хотели опорочить имена честных молодогвардейцев, осквернить светлую память о них. Только 16 лет спустя состоялся новый судебный процесс над фашистскими прислужниками, скрывавшимися от справедливого возмездия. На нем стали известны новые материалы о Краснодонской подпольной комсомольской организации[7]. Вот что установлено судебным следствием. Осенью 1942 года в Краснодон приезжал начальник немецкой окружной полиции Эрнст Эмиль Ренатус. Этот маленький толстый немец с грубыми ругательствами обрушился на своих подчиненных: — Растяпы! Не можете поймать кучку каких-то молокососов. На передовую всех загоню! Под Сталинград!.. Особенно досталось начальнику городской полиции Соликовскому, стоявшему навытяжку перед окружным начальством. Ренатус со злобным шипением подскочил к нему: — Даю вам три дня! Понимайт? Драй таген, — он растопырил перед носом три куцых, поросших рыжей щетиной пальца. — Если партизан не будет поймайт… Начальник окружной полиции сделал выразительный жест, будто затягивал петлю на шее Соликовского. Проводив грозного шефа, злой и перепуганный Соликовский собрал своих прислужников. Помахивая плетью, с которой он никогда не расставался, Соликовский повторил приказ Ренатуса и, давая волю гневу, в бешенстве кричал: — Запорю гадов, если не доставите мне тех, кто писал листовки. Живыми или мертвыми доставить их сюда! Угрюмые и мрачные после полученного от начальства нагоняя, полицаи стали расходиться. — Ты обожди, — сказал Соликовский, обращаясь к коменданту поселка Первомайка Подтынному. — Есть разговор… Вот тогда и состоялся гнусный заговор. Главная роль в этом заговоре возлагалась на Василия Подтынного. Кто же он такой? Подтынный был одним из самых свирепых палачей, истязавших мужественных комсомольцев. Перед началом Великой Отечественной войны он служил лейтенантом в рядах Красной Армии, но в первом же бою проявил себя жалким трусом и сдался на милость гитлеровцам. Подтынный не только совершил подлую измену, предал Родину, но и пошел на открытое служение врагу. Мы его знали сначала как коменданта полицейского участка в поселке Первомайка, а затем, за усердие перед фашистскими извергами, Подтынный был назначен заместителем начальника Краснодонской городской полиции. На этой должности он из кожи вон лез, чтобы заслужить похвалу своих хозяев — сатрапов из фашистского гестапо, и сыграл весьма гнусную роль в той страшной трагедии, которая произошла в Краснодоне. Именно Подтынному было поручено руководить поимкой членов подпольной комсомольской организации, допрашивать их и надругаться над ними. Как только Советские войска в феврале 1943 года вступили в Краснодон, Подтынный скрылся. Он надеялся замести следы своих страшных преступлений и, присвоив чужое имя, избежать карающего меча правосудия. 16 лет этот подлый предатель скрывался под чужим именем, часто меняя работу и местожительство. В последнее время он работал скотником в одном из совхозов Сталинской области, где и был арестован органами государственной безопасности. И вот Подтынный предстал перед советским правосудием. Около трех месяцев длилось следствие по делу отъявленного убийцы и палача. Под давлением неопровержимых улик он и его подручные, ранее осужденные советским судом, вынуждены были до конца открыть завесу и рассказать суду о последних, самых страшных днях, проведенных молодогвардейцами в камерах городской полиции. В процессе следствия были выявлены новые факты деятельности «Молодой гвардии», установлены обстоятельства гибели бесстрашных подпольщиков. Вот о чем рассказал Подтынный на суде. После совещания полицаев они с Соликовским договорились о беспощадном преследовании юных партизан. Между ними произошел следующий разговор: — Ты был офицером Красной Армии? — спросил Подтынного Соликовский. Подтынный четко пристукнул каблуками: — Яволь! Так точно. — Значит, военное дело знаешь, порох уже нюхал… Эти все подлецы, — Соликовский брезгливо махнул рукой на дверь, — при первом же выстреле разбегутся, как крысы. А тут дело пахнет жареным. Понимаешь? Надо действовать решительно и не церемониться. В Первомайке партизаны проявляют себя особенно активно. Нужно тряхнуть их как следует. Ясно? Справишься — получишь награду.«Я старался вовсю, — признался Подтынный на судебном следствии. — В поселке мы провели повальные обыски. Всех, кто был на подозрении, тащили в участок. Избивали, заставляя признаваться в связи с партизанами. Специальные отряды полицаев круглосуточно патрулировали по улицам. По ночам на перекрестках мы устраивали засады, надеясь поймать тех, кто расклеивал листовки. Но все старания были тщетны. Поймать молодогвардейцев нам не удавалось…»Как-то один из полицаев после ночной засады зашел в участок и доложил, что ночь прошла спокойно. — Ладно, иди отдыхай, — устало махнул ему Подтынный. Но когда полицай повернулся спиной к коменданту, тот с ужасом увидел у него на спине листок бумаги. На нем крупными буквами было написано:
«Холуи! Зря стараетесь. Лучше подумайте о спасении своей шкуры. Народ жестоко отомстит предателям. «Молодая гвардия».Соликовский и его подручные жили под страхом. Приказ начальника окружной полиции не выполнялся. Подпольщики усиливали свои действия против врага, а из округа раздавались грозные телефонные звонки. Ренатус требовал немедленно поймать партизан, грозился расстрелять своих холуев за бездеятельность. Но все было напрасно, молодогвардейцы оказались неуловимыми. И даже после ареста Мошкова, Земнухова и Третьякевича за кражу злополучных немецких новогодних подарков пресмыкающиеся перед фашистами полицаи не знали, что в их руках — одни из самых активных членов подпольной комсомольской организации. Сам Соликовский, узнав, за какие «проделки» задержаны эти боевые активисты «Молодой гвардии», приказал следователю: — Подержи их несколько дней в холодной, выпори хорошенько, а потом гони в шею. Итак в камерах тесно… Ни один из трех арестованных молодогвардейцев слова не обронил о существовании подпольной комсомольской организации. И заявление пойманного при освобождении Краснодона следователя Кулешова о том, что «Молодую гвардию» выдал Третьякевич, не выдержавший побоев, было ложью, рассчитанной на то, что подлинному предателю удастся скрыться. Следствие по делу Подтынного установило, что полиция узнала имена молодогвардейцев совсем из другого источника. В тот самый день, когда собирались выпустить Мошкова, Земнухова и Третьякевича, произошло событие, ставшее трагическим для «Молодой гвардии». В это самое время начальник шахты № 1-бис — предатель Жуков — вручил начальнику районной жандармерии гауптвахтмейстеру Зонсу заявление, поступившее от Геннадия Почепцова. Вот точный текст подлого доноса:
«Начальнику шахты 1-бис господину Жукову. В Краснодоне организована подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия», в которую я вступил активным членом. Прошу в свободное время зайти ко мне на квартиру, и я все подробно расскажу. Мой адрес: ул. Чкалова, № 12, ход № 1.Почепцов Геннадий
20-XII-1942 г.»Как видно из заявления, Почепцов поставил число 20 декабря еще задолго до ареста подпольщиков. Это заявление от отнес Жукову, а не в полицию, чтобы не быть заподозренным в этом гнусном преступлении. 4 января его вызвали в полицию, и он составил список всех участников «Молодой гвардии». Кто же этот мерзкий предатель, погубивший десятки жизней отважных юношей и девушек ради спасения своей шкуры? По возрасту Почепцов был сверстником молодогвардейцев, учился с ними в одной школе, находился в товарищеских отношениях. Его считали тихим, неприметным парнем. Он рано лишился отца и жил с отчимом Василием Громовым — человеком злым и корыстолюбивым. Тихо, неприметно пролез он в ряды «Молодой гвардии». И, хотя ему не давали никаких серьезных поручений, Почепцов бывал на заседаниях штаба, знал в лицо многих молодогвардейцев, в том числе и членов штаба — Олега Кошевого, Улю Громову, Ваню Земнухова, Сергея Тюленина… О вступлении Почепцова в подпольную организацию знал и его отчим В. Г. Громов. Услышав об аресте полицией Мошкова, Земнухова и Третьякевича, он сказал Почепцову: — Доигрались! Дружки твои уже сидят в полиции. И за тобой скоропридут… Пока не поздно, сообщи кому следует все, что тебе известно. Немцы щедро заплатят. Проси корову, а то, может, и дом подарят… Обольщенный надеждой, что ему хорошо заплатят за предательство и что он спасет свою шкуру ценой смерти тех, кто считал его товарищем, презренный трус Почепцов выдал врагу народных мстителей. Настал желанный час и для Василия Подтынного, чтобы проявить лакейское усердие перед фашистскими извергами Ему поручили арестовать преданных Почепцовым членов «Молодой гвардии» (Почепцов угодливо составил большой список молодогвардейцев. Этим списком и пользовались полицаи при аресте юных подпольщиков). Как же действовал Подтынный? Никогда краснодонцы — родители погибших молодогвардейцев — не забудут страшных январских ночей 1943 года. В зимнюю стужу по улицам города, приплясывая от мороза, шествовал вооруженный отряд фашистов под командованием Подтынного. За ними плелась лошадь, запряженная в сани. Врываясь вместе с полицейскими в дом, Подтынный почти не разговаривал с теми, кого хотел арестовать, он набрасывался на свою жертву, избивал до потери сознания. Его услужливые подручные связывали юношу или девушку и бросали в сани. Часто тем, кого задерживал Подтынный, даже не давали одеться. Тоня Иванихина была схвачена в одной сорочке, и всю ночь в открытых санях ее возили по городу. В ту незабываемую трагическую ночь был взят и наш дорогой, незабвенный Боря. А до этого Подтынный успел побывать уже во многих домах, арестовать, по доносу Почепцова, членов «Молодой гвардии»: Анатолия Попова, Сашу Бондареву, Майю Пегливанову, Демьяна Фомина… В первую ночь было арестовано восемнадцать юных подпольщиков. Вскоре застенки городской полиции были забиты до отказа краснодонскими комсомольцами. И тут начались самые тяжкие испытания, которые им пришлось пережить. Фашистские палачи, желая выведать тайну подпольной организации, применяли самые жестокие, самые зверские пытки и издевательства, перед которыми меркнет даже средневековая инквизиция. Побои и надругательства преследовали молодогвардейцев всюду: в камерах и даже когда они проходили по коридорам. Кабинет начальника городской полиции Соликовского стал главным местом истязаний арестованных. Его стены были забрызганы кровью, на мебели и на полу краснели кровавые разводы. Волосы становятся дыбом, когда читаешь судебные протоколы, где записаны показания фашистских палачей о нечеловеческих мучениях, которым подвергались молодогвардейцы на допросах. Вот несколько выдержек из них:
«Я охранял арестованных комсомольцев в камерах. Они возвращались от следователя с опухшими от избиения лицами, в кровоподтеках и синяках. Еле державшихся на ногах, их волокли с допросов и втаскивали в камеры. Я отказывал избитым комсомольцам даже в воде, когда они с пересохшими ртами подходили к дверям камер, прося дать им возможность утолить жажду…» «На допросах мы жестоко избивали комсомольцев плетьми и обрывками телеграфного кабеля. Наряду с этим, чтобы заставить говорить молодогвардейцев, мы подвешивали их за шею к скобе оконной рамы в кабинете Соликовского, инсценируя казнь через повешение. Так были допрошены Мошков, Лукашев, Попов, Жуков и восемь девушек, фамилий их не помню…»А вот что показал В. Подтынный:
«Работая в должности заместителя начальника городской полиции, я часто заходил в кабинет Соликовского и видел, как он и следователь подвергали допросам арестованных молодогвардейцев, причем жестоко избивали их плетьми, резиновым шлангом, проволокой…».Показания Подтынного и материалы судебного следствия по его делу важны еще тем, что они устами врага свидетельствуют о геройстве, бесстрашии молодогвардейцев, об их несгибаемом мужестве и железной воле, которые они проявили в трудные часы испытаний. Подтынному, этому усердному фашистскому наймиту, пришлось столкнуться с железным упорством молодогвардейцев. Он допрашивал многих из них, в частности Сережу Тюленина, одного из самых мужественных и бесстрашных героев «Молодой гвардии». На один из допросов Тюленина вызвали его мать, Александру Васильевну, от нее и стало известно о тех жестокостях, бесчеловечных мучениях, которым подвергал Подтынный Сережу. В кабинете Соликовского, где происходили пытки, на столе всегда стояла бутылка с водкой. Перед началом допроса Подтынный выпивал для храбрости большую дозу водки и лишь затем приступал к своим обязанностям. Он набрасывался на свою жертву, бил наотмашь по лицу, по голове, старался сбить с ног и злобно спрашивал: — Будешь говорить? — Нет, гадина, слова от меня не услышишь, — с ненавистью отвечал Сергей. Тогда Подтынный с ожесточением избивал его плетью. На худеньком теле Сережи, едва покрытом лохмотьями изорванной рубахи, вздувались кровавые рубцы. Но он, стиснув зубы и до крови закусив губы, молчал. Свистела плеть, и бесчисленные удары сыпались на отважного юношу. Но Сережа, по-прежнему молчал. Надеясь сломить его упорство, начальник полиции Соликовский, присутствовавший на допросе, приказал полицаям: — Позовите мать. В кабинет ввели Александру Васильевну Тюленину. Увидев окровавленного сына, она содрогнулась от ужаса. — Ну вот, полюбуйся на своего щенка, — издевательски обратился к ней Подтынный. — Молчит. Может, ты заставишь его говорить? Один из полицаев грубо толкнул Тюленину, другой замахнулся на нее плетью. — Сволочи! — гневно бросил Сережа палачам, порываясь к матери. Сильным ударом его опрокинули на пол, и снова засвистела в воздухе плеть. — Сволочи! — шептал Сергей, сжимаясь в комок под ударами. Пораженная видом изуродованного сына, ошеломленная страшной картиной пыток, Александра Васильевна, поддаваясь минутной слабости, вдруг рухнула на колени перед Подтынным. — Отпустите его, моего родного, — просила она, совершенно обезумев от горя. Но тут с пола раздался властный голос Сережи: — Мама, не смей!! Словно подхлестнутая, она встала на ноги, перекрестилась и ненавидящими глазами уставилась на истязателей ее сына. Сережа, довольный, что мать поняла его, обрадованно улыбнулся. И с этой улыбкой он перенес все муки в тот день. Как ни ухищрялись озверевшие гитлеровцы, применяя к Сергею самые чудовищные пытки, — жгли раскаленным железом, загоняли под ногти длинные толстые иглы, подвешивали ногами к потолку — ничто не могло сломить волю героя. После двухчасовой пытки Подтынный спросил Сережу: — Будешь говорить? — Нет! Уже в коридоре, после того как его полуживого вынесли из кабинета, он потерял сознание. Удивительную стойкость проявила хрупкая с виду девушка, пожалуй, самая юная среди молодгвардейцев, Тоня Иванихина. До вступления в «Молодую гвардию» она была на фронте медсестрой. Из романа А. Фадеева «Молодая гвардия» известно ее признание подругам: «Я очень боюсь мучений. Я, конечно, умру, но ничего не скажу, а только я очень боюсь…» Фашисты узнали об этой Тониной слабости и вызвали ее на допрос последней. К тому времени весь кабинет Соликовского был залит кровью, одежда и руки истязателей также были в крови. Палачи надеялись запугать Тоню и таким образом получить от нее нужные признания. Однако их старания были напрасны. Мужественная подпольщица, совсем еще девочка по возрасту, стоически переступала через лужи крови и, встав перед столом, за которым сидели палачи, устремляла на них взгляд, полный ненависти и презрения. Гитлеровцам был не по нутру этот ненавидящий взгляд, и они сильно избивали Тоню. Но ни побои, ни пытки не могли нарушить святого молчания гордой комсомолки. Однажды озверевший фашист ударом кованого сапога сломал Тоне три ребра. Она лишилась сознания. Но когда пришла в себя, фашисты увидели тот же устремленный на них враждебный, презирающий взгляд. Не выдержав этого взгляда, один из эсэсовцев, посланный из окружной полиции для усиления пыток, схватил раскаленный прут и дважды ткнул им Тоне в глаза. Незадолго до казни она ослепла. Так же геройски вел себя на допросах вожак первомайской группы молодогвардейцев Анатолий Попов. Это был сильный парень, и четыре полицая, пришедшие арестовать Анатолия, с трудом справились с ним. Уже в тюремных застенках Анатолий сидел со связанными руками. И на допросы его водили связанным — боялись, как бы не вырвался. Допрашивал его Соликовский. Применив к упорно молчавшему юноше несколько орудий пыток, он хрипло спрашивал: — Ну что, одумался? Называй сообщников. — Гад! — гневно бросал Анатолий в лицо палачу. — Жаль, не убили мы тебя раньше. Ну, ничего, другие доберутся… Взбешенный Соликовский с еще большим ожесточением принимался истязать обессиленного, измученного Анатолия. Его подвешивали к оконной раме, закладывали пальцы в дверной косяк. — Ну, надумал? — спрашивал Соликовский. В ответ Анатолий пнул его ногой. — Ах, вон ты какой! — завопил начальник полиции и, схватив лежавший на столе тяжелый немецкий тесак, ударил им Анатолия. Так в тюрьме, в страшных пытках встретил Анатолий Попов свой день рождения: 15 января 1943 года ему исполнилось девятнадцать лет. Собравшись с силами после перенесенных мучений, он нашел клочок бумаги и кровью написал на нем:
«Поздравь меня, мама, с днем рождения. Не плачь, утри слезы».Стояла лунная январская ночь. Было очень тихо. Из распахнутых ворот со двора полиции выехала крытая брезентом машина, и в морозном безмолвии хриплые юношеские голоса запели любимую песню Владимира Ильича Ленина:
«Один раз мне пришлось сопровождать группу молодогвардейцев к месту казни. Я видел, как следователь «по криминальным делам» из маузера расстреливал в упор молодогвардейцев, затем их сбрасывали в шурф. Комсомольцы при этом держались мужественно, с достоинством, никто не просил о пощаде».В материалах судебного следствия по делу Подтынного есть копия показаний эсэсовца Древитца, который во время оккупации служил в жандармерии в городе Ровеньки. Как известно, там были расстреляны руководитель «Молодой гвардии» Олег Кошевой и бесстрашная связистка подпольщиков Люба Шевцова. С наглым цинизмом Древитц описывает их казнь:
«Поставив арестованных на край заранее вырытой в парке большой ямы, мы всех расстреляли. Затем я заметил, что Кошевой еще жив, только ранен. Я подошел к лежавшему на земле Кошевому и в упор выстрелил ему в голову. Из числа расстрелянных во второй партии очень хорошо запомнил Шевцову. Она обратила на себя мое внимание своим внешним видом. У нее была красивая, стройная фигура, продолговатое лицо. Несмотря на свою молодость, она держала себя очень мужественно. Перед казнью я Шевцову подвез к краю ямы для расстрела. Она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно, с поднятой головой приняла смерть…»«Сколько веревочка ни вьется, а конец приходит», — гласит известная русская пословица. Как ни изощрялись фашистские изверги, стараясь скрыть следы страшных преступлений, им это не удалось. Суровая рука справедливого возмездия настигла преступников. Палачи и их пособники, презренные трусы и предатели, все те, кто чинил расправу над героями Краснодона, понесли заслуженную кару.
КЛЯТВА ВОИНА
После гибели Бориса я еще больше стала тревожиться за младшего сына. В самые тяжкие дни немецкой оккупации мы постоянно вспоминали о Михаиле и гордились, что он в рядах Красной Армии. Если бы он знал, какие страшные муки пришлось перенести его старшему брату, он, наверное, на крыльях прилетел бы, чтобы вызволить Бориса из неволи. Но Миша был далеко от нас и, пока в городе хозяйничали немцы, мы ничего о нем не знали. Я горячо желала, чтобы он был здоров, чтобы миновала его злая фашистская пуля. И вот город освобожден. Фронт продвинулся далеко на запад. Нужно написать Мише. Но куда? Где он сейчас? Я терялась в догадках. И вдруг однажды приходит к нам рассыльный из поселкового Совета. — Тут запрос от вашего сына… Велели передать вам. Маленький фронтовой треугольник с знакомым почерком Михаила. С волнением вскрываю письмецо: «Прошу сообщить, проживает ли по улице Колхозной семья Главан…» Я, сейчас же ему ответила, умолчав о гибели Бори. Обрадованный, что ему быстро удалось найти родителей, Миша спрашивал у нас, где Боря, что с ним, просил написать его адрес. Мы с мужем долго думали, как поступить, колебались, а потом решили, что незачем скрывать правду, и я подробно написала о постигшем нас горе, о мужественной борьбе молодогвардейцев, о смерти Бори. Но едва я успела отправить письмо, как на второй же день получила письмо от Миши. Из военной газеты он узнал о подвиге комсомольцев Краснодона. Среди имен замученных героев он увидел имя своего старшего брата.«Крепитесь, дорогие мама и папа, — писал он нам, — великое горе постигло нас, но мы должны быть горды, что Борис оказался таким героем».В следующем письме он прислал нам несколько вырезок из газет. В одной из них был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении молодогвардейцев, в другой — выступление Михаила на митинге.
«Товарищи! Красная Армия, сокрушая немецкие полчища, идет все дальше и дальше на запад, освобождая советскую землю от гитлеровских разбойников. Недавно освобожден и город Краснодон. Первые письма матери принесли мне много печали, но они принесли и гордость за несокрушимую волю к победе молодых патриотов героев-комсомольцев из подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Когда немцы оккупировали Краснодон, комсомольцы создали подпольную организацию «Молодая гвардия», членом которой был и мой старший брат Борис Главан. Молодогвардейцы вели героическую борьбу с врагом. Почти все они погибли от рук палачей, погиб и мой брат Борис. Светлый образ героев-комсомольцев зовет нас к мести врагу. Будем мстить жестоко за их смерть. Очистим нашу землю от фашистских мерзавцев.Почти каждый день писала я Мише на фронт, и он отзывался коротенькими, написанными в промежутках между боями письмами.Смерть немецким захватчикам!»
«Жив, здоров. Не беспокойтесь, дорогие, мне очень хорошо. Писать много нет времени. Скоро пойдем в бой. Пишите больше о себе».Один раз в месяц мы, родные и близкие молодогвардейцев, собирались в Краснодонском райкоме комсомола. Уже вся страна знала о «Молодой гвардии». Со всех концов Советского Союза, от бойцов с фронта текли в Краснодон письма, в которых чужие, но такие близкие нам люди искренне сочувствовали постигшему нас горю, гордились бесстрашием и смелостью юных патриотов, клялись отомстить за их мученическую смерть. Среди огромного потока почты в адрес райкома комсомола поступило письмо с фронта и от нашего Михаила. Сын писал, что поклялся мстить за погибших молодогвардейцев. На счету у него было уже около тридцати убитых немцев. Миша с радостью сообщал нам, что Центральный Комитет ВЛКСМ высоко оценил его скромную работу комсорга, наградив «Почетной грамотой». В начале октября 1943 года Михаил был принят кандидатом в члены партии. Он гордился оказанным ему доверием и сознавал большую ответственность, которую налагает на него звание коммуниста.
«Теперь, когда я стал коммунистом, я буду бороться до последних дней моей жизни за великое дело Ленина», — писал он.В эти дни в Краснодон приехал заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР тов. Гречуха. Он вручил родителям погибших молодогвардейцев грамоты, ордена и медали, которыми были посмертно награждены герои Краснодона. Тов. Гречуха передал нам письмо от Михаила Ивановича Калинина, которые мы храним, как святыню.
«УВАЖАЕМЫЙ ГРИГОРИЙ АМВРОСИЕВИЧ! Ваш сын Главан Борис Григорьевич в партизанской борьбе за Советскую Родину погиб смертью храбрых. За доблесть и мужество, проявленные Вашим сыном Борисом Григорьевичем Главаном в борьбе с немецкими захватчиками в тылу врага, он награжден орденом Отечественной войны первой степени. Орден Отечественной войны первой степени и орденская книжка, согласно статьи 10 статута ордена Отечественной войны, передается Вам для хранения, как память о сыне, подвиг которого никогда не забудется нашим народом.…Весна 1944 года. Вместе с весенним половодьем разливаются по земле радостные вести о победах наших войск. Советские войска, стремительно наступая на запад, вступили на землю нашей родной Молдавии. Миша писал, что его часть в жестоких боях наносит сокрушительные удары по немцам в Латвии, изгоняя врага из Советской Прибалтики. Но вдруг мы перестали получать от него письма. Я встревожилась и написала запрос в его часть. Потянулись мучительные дни ожидания ответа. У меня сжималось сердце, когда я видела, что почтальон опять прошел мимо нашего дома. «Да неужто же, — думала я, — еще один удар?.. Нет, нет, не может быть. Я не перенесу…» Но вот долгожданный почтальон завернул и к нам. — С фронта, — говорит он и протягивает маленький бумажный треугольник. Адрес написан неуверенной рукой Михаила. Я торопливо вскрываю письмо.Председатель Президиума Верховного Совета СССРМ. КАЛИНИН»
«Дорогие мама и папа! За меня не волнуйтесь. Я нахожусь в госпитале. Был ранен осколком мины в голову и левую лопатку. Чувствую себя неплохо, поправляюсь…»Спустя недели две он сообщил, что выписался из госпиталя и возвращается в свою часть. Ему предложили поехать в тыл, отдохнуть после тяжелого ранения, но Михаил отказался.
«Я спешу вернуться в строй, чтобы бить проклятых фашистов. Я должен выполнить свою клятву и отомстить им за брата, — писал он нам. — Меня наградили медалью «За отвагу» и представили к награждению орденом «Красная Звезда».И опять почти каждый день стали поступать от Михаила короткие ободряющие письма. Но в начале августа 1944 года почтальон снова стал обходить наш дом. Я не находила себе места. Страшные мысли лезли в голову. Я терялась в догадках и порывалась написать командованию. Но муж отговаривал меня. — Разве ты не видишь, что творится на фронте? Наступают невиданно стремительно. Михаилу теперь не до писем. Ему и отдохнуть некогда. Я соглашалась и снова терпеливо ждала вестей. Но их не было… Уже отшумел победный август, Красная Армия вела бои далеко на Балканах, а Михаил все молчал. Дни и ночи думала я о нем, с надеждой смотрела в окно, поджидая почтальона. Неутихающая боль терзала мое сердце. Я не допускала, я страшилась одной мысли, что и младший мой сын погиб. Мы стали собираться домой. Молдавия считалась прифронтовой полосой, и въезд туда разрешался только по пропускам. Я поехала в Киев и выхлопотала пропуска. Была поздняя осень. Поля и деревья стояли в печальном осеннем наряде. В развалинах лежали города и села. Но уже неудержимо и властно поднималась жизнь. Вставали из руин новые корпуса фабрик и заводов, через реки перекидывались новые мосты, слышался стук топоров. Вернувшись из Киева, я прежде всего поинтересовалась, не было ли писем от Михаила. Муж растерянно ответил, что нет, не было. И опять стал убеждать меня, что во время такого большого наступления солдатам писать некогда… — Но ведь раньше он писал и во время наступления, — перебила я его. Григорий Амвросиевич как-то сразу осекся. Но, желая успокоить меня, он придумывал новые доводы. — А знаешь, его могли ранить… в правую руку, и он не может писать… Может, он в госпитале. Или выполняет такое боевое задание, что о себе невозможно дать знать. На войне всякое бывает… Зачем отчаиваться, Будем надеяться, что он жив и здоров. И я надеялась. Я уже знала, что произошло самое страшное, материнским сердцем чуяла. Но я заставляла себя думать, что этого не может быть. Как я боялась новой катастрофы! В последних числах декабря 1944 года после освобождения Молдавии мы с мужем вернулись на родину моих сыновей. Писем от Михаила все не было, и 7 января 1945 г. я послала письмо командиру части, в которой служил Михаил, с просьбой сообщить мне о сыне. И вот в середине марта 1945 года пришел ответ, которого я так боялась: «Ваш сын убит 6 августа 1944 г.». Извещение о смерти Михаила муж получил еще в Краснодоне и просил всех родителей молодогвардейцев скрывать от меня правду. Только когда я получила письмо от командира части, муж показал мне извещение. Я была в отчаянии. Все кончилось для меня. Казалось, жить дальше нет смысла, сердце не в состоянии вынести столько горя — не выдержит. Но оно выдержало… Все выдержало… Много дней была я безразлична ко всем и всему. Ко мне приходили сослуживцы. Они искренне сочувствовали моему материнскому горю, рассказывали о новых победах наших войск, о том, что война идет уже не на нашей земле и скоро придет ей конец, что много страданий пришлось перенести нашему народу во имя победы над врагом. Сердце, оказывается, все может вынести. Любое горе, даже самое страшное, человек может пережить. И я пережила свое горе. Только на всю жизнь осталась эта кровавая рана, а страшное, ужасное несчастье сделало совсем белой мою голову.
ПАМЯТИ ОТВАЖНЫХ
Вскоре после окончания войны в Краснодоне был открыт музей «Молодой гвардии». Сначала он размещался в домике, где жил Олег Кошевой. Но с каждым годом количество экспонатов, отражающих героическую деятельность комсомольцев-подпольщиков, увеличивалось, и музей перевели в более просторное помещение. Со всех концов Советского Союза и из-за рубежа приезжают сюда десятки тысяч людей. В скорбном молчании проходят они по залам музея. С портретов смотрят на них ставшие такими родными и близкими лица членов штаба «Молодой гвардии»: улыбающееся, с ясным и твердым взглядом лицо Олега Кошевого; открытое и умное Ивана Земнухова; задумчивое прекрасное лицо Ульяны Громовой; смущенное, но затаившее в себе небывалую храбрость и находчивость Сергея Тюленина; жизнерадостное с мягкой улыбкой и лукавинкой во взгляде Любы Шевцовой: серьёзное и мужественное Ивана Туркенича, погибшего на фронте в 1944 году. Здесь висят портреты и рядовых молодогвардейцев, о боевых делах которых рассказывается в романе А. Фадеева. Рядом портреты руководителей большевистского подполья коммунистов Лютикова и Баракова. На картинах и фотографиях отображены важнейшие эпизоды из боевой деятельности «Молодой гвардии». За стеклянными витринами выставлены пожелтевшие листовки, временные комсомольские билеты, отпечатанные в тайной типографии. В музее собраны личные вещи членов «Молодой гвардии»: книги, ученические тетради, дневники. Здесь можно увидеть пальто Сергея Тюленина, вышивки, которыми так любили заниматься Майя Пегливанова, Нина Минаева, Тося Мащенко. В бутылке хранится большой огурец, выращенный Сережей Левашовым. Стоит здесь и крупорушка, сделанная моим сыном Борисом в тот страшный день. В книге отзывов — тысячи записей на различных языках. Старшина Макаров, кавалер ордена Славы, пишет:«Римляне свято чтут память юноши Сцеволы, отдавшего руку на сожжение в знак того, что он не откажется от республиканских идей. Это великий подвиг, но перед тем, что сделали герои Краснодона, подвиг Сцеволы бледнеет. Юноши и девушки нашей страны всегда будут помнить о вас, дорогие товарищи!»…Двенадцатое сентября 1954 года навсегда останется в моей памяти. В этом день в Краснодоне состоялось открытие памятника молодогвардейцам. Погода стояла теплая, солнечная, и в городе с утра царило необычное оживление. У памятника заканчивались последние приготовления: поливали цветы, прибивали портреты, вывешивали лозунги. Сюда съехались многочисленные делегации, представители молодежи со всех концов страны. Митинг открыл секретарь ЦК ЛКСМ Украины тов. Шевель. Выступили на митинге секретарь Ворошиловградского обкома партии тов. Клименко, проходчик шахты имени Олега Кошевого тов. Чураков, член подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» учительница Нина Иванцова. Под звуки государственного Гимна Украинской ССР тов. Шевель перерезает ленточку. Покрывало падает и обнажает стоящую на постаменте из серого и розового гранита бронзовую скульптуру высотой в 12,5 метра. Она изображает молодогвардейцев в момент принесения клятвы на верность Родине. На памятнике надпись:
«Героям «Молодой гвардии» от Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины».Много цветов растет у подножия памятника. Много людей приходит каждый день к нему.
СНОВА В МОЛДАВИИ
В первых числах января 1945 года подъезжали мы к селу Царьград. И невольно вспомнилось мне, как 25 лет тому назад, молодая, полная сил и энергии, с душевным трепетом перед незнакомой мне жизнью въезжала я в это село. Здесь родились и провели свое детство мои сыновья. Здесь наша дружная семья была вместе. Вместе жили, вместе верили, что наступит лучшая жизнь. Грянула война. Сколько бед принесла она нашему народу, сколько горя! Самое дорогое для матери — дети. Их я потеряла на войне. Мы вернулись в Царьград постаревшие, осиротевшие. И домик наш, кажется, постарел и сгорбился от невзгод и испытаний. Он будто согнулся от горя на пустом дворе, и ветер пронизывает его худые стены. Ни одного дерева вокруг него, только кое-где торчат черные пни. Оккупанты уничтожили все: любовно выращенный нами сад, виноградник, цветник. Я сажусь на уцелевшую скамейку и смотрю на крыльцо. И мне все кажется, что вот сейчас выбегут на него Боря и Миша с ведерками и лопаточками в руках, и мы втроем отправимся поливать грядки и цветы. Но дом молчит. Никогда больше я не услышу голосов моих сыновей. Никогда не пробежит по улицам села Миша, никогда не запоет свою любимую «Кодруле, кодруцуле» Боря… Никогда! Трудно поверить, что мы, старые, живы, а их нет на свете. Трудно. В селе люди знают о подвиге молодогвардейцев и о мученической смерти Бориса. По вечерам у нас бывают односельчане. Они подолгу засиживаются, расспрашивают о боевых делах комсомольцев Краснодона, восхищаются их смелостью и мужеством, рассказывают о том, что натворили гитлеровцы в Царьграде. И мне опять вспоминаются июльские вечера 1919 года, когда к нам, только что приехавшим из России, вот так же шли люди и с живым интересом расспрашивали о революции, о Ленине, о победах Красной Армии в гражданской войне. Четверть века прошло с тех пор, новое поколение людей выросло за это время, поколение, которому рядом со старшими выпала большая честь — отстоять завоевания Великого Октября. Я брожу по селу, и меня невольно тянет в те места, где часто бывали Боря и Миша. Вот каменная школа — в ней учились мои сыновья. Сохранилась парта, за которой сидел Борис. Теперь за ней сидят лучшие ученики, отличники учебы. Мне вспоминается теплый сентябрьский день 1926 года, когда я за руку вела шестилетнего Борю в первый класс. Как давно это было… и как будто вчера. Царьградцы чтут память своего земляка. На нашем домике установлена мемориальная доска, на которой золотятся буквы:Именем Бориса назван сельский клуб. Тридцатого октября 1945 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета Молдавской ССР:ЗДЕСЬ В 1920 ГОДУ РОДИЛСЯ БОРИС ГЛАВАН —
УЧАСТНИК ПОДПОЛЬНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В ГОРОДЕ КРАСНОДОНЕ
«Идя навстречу пожеланиям крестьян села Царьград, Дрокиевского района, Сорокского уезда, в целях увековечения памяти погибшего смертью героя члена подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», верного сына молдавского народа Бориса Главана, переименовать село Царьград, Дрокиевского района — родину Бориса Главана — в село Главан».Педагогическому училищу в Бельцах, в котором учился Борис, и Дому пионеров в Сороках присвоено имя Бориса Главана. У здания педучилища возвышается памятник Борису. С ранней весны и до поздней осени цветут вокруг него цветы. Весной 1946 года тяжело заболел мой муж. По совету врачей, нам пришлось переехать в Кишинев. В жаркий июльский день покидали мы село Главан. Многие пришли проводить нас. Когда мы выехали из села, я долго оглядывалась, стараясь не потерять из виду наш домик, с которым связано столько воспоминаний. Но вот дорога спустилась в лощину, и родное село скрылось за холмом. На этой дороге в июне 1940 года Боря и Миша встречали наших освободителей — бойцов Красной Армии. Жадно ловили они каждое слово о советской молодежи, страстно мечтали, вступая в новую жизнь, заслужить право называться настоящими советскими людьми. Вспоминая теперь о жизненном пути моих сыновей, я думаю: они заслужили это право.
…Почти каждый год я или муж бываем в бывшем Царьграде. Не узнать теперь старый Царьград. Колхоз, названный именем Бориса, объединяет 875 крестьянских хозяйств. Высокой стеной шумит золотое море колхозной пшеницы. Гудят тракторы, комбайны. Богато и культурно живут колхозники. Немало в селе людей со средним и высшим образованием. В 1953 году здесь была открыта школа-десятилетка, расширен клуб, работают библиотека и вечерняя школа. Десятки юношей и девушек села Бориса Главана учатся в высших учебных заведениях Кишинева, Москвы, Киева, Одессы. В послевоенные годы здесь выросли свои учителя, агрономы, врачи, зоотехники. А по воскресеньям, в праздники, как и прежде, когда были живы мои дети, молодежь собирается в центре села напротив нашего домика. Взявшись за руки, юноши и девушки веселым кругом отплясывают «Жок», «Молдовеняску» или поют песни о счастье, в борьбе за которое отдали свою жизнь Борис и Михаил, мои дорогие сыновья.
ФОТОГРАФИИ
 Дом в селе Царьграде (ныне село Главан), в котором родился Борис Главан.
Дом в селе Царьграде (ныне село Главан), в котором родился Борис Главан.
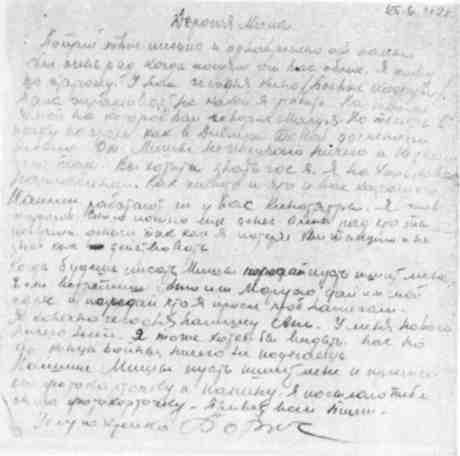 Письмо Бориса домой с фронта.
Письмо Бориса домой с фронта.


 Иван Туркенич.
Иван Туркенич.
 Олег Кошевой.
Олег Кошевой.
 Иван Земнухов.
Иван Земнухов.
 Ульяна Громова.
Ульяна Громова.
 Сергей Тюленин.
Сергей Тюленин.
 Василий Левашов.
Василий Левашов.
 Любовь Шевцова.
Любовь Шевцова.
 Виктор Третьякевич.
Виктор Третьякевич.
 Памятник в Краснодоне героям «Молодой гвардии».
Памятник в Краснодоне героям «Молодой гвардии».


Последние комментарии
8 часов 45 минут назад
13 часов 4 минут назад
14 часов 51 минут назад
16 часов 5 минут назад
17 часов 11 минут назад
18 часов 20 минут назад