Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен [Александр Анатольевич Сидоров Фима-Жиганец] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Александр Сидоров Я помню тот Ванинский порт

Продолжение книг «Песнь о моей Мурке» и «На Молдаванке музыка играет» — история великих лагерных песен «Бывший урка, Родины солдат», «Идут на Север этапы новые», «Я помню тот Ванинский порт», «На Колыме, где тундра и тайга кругом», «Не печалься, любимая», «Начальник Барабанов дал приказ»
Москва / ПРОЗАиК 2013 Дизайн Петра Бема Иллюстрации Александра Егорова © Сидоров А. А., 2013 © Егоров А. Л., иллюстрации, 2013 © Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2013
* * *
Посвящаю своей жене Светлане, без которой эта книга не была бы написанаСуп из лагерного топора
В поисках пятого смысла
Когда я сел за книгу о лагерных песнях… Двусмысленное начало. Слава богу, сейчас за лагерные песни не сажают. Но, перекрестясь, зачин всё-таки изменим: когда я взялся за создание книги о лагерных песнях… Да, так лучше. Так вот: когда я решил написать новую книгу, то не подозревал, сколько сил, энергии, жизненных соков она из меня высосет. Ведь до этого уже вышли в свет два тома моих исследований уголовно-арестантского и уличного песенного фольклора — «Песнь о моей Мурке» и «На Молдаванке музыка играет». Не скажу, что они написаны единым росчерком пера. Историко-филологические разыскания всегда требуют от автора немалых усилий и кропотливых поисков. Но работалось мне легко и даже с куражом. То и дело — неожиданные открытия, удивительные параллели, занимательные лингвистические экскурсы… «Все жанры хороши, кроме скучного», — говаривал Вольтер. Это особенно справедливо для дисциплин гуманитарных. При этом, конечно, нельзя забывать о предмете, который изучаешь: о добросовестной аргументации, логике изложения и прочих милых пустяках, до которых читателю нет никакого дела. Но автор должен помнить, что серьёзные люди с лупами, мелкоскопами и критическим складом ума всегда готовы подвергнуть книгу, представленную на их суровый суд, детальному постраничному, построчному и даже побуквенному разбору. Приходится метаться между Сциллой и Харибдой, пытаясь угодить и пёстрой толпе, и тонкому слою интеллигенции. Проще говоря, и рыбку съесть, и на сковородку не сесть. Увы, не всегда удаётся соблюсти зыбкий баланс между научностью и увлекательностью. Так, некоторые педанты пеняли автору на то, что его труды недостаточно академичны и научные принципы нередко уступают место эмоциональности, ироничности и вообще беллетристике. Однако сам автор упорно продолжает считать эти недостатки достоинствами. Наука наукой, а увлекательность повествования всегда стоит на первом месте. Потому что изыскания мои предназначены не столько для учёных мужей (и жён), сколько для широкой публики — в число которой, впрочем, входят и упомянутые мужи. С другой стороны, издатели сетуют на то, что автор слишком глубоко копает и тщательно разжёвывает. Наверное, они в какой-то мере правы. Когда Алексей Костанян — главный редактор издательства «ПРОЗАиК» — обратился ко мне с предложением выпустить серию книг об истории известных блатных песен, он сформулировал идею примерно так: — Выберем песен 50–70, о каждой вы расскажете: когда родилась, кто авторы — известные или возможные, о каких событиях повествует, приметы времени, криминальный быт и жаргонные термины… Я закопался в материал — и в результате первая книга «Песнь о моей Мурке» вместо рассказов о 70 песнях содержала очерки всего о 14… А её объём составил почти 400 страниц! То есть на деле песен вошло значительно больше: одних только вариантов «Мурки» не менее восьми, версии «Гоп со смыком», «Постой, паровоз», «Цыплёнок жареный»… Попутно рассказывалось о многих других низовых песнях — «Гоп-стоп, Зоя», «Я парень фартовый», «В далёкой знойной Аргентине» и пр. Читатель узнал и о неблатных песнях: «Там, где Крюков канал», «Шли два героя», «Чёрная роза», о пародиях на блат («С берлинского кичмана», «Коктебля»). А быт и нравы, история одежды, торговли, даже принцип действия тормоза Вестингауза… И всё же факт остаётся фактом: замысел книги здорово отличался от воплощения. И это бы полбеды. Но вторая книга о блатном песенном фольклоре «На Молдаванке музыка играет» включила в себя очерки лишь о семи уголовно-арестантских песнях. Между тем исследование оказалось более объёмным, нежели первое. Разумеется, и новый сборник включал в себя фейерверк сопутствующих песен: криминальных и народных, былин, детского фольклора, частушек… Однако редактор с тревогой отметил, что при подобном развитии событий количество очерков в третьей книге будет ещё меньше: — Я понимаю, о каждой песне можно написать отдельную книгу. Но вас порою заносит несколько в сторону, вы настолько увлекаетесь, что начинаете поиски четвёртого или пятого смысла… Я обещал не зарываться ниже третьего смысла. На том и порешили. И вот, завершив третью книгу — о песнях советских лагерей, я с ужасом осознаю, что Костанян оказался провидцем. Очередной том моих блатных изысканий действительно уступает по числу очерков предыдущему! В чём же причина? Неужели я и впрямь докопался до пятого смысла?Вспомнить всё…
Думаю, дело совсем в другом. Третья книга серьёзно отличается от первых двух. Она посвящена исключительно ЛАГЕРНЫМ ПЕСНЯМ — ироничным и шуточным, трагичным и обличительным… Да, песни эти разные, однако их объединяет то, что все они рождались в условиях неволи и мрака. Что не могло не сказаться на их содержании и на особенностях метода их исследования. История советских лагерей, увы, до сих пор — терра инкогнита. Она состоит во многом из публицистического бреда, создаваемого на основе произвольно надёрганных и часто сомнительных фактов; из арестантских баек и лагерных «параш»; из мемуаров, которые не подвергаются критической оценке и проверке документами, и т. д. Даже рассказы, воспоминания, письма такого великого авторитета, как Варлам Шаламов, зачастую полны неверной информации, неточностей, ложных оценок событий и людей. Все мы люди — а людям свойственно ошибаться. Тем более во времена Шаламова и многих других достойных авторов было недоступно большинство документальных источников, статистических данных, внутриведомственных справочно-отчётных материалов, которые не подделаешь и не сфальсифицируешь. А знакомство с ними часто заставляет совершенно иначе посмотреть на то или иное событие. Сегодня огромные пласты этих документов доступны. Появляется множество серьёзных научных работ по ГУЛАГу и преступности сталинского периода. Однако в общественном сознании всё ещё преобладают пафосно-параноидальная мифология и стилистика времён хрущёвской «оттепели» и горбачёвской «перестройки». Поэтому, комментируя песни, приходится одновременно давать читателю более объективную, близкую к реальности картину событий. А для этого необходимо рушить многие устоявшиеся мифы — хотя бы нелепые утверждения о том, что через колымские лагеря прошли миллионы узников, и многие другие. То есть заниматься социальным ликбезом — в рамках рассказов об арестантском песенном фольклоре. И рассказы о песнях, комментарии к ним должны быть ещё глубже, подробнее, чем в первых книгах. Простой пример: песня «Идут на Север этапы новые, кого ни спросишь, у всех Указ…». Первый же вопрос: о каком указе идёт речь? В тексте не поясняется. А ведь это связано и с датировкой песни, и с её первоисточниками, и с другими обстоятельствами. Представьте себе: в разных источниках существуют ссылки на совершенно разные указы и постановления! Как определить единственно верный документ, побудивший лагерников создать свой фольклорный шедевр? Необходимо каждую версию тщательно проанализировать — и оставить лишь одну. Рассмотреть детально все за и против и при этом не утомить читателя излишней статистикой, кипами документов и т. д. Сохранить увлекательность повествования. Вот задачка! И она ещё — не самая сложная. Возьмём песню «Бывший урка, Родины солдат» — о блатном фронтовике. И как же здесь обойтись без рассказа о штрафбатах и штрафротах, о «блатных партизанах», об уголовных преступлениях советских солдат на своей и чужой территории? И, конечно же, о знаковом событии послевоенного ГУЛАГа — знаменитой резне «честных воров» и предателей «блатного братства», ставших на сторону лагерного начальства. То есть — о печально известной «сучьей войне»… Центральное место в книге занимает песня «Я помню тот Ванинский порт» — гимн колымских зэка. Она разобрана фактически построчно. Автор попытался написать не только исследование о советских лагерных песнях, но и представить новый взгляд на историю ГУЛАГа — взгляд, который отличается как от точки зрения Александра Солженицына, так и от точки зрения его идейного противника Варлама Шаламова. Вот именно поэтому книга далась мне тяжело и очерков в ней меньше, чем в предыдущих.А что такое глобус?
Но не стоит пугаться. На первом месте в моих исследованиях по-прежнему стоит занимательность. В этом смысле довольно оригинально, но вместе с тем достаточно точно мой подход к теме и принцип подачи материала объясняет рецензия в еженедельнике «Книжное обозрение» на второй том очерков о блатных песнях: «Креативный педагог приходит на урок географии в “трудный” класс — там, естественно, дым коромыслом и на географию все класть хотели с прибором. — Ну что, шпана, — не теряясь, бодро спрашивает педагог, — кто мне ответит, можно ли натянуть презерватив на глобус? — Гыыыы-гыгы!!!.. Эээ, а глобус — это что? — А вот об этом, дети, мы сейчас и поговорим… О презервативах в новой книге исследователя уголовно-арестантской субкультуры Александра Сидорова нет ни слова, но занимается он тем же благородным делом, что и приколист-географ из анекдота». И далее идёт расшифровка этого сравнения. Рассказывая о неожиданных открытиях, с которыми он столкнулся в книге, автор рецензии пишет: «Начиная весело копаться в любопытных деталях блатного быта начала прошлого века, неизбежно приходишь к Истории, в которой, как известно, всякое малое таит в себе большое. И в руках у тебя оказывается глобус Советской России — причудливый, конечно, с неизведанными областями и нарисованными чудами-юдами, но учиться по нему можно и нужно». И добавляет: книга «немного похожа на уголовное расследование, немного — на одну из тех чудо-машин, где всё начинается с того, что шарик падает в желоб и куда-то катится, а дальше может произойти что угодно, и ещё немного — на расширяющуюся Вселенную». Знаете, мне очень по душе цитировать умных людей. Потому что порою сам ты не можешь сформулировать нужную мысль — даже если она касается твоего собственного произведения. А ежели есть человек, который способен это сделать предельно ёмко и точно, — зачем же себе голову напрасно ломать? Поэтому не удержусь от цитирования другого критика, чья точка зрения мне очень близка, — Наума Нима, который опубликовал заметки о моих книгах в «Московском книжном журнале»: «Для меня оказался чрезвычайно симпатичным исследовательский метод Александра Сидорова… автор совсем не предлагает нам экстраполяцию истории страны по её блатным и приблатнённым песням. Он затягивает нас в интересные приключения, в которых блатная песня играет для автора роль путеводной карты с неожиданными поворотами, переходами и находками. Песенная строка или одно какое-то словцо — это повод для занимательного путешествия в мир слов, или в бытовую жизнь, или в историю Беломорканала, и при этом заранее трудно угадать, куда именно автор утянет внимательного читателя в следующем эпизоде своего исследования. А самое замечательное, что практически любой и даже очень подготовленный читатель найдёт в этих путешествиях что-нибудь интересное и до той поры ему неведомое… Именно мимо этих песенок все мы когда-то прошмыгивали, втянув голову в плечи и мечтая стать невидимыми для собравшихся там, вокруг дренькающей гитары, пацанов. Это был иной мир, презиравший наши книжные занятия, и теперь очень правильно заглянуть в тот мир зазеркалья именно с высоты наших знаний, с багажом именно нашей эрудиции и культуры. Только так безопасно касаться блатного мира. Без этого он затягивает в воронку ложной самодостаточности, а в том, как это опасно, мы убедились в начале 90-х, когда блатные песенки утянули из нашего мира (а в большом количестве и из жизни) очень многие молодые души, не обременённые книжными знаниями и книжной культурой». Книга, которую ты раскрыл, читатель, во многом написана при помощи метода, который столь симпатичен Науму Ниму и многим другим. Уходя от смелой метафоры с глобусом, я бы определил такой подход иначе — «суп из лагерного топора». Помните старую русскую сказку, когда солдат принялся варить для старухи суп вроде бы из одного только топора, но постепенно туда добавлялись картофель, мясо, соль, приправы и прочее? А в конце концов вышла знатная похлёбка — что чрезвычайно поразило жадную старуху. Так и в нашем случае. Лагерный топор — не случайная метафора. В послевоенном ГУЛАГе существовала поговорка — «За стукачом (за сукой) топор ходит». То есть гад всё равно не избежит смерти. То есть топор — в определённой мере символ лагерной жизни и её законов. Рассказывая об арестантском быте, испытаниях и муках, о тюремных традициях и воровских понятиях, о лагерной любви, мы одновременно затрагиваем множество других чрезвычайно важных тем, прикасаемся к истории родной страны — тех её сторон, о которых многие даже не догадываются. И автор надеется, что вкус его похлёбки придётся читателю по душе.Александр Сидоров
Как блатные фронтовики оставили в память о своих подвигах любовную песню «Бывший урка, Родины солдат»



Незаконные герои
Тема «блатных фронтовиков» приобрела особую популярность после выхода далёкого от действительности сериала «Штрафбат» (режиссёр Николай Досталь, сценарист Эдуард Володарский). А впервые ярко создал образ штрафников Владимир Высоцкий: его песенная дилогия «В прорыв идут штрафные батальоны» и «Нынче все срока закончены» написана в 1964 году. Однако у Владимира Семёновича речь идёт о героическом мифе, созданном в условиях информационного вакуума вокруг информации о штрафных подразделениях. Причём мифология в основном связана со стихотворением «Нынче все срока закончены»:Штрафники без «распальцовки»
На фронт сидельцев ГУЛАГа стали отправлять в первые военные месяцы. Уже 12 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издаёт указ «Об освобождении от наказания осуждённых по некоторым категориям преступлений». Он не затрагивает лагерников, отбывающих наказание по 58-й «политической» статье, и профессиональных уркаганов. Свободу получают осуждённые за малозначительные преступления, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО), угодившие в неволю по указу от 28 декабря 1940 года — за нарушение дисциплины и самовольный уход из училища (школы). 24 ноября 1941 года действие указа распространяется также на бывших военнослужащих, осуждённых за малозначительные преступления, совершённые до начала войны. Все освобождённые направлялись в части действующей армии. Всего мобилизуется более 420 тысяч заключённых, годных к военной службе. К такому шагу руководство страны подтолкнули тяжёлая обстановка на фронтах и огромные потери Красной Армии. Заметим: речь идёт об отправке бывших зэков в обычные части действующей армии! В 1941 году не существовало штрафных подразделений, о которых пел Высоцкий:Почему урки стали патриотами
Однако подразделения «русских камикадзе» под огнём противника быстро редели. А к началу 1943 года «дезертиров, трусов, паникёров и малодушных» становится катастрофически мало! Красная Армия теснит противника. Разгром фашистов под Сталинградом (февраль 1943 года) перерос в наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа. В конце августа 1943 года немцы потерпели сокрушительное поражение на Курской дуге. И тогда «творческий гений» Сталина подсказывает выход: пополнить штрафные части… бывшими уголовниками! В 1942–1943 годах специальными постановлениями ГКО СССР на фронт направляется более 157 тысяч бывших заключённых. Преувеличивать роль именно блатных штрафников не стоит. Да, за годы войны исправительно-трудовые лагеря и колонии передали в действующую армию более миллиона человек. Но из них только 10 % были направлены в штрафные подразделения, большинство же пополнило обычные маршевые части. К тому же далеко не все заключённые относились к числу профессиональных уголовников. Вспомним, что свыше 400 тысяч «бытовиков» ушли из лагерей на передовую в первые месяцы войны. Они же в значительной части шли на передовую и в дальнейшем. А лагеря активно пополнялись новыми сидельцами. Смертность в ГУЛАГе приобретает во время войны ужасные масштабы, и руководство страны раскручивает маховик репрессий, стремясь пополнить контингент дешёвой рабочей силы. Во второй половине 1941 года советскими судами и военными трибуналами осуждено 1 339 702 человека, из них 67,4 % — к лишению свободы. В первой половине 1942 года число осуждённых достигло 1 396 810 человек, из которых 69,3 % приговорены к лишению свободы. И далее в том же темпе. Уголовных добровольцев толкал на фронт не только патриотизм. Выбор диктовался лагерной обстановкой. Выжить в ГУЛАГе первых военных лет было сложно. Отбывавший в то время срок Лев Разгон в мемуарах «Непридуманное» рассказывал: «Рабочий день был установлен в десять, а у некоторых “энтузиастов” и в двенадцать часов. Были отменены все выходные дни. И конечно, немедленно наведена жесточайшая экономия в питании зэка… В течение двух-трёх месяцев зоны лагеря оказались набитыми живыми скелетами. Равнодушные, утратившие волю и желание жить, эти обтянутые сухой серой кожей скелеты сидели на нарах и спокойно ждали смерти. К весне 42-го лагерь перестал работать». Страшную картину подтверждают официальные данные. В 1940 году в лагерях умерли 46 665 человек. В 1941-м ГУЛАГ похоронил 100 997 человек. В 1942-м — 248 877… Значительно сократились нормы питания, а нормы выработки постоянно возрастали. В феврале 1942 года была введена инструкция, которая разрешала применять оружие при отказе заключённых приступить к работе после двукратного предупреждения. Как пишет профессор С. Кузьмин в работе «ГУЛАГ в годы войны», всё это привело к тому, что «за годы войны в местах лишения свободы от болезней и вследствие иных причин умерли почти 600 тысяч человек, то есть почти столько, сколько в блокадном Ленинграде». Согласно статистике ГУЛАГа, самыми страшными годами для лагерников стали 1942–1943 годы. В 1942-м смертность достигла 20,74 %, в 1943-м — 20,27 %. Для сравнения приведём статистику предвоенных лет: 1939-й — 3,79 %, 1940-й — 3,28 %, 1941-й — 6,93 %. Так что фронт порою выглядел для «бытовиков» куда предпочтительнее. Что касается «блатного братства», оно не стремилось на передовую. И всё же с 1943 года на фронте оказалось немало блатных — тех самых, которые прежде считали позорным взять оружие из рук власти. Такое решение пришло не сразу. Наиболее стойкие стремились любыми путями выжить в лагерях. Перелом в сознании части блатарей произошёл в начале 1943 года после Сталинграда, но особенно — к осени 1943-го после Курской битвы. Дело не в призрачной свободе (год на фронте засчитывался за три, но у воров и примыкавших к ним босяков-уголовников сроки и без того были невелики). И не в желании выжить: либо ты сдыхаешь на зоне, либо получаешь на фронте хоть какой-то шанс уцелеть. Штрафные роты — не лучшее место для спасения жизни. Хотя многие уголовники с их авантюризмом и бесшабашностью предпочитали риск с надеждой на «фарт» безысходной смерти в лагерях. Надеялись на «первую кровь»: ранение — перевод в обычную часть — война в «нормальных» (по сравнению со штрафным подразделением) условиях. Ходили слухи о том, что в 1942 году собралась воровская сходка, на которой многие участники выступили за то, чтобы «законники» имели право защищать Родину. Однако подтверждений этому найти не удалось. Но была куда более важная причина. С 1943 года (когда Красная Армия стала вести исключительно наступательные бои) многие в воровском мире почуяли запах лёгкой добычи и желали (в случае, если повезёт) принять участие в её дележе: впереди лежала богатая Европа — прежде всего Германия, куда можно было войти победителем, с оружием в руках и с «праведным гневом». А там прямо по Высоцкому:Миф об «армии Рокоссовского» и правда об уголовном воинстве
Как воевали штрафники? Сохранилось немало свидетельств их высокой боеспособности. «Немцы штрафников особенно боялись — отчаянный был народ! — вспоминал ветеран Великой Отечественной И. Богатырёв. — Участки для боя давали самые тяжёлые… Лопатки за пояс, черенками вниз, так советовали, чтобы грудь прикрывать. И во весь рост!.. Скорее, убежит солдат обыкновенный. Или отступать будет, или в плен сдастся… А штрафники — нет, не сдавались». Вторит ему и бывший командир взвода 322-й отдельной штрафной роты 28-й армии М. Ключко: «Немцы штрафников боялись? Вы знаете, наверное, да. Ведь атака подразделения штрафников — это психическая атака людей, заведомо приговорённых к смерти. Отступать им было нельзя — только вперёд. Представьте себе людей, которые бегут на вас цепь за цепью и орут благим матом». Но есть и другое мнение. «Все эти россказни, что у немцев поджилки тряслись при виде атакующей штрафной роты, не имеют под собой никакой основы, — убеждён капитан в отставке, заместитель командира 163-й штрафной роты 51-й армии Е. Гольбрайх. — Немцам было глубоко плевать, кто на них идёт в атаку. Психологически, наверно, немцам было тяжело воевать против офицерских штрафных батальонов, слишком велико желание штрафбатовцев искупить свои “грехи” перед Родиной». Действительно, штрафные батальоны представляли для немцев куда большую опасность, нежели штрафные роты. Дело в профессионализме кадровых офицеров. Среди них были артиллеристы, танкисты и т. д., поэтому они легко могли использовать оставленную врагом технику. Немало примеров, когда захваченные орудия поворачивали в сторону фашистов, или штрафники-танкисты вели огонь из брошенных немцами самоходок. Штрафные роты, казалось бы, в целом мало отличались от маршевых. На весь фронт штрафников не напасёшься, так что на опасные участки фронта бросали всех. Правда, штрафников использовали исключительно там. Поэтому вероятность погибнуть в бою у них была в три, а порою в шесть раз выше, чем в обычной части. Подполковник в отставке А. Беляев, помощник начальника штаба 16-го отдельного штрафного батальона, вспоминал, что потери в подразделении достигали 50–70 %. Но нам важны подвиги именно блатных штрафников. Обратимся к очерку «Сучья война» Варлама Шаламова: «Во время войны сидевшие в тюрьмах преступники, в том числе и многочисленные воры-рецидивисты, “урки”, были взяты в армию, направлены на фронт, в маршевые роты. Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уголовного элемента. Из уркаганов выходили лихие разведчики, смелые партизаны. Природная склонность к риску, решительность и наглость делали из них ценных солдат». Заметим, что писатель нигде не использует слово «штрафники». Более того, подчёркивает, что уркаганы направлялись в маршевые роты, а не в штрафные. Действительно, штрафником становился лишь каждый десятый заключённый, направленный на фронт. Однако другое заблуждение Шаламов повторяет: утверждение о том, что из бывших заключённых состояла армия Рокоссовского. Легенда о «блатной армии» появилась ещё во время войны и успешно дожила до наших дней. В автобиографическом романе «Блатной» (1972) бывший вор Михаил Дёмин устами одного из персонажей говорит: «Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников». Такой миф легко понять, учитывая особенности биографии маршала. В августе 1937 года Рокоссовский был арестован по ложному обвинению в связях с японской и польской разведками. Несмотря на пытки, Константин Константинович не признал себя виновным и не оговорил никого из сослуживцев. В ленинградских «Крестах» ему выбили передние зубы, сломали три ребра, несколько раз «водили на расстрел». Спасло заступничество нового наркома обороны Тимошенко: 22 марта 1940 года Рокоссовский был освобожден и восстановлен в прежней должности. Существует даже красивая легенда по этому поводу. Якобы при освобождении будущему маршалу задали вопрос: какой армией он хотел бы командовать? И Константин Константинович, указав на колонну бредущих лагерников, бросил: «Вот моя армия». Разумеется, это — полная ерунда. Рокоссовский никогда не командовал «зэковской армией» и не стремился к этому, поскольку был профессиональным военным. А уж в 1940 году такой ответ можно было оценить как бредовый. Впрочем, легко отыскать источники возникновения подобной легенды. Один из них связан с другим военачальником Великой Отечественной войны, тоже бывшим зэком, — генералом армии Горбатовым, отмотавшим на Колыме срок с 1938 по 1941 год. После войны Александр Васильевич вспоминал, как в самый тяжёлый период первого года войны его разыскал представитель Ставки Г. М. Маленков. Ближайший сподвижник Сталина просил откровенно сказать, в чём Горбатов видит причину неудач и как, на его взгляд, можно переломить положение. В мемуарах «Годы и войны. Записки командарма» генерал вспоминал: «Сказать по совести, я удивился. Так с нами раньше такие люди не разговаривали. Сказал: прежде всего надо вернуть из лагерей арестованных командиров и направить на фронт». Маленков попросил Горбатова назвать имена тех, кого он лично знал и за кого может поручиться. Горбатов просидел всю ночь, составляя список и боясь забыть кого-то из репрессированных офицеров. Маленков взял список и заверил, что эти люди будут на свободе. Действительно, многие были освобождены и восстановлены в должности и звании. Возможно, именно этот эпизод народная молва перелицевала, заменив Горбатова Рокоссовским, а репрессированных командиров — обычными зэками. К слову сказать, на передовой воевали многие военачальники, прошедшие ГУЛАГ. Можно назвать маршала авиации Григория Ворожейкина, генерала Александра Лизюкова, который командовал 5-й армией и погиб под Воронежем, генерал-майора Владимира Зайцева — командующего 35-й армией, начальника штаба 3-й ударной армии генерал-лейтенанта Михаила Букштыновича… Кроме того, Рокоссовский в самом начале войны и впрямь отличился именно тем, что смог сплотить боеспособные соединения из разбитых и рассеянных частей Красной Армии. Так случилось под Смоленском, где командующий Западным фронтом Тимошенко приказал ему: «Собирай, кого сможешь собрать, и с ними воюй», выделил группу офицеров, радиостанцию и два автомобиля. Константин Константинович останавливал и подчинял себе остатки 16-й, 19-й, 20-й армий, которые выходили из Смоленского котла, и организовывал линию обороны. Он вспоминал в мемуарах: «Были здесь пехотинцы, артиллеристы, связисты, сапёры, пулемётчики, миномётчики, медицинские работники… Так началось в процессе боев формирование в районе Ярцево соединения, получившего официальное название “группа генерала Рокоссовского”». Затем эта группа была преобразована в 16-ю армию, командующим которой стал генерал-лейтенант Рокоссовский. То же самое произошло позже и под Москвой, где Рокоссовскому снова пришлось собирать армию из разношёрстных соединений: отдельного курсантского полка, созданного на базе Московского пехотного училища, 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, 3-го кавалерийского корпуса генерал-майора Льва Доватора… Эта армия отразила удар гитлеровцев и перешла в контрнаступление. А с 30 сентября 1942 года Рокоссовский уже командовал Донским фронтом, с февраля 1943-го — Центральным, с октября — Белорусским, с февраля 1944-го — 1-м Белорусским, с ноября 1944-го по июнь 1945-го — 2-м Белорусским фронтами. Если читатель хотя бы отдалённо представляет разницу между армией и фронтом, а также обратит внимание на постоянную смену фронтов, ему станет понятно, что в это время тем более ни о какой «зэковской армии» Рокоссовского речи быть не может. Однако сам Рокоссовский в книге воспоминаний «Солдатский долг» позволил себе выразить отношение к тем, с кем делил пайку: «Жизнь убедила меня, что можно верить даже тем, кто в своё время по каким-то причинам допустил нарушение закона. Дайте такому человеку возможность искупить свою вину, и увидите, что хорошее в нём возьмёт верх: любовь к Родине, к своему народу, стремление во что бы то ни стало вернуть их доверие сделают его отважным бойцом». Это свидетельствует о том, что на фронтах, которыми он руководил, воевали и бывшие зэки. К тому же, говоря об отрывке, который Шаламов посвятил «армии Рокоссовского», отметим аккуратность писателя в формулировке: «Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уголовного элемента». Здесь нет обобщений, как у Дёмина («почти вся армия состояла из лагерников»), но лишь подчёркнуто очевидное: «рокоссовцев» в народе считали выходцами из ГУЛАГа. Но ближе к делу. Нам ведь важно выяснить, как воевали блатари. А судя по отзывам, воевали они хорошо. Мне довелось беседовать с ветераном войны Иваном Александровичем Мамаевым. В 1943 году его изрядно поредевшая маршевая рота была пополнена бойцами из числа блатных. А вскоре под началом Мамаева оказались сплошь уголовники, поскольку в роту вливались в основном добровольцы из ГУЛАГа. Поначалу пополнение причиняло Мамаеву большую головную боль. Через сутки после прибытия уголовников у командира взвода исчез планшет с документами и деньгами. Ротный Мамаев выстроил бойцов-уголовников и выступил с короткой речью: — Пропала карта, которой должен руководствоваться комвзвода при выполнении предстоящего боевого задания. Придётся нам переть вперёд наобум. Кроме того, исчезли деньги, которые лейтенант хотел переслать своей семье — жене и маленькой дочке. Я не взываю к чувству сострадания. Просто подумайте, с каким настроением он будет поднимать вас в атаку и что он может натворить в таких расстроенных чувствах. Запомните: вы на фронте, а не на «малине». Здесь каждый «весёлый» поступок может стоить вам жизни. А теперь разойтись! Наутро планшет был на месте… Но позднее комроты сумел по достоинству оценить новых бойцов: «Побывав в боях, уголовники поняли, что их жизнь действительно зависит от высокой боевой подготовки, взаимовыручки и дисциплины. Поэтому даже во время учений никто не смел “филонить”, позволить себе проявить слабину. Так, во время одного из занятий по отработке пластунских передвижений на импровизированном плацу оказалась огромная лужа. Все бойцы ползли прямо по ней. Но один новичок из пополнения обогнул её по краю и пополз дальше. Тогда несколько штрафников поднялись, молча взяли ловкача за руки и за ноги и швырнули прямо в центр лужи. Провинившийся всё понял без дополнительных разъяснений». Это — эпизод учений. А вот какой колоритный образ уголовного героя рисует народный артист СССР Евгений Весник: «Восточная Пруссия, 1945 год. Как сейчас помню: не даёт немецкий пулемётчик, оставленный в арьергарде, провезти через полянунаши стопятидесятимиллиметровые пушки-гаубицы — тяжёлые, неповоротливые, прицепленные к мощнейшим американским тракторам “Катер-Пиллер Д-6”. Рядовой Кузнецов Василий — “беломорканальник”, осуждённый на 10 лет (как попал он на фронт — прямо из лагеря или побывав в штрафной роте и искупив свою вину кровью, — не помню), получил от меня приказ: пробраться к дому, из которого ведётся огонь, и ликвидировать огневую точку. Через полчаса пулемёт замолк. А ещё через десять минут Вася принёс затвор немецкого пулемёта и… голову стрелявшего немца. — Боже мой! Зачем голова? — вскричал я. — Товарищ гвардии лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор с брошенного пулемёта снял, а стрелявший сам ушёл… Я голову его принёс как факт, как доказательство! Я представил его к ордену Славы и первый раз увидел, как он плакал! Навзрыд! …Убеждён, что Вася в преступный мир не вернулся. Свою целительную роль сыграли доверие и поощрение!» Мы были бы рады разделить мнение Евгения Яковлевича. Но из рассказа видно, что герой Вася не отказался от прежних замашек. Обычай отрезать голову «для предъявления» — чисто гулаговский. Правда, практиковался он не столько зэками. Охота за «головками» представляла собой доходный промысел. За поимку беглых лагерников НКВД выплачивало охотникам Северной Сибири (а также карелам, казахам и другим аборигенам в местностях, где были расположены лагеря) премии деньгами и товарами — сахаром, мукой, мануфактурой, порохом и пр. Жак Росси в «Справочнике по ГУЛАГу» сообщает: «Так как поймать беглеца, а потом вести его по тундре трудно и опасно, его пристреливают, отрезывают голову и прячут от зверя. Когда соберется достаточно, мешок с “головками” погружают на санки или в лодку и отвозят “заказчику”. Мешок выглядит так, как если бы в нём были арбузы»… Интересно, что документы на выплату «премиальных» оформлялись счетоводами, которые чаще всего были заключёнными. Так что зэки легко перенимали «нравственные принципы» гулаговского начальства. Для Васи отрезание чужой головы было поступком совершенно естественным. Нужно доказательство — получите! Так же естественно и зарезать человека, который чем-то мешает, не то сказал или не так поступил. Назвать это результатом «осознанья и просветленья» язык не повернётся…Драп со смыком
Да, не следует идеализировать «блатную армию». Но дух уголовщины царил и в штрафных ротах, где воевали провинившиеся бойцы из обычных маршевых подразделений действующей армии. Приведём отрывок из рассказа бывшего штрафника Валерия Голубева: «В штрафной батальон[4] я из авиашколы попал. Колючей проволоки восемь рядов — только тени за ней проглядывают. Станция Овчалы, около Тбилиси… У многих штрафников война началась сразу, как только они пересекли ворота штрафбата. Там болтались “старики”, устраивали “проверку” вновь прибывших: кто позволял себя раздеть — раздевали… Эту дань переводили в деньги и давали, говорят, взятку начальству, чтобы их не отправляли на фронт. Они были те же штрафники, но сплотились, создали банду… Убийства происходили каждый день, вернее, каждую ночь. Кто успевал вскрикнуть, кто и так… Гибло много людей: один в карты проиграл, другого проиграли. Утром складывали трупы у ворот. За ночь собиралось два-три трупа, иногда — больше, штабель накладывался. Из вновь прибывших обычно мёртвыми оказывалось человек пять. Сначала было удивительно, потом к этому привыкли». Кому-то этот рассказ покажется диким: ведь речь не об уголовниках, а о бойцах обычного призыва! Но ведь и в маршевых частях воевало немало уголовников. Некоторые к моменту войны не успели «осесть» в лагерях: их не «замели» органы правопорядка. Зато под мобилизацию эти урки попали. Когда-то я беседовал со старым ростовчанином Владимиром Пилипко о блатном Ростове 1930-х годов. Владимир Ефимович был в те времена мальчишкой и жил на Тургеневской улице — вотчине ростовских карманников. Он завершил свой рассказ так: «А потом была война, на которую ушли и повзрослевшие малолетки, и “щипачи” — те, которые к 1941-му не успели угодить за “колючку”. Никого из них позже я не встречал. И немудрено: 90 процентов ребят из нашего района погибли на фронте. Война всех сравняла — и “жуликов”, и “фраеров”…» Уклонение от мобилизации каралось расстрелом. Других блатарей призвали с отсрочкой приговора. Разумеется, в армии такие бойцы-молодцы были основными кандидатами в штрафники. Любой командир в первую очередь избавлялся именно от них. А в штрафных ротах эти ребята насаждали свои «законы». Вообще, надо заметить, что преступники и на фронте оставались преступниками: в их среде привычным делом были пьянки, картёжные игры, поножовщина. Наклонности брали своё, и часто это оборачивалось трагически. Как вспоминал тот же Иван Мамаев, после штурма одной из вражеских высот в Крыму он поручил уголовнику из своей роты доставить в тыл захваченного вражеского офицера. Урка, перед тем как конвоировать гитлеровца, потребовал жестами от него: мол, снимай сапоги… — Отставить! — возмутился комроты. — Брось свои блатные замашки! Урка пожал плечами и повёл фашиста в тыл. А через некоторое время труп блатаря обнаружили на обочине дороги. Парень лежал босоногий, рядом валялись его же сапоги. Видно, всё-таки позарился на офицерскую обувку. А когда стал надевать, тут его фриц и «кончил»… Фронтовики из блатарей не брезговали грабежом, мародёрством, мошенничеством. Эта сторона их боевой жизни отражена в одной из военных переделок известной уголовной баллады «Гоп со смыком»:«Расписные» партизаны
Да, уголовников во фронтовом фольклоре не особо жаловали. Можно вспомнить ещё одну известную переработку «Гопа»:Вопли сингапурских обезьян и блузка девушки из Нагасаки
Конечно, рассказ об участии «блатного воинства» в боях против фашистов имеет отношение к герою песни — урке, защищающему Родину. И всё же пора перейти непосредственно к анализу текста, к источникам, возможным авторам и т. д. Некоторые исследователи вообще сомневаются в том, что песню можно отнести к произведениям блатного фольклора. Так, Майкл и Лидия Джекобсоны в объёмном труде, посвящённом песенному фольклору ГУЛАГа, приводя варианты текста, утверждают: «Бардовская песня, написанная под песню наиболее известной группы профессиональных преступников — воров в законе. Авторы не учли, что жулик, уркаган, т. е. вор в законе, не стал бы хвастаться своим служением в армии, а тем более наградами, так как служба в ней считалась нарушением воровского закона. Попав в лагеря после войны, воры обычно скрывали своё армейское прошлое». При этом авторы ссылаются на роман Михаила Дёмина «Блатной» и очерк Варлама Шаламова «Сучья война». Увы, Джекобсоны абсолютно не понимают смысла процессов, происходивших в воровском мире во время и после войны. А посему их ссылки на Дёмина и Шаламова бессмысленны. Ведь в названный период происходит раскол в блатном мире, и если «честные воры» действительно резко негативно относятся к тем, кто принял оружие из рук Советской власти, то значительная часть воевавших воров — «сук» — как раз считает защиту Родины предметом гордости. Эти разногласия привели к так называемой «сучьей войне». И в целом работа Джекобсонов, при всём уважении к многообразию собранного материала, зачастую не выдерживает критики. Так, к «народным» в ней причислены песни Александра Розенбаума «На улице Гороховой ажиотаж», «Мне пел-нашёптывал начальник из сыскной», Юза Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой учёный», Александра Новикова «Я вышел родом из еврейского квартала», Рудольфа Фукса «А ну, милорд, нажми аккорд» и т. д. В то же время мы вынуждены разочаровать составителей сборника: песня «Бывший урка, Родины солдат» бардовской не является. Она типично уголовная и относится к военному и послевоенному времени. Так, на сайте «Музей шансона» пользователь под ником «Игорь» пишет: «Версия о том, что песня появилась во времена “оттепели”, отпадает. Будучи курсантом военного училища, я распевал её с друзьями в 1957 году. А её привёз наш однокашник Э. Шаповалов, который был родом из Одессы. Так что она появилась много раньше». И всё же свидетельств очевидцев недостаточно для окончательного вывода. Не помогает и обращение к мелодии. Романс о героическом уркагане написан на мотив, очень популярный в уголовном мире. На эту музыку создано множество блатных песен — например, «Вот уж год, как я пропал в тумане», «На заливе тает лёд весною», «Здравствуй, мать, сестрёночка Галина» и пр. Однако неясно, созданы эти песни раньше «Урки» или позже. Можно лишь констатировать, помимо идентичности музыки, совпадение тональности текстов: расставание, тяжкие испытания, надежда на встречу в будущем. Не слишком много даёт и сравнительный анализ вариантов — хотя их существует великое множество. В значительной части они представляют собой поздние переделки канонического текста. Скажем, есть среди них и такая:«Вышка» отменяется, или Загадка «блатных орденов»
Но всё это, повторим, не помогает нам определить времени создания песни об урке-солдате. Есть, однако, другая зацепка — блатная песня «Письмо подруге»:Итак, «Письмо подруге» написано, судя по реалиям, не ранее 1947 года. Возражения о том, что и прежде уголовникам могли заменять расстрел длительными сроками, не очень состоятельны. До войны в УК РСФСР существовали только две расстрельные статьи — «политическая» 58-я (со всеми пунктами) и «бандитская» 593 (пятьдесят девять дробь три, или, как мрачно именовали её уголовники, «гроб три»). Во время войны в лагерях практиковались расстрелы за саботаж (прежде всего за отказ от работы и «мастырки», т. е. членовредительство), а попавшихся на свободе уркаганов в случае страшных преступлений просто расстреливали на месте. Правда, перед войной, чтобы сбить чудовищную волну городского хулиганства, следствие нередко квалифицировало хулиганские действия против военных, коммунистов, комсомольцев, представителей органов власти как «политические» преступления (подпадавшие под 58-ю статью), и дело доходило до расстрела. Однако в этом случае статья как раз намеренно ужесточалась, чтобы показательно уничтожить хулиганов. Добиться пересмотра такого приговора было почти невозможно. Бандитам до войны расстрел заменяли чаще, но это тоже было, скорее, мерой исключительной. Вообще же уголовники получали обычно не слишком значительные сроки наказания (исключая так называемых «тридцатипятников» начала-середины 1930-х годов, которым давали до 10 лет лишения свободы, чтобы послать на «великие стройки»). В основном же волна расстрелов прокатилась после 1945 года, когда страна была охвачена бандитизмом. Именно поэтому отмена «вышки» в 1947 году так впечатлила профессиональных преступников и послужила поводом для создания песни. Однако всё это позволяет уточнить дату создания «Письма подруге», но не «Урки». Того могли сочинить и по мотивам «Письма», влепив «блатные ордена». А затем эти ордена проникли в новые версии «Письма».
Байки у рыбацкого костра
И всё же в своих поисках я вроде бы наткнулся на разгадку тайны. Оказалось, есть человек, которому известно и время создания песни о фронтовике-уркагане, и даже имя её сочинителя. Открыл завесу тайны Владимир Борисович Свинцов — на Алтае фигура известная. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры, он был ответственным секретарём Алтайской краевой писательской организации, главным редактором журнала «Барнаул». После смерти писателя была учреждена литературная премия его имени. Об авторе «Урки» Свинцов поведал в рассказе «Павел Николаевич», который вышел в 2006 году. Писатель описывает, как во время рыбалки на него набрёл немолодой мужчина с рюкзаком за плечами. Незнакомец напросился на ночёвку. Автор отмечает, что руки рыбака были усыпаны татуировками — здесь было и его имя, и «не забуду мать родную», и солнце с синими лучами… «Приятным, немного с хрипотцой, голосом Павел Николаевич как бы не пел, а рассказывал:От «Письма подруге» к «Письму жене»
К тому же на сайте «Музей шансона» неожиданно нашёлся новый след — в сообщении пользователя под ником «Игорь» (отрывок из этого комментария мы уже приводили). Рассказывая о том, как в 1957 году курсанты военного училища распевали историю урки-фронтовика, Игорь сообщает: «Были и ещё варианты. Например, “помню, день был яростный морозный, самолёт уходит в синеву; будет бой неумолимый, грозный за любовь, за счастье, за страну”». Вспоминают эту песню в своих мемуарах и фронтовики. Например, Валентин Николаевич Шапошников, воевавший в 521-м истребительно-противотанковом полку, пишет: «Я запомнил несколько песен, которые с великим удовольствием напеваю и сегодня:«Воровская любовь коротка, но сильна…»
Заметим важное обстоятельство. После войны в уголовной среде песня «Бывший урка, Родины солдат» практически не исполнялась, а сохранилась больше как дворовый фольклор. Почему так случилось? Мы уже отмечали, что «патриотизм» уркаганов заметно усилился в 1943 году, после побед Красной Армии в Сталинградской битве и на Курской дуге. Именно тогда на фронт активно пошло пополнение из блатарей, которые предвкушали вторжение в богатую Европу, где можно от души «гульнуть по буфету». Поэтому любовные стенания уркагана на передовой быстро сменились другими настроениями. Со второй половины 1944 года советские войска начинают воевать на чужой территории: сначала в Румынии, Польше, в октябре вступают в пределы Восточной Пруссии. Поведение «блатных воинов» резко меняется. Во время боёв на родной земле уркаганы вынуждены были считаться с обстановкой и, насколько возможно, сдерживать себя. К блатным фронтовикам в случаях военных преступлений часто применялись суровые методы воздействия. Но при переходе границы и вступлении в Европу — особенно в Германию — блатари вырвались из-под контроля. Профессиональные уголовники почувствовали себя в родной стихии: грабежи, мародёрство, убийства, насилие!.. Увы, преступления бойцов Красной Армии против мирного населения оккупированных стран Европы — печальная реальность. И блатные вояки оказывались в первых рядах насильников и мародёров. Судя по всему, руководство страны и армии понимало опасность подобных эксцессов. Обратимся к свидетельству югославского диссидента Милована Джиласа. В годы войны он был одним из организаторов партизанского движения в Югославии, занимал ведущие посты в югославском партийном руководстве. Затем выступал с резкой критикой коммунистического движения, заявляя, что в странах соцлагеря возник новый эксплуататорский класс — партийно-бюрократическая верхушка. В книге «Лицо тоталитаризма» Джилас вспоминал о том, что Красная Армия осенью 1944 года в Югославии показала себя не с лучшей стороны: её бойцы совершили множество преступных действий против югославских граждан и военнослужащих: 121 случай изнасилования, из которых 111 — изнасилование с последующим убийством, и 1204 случая ограбления с нанесением телесных повреждений. Рассказывая о встрече со Сталиным в 1944 году, Джилас цитирует возражения вождя: «Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошённой земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов?» Если верить Джиласу, в качестве оправдания Сталин прямо указывает на «уголовную составляющую» Красной Армии: «Вы Красную Армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определённого процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию». Конечно, это утверждение (Сталина или Джиласа?) не соответствует истине: из тюрем (равно как из колоний и лагерей) выпустили далеко не всех. Но всё же уголовников в армейских рядах было достаточно. Мы приводили данные о том, что за годы войны в Красную Армию из ГУЛАГа влилось более миллиона человек. Но к ним необходимо добавить огромное количество уголовников, которые были мобилизованы, находясь на свободе, однако оставаясь всё теми же блатарями, уркаганами. И это не всё. Был ещё один «железный поток» преступников, хлынувший на передовую. В Уголовном кодексе РСФСР имелось примечание 2 к статье 28, которое предусматривало на время военных действий отсрочку исполнения приговора, вынесенного военнослужащим, — с направлением осуждённых в действующую армию. Уже через полгода после начала войны советская Фемида решила распространить подобную отсрочку вообще на всех призывников или военнообязанных, приговорённых к лишению свободы. По указанию Верховного суда СССР от 22 января 1942 года осуждение уголовников к лишению свободы на срок не свыше 2 лет без поражения в правах не является препятствием к призыву или мобилизации этих лиц в Красную Армию. Суды могли приостанавливать исполнение приговора до возвращения осуждённого. И все эти люди отправлялись в обычные части регулярной армии! Заметим, что по ряду уголовных статей УК РСФСР сроки назначались небольшие, так что впервые попавшийся «на кармане» или на квартирной краже урка получал не более двух лет. Затем постановлением от 25 июля 1943 года пленум Верховного суда СССР распространяет отсрочку приговора… на лиц, осуждённых к лишению свободы независимо от срока (если наказание не предусматривает поражения в правах)! Любой убийца, вор, грабитель, мошенник, согласно этому постановлению, мог быть направлен не за «колючку», а прямиком на фронт! Исключение делалось лишь для «контрреволюционеров», бандитов и лиц, осуждённых по закону 7 августа 1932 года («семь восьмых», или «за колоски» — постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации»). То есть с июля 1943 года на фронт отправляли уркаганов фактически из зала суда, и уклониться они не имели возможности! Можно понять логику законодателя: профессиональные преступники всё равно в лагерях не работают, только создают проблемы. Сразу отправим эту публику на фронт в качестве пушечного мяса: повыбьют — не жалко! Но при этом урки шли в обычную маршевую часть, в то время как военнослужащих с отсрочкой приговора решили гнать из обычных частей в штрафные! Да-да, именно так! 16 октября 1942 года заместитель наркома обороны СССР Ефим Щаденко издаёт приказ № 323 «О направлении в штрафные части военнослужащих, осуждённых военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны». В приказе отмечалось, что многие дезертиры, а также расхитители военного имущества, пьяницы, злостные нарушители воинской дисциплины и прочие неустойчивые элементы, осуждённые военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны, ведут себя недостойно: «Осуждённые попадают в запасные части и направляются в действующую армию вместе со всеми честными бойцами в составе маршевых пополнений. Нередко эти люди, находясь в запасных частях, а также по пути следования на фронт ведут разлагающую работу, а прибыв на место, растворяются в общей массе, и многие из них скрывают свою судимость. Таким образом, судебный приговор не достигает цели, подрывает авторитет суда и, по существу, наносится вред войсковым частям, куда эти люди прибывают». Доводы поражают несуразностью. Возникают большие сомнения по поводу того, что люди, осуждённые военным трибуналом, направляясь в действующую армию, «ведут разлагающую работу». Зная обстановку в то время, особенно в районе боевых действий, такое утверждение можно рассматривать как бредовое. Тем более несколькими строками ниже заявлено, что такие бойцы стремятся «раствориться в общей массе». Довольно странный способ «раствориться» — «вести разлагающую работу»! Смысл приказа № 323 прозрачен: нужно срочно пополнить штрафные формирования — роты и батальоны советских «камикадзе». Поэтому всех «отсрочников» следовало отправлять в штрафные части. Впрочем, через некоторое время Фемида опомнилась, и 26 января 1944 года выходит приказ № 004/0073/006/23сс «О порядке применения примечания 2 к статье 28 УК РСФСР (и соответствующих статей УК других союзных республик) и направления осуждённых в действующую армию»: «Проверкой установлено, что судебные органы в ряде случаев необоснованно применяют отсрочку исполнения приговора с направлением осуждённых в действующую армию к лицам, осуждённым за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные преступления, а также неоднократно дезертировавшим из Красной Армии… Вследствие этого многие осуждённые имеют возможность дезертировать и снова совершать преступления. …Запретить судам и военным трибуналам применять примечание 2 к статье 28 УК РСФСР… к осуждённым за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные выше преступления, а также неоднократно дезертировавшим из Красной Армии. …Лиц, признанных годными к службе в действующей армии, военкоматам принимать в местах заключения под расписку и отправлять в штрафные батальоны военных округов для последующей отправки их в штрафные части действующей армии». Другими словами, блатарей всё равно отсылали на фронт — но уже без отсрочки приговора, непосредственно из лагерей в штрафные роты. Такая поправка не случайно появилась незадолго перед переходом Красной Армии через границу. И военное командование, и советская верхушка осознавали опасность неадекватного поведения красноармейцев на чужой территории. И не в последнюю очередь опасались именно «перегруза» блатных вояк. Ведь основная часть уголовного пополнения влилась в армейские ряды как раз к концу войны, когда советские войска перешли от оборонительных боёв к наступательным. То есть криминальная составляющая в войсках существенно повысилась, и влияние блатного элемента на преступления в Европе достаточно очевидно. К концу 1944 года «блатной призыв» фактически сошёл на нет. Видимо, тревожная информация о преступлениях красноармейцев на занятой территории заставила прекратить пополнение действующей армии профессиональными уголовниками. Перестали брать на фронт неоднократно судимых, в том числе и отбывавших сроки за незначительные преступления — если эти преступления были рецидивными. Увы, поздновато: до окончания войны оставалось несколько месяцев… Конечно, валить всё исключительно на блатных — неправильно. Ненависть по отношению к немцам воспитывалась в бойцах Красной Армии ведущими советскими идеологами. Среди них особо выделяется фигура Ильи Эренбурга. В годы войны его имя пользовалось огромной популярностью на фронте. Получить письмо от Эренбурга считалось так же почетно, как быть отмеченным в приказе Верховного Главнокомандующего. Сегодня из Эренбурга нередко лепят патологического германофоба, который ненавидел всё немецкое и призывал уничтожить всех немцев. Это не так (достаточно сказать, что жена его была немкой). Основной антинемецкий пафос выступлений публициста пришёлся на годы, когда Красная Армия воевала с врагом на своей территории. В это время слова «немец», «фашист», «оккупант» для советских людей были синонимами. Константин Симонов в стихотворении 1942 года «Если дорог тебе твой дом» писал о фашисте:«Гуляй, рванина, от рубля и выше!»
Итак, опьянённые анархической свободой уголовники захлебнулись от безграничной «любви» к немецким женщинам, девушкам и девочкам. «Блатные страдания» оказались не к месту… Но песня-то не только о любви, но и о «военной славе». Ну что же — не обойдём вниманием и эту тему. Некоторые исследователи считают, что из-за опасения насилия и мародёрства воюющих уркаганов вынуждены были даже отстранить от штурма немецкой столицы. Ссылаются, например, на Варлама Шаламова, который в очерке «Сучья война» пишет: «Окончательный штурм Берлина не был доверен этим частям. Армия Рокоссовского была нацелена в другое место, а в Тиргартен двинулись кадровые части маршала Конева — полки наиболее чистой пролетарской крови». Это заблуждение. Как мы могли убедиться, никакой «блатной армии» Рокоссовского в природе не существовало, а основная часть профессиональных преступников была разбросана по всем фронтам. Немало их воевало и в составе 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев. Так что жулики погуляли и по Берлину. Как вспоминает первый советский военный прокурор Берлина Николай Котляр, в ходе боев и после них из немецких тюрем бежали сотни уголовных преступников. Они организовали банды и совершали ночные налёты на квартиры обывателей. Часто грабители одевались в форму советских солдат и офицеров. Так, в 1945 году германскую столицу по ночам терроризировала банда якобы советских военнослужащих во главе с лейтенантом. Грабители действовали в Шпандау, Панкове, Лихтенберге и даже в Карлсхорсте, где размещался штаб 5-й ударной армии. Вскоре банда была ликвидирована. Возглавляли её испанский фашист Бароян-Корнадо и эсэсовец Хильт из городка Бад-Киссинген, когда-то служивший в криминальной полиции. Ночные грабежи совершала и шайка во главе с гауптштурмфюрером СС Куртом Штрассером. В обеих бандах действовали и русские преступники — возможно, власовцы и другие коллаборационисты. Но не исключено, что и блатные фронтовики, которые вернулись к старому, когда военная администрация стала жёстко спрашивать за мародёрства и грабежи. Есть также сведения о том, что преступным промыслом занимались бывшие узники концлагерей — причём не только русские. Ещё 2 мая 1945 года военный прокурор 1-го Белорусского фронта генерал-майор юстиции Л. Яченин докладывал: «Насилиями, а особенно грабежами и барахольством, широко занимаются репатриированные, следующие на пункты репатриации, а особенно итальянцы, голландцы и даже немцы. При этом все эти безобразия сваливают на наших военнослужащих». Но основной интерес для нас представляют именно соотечественники. В воспоминаниях прокурора Котляра есть рассказ об одном из них — некоем молодом человеке по фамилии Толстых. В первые дни войны его угнали в Германию. Парень попал в трудовой лагерь Аусбург, работал по 14–15 часов в день, бежал в 1943 году, добрался до Берлина. Отсиживался в подвалах, питаясь отходами, пока его не приютила шайка немецких уголовников, которая занималась угоном автомобилей, спекуляцией, кражами из магазинов и квартир, уличными грабежами. На допросе Толстых признался: он так увлёкся, что не заметил, как кончилась война. Он познакомился с дезертирами — немцами и итальянцами и началась, по его словам, «роскошная жизнь». Бандиты переоделись в русскую форму и обнаглели до того, что на грабежи приглашали понятыми немецких полицейских. О возвращении на Родину Толстых даже не помышлял. Как он сам объяснял — «привык к вольной жизни». При этом «идейный уголовник» оправдывал себя тем, что убивал только немцев: «Во французской зоне, вооружившись двумя пистолетами, он вернулся к старой “профессии” — угону машин. Дважды ему это удалось, на третий раз его остановила немецкая полиция… — Я их всех убрал… Потом меня окружили французские солдаты. Я сдался… — Значит, вы совершили убийство? — Я же стрелял в немцев… — Стрелять в немцев надо было на войне». Толстых в июне 1945 года совершил дерзкий побег из тюрьмы во французской зоне оккупации и оказался в советской военной комендатуре. Парня судил военный трибунал. Учитывая пережитое вневоле, раскаяние и заверения искупить вину, преступника приговорили к длительному тюремному заключению. К таким уголовникам советская военная Фемида испытывала сочувствие. В. С. Воинов, который вёл дело Толстых, рассказывал, что тот «называл себя партизаном-одиночкой. “Я бил немцев, — говорил он, — в их собственном доме”… Экспансивный, немного артист, бесспорно неглупый, весьма сообразительный — какую бы он принёс пользу людям, если бы его не исковеркала фашистская неволя». Борьба с мародёрством, конечно, тоже велась, однако здесь для советских бойцов был убедителен пример их «старших товарищей». Известна записка руководства СМЕРШа лично Сталину, где докладывалось о беспрецедентных масштабах мародёрства со стороны высшего командного состава, в том числе «маршала Победы» Георгия Жукова. Не отставали от Жукова и его подчинённые, например генерал-лейтенант Владимир Крюков — муж певицы Лидии Руслановой. Даже видавшие виды следователи хватались за головы, составляя опись имущества, изъятого при обыске квартиры генерала. Их удивляли вовсе не рояли, аккордеоны, радиолы, сервизы, меха и драгоценности. Было непонятно другое: зачем генералу 1700 метров тканей, 53 ковра, 140 кусков мыла, 44 велосипедных насоса, 78 оконных шпингалетов? Сам генерал признавался на допросах: «Я скатился до того, что превратился в мародёра и грабителя… Я стал заниматься грабежом, присваивая наиболее ценные вещи, захваченные нашими войсками на складах, а также обирая дома, покинутые бежавшими жителями». Раз этим спокойно занимались генералы, можно только догадываться, что делали обычные офицеры и рядовые, а тем более — блатные! И если военные с крупными звёздами обычно избегали наказания, то простые солдаты, тем более уркаганы, нередко попадали под пресс. Лев Копелев рисует портрет одного такого типа: «Блатной Мишка Залкинд из Ростова… Толстомордый, прыщавый, с маленькими быстрыми глазками, тесно жмущимися к мясистому носу, он вошёл в камеру, заломив кубанку на затылок, пританцовывая и гнусаво напевая:Бери бушлат — иди паши!
Итак, война завершилась. Блатные возвращались на Родину героями, позвякивая медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», орденами Славы и другими боевыми наградами. У кого-то на плечах сверкали офицерские погоны. Как в песне: «С победой славной, с орденами на блатной груди»… Но радость этой победы для уркаганов оказалась недолгой. Сегодня встречаются авторы, которые пытаются убедить публику, будто бы власть сразу после войны, чуть ли не прямо с фронта, снова «насильно» согнала «героических уркаганов» в лагеря. На самом деле это было бы даже технически невозможно: вылавливать в армейских рядах бойцов с судимостями и устраивать подобную фильтрацию. Как раз напротив, послевоенный подъём, воодушевление и надежды на светлое будущее создавали определённую возможность для социальной реабилитации бывших преступников. Начнём с блатарей, ушедших на фронт с отсрочкой приговора. Термин «отсрочка» подразумевал, что после возвращения из армии заключённый должен быть направлен в места лишения свободы для дальнейшего отбытия срока. Однако на практике такие люди в боевой обстановке поощрялись снятием судимости как проявившие себя стойкими защитниками Родины и освобождались от наказания военным трибуналом или иным соответствующим судом по ходатайству военного командования. Государство к таким фронтовикам было настроено довольно лояльно. И не только к ним: 7 июля 1945 года в стране объявили амнистию, в результате которой на волю вышло 301 450 зэков. Вспомним также, что блатные вояки волокли с собою немало награбленного в Европе добра. То есть имели «стартовый капитал» для того, чтобы начать честную жизнь. Но очень скоро победители, не приученные к труду, давно порвавшие связи с родными, пропили, промотали награбленное. К тому же последний, «зарубежный» этап войны уже приучил их к зверству. Как писал Шаламов: «Война скорее укрепила в них наглость, бесчеловечность, чем научила чему-либо доброму. На убийство они стали смотреть ещё легче, ещё проще, чем до войны». Работать честно (что в послевоенное время означало — тяжело) они не могли и не желали. И встал перед ними популярный русский вопрос: что делать? Ответа долго искать не пришлось. «Настал день Победы, герои-уркачи демобилизовались и вернулись к мирным занятиям. Вскоре советские суды послевоенного времени встретились на своих заседаниях со старыми знакомыми. Оказалось — и этого предвидеть было нетрудно, — что рецидивисты, “уркаганы”, “воры”, “люди”, “преступный мир” и не думают прекращать дело, которое до войны давало им средства к существованию, творческое волнение, минуты подлинного вдохновения, а также положение в “обществе”. Бандиты вернулись к убийствам, “медвежатники” — к взломам несгораемых шкафов, “скокари” — к квартирным кражам». В ГУЛАГ потекли новые этапы — из уркаганов, прошедших горнило страшной войны. Среди них было немало «законных воров», которым к тюрьмам, лагерям, таёжным «командировкам» не привыкать. Они рассчитывали встретить со стороны «арестантского братства» почёт, уважение и восхищение. А там, как и прежде, — «гужеваться с братвой», «обжимать фраеров»… Конечно, они понимали, что преступили воровской закон. Но успокаивали себя тем, что законы со временем меняются; как-нибудь утрясётся, ведь в лагерях остались их «кореша», со многими из которых «вояки» вместе «ломали пайку», ходили на «дело», решали важные вопросы на «толковищах». Да и вообще, за святое же дело воевали, Отчизну защищали от врага! Должны же «братья» это понять! Однако «братья» понимать этого не пожелали. Вот как описывает суть вспыхнувшего конфликта Варлам Шаламов в очерке «Сучья война»: «Среди “военщины” было много крупных “урок”, выдающихся деятелей этого подземного мира. Сейчас они возвращались после нескольких лет войны-свободы в привычные места, в дома с решетчатыми окнами, в лагерные зоны, опутанные десятью рядами колючей проволоки, возвращались в привычные места с непривычными мыслями и явной тревогой. Кое-что было уже обсуждено долгими пересыльными ночами, и все были согласны на том, что дальше жить по-старому нельзя, что в воровском мире назрели вопросы, требующие немедленного обсуждения в самых “высших сферах”. Главари “военщины” хотели встретиться со старыми товарищами, которых только случай, как они считали, уберёг от участия в войне, с товарищами, которые всё это военное время просидели в тюрьмах и лагерях. Главари “военщины” рисовали себе картины радостных встреч… сцены безудержного бахвальства “гостей” и “хозяев” и, наконец, помощи в решении тех серьёзнейших вопросов, которые жизнь поставила перед уголовщиной. Их надеждам не суждено было сбыться. Старый преступный мир не принял их в свои ряды, и на “правилки” “военщина” не была допущена. Оказалось, что вопросы, тревожившие приезжих, давно уже обдуманы и обсуждены в старом преступном мире. Решение же было вынесено совсем не такое, как думали “вояки”. — Ты был на войне? Ты взял в руки винтовку? Значит, ты — сука, самая настоящая сука и подлежишь наказанию по “закону”. К тому же ты — трус! У тебя не хватило силы воли отказаться от маршевой роты — “взять срок” или даже умереть, но не брать винтовку! Вот как отвечали приезжим “философы” и “идеологи” блатного мира. Чистота блатных убеждений, говорили они, дороже всего. И ничего менять не надо. Вор, если он “человек”, а не “сявка”, должен уметь прожить при любом Указе — на то он и вор… Напрасно указывали предводители “военщины”, что случайность, особенность их положения в тот момент, когда им было сделано предложение пойти на фронт, исключала отрицательный ответ». Интересно описание тех же самых «идеологических противоречий» изнутри — взглядом человека, который принадлежал именно к числу блатных и держал сторону «идейных» уголовников против отступников. Вот эпизод из романа «Блатной», автор которого Михаил Дёмин в послевоенное время был «законным вором». В камеру воров «заплывает» записка из соседней «хаты» — «ксива»: «Дело вот какое, — писал Цыган, — у вас в камере находится Витька Гусев. Я его сегодня видел на прогулке. Он наверное хиляет за честного, за чистопородного… Если это так — гони его от себя. И сообщи остальным. Гусь — ссученный! В 1945 году я встречался с ним в Горловке; тогда он был — представляешь? — в военной форме, при орденах, в погонах лейтенанта… Всем нам горько и обидно наблюдать такую картину, когда среди порядочных блатных ходят всякие порченые. И неизвестно, чем они дышат, какому богу молятся…» Получив такое послание, воры начинают подробно расспрашивать обвиняемого: «— Значит, служил? — спросили его. — Служил. — Носил форму? — Конечно. — Награды имел? — Да, — ответил он, — имел. Воинские награды!.. Да, было, было. Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников, из таких, как я! Нет, братцы. — Он мотнул головой. — Я не ссученный… — А что есть сука? — спросил тогда один из блатных… — Сука это тот, — пробубнил Рыжий, — кто отрекается от нашей веры и предаёт своих. — Но ведь я никого не предал, — рванулся к нему Гусь, — я просто воевал, сражался с врагом! — С чьим это врагом? — Ну как — с чьим? С врагом Родины, государства. — А ты что же, этому государству друг? — Н-нет. Но бывают обстоятельства… — Послушай, ты мужик тёртый, третий срок уже тянешь — по милости этого самого государства. Неужели ты ничего не понимаешь?.. Ежели ты в погонах — ты не наш. Ты подчиняешься не воровскому, а ихнему уставу. В любой момент тебе прикажут конвоировать арестованных — и ты будешь это делать. Поставят охранять склад — что ж, будешь охранять… Ну, а вдруг в этот склад полезут урки, захотят колупнуть его, а? Как тогда? Придётся стрелять — ведь так? По уставу! — …Я стрелял в бою. На фронте. И не вижу греха. — Ну, а мы видим… Истинный блатной не должен служить властям! Любым властям! — Значит, если я проливал кровь за Родину… — Не надо двоиться… Если уж ты проливал — так и живи соответственно. По ихнему уставу. Не воруй! Не лезь в блатные! Чти уголовный кодекс!» Формально «честные воры» защищали «праведность» уголовных понятий. Вор не должен брать оружие из рук власти. Кто нарушил этот закон — тот отступник. И никаких оправданий ему нет. Однако на деле эти фразы скрывали обычную борьбу за власть в уголовном мире. Фронтовики из числа воров способны были легко оттеснить ту «блатную элиту», которая переждала войну в лагерях. Героическое прошлое, отчаянные военные приключения, «духовитость» и кураж уголовных фронтовиков способны были резко выделить их в арестантских глазах из числа других воров. Надо также учесть, что в голодное послевоенное время каждый кусок был на счету. И принимать лишние рты (пусть даже воровские) в блатную компанию значило отдавать своё и потуже затягивать пояс. Не проще ли увеличить за счёт прибывших не количество «честняков», а ряды «пахарей»? Вот тут-то и вспомнили «праведные каторжане» о «святых традициях истинных воров»… То есть поначалу лагерные «законники» не желали воевать с отступниками, тем более их уничтожать. Они просто хотели указать им место в «стойле». Если ты однажды смог переступить через воровской закон, то сможешь сделать это и в другой раз. Поэтому таким арестантам нет доверия. Придётся «военщине» переходить в разряд обычных лагерных работяг. Их судьба — не «боговать», а вкалывать, пахать на государство, которое они, вопреки блатным понятиям, защищали с оружием в руках. А бывшие дружки-приятели, оставаясь «в законе», будут жить за их счёт. Согласиться с такой ролью блатные фронтовики не могли. Слишком уж сильна была в них привычка властвовать. Об этом тоже есть эпизод в книге Дёмина. Главный герой после развенчания бывшего вора по кличке Гусь беседует с ним один на один: «— Ты ведь уже не блатной, — сказал я, — ты никто! Живи себе тихо, в сторонке. Тебе же лучше будет! — Тихо? В сторонке? — произнёс он угрюмо. — Ну, нет… Нема дурных, как у нас в Ростове гутарят… Вы, значит, аристократы, а я должен пахать, в землю рогами упираться? Жидкие щи с работягами хлебать? Нет, нема дурных! Я сам хочу — как вы… У вас какая жизнь? Удобная…» Сама жизнь подталкивала блатных фронтовиков к войне за власть в лагерном воровском сообществе. И война грянула! Но это — уже совсем другая песня…
Как тайна сталинских указов и история уголовной резни накрылись жиганским бушлатиком «Идут на Север этапы новые»
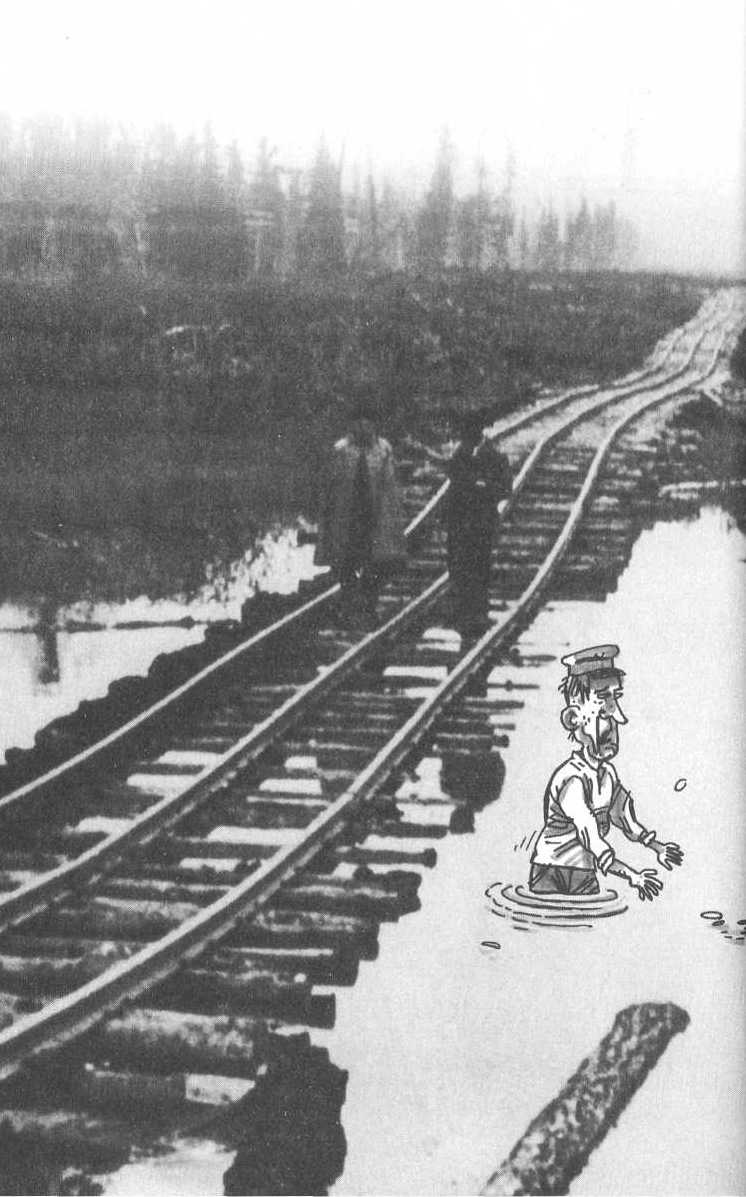


От Телескопова до офтальмологии: песне ты не скажешь «до свиданья»
Жалостливая история о «северном этапе» относится к числу самых известных лагерных песен. Она шагнула из-за «колючки» в народ и широко расплеснулась по всему СССР в результате хрущёвской «оттепели» — массового возвращения из лагерей потоков интеллигенции и уркаганов, начиная с эпохи «раннего реабилитанса» (после смерти Сталина в 1953 году). Эта песня — одна из многих, исполнявшихся во дворах, подворотнях, на кухнях, в кругах творческой богемы, но зато она была запечатлена в знаковых произведениях отечественной художественной литературы. Первое цитирование этого уголовного романса мы встречаем в повести Юлия Даниэля «Искупление», увидевшей свет в 1964 году. Даниэль, который вслед за Андреем Синявским издал своё произведение за рубежом под псевдонимом «Николай Аржак» (персонаж блатной песни), вкладывает в уста одного из «чистых, умытых, сытых людей» слова, полные «суеверного ужаса»: «Боже, что ж это я делаю?! Зачем я пою эти песни? Зачем накликиваю?.. Это же всерьёз, это же взаправду! Ах, прощай, Москва, прощайте, все!.. Возьмут винтовочки, взведут курки стальные и непременно убьют меня… Тьфу, напасть!» В 1968 году вышла «Затоваренная бочкотара» Василия Аксёнова — «повесть с преувеличениями и сновидениями в двух частях». В одном из эпизодов водитель Володя Телескопов ставит мат сотруднику милиции Бородкину, и тот неправедно водворяет «обидчика шахматистов всех времён и народов» в КПЗ. В знак протеста Телескопов исполняет лагерный романс: «Володя… пел драматическим тенорком:«Указ семь-восемь шьёшь, начальник?»: «колхозная» версия
Однако многие страстные поклонники блатного шансона не в курсе того, о каком «указе» идёт речь. Сталинская эпоха оказалась щедра на самые разные указы и постановления, последствия которых больно отразились на гражданах СССР. Какой именно из этих грозных документов послужил поводом для «Этапа»? Самая ранняя датировка песни — 1932 год. Так, на форуме сайта «Мой Тамбов» пользователь Skepticism пишет: «Песня блатная была: “Бредут на север срока огромные, кого ни спросишь — у всех указ”. Здесь как раз и говорится, как указ от 07.08 отложился в народной памяти». Речь идёт о знаменитом постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». В народе его именовали по-разному: «указ семь восьмых», «указ семь-восемь» (седьмое число восьмого месяца), «закон о колосках» (часто с уточнением — о двух, трёх, пяти колосках). Этот документ спровоцировал широкую волну репрессий. Но имеет ли он отношение к знаменитой лагерной песне? Постановление от 7 августа 1932 года было принято по инициативе Сталина. Вождь в письме Кагановичу и Молотову (20 июля 1932 года) пояснял, что «за последнее время участились хищения кооперативного и колхозного имущества и кражи грузов на желдортранспорте. Антиобщественные элементы получают 2–3 года тюрьмы и часто через 6–8 месяцев попадают под амнистию, хотя на деле подрывают новый общественный строй. Терпеть этого нельзя». «Указ семь-восемь» появился в разгар коллективизации — насильственного объединения крестьян в колхозы, которое привело к чудовищному голоду 1932–1933 годов на территории Украины, Белоруссии, Юга России, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана. В результате, по некоторым сведениям, погибло до семи миллионов человек. Впрочем, многие историки считают, что массовый голод возник не из-за сплошной коллективизации, а в результате принудительных сталинских хлебозаготовок. Из закромов выгребалось даже зерно, предназначенное для сева. Урожайность зерновых упала с 53,4 пуда с гектара (1927) до 38,4 пуда с гектара (1931). Государственная политика по принудительному обобществлению скота привела к массовым забоям в 1928–1931 годах. С осени 1931 года поголовье у единоличников сократилось, и убыль происходила за счёт колхозного и совхозного стада. Драконовские меры, которые вводились «указом семь-восемь», были направлены в основном против колхозного крестьянства. Сокрытие зерна, забои скота в коллективных хозяйствах расценивались как «хищение кооперативной и колхозной собственности». Не зря постановление назвали «закон о колосках»: нередко крестьян хватали и осуждали даже за то, что они после сбора зерновых подбирали оставшиеся на поле колоски. Позднее сбор колосков стал частью воспитательной работы среди сельских пионеров: каждое зёрнышко — в закрома Родины. Даже в 1964 году в учебнике «Родная речь» красовалось стихотворение со строками:«Дали ему год»: «беломорская» версия
Аркадий Северный в записи 1973 года (этот концерт условно называют «Для Кости-Капитана», а также «Идут на Север») предваряет исполнение песни следующим вступлением: «Да. Беломорканал. Теперь о нём вспоминают, когда покупают пачку папирос за двадцать две копейки со смутной картинкой на этикетке. Это была первая ударная стройка в цепи многих последующих. Зэки строили, умирали, а результаты приписывались другим. Итак: тридцать третий год, питерские “Кресты”»… Далее следует «Идут на Север срока огромные». Таким образом, Северный (вернее, Рудольф Фукс, сочинявший эти прозаические перебивки) относит создание песни к 1933 году и связывает её со строительством Беломорско-Балтийского канала. Но, во-первых, версия отпадает по той же причине, что и вариант о «трёх колосках»: до 1938 года упоминание «этапа на Воркуту» было бы нелепостью. Воркута оставалась маленьким, неизвестным посёлком. Во-вторых, никакого указа, согласно которому заключённых посылали бы на строительство Беломорско-Балтийского канала, не существовало. Поэтому фраза «кого ни спросишь, у всех Указ» теряет всякий смысл. «Каналоармейцы» осуждались по статье 35 УК РСФСР, вступившей в действие 20 мая 1930 года. Она предусматривала удаление из пределов СССР или из пределов отдельной местности, с обязательным поселением в других местностях, «в отношении тех осуждённых, оставление которых в данной местности признаётся судом общественно опасным». «Удаление» связывалось с исправительно-трудовыми работами и назначалось на срок от трёх до десяти лет. Таких преступников называли «тридцатипятниками». Лазарь Каганович охарактеризовал их как «бывших воров, бандитов, вредителей, бывших врагов социалистического общества». Лагерники вполне могли бы в простоте своей спутать указ и постановление. Но спутать указ и статью Уголовного кодекса — это исключено. Да и сроки у «тридцатипятников» не были по тогдашним меркам огромными: «десятку» отмеряли нечасто, народ подбирался в основном для строительства канала, которое никто на десять лет растягивать не собирался. В 1933 году, когда ББК был принят в эксплуатацию, из ста с лишним тысяч зэков на свободу досрочно вышли более 12 тысяч человек, сроки были сокращены почти 60 тысячам. Хотя позднее власть провернула остроумную операцию. До сих пор в простонародье бытует известная поговорка. Когда кто-то произносит слово-паразит «вот», ему отвечают: «Вот! Дали ему год, а отсидел двенадцать месяцев!» Соль шутки, на первый взгляд, заключается в том, что год — это и есть двенадцать месяцев, то есть какие бы поблажки тебе ни сулили, всё равно придётся отбыть весь срок. Между тем горькая ирония состоит в другом. Первоначально поговорка звучала несколько иначе: «Вот! Дали ему год, отсидел двадцать четыре месяца — и досрочно освободился!» Прибаутка появилась в 1936 году, когда в ГУЛАГе были отменены зачёты рабочих дней. До этого в лагерях ударникам два дня работ засчитывались за три дня срока, а с 1933 года — даже за четыре. В 1936 году глава НКВД Генрих Ягода отменил эту практику. А многие арестанты, которые досрочно освободились ещё до отмены зачётов, были возвращены в лагеря — досиживать оставшийся срок! То есть фактически эти лагерники вышли на свободу значительно позже, чем должны были согласно первоначальному приговору — вместо года «отсидели двадцать четыре месяца». Однако такого поворота событий никто из «беломорских» зэков предугадать не мог, чтобы заранее вставить в текст арестантской песни…«Красные пауки» пожирают друг друга: «литерная» версия
Следующая дата, к которой исследователи приурочили создание лагерного романса, — 1937 год. Леонид Южанинов в документальной повести «Северный этап» пишет: «Шёл 1934 год. Сталинский режим ещё показывал миру “гуманизм”. Через три года он наберёт силу, возьмёт страну в “ежовые рукавицы”, а различные психологические опыты над заключёнными сменятся физическими издевательствами и расстрелами. Тогда и запоют:«Дранг нах Норден»: «немецкая» версия
Наконец, нельзя пройти мимо ещё одной версии, которую выдвинул Евгений Пинаев — автор очерка «Зона комфорта. О художнике Льве Вейберте». О своём герое Пинаев пишет: «Душой и делами он находился в лесах и горах милого ему Северного Урала, куда попал в начале Отечественной войны, как человек подозрительной национальности, по сталинскому указу. Вождь народов полагал, что немец, даже свой, доморощенный, должен если не хлебать лагерную баланду, то работать за колючей проволокой, с автоматчиками на вышках… Трудовая армия — это не та армия, где дают ордена за трудовые подвиги. Здесь иное. “Кого ни спросишь, у всех указ”, а это значит — лесоповал, лесозавод, угольный разрез Богословскугля… Пресловутый указ действовал до 1949 года». И далее автор не раз повторяет в связи с советскими немцами ту же песенную строку. Пинаев имеет в виду указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года. Этим актом была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья, а все жители немецкой национальности депортированы в глубь страны. Указ прямо обосновал эту меру национальной принадлежностью граждан:«По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населённых немцами Поволжья. О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал, — следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской власти. В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами в Республике немцев Поволжья или прилегающих районах, и случится кровопролитие, Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья. Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьёзных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить всё немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были наделены землёй и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах. Для расселения выделены изобилующие пахотной землёй районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности. В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить переселяемых немцев Поволжья землёй и угодьями в новых районах. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН».После публикации указа населению было приказано в течение 24 часов подготовиться к переселению и, собрав минимум имущества, прибыть в пункты сбора. Позже депортация коснулась почти всего немецкого населения, жившего в Европейской России и Закавказье, не занятых вермахтом. В годы войны было переселено до 950 тысяч немцев. Кроме того, в сентябре 1941 года многие советские немцы были отправлены с фронта в тыловые части. На новых местах часть депортированного немецкого населения, начиная с января 1942 года, мобилизуется в так называемые «рабочие колонны» — трудовые армии. Мобилизации подлежали мужчины от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет (кроме матерей с детьми до трёх лет) — строить заводы, работать на лесозаготовках и рудниках. Трудармейцы не были осуждены, они сохраняли все гражданские права, за исключением права на свободу передвижения и выбора вида деятельности. Евгений Пинаев допускает неточность: трудармии были расформированы не в 1949-м, а в 1947 году. Однако немцам запрещалось возвращаться к месту прежнего проживания в Европейской части СССР и на Кавказе. В 1946–1951 годах их поставили на учёт спецпоселений и ежемесячно отмечали в комендатурах. Такая ситуация сохранялась до 1956 года. Формально содержание песни вроде бы не противоречит изложенным фактам. Миллион выселенных немцев — внушительная статистика. И Воркута вполне подходит. В этом направлении действительно шли «немецкие этапы» (хотя и незначительные; в 1943 году в Воркутлаг из Волжского ИТЛ прибыл 3341 мобилизованный немец). Да и после войны этапы советских немцев потекли в отдалённые окраины Союза. Откуда они взялись, если депортация «зачистила» всю Европейскую часть Страны Советов? Поясним. Ещё до присоединения Прибалтики к СССР Эстония и Латвия заключили соглашения с Германией, согласно которым балтийские немцы могли свободно переселяться на территорию Третьего Рейха. После установления Советской власти в прибалтийских государствах соглашение продолжало действовать и даже распространилось на Литву и другие территории, вошедшие в состав СССР после заключения договора Молотова — Риббентропа. В результате до начала Великой Отечественной войны в Германию мигрировали 406 тысяч немцев из Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, части польских земель, отошедших Советам, что привело почти к полному исчезновению немецкой диаспоры из западных районов СССР. Этих немецких репатриантов — «фольксдойче» — расселили на западных польских землях, захваченных нацистами в ходе польской кампании 1939 года, а частично — в Германии. Коренное польско-еврейское население было насильно согнано с родных мест. Когда Красная Армия в начале 1945 года достигла мест поселения «фольксдойче» в Польше, а затем и в Германии, началась подготовка к возвращению репатриантов как «насильно вывезенных» на немецкую территорию. Как пишет Герхард Вольтер в книге «Зона полного покоя», это происходило путём уговоров и увещеваний. По территории оккупированной Германии разъезжали специальные команды в сопровождении офицеров, обещая вернуть переселенцев на прежние места проживания. Многие действительно верили, что вернутся в родные места. Но они были обмануты: «Без долгих слов заперли снаружи вагоны, провезли мимо Украины, через всю Россию, доставили в Таджикистан и на 10 лет посадили на спецучёт, определив на тяжелейшую работу в угольные шахты». И всё же указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» менее всех остальных созвучен с таинственным указом из жестокого романса арестантов. Это очевидно. Во-первых, власть выселяла всех немцев, так что по прежнему месту жительства утирать слезу батистовым платочком было некому. Во-вторых, депортированным никто не давал «срока огромные»: немцев вообще не осуждали. В-третьих, далеко не все направлялись на Север. Наконец, указ касался только граждан немецкой национальности, и они не попадали в места лишения свободы, а содержались изолированно, в трудармиях и на спецпоселении. То есть зэковское население ГУЛАГа мало знало обо всех этих перипетиях и мало ими интересовалось. С чего бы лагерники подхватили песню о «немецком указе»? Совершенно невероятно.
«Четыре шестых» вместо «семь восьмых»?
Вот загадка-то! И ведь нельзя ни одну версию обойти, каждую надо по косточкам разобрать, чтобы не свернуть в неверную сторону. Как это случилось с Эдуардом Володарским, по повести которого «Штрафбат» снят известный сериал. Вот цитата: «В товарняке ехали на фронт штрафники… В вагонах на двухэтажных дощатых нарах сидели и лежали безоружные бывшие зэки и окруженцы. Слоями плавал в воздухе сизый махорочный дым, кто-то в углу играл на старой потрёпанной гармошке, и латаные-перелатаные меха, когда их растягивали и сжимали, громко сипели. Гармонист пел жалобным простуженным голосом:«ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 мая 1947 г.Трудно сказать, чем руководствовались Великий вождь и его окружение, решившись на такой нетрадиционный для Советского государства шаг. Вряд ли этого требовала мировая общественность. К тому же в первые послевоенные годы Советский Союз мог позволить себе роскошь не особо прислушиваться к чужому мнению. Ещё меньше оснований приписывать отмену смертной казни опьянению победой в Великой Отечественной войне (хотя сам текст указа как бы подразумевает именно такую трактовку). Со дня окончания войны прошло уже два года. Достаточный срок для того, чтобы протрезветь и успокоиться. Скорее всего, государству для восстановления экономики просто требовалось огромное количество рабочей силы. Поэтому было признано нецелесообразным уничтожать преступников: пусть лучше «загибаются» от непосильного, но полезного для страны труда. Но как бы там ни было, а официально смертная казнь была отменена[13]. Однако следом за отменой смертной казни последовали указы «четыре шестых», согласно которым резко увеличивались сроки отбывания наказания в ГУЛАГе. Между указом от 26 мая и указами «два-два» прошло… чуть более недели! Так что же это за жуткие законодательные акты, которые вызывали ужас среди «широких слоёв населения», а особенно в среде уркаганов?
Историческая победа советского народа над врагом показала не только возросшую мощь Советского государства, но и прежде всего исключительную преданность Советской Родине и Советскому Правительству всего населения Советского Союза. Вместе с тем международная обстановка за истекший период после капитуляции Германии и Японии показывает, что дело мира можно считать обеспеченным на длительное время, несмотря на попытки агрессивных элементов спровоцировать войну. Учитывая эти обстоятельства и идя навстречу пожеланиям профессиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, выражающих мнение широких общественных кругов, — Президиум Верховного Совета СССР считает, что применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени. Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 1. Отменить в мирное время смертную казнь, установленную за преступления действующими в СССР законами. 2. За преступления, наказуемые по действующим законам смертной казнью, применять в мирное время заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет. 3. По приговорам к смертной казни, не приведённым в исполнение до издания настоящего Указа, заменить смертную казнь, по определению вышестоящего суда, наказаниями, предусмотренными в статье 2-й настоящего Указа».
«ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА Указ Президиума Верховного Совета СССР 4 июня 1947 г.
В целях установления единства законодательства об уголовной ответственности за хищения государственного и общественного имущества и усиления борьбы с этими преступлениями Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 1. Кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного имущества — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 2. Хищение государственного имущества, совершённое повторно, а равно совершённое организованной группой (шайкой) или в крупных размерах, — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от десяти до двадцати пяти лет с конфискацией имущества. 3. Кража, присвоение, растрата или иное хищение колхозного, кооперативного или иного общественного имущества — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 4. Хищение колхозного, кооперативного или иного общественного имущества, совершаемое повторно, а равно совершённое организованной группой (шайкой) или в крупных размерах, — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от восьми до двадцати лет с конфискацией имущества. 5. Недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или совершённом хищении государственного или общественного имущества, предусмотренном статьями 2 и 4 настоящего Указа, — карается лишением свободы на срок от двух до трёх лет или ссылкой на срок от пяти до семи лет».
«ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН Указ Президиума Верховного Совета СССР 4 июня 1947 г.Репрессивная составляющая этих указов была направлена одновременно и на трудовое население Союза, и на уголовный мир. Это привело к увеличению спецконтингента в лагерях, колониях и тюрьмах. Достаточно обратиться к статистике послевоенного ГУЛАГа:
В целях усиления охраны личной собственности граждан Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 1. Кража, то есть тайное или открытое похищение личного имущества граждан, — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от пяти до шести лет. Кража, совершённая воровской шайкой или повторно, — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от шести до десяти лет. 2. Разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, соединённое с насилием или с угрозой применения насилия, — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Разбой, соединённый с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой смертью или тяжким телесным повреждением, а равно совершённый шайкой либо повторно, — карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 3. Недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или совершённом разбое — карается лишением свободы на срок от одного года до двух лет или ссылкой на срок от четырёх до пяти лет».

Но средняя статистика по годам не отражает полной картины: приходят новые этапы, объявляются амнистии (их в первые послевоенные годы было несколько), люди освобождаются, умирают… Нам же важно знать количество осуждённых именно по указу «четыре шестых». Возьмём 1950 год, когда население ГУЛАГа достигло пиковой отметки. В этом году по указу от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» отбывали наказание 637 055 человек: в значительной мере — рабочие, колхозники и служащие. По указу от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной собственности граждан» в местах лишения свободы находился 394 241 человек. Это в основном профессиональные уголовники. То есть совокупно — более миллиона человек! Без малого половина зэков… Некоторые авторы утверждают, будто бы от указа «четыре шестых» пострадали только «невиновные граждане». Так, Александр Башарин, посвятивший уголовному песенному фольклору объёмное исследование, пишет: «Если исходить из обычного, юридического значения слова “уголовный”, то непонятно, почему на сайте “Блатной фольклор” присутствуют такие песни, как “Этап на Север — срока огромные, кого ни спросишь — у всех Указ” (если не ошибаюсь, упомянутый “указ” затронул в основном ни в чём не повинных людей)». Автор, правда, не называет указа прямо: так, слышал где-то что-то от кого-то… Однако по поводу «невинных людей» как-то сразу определился. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» сообщает: «Мы не можем… достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам при 1932 годе упомянуть знаменитый Закон “от седьмого-восьмого” или “семь восьмых”, закон, по которому обильно сажали — за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток — всё на десять лет. Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та десятка, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно-исторической победы, выглядела слабовато. И опять пренебрегая кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, — 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их всех Указ, который тут же был окрещён безунывными заключёнными как Указ “четыре шестых”. …Превосходство было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три (“организованная шайка”), за огурцами или яблоками — несколько двенадцатилетних пацанов, — они получали до двадцати лет лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до двадцати пяти (самый этот срок, четвертная, был введён за несколько дней перед тем, взамен гуманно отменяемой смертной казни)… В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев». У читателя создаётся впечатление, что под сталинский пресс попадали исключительно мелкие несуны из рабоче-крестьянского люда. Традиционно для Солженицына полуправда здесь густо замешана на передёргивании, домыслах и вранье (чего стоит утверждение, будто за колосок осуждали «всё на десять лет»; мы уже убедились, что это не так). Разумеется, закручивание гаек привело к резкому увеличению сидельцев ГУЛАГа за счёт трудового населения, «бытовиков». Но в то же время указы больно ударили по профессиональному уголовному миру! Да, по первому указу («бытовому») сажали вдвое больше, чем по второму («воровскому»). Однако надо учитывать, что указ о хищении государственной, колхозной и кооперативной собственности активно применялся также в отношении уголовников, грабивших склады, магазины, товарные поезда и т. д. То есть первый указ не являлся чисто «бытовым», «уркаганская» составляющая была в нём чрезвычайно велика. Так что «бытовиков» и блатных, осуждённых по указам «два-два», оказывалось как минимум поровну. А возможно, количество последних было даже выше. Это ведь только в воображении Солженицына указ карал исключительно двенадцатилетних пацанов и девчат, утащивших пару огурцов. Совершенно безосновательно утверждал Александр Исаевич, будто бы власть прибегла к указу «четыре шестых», «пренебрегая кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве». Как раз очень даже помнила! Во многих случаях суды продолжали применять не «драконовские указы», а статьи Уголовного кодекса, карающие за имущественные преступления — кражу, грабёж, разбой, расхищение госсобственности и т. д. Вот данные за тот же 1950 год: в ГУЛАГе отбывали наказание 61 194 вора-рецидивиста (статья 162-в — «Кража, совершённая неоднократно»), 93 477 человек, осуждённых за имущественные преступления (статьи от 162 до 178, куда входили кража, разбой, грабёж, присвоение чужого имущества, обман с целью присвоения имущества и проч.), 72 293 человека, осуждённых за расхищение соцсобственности (указ от 7 августа 1932 года). То есть в обход указа от 4 июня в ГУЛАГ попали от 150 до 200 тысяч человек. А ведь сроки по многим из перечисленных статей составляли год или два, то есть в разы ниже, нежели по указу «два-два»! Вопрос: почему этих людей судили не по указу, а по УК и постановлению «о колосках»? Если верить Солженицыну, указ «четыре-шесть» был сочинён, чтобы заменить десятилетний срок заключения двадцатью пятью годами лишения свободы. Но ведь и после 1947 года «указ семь-восемь» продолжал применяться! Точно так же действовали и статьи Уголовного кодекса, карающие за кражу, хищение социмущества, разбой… Даже многих рецидивистов, которые попадались на совершении кражи повторно (статья 162, пункт «в»), не подвергали «драконовским» наказаниям! Для справки: согласно УК РСФСР того периода, этот пункт 162-й статьи предусматривал лишение свободы на срок… до одного года! («Потолок» самой жестокой санкции этой статьи — пункт «д», каравший за кражи у государства в особо крупных размерах, предусматривал всего пять лет лишения свободы.) Как же так?! Почему за то же самое преступление одних сажали по указу «два-два» на огромные сроки, а других — на год, два, три? Почему указ, нацеленный на пополнение лагерей, не заменил относительно мягких статей УК, которые действовали параллельно с ним? А секрет прост: суд исходил из обстоятельств и личности гражданина, совершившего преступление. Так, после войны СССР вновь столкнулся с тяжёлой социальной проблемой — беспризорностью. Многие ребята потеряли семьи и оказались на улице; их «засосала опасная трясина»… Вот этих пацанов и пацанок государство не считало вправе карать чудовищными сроками. Хотя подобная снисходительность распространялась далеко не на всех. Многих бездомная жизнь настолько ожесточила и покалечила, что они превратились в законченных уркаганов. Поэтому особо заматеревшие нередко шли и по указу «четыре-шесть». Но дифференциация всё же была. То же самое — с хищением социалистической собственности. И здесь суд действовал сообразно обстоятельствам. В то время хищения были и впрямь чудовищные. Мой дед по матери в послевоенные годы работал грузчиком на железнодорожной станции «Ростов-Гора»: тяжёлое, но «хлебное» место. У деда было семеро детей и жена; чтобы прокормить семью, он таскал из вагонов мешками и ящиками! Сахар, мука, крупы, консервы — много чего… И так поступали ВСЕ, кто имел возможность. Иначе тебя считали недоумком или стукачом со всеми вытекающими последствиями. Речь шла об элементарном выживании. За право разгрузить «хороший» вагон дрались до смерти — лопатами-грабарками. Из книги в книгу кочует известная история о «нескольких катушках ниток», за которые давали реальные — и немалые! — сроки. Но не надо забывать: эти катушки работницы проносили постоянно! Краденой нитью можно было несколько раз опоясать Землю по экватору. На обувных фабриках выносили кожу для продажи частникам. На мясокомбинатах тащили вырезку, даже части туш. Стихия безудержного воровства захлестнула страну. Вот что вспоминает бывший политзэк Феликс Серебров, впервые осуждённый именно по указу «четыре шестых»: «В 1947 году меня всерьёз арестовали и дали десять лет. Было мне тогда семнадцать. Я уже жил самостоятельно… Платили мне триста шестьдесят рэ, а чтобы отоварить карточку полностью, надо было четыреста двадцать. Значит, этот дефицит в 60 рублей мне надо было каким-то образом восполнять. Ну, не скажу, чтобы я был способен квартиру обокрасть, но стянуть что-то на железной дороге я за грех не считал. Для меня это было нормальное явление. Все это делали, и я делал… За 16 килограммов соли мне дали десять лет… Эту соль мы продавали спекулянтам, а они ею торговали». Это не в последнюю очередь послужило причиной указа «четыре шестых». Но к несунам в судах относились по-разному. Таких, как дед, даже за хищения в крупных размерах часто пускали не под указ, а под 162-ю, пункт «д». Ведь забота о семье всё равно ложилась на плечи страны. Забрав в лагерь кормильца многодетной семьи, власть создавала себе огромные дополнительные проблемы. Так, после смерти деда (который так и не попался на воровстве) в 1950 году троих его несовершеннолетних сыновей государство взяло в школу-интернат на полное содержание. Хотя… Здоровенного осетина-грузчика могли бы определить и лет на 15–20. Такой «товар» был востребован ГУЛАГом. А вот многодетную вдову фронтовика, которая попалась с мясной вырезкой, обвязанной шпагатом вокруг собственной ляжки, нередко карали смешным сроком. И всё же так везло далеко не всем. Под указ попадали часто и за мелкие хищения, и за незначительные кражи. Особенно в первое время, когда надо было устрашить народ. Сажали женщин с детьми, беременных, отвешивая огромные сроки… Всякое было. Но если говорить откровенно… Люди безбожно тащили с производства и после 1947 года. Жить-то надо! Глаза боятся, а руки тянут. Сбить чудовищную волну массовых хищений удалось значительно позже, с преодолением послевоенной нищеты, дефицита, мизерных зарплат. Однако даже в самые благостные советские годы воровство с предприятий, из колхозов не поддавалось никакому контролю и статистике. Это была оборотная сторона социалистического производства.
«Сталин издал закон…»
Суровый указ послужил темой не только для «Этапа на Север». В то же самое время возникла и другая песня — полная ненависти к сталинскому режиму. Вот её-то создали именно «контрики». Песня известна во многих вариантах; кто-то называет её «На берегах Воркуты», кто-то — «Угль воркутинских шахт». Мы приводим текст, полученный филологом Владимиром Бахтиным из петербургской тюрьмы «Кресты» в 1956 году:Плач по «жиганской душе»
Песня «Этап на Север», в отличие от «Угля», родилась в среде «бытовиков». Подтверждение мы находим в тексте: например, упоминание о смерти от тяжкой работы или о малых детях, которые пойдут искать отца. Это явно сюжеты не из воровской жизни. Не в правилах «благородного жулика» опасаться смерти от работы. Конечно, война заставила воровской мир внести некоторые изменения в свои законы и допускать участие блатных в общих работах. Но главный принцип оставался неизменным: «Мы работы не боимся, но работать хрен пойдём!» Да и малые дети, бредущие в поисках отца с жалобным плачем «тятя, тятя!» — несколько из другой оперы. В блатном фольклоре отношения «отец — сын» рассматриваются прежде всего в смысле продолжения «трудовой династии» (как, например, в песне «Централка»):Эпоха блатных перемен
Для нас также важно то обстоятельство, что указы «четыре шестых» послужили причиной чудовищной резни в уголовно-арестантском мире, которая получила название «сучья война». О ней следует рассказать особо, тем более что большая часть «жиганских душ» полегла в заледеневшую землю не от тяжкой работы, а от «перьев» и заточек своих бывших собратьев. Начнём с хронологии. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» относит начало воровской резни к 1949 году: «“Сучья война” разгорелась примерно с 1949 года (не считая отдельных постоянных случаев резни между “ворами” и “суками”). В 1951, 1952 годах она бушевала». Любопытный штрих: война, по Солженицыну, разгорелась в 1949 году, но «сучья масть» существовала до этого, и постоянная резня по лагерям уже шла. В чём же её отличие от «войны»? Ответа нет. Варлам Шаламов связывает начало войны с указами «четыре-шесть» и датирует её возникновение началом 1948 года. Михаил Дёмин утверждает, что уже к концу осени 1947 года «сучья война» полыхала по всей Колыме: «— Насчёт сучни… Её здесь, оказывается, навалом. В каждом управлении половина лагпунктов — сучьи. — Быть не может… — Всё точно, брат, — сказал со вздохом Леший, — всё точно. На Сусумане — сучня, на Коркодоне тоже. И в Марково, и в Анюйске. И по всей главной трассе… Кругом ихние кодлы!.. Учтите, здесь на Карпунке тоже имеются суки. Недавно — мне рассказывали — такая мясня была, ой-ой! Пятнадцать трупов за одну ночь настряпали». Датировка Дёмина наиболее близка к реальной. Начало серьёзных столкновений между блатными и «ссученными» точнее всего обозначить именно концом 1947 года. Сомнение вызывают только утверждения о том, что к концу 1947 года целые лагпункты на Колыме были полностью «сучьими». За полгода сделать это невозможно. Зэков сначала надо доставить по железной дороге из Центральной России на Дальний Восток, затем — пароходами в Магадан, а уж из «столицы Колымского края» разбросать по лагерям. Для справки. Лагерный пункт — далеко не самая крупная единица в ГУЛАГе. Головная организация (разумеется, помимо московского Управления) — Управление лагерей, объединяющее в себе целый лагерный комплекс (Берлаг, Озерлаг, Карлаг, Кейтолаг и пр.). В состав Управления (Улага) входили единицы помельче — лагерные отделения, состоявшие из нескольких десятков бараков (редко более тридцати) с арестантским населением от нескольких сотен до пяти тысяч заключённых. Ещё ниже — лагерный пункт: филиал лаготделения, созданный на отдалённом рабочем участке (чтобы сократить время перехода из отделения к рабочему месту и число конвоиров). Существовали также голпы (главные лагпункты, которые управляли несколькими им подобными единицами) и олпы (отдельные лагпункты, чаще всего подчинённые непосредственно Управлению лагерей). Филиалами лагерных пунктов, в свою очередь, были командировки — группы или экспедиции зэков и «вольных» в глухих местах (особенно при геологических разработках); совсем уж незначительными считались подкомандировки, выделяемые из командировок. Захватить «половину лагпунктов» новички-«суки» попросту не успели бы: пока придут этапы, пока пройдёт карантин, пока начальство разберётся, что к чему, распределит пополнение… К осени 1947 года под влияние «сук» половина лагпунктов попасть физически не могла. Теперь о названии «сучья война». Почему «сучья»? Такое неблагозвучное название она получила потому, что отступники от «воровского закона» на уголовном жаргоне назывались «ссученными», «суками». В босяцком жаргоне эти понятия сохранились ещё со времён царской каторги. Вот что пишет политкаторжанин Пётр Якубович в записках 1895–1898 годов: «Есть два только бранных слова в арестантском словаре, нередко бывающие причиной драк и даже убийств в тюрьмах: одно из них (сука) обозначает шпиона, другое, неудобно произносимое, — мужчину, который берёт на себя роль женщины». Самым грязным и унизительным в арестантской среде того времени считалось обращение в женском роде. Арестант обязан был смыть такое оскорбление кровью. «Суками», помимо шпионов, называли также сотрудников мест лишения свободы — надзирателей, конвойных… Поэтому назвать «сукой» арестанта значило ещё и поставить его в один ряд с ненавистным начальством. Администрация по отношению к себе считала подобное определение тоже унизительным. П. Фабричный в воспоминаниях о царской каторге пишет: «Однажды старший надзиратель Александровской тюрьмы Токарев говорил: “Назвал бы меня “сукин сын”, “мерзавец”, но не “сукой”, ведь знаешь, что я мог бы застрелить тебя тут же”». Заметим: «сукин сын» — вполне терпимо, но за «суку» и прибить можно! Тонкое лингвистическое различие… Слово «ссучиться» в значении «изменить» зафиксировал автор «Объяснения жаргонных слов» Борис Глубоковский в 1926 году, отбывая наказание на Соловках. Варлам Шаламов замечает: «Спокон веку в блатном мире “сукой” назывался изменник воровскому делу, вор, передавшийся на сторону уголовного розыска. В “сучьей” войне дело шло о другом — о новом воровском законе. Всё же за рыцарями нового ордена укрепилось оскорбительное название “сук”». Но ведь новый закон являлся как раз отступничеством от старого, отрицал его важнейшие постулаты! И «суки» именно становились под крыло лагерного начальства! Так что они полностью соответствовали своему оскорбительному названию. При этом сами отступники сумели нивелировать его унизительный смысл. В беседах со мною о «сучьей войне» старые лагерники охотнее употребляли вместо слова «суки» слово «бляди». Причём с особым «жиганским» акцентом. — Билядзи или суки — одно и то же, — толковал мне Федя Седой. — Просто воры суку чаще «билядзь» называли. — Почему? — Ну, понимаешь, «суками» суки и сами себя звали, это вроде как обычное название «масти». Даже так гордо говорили — «Я — честный сука!» Получается и не позорно, а вроде как Герой Советского Союза… Ну, а для блатных они — гадское племя, бляди. Блядями жили, блядями и подыхали… На протяжении своих рассказов «каторжане» так и называли воров, предавших «идею»: не «суки», а «бляди». Ещё одно тонкое стилистическое отличие… Но это — лингвистика. А вот каким образом указ «четыре шестых» способствовал разжиганию «сучьей войны»? Ответ на этот вопрос касается непосредственно песни «Этап на Север», безысходно-суровых глаз, загубленной жиганской души… Мы уже упоминали в очерке о песне «Бывший урка, Родины солдат», что одной из причин резни стало возвращение фронтовых уркаганов в лагеря, где собратья отбирали у них титул воров и списывали в «мужицкую масть». Но ведь блатные вояки попадали за «колючку» и до печально знаменитых указов — начиная с 1945 года, за насилия и мародёрство на оккупированных территориях и уже на родной земле. Почему же «сучья война» вспыхнула только в 1947–1948 годах? Ну, во-первых, и до указов не обходилось без мелких и крупных стычек, кровавых разборок среди «вояк» и «честных воров». Разброд и шатания среди блатных возникли даже гораздо раньше. Бывший уголовник, писатель Ахто Леви, в романе о воровском законе «Мор» подчёркивает, что корни «сучьего» движения следует искать в довоенном ГУЛАГе. По его мнению, «суки» существовали уже тогда, но «они назывались не везде ещё так и их ещё не резали». Напомним, что задолго до «сучьей войны» в законах уголовного мира стали появляться некоторые изменения. Ещё в 30-е годы, особенно на Беломорканале, «цветные»[16] нередко числились в бригадирах, нещадно эксплуатировали «контриков», заставляли нарядчиков «заряжать туфту» и проч. А во время войны блатных особо часто стали привлекать к бригадирству, чтобы они помогали выжимать из работяг последние соки: «Все вольнонаёмные начальники от прорабов до лейтенантов входили в сговор с блатняками-бригадирами, приписывали им выработку, переплачивали огромные деньги, начисляя зачёты, разрешали паханам пить водку, отнимать заработок у зэков, не стеснялись брать в лапу эти отобранные деньги» (Лев Разгон. «Непридуманное»). Именно в то время появилась знаменитая блатная поговорка (скорее всего, реплика из довоенного фильма): «Самозванцев нам не надо — бригадиром буду я!» Теперь уже для блатного работать считалось не «западло» (особенно на Колыме). Да, часто сам вор не марал белых рученек, ему просто приписывали норму выработки. Но видимость создавал, и для начальства показатель вывода на работу обеспечивался. Важно и другое обстоятельство. К середине-концу 1940-х годов существенно изменилось соотношение заключённых в местах лишения свободы. В лагерях благодаря указу «два-два» стало оседать значительно больше профессиональных уголовников. А «мужиков» и «фраеров» становилось как раз меньше! Только по амнистии 7 июля 1945 года на волю вышли 301 450 зэков, преимущественно «бытовиков». Понятно, этот «пробел» быстро наверстали. Но сказалось и определённое изменение обстановки в обществе. «Мужики» нужны были в колхозах, чтобы кормить страну, на заводах, чтобы её восстанавливать. Война выкосила мужчин, специалистов во всех отраслях народного хозяйства. Приходилось с этим считаться и несколько ограничить террор в отношении этих людей. Конечно, производство существовало и в лагерях, там тоже специалисты были нужны, для того и «шарашки» создавались. Но всё же соотношение блатных и «бытовиков» в ГУЛАГе изменилось. Работяг на всех уркаганов явно могло не хватить… С одной стороны, здесь следует искать скрытые пружины конфликта между «военщиной» и «честными ворами». Принимать лишние рты в блатную компанию значило отдавать своё и потуже затягивать пояс. Не проще ли увеличить за счёт прибывших блатных вояк ряды «пахарей»? Вот тут-то и вспомнили «праведные каторжане» о святых традициях… Поначалу лагерные «законники» не желали воевать с отступниками, они лишь хотели указать им место в «стойле». Если ты однажды смог переступить через воровской закон, то сможешь сделать это и в другой раз. Таким нет доверия среди воров. Придётся переходить в разряд обычных лагерных работяг. Но это — одна сторона медали. Основная причина раскола была всё же не в «вояках», а в том, что после указов 1947 года брожение началось и среди тех, кто во время войны мотал сроки в лагерях. Ведь «братва» привыкла к тому, что большие сроки отмеривали только «троцкистам-уклонистам». Теперь же нужно было приспосабливаться к новой реальности, когда «четвертаки» щедро раздавались и блатным! Двадцать пять лет на зоне — мало не покажется. После привычного года-двух и «червонец» воспринимается как вечность… На это справедливо указывает Шаламов: «Указ 1947 года с его двадцатилетним сроком за незначительные преступления по-новому поставил перед ворами проблему “занятости”. Если вор мог надеяться, не работая, пробиться правдами и неправдами несколько месяцев или год-два, как раньше, то теперь надо было фактически всю жизнь проводить в заключении или полжизни, по крайней мере. А жизнь вора — короткая. “Паханов” — стариков среди урок мало. Воры долго не живут. Смертность среди воров значительно выше средней смертности в стране». А приспособиться к новой обстановке, занять в лагере тёплое, относительно комфортное местечко вор не мог: «По воровскому закону, вор не должен в заключении занимать какие-либо административные лагерные должности, выполнение которых вверяется заключённым. Ни нарядчиком, ни старостой, ни десятником вор не имеет права быть. Этим он как бы вступает в ряды тех, с кем вор всю жизнь находится во вражде. Вор, занявший такую административную должность, перестает быть вором и объявляется “сукой”, “ссучившимся”, объявляется вне закона, и любой блатной сочтёт честью для себя зарезать при удобном случае такого ренегата». Ужесточение законов в 1947 году, повторимся, увеличило количество уркаганов в лагерях и обострило конкуренцию в области выживания за счёт рабочей массы. Не помогло даже исключение «вояк» из «благородного воровского сословия». И тогда в воровской среде появились «теоретики», которые логично решили: раз вору допускалось выходить на общие работы, надо идти дальше. «Воровская масть» должна занять «хлебные» арестантские должности и внутри зоны: нарядчики, хлеборезы, заведующие банями и т. д. То есть стать теми, кого арестантское сообщество именовало «придурками», умеющими устроиться за счёт зэков, которые пашут на тяжёлых работах. Немало блатных склонялось к мысли, что одно дело — «держать стойку», когда тебе впаяли пару лет, и совсем другое — когда «тянешь четвертак». — Мы же не «политики», не «фашисты»! — возмущались они. — Главное — любыми способами захватить власть в зонах, и тогда там действительно будет воровской закон! Кто выиграет от того, что мы все передохнем или превратимся в доходяг? Те же менты! Какой понт корчить из себя несгибаемых, если это на руку только лагерным начальничкам? Однако они кривили душой. Такой шаг подразумевал обязательное сотрудничество с лагерным начальством. А ведь закон требовал без оговорок: никаких дел с «мусарней» — ни на зоне, ни на воле! Конечно, воровские понятия и традиции были достаточно гибкими и под влиянием обстоятельств нередко менялись. Но на сей раз «законники» решили не отступать от принципов, выработанных «шпанским братством». Не только потому, что эти люди были действительно преданы воровской идее. Просто они ясно осознавали: уход под «хозяйское ярмо» («хозяином» в местах лишения свободы называют начальника тюрьмы, колонии, лагеря) означает рабство и потерю реальной власти. Ты становишься холуем, зависящим от ментов. Подобный поворот означает крах воровского сообщества. «Праведные воры» допустить этого не могли. Сумев пережить тяжёлые лагерные времена во время войны, имея солидный авторитет в уголовном мире, «законники» решили не отступать от своих принципов.Уголовщина с военной выправкой
Но вернёмся непосредственно к тексту арестантского романса. И здесь нас ждёт очередное открытие: есть основания полагать, что «Этап», как и «Урка, Родины солдат», в основе своей имеет… фронтовую песню! Её текст сохранился в архиве пермского писателя Ивана Лепина:«Суки любят острый нож»
Чекисты предоставили «сукам» «зелёную улицу», которую те с единомышленниками активно принялись мостить трупами воров. По преданиям старых лагерников, в 1948 году «ссученные» на «толковище» в бухте Ванино приняли свой собственный, «сучий закон». Его краеугольным камнем стало сотрудничество с администрацией, поддержка со стороны лагерного начальства в кровавой резне с ворами. Отступникам нужен был сильный союзник: ведь они составляли меньшинство и в воровском, и вообще в лагерном мире. Будем справедливы: на первых порах «суки» (как и воры) не особо жаждали крови. Их главной целью было другое: заставить воров принять «сучий закон», отказаться от «воровской идеи» и присоединиться к блатарям, которые решили жить в зонах по-новому, «по-сучьи». Кровь была всего лишь неприятной необходимостью в случае, когда воры не желали идти навстречу своему «счастью». Вот что об этом пишет Ахто Леви: «Не физическая смерть воров важна для сук — им важно моральное их падение, духовное поражение; сукам необходимо согнуть воров, заставить отказаться от воровского закона; сукам выгоднее, если воры предадут свой закон так же, как сделали они сами, и станут тогда с ними, с суками, на одном уровне. И вот они идут, достопримечательные суки. На убийства тела и духа, ибо если кто из воров не захочет согнуться — тому смерть. Сукам уже нечего терять, они уже не могут кичиться воровской честью. У воров же что-то ещё осталось, и это необходимо у них отнять». Гулаговское начальство искусственно обеспечило «блядской масти» численный перевес над «законниками». Это стало возможным в тюрьмах с их камерной системой, где воры содержались небольшими группами и были изолированы друг от друга. Чисто «воровских хат» было мало. Существовали, конечно, «абиссинии», «индии», «джунгли» (камеры для блатных), но чаще всего «законники» содержались вместе с обычными зэками. И рассчитывать на их поддержку ворам не приходилось. Вот уж кто меньше всего сочувствовал уголовным авторитетам! Тем более «суки» постоянно подчёркивали, что их главная цель — защитить общую массу заключённых от воровского беспредела. Именно с тюрем начались «гнуловки» — попытки насильно заставить воров отказаться от воровского закона. В камеру заходила специальная команда «сук», вооружённых ножами, заточками, «пиковинами». Они выявляли среди зэков тех, кто относился к «воровскому братству» (благо со многими «суки» прежде вместе «чифирили», ходили на «дело»). После этого отделяли их от общей массы арестантов и предлагали публично принять «сучью веру». Это обязан был сделать каждый в отдельности, при скоплении свидетелей, чтобы потом не было возможности найти для себя никаких оправданий. А если вор упорствовал — начиналась «трюмиловка». Как пишет Шаламов: «Блатарей не убивали просто. Перед смертью их “трюмили”, то есть топтали ногами, били, всячески уродовали… И только потом — убивали». Почему «трюмили»? На блатном жаргоне тех лет слово «трюм» означало тюремный карцер. Тюремная камера считалась наиболее строгим видом изоляции, а карцер (тюрьма в тюрьме), как говорили зэки, «строже строгого». Жаргонное название карцера в воровской сленг пришло из Англии в начале XX века. Занесли его «марвихеры» — воры высокого класса, которые часто «гастролировали» за границей. Один из них, Самуил Квасницкий, вспоминал: «“Трюм” в Скотланд-Ярде сделан очень остроумно. Я думаю, его изобрёл какой-нибудь адмирал. Когда меня втолкнули в карцер, на полу было немного воды и ни одной скамейки». Уже к началу 1948 года появляется различие в «сучьем движении». Если «военщина» называла себя «честными суками», то те, кто дрогнул перед «трюмиловкой», именовались уже «трюмлеными ворами». Долгое время они не могли простить «воякам» своего позора, из-за чего резня вспыхивала и внутри «сучьего ордена». Так было в Ванино между группировками Сашки Олейника и Ивана Упоры (подробнее мы расскажем об этом в очерке «Я помню тот Ванинский порт»). Самым известным «сучьим летучим отрядом» считались «пивоваровцы». С благословения чекистов они во главе со своим предводителем Василием Пивоваровым («Пивоваром») гастролировали по всем тюрьмам страны. Пивовара называли «главным сукой Советского Союза». По одним сведениям, он был бывшим фронтовиком, не имел отношения к блатному миру и в свою команду подобрал тоже сидельцев из военной среды. Согласно другой версии, Пивовар считался авторитетным вором, но «подзасёкся» и был заочно приговорён сходкой к смерти. Тогда он решил показать, кто хозяин положения. Его подручные Ваха и Салтан — ссыльные чеченцы — зарезали кого-то из местных жителей и попали в лагерь, где Ваху приметил Пивовар из-за огромной силы и ловкости. Пивовар и Ваха были неразлучны, чеченец исполнял роль телохранителя «главного суки» и приводил в исполнение его приговоры. Старые каторжане рассказывают, что Пивовара в конце концов убили. Но кто, где, как — никто точно не знает, хотя версий на сей счёт достаточно. Высоцкий и Мончинский вывели Пивоварова в романе «Чёрная свеча» под именем Салавара, а Ваху — под именем Зохи. Там же прекрасно описана «трюмиловка» в исполнении «пивоваровцев»: «суки» клали на грудь непокаявшегося вора железный лист и прыгали на нём до тех пор, пока не проламывали жертве грудную клетку. На первом этапе «суки» позиционировали себя защитниками заключённых от произвола блатарей. Бывший лагерник Валерий Бронштейн — внучатый племянник Льва Троцкого, попавший в Ванино в 1948 году, относил зарождение «сучьего» движения к довоенным временам, но отмечал, что массовый характер оно приняло после войны, особенно на северо-востоке: «Конечно, здесь не обошлось без инициативы руководства ГУЛАГа, и этому содействовали крайне тяжёлые условия жизни заключённых, особенно на Колыме, где урка был обязан работать на равных со всеми. А принцип — “руки тачкой, брат, не пачкай, это дело перекурим как-нибудь” — здесь не существовал. Чтобы не умереть с голоду, ему приходилось “пахать”, как и всем остальным. А попытка кого-нибудь “грабануть” каралась обычно убийством или расстрелом. Поэтому на одном из подпольных сходов, где находился ряд крупных воров в законе союзного масштаба, было принято решение изменить “воровской закон” хотя бы на короткое время. Смысл этих изменений примерно был таков: “Страна испытывает тяжёлое время, и воры, аристократы тюрем и лагерей, должны содействовать стране выйти из разрухи. Мы можем заставить мужика лучше работать, но для этого необходимо обеспечить ему пайку и баланду, чтобы он не умер с голоду. Поэтому давайте служить в комендатуре лагерей, быть бригадирами, нарядчиками и различными “придурками”. Перестанем грабить мужика и обеспечим ему относительное спокойствие на работе. Мы сами выиграем от этого и страна тоже”. И с этого момента произошёл большой раскол в преступном мире, поддержанный руководством ГУЛАГа. Авторитетных бывших воров, а теперь “сук”, развозили по лагерям, где они путём уговоров или силой ссучивали известных им блатных. Правда, им тоже доставалось, и убийства “сук” стали обыденным явлением. Так, мне рассказывали достаточно “крупные суки”, что “вора союзного значения из Одессы”, одного из основателей “сучьего” движения Пивоварова, который, по слухам, был одним из руководителей пресловутой банды “Чёрная кошка”, возили из лагеря в лагерь, и, несмотря на охрану, его всё же убили где-то в Караганде. Большие группы “сук”, имевших своих признанных авторитетов и собственный подход к понятию “сучьего закона”, делились на пивоваровцев, олейниковцев, упоровцев и других. Сюда не относились трюмленые воры, которые ни к кому не присоединялись, а “сучий закон” трактовали как кому выгодно. Поэтому антагонизм среди различных групп “сук” возникал повсеместно. Как правило, он кончался открытой борьбой за тёплые места во внутрилагерном руководстве». Однако чем дальше, тем больше «сучню» начинала опьянять власть. И это обстоятельство в конце концов сыграло против отступников…«Мясня»
Итак, в начале «сучьей войны» воровской мир понёс серьёзные потери. И прежде всего потому, что «сучью идею» поддержало гулаговское начальство. Казалось, что «суки» легко одержат верх над блатными. Тем более что в число «ссученных» в результате «гнуловок» и «трюмиловок» стали входить не только бывшие блатные вояки, но и сотни «честняг», которые предпочли жизнь смерти за идею. Однако и воровской мир не дремал. В конце концов, при любых раскладах численное превосходство блатных над «суками» было слишком велико. Поколебать его не могли даже «трюмиловки». Через пересыльные тюрьмы шлимноготысячные этапы, и «сучьим» гастролёрам не под силу было обработать их. В лучшем случае из этапа на их долю выпадало несколько камер. Остальные же воры успешно добирались до лагерей. А тут дело принимало другой оборот. В лагере «законники» могли вооружиться как следует и дать отпор даже в том случае, когда начальству удавалось оставить их в меньшинстве и нагнать в зону «ссученных». «Суки» в лагерях встретили жестокое сопротивление. Но всё равно в течение 1947–1948 годов Дальний Восток и Колыма, в основном служившие полигоном для обкатывания «сучьего закона», находились под влиянием «блядей» и «отколовшихся». Гулаговскому начальству удавалось обеспечивать для них благоприятные условия, в которых можно было безопасно «гнуть» воров. Переломной оказалась весна 1949 года, когда с открытием навигации на Колыму потекли новые этапы с материка. Указ «четыре шестых» сработал на воровской мир: в Колымский край пошли пароходы Дальстроя, под завязку набитые цветом блатного мира! Послевоенное советское общество основательно занялось чисткой своих городов и весей. Как пишет Шаламов, уже в 1948 году в результате резни воров и «сук» цифра «архива № 3» (умершие) резко подскочила вверх, «чуть не достигая рекордных высот 1938 года, когда “троцкистов” расстреливали целыми бригадами». «Суки» и воры, попадая на одну командировку, с ходу хватались за «пики» и дрыны и бросались друг на друга. Кровь лилась рекой. Под горячую руку попадали все, без разбора, в том числе арестанты, не имевшие отношения ни к ворам, ни к «сукам». Человеческая жизнь вообще перестала что-либо стоить. Ким Пархоменко, один из тогдашних арестантов, вспоминает: «До сих пор помню состояние бессилия, которое испытывал, когда вечером после работы лагерную тишину вдруг разрывал истошный крик и очередная жертва беспредела валилась на землю с распоротым животом. Расправы в лагере в те времена были делом обычным и с каждым годом приобретали всё более внушительные размеры». На это же обстоятельство указывает и Шаламов: «Поднаторев в кровавых расправах (а смертной казни не было в те времена для лагерных убийц) — и “суки”, и блатные стали применять ножи по любому поводу, вовсе не имеющему отношения к “сучьей войне”. Показалось, что повар налил супу мало или жидко — повару в бок запускается кинжал, и повар отдаёт богу душу. Врач не освободил от работы — и врачу на шею заматывают полотенце и душат его». С прибытием новых блатных этапов война вспыхнула с особой жестокостью. Лагерное начальство схватилось за голову. О политике невмешательства не могло быть и речи. Перепуганные начальники попытались изолировать «сук» и воров друг от друга. Сначала в пределах одного лагеря стали создаваться отдельные воровские и «сучьи» зоны. Бесполезно! Тогда стали закреплять за «ссученными» и «честняками» отдельные прииски. Но обе стороны создавали «летучие отряды» для нападений на места обитания противника! В конце концов за ворами и «суками» стали закреплять целые приисковые управления, объединявшие в себе несколько приисков. Так, всё Западное управление Колымы с больницами, тюрьмами, лагерями досталось «сукам», Северное — ворам. Подобное же разделение стало характерно и для лагерей остальной части Союза. В результате пламя «сучьей войны», казалось, несколько утихло. Однако проблем у гулаговского начальства меньше не стало. Теперь начались головные боли с распределением этапов: сначала по камерам, потом — по зонам. Везде надо учитывать «масть» уголовника, иначе спровоцируешь беспорядки. Требуется дополнительный контроль, оформление лишней документации… То ли дело прежде: пришёл зэк, отправили туда, где в зоне свободные места, — и с плеч долой! Теперь же надо решать с оглядкой, а то наживёшь на свою голову приключений. А этапы идут и идут… Нередко тюремщики, плюнув на все тонкости, решались распределить этап по зонам, не разбираясь в «мастях» уголовников. Ворам или «сукам» объявляли, что их везут в соответствующую их «статусу» зону. А дальше — хоть трава не расти… Впрочем, чаще всего это происходило не случайно и не от перенапряжения «начальничков». Это была целенаправленная политика стравливания профессионалов уголовного мира, только теперь — не стихийная бойня, а управляемый чекистами процесс. Одной из скрытых целей было уничтожение организованной преступности или хотя бы такой мощный удар по ней, после которого эта преступность не могла бы оправиться как можно дольше. О том, что воровской этап направляется в «сучью» зону или «сучий» — в воровскую, знало как руководство пересыльной тюрьмы, так и руководство лагеря назначения. А через него оповещались и коренные обитатели, которые соответствующим образом готовились к приёму гостей. Так поступали не только с воровскими, но и с «сучьими» этапами. Но почему? Ведь «суки», казалось бы, держали сторону лагерного начальства. Однако со временем они в зонах оказались наглее и подлее воров и, пользуясь поддержкой начальства, беспредельничали в отношении зэков. Вот что пишет Анатолий Жигулин: «Расскажу о суках, царивших на ДОКе. Главным среди них был Гейша. Его я не видел. Видел я, и видел в “деле”, старшего его помощника — Деземию. Ходил он и в жилой, и в рабочей зоне со свитой и с оружием — длинной обоюдоострой пикой (у всех у них были такие пики — обоюдоострые кинжалы из хорошей стали длиной 30 см). Начальство смотрело на это сквозь пальцы. Однажды я задержался в столовой. Она была пуста, блестела вымытыми до желтизны полами. Только два мужика-работяги спорили из-за ложек — чья ложка? И вошёл с свитою Деземия. Заметив спорящих, он направился прямо к ним. — Что за шум такой? Что за спор? Нельзя нарушать тишину в столовой. — Да вот он у меня ложку взял, подменил. У меня целая была. А он дал мне сломанную, перевязанную проволочкой! — Я вас сейчас обоих и накажу, и примирю, — захохотал Деземия. А потом вдруг молниеносно сделал два выпада пикой, — словно молнией выколол спорящим по одному глазу. И сам Деземия был чрезвычайно доволен своей “шуткой”, и вся свита искренне хохотала, созерцая два вытекающих глаза…» Несколько моих собеседников из числа гулаговских «мужиков» подчёркивали главную особенность таких расправ. Они всегда проводились под видом восстановления справедливости, но с каким-то особым садизмом. Так, в одном из магаданских лагерей «крысятнику» (арестанту, который крал у своих же собратьев) «суки» в назидание другим отрубили обе руки. В другом случае заключённому, посмевшему огрызнуться, они отрезали язык. Ещё одному сидельцу разрезали рот до ушей… Подобное «наведение порядка» способствовало накоплению глухого недовольства, приводило к взрывам негодования. В конце концов это поняли и чекисты. Одно дело, когда блатные режут друг друга, другое — когда портят рабочую силу. Некоторые из старых лагерных работников признавались автору этой книги, что с ворами в зоне к концу 40-х годов и началу 50-х было намного спокойнее, чем с «суками». В «сучью войну» постепенно были вовлечены не только две основные противоборствующие стороны, но и остальной арестантский мир, который в результате воровской резни распался на множество течений, групп и «мастей». В конце концов арестантский мир стал понемногу склоняться в сторону поддержки «честных воров». Вот что пишет по этому поводу Жигулин: «Не стоит романтизировать воров и их закон, как они это сами делали в жизни и в своём фольклоре, как это иногда делали даже известные писатели. Но суки в тюрьмах, в лагерях были для простого зэка особенно страшны. Они верно служили лагерному начальству, работали нарядчиками, комендантами, буграми (бригадирами), спиногрызами (помощниками бригадиров). Зверски издевались над простыми работягами, обирали их до крошки, раздевали до нитки. Суки не только были стукачами, по приказам лагерного начальства они убивали кого угодно. Тяжела была жизнь заключённых на лагпунктах, где власть принадлежала сукам… в случае прихода в лагерь большого воровского этапа суки скрывались в БУРах, власть менялась, лагпункт становился воровским. Облегчённо вздыхали простые работяги».Ничья в пользу воров
Так кто же всё-таки взял верх в «сучьей войне» — «законники» или «бляди»? Если иметь в виду количественные показатели, можно сказать, что резня завершилась вничью. Потерь было достаточно как с той, так и с другой стороны. Пламя кровавых разборок удалось сбить не столько разделением лагерей на воровские и «сучьи», сколько амнистией 1953 года в связи со смертью Сталина. Амнистия практически не распространялась на «политических», зато лагеря освободились от многих уголовников. Кто-то из урок вышел на свободу (при сроке наказания до 5 лет), кому-то сократили срок наполовину. Многие воры не попали под амнистию, поскольку являлись особо опасными рецидивистами и сроки у них были приличные. Зато на волю вышло немало воровской «пристяжи». С другой, «сучьей», стороны освободились многие, особенно участники войны. Лагерная резня потеряла свою массовость. А на свободе, на широких российских просторах накал страстей быстро поостыл. Отколовшиеся не совались в воровское сообщество, а у воров было достаточно своих серьёзных дел, чтобы ещё отлавливать «блядей» по всему Союзу. Разумеется, «сук» заклеймили, призвали «истинных босяков» бороться с ними и уничтожать — но и только. При случае такой возможности не упускали, но специальной охоты не велось. Куда более важно обратить внимание на другие последствия массовой резни уголовников. Серьёзное изучение источников, беседы со старыми лагерниками дают основание сделать вывод о том, что именно массовая резня «сук» и воров привела к значительному укреплению позиций воровского мира и возникновению романтического ореола вокруг «законников» как в местах лишения свободы, так и на воле. «Сучья война» укрепила изнутри, сплотила уголовный мир, подтолкнула его к серьёзным, глубоким реформам. И в результате наша страна получила изощрённое, искусно организованное и мощное преступное сообщество. Чего же ещё можно было добиться гулаговской администрации, поддерживая одних профессиональных уголовников в борьбе против других? Основная масса зэков настороженно и зло относилась как к ворам, так и к «сукам», а заодно и к «начальничкам», поскольку именно в них видела представителей сталинской карательной машины, бросившей арестантов в лагеря. Однако к воровскому миру большая часть сидельцев в период резни стала относиться лучше, чем к «сучьему». Объясняется это просто. Воры были закоренелыми преступниками, — но они не скрывали своих взглядов, принимали за них мученическую смерть. В то время как «суки» в основном оказывались лицемерами, лизоблюдами, холуями, которые добивались такой же власти над «фраерами», как и воры. И в этом им способствовала администрация лагерей! Постепенно воры в глазах остальных заключённых приобретали мученический ореол, становились жертвами, страдальцами. Такова уж русская душа — жалеть тех, кто подвергается гонениям… Но даже не это главное. «Сучьи войны» заставили воров понять: нельзя безнаказанно издеваться над «мужиками», унижать и грабить их. Именно в простом арестанте надо искать своего союзника. Именно в умы рядовых сидельцев следует вдалбливать идею о том, что воровской мир строг, но справедлив, что вор никогда не обидит «честного арестанта», защитит от беспредела. А если подобное произошло — жестоко накажет виновного. Надо, чтобы «мужик» сам принёс тебе то, что до этого ты у него вымогал. До «сучьих войн» даже мысли об этом не было. «Фраер» существовал для того, чтобы кормить блатного и пахать на него. Блатной мог делать с «фраером» что захочет — вот основные правила довоенного лагерного сообщества. Теперь же всё стало постепенно поворачиваться по-иному. Вор провозгласил себя радетелем за арестантское благо, защитником и покровителем сидельца. Простой зэк стал замечать что-то странное. Там у старика здоровые лбы отняли передачу — и вот уже на глазах у всех арестантов по приказу вора беспредельщиков забивают ломами. Вору сообщили, что у одного из «мужиков» умерла жена и на воле сиротами осталось двое малолетних детей. Через некоторое время «мужик» узнаёт, что его ребят одели, обули, дали немного денег на первое время… Это не пустые байки — так действительно случалось! Как?! Неужто это те самые «законники», которые запросто могли мимоходом «подрезать доходягу» и глазом не моргнуть? Те же. Конечно, подобных случаев показного благородства было не так много. И все они были рассчитаны на театральный эффект, передавались из уст в уста, обрастали удивительными подробностями… Но мощная, хитроумная пропаганда давала свои результаты. Они ощутимы и по сей день. И сейчас в зоне «мужик» в трудную минуту скорее обратится за помощью к вору, «смотрящему», «положенцу», а не к администрации. Ему помогут далеко не всегда. Однако внимательно выслушают и скажут пару нужных слов. Добрых. Сочувственных. Особо «оборзевшего баклана», притесняющего арестантов, быстро обломают. А уж если помогут — об этом будет знать вся зона, и за зоной, и родственники, и знакомые… Это — прямое последствие «сучьих войн», начало которым положил указ «два-два». Вот как много может скрывать под жиганским бушлатиком арестантская песня…
Как из надрывного пароходного хрипа родился гимн колымских лагерей «Я помню тот Ванинский порт»



Мнимые авторы: сталинист из Оймякона
Авторы музыки и слов этого лагерного шедевра неизвестны. Но если по поводу сочинителя мелодии нет даже версий, то претендентов на роль создателей текста — великое множество. Для низового фольклора такая ситуация — не редкость. Разные люди «пробовались» на роль творцов «Мурки», «Гоп со смыком», «Постой, паровоз» и пр. Кто-то назначал себя сам, кого-то называли исследователи и «очевидцы». Но «Ванинский порт» породил больше всего «детей лейтенанта Шмидта». И прежде чем перейти к рассказу о песне, разберёмся с их притязаниями. Начнём с Бориса Александровича Ручьёва (Кривощёкова) — известного советского поэта. Дело в том, что к распространению мифа о его авторстве приложил свою руку и я, когда опрометчиво поддержал предположение Виктора Астафьева. Теперь ссылки на Астафьева и на меня стали общим местом. Например, в статье «Гимн колымских зэка» Ольга Энтина пишет: «Впервые версию о связи знаменитой лагерной песни с именем известного советского поэта-коммуниста выдвинул в газете “Известия” писатель Виктор Астафьев: “Я знаю автора — это Борис Ручьёв. При жизни он так и не признался в авторстве”. Того же мнения придерживается и один из самых известных сегодня в России знатоков блатного жанра Фима Жиганец..: В интервью “Новой газете” Жиганец говорит прямо: “В настоящей арестантской песне есть душа — вспомните хотя бы “Я помню тот Ванинский порт” Бориса Ручьёва…”» Однако впоследствии я понял, что обстоятельства лагерной биографии, жизни и творчества Ручьёва свидетельствуют против этой версии. Борис Ручьёв был арестован в Златоусте 26 декабря 1937 года, а 28 июля 1938-го приговорён по «политической» 58-й статье УК РСФСР к десяти годам лишения свободы. Срок отбывал на Колыме в лагерях Севвостлага НКВД с 1938 по 1947 год. Лагерные годы Ручьёва связаны с «полюсом холода» Оймяконом — якутским селом на левом берегу реки Индигирки. Но попал туда поэт, когда ни о каком порте в бухте Ванино не было и речи. Решение о строительстве порта было принято только в 1943 году, а до этого арестантов доставляли в Магадан через Находку и Владивосток. К тому же по мировоззрению Борис Ручьёв явно не был склонен к созданию песен тональности «Ванинского порта». Борис Александрович был до мозга костей советским человеком. Так, поэт и публицист Валентин Сорокин в очерке «Высокое страдание» передаёт слова Ручьёва: «Валентин, не ругай Сталина. Не лезь в газетную политическую грязь. Сталин зачем нас, — Ручьёв ударял кулаком в грудь, — таких крепких собрал, зачем? Ринулась бы Япония сюда, к нам, вот мы бы ей тут и поддали. Сталин вооружил бы нас — мы и поддали бы. Мы же, политзэки, не предатели, а патриоты, понял? Сталин — не дурак. Сажал не кого попало, а нас, понял?» Очевидна наивность подобных взглядов (во время войны именно «политическим» была закрыта дорога из лагерей на фронт). Но главное в другом: исходя из своего лагерного опыта, поэт иначе оценивал общую массу арестантов. Вот что он пишет в поэме «Полюс»:Мнимые авторы: Фёдор Дёмин и его «берестяная грамота»
5 марта 1994 года «Комсомольская правда» публикует письмо Аркадия Дёмина «Он помнил тот Ванинский порт», где автор утверждал, что песня написана в 1939 году его отцом, Фёдором Михайловичем Дёминым (Благовещенским). Сын сообщал: «Я не знаю, кто написал музыку, но твёрдо знаю, что первоначальный текст написал мой отец — Дёмин Фёдор Михайлович в 1939 году в лагере на Колыме. В 1937 году он окончил историко-филологический факультет Куйбышевского педагогического института и в этом же году по доносу своего друга был арестован. За сочинение “контрреволюционных стихов” получил 10 лет. В 1939 году моего отца этапом по железной дороге перевозят на Дальний Восток в порт Ванино, где погружают на баржу и везут в Магадан. Страдая от качки и жажды (кормили селедкой), отец сочиняет стихотворение “От качки страдали зыка”. Прибыв в лагерь на Колыму, он записывает слова этой песни на берёсту, которую сохраняет от лап охранников и с помощью товарищей передаёт на волю». В 1944 году Дёмин освободился, воевал на Украине, был контужен. После войны подделал документы и сменил фамилию на Благовещенский. Поступил в Москве в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, работал редактором литературно-драматических передач Всесоюзного радио. В 1951 году его снова арестовали, однако с помощью Фадеева ему удалось освободиться. В 1962-м в Грозном Дёмина арестовывают в третий раз и конфискуют все рукописи. Верховный суд Чечено-Ингушской АССР признаёт его опасным рецидивистом и осуждает на 10 лет. В числе прочих ему в вину вменялась обнаруженная в рукописях «антисоветская» песня. Освободили Дёмина пять лет спустя, однако до самой смерти в 1978 году он находился под наблюдением КГБ. Годом позже более подробно эту тему освещает поэт Андрей Вознесенский в очерке «ПРОВИНЦИЯ: Из Самары с “amour”»: «Эта великая песня, протяжный лагерный гимн, — “Священная война” ГУЛАГа. Автор считается неизвестным. Поговаривали, что Ольга Берггольц. И вот на следующее утро я встречаюсь с Аркадием, сыном автора, офицером в отставке, держу в руках берестяную книгу. Эта книга, склеенная из проутюженных листов берёсты — в лагере бумаги не было, — удивительно легкая, сухая, на ней записаны чернилами расплывчатые от дождей ли, от слёз строки стихов лагерного поэта. Его звали Фёдор Михайлович Дёмин-Благовещенский… Известные стихи в его записи имеют в рукописи не совсем канонический текст:1938. Бёрёлёх
Мнимые авторы: Григорий Александров и «чекисты-фольклористы»
Особо остановлюсь на версии, которую выдвинул литературовед Владимир Бахтин. В его статье «Я помню тот Ванинский порт: автор и песня» создателем текста назван бывший зэк Григорий Матвеевич Александров. Бахтин поясняет, что на конференции «Фольклор ГУЛАГа» фольклористка Анна Некрылова передала ему письмо Александрова, адресованное неизвестному лицу. Вот что писал лагерник: «Уважаемый С. М.! Вы по телефону попросили у меня автограф. Посылаю неискалеченный “филологами” КГБ свой стих “Колыму”. Я написал его в 1951 году на 706-й командировке (лагпункте) Тайшетлага, куда я попал за уничтоженную чекистами рукопись “Пасмуровое стадо обезьян” (о злодеяниях Сталина). Мотив к стихам напел товарищ по нарам Зиновьев, а через неделю его убили “при попытке к бегству”. “Попытка” — наглая ложь! Собака, на работе, перегрызла ему горло, а охранник в упор пристрелил его двумя пулями — в лоб и в грудь. О Зиновьеве донёс сексот, что он автор музыки, и только за это Зиновьева убили. Узнай сексот о моём авторстве, я несомненно разделил бы участь погибшего. В позапрошлом году я прочитал в журнале и услышал по телевизору, что “Колыма”, невесть почему, названа “Ванинский порт” и наречена народной песней. Я весьма рад, что песня стала народной. Авторство никогда не прельщало меня. Но мне обидно за муки Зиновьева. Но даже не это главное. Недобрые руки изменили стихи. Чьи — понять не трудно…» Далее в письме приводится текст Александрова:Мнимые авторы: «Костя-пират» — сатрап и стихотворец
И наконец, последний претендент. Магаданский писатель-краевед Александр Бирюков выдвинул версию о том, что «гимн колымских зэка» создал Константин Сараханов. Биография этой колоритной личности весьма интересна, но не даёт оснований считать версию его авторства достаточно обоснованной. Прежде всего, Сараханов никогда не был зэком и не проходил через Ванинский порт. Хотя под следствием находился несколько раз. Впервые — в декабре 1937 года, когда он, технический руководитель прииска «Штурмовой», был брошен в магаданский следственный изолятор. Правда, уже в конце февраля 1938 года его выпускают из-под стражи. По одной из версий, инициативный инженер был освобождён из тюрьмы по личному указанию начальника Дальстроя Карпа Павлова, которому срочно понадобился энергичный техрук на прииск «Мальдяк», где складывалось катастрофическое положение с планом. Вскоре за успехи в золотодобыче Сараханов получил орден. Вторым орденом его наградили через год, когда он стал начальником прииска «Ударник». Впрочем, после войны Сараханов вновь попадает под следствие — по «делу геологов» 1949 года. Что это за дело? Интригу закрутила корреспондент газеты «Правда» А. Шестакова, по образованию — геолог. Согласно одной из версий, во время посещения Красноярского геологического треста Шестакова увидела в экспозиции образец тюямунита — урановой руды из Ферганы. Журналистка, однако, выдала минерал за красноярский и заявила, что в Красноярском крае существует месторождение урана, которое скрывается от правительства. Сталин приказал арестовать всех «виновных». В 1949 году были репрессированы 27 человек. Затем обвинение расширили: следователи «докопались» до того, что «вредители-геологи» скрывают от правительства месторождения не только урана, но и других полезных ископаемых. Именно эта история получила название «дело геологов» или «Красноярское дело». По другой версии, геолог Яков Эдельштейн ещё в начале XX века дал отрицательную характеристику югу Красноярского края как безнадёжному для промышленного использования (так называемое «белое пятно» Эдельштейна). Но якобы после взятия Берлина в руках советской разведки оказались секретные документы, в которых содержалась информация, опровергавшая прогнозы Эдельштейна. Якова Соломоновича и его соратников заподозрили в сокрытии богатств Красноярского края, а геолог-журналист Шестакова подвела под дело «теоретическую основу». Учёные оказались за решёткой, Эдельштейн скончался в тюрьме в 1952 году. А Сараханова как раз в период следствия по «делу геологов» перебрасывают на строительство красноярского рудника «Юлия», и он оказывается в самом центре событий! Рудник лично посетила Шестакова, после чего Сараханов во второй раз попадает за решётку на несколько месяцев. Однако никакой вины за ним не нашли. Об этой истории повествует в своей книге «По царским и сталинским тюрьмам» бывший зэк — геолог Владимир Померанцев, знакомый с Сарахановым по прииску «Юлия». Автор рисует неприглядный портрет Константина Константиновича: «В день приезда на “Юлию” я был вызван к начальнику строительства будущего рудника… Сараханов в форме горного полковника (таких полковников называли “павлинами” за большое число золотых и синих нашивок на рукавах) пренебрежительно осмотрел меня строгим взглядом с головы до ног, выждал несколько мгновений и только потом милостиво предложил сесть. Это был могучий мужчина, когда-то, надо полагать, блестящий красавец, брюнет, теперь с сединой в чёрной вьющейся и всё ещё огромной шевелюре. Передо мной сидел легендарный Костя-пират… Сараханов долгие годы слыл на Колыме грозным полубогом в округе, по площади равной небольшому европейскому государству. В его беспредельном и бесконтрольном владении находились люди и природа: оловянные рудники, золотые прииски, угольные шахты, лесные разработки, все виды транспорта и связи и лагеря, лагеря, лагеря заключённых. Когда на прииске появлялась буквально упавшая с неба (у него был свой самолёт) фигура Сараханова, одетая в нагольный полушубок, подпоясанный широким красным кушаком с болтающимся на боку маузером, в папахе, заломленной на торчащих во все стороны чёрных кудрях; когда эта фигура, с утра полупьяная, шагала размашистым шагом по прииску, изрыгая звероподобным рыком матерщину, когда за ним, почтительно отстав на два шага, семенили и забегали по сторонам всех родов “шестёрки”, готовые по первому знаку владыки кинуться избить, связать, отнять что бы то ни было, — тогда местным вольным, полувольным и заключённым жителям оставалось только одно: шёпотом передавать друг другу информацию — Костя-пират приехал! За какой-то сверхвыходящий за рамки произвол Костю-пирата отдали под суд. Но ворон ворону глаз не выклюет. Он отделался лёгким испугом — назначением с дальнего Севера на ближний… И вот теперь, пока не приглядел ещё себе дела по своей широкой натуре, Сараханов сидел скромным начальником строительства рудника “Юлия”». Нарисованный образ вызывает некоторые сомнения. До второго ареста Сараханов не поднимался выше техрука прииска. В 1938 году по выходе из СИЗО «Костю-пирата» не отправили «с дальнего Севера на ближний», а поставили инженером на прииск «Мальдяк». Затем повысили — но опять-таки власть его ограничивалась пределами отдельногоприиска «Ударник», который он возглавлял. Так что о «бесконтрольной власти» над десятками лагерей, рудников, шахт и речи быть не могло. С другой стороны, уже то, что Сараханов дослужился до «горного полковника», говорит о многом. Горный директор I ранга (как правильно звучит это звание, учреждённое в 1947 году) относился к числу старшего начальствующего состава работников горной промышленности и строительства рудников Министерства чёрной металлургии СССР. Это звание было одним из самых высоких в отрасли: выше — только Горный генеральный директор I ранга, то есть «горный генерал». Подобных высот вряд ли можно было достичь без рабской эксплуатации лагерников: планы по добыче золота спускались завышенные. Многие колымские зэки вспоминают, что именно в годы руководства Сараханова «Мальдяк» считался одним из самых страшных приисков. Потому и кинули «Костю-пирата» на красноярскую «Юлию» (где работа застопорилась): этот — может выжать! Не самая лучшая характеристика для автора «Ванинского порта»… Итак, биография Сараханова не располагает к тому, чтобы приписать ему авторство «колымского гимна». Как говаривал персонаж Буркова в фильме «О бедном гусаре замолвите слово»: сатрап, он и есть сатрап. Существует, однако, обстоятельство, которое вроде бы говорит в пользу «сатрапа»: он действительно был незаурядным поэтом. Вот одно из его произведений, которое приводит Бирюков:«Я помню тот Ванинский порт»: посёлок и пересылка
Бухта Ванина (или Ванино) на западном берегу Татарского пролива получила своё название в 1876 году в честь военного топографа Иакима Ванина, работавшего в составе экспедиции 1873–1874 годов под руководством Логгина Большева. До начала XX века никаких посёлков тут не было. Лишь в 1907 году возникает небольшое поселение Тишкино — по фамилии Ивана Тишкина, которого называют лесопромышленником (а также — плотником или рыбаком). Так продолжалось долго. Здешний старожил Иван Серов рассказывал о конце 1930-х годов: «Тогда в районе Ванино стояло всего-то два домика и пустой барак. Вокруг тайга… Здесь жили рыбаки из рыболовецкого колхоза “Заветы Ильича”». Положение изменилось в середине Великой Отечественной войны, с выходом постановления Государственного Комитета обороны № 3407 «О строительстве железнодорожной линии Комсомольск — Советская Гавань» от 21 мая 1943 года. Именно в нём закреплено решение о строительстве Ванинского порта: «Открыть движение по железнодорожной линии к 1 августа 1945 года. К этому же сроку построить в бухте Ванино три морских причала». Официальной датой основания порта считается 18 октября 1943 года: причалов ещё не было, зато утвердили штатное расписание портового пункта. Первый пирс сдали в эксплуатацию к апрелю 1944 года, но он не мог принимать морские суда. Матрёна Кондакова добиралась в Ванино к мужу (сотруднику охраны) 17 июня 1944 года из Совгавани, куда прибыла на пароходе «Совет», по бездорожью, одолев пешком 32 километра! Штаб охраны находился на единственной улице. Охранники жили в землянках. Первый поезд из Комсомольска прибыл в посёлок 20 июля 1945 года. Ванино стало превращаться в пересылку с «материка» на Колыму лишь спустя два с лишним года. До этого основными транзитными пунктами были Владивосток и Находка. Командир дивизиона охраны Михаил Безносиков вспоминал, что в 1947 году зоны только начинали строить, а первые три сдали в 1948 году. Бывший лагерник Валерий Янковский, однако, утверждал в мемуарной повести «Побег», что уже в 1947 году Ванино насчитывало пять отдельных зон. Этап шёл за этапом: с колёс на пароходы и обратно. Впрочем, на первых порах проходимость через Ванинскую транзитку была невелика: за весь 1948 год в Колымский край завезли лишь около пяти тысяч заключённых. Тому были объективные причины: 19 декабря 1947 года в Нагаевской бухте Магадана взорвался пароход «Генерал Ватутин», а следом взлетел на воздух пароход «Выборг». К началу навигации 1948 года чудовищные последствия этих взрывов в порту устранить не удалось, и Колыма оказалась не готова к встрече многолюдных этапов. В целом же в Ванино, по свидетельству оперуполномоченного Петра Кручака, к началу 1949 года находилось всего 10 тысяч сидельцев. А вот 1949 год — начало «расцвета» Ванинской пересылки. Если к 1 января 1949 года на Колыме насчитывалось 108 685 заключённых, то к 1 января 1950 года их стало уже 153 317. То есть увеличение составляет около 45 тысяч человек (с учётом смертности в лагерях — свыше 50 тысяч). Большая часть новичков прошла как раз через Ванино. Многие исследователи и мемуаристы чудовищно завышают сведения о количестве заключённых, прошедших через Ванино. Варлам Шаламов называл «миллионы» человек, Анатолий Жигулин утверждал, что за период с 1947 по 1953 год численность транзитных арестантов достигла полутора миллионов. Однако историки, опираясь на архивные документы, установили, что на Колыму через Ванинский порт до 1954 года ушло от 300 до 400 тысяч заключённых. В большинстве по этапу отправляли бытовиков и уголовников, «политики» составляли около трети «пассажиров». Помимо пересылки, в посёлке действовали местные лагерные зоны. Например, производственный и портовый лагерь, которым командовал бывший фронтовик Иван Сильченко. Заключённых он отбирал на транзитке: лично беседовал с каждым, учитывал срок, профессию, характер и настрой человека. Рабочие этой зоны работали на строительстве жилья, дорог и т. д. Транзитники называли этот лагерь «коммунистическим», многие стремились туда попасть. В производственной зоне были свой клуб, концертная бригада, порядки устанавливались работягами-«мужиками» и «политиками». «Коммунистический лагерь» насчитывал до тысячи человек. Бригадиром другого «рабочего лагеря» был тоже фронтовик, кавалер четырёх орденов Яков Крылов, осуждённый за «растраты» при оприходовании трофейного имущества. В лагере действовала система зачётов рабочих дней, после смены открывался буфет, где продавались папиросы и сладости. Подобные лагеря существовали и вокруг Ванино. Зэки работали на полях, выращивали огурцы, капусту, картофель, помидоры. Применялись зачёты — день за три. Зарплата была высокой, до 1200 рублей в месяц. В Центральном лагере, на Серпантине, Горячем Ключе занимались заготовкой леса. В Хурмулях были лагеря, где сидели заключённые из числа офицеров, которые в годы войны попали в плен, а после войны не прошли во время фильтрации проверку. Практически в каждом распадке между сопками находились мужские лагеря по 400–500 человек. Строили железную и шоссейную дороги, станции, здания. Но самым крупным и значимым был, конечно, транзитно-пересыльный лагерь в посёлке Ванино. В «лучшие годы» здесь насчитывалось 18 зон. Этапы со всех концов Советского Союза прибывали по железной дороге на станцию Малое Ванино. Отсюда заключённых вели под конвоем на «Куликово поле» — сборный пункт под открытым небом, обнесённый колючей проволокой. Затем — санпропускник, баня, распределение в зоны соответственно «мастям». Каждая категория — в отдельный «загон»: воры, «суки», «махновцы» (беспредел), бандеровцы, власовцы, «военщина» (фронтовики), «красные шапочки» — бывшие работники суда, прокуратуры, МВД… Эти группы разбавляли бытовиками и «политиками». По словам бывшего заключённого Валерия Бронштейна, осенью 1948 года пересылка представляла собой большую территорию, огороженную высоким бревенчатым забором, несколькими внутренними поясами колючей проволоки, частоколом сторожевых вышек. Лагерь был разделён на три огороженных, но сообщающихся между собой зоны, внутри которых находились бараки. В случае чрезвычайных обстоятельств зоны можно было перекрыть. Вход в лагерь — через проходную и большие двухстворчатые ворота. Слева при входе — каменный БУР (барак усиленного режима). Далее большое и высокое деревянное здание, прозванное «вокзалом». Оно служило для временного проживания новичков с этапа; отсюда их сортировали по зонам и баракам. Внутри «вокзала» — многоярусные нары, на которые арестанты поднимались по приставным лестницам. Бронштейн замечает: «Ванинский лагерь представлял собой большой загон, где одновременно могут находиться несколько тысяч заключённых, блуждающих по территории и никем не контролируемых. Понятно, что внутри лагеря властвовали “законы джунглей” и никакие другие там не действовали. Поэтому пересылка Ванинского порта получила мрачную славу гиблого места, где жизнь человека ничего не стоила, а твоя пайка хлеба отнималась сразу же после её получения».«Я помню тот Ванинский порт»: всесоюзная «мясорубка»
В транзитно-пересыльном лагере Ванино, как и по всему ГУЛАГу, шла жестокая резня между «честными ворами» и «суками» — предателями воровской идеи. Сразу с этапа эти «масти» должны были распределять по разным зонам. Однако так случалось далеко не всегда. По большому счёту, Ванинскую пересылку можно назвать «сучьей». Местное лагерное начальство чаще всего принимало сторону бывших воров, ставших на службу администрации. Варлам Шаламов в очерке «Сучья война» даже сообщает, что именно на ванинской пересылке родился «сучий закон» (в противовес воровскому), и создателем его называет мифического уголовника по прозвищу Король, которому приписывает и традицию «целования ножа»: «Новый обряд ничуть не уступал известному посвящению в рыцари. Не исключено, что романы Вальтера Скотта подсказали эту торжественную и мрачную процедуру. — Целуй нож! К губам избиваемого блатаря подносилось лезвие ножа. — Целуй нож! Если “законный” вор соглашался и прикладывал губы к железу — он считался принятым в новую веру и навсегда терял всякие права в воровском мире, становясь “сукой” навеки… Всех, кто отказывался целовать нож, убивали». Однако сам Шаламов никогда не проходил Ванино (он попал на Колыму ещё до войны) и всего лишь пересказывал чужие байки. Никакого Короля в Ванино не было, никто из старожилов о нём не слышал. Однако прообразом «авторитетного суки» можно считать нескольких уголовников — Сашку Олейника (Олейникова), Ивана Фунта, Ивана Упору (Упорова)… И «ссучивание» воров происходило примерно по тому сценарию, который описан Шаламовым. Так, один из ванинских очевидцев рассказывал: «Запомнилось, как Олейник весь этап в лагере положил. Ходит по головам заключённых: “Ты будешь сукой?” Офицеры стояли в сторонке, смотрели». Согласитесь: очень похоже на описание обряда, якобы введённого Королём. Вадим Туманов, прошедший пересылку в конце 1948 года, вспоминает бывшего вора Ивана Фунта, которого перебросили в Ванино из Владивостока (где Туманов встретил его впервые). «Сучий обряд» Фунта ещё более близок «королёвскому»: «В его окружении знакомые лица — Колька Заика, Валька Трубка, другие бандиты… По формулярам стали выкрикивать воров. В числе первых назвали Володю Млада. Его и ещё десять-двенадцать человек поставили отдельной шеренгой. Поблизости был врыт столб, на нём кусок рельса. К шеренге подошёл Колька Заика, держа в опущенной руке нож. Этап, четыре-пять тысяч человек, сидя на корточках, молча наблюдал за происходящим. Первым стоял молодой незнакомый мне парень. К нему шагнул Заика: — Звони в колокол. Это была операция по ссучиванию так называемых честных воров — заставить их ударить по рельсу, “звонить в колокол”. Что-либо сделать по приказу администрации… означало нарушить воровской закон и как бы автоматически перейти на сторону сук, так или иначе помогающих лагерному начальству. — Не буду. — Звони, падла! — Заика с размаху ударил парня в лицо. Рукавом телогрейки тот вытер кровь с разбитых губ. — Не буду. Тогда Заика в присутствии наблюдающих за этой сценой офицеров и всего этапа бьёт парня ножом в живот. Тот сгибается, корчится, падает на землю, дёргается в луже крови. Эту сцену невозмутимо наблюдают человек двадцать офицеров. Заика подходит к следующему — к Володе Младу. Я вижу, как с ножа в руке Заики стекает кровь. — Звони в колокол, сука! Над плацем мёртвая тишина. Девичье лицо Млада зарделось чуть заметным волнением: — Не буду. Заика ударил Млада в лицо ногой, сбил на землю, стал пинать сапогами, пока другие бандиты не оттащили почти бездыханное тело в сторону… Третий побрёл к столбу и ударил, за ним четвёртый, пятый… Часа через три этап подняли и повели в зону». Вообще поначалу среди «сук» не было единого мнения по поводу обряда развенчания воров. Так, по рассказу Шаламова, воркутинские «ссученные» не одобряли жестокости колымчан, отрицательно относились к «трюмиловкам». Они считали, что просто убивать «нераскаявшихся» воров — нормально. Но дополнительная жестокость — это уже лишнее. Воркутинцы были «гуманистами»… А вот писатель Анатолий Жигулин, малолеткой побывавший в ГУЛАГе, рассказывал, будто бы в лагере, где он отбывал наказание, вместо ножа целовали… половой член «главного суки»! Не подвергая сомнению это свидетельство, оговоримся: если подобные «церемонии» имели место, то лишь в отдельных лагерях — как местная самодеятельность, но не как осуществление общего «сучьего закона». Такое «целование» не переводило бывшего вора в разряд «сук», а делало изгоем, ничтожеством, «пидором». Ведь целование члена или даже невольное прикосновение к нему губами расценивается в уголовно-арестантском мире наравне с половым актом в качестве пассивного партнёра. Но вернёмся в Ванино. Как уже отмечалось, поначалу здешняя пересылка фактически была «сучьей». Старший надзиратель Иван Силин рассказывал: «Фунт делал всё, что хотел. Хозяин зоны. Требовал: “Приведите мне женщину”. Приводили, и в зоне наступала тишина, хоть охрану с вышек снимай. Фунта хотели зарезать, в зоне у него был свой угол, охраняли его сами воры. Фунт отбивался, убил двоих или троих. “Начальству пересылки было выгодно существование таких воров “в законе”. Они не работали, зато обеспечивали работу других”. Фунта освободили в 1953 году. За то, что хорошо руководил ворами. Говорят, Фунта перехватили в Комсомольске и убили. Кличку старожилы объясняют так: отец Фунта сидел в Магадане и обещал фунт золота тому, кто убьёт младшего сына за то, что тот служил начальству». Впрочем, значительно больше лагерников в качестве коменданта вспоминают Сашку Олейника (Олейникова): «Олейник, бывший лётчик, работал в портовской зоне, ходил всегда с тросточкой, а в ней “пика” была… Один из старожилов рассказывал о своей первой встрече с Олейником: “Как-то пришла бригада с новым бригадиром. Кто это? — Олейник. — Имя это я уже слышал. И когда они паковали свинец в ящики для отправки в Магадан, я с ним разговорился… Воры в законе не работают, а Олейник, как и все, паковал свинец… Вот что Олейник рассказывал: “Закончил школу, поступил в авиационное училище. А тут война, стал летать, сбили под Москвой. Долго лежал в госпитале, подлечили, комиссовали, пришёл домой. Мать у меня одна. На работу не устроился. Подвернулись ребята, одно дело проделали, второе, а на третьем попался. Дали срок”. Олейник был небольшого роста, плотный, крепенький. Всю зону держал, руководил “суками”. Инстинкт был развит так, что чувствовал, когда на него нападение готовят. Ночью, когда к нему пробовали подойти, вскакивал, тогда уже никто не трогал”». Намёк на лётчицкое прошлое Сашки есть и в воспоминаниях Юрия Фидельгольца «Беспредел»: «Мельком мы увидали знаменитого бандита Олейникова в шлеме лётчика. Глаза у него действительно были злые, пронзительные, зелёные, как у рыси». Валерий Бронштейн, знакомый с Сашкой куда ближе, напротив, рисует привлекательный портрет (тоже с лётчицкими атрибутами): «Как правило, Сашок был одет в тёплую шерстяную военную гимнастёрку, галифе, а на ногах обуты “собачьи” лётные унты. Из-под кубанки торчал густой тёмный чуб. Был он молод, красив, и мне казалось, что в нём где-то под нарочитой грубостью скрывался более мягкий человек, хотя разум говорил: это не может быть у крупного урки-убийцы». Именно Олейников первое время был «главным сукой» ванинской пересылки. При нём был наведён относительный порядок, прекратились грабежи осуждённых ворами, резко сократилось количество убийств. Валерий Бронштейн прибыл в бухту Ванино в начале осени 1948-го. Как раз незадолго до этого здесь организовали внутреннюю комендатуру из «сук» во главе с Сашкой Олейниковым. Бронштейн рассказывал, что Олейник со своими людьми из комендатуры, численностью около тридцати человек, опираясь также на других «сук», ввёл в лагере жестокую дисциплину: «За малейшее нарушение распорядка или правил поведения — удар железным прутом, завёрнутым в кусок одеяла. Зато свою законную пайку чёрного сырого хлеба каждый зэк получал. Не было больше открытых грабежей и убийств. Число погибших значительно сократилось… В Ванино правили бал “суки”, и всякая мелкая шушера, типа полуцветных или заблатнённых, притихли и не высовывались. Крупные воры в законе сидели в “буре” и их постепенно “ссучивали” или убивали». С воцарением «сучьего закона» простым зэкам жить стало значительно легче. Каждое утро комендатура устраивала обход жилых бараков: «Олейник, окружённый своими приближёнными и охраной, стремительно входил в барак и останавливался около стоящего на середине стола… Обведя взглядом нары, он спрашивал: “Мужики, пайки свои вы все получаете? Барахлишко не грабят?” Если кто-то из зэков заявлял, что у него отобрали пайку или тёплую последнюю одежду, и указывал виновного, того выводили наружу и избивали до полусмерти». Через некоторое время ванинские «начальнички» так же, как и их коллеги по всему ГУЛАГу, стали стравливать «сук» и воров. Бывшая лагерница А. Сударева вспоминала: «Когда этап прибывал к месту назначения, все уже знали, кого привезли: воров или “сук”. Если воров, то “суки” стоят, ждут. Если “сук”, то воры стояли вдоль проволоки в зонах, а утром вывозили мёртвых на кладбище, трупы всегда сопровождал конвой». Часто «сук» и воров «келешевали», то есть смешивали, бросая одних в зоны к другим. Так во второй, «воровской» зоне блатные выстрогали столб и вымазали его мёдом. Столб укрепили наверху между бараками. На столб загоняли «ссучившегося». Сумел пройти — твоё счастье, не сумел — разбился. Затем труп подбрасывали к вахте. Старший сын известного белогвардейского генерала Анатолия Пепеляева Всеволод прошёл Ванино в конце лета 1948-го. В книге «Наказание без преступления» он вспоминал: «Верховодят здесь бывшие воры, они — начальство, они сортируют прибывшие этапы, сразу распознают своих бывших “коллег”, отводят их в сторону. Тут некоторые и “ссучиваются”, т. е. соглашаются работать. Их назначают нарядчиками, дневальными, поварами, охранниками и другими “лагерными придурками”. Но некоторые — вероятно, настоящие “законники” — куда-то исчезают. Они — непримиримые враги. Если в камеру, где сидят воры, попадёт “сука” — обязательно зарежут; так же вор, попавший к “сукам”, не останется в живых. А списать зэка с “баланса” легче всего. Воровские законы нерушимы, жутки, но они же и защитят заключённого. Если “крохобор” украл у зэка законную пайку — забьют до полусмерти… Надо быть справедливым. Не знаю, как в других лагерях-пересылках, но где пришлось быть мне, воры поддерживали порядок». Другие очевидцы не разделяют такой оценки воров, отмечая как раз полный беспредел с их стороны. А. Шашкина в своём исследовании «Ванинская пересылка» пишет: «Когда приходил этап, вор “в законе” забирал понравившиеся ему вещи. Люди шли на зимовку, на годы каторги, брали с собой тёплые вещи, обувь. У воров всегда создавался запас свитеров, костюмов. Вот и делились с надзирателями, откупаясь от них. Вору “в законе” прямо в зону приносили всё, что ему хочется, любые продукты. Те заключённые, которые получали посылки, обязаны были делиться. Они сами понимали, если этого не сделать, их могут заколоть “пикой” на выходе из почты, а вещи, если их и надеть сразу, ночью всё равно “уведут” более мелкие воры — “шпана”. Делалось это по указке старших». Там же есть и описание уголовниц: «В 14-й зоне находилось 1200 женщин, среди них также существовало разделение на “сук” и “воров”. “Суки” работали нарядчиками, бригадирами. У каждой был свой уголок в зоне, старались украсить его. Вышивали, застилали тумбочки салфетками. Воровки занавешивали свои уголки, всё у них там было. Верховодили в зоне Рая и Надя, они жили с женщинами, но сами постоянно у новеньких отбирали более хорошие вещи для своих “фраеров”. Вооружены были финками, ходили не одни, человек пятнадцать с ними. Подходят и требуют: “Открывай чемодан! Давай, что есть”… Отобранные вещи продавали, обменивали, а деньги относили своим “фраерам”. В зоне и убийства были. Однажды отрезали у женщины часть груди и собаке бросили. Женщину после этого убили, набросили полотенце и задушили. Каждый день по 1–2 трупа… Охрана пыталась вывести из зоны Раю и Надю с их командой. Произошло столкновение. Тогда охрана вывела всех женщин из зоны, а эти пятнадцать остались в бараке. Отбивались, бросали кирпичи, камни. Охрана ворвалась в зону, смяла женщин, вытащили их из барака и после этого сразу всех отправили отсюда в Магадан». Может показаться, что разборкам в среде уголовников мы отводим места больше, чем рассказу о простых арестантах. Но дело в том, что судьба бытовиков и «политиков» целиком зависела от того, какая уголовная «масть» верховодила на пересылке. Мы уже рассказывали, что при коменданте из «сук» Сашке Олейнике общая масса арестантов чувствовала себя относительно спокойно. Однако затем в Ванино прибыл эшелон из Воркуты, состоявший преимущественно из так называемых «трюмленых сук» — то есть бывших воров, которые «ссучились» не по идейным соображениям, а под страхом физической расправы. Их разместили в третью зону. «Трюмленым» не понравился порядок, установленный Олейниковым, при котором нельзя было ни грабить «мужиков», ни даже играть в карты. С появлением новичков участились грабежи и расправы. Валерий Бронштейн вспоминает: «Во главе недовольных встал Иван Упора, известный в лагерях Воркуты трюмленый вор с низким интеллектом, дегенеративным лицом и душой убийцы». На тайной сходке «упоровцы» решили захватить власть внутри лагеря и убить Олейникова с его командой, а на его место поставить Упору. Переворот они осуществили в ночь с 6 на 7 ноября 1948 года, то есть в канун годовщины Великой Октябрьской революции, когда и охрана была не так внимательна, и весь офицерский состав отмечал праздник дома: «Сашку Олейникова, согласно неписаному закону, пришёл убивать сам Иван Упора. И постучав в дверь комнатушки, где тот спал, он предложил ему открыть дверь и рассчитаться. Тот немного выждал, а потом внезапно выскочил в одном белье, держа в одной руке нож, а в другой табуретку. Его напор был стремителен, и, по-видимому, нападавшие, зная силу и храбрость Олейника, немного растерялись. Ловко орудуя ножом и защищаясь табуреткой, получив лишь небольшое ранение, Олейнику удалось добраться до проходной и скрыться среди солдат охраны лагеря. В эту ночь всего зарезано было человек семьдесят… В последующие дни дорезали тех, кто случайно остался жив и с кем сводили личные счеты. Основная группа упоровцев после резни укрылась в санчасти и утром выдвинула свой ультиматум: Иван Упора становится комендантом… после чего они освобождают помещение санчасти, всех врачей и четырёх захваченных ими надзирателей. Через сутки руководство лагеря дало положительный ответ, предварительно согласовав его с управлением в Магадане… Возобновились обходы бараков членами комендатуры во главе с Иваном Упорой, и он лично интересовался нашим житьём-бытьём. Однако порядка в зоне стало значительно меньше, и пожаловаться на распоясавшуюся всякого рода шпану было некому. Да и сама комендатура вела себя, как шайка обычных бандитов, которыми они и были… С приходом в комендатуру Ивана Упоры участились случаи смерти от голода. Выдаваемую зэку законную пайку уже теперь никто не охранял. Особенно доставалось интеллигентам из города, которые бороться за свою жизнь практически не могли и не умели. Поэтому многие быстро опускались и кормились из помойки». В то же время другие близлежащие лагеря отличались от «беспредельной» пересылки. Вскоре геолога Бронштейна перевели в бухту Мучка в 12 километрах от Ванино, на строительство морской базы. Его поместили в портовый рабочий лагерь, где содержались грузчики и другие рабочие, обслуживающие морской порт. Туда же незадолго до этого перебросили успешно спасшегося Сашку Олейника, который и здесь навёл порядок. После ванинской пересылки новый лагерь показался геологу комфортабельной гостиницей. Вместо сплошных нар — двухэтажные «вагонки»[17] на четырёх человек с тумбочками, на окнах занавески, на лампочках самодельные абажуры. Кормили значительно лучше, чем на пересылке, к тому же грузчики приносили еду из порта. Правда, приходилось платить разумную дань «сукам», но зэки считали это неизбежным злом. Вот как много зависело от того, кто из уголовников возглавлял «теневое руководство». Разумеется, ванинское начальство не собиралось идти на поводу у Ивана Упоры. Расправа свершилась очень скоро. Весной отправлялся очередной этап на Колыму. По рассказу Бронштейна, в апреле 1949 года Упору с его подручными под предлогом транспортировки в другой лагерь отправили в спецтюрьму. «Суки» в лагере подняли бунт, требуя вернуть воров назад. В зону ввели солдат и подавили волнения, убив и ранив до ста человек. Оперуполномоченный Пётр Кручак, который лично участвовал в задержании Упоры, даёт более точную картину: «Банда Упорова, 22 человека, потребовали, чтобы их отправили в лагеря Западного управления. Им обещали, оформили документы, вывели, надели наручники, привели и посадили в палатку… Отсюда группу Упорова перевели в следственный изолятор первой зоны. Заключённые сумели передать в первую зону команду, вспыхнул бунт… взяли заложником врача Ривкуса, младшего лейтенанта Пономарёва, инспектора спецчасти Горелову и ещё несколько человек. Заложников завели в санчасть и передали: “Если не выпустите Упорова, мы уничтожим заложников”. В это время из Магадана приехал начальник охраны полковник Новиков, он и возглавил операцию по освобождению заложников. Пытались уговорить заключённых, а затем заявили: “Не освободите — применим оружие!” Когда ворвались в первую зону, один из заключённых кинулся на подполковника Котова с “пикой”. Котов убил зэка наповал… В ходе операции зэки ранили врача Ривкуса… Группу Упорова судили и отправили в Магадан». О судьбе Упорова и Олейникова ходили разные слухи. По одним, обоих в разное время убили в Магадане. По другим сведениям, Олейников разъезжал по Колыме в составе концертной бригады из знаменитых артистов, осуждённых по 58-й статье. В общем, жизнь на пересылке была непростой — как для профессиональных уголовников, так и для общей массы зэков. То и дело вспыхивали бунты. По воспоминаниям Георгия Бутакова, в мае 1949 года резню устроили чеченцы, которые ворвались в первую зону и убивали всех подряд. При этом пулемётчики с вышки вместо того, чтобы защитить простых зэков, расстреливали очередями тех, кто пытался спрятаться под защиту лагерной охраны в запретной зоне (нарушение арестантом запретной зоны — распаханной полосы земли, отделявшей внутрилагерное пространство от основного заграждения, — расценивалось как попытка побега, которую, по уставу, необходимо было пресечь). Мёртвых было так много, что их вывозили на самосвалах. Одной из самых массовых и кровопролитных стала резня 23 декабря 1952 года. Началось с того, что на первой зоне в баню к ворам запустили «сучню». Завязалась драка, на помощь «собратьям» бросились воры из других зон. Они перелезали через колючую проволоку, свалили заграждение между зонами. Чтобы остановить резню, часовым опять-таки пришлось с вышек открыть перекрёстный огонь. Раненых на грузовике привезли в санчасть; очевидцы вспоминают, что кровь через настил машины лилась на брусчатку. Хирурги оперировали всю ночь. Дежурная медсестра Екатерина Белоус свидетельствует: «Привезли порезанных “сук”. Их было так много, что всех положили на полу в столовой… Раны были страшные, везде лилась кровь, у кого глаз выколот, у кого нос отрезан… Из 23 человек в живых осталось трое или четверо». Особо жестоко расправлялись с теми, кто выступал против сотрудников пересылки. В 1947 или в 1948 году готовили к отправке в Магадан этап украинских националистов-бандеровцев. Те подняли шум, требуя направить их на прииски Западного управления Колымы. Охрана начала стрелять, а ночью бунтовщиков вывезли в бухту, положили на лед и продержали несколько часов. Трупы вывозили всю ночь на грузовиках. В другой раз конфликт возник во время обыска «воровской» зоны, которым руководил представитель УСВИТЛа С. Небесный. Охрану подняли в пять часов утра и поставили вдоль колючей проволоки. Затем был отдан приказ: «Из барака ползком!» Заключённые выползли по снегу, бараки быстро проверили, изъяли в основном колюще-режущие предметы (ножи, «пиковины»). В одном бараке зэки не подчинились. Небесный пошёл в барак вместе со старшиной, их обоих взяли в заложники. Лагерники попытались смять охрану, но был открыт огонь поверх голов. Затем всю зону вывели в район малого Ванино и, скорее всего, «пустили в распыл»… В 1950 году в Ванино приехал с проверкой лично начальник Севвостлага генерал-майор Андрей Деревянко. Офицеры получили приказ войти в зону без оружия, но спрятали револьверы в карманы. По рассказам старожилов, зэки встретили высокое начальство враждебно. На Деревянко бросился с «пикой» сначала один заключённый, затем другой. Офицеры застрелили нападавших. Огромная толпа рванула вперёд — и охрана открыла огонь. Полегло не менее полусотни арестантов. Конвой вообще применял оружие без колебаний. Особо безжалостно отстреливали беглецов. Трупы выкладывали вдоль забора зоны — в назидание. Во время погони часто убивали всех «побегушников». Но стреляли и внутри зон. Во время бунта в районе Девахты (1950) трупы зэков вывозили двумя грузовиками. Были и случаи неспровоцированной стрельбы. В Усть-Орочах конвойник напился, выстроил колонну, а один заключённый сделал шаг вперёд. Охранник выстрелил в упор. В другой раз боец охраны убил молодого лётчика. И не только убивали. Одна из бывших узниц вспоминает: «Попала в Ванино молоденькой, в первый же день охранники отвели меня в сторону, насиловали в кустах по очереди». Так что ванинская пересылка и Ванинский порт действительно врезались в память заключённых на всю оставшуюся жизнь…«И вид парохода угрюмый»
Эта строка отражает не только мрачный облик пароходов, которые курсировали между Колымой и «материком». Смысл её гораздо глубже. Над колымскими пароходами действительно висело некое мрачное проклятие… Но сначала всё же — о внешнем виде. Вот как описывала Евгения Гинзбург один из самых известных транспортов, бороздивших Охотское море с арестантами на борту — «Джурму»: «Это был старый, видавший виды пароход. Его медные части — поручни, каёмки трапов, капитанский рупор — всё было тусклое, с прозеленью. Его специальностью была перевозка заключённых, и вокруг него ходили зловещие слухи о том, что в этапе умерших зэков бросают акулам даже без мешков». В Магадан заключённых доставляли и другие пароходы Дальстроя — гостреста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы, в состав которого входили все колымские лагеря. Дальстрой был создан в октябре 1931 года, а к началу 1932 года в структуре НКВД организовали Северо-Восточную экспедицию Наркомвода (её также называли «особой» и «колымской»). Экспедиция обслуживала ГУЛАГ, перевозила людей и грузы из Владивостока, Находки и позже — бухты Ванино на Колыму и в устье Лены. Северо-Восточная экспедиция насчитывала около дюжины судов, в том числе типа «Север» (именно они использовались для перевозки заключённых). Позже формируется отдельная флотилия Дальстроя. Её корабли имели опознавательный знак: на трубе — голубая волна, а не полоса. Значительную часть пароходов закупили за границей. Руководство Страны Советов воспользовалось экономическим кризисом на Западе и приобрело несколько десятков судов по сходной цене. К грузопассажирским транспортам Дальстроя предъявлялись особые требования — прежде всего, большая грузоподъёмность и хорошая скорость: пересекать бурное Охотское море следовало как можно быстрее, чтобы сократить потери рабочей силы, которую перевозили в жутких условиях. Первые три парохода СССР купил у Нидерландской королевской компании в 1935 году. «Almelo» назвали «Генрих Ягода» в честь тогдашнего руководителя НКВД. «Brielle» переименовали в «Джурму» (в переводе с эвенкийского — «солнечный путь»). «Batoe» стал называться «Кулу» — по имени одной из рек, образующих реку Колыму. Четвёртое судно — «Dominia» — тоже было построено в Голландии, но СССР приобрёл его у англичан в 1936 (или в 1937) году. Британцы использовали пароход для прокладки телефонного кабеля между Европой и Нью-Йорком через Атлантический океан. После продажи Советам судно переоборудовали под грузопассажирское. Оно стало флагманом флотилии Дальстроя под названием «Феликс Дзержинский». В 1938 году СССР покупает у США пароход «Commercial Quaker», перекрестив его в «Индигирку», а в 1940-м после присоединения Латвии к Советскому Союзу флот пополняется теплоходом «Советская Латвия» (бывший «Hercogs Jëkabs»). Кроме того, для Дальстроя фрахтовались пароходы «Ангарстрой», «Григорий Зиновьев», «Днепрострой», «Иван Тимирязев», «Ильич», «Лейтенант Шмидт», «Миклухо-Маклай», ледокол «Литке», танкер «Совнефть» и другие, а также 54 речных самоходных судна. После войны перевозили зэков на Колыму также «Минск», «Дальстрой», «Степан Разин» и т. д. Но что мы имели в виду, когда в начале главы упомянули о мрачном проклятии, которое висело над флотилией Дальстроя? А вот что. А. Смирнов в исследовании «Тайны Магадана. Флотилия смерти» отмечает, что суда Дальстроя почему-то постоянно горели, садились на мель, налетали на скалы или взрывались. Так, в 1930-е годы в советских дальневосточных водах погибли: — пароход «Камо» (1 ноября 1935 года); — пароход «Суман» (1 июня 1938 года); — пароход «Сясьстрой» (1 апреля 1939 года); — пароход «Индигирка» (11 декабря 1939 года); — пароход «Снабженец» (1940 год). Но рассказ о перечисленных трагедиях — не наша тема: они относятся к довоенному времени, когда Ванинский порт ещё не существовал. Остановимся лишь на одном резонансном ЧП, ставшем лагерной легендой, — пожаре на пароходе «Джурма» в проливе Лаперуза (сентябрь 1939 г.). О нём рассказывают многие мемуаристы, в том числе и те, кто находился на пароходе. Так, Екатерина Кухарская в воспоминаниях «Будь что будет» пишет, что пожар вспыхнул на вторые сутки пути. «Блатные поначалу обвинили во всём “политиков”, однако позднее капитан сообщил, что всё обстояло как раз наоборот: ночью из мужского трюма уголовники проломили стену в соседний трюм, гружённый продуктами, уронили спичку, вспыхнуло пламя. Капитан послал сигнал о помощи, на который откликнулся встречный пароход, сопровождавший затем “Джурму” до места назначения, чтобы перегрузить людей в случае опасности. В результате пожара пострадали в основном заключённые-мужчины: кто-то задохнулся от дыма в трюме, кого-то застрелил конвоир, стоявший на посту у люка, когда все ринулись наверх. Весь следующий день женщины шили на палубе похоронные мешки». Несколько иную версию приводит Валентина Мухина-Петринская в книге «На ладони судьбы». По её рассказу, первый пожар на пароходе вспыхнул ещё в порту Владивостока, но его удалось потушить. Однако искра тлела, в море пламя вспыхнуло вновь, и огонь охватил всю корму. И виновны были вовсе не заключённые: «После, в Магадане, был суд, и мы узнали, как было дело. Так вот, мерзавцы, имеющие отношение к трюму, куда был погружен шоколад для магазинов Магадана, шоколад продали и, чтоб скрыть следы кражи, подожгли этот трюм». По версии Мухиной, «Джурма» стала подавать сигнал бедствия, откликнулся японский корабль, но капитан парохода от иностранной помощи отказался. Затем якобы появилось советское судно, шедшее из бухты Нагаево во Владивосток. Оно было перегружено золотом с золотых приисков Колымы по ватерлинию, но предлагало свою помощь: «Капитан считал вполне естественным для спасения двух тысяч шестисот заключённых и команды сбросить часть золота в океан. Начальник охраны не взял на себя такую ответственность и радировал самому Ежову… Ежов доложил о происходящем уже самому Сталину. Последний был слишком мудр, чтоб долго думать, и принял не столько соломоново, сколько иродово решение: корабль с золотом пусть следует за “Джурмой” на достаточном расстоянии, чтоб не загореться самому. Когда “Джурме” придёт конец, команда пересядет на спасительный корабль с золотом (команды осталось всего двадцать три человека!), а груз… то есть заключённых, оставить на “Джурме” — гореть, взрываться или тонуть, что суждено». Однако это — нелепая байка. Во-первых, в это время Николай Ежов был арестован. Да и откуда даже капитану судна знать, кто наверху принимает конкретные решения? Кроме того, в 1939 году на Колыме было добыто 80 тонн золота — такой груз являлся смешным для любого парохода Дальстроя и не мог «перегрузить судно по ватерлинию». Но оставим довоенное время. Во время и после войны над «угрюмыми пароходами», перевозившими в Охотском море заключённых и грузы для Колымы, тоже продолжало висеть проклятие. 25 сентября 1944 года в бухте Провидения затонул пароход «Кузбасс». Пароход «Можа» был раздавлен льдами в бухте Нагаево 4 февраля 1947 года. Баржа «Дукча», принадлежавшая МВД СССР, затонула 6 октября 1947 года в районе полуострова Кони… Однако самые громкие трагедии — это чудовищные взрывы в бухтах Находка и Нагаево. Первая связана с пароходом «Дальстрой». Однажды судно уже чуть не пошло ко дну, когда доставляло из США оборудование и автомобили по ленд-лизу в Магадан. А во время войны с Японией пароход подорвался на мине и был направлен на капитальный ремонт. По выходе ему снова не повезло. 24 июля 1946 года «Дальстрой» стоял под погрузкой в порту Находки у мыса Астафьева. Грузили американский тринитротолуол (им взрывали лёд). Его без всякой упаковки, россыпью опускали в трюм, что являлось грубейшим нарушением техники безопасности. Но судя по свидетельствам очевидцев, капитан В. Банкович заявил, что таков приказ вышестоящего начальства из Магадана. Вскоре после начала погрузки в первом трюме вспыхнул пожар, который пытались залить водой, открыв кингстоны. Однако над судном взметнулся огромный столб пламени, а затем детонировала взрывчатка и во втором трюме. Одним из последствий взрыва стал двухчасовой «чёрный дождь» — осадки почти двух тысяч тонн мазута, поднятых в небо. Министр внутренних дел СССР Сергей Круглов докладывал Сталину и Берии 14 августа 1946 года: «В результате пожара и взрыва в бухте Находка уничтожен пароход “Дальстрой” и все находившиеся на нём грузы… на сумму 9 млн рублей; на сгоревших складах Дальстроя уничтожено различных промышленных и продовольственных грузов на сумму 15 млн руб. и взрывчатки на сумму 25 млн руб. Во время взрыва парохода “Дальстрой” убито и умерло от ран 105 человек; ранено и находится в лечебных заведениях 196 человек». Разрушения были столь серьёзными, что основная часть грузопотоков, включая перевозку заключённых на Колыму, была перенесена в порт Ванино. А через полтора года произошла ещё более жуткая трагедия — на этот раз в магаданской бухте Нагаево. После катастрофы в Находке для перевозки взрывоопасных веществ Дальневосточное пароходство дополнительно выделило пароходы «Генерал Ватутин» и «Выборг». Оба судна были получены СССР от США по ленд-лизу. Пароход «Выборг», бывший «Kailua», построен в 1919 году, 6 ноября 1942 года принят в Сиэтле советской закупочной комиссией. «Генерал Ватутин», бывший «Jay Cooke», построен в 1944 году и тогда же передан советским союзникам. 18 декабря 1947 года «Генерал Ватутин» доставил в порт Нагаево 3313 тонн взрывчатки (аммонит, дипавтолит и тол). Он встал на якорь в глубине бухты. На ближнем рейде с 14 декабря стоял пароход «Выборг», на борту которого находилось 193 тонны взрывчатых веществ (а также капсюли, детонаторы, бикфордов шнур и детонирующий шнур). Помимо них, в бухте стояли и другие суда: «Советская Латвия», «Феликс Дзержинский», «Советская нефть», «Старый большевик», «Ким», «Минск», «Немирович-Данченко»… О дальнейшем можно узнать из отчёта и.о. начальника Дальстроя генерал-майора И. П. Семенова от 26 декабря 1947 года: «Около 10 часов 19 декабря 1947 года пароход “Генерал Ватутин” заканчивал продвижение в глубь бухты и, находясь на расстоянии 300–400 метров, стал делать разворот кормой к порту. В это время в носовой части парохода появился густой чёрный дым. Вскоре после этого произошёл незначительной силы взрыв и выбросило большое пламя огня, который быстро распространился на пароходе. В 10 часов 25 минут произошёл взрыв большой силы и пароход вскоре утонул. Одновременно с этим последовал взрыв в носовой части парохода “Выборг”, который также затонул… В результате взрыва на пароходе “Генерал Ватутин” все деревянные склады, навесы и другие постройки порта были разрушены. От раскаленных осколков и горящих деревянных частей, упавших в порту, образовалось 12 очагов пожаров и 7 очагов торфяных пожаров возникло на сопке, расположенной рядом с портом. В результате пожара сгорело 7 складов. Остальные склады и нефтебазу принятыми мерами удалосьотстоять. Пожар был ликвидирован к 16 часам 19 декабря 1947 года… Пароходы, находившиеся в порту и стоявшие в бухте на рейде, получили повреждения… В результате катастрофы погибло 90 человек, из них подобрано трупов и умерло в больнице 33 человека, погибло на пароходе “Выборг” 7 человек, погибло пассажиров, находившихся на пароходе “Генерал Ватутин”, 14 человек и погибло личного экипажа команды “Генерал Ватутин” 36 человек… Во время взрыва было ранено и обращалось за медицинской помощью 535 человек, из них было госпитализировано 222 человека… Для определения размеров убытков, причинённых катастрофой, создана специальная комиссия. По предварительным материалам этой комиссии, убытки, причинённые катастрофой, определяются в сумме 116 млн рублей». По описаниям очевидцев, взрывная волна выбросила на причалы множество льдин; при обратном сползании этих глыб в бухту были повреждены прибрежные сооружения, ранены и смыты в воду люди. Анастасия Якубек, автор документального фильма «Последний поход “Генерала”», рассказывала: «Специалисты общества “Эксперт”, которые провели экспертизу по нашей просьбе, утверждают, что взрыв на корабле “Генерал Ватутин” был небывалой силы. Его можно сопоставить со взрывом в Хиросиме. Если говорить простым языком, примерно 15 процентов от взрыва в Японии». Но важно также другое обстоятельство: взрыв в Нагаевской бухте произошёл… в канун 30-летнего юбилея органов внутренних дел (20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия — ВЧК)! Поэтому ряд исследователей считает взрывы не трагической случайностью, а тщательно подготовленной диверсией. Вот что пишет А. Фатьянов в статье «Людская память требует» (газета «Дальневосточный моряк» за 12 мая 1993 года): «Во всех дальневосточных портах грузовые операции выполняли тогда в основном зэки, а Нагаево было по сути главной базой ГУЛАГа. Контингент же лагерей в то время состоял в большинстве своём из недавних советских военнопленных, освобождённых из-под немцев в ходе быстрого продвижения в боях наших войск на Запад по всему фронту. Сталинско-бериевская команда без всякого разбора объявила их изменниками Родины, врагами народа и тут же отправляла несчастных теперь уже за отечественную колючую проволоку. Естественно, что эти заключённые были крайне озлоблены на такую явную несправедливость, проявленную к ним со стороны советских властей. Как известно, среди заключённых находилось много солдат и офицеров, которые, получив на фронте в боевых сражениях знания и хороший опыт применения взрывчатых веществ, могли запросто изготовить и использовать в своих чёрных замыслах в порядке мести адское устройство смерти». А Михаил Избенко, который плавал на пароходе «Генерал Ватутин» машинным практикантом, в повести «Навстречу гибели» прямо утверждает: «После взрыва в Нагаево зэки в Ванинском порту бахвалились перед моряками, что, мол, это мы отправили с “Генералом Ватутиным” свой подарочек колымским чекистам к их празднику 20 декабря. “Мы хотели вообще всю Колыму взорвать”, — говаривали они. Ясно, что это была чёрная месть». Склоняется к этой версии и А. Смирнов. Он вообще считает, что и взрыв в Нагаево, и взрыв в бухте Находка — звенья одной цепи: «Во время следствия выяснилась интересная деталь. Был найден кусок фанеры с надписью: “Скоро Дальстрой должен провалиться”. Следователь Шадринцев показывал её П. Куянцеву. А через несколько дней после взрыва сгорела баржа с аммоналом, который должны были погрузить на пароход “Орёл”. Затем сгорела взрывчатка в одном из железнодорожных вагонов… Следствие установило, что причиной взрыва “Дальстроя” была диверсия. Но виновных не нашли. Потом, когда вместо взорванного судна взрывчатку на Колыму стали доставлять “Генерал Ватутин” и “Выборг” и тоже взлетели на воздух, но уже в бухте Нагаево, следователи пришли к выводу, что это могли быть только заключённые, бывшие советские военнопленные. Их тогда много работало грузчиками в дальневосточных портах, и именно они могли знать премудрости взрывного дела… Издавна известно, что зло порождает зло. Несправедливо осуждённые и униженные люди, как могли, боролись с ГУЛАГом. И, поджигая и взрывая корабли, наверное, считали себя правыми». Кто-то скажет: слишком смелое допущение! Ведь команды пароходов набирались не из ненавистных зэкам чекистов! За что же заключённым казнить безвинных людей? Однако у многих узников ГУЛАГа по этому поводу была своя точка зрения. Так, Владимир Куземко опубликовал рукопись неизвестного лагерника — «Записки сталинского зэка». Вот как автор записок описывает свой этап на пароходе «Джурма»: «Начали грузить в трюмы. На корабле стояло начальство с сияющими лицами, и кое-кто из команды этого гадостного судна. И так на меня повлияла эта их “работа”, такие они все, так называемые “командиры корабля”, стали видеться мне дешёвыми и низкими!.. Уж столько лет прошло, а до сих пор не могу спокойно смотреть на этих “моряков-командиров”, в глазах моих до сего дня стоят те “адмиралы-извозчики”, с такой дешёвой блядской улыбочкой смотрящие на мясников из НКВД… До сих пор меня тошнит от них!» Лагерник признаётся, что и спустя десятилетия вид морской формы вызывал в нём чувство ненависти к её обладателям. Есть также и свидетельство другой стороны, подтверждающее слова зэка. Его оставил Иван Клютков, который после окончания мореходного училища в 1944 году служил матросом на «Джурме»: «Всего через полгода пребывания на подобных судах большая часть экипажа настолько становилась бездушна и черства, что уже с каким-то тупым равнодушием взирала на то, что вначале повергало их в ужас. Со временем они не только становились свидетелями зверств и преступных деяний, но и сами, вопреки своей воле, делались соучастниками гнуснейших преступлений. К тому же размах кровавых преступлений по отношению к узникам ГУЛАГа вызывал у большинства моряков навязчивую веру в силу и непоколебимость власти, в её полную безнаказанность». Так что в озверении арестантов по отношению к командам дальстроевских пароходов нет ничего удивительного.«Как шли мы по трапу на борт»
Бывшие лагерники в своих мемуарах не уделяют особого внимания процессу загрузки заключённых на борт пароходов, отправлявшихся на Колыму. Так, Михаил Миндлин в книге «Анфас и профиль» вспоминает: «Началась посадка. По трапу потянулась беспрерывная цепочка заключённых. На палубе нас ожидал конвой, выстроенный расходящимися в стороны коридорами. Мы пробегали по этим коридорам к люкам, ведущим в глубокие трюмы». Немногословна и Лариса Ратушная в своих «Этюдах о колымских днях»: «И вот наконец погрузка — нас вели большой колонной к пароходу “Джурма”. Это был конец сентября или начало октября, погода стояла хоть и прохладная, но ещё какая-то летняя. Погрузка началась в понедельник с полудня, окончилась уже под вечер». То же самое встречаем и в других воспоминаниях. То есть сами арестанты не видели в «восхождении на борт» чего-то особенно примечательного. Однако самое яркое описание этапа зэков, шедших на борт, оставил бывший матрос «Джурмы» Иван Клютков. Оно потрясает тщательностью и точностью деталей: «Погрузку производили днём. Зэки поднимались по трапу по одному на небольшом расстоянии. Тянулись нескончаемой, однообразной серой чередой. У каждого за спиной висел мешок-сидор с жалким тряпьём. По тому, как они тащились, словно дряхлые старцы, с трудом передвигая налитые свинцом ноги, по всему их удручающе-жалкому виду угадывалось: рабы, покорное скотское стадо. На их серых лицах — ноль эмоций, окаменевшие, тупые маски. У тех, кому приходилось наблюдать подобную жуткую сцену впервые, возникало жгучее сострадание, душевная боль, пронзительная жалость, у иных на глаза наворачивались невольные слёзы. Разительно отличались от основной безликой массы зэков “хозяева” лагерей — уголовники всех мастей: убийцы, насильники, бандиты, воры, блатные и прочая шваль. Самые главные, те, что держали зону, щеголяли в начищенных до блеска “прохорях”[18], в опрятных костюмах-тройках, чистых, глаженых рубашках. Принадлежавшие им тяжёлые сидоры, горбатясь, волокли шестёрки. Бросались в глаза их сытые, самодовольно наглые, чисто бритые рожи. Вышагивали они нарочито неспешно, вальяжно, с напускным видом своей значительности и превосходства над всеми. Некоторые, полушутя, полувсерьёз, подняв руку над головой и слегка пошевеливая ладонью, приветствовали толпившихся на мостике высоких лагерных бонз. Иногда между этими родственными душами возникала своя, только им понятная, веселившая обе стороны шутливая перебранка. Даже тем, кто не был посвящён в их жизнь, становилось ясно, что эти зэки — особые зэки, для лагерного начальства свои, ну прямо-таки в доску свои. Особо роднила их навечно врезанная в сытые, грубовато-вульгарные физиономии высокомерно-презрительная, нагловато-брезгливая ухмылка, метка дьявола, свидетельствующая о въевшейся в плоть и кровь неуёмной тяге к насилию и жестокости. В отличие от основной массы мужиков, другие зэки — уголовники, дебильная блоть, ссученные, обслуга, шестёрки, лагерная придурь — вели себя развязно и шумно. Их шествие сопровождалось показушным весельем, глупыми, непристойными шуточками, перебранкой и толкотнёй. Однако лагерное начальство, снисходительно ухмыляясь, не пыталось вмешиваться и наводить порядок. Ну а как же иначе — свои ж, внутренние хозяева лагерей, ближайшие помощники. Их труд был особый и заключался в том, чтобы держать зэков-рабов в постоянном страхе, скотском повиновении. Награда же им — сытость и безделье».«Холодные мрачные трюмы»
А что же представляли собой трюмы, в которые грузили зэков? Вот что вспоминал Иван Клютков: «В начале рейса, как правило, трюмы “Джурмы” загружались всевозможным грузом. Просветы трюмов, чтобы туда не проникли зэки, заваривались листовым железом. В твиндеках[19] сооружались многоярусные нары, в районе первого-второго трюмов, из досок сбивался общий гальюн. Только после того, как судовые механики докладывали, что паротушение исправно, разрешалось производить погрузку заключённых. Паротушение, если возникала “необходимость”, было самым надёжным оружием устрашения, усмирения тех, кто находился в наглухо задраенных твиндеках, то есть верхних этажах трюмов». Так что «холодными» трюмы были не всегда! В случае волнений вниз пускали горячий пар. Всеволод Пепеляев, отбывший из Ванино в Магадан этапом на пароходе «Ногин-II» 6 августа 1948 года, пишет: «Мне удалось разговориться с небольшой группой. Они открыто обсуждали возможность побега, бунта. Один, видимо, бывалый, рассказывал, что знает о сопровождении таких судов подводными лодками и что в случае бунта они просто топят всех. Другой говорит, что этого не может быть, а вот если в трюме возникают какие-то беспорядки или, тем более, забастовка или бунт, то в трюм пускают пар и все сразу успокаиваются». Это подтверждает Вадим Туманов в мемуарах «Всё потерять — и вновь начать с мечты». Он рассказал, как участвовал в захвате судна «Феликс Дзержинский» в 1949 году. Однако заговорщиков кто-то выдал: «Васька Куранов и с ним восемь-девять десятков людей рванули на палубу. Они не успели подняться во весь рост и сделать даже пару шагов, как со всех сторон был открыт шквальный огонь. Конвой, кем-то предупреждённый об операции, хорошо подготовился к обороне… Автоматные очереди и лай собак на ночном пароходе заглушались громкоговорителем с капитанского мостика: — Третий и четвёртый трюм! Если вы немедленно не вернётесь на свои места, будет открыта система паротушения. Повторяю: если немедленно не вернётесь на свои места… Система паротушения — это трубопровод, по которому при возгорании грузов подаётся в нижние части трюмов горячий пар. Открыть паротушение — значит тысячу обитателей трюма сварить в кипящем котле, так что даже кости разварятся. Заключённые понимали, с кем имеют дело. Никто не сомневался в готовности собравшихся на капитанском мостике включить систему. Я представил себя сваренным и испытал чувство страха. Простого животного страха… Бунт провалился». При неповиновении арестантов охрана, не раздумывая, использовала самые жуткие методы. Вот что вспоминает Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте»: «Юля моя, оставшаяся из-за болезни на транзитке на две недели дольше меня, ехала потом на той же “Джурме”, и случился пожар. Блатари хотели воспользоваться паникой для побега. Их заперли наглухо в каком-то уголке трюма. Они бунтовали, их заливали водой из шлангов для усмирения. Потом о них забыли. А вода эта от пожара закипела. И над “Джурмой” потом долго плыл опьяняющий аромат мясного бульона». Варлам Шаламов в рассказе «Прокуратор Иудеи» описывает другой способ подавления волнений: «В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Всё это было сделано при сорокаградусном морозе». Михаил Миндлин вспоминает: «Подталкиваемые конвоирами, мы стремились как можно скорее спуститься по лестницам и втиснуться между телами на трёхэтажных сплошных нарах. Жуткая скученность: мы были “набиты как сельди в бочке”. Отсутствие малейшего притока воздуха и дневного света. Круглосуточно горели тусклые электролампы. Непрерывная жажда после селёдки и чёрных сухарей доводила нас до открытых стычек за воду. Пресной, воды не хватало, и давали нам её в вёдрах по очень жёсткой норме. Борьба за глоток воды объяснялась ещё тем, что брошенные в одну трюмовую кучу заключённые всех мастей, “враги” и “друзья народа” действовали по принципу “кто сильней, тот и побеждает”. Поэтому о справедливом распределении нормированной воды не могло быть и речи». Особенно мрачными и страшными были нижние трюмы. Историк Иван Джуха в исследовании «Стоял позади Парфенон, лежал впереди Магадан» пишет: «В нижних трюмах, находившихся ниже уровня воды, царили холод и мрак. Сюда, до нижних пассажиров, не всегда доходили еда и вода. Высота (правильнее: глубина) нижних трюмов была с двухэтажный дом, нары в них устраивались в 4–5 ярусов. …Ночью дефицитом становился воздух. В нижних трюмах не было иллюминаторов, и воздух поступал только через входной люк. Особенно тяжело приходилось астматикам и сердечникам. После солёной рыбы, выданной на обед, нестерпимо мучила жажда. Воды, которую приносил десятник, на всех не хватало. Норма её составляла пол-литра на человека в сутки. Воду спускали в банных тазиках по крутой лестнице, и не всегда в качку она доходила до нижних нар. На третий день обычно появлялись первые покойники. Их заталкивали под нижние нары. Утром трупы выбрасывали за борт. Это называлось “мясо”. Мой дядя Алёша не раз вспоминал, как однажды его сосед по трюмным нарам сказал ему: “Завтра будет мясо”. Алексей обрадовался: давно уже сытно не ели. Наутро он узнал, о каком мясе говорил сосед». Именно обитатели нижних трюмов погибли страшной смертью во время катастрофы парохода «Индигирка» у берегов Японии в декабре 1939 года. Глубина трюмов составляла почти восемь метров — высота двухэтажного дома. Вверх вели деревянные трапы — как оказалось, очень непрочные. Даже скупые строки обвинительного заключения по делу № 156 рисуют ужасную картину гибели людей (в том числе «вольняшек» с детьми): «13 декабря в полдень к месту аварии прибыл плавающий под японским флагом пароход “Карафуто-Мару” и находящиеся на борту п/х “Индигирка” оставшиеся в живых пассажиры и члены экипажа были сняты. В трюмах погибшего п/х “Индигирка” оставались ещё пассажиры, которые не могли проникнуть наверх, т. к. судно лежало на борту и люки были залиты водой. Капитан Лапшин покинул судно и перешёл на борт парохода “Карафуто-Мару”, невзирая на то, что в трюмах погибшего судна, которым он командовал, оставались ещё живые люди (до 200 чел.). Находящиеся в трюмах люди были извлечены японскими властями только 16 декабря путём прорезов в бортах судна, а в четвёртом трюме не было сделано и этого. Таким образом, было спасено только 27 человек, которые ещё в силах были хвататься за спускаемые японцами концы, а слабосильные и больные в силу своей слабости за концы удержаться не в силах, были обречены на гибель. Руководство, покидая потерпевшее судно, даже не предупредило оставшихся в трюмах людей, что наверху известно о их существовании и что им будет оказана какая-либо помощь в спасении, в результате чего пассажиры, просидев в беспомощном состоянии четверо суток, сделали для себя вывод, что о их существовании наверху ничего не известно, кончали жизнь самоубийством, путём перерезания вен и утоплением в воду». Впрочем, не менее жуткий конец ожидал и обитателей верхних трюмов. Вот что вспоминает о том же крушении очевидец Николай Табанько, работавший на одном из рыбозаводов Дальрыбопродукта и возвращавшийся с Колымы на борту злосчастного парохода: «Стало светать, и я увидел страшную картину. Вода сорвала с кормового трюма доски, брезент, которыми он был закрыт. И каждая волна выносила десятки и десятки кричащих в ужасе людей. Многие от страха лишились рассудка, хватали друг друга и гибли в пучине». Вот что такое «холодные мрачные трюмы» из колымского гимна.«От качки страдали зэка»
Как же выдерживали этап заключённые? Вот впечатления лагерника-грека Стилиана Маламатиди от рейса на «Джурме»: «Морской этап, несмотря на скоротечность, по жестокости вполне мог сравниться с двухмесячным железнодорожным этапом. В частые штормы пароходы швыряло, словно щепки. “Пассажиров” мутило, они задыхались от духоты, но на палубу никого не выпускали… Пока проходили Японское море, почти двое суток стояла штилевая погода. Не чувствовалось никакой качки. И мы радовались, что Бог нам помог. Но на четвёртые сутки, когда пароход вошёл в Охотское море, началась качка. Всех заключённых свалила морская болезнь. Ещё через сутки мы попали в настоящий шторм. Так продолжалось трое суток. Мы так изнемогли, что лежали, не шевелясь. Многие молили Бога, чтобы он смилостивился и простил нам грехи, но это не помогало… Пищу в эти дни хоть и готовили, но никто не хотел подниматься и получать её, боясь упасть за борт. За эти почти трое суток кое-кто отдал Богу душу». Ещё более подробную картину качки и страданий заключённых в Охотском море рисует неизвестный автор «Записок лагерного зэка»: «На третий день море было не узнать. Волны били в борт. Часто по палубе шла вода по 20 сантиметров, и море — такое, что смотреть страшно. Люди в трюмах кругом рвали… Ночью был слышен треск на палубе, качало так, что уж и в трюме надо держаться, чтобы идти… Когда утром открыли люк, то уборной уже не было — её смыло волной. Смыло навесы над коровами, и из 29 коров осталась только половина, — несмотря на то, что коровы специальными ремнями были обвязаны под передние ноги, а эти ремни цепью привязаны к железным частям корабля… Ночью опять сильно качало, кое-где трещали нары, слышались сплошные стоны и рвоты. …Временами от волн на палубе было воды до метра — ужас какой-то! Тяжело было и здоровым людям, а ведь с нами ещё и инвалиды плыли. 700 человек. От шторма у них на 8-10 день сорвало большую бочку с дерьмом, а она в свою очередь сбила меньшую бочку, и фекалии разлились у них в трюме. Что там было — словами не передать… Все инвалиды — в дерьме!.. Вонь, смрад… Начали кое-какую уборку делать из шлангов, но от качки даже просто стоять — и то трудно, а тут ещё надо и работать. Вот уборку и бросили». Эпизод с «летающей парашей» в трюме колымского парохода мы встречаем и у бывшего вора Германа Сечкина в книге «За колючей проволокой»: «Совершив сильнейший крен влево, пароход повалился на правый борт… Предельно напряглись цепи, удерживающие бочки с замечательным удобрением для садоводов-любителей… Разгневанное нашим появлением Охотское море встречало гордую посудину двенадцатибалльным штормом… Раздались звуки, похожие на выстрелы из карабина. Это вырвались из стены штыри, крепившие цепи от бочек. В этот момент пароход накренило градусов на сорок пять. Огромные дубовые бочки повалились на пол и с бешеной скоростью метнулись к противоположным нарам. Подобно кенгуру, отпрыгивали в разные стороны из-под летевших на них “динозавров” явно встревоженные урки. Мощнейший удар — и металлические рамы нар смяты в лепёшку, а сами нары разлетелись в щепки. Крен в другую сторону! Как тяжёлые танки, стремительно катятся бочки обратно по густым волнам бывшего своего содержимого, давя и сметая всё на своём пути. Трещат раздавленные черепа вымытых волнами из-под нар полусгнивших трупов… По щиколотку в дерьме металась из стороны в сторону братва, уворачиваясь от бочек, летящих обломков нар, приподнимающихся и снова падающих трупов…» Так что страдали зэки не только от морской болезни. Впрочем, часто гальюны устраивались не в трюмах, а на палубах. Всеволод Пепеляев вспоминал: «В открытом море! — целый день очередь в туалеты, устроенные за бортом парохода. Море далеко внизу, метров 20». О том же пишет Иван Джуха: «У заключённых был один выход по лестнице на палубу корабля, где находилось отхожее место». Однако из-за этого во время сильных морских волнений простое отправление естественных потребностей становилось опасным для жизни. Вот что пишет Лариса Ратушная в «Этюдах о колымских днях»: «Через несколько часов начался девятибалльный шторм… Чувство непрекращающейся тошноты, переходящей в рвоту, когда нечем рвать… Есть я совсем не ела. Один раз я поднялась в гальюн: помню это деревянное крошечное заведение на палубе, куда надо было сделать всего несколько шагов, держась за канат… Когда я шла туда, то помню стену высотой с большой дом, стену кипящей пены, и тут же вдруг черноту — мне казалось, что мы проваливались в тартарары… И опять стена пены. Я выходила в гальюн всего два раза — первый и последний, ибо, спустившись в трюм, я залегла на пол на своё место, закрыла голову руками и только старалась унять непроходящее чувство тошноты и рвоты. Во мне уже ничего не оставалось, кроме тягучей слюны».«Обнявшись, как родные братья»
Увы, строка о «родных братьях» не совсем верно отражает действительность. В отличие от пересыльных тюрем, где начальство хоть как-то пыталось сортировать арестантов по «мастям» и отделять общую массу от профессиональных уголовников, при транспортировке на Колыму на это внимания не обращали. Осуждённых по 58-й статье перевозили в одних трюмах с бытовиками и уголовниками. И. Джуха отмечает: «В один из рейсов “Джурмы” (было это в 1945 году) создалась критическая ситуация. Конвой и лагерная обслуга не могли навести порядок с раздачей пищи. Более сильные и нахальные забирали себе всё. Начался голод, появились первые трупы. Начальство обратилось за помощью к уголовникам. Крымский татарин Борис Капитан сколотил вокруг себя шайку из таких же, как он, воров и навёл “порядок”. Кашу раздавали прямо в шапки и подолы рубах. С теми, кто выражал недовольство, расправлялись и выбрасывали за борт. Уголовники раздобыли спирт и вместе с конвоем устроили кутёж». Ещё более ужасная обстановка царила в трюмах, где собирались «родные сёстры». Беспредел блатнячек переходил все границы. Евгения Гинзбург красочно описывает: «Это были не обычные блатнячки, а самые сливки уголовного мира. Так называемые “стервы” — рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых извращений… Когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривящихся в обезьяньих ужимках рож, мне показалось, что нас отдали на расправу буйнопомешанным. Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матерщинных слов, от дикого хохота и пения… Они сию же минуту принялись терроризировать “фраерш”, “контриков”… Они отнимали у нас хлеб, вытаскивали последние тряпки из наших узлов, выталкивали с занятых мест. Началась паника. Некоторые из наших открыто рыдали, другие пытались уговаривать девок, называя их на “вы”, третьи звали конвойных. Напрасно! На протяжении всего морского этапа мы не видели ни одного представителя власти…» Заметим, что блатнячки составляли большинство лагерниц, а «фашистки» и бытовички находились в явном меньшинстве. И это в разгар «политических» репрессий… Ту же картину мы встречаем в рассказе Елены Глинки «Большой “колымский трамвай”»: «Итак, одна за другой, нескончаемой чередой спускались мы в холодные мрачные трюмы и, о боже, до чего же эти слова были правдивы!.. В трюме, у подножья трапа, каждую фраершу… встречали, окружали плотным кольцом и уводили в сторону группы из четырёх-пяти блатных — “кодло”, которое приступало к полной обработке своей жертвы. “Не трепыхайся”, — приказывала возглавлявшая свое “кодло” воровка “в законе”, — снимай свои ланцы и натягивай наши дранцы! Если фраерша пыталась оказать сопротивление, “дело пахло керосином”, т. е. жестоко избивали и раздевали наголо, ткнув в зубы вшивое грязное и драное тряпьё… “Воровки в законе” со своим “кодлом-шоблом” продолжали орудовать вовсю: окружали, нападали, грабили, резали, кромсали, издевались, матерились… Женщины впадали в истерику, кричали во всю мощь своих лёгких, вопили от наносимых ран… “А ну, разуй своё хавало!” — приказывали они и, если обнаруживали золотые коронки или зубы, выбивали их оловянной ложкой; тем из фраерш, кто особенно яростно сопротивлялся, полосовали бритвой руки, лицо». Подобных свидетельств — великое множество, так что можно уверенно сказать: никакого «братания» в трюмах дальстроевских пароходов не наблюдалось. Блатной оставался блатным, а фраер — фраером. В одном трюме, как и в одном лагере, ужиться им было трудно.«Будь проклята ты, Колыма»: золотая лихорадка
На карте России никогда не существовало административной единицы с названием Колыма. Учёные называют Колымский край «исторической областью». Что-то типа «Урал», «Сибирь», «Русский Север»… Границы можно очертить только приблизительные, а не административно-территориальные. Условно Колымский край совпадает с территорией Магаданской области, восточных районов Якутии и частично — севера Камчатки. Вот что пишет бывший лагерник Валерий Бронштейн: «Колымой или Колымским краем тогда[20] называли обширную территорию, простирающуюся от горных берегов Охотского моря на юге до тундры Восточно-Сибирского моря на севере… Столицей этого края заключённых являлся Магадан». Название его происходит от реки Колымы, которая берёт начало на Охотско-Колымском нагорье, пересекает Магаданскую область, Якутию и впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря. По версии краеведа Егора Тельнова, слово «Колыма» происходит от финно-угорского «кола» — рыба (юкагиров — старожилов Колымы учёные относят к уральской языковой семье, в которую входит и финно-угорская группа). То есть Колыма — «рыбное место». Именно при Советской власти Колымский край стал «привлекательным» регионом для создания огромного количества лагерей и самым гиблым местом для заключённых. Привлекательность объясняется просто: это — золотоносный край. Догадки по поводу нового Эльдорадо высказывались ещё в середине XIX века, но до серьёзных изысканий дело не доходило: слишком суровы и безлюдны эти места. Впервые золотоносные жилы здесь обнаружил в 1908 году приказчик купца Шустова Юрий Розенфельд. Однако настоящий успех выпал в 1915 году на долю старателя-одиночки — татарина Бари Шафигуллина по прозвищу Бориска. Именно он в долине реки Среднекан нашёл первое золото Колымы. Людская молва подозревала татарина в сговоре с нечистой силой. Но в сентябре 1916 года удачливого Бориску якуты нашли мёртвым неподалёку от реки Кулу с мешочком золота в руке. Слухи о золоте распространились среди старателей, они бросились в тайгу. В Гражданскую войну правительство адмирала Колчака даже пригласило для оценки золотых залежей горного инженера Эдуарда Анерта, который определил запасы примерно в 3,8 тысячи тонн. Победившей Стране Советов этот металл нужен был как воздух — ведь царский золотой запас растаял в небытии. Но северо-восток России, по словам геолога Сергея Обручева, оставался столь же таинственным, как верховья реки Конго в начале XIX века. И всё же необходимость в валютных поступлениях заставила советское правительство форсировать исследование таёжных территорий. Речь шла не только о золоте, но и о платине, а также о других полезных ископаемых. После ряда экспедиций в 1927 году создаются акционерные общества «Союззолото» и АКО (Акционерное Камчатское общество). Эти организации контролировали всю золотодобычу в Охотско-Колымском крае — в том числе золотоискателей-одиночек и старательские артели. В начале 1928 года артель из восьми человек во главе с Филиппом Поликарповым на ключе Безымянном — притоке реки Среднекан намыла за лето больше двух пудов золота. Результат фантастический, если учесть, что всего с октября 1928-го по октябрь 1929 года на приисках АКО было добыто 55 килограммов химически чистого золота. Тут же через Охотск на Колыму хлынули вольные старатели — как во времена легендарного Бориски. Началась колымская «золотая лихорадка», когда искатели сокровищ рвались в тайгу без продовольствия и средств передвижения. Централизованные поставки продовольствия, инструментов и материалов оказались недостаточными. Юрий Билибин, руководитель первой «золотой» экспедиции, высадившейся на берегу Охотского моря в сентябре 1928 года, вспоминал: «С конца ноября наступил продовольственный голод. На Среднекане оставшиеся лошади были убиты и мясо раздали рабочим, но этого мяса было недостаточно. Люди повели полуголодное существование. Разысканы были все внутренности лошадей, организовали поход за павшими лошадьми, съедены были две собаки, добрались до конских шкур». Именно Билибин стал настойчиво пропагандировать перспективы колымского золота. Он выдвинул гипотезу о существовании здесь золотоносной зоны в сотни километров. Правда, с Колымы тут же последовал донос в НКВД СССР: мол, в поисках славы геолог преступно завысил результаты исследований. Учёного отстранили от дальнейших изысканий. Однако вторая колымская экспедиция Валентина Цареградского подтвердила предположения Билибина. Руководство страны, ободрённое перспективами, строило сказочные планы. На первую пятилетку Москва спустила для Колымы план добычи золота: 1931 год — 2 тонны, 1932-й — 10 тонн, 1933-й — 25 тонн. Однако в 1931 году силами вольных колымских старателей было добыто всего 272,5 килограмма драгоценного металла. Из-за перебоев в снабжении на приисках начались цинга и голод, золотоискатели отмораживали руки и ноги, рабочие с приисков разбегались. Туземцы из-за мер по «раскулачиванию» хватались за винтовки. Обстановка в регионе оказалась на грани социального взрыва. А золото стране было необходимо. И Великий Вождь нашёл выход…«Будь проклята ты, Колыма»: архипелаг Дальстрой
Руководство страны решило использовать немереную дармовую силу заключённых. Ради справедливости заметим, что это касалось не только Колымы. Совет Народных Комиссаров СССР ещё 11 июля 1929 года принял постановление «Об использовании труда уголовно-заключённых», где было заявлено о необходимости «расширить существующие и организовать новые концентрационные лагеря» в целях колонизации глухих мест и «эксплуатации их природных богатств путём применения труда лишённых свободы». Согласно постановлению, в эти лагеря должны были направляться все осуждённые к лишению свободы на сроки от трёх лет. 11 ноября 1931 года ЦК ВКП(б) принял решение об освоении необжитых территорий северо-востока СССР, для чего был организован Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы — Дальстрой. Его возглавил чекист Эдуард Берзин. Основная цель — добыча полезных ископаемых, особенно золота. Дальстрой быстро расширялся. Сначала он охватывал район Верхней Колымы площадью 450 тысяч кв. км. К марту 1941 года территория расширилась до 2,3 млн кв. км, а к 1951 году — до 3 млн кв. км. Этот регион и принято ассоциировать с лагерной Колымой. Руководство треста прибыло в бухту Нагаево 4 февраля 1932 года пароходом «Сахалин». Пароход привёз также сотню заключённых. Но они были не первыми. Ещё осенью 1931 года пароход «Сучан» доставил в бухту Нагаево свыше двухсот сидельцев из дальневосточного лагеря. Пароход едва не застрял во льдах, многие зэки умерли от холода и болезней. «Сучанский» и «сахалинский» этапы к началу навигации 1932-го построили изолированную зону для своих собратьев по несчастью, и уже в мае на Колыму стали прибывать заключённые из других лагерей страны. К концу 1932 года здесь работали свыше 11 тысяч заключённых. Почти одновременно с Дальстроем приказом ОГПУ № 287/с от 1 апреля 1932 года создаётся Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь ОГПУ (Севвостлаг, СВИТЛ). Дело в том, что в Дальстрое работали как вольнонаёмные сотрудники, так и заключённые — примерно 50 % на 50 %. СВИТЛ (позже УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей) был организован, чтобы обеспечивать ударный труд именно зэков и функционирование колымской лагерной системы. При этом он фактически не входил в систему ГУЛАГа — все северо-восточные лагеря подчинялись непосредственно руководству Дальстроя. Правда, сам трест 30 апреля 1938 года перешёл из ведения СНК СССР в ведение НКВД СССР, и Севвостлаг приказом от 9 июня того же года № 0035 был отнесён к ГУЛАГу НКВД СССР. С 1938 по 1940 год СВИТЛ имел двойное подчинение — Дальстрою (по всем вопросам строительства) и ГУЛАГу (по вопросам режима и содержания заключённых). Дальстрой и ГУЛАГ входили в состав НКВД как самостоятельные главки. Но затем колымские лагеря НКВД вышли из системы ГУЛАГа и подчинялись Дальстрою по всем направлениям. А в сводных статистиках ГУЛАГа уточнялось — «все ИТЛ, включая Севвостлаг». Первоначально Управление СВИТЛ дислоцировалось в селении Среднекан в районе приисков, но с 1937 года его перевели в посёлок Нагаево и затем — в Магадан. Сюда из портов Дальнего Востока пароходами перебрасывали этапы, а затем зэков распределяли по лагерям. СВИТЛ обслуживал Северное, Южное, Юго-Западное, Западное, Тенькинское, Чай-Уринское и Индигирское горнопромышленные управления, разрабатывал несколько десятков приисков и рудников: «Штурмовой», «Ударник», «Мальдяк», «Чай-Урья» и другие. Он также строил и обеспечивал рабсилой обогатительные фабрики, проводил поисковые и разведочные работы и т. д. Бытует обывательское мнение, будто через Севвостлаг за время его существования прошли «миллионы» или даже «десятки миллионов» заключённых. Это — абсолютный бред. К сожалению, его повторял даже Варлам Шаламов. В письме к Александру Солженицыну Шаламов писал: «Лагерная Колыма — это огромный организм, размещённый на восьмой части Советского Союза. На территории этой в худшие времена было до 800–900 тысяч заключённых». Между тем количество заключённых в лагерях Колымы никогда единовременно не достигало столь чудовищных размеров. Колыма со всеми её приисками, рудниками и лагерями неспособна была принять и использовать «миллионы» заключённых. Так, в 1940 году УСВИТЛ насчитывал 354 лагерных подразделения, разбросанных на огромной территории. Сюда входило множество мелких подкомандировок из нескольких десятков человек. На всех точках лагерной Колымы к концу 1940 года работало 176 685 заключённых. Практически не изменилось положение даже в самые «урожайные» послевоенные годы. По данным УФСИН Магаданской области, с 1932 по 1953 год в лагеря Колымы было завезено 740 434 человека (по 1957 год — не более 800 тысяч). Из них умерших — 120–130 тысяч, расстрелянных — около 10 тысяч человек. В «Колымских воспоминаниях» бывший лагерник Иван Алексахин утверждал, что «Комиссия по пересмотру дел осуждённых на Колыме» якобы установила, что в колымских лагерях погибло 700 тысяч заключённых. Видимо, автор спутал общее количество заключённых с количеством умерших. Хотя Дальстрой к 1948 году действительно становится суперорганизацией: его бюджет занимает третье место в стране — после РСФСР и Украины! Что неудивительно, учитывая показатели треста по добыче золота. Если в 1932 году на пяти колымских приисках было добыто 511 кг химически чистого золота, то уже в 1940 году — свыше 80 тонн. Для сравнения: царская Россия, занимавшая в 1913 году по добыче золота первое место в Европе и четвёртое — в мире, установила рекорд в 60,7 тонны… Радостный Сталин поставил грандиозную задачу: догнать и перегнать английский доминион Южно-Африканский союз — мирового лидера, который выдавал до 400 тонн чистого золота в год. Этим заявлением Великий вождь перепугал западные страны — однако показатели 1940 года не удалось более повторить никогда… А с 1937 года на Колыме стали добывать и олово. Результат 1941 года — 3226 тонн, что составило 75 % всей добычи в СССР. В 1941 году в Дальстрое действовало 45 золотодобывающих и 12 оловодобывающих приисков и рудников. В феврале 1945 года трест получает орден Трудового Красного Знамени.«Будь проклята ты, Колыма»: сто тонн человечьего мяса
Но какой ценой достигались эти показатели? С приходом лагерников в прежде безлюдные места Колымский край преобразился. Ещё до начала Великой Отечественной войны заключённые и вольнонаёмные построили порт Нагаево, возник Магадан, около ста поселков на Колыме, Чукотке и в Якутии. Были проложены свыше трёх тысяч километров дорог, линий электропередачи, введены в строй электростанции, автобазы, аэродромы, организованы десятки колхозов, совхозов, несколько рыбпромхозов и больше 300 подсобных хозяйств. Однако всё это осуществлялось за счёт чудовищной эксплуатации бесправных лагерных сидельцев. Смертность на Колыме была выше, чем в других лагерях страны. Заключённых рассматривали как рабов. Историк Иван Джуха пишет: «В такие дни город превращался в огромный пчелиный улей. К бухте Нагаево со всей Колымы спешили свободные грузовики ЗИС-5. Бесконечной цепью выстраивались они по дороге к магаданской транзитке на 4-м километре колымской трассы. …Возле пирса № 5, куда причаливали пароходы “с человеческим грузом”, заключённых выстраивали в колонну — по пять человек в шеренге и под конвоем, по столбовой дороге — проспекту Ленина, через весь город гнали в санпропускник… Далее колонну перегоняли в магаданскую транзитку. То, что происходило дальше, ничем не отличалось от древнего невольничьего рынка. Прибывшие начальники, не спеша, обходили свежий этап и отбирали людей для собственных нужд. Каждый начальник в первую очередь отбирал дефицитных специалистов. Невостребованные остатки становились забойщиками, дорожниками, лесорубами. В конце концов, одних зэков оставляли на месте, других в тот же день ЗИСы развозили по колымским лагерям — каторжный Берлаг, штрафные, общие. В каждый грузовик сажали по 25 человек — по пять человек в ряду, на корточки. Впереди на кузове стоял щит, за которым становились с автоматами или винтовками три охранника. Четвёртый, старший вохровец, усаживался рядом с водителем… Путь от Магадана до конечного пункта назначения занимал до нескольких суток… Случались и многодневные пешие этапы… По самым труднодоступным лагерным пунктам зэков развозили даже на самолётах “Дуглас”». Этот рынок рабов определял дальнейшую судьбу заключённого. От того, куда зэк попадал, зависело, сколько он протянет. Самое страшное — золотые прииски и рудники, где было сосредоточено 90 % лагерного населения Колымы. Промышленная добыча золота на Колыме сопряжена с особой сложностью. Золотосодержащие пески залегают на глубинах от 2–3 до 10–20 метров. Чтобы добраться до них, требовалось вручную или с помощью взрывчатки снять верхние «пустые» слои. При этом работы велись в условиях вечной мерзлоты: «Даже летом на глубинах свыше метра “песок” — такая же твёрдая порода, как и гранит. Забойщики киркой отделяли её от основной массы и грузили лопатами на одноколёсные тачки, после чего подвозили к подъёмнику. Поднятый наверх грунт вновь тачками свозили к бутаре, или промприбору, мощной струёй воды отделявшей золото от породы… Никаких скидок на состояние здоровья не существовало. Если до 1937 года при отборе на Колыму заключённые проходили более или менее серьёзный медосмотр, благодаря чему в колымские лагеря не отправляли откровенно больных, то с началом “большого террора” и национальных операций для всей пятьдесят восьмой были сняты все ограничения, как по состоянию здоровья, так и по возрасту». Шаламов рассказывал в письме Солженицыну: «На золоте рабочий день был летом четырнадцать часов… Летом не было никаких выходных дней… “Списочный состав” каждой забойной бригады менялся в течение золотого сезона несколько раз — “людские отходы” извергались — палками, прикладами, тычками, голодом, холодом — из забоя — в больницу, под сопку, в инвалидные лагеря. На смену им бросали новичков из-за моря, с “этапа” без всяких ограничений. Выполнение плана по золоту обеспечивалось любой ценой… Золото, золотые прииски — это главное, ради чего Колыма существует… Попасть на золото значило попасть в могилу». Александр Бирюков в этой связи приводит редкий куплет песни «Я помню тот Ванинский порт»:«Чудная планета»: от Геродота до Берзина
Но ежели Колымский край столь суров, отчего в песне Колыма названа «чудной планетой»? Прежде всего, это — аллюзия на уже известную нам лагерную частушку:«Чудная» или «дальняя»?
Но не будем торопиться. Попробуем разобраться, почему Колыма названа «планетой». Забудем на время об эпитете: далеко не во всех вариантах «Ванинского порта» используется определение «чудная». Вместо него пели «дивная», «райская», «чёрная», «страшная», «дальняя»… Стоп! Пожалуй, есть смысл остановиться на последней характеристике. Её рождение прямо связано с трестом Дальстрой. Именно Дальстрой называли поначалу «Дальней планетой». Об этом (как о само собой разумеющемся факте) упоминает, например, Евгения Гинзбург в мемуарах «Крутой маршрут»: «Я давно слышала, что между начальником Дальстроя Митраковым, сменившим уволенного в отставку Никишова[21], и начальником политуправления Шевченко — нелады. Не знаю, было ли там что-нибудь принципиальное или просто шла борьба за власть в пределах “Дальней планеты”». Гинзбург приводит также вариант известной частушки с соответствующим эпитетом. И всё же — почему «планета»? Да потому, что именно это определение более всего подходило для Колымы. Колымский край был совершенно другим миром, как бы инопланетной цивилизацией. Вспомните строки:«Страна чудес»
Но откуда появилось определение «чудная планета»? Понятно, что оно насквозь пропитано издёвкой и сарказмом. Причём именно эпитет «чудная» оказался наиболее стойким! Схожие с ним «райская», «дивная» — достаточно редкие варианты. Случайно ли? Нет. В рассказе «Джелгала. Драбкин» Варлам Шаламов пишет: «По свойствам моей юридической натуры, моего личного опыта, бесчисленных постоянных примеров, что Колыма — страна чудес, по известной поговорке лагерников-блатарей, я как-то не волновался этой юридической формальностью, нарушением её». Ага, оказывается, у блатарей существовала поговорка о Колыме — «стране чудес»! Уже горячо… Шаламов, однако, не приводит поговорку полностью. А звучит она так: «Колыма — страна чудес: сюда попал и тут исчез!» Вместо Колымы также подставляли Магадан. И сегодня эта поговорка гуляет по стране. Причём вместо Колымы часто подставляют другие географические названия. Достаточно заглянуть в Интернет и убедиться: здесь и Буранчи (село в Оренбургской области), и Гольяново (район Москвы), и Иркутск, и Россия в целом, и даже… сам Интернет! Но несомненное первенство всё-таки за Колымой. Но снова обратимся к истории. Оказывается, выражение «Колыма — страна чудес» придумали вовсе не блатари и вообще не заключённые. Впервые эта фраза отмечена в серии статей П. Загорского, которые опубликовала газета «Известия» в 1944 году. По степени фантастичности эти опусы оставили далеко позади даже «сказки дядюшки Берзина». Статьи появились неспроста. Дело в том, что как раз в 1944 году произошло знаменательное событие. О нём повествует английский писатель Роберт Конквест в статье «Клоунский фарс». Колымский край с краткосрочным визитом посетили вице-президент США Генри Уоллес и профессор Оуэн Латтимор, который представлял Службу военной информации Соединённых Штатов. И вовсе не затем, чтобы «развеять мифы» о жестоком обращении с советскими заключёнными. Конечно, бывали и такие пропагандистские акции: в 1930-е Бернард Шоу побывал на лесозаготовках под Архангельском и опроверг «клеветнические» заявления, будто бы советская древесина, продаваемая в западные страны, добывается рабским трудом. Однако на сей раз от политиков не требовалось ничего опровергать, поскольку сведения о невольничьем труде в колымских лагерях до Запада в то время не доходили. Просто Колыма была удобным местом для трёхдневной остановки союзников во время перелета из США в Китай. После посещения Колымского края Уоллес и Латтимор опубликовали восторженные отчёты. В книге «Миссия в Советскую Азию» Уоллес писал, что золотоискатели на Колыме — это «рослые крепкие парни, которые приехали на Дальний Север из Европейской части России», они являются «пионерами нового технического века, строителями городов». Конквест подробно описывает детали большого обмана: «Деревянные вышки, тянущиеся вдоль всей дороги в Магадан, были снесены. В течение трёхдневного визита никого из заключённых, выполнявших городские работы, не выпускали из лагерей. Более того, когда гости проезжали мимо лагерей, заключённым не разрешалось покидать бараки. Их запирали там и крутили фильмы». Разумеется, гости, вернувшись на родину, восторженно отозвались о «чудесах», которые они встретили на Колыме. Об условиях жизни здесь Уоллес писал: «Продолжительность рабочего дня в СССР — 8 часов. Вся сверхурочная работа оплачивается дополнительно в период военного времени… В сравнении с золотоискателями царской России люди в комбинезонах на Колыме могли тратить на свои нужды денег намного больше, чем тогда». Красочно описывает вице-президент США и посещение посёлка Бёрёлёх: «Мы летели на север над колымской дорогой в Бёрёлёх, где было два прииска. Предприятие, расположенное там, выглядело впечатляюще. Производство там развивалось быстрее, чем в Фейербенке (США), хотя условия в Бёрёлёхе были более тяжёлыми». Профессор Латтимор написал о визите статью с фотографиями для «National Geograpic Magazine», которая была опубликована в декабре 1944 года. «Жестоким царским временам» автор противопоставил эпоху Дальстроя, опять-таки «макнув» комбинат в Фейербенке, который, по мнению Латтимора, уступает советскому тресту в эффективности управления. Далее автор сравнил колымскую действительность и американские времена «золотой лихорадки» — с их «грехами, джином и скандалами». На Колыме вместо этого — оранжереи, которые снабжают рабочих помидорами, огурцами и даже дынями — «чтобы быть уверенными в том, что золотодобытчики получают достаточное количество витаминов». Одна из фотоиллюстраций к статье запечатлела группу бравых парней. Подпись гласила: «Они должны быть крепкими, чтобы выносить лютые морозы»… Отзывы высоких гостей были широко разрекламированы в советской прессе. Именно тогда и появилась издевательская поговорка, которая придала бодрой фразе Загорского зловещий смысл: «Колыма — страна чудес: сюда попал и тут исчез». Связь событий 1944 года с возникновением жутковатого присловья очевидна. Но тогда есть серьёзные основания полагать, что и определение Колымы как «чудной планеты» тоже относится, скорее всего, именно к середине 1940-х годов. Видимо, произошло нередкое для фольклора явление: контаминация фразеологических единиц, то есть смешение двух словосочетаний — «дальняя планета» и «страна чудес», а в результате образовалась «чудная планета» (существует и вариант «чудесная планета»).«Столица Колымского края»
Историю Магадана принято отсчитывать с 14 июля 1939 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Хабаровского края был образован Колымский округ, а посёлок Магадан, население которого составляло 30 700 человек, стал его центром и получил городской статус. Однако, по сути, Магадан, как и большинство других городов России, должен вести родословную не со дня присвоения статуса города, а со дня возникновения. Так что не обойтись без короткого экскурса в историю. Удобную Нагаевскую бухту облюбовали ещё в 1928 году участники первой колымской экспедиции Юрия Билибина. Но тогда бухта была почти безлюдна. Геологи и гидрографы исследовали здешнее побережье и пришли к выводу, что именно тут — идеальное место для укрытия судов. В навигацию 1929 года в бухту прибыли первые пароходы, которые доставили работников будущей Восточно-Эвенкской культбазы. Началось строительство двух посёлков — Нагаево и Магадана. Первые деревянные домики на побережье появились в Нагаево. Однако вскоре выяснилось, что Магадан расположен несколько удачнее. В отчёте Дальстроя за 1932 год объясняется: «Устройство этого посёлка вызывалось, во-первых, отсутствием воды в Нагаево, во-вторых, более удобными топографическими условиями (долина реки) и, в-третьих, лучшими климатическими условиями». Именно здесь обустраиваются административный штаб, автотранспортная база, основная масса жилых зданий. Поселение вдоль речки Магаданки (прежнее название — Монгодан) первые жители почти сразу стали называть городком. А Нагаево с его частными домиками по сию пору остаётся посёлком в составе разросшегося Магадана. Первыми строителями Магадана были не заключённые, а бойцы Особой Краснознамённой Дальневосточной армии Блюхера, которые прибыли сюда на пароходе «Сясьстрой» в 1931 году, в результате чего численность Восточно-Эвенкской (к тому времени — Нагаевской) культбазы увеличилась с 500 до 2000 человек. Жили они большей частью в разномастных палатках, и поселение получило название «ситцевый городок». Затем с материка завезли деревянные щитовые дома, ввели в эксплуатацию кирпичный завод. Кирпичные здания стали появляться уже в 1933 году. Но первый большой жилой каменный дом в Магадане вырос лишь в 1936 году. Впрочем, учитывая отдалённость от месторождений, Эдуард Берзин планировал не развивать Магадан, а выстроить столицу Колымы в глубине материка — в устье реки Таскан. И всё же в посёлке заключённые строили морской порт, заводы, электростанции, объекты образования, здравоохранения и культуры… В 1937 году Малая Советская энциклопедия уже аттестовала Магадан как новый город, центр Верхне-Колымского горнопромышленного района. Городом его называли и в приказах по Дальстрою. В середине 1930-х годов появляется знаменитая песня на мотив народной «Ох ты море, Охотское море»:«Шатаются люди, как тени»: выживание в колымских лагерях
Сравнение колымских лагерников с тенями неудивительно: в этом сказывается античная литературная традиция, называющая «царством теней» страну мёртвых — Аид. Позднее стараниями Данте так назовут и христианский ад. Адом была для зэков и лагерная Колыма. Стоит ли удивляться, что не только в песне о Ванинском порте, но и во многих мемуарах лагерников, прошедших зоны Колымского края, встречается мрачное сравнение зэков с тенями? Откроем воспоминания Екатерины Кухарской «Будь что будет» (события относятся к концу 30-х годов): «Лагерь к этому времени наполнился толпами дистрофиков с лесоповала, вяло бродящих по двору. Трудно было узнать кого-нибудь среди этих теней. Там, где должны быть выпуклости, были впадины, выперлись черепные кости, запали глаза. Знакомое выражение тупого безразличия, равнодушия ко всему на свете глядело из глаз». Тот же образ использует осуждённый комбриг (позже — генерал, командующий армией) Александр Горбатов, до 1940 года отбывавший срок на золотоносном прииске «Мальдяк»: «По склонам гор, растянувшись на четыре километра, вереницей бредут исхудалые люди — не люди, а тени, вытянув, как журавли в перелёте, шеи вперёд, и, напрягая последние силы, тянут древесину». Похожую картину рисует Иван Джуха, рассказывая о спецлагере «Инвалидка»: «Брёвна тащили с сопки вниз. Зимой вереница инвалидов — уже не людей, а теней от них, растягивалась на все четыре километра. Из последних сил, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, эти ходячие трупы тащили неподъёмные брёвна». Условия отбывания срока постоянно ужесточались. Во второй половине 1930-х новые «хозяева тайги» упразднили берзинский либерализм: отменили выходные, увеличили продолжительность рабочего дня до 14 часов, убрали зачёты и т. д. Тот же Джуха пишет: «НКВД внимательно следило, чтобы лагерь не превратился в дом отдыха… Единственная задача в лагере была — выжить. На Колыме она обрела жестокую форму жестокой поговорки: “умри ты сегодня, а я — завтра”. На освобождение от работ существовал жёсткий лимит. При исчерпании лимита даже уже давно “дошедший до социализма” зэк не мог рассчитывать на милость лагерного врача и освобождение от работы… Быстрее других “доходили” те, кто хорошо работал, кто надеялся ударным трудом заработать побольше зачётов и тем самым сократить лагерный срок. Но главная мотивация, двигавшая ударниками, исходила из желудка. Заработать большую пайку становилось насущной потребностью большинства из тех, кто не понимал, что губит не маленькая пайка, а большая». «Дошедшие до социализма», доходяги, представляли собой жуткое зрелище. Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте» рассказывает о «проходящей… очереди фантастических существ, закутанных поверх бушлатов в мешки, обмотанных тряпками, с чёрными отмороженными, гноящимися щеками и носами, с беззубыми кровянистыми дёснами. Откуда они пришли? Из первозданной ночи? Из бреда Гойи? Какой-то апокалиптический ужас сковывает всё моё существо». Доходяга — самая ходовая характеристика массы заключённых, которые не могли приспособиться к лагерной действительности, не в силах были выдержать тяжелейших условий рабского труда. Сергей Снегов в сборнике рассказов «Язык, который ненавидит» дал словарь жаргона узников советских лагерей, где слово «доходяга» трактуется следующим образом: «Обессиленный, готовый отдать концы. Словечко, ставшее общелитературным. Во многие годы нашей истории слишком уж распространено было явление, обозначавшееся этим словом». Помимо «доходяги», для определения угасающих физически и морально людей использовались определения «фитиль» и «огонь»: по принципу «догорает, дунь — погаснет». Тот же Снегов по поводу «огня» поясняет: «Физически ослабевший, отощавший… Доходяга высокой степени». Скопление доходяг иронически называли «лебединое озеро», поскольку словечко «доходить» имело синоним — «доплывать», а доходяги смахивали на плывущих лебедей своими тощими шеями (вспомним, что Горбатов сравнивал дистрофиков с журавлями, вытягивающими шеи в полёте). Ярко описал «доплывание» Варлам Шаламов в рассказе «Лёша Чеканов, или Однодельцы на Колыме»: «Доходяга, тот, кто “доплыл”, не делает этого в один день. Копятся какие-то потери, сначала физические, потом нравственные… В процессе “доплывания” есть какой-то предел, когда теряются последние опоры, тот рубеж, после которого всё лежит по ту сторону добра и зла, и самый процесс “доплывания” убыстряется лавинообразно… Для этой цепной реакции в блатном языке есть гениальное прозрение — вошедший в словарь термин “лететь под откос”… Потому-то и была отмечена в немногочисленной статистике и многочисленных мемуарах точная, исторически добытая формула: “Человек может доплыть в две недели”. Это — норма для силача, если его держать на колымском в пятьдесят-шестьдесят градусов холоде по четырнадцать часов на тяжёлой работе, бить, кормить только лагерным пайком и не давать спать. Потому-то и генерал Горбатов, попав на прииск “Мальдяк”, сделался полным инвалидом в две недели». Быстрее всего доходягами становились люди, по роду вольной деятельности не связанные с тяжёлым трудом, — интеллигенция, управленцы. Г. Фельдгун в «Записках лагерного музыканта» пишет: «В подобную касту неприкасаемых чаще всего попадали интеллигенты, непривычные к физическому труду, не получавшие посылок и не имевшие какой-либо, пользующейся в лагере спросом, профессии, например повара, парикмахера, портного, сапожника. Кроме того, они особенно трагично переживали свою арестантскую участь и быстро опускались. Из рабочих бригад и бараков их выгоняли, что означало сесть на пайку в 200 грамм хлеба. В результате организм слабел, ничему уже не мог сопротивляться, и наступало полное истощение. Доходяги вылизывали чужие миски, лазали по помойкам. Их обкрадывали, били. Это была полная, сначала духовная, а затем и физическая деградация, обычно кончавшаяся смертью». Образ такой опустившейся лагерницы предстаёт в описании Евгении Гинзбург: «Никто уже почти не вспоминает о том, кем была, например, на воле Елена Николаевна Сулимова, жена бывшего председателя Совнаркома РСФСР. Научный работник, врач, она воспринимается теперь всеми только как доходяга. Даже не доходяга, а настоящий фитиль. Она не расстаётся с задубевшим от грязи бушлатом, прячется от бани и ходит по столовой с большим ведёрком, в которое она сливает изо всех мисок остатки баланды. Потом садится на ступеньки и жадно, как чайка, глотает эти помои прямо из ведра. Уговаривать её бесполезно. Она сама забыла себя, прежнюю». Киносценарист Валерий Фрид в мемуарах «58 с половиной, или Записки лагерного придурка» вспоминает ещё более отвратительную степень падения: «До чего же трудно голодному человеку не переступить черту! Впадали и в полный маразм. Так, Юлию Дунскому признался один фитиль, что подкармливается корочками сухого кала; собирать их он рекомендовал в уборной возле барака ИТР — инженерно-технических работников: те питаются лучше и экскременты у них более калорийные». И раз мы коснулись темы «нижепоясничной», вспомним известную русскую поговорку о том, что в нашем отечестве всё делается через жопу. На Колыме она приобрела, по Фриду, буквальный смысл: «После бани нас повели на “комиссовку”. Врач и фельдшер определяли на глаз, по исхудалым задницам, кому поставить в карточку ЛФТ — лёгкий физический труд, кому СФТ — средний, кому — тяжёлый, ТФТ. Ягодицы у меня были в порядке, но краснопресненские ножевые раны ещё не совсем зажили, мокли — поэтому мне прописали СФТ». В повести «Байкальский адмирал» В. Крайнева и Л. Скворцова этот процесс описан подробно: «Для осмотра заводили зэков к врачу по десять человек. — Раздевайтесь догола, — командовал Никитин. — Постройтесь в одну шеренгу. Заключённые становились в один ряд, а врач шёл позади строя и щипал каждого за ягодицу. — Понимаешь, Лёва, — объяснял потом Скворцову Никитин. — У дистрофиков в первую очередь задница подсыхает. Ухватишь одного за ягодицу, и если не промять руками, пальцами кожу и мясо — первая категория. У второй категории кожа уже дряблая и от кости отделяется почти без усилия. Дистрофиков третьей категории и щупать не надо. От них из задницы и изо рта одинаково воняет. Эти уже не жильцы на белом свете. Во всяком случае, в тюрьме им уже не подняться на ноги».«Здесь смерть подружилась с цингой»
Замечание по поводу вони изо рта заставляет нас вспомнить о другой мрачной строке «Ванинского порта»:«Пеллагра и каторжный труд»
Пеллагра… Это слово звучало ещё страшнее, чем цинга. Часто пеллагра добивала заключённого одновременно с цингой, как это было с Хеллой Фишер: «У меня сползла кожа с рук и ног. Цинга. Начало конца, что ли?.. Усердно лечили хвойным экстрактом, капустным рассолом, кусками сырой картошки». Сползание кожи — симптом «чистой» пеллагры. Обе болезни связаны с авитаминозом: цинга вызывается дефицитом витамина С, пеллагра — витамина В, особенно никотиновой кислоты. Ранние ярко выраженные симптомы пеллагры — тёмные грязно-коричневые пятна на лице, шее, руках и ногах. На кистях и предплечьях потемнения приобретают вид «пеллагроидных перчаток», на стопах и голенях — «пеллагроидных сапожек». Тело покрывается сухими шелушащимися чешуйками, язвами, гнойными пузырями, лицо — сыпью, коркой («пеллагрозная маска»). Вокруг глаз — пигментация в виде «пеллагрозных очков», на веках потемнение кожи напоминает кровоподтёки. Всё это сопровождается зудом и жжением. Запущенная пеллагра ведёт к деменции — слабоумию. Потрясающую картину болезни воссоздал Варлам Шаламов в рассказе «Перчатка»: «Моя болезнь называлась пеллагра… Я почувствовал, как кожа моя неудержимо шелушится, кожа всего тела чесалась, зудела и отлетала шелухой, пластами даже. Я был пеллагрозником классического диагностического образца, рыцарь трёх “Д” — деменции, дизентерии и дистрофии… Кожа сыпалась с меня, как шелуха… Помню страстное постоянное желание есть, неутолимое ничем, — и венчающее всё это: кожа, отпадающая пластами. …Я почувствовал, что у меня отделяется, спадает перчатка с руки. Было занятно, а не страшно видеть, как с тела отпадает пластами собственная кожа, листочки падают с плеч, живота, рук. Настал день, когда кожа моя обновилась вся — а душа не обновилась. Было выяснено, что с моих рук нужно снять пеллагрозные перчатки, а с ног — пеллагрозные ноговицы. Эти перчатки и ноговицы сняты с меня… и приложены к “истории болезни”. Направлены в Магадан вместе с историей болезни моей, как живой экспонат для музея истории края, по крайней мере, истории здравоохранения края…» Пеллагра долгое время была одной из основных причин смертности по ГУЛАГу в целом и на Колыме в частности. Так, в 1942–1943 годах более половины всех смертей пришлось именно на пеллагру, а в некоторых лагерях — до 90 % смертей. Даже в 1945 году эта страшная болезнь давала 8,5 % смертности. После всего описанного выше не кажется преувеличением строка песни, где с горечью утверждается:«Будь проклята ты, целина»: блатные и студенческие переделки
Многие блатные и лагерные песни, как известно, существуют не только во множестве разнообразных вариантов, но и подвергаются переделкам, пародируются, меняются сюжетно и т. д. Не минула чаша сия и песню о Ванинском порте. Правда, по сравнению, скажем, с «Муркой» или «Гоп со смыком» колымский гимн перекраивался не столь часто. При этом создатели новых версий порою бездумно «скрещивали» куплеты, которые противоречили один другому. Так случилось с вариантом, который был записан фольклористом Владимиром Бахтиным в 1990 году от бывшего заключённого И. Морозова и условно назван «Лагерная»:
Как лагерный Одиссей вернулся к верной ростовской Пенелопе «На Колыме, где тундра и тайга кругом»



«Мы встретились с тобой на Арсенальной»
Песня о колымской любви и верности — классика послевоенного гулаговского фольклора. Хотя — так ли уж послевоенного? Довольно очевидна перекличка третьей строки второго куплета «Колымы» с началом уголовного романса «Мы встретились с тобой на Арсенальной»:«И вот мы снова у стен Ростова»
Зато другой источник вдохновения лагерных боянов можно определить с абсолютной точностью. На него, например, указывает Алексей Краснопёров в исследовании «“Блатная старина” Владимира Высоцкого»: «Кстати, эта песня имеет и “фронтовой” вариант с общим финальным куплетом:«Ёлки-моталки»: проколы с колымской географией
Можно с большой долей достоверности предположить, что фронтовую «Донскую лирическую» в колымские лагеря после войны привезли арестанты-«вояки» — необязательно даже из блатных. Так, на сайте Бориса Андюсева «Сибирское краеведение» в комментариях к тексту песни читаем: «Песню “Когда мы покидали свой родимый край” я записал ещё в 1990-х годах со слов Виктора Прокопьевича Бектяшкина, ветерана труда, всю жизнь проработавшего спасателем ВГСЧ в п. Северо-Енисейском. В. П. Бектяшкин ещё в ранней юности, в первые послевоенные годы слышал эту песню во время концертов художественной самодеятельности. Её, видимо, привезли с войны фронтовики». То есть песня была популярна по всей стране. А упоминание Ростова имело особое значение для блатарей: Ростов-папа пользовался неизменным уважением в уголовно-арестантском мире. Лагерный вариант быстро обрёл популярность и разошёлся по всей стране Зэкландии, из-за чего песня подверглась ряду искажений. Так, многие «шансонье» повторяют вслед за Михаилом Шуфутинским, спевшим в 1982 году:«Вы северным сияньем увлеклись»
Мимо упоминания о северном сиянии пройти тоже нельзя. Благодаря упоминанию этого необычного небесного явления в песне мы можем с большой долей вероятности определить время встречи лирических героев. Северное, или полярное, сияние возникает преимущественно весной и осенью, ближе к весеннему и осеннему равноденствиям (20 марта и 23 сентября). Лучшее время для наблюдений сияния — февраль — март и сентябрь — октябрь. Скорее всего, примерно в этот период и произошло нежное свидание. Крупный снег свидетельствует о том, что, по колымским меркам, было довольно тепло (либо ещё, либо уже). Заодно вспомним, что северным сиянием увлеклись девушки. Сам арестант был во власти более приземлённых чувств, и сияние его не особо интересовало. Вот такое различие мужской и женской ментальности. Не подумайте, что это — просто ирония. Воспоминаний о северном сиянии в мемуарах бывших узников ГУЛАГа не так много, но мы отыскали подобного рода описания как в мужском, так и в женском вариантах. Вот отрывок из воспоминаний Николая Билетова «С 32-го на Колыме»: «Начало темнеть. По горизонту справа налево двинулись чёрные и красные столбы — началось северное сияние. С каждой минутой столбы делаются всё ярче, контрастнее, удлиняются и движутся всё быстрее и быстрее. Создаётся впечатление, что находишься внутри гигантской карусели. За столбами, в тёмной синеве, зажглись звёзды, повисла жёлто-красная луна. Уже с трудом передвигаю ноги. До рези в глазах вглядываюсь в ночь: не покажется ли спасительный огонёк такого желанного сейчас лагеря, где в дымном и вонючем, но тёплом бараке накормят горячей баландой, дадут место на нарах…» Итак, лагерник лаконично пересказывает визуальное впечатление от «свечения верхних слоёв атмосферы», но более его заботит другое: как бы поскорее добраться до тёплого барака и баланды. А теперь ровно та же ситуация глазами женщины-зэчки Валентины Мухиной-Петринской, автора мемуаров «На ладони судьбы»: «Мир внезапно изменился. Он уже не был таким белым и однотонным, он блистал, как радуга. Не так, когда она нежно сияет далеко-далеко на горизонте, а как если бы эта радуга чудесно приблизилась и вы очутились в самом центре её прекрасного, ослепительного полыхания… Никакие слова не могли передать то, что творилось в пространстве! Не существовало подобных красок, чтобы художник изобразил на полотне это. Может быть, только музыка могла передать то, что я видела в ту ночь, оставшись одна в пространстве, — философский смысл виденного. Учёные утверждали, что полярное сияние беззвучно. Пусть так. Но я слышала его. Пусть что угодно говорит наука, но я буду утверждать, пока живу, что я слышала полярное сияние… Из самого зенита неба, затмив созвездие Большой Медведицы, стремительно вылетали одна за другой длинные лучистые стрелы — всё быстрее и быстрее, догоняя друг друга, зажигая облака. Скоро весь небосвод пылал странным приречным холодным огнем. На фоне отдельных жутких, фиолетовых провалов ещё ярче разгорался этот свет… Огня было уже так много, что он стекал с неба, с гор, зажигая снег голубым, зелёным изумрудным, жёлтым огнём». Положа руку на сердце: две трети описания (занимающего несколько страниц) мне пришлось сократить. Однако и без того видно, насколько по-разному действовало северное сияние на лагерников и лагерниц. Мужчины торопились в вонючий, но тёплый барак, женщины слушали музыку сфер. Конечно, вселенских выводов из этого сопоставления делать не стоит. В условиях тяжёлого лагерного существования и среди женщин многим было не до любования сказочными явлениями атмосферы. Но всё-таки женская натура более склонна к аффектации и к восприятию красоты. Вот как, например, описывает Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» бывшую лагерницу Сачкову, посаженную в 19 лет: «Её привезли в тундру под Норильск, так и он ей “показался каким-то сказочным городом, приснившимся в детстве”. Отбыв срок, она осталась там вольнонаёмной. “Помню, я шла в пургу, и у меня появилось какое-то задорное настроение, я шла, размахивая руками, борясь с пургой, пела «Легко на сердце от песни весёлой», глядела на переливающиеся занавеси северного сияния, бросалась на снег и смотрела в высоту. Хотелось запеть, чтоб услышал Норильск: что не меня пять лет победили, а я их, что кончились эти проволоки, нары и конвой… Хотелось любить!”» Да, женщина и мужчина — существа из разных миров…«Я встретил девочку на пересылочке»
Нынешнему читателю может показаться странной ситуация, когда мужчина-заключённый свободно бродит и общается с осуждёнными женщинами. Сейчас такое возможно разве что в колониях-поселениях, то есть при почти вольном режиме исполнения наказания. Прежде такой «зоной свободного общения» оставались также больницы для осуждённых: там допускалась хозяйственная обслуга из числа женщин-арестанток, что способствовало их интимной связи с пациентами. Сейчас пребывание осуждённых разного пола в таких больницах категорически запрещено: «Мужчины, женщины и несовершеннолетние, а также подозреваемые и обвиняемые,проходящие по одному уголовному делу, больные с различными инфекционными заболеваниями содержатся раздельно»[22]. Вообще-то сталинский ГУЛАГ тоже предполагал изоляцию женщин от мужчин. Вот только степень этой изоляции в разные периоды отличалась. До 1930 года содержание заключённых в местах лишения свободы регулировалось внутренними инструкциями ОГПУ. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый 16 октября 1924 года, вообще не предусматривал существования лагерей. В пункте А статьи 46 перечислялись следующие учреждения для применения мер социальной защиты исправительного характера: 1) дома заключения, 2) исправительно-трудовые дома, 3) колонии — сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные, 4) изоляторы специального назначения, 5) переходные исправительно-трудовые дома. Ни слова о раздельном содержании заключённых женщин и мужчин. В «Положении об исправительно-трудовых лагерях», утверждённом СНК СССР 7 апреля 1930 года, этот вопрос тоже не затрагивается. Впервые разъяснение дано в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 года. В статье 47 главы 2 («Приём и содержание лишённых свободы») ясно сформулировано: «В местах лишения свободы женщины обязательно размещаются отдельно от мужчин, а несовершеннолетние — отдельно от взрослых». Однако каким образом осуществляется изоляция, непонятно. Лишь в пункте 11 «Временной инструкции о режиме содержания заключённых в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР» 1939 года вскользь упомянуто: «Посещение женских общежитий заключёнными мужчинами и наоборот запрещается (за исключением лиц адм. персонала)». То есть женщины и мужчины находились в одной зоне, но в разных бараках. Вот что рассказывает бывший лагерник Сергей Снегов о довоенном ГУЛАГе: «Женские бараки существовали в каждой из наших лагерных зон, но женщин и в лагере, и в посёлке — “потомственных вольняшек” либо освобождённых — было много меньше, чем мужчин. Это накладывало свой отпечаток на быт в зоне и за пределами колючей проволоки. Женщины, как бы плохо ни жилось им в остальном, чувствовали себя больше женщинами, чем во многих местах на “материке”. За ними ухаживали, им носили дары и хоть их порой — в кругу уголовников — и добывали силой, но добывали как нечто нужное, жизненно важное, в спорах — до поножовщины — с соперниками… Женщины ценили своё местное значение, оно скрашивало им тяготы сурового заключения и жестокого климата. Я иногда читал письма уехавших подругам, оставшимся на Севере: очень часто звучали признания — дура была, что не осталась вольной в Норильске, а удрала назад на тепло и траву. Есть здесь и тепло, и трава, только здесь я никому не нужна, а вкалывать надо почище, чем в Заполярье… Женщин не селили в особых зонах, а размещали их в бараках во всех лаготделениях — лишь немного в стороне от мужских. Это особых трудностей не причиняло, даже коменданты не суетились чрезмерно, пресекая слишком уж наглые — чуть ли не на глазах посторонних — свидания парочек». С началом Великой Отечественной соотношение женщин и мужчин стало меняться. Тот же Снегов отмечает: «Такой порядок существовал до войны и первые годы войны, пока в каждую навигацию по Енисею плыли на Север многотысячные мужские этапы. Война радикально переменила положение. Сажать в лагеря молодых “преступивших” мужчин стало непростительной государственной промашкой, их, наскоро “перевоспитав”, а чаще и без этого, отправляли на фронт. Это не относилось, естественно, к “пятьдесят восьмой”, но и поток искусственно выращиваемых политических заметно поубавился… И вот тогда прихлёст женщин в лагеря стал быстро расти. В основном это были “бытовички”, хотя и проституток и профессиональных воровок не убавилось, они просто терялись в густой массе осуждённых за административные и трудовые провины». Старый лагерник также вспоминает первый большой («на тысячу с лишком голов») женский этап 1943 года, который следовал из Дудинки в Норильск: «В нормальный день стрелки на вышках не подпустили бы так близко к “типовым заборам” отдельных заключённых, соседство зэка с проволокой можно было счесть и за попытку к бегству с вытекающими из того последствиями. Но сейчас у проволочных изгородей толпились не единицы, а сотни, и ни один не рвался в ярости либо в отчаянии рвать проволоку — “попки” благоразумно помалкивали… Это был первый чисто женский этап, который мне довелось видеть, — и он врубился в сознание навсегда… мимо нас тащились трясущиеся от холода, смертно исхудавшие женщины в летней одежде — да и не в одежде, а в немыслимой рвани, жалких ошмётках ткани, давно переставших быть одеждой. Я видел молодые и немолодые лица со впавшими щеками, открытые головы, открытые ноги, голые руки, с трудом тащившие деревянные чемоданчики или придерживавшие на плечах грязные вещевые мешки… Женский этап двигался в гору в молчании, женщины не переговаривались между собой, не перекликались с нами. Только одна вдруг восторженно крикнула соседке, когда они поравнялись с вахтой: — Гляди, мужиков сколько! — Живём! — отозвалась соседка». В связи с этим этапом Снегов затрагивает и тему «лагерной любви». Зэки вечером обсуждают взбудоражившее их событие: «— Ну, голодные же, ну, доходные — страх смотреть! — кричал один. — Подкормятся. Наденут тёплые бушлаты и чуни, а кто и сапоги, неделю на двойной каше — расправятся. Ещё любоваться будем! — утешали другие. — Надо подкормить подруг! — говорили, кто был помоложе. — Что же мы за мужики, если не подбросим к их баланде заветную баночку тушенки. — …[23] буду, коли своей не справлю суконной юбчонки и, само собой, настоящих сапог! — громко увлекался собственной щедростью один из молодых металлургов. — У нас же скоро октябрьский паёк за перевыполнение по никелю. Весь паёк — ей! — Кому ей? Уже знаешь, кто она? — допытывался его кореш. Металлург не то удивлялся, не то возмущался. — Откуда? Ещё ни одной толком не видал. Повстречаемся, мигом разберусь, какая моя. И будь покоен, смазливая от меня не уйдёт». Однако на самом деле женские и мужские этапы часто сталкивались и задолго до 1943 года. Об одной из таких встреч рассказала Евгения Гинзбург в книге «Крутой маршрут» (эпизод относится к июлю 1939 года): «Мы смотрим, смотрим не отрывая глаз на плывущий перед нами мужской политический этап. Они идут молча, опустив головы, тяжело переставляя ноги в таких же бахилах, как наши, ярославские. На них те же ежовские формочки, только штаны с коричневой полосой выглядят ещё более каторжными, чем наши юбки… Вдруг кто-то из мужчин, наконец, заметил нас: — Женщины! НАШИ женщины!.. Это было подобно мощному электротоку, который разом одновременно пронизал всех нас, по обе стороны колючей проволоки… мы и они кричали и протягивали друг другу руки. Почти все плакали вслух… — Милые, родные, дорогие, бедные! — Держитесь! Крепитесь! Мужайтесь! — Возьмите вот полотенце! Оно ещё не очень рваное! — Девочки! Котелок кому надо? Сам сделал, из краденой тюремной кружки… — Хлеб, хлеб держите! После этапа ведь отощали вы совсем… Сразу начались бурные романы… Более высокой, самоотверженной любви, чем в этих однодневных романах незнакомых людей, я не видела в жизни. Может быть, потому, что тут любовь действительно стояла рядом со смертью… Аллочка Токарева, у которой завязался пламенный роман с одним парнем из Харькова, простаивала у проволоки целые ночи напролёт. Глаза её горели фанатичным блеском. От её лагерного благоразумия не осталось и следа. Она готова была, если надо, броситься с кулаками на “начальника колонны” — самодержицу Тамару. Но та смотрела очень равнодушно на “эту беллетристику”. Никакой серьёзности она не усматривала в платонических излияниях у проволочного заграждения. — Пусть их — лишь бы счёт сходился при проверке… На то и транзитка…» Такая «транзитная любовь» была типична не только для «политиков». То же самое происходило и с «бытовиками», и с блатными. Уркаганы запечатлели «пересыльно-этапную любовь» в известной лагерной песне:«В любви и ласках время незаметно шло»
Итак, соотношение женского и мужского населения в лагерях во время войны достаточно серьёзно изменилось. Приток женщин при оттоке мужчин, да ещё в отсутствие серьёзной изоляции зэчек от зэков привёл к небывалому всплеску сексуальных отношений между ними. Если в первые годы войны это ощущалось не столь отчётливо (да и не до того было: смертность в ГУЛАГе достигла чудовищных масштабов — свыше 20 % в год), то уже после 1943 года проблема проявилась со всей отчётливостью. «Лагерная любовь» превратилась для руководства и сотрудников лагерей в настоящий кошмар. К тому же «интимную лихорадку» подхлестнуло законотворчество верховной власти. Имеется в виду указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям» и секретная инструкция к нему от 27 ноября 1944 года. Жак Росси пишет в «Справочнике по ГУЛАГу», что, согласно инструкции, «нарсудам предложено беспрекословно (и бесплатно!) расторгать брак, если один из супругов осуждён по политической статье». Однако он не совсем точен. Пункт 16-а указанной инструкции «О порядке рассмотрения судами дел о расторжении брака» не оговаривал особого порядка рассмотрения дел о разводе именно в отношении осуждённых по политическим статьям: он касался тех, кто приговорён к лишению свободы на срок три года и выше. Впрочем, «контрики» не получали меньше пяти лет, так что, по сути, Росси прав: закон провоцировал оставшихся на свободе супругов отказываться от своих жён и мужей, находившихся в лагерях. А сидельцев обоего пола подталкивал искать себе вторую половинку в границах «страны Зэкландии». Это особенно касалось «политических», имевших большие сроки. Кстати, так поступили и автор «Крутого маршрута» Евгения Гинзбург, и немало других лагерниц. Вот что писала сама Гинзбург: «Любовь в колымских лагерях — это торопливые опаснейшие встречи в каких-нибудь закутках “на производстве”, в тайге, за грязной занавеской в каком-нибудь “вольном бараке”. И всегда под страхом быть пойманными и выставленными на публичный позор, а потом попасть на штрафную, на жизнеопасную “командировку”, то есть поплатиться за это свидание не чем-нибудь — жизнью. Многие наши товарищи решили этот вопрос не только для себя, но и, принципиально, для всех, с беспощадной логикой настоящих потомков Рахметова. На Колыме, говорили они, не может быть любви, потому что она проявляется здесь в формах, оскорбительных для человеческого достоинства. На Колыме не должно быть никаких личных связей, поскольку так легко здесь соскользнуть в прямую проституцию. Принципиально возразить тут вроде бы и нечего. Наоборот, можно только проиллюстрировать эту мысль бытовыми колымскими сценами купли-продажи живого товара. Вот они, такие сцены. (Оговариваюсь: я веду речь только об интеллигентных женщинах, сидящих по политическим обвинениям. Уголовные — за пределами человеческого. Их оргии не хочу я живописать, хоть и пришлось немало вынести, становясь их вынужденным свидетелем.) Лесоповал на седьмом километре от Эльгена. Наш бригадир Костик-артист идёт по тайге не один, а в сопровождении пары “корешей”. Они деловито осматривают наших женщин, орудующих пилами и топорами. — Доходяги! — машет рукой “кореш”. — Подкормишь! Были бы кости — мясо будет, — резонёрствует Костик. — Вон к той молоденькой давай, к пацаночке! Улучив минуту, когда конвоиры греются у костра, они подходят к двум самым молоденьким девушкам из нашей бригады. — Эй, красючка! Тут вот кореш мой хочет с тобой обменяться мнением… “Обменяться мнением” — это формула вежливости, так сказать, дань светским приличиям. Без неё не начинает переговоров даже самый отпетый урка. Но ею же и исчерпывается вся “черёмуха”. Дальше высокие договаривающиеся стороны переходят на язык, свободный от всяких условностей… Чаще всего такие купцы уходили несолоно хлебавши. Ну а иногда и слаживалось дельце. Как ни горько. Так вот и выходило. Постепенно. Сперва слёзы, ужас, возмущение. Потом — апатия. Потом всё громче голос желудка, да даже не желудка, а всего тела, всех мышц, потому что ведь это было трофическое голодание, вплоть до распада белка. А порой и голос пола, просыпавшийся несмотря ни на что. А чаще всего — пример соседки по нарам, поправившейся, приодевшейся, сменившей мокрые расползающиеся чуни на валенки». Но если многие женщины из «политических» должны были переступать через себя, то у арестанток попроще — «бытовичек» и «жучек» (воровок) — подобных терзаний не возникало. Изголодавшись по интиму, они стремились удовлетворить зов тела любыми способами. Повторимся: особенно ярко это проявилось к концу войны (хотя «лагерная любовь», конечно, процветала и до этого). Условия в лагерях стали менее жёсткими, увеличились пайки, появилась возможность что-то заработать на производстве. Так, в рассказе Сергея Снегова лагерная проститутка Валя, узнав о размере положенной ей премии, отказывается от неё и даже приносит начальнику цеха от щедрот «пополнение фондов»: коробки мясных консервов, пачку сахара, килограмм сливочного масла, печенье и папиросы. Всё это она «заработала» за одно утро! К концу войны в результате притока женского населения ГУЛАГа и по-прежнему слабой изоляции создалась чрезвычайно благоприятная ситуация для «обмена мнениями» — в соседнем бараке, рядом на производстве. Руководство лагерей пыталось этому противостоять. ГУЛАГ представлял собой огромное плановое хозяйство, и «любовь-морковь» нещадно била по показателям. Проститутки обслуживали клиентов прямо на заводских участках и в цехах, на щебёнке, шлаке и даже в более экзотических местах: «На никелевом заводе несли свои функции две кирпичные трубы — первая метров в 140, вторая — чуть поболее 150. Трубы выкладывались с хорошим запасом прочности — стены у основания толщиной в пять-шесть метров, на вершине — около трёх. Выкладывали их с великим тщанием из специального кирпича опытные трубоклады. И выкладывали без спешки… Зимой на промплощадке встречаться негде — в цеху полно людей, снаружи мороз и снег. А в канале трубы тепло, ветра нет, канал освещён лампочками. Мужчины с женщинами карабкались по внутренним монтажным лесенкам и удобно устраивались на верхней площадке. Даже на самой вершине, где толщина стен около трёх метров — ширина средней комнаты, — можно свободно вытянуться и гиганту. А над головами шатёр, спасающий и от снега, и от дождя, и от головокружения. Один молодой уголовник, трудившийся в обжиговом цехе и в нужное время убегавший на высокотрубные свидания, с восторгом описывал удобства любви на трубе. Одно было страшно, признавался он, — лезть туда, цепляясь за внутренние скобы, а пуще того — спускаться. Вот что такое любовь… Даже здоровому крепкому парню страшно карабкаться по 100-138-метровой стене, а каково же бабе? Нет, карабкались и лезли, передыхали и снова ползли… Платили смертным страхом, ежеминутной возможностью гибели за часок удовольствия». Иногда, впрочем, наиболее расчётливые руководители нижнего звена использовали ситуацию во благо производства. Об этом, например, рассказывает Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»: «В 1951 году женский лесоповал был формально запрещен… Но, например, в УнжЛаге мужские лагпункты никак не выполняли плана. И тогда придумано было, как подстегнуть их — как заставить туземцев своим трудом оплатить то, что бесплатно отпущено всему живому на земле. Женщин стали тоже выгонять на лесоповал и в одно общее конвойное оцепление с мужчинами, только лыжня разделяла их. Всё заготовленное здесь должно было потом записываться как выработка мужского лагпункта, но норма требовалась и от мужчин, и от женщин. Любе Березиной, “мастеру леса”, так и говорил начальник с двумя просветами в погонах: “Выполнишь норму своими бабами — будет Беленький с тобой в кабинке!” Но теперь и мужики-работяги, кто покрепче, а особенно производственные придурки, имевшие деньги, совали их конвоирам (у тех тоже зарплата не разгуляешься) и часа на полтора (до смены купленного постового) прорывались в женское оцепление». А в отчёте по результатам проверки в ИТЛ строительства № 352 Главпромстроя МВД сообщается, что бригадиры мужских бригад, длительное время работая совместно с женскими бригадами на одной строительной площадке, принуждали женщин к сожительству или путём угроз, или путём обещаний: например, одна мужская бригада часть своей выработки списывала на женскую бригаду за то, что бригадир мужчин сожительствовал с одной из заключённых женщин женской бригады. Вот такая любовь…«И сердце отдал, предложил дружить»
Однако в «колымском романсе» рассказано не о случайной половой связи или о сожительстве — о настоящей любви, о верности! Да, мы убедились, что в довоенном и военном ГУЛАГе у женщин и мужчин было много возможностей для интимных встреч. А для настоящей любви? Что тут можно сказать… Для настоящей любви возможности есть всегда и везде — даже в самых страшных условиях. Вот отрывок из письма Варлама Шаламова Аркадию Добровольскому 13 августа 1955 года: «Одной из любимых, выношенных тем моих была тема колымской семьи с её благословенными браками “на рогожке”, с её наивной и трогательной ложью мужа и жены (в лагере), диктуемой страстным желанием придать этим отношениям какой-то доподлинный вид, лгать и заставлять себя верить, писать на старую семью и создавать новую, — благость взаимных прощений, новая жизнь в новом мире, означаемая старыми привычными словами, — и всё это отнюдь не профанирование любви-брака, а полноценная, пусть уродливая, как карликовая береза, но любовь. Это бездна энергии, которая тратится для личной встречи. Эта торопливость в “реализации” знакомства. Это crescendo развития романа — и светлое, горящее настоящим огнём, настоящей честностью и долгом всё великолепие отношений…» Пример настоящей, высокой страсти приводит Солженицын, рассказывая о 15-летней восьмикласснице Нине Перегуд, которая полюбила джазиста Василия Козьмина. Воодушевлённая этой любовью, Нина сочинила стихотворение «Ветка белой сирени». Однако в это время ГУЛАГ разделяют на женские и мужские зоны, и Козьмин, положив стихи Нины на музыку, поёт ей романс уже через ограждение… В мемуарах лагерников встречается немало ярких примеров подобной любви. И вот что особо примечательно: как никогда и нигде в других обстоятельствах, в лагерях — особенно колымских, дальних, страшных — возникали мезальянсные связи, то есть любовная близость между людьми, которых в обычной жизни разделяла, казалось бы, чудовищная пропасть — и социальная, и культурная, и интеллектуальная. Солженицын пишет: «“Заговор счастья” видела Н. Столярова на лице своей подруги, московской артистки, и её неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла, что никто никогда не любил её так — ни муж-кинорежиссёр, ни все бывшие поклонники. И только из-за этого не уходила с сеновозки, с общих работ». Так что любви не только все возрасты покорны: перед ней отступают самые страшные лагерные условия.«Женская зона скучнее, чем тюрьма»
Но вернёмся к датировке. Мы можем довольно точно локализовать время создания песни «На Колыме». Это — период с 1943 по 1947 год. В 1943 году создана «Донская лирическая», которая легла в основу «колымского романса», а в 1947 году лагерный сиделец не только не мог свободно подойти и подать руку заключённой, которая увлеклась северным сиянием, — он также не мог провожать свою подругу на пристань. Почему? Попробуем разобраться. Итак, ситуация, когда мужчины и женщины находились в одной зоне или работали на одном производстве, в условиях мест лишения свободы неизбежно приводила к тому, что бесконтрольные половые связи лагерниц и лагерников захлестнули систему ГУЛАГа. Поэтому положение постепенно стали менять. Сергей Снегов пишет, что к концу войны большинство женщин Норильлага изолировали в женские лаготделения. По мнению Солженицына, «размежевание» началось в 1946 году, а завершилось в 1948-м. Первоначально, впрочем, особо страстных не останавливала даже «колючка»: «Говорят, в Соликамском лагере в 1946 году разделительная проволока была на однорядных столбах, редкими нитями (и, конечно, не имела огневого охранения). Так ненасытные туземцы сбивались к этой проволоке с двух сторон, женщины становились так, как моют полы, и мужчины овладевали ими, не переступая запретной черты… Разумеется, не дремало и начальство и на ходу исправляло своё научное предвидение. К однорядной колючей проволоке пристраивали предзонники с двух сторон. Затем, признав преграды недостаточными, заменяли их забором двухметровой высоты — и тоже с предзонниками». Однако на самом деле разделение лагерей на женские и мужские произошло в 1947 году. Возможно, и до этого в отдельных лагерях руководство создавало специальные лаготделения для женщин. Но это можно отнести к местной самодеятельности. Такое нововведение (если оно имело место) нарушало нормы закона и опережало «половое» размежевание лагерей. А размежевание было крайне необходимо. Как говорил известный сатирик Аркадий Райкин: «Шутки шутками, но могут быть и дети…» И они таки были! Причём беременных лагерниц и женщин-заключённых с детьми в ГУЛАГе насчитывалось немало. Дошло до того, что 18 января 1945 года «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин подписал секретный указ Президиума Верховного Совета СССР «Об освобождении от наказания осуждённых беременных женщин и женщин, имеющих детей дошкольного возраста». Указ распространялся на всех беременных женщин, а также лагерниц, имевших при себе детей дошкольного возраста, и на тех, у которых были дети дошкольного возраста на свободе, при условии отбытия ими половины срока наказания. Действие документа не распространялось на осуждённых за контрреволюционные преступления, бандитизм, убийства, по закону от 7 августа 1932 года («за колоски») и рецидивисток. По указу вышли на свободу 13 270 женщин. Конечно, и до «калининской амнистии» практиковалось освобождение «мамок» с малолетними детьми. Бытовички и блатнячки (именно эти две категории лагерниц в основной массе и беременели) часто рассматривали рождение детей как возможность временного послабления режима, но не исключали и досрочного освобождения. Вот что пишет Надежда Иоффе о своём пребывании в лагерном деткомбинате (помещение для женщин на последнем месяце беременности и с малолетними детьми) ещё до войны: «“Мамки” — женщины, имеющие детей или в конце беременности. Это в большинстве случаев бытовички, для которых дети — выгодный “бизнес”. В течение шести месяцев дают паёк, не заставляют работать, не отправляют на этап, они подпадают под так называемую амнистию Крупской — для матерей (но на нашу статью это не распространялось). В общем, сплошная выгода». «Амнистией Крупской» на лагерном жаргоне называли досрочное освобождение: во-первых, Надежда Константиновна была известна как инициатор создания общества «Друг детей»; во-вторых, она постоянно выступала против гонений на детей «врагов народа». Солженицын также отмечает, что под частные амнистии и досрочное освобождение попадали «мелкие уголовницы и приблатнённые»; причём как только они получали паспорт и железнодорожный билет, то часто оставляли детей на вокзальной скамье или на первом крыльце. Даже для тех «мамок», которые решали не возвращаться к преступному промыслу, в тяжёлых послевоенных условиях новую жизнь было легче начать без ребёнка. Безусловно, достаточно впечатляющий указ Калинина заставил зэчек задуматься о том, что беременность и рождение ребёнка могут стать реальным пропуском на свободу. Но всё же не он нанёс настоящий, весомый удар по стабильности «архипелага ГУЛАГ». Эту роль сыграл указ «четыре шестых», о котором мы уже подробно рассказали в предыдущих очерках. Между мужской частью лагерного населения указ спровоцировал «сучью войну» — кровавую резню воров, в которую опосредованно оказались втянуты и другие заключённые. А вот женщины отреагировали на него иначе — но тоже очень болезненно для лагерного руководства. Об этом свидетельствует «Докладная записка о состоянии изоляции заключённых женщин и наличии беременности в лагерях и колониях МВД СССР». В ней анализируются последствия указов от 4 июня, значительно увеличивших сроки наказания за преступления против собственности — вплоть до 20–25 лет лишения свободы: «До войны и даже до 1947 года значительная масса женского контингента осуждалась на сравнительно короткие сроки заключения. Это являлось серьёзным сдерживающим фактором для женщин к сожительству, так как они имели перспективу быстрее вернуться к своей семье и нормально устроить свою жизнь. Осуждённые на длительные сроки такую перспективу в известной степени теряют и легче идут на нарушение режима и, в частности, на сожительство и беременность, рассчитывая благодаря этому на облегчённое положение и даже на досрочное освобождение из заключения. Увеличение сроков осуждения большинства заключённых женщин безусловно влияет на рост беременности в лагерях и колониях». Другими словами, именно указы «два-два» подстегнули зэчек к тому, чтобы беременеть срочным образом в расчёте на досрочное освобождение или хотя бы на временные послабления в связи с рождением детей. Но не дремали и «начальнички». 27 мая 1947 года МВД СССР выпускает «Инструкцию о режиме содержания заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях». Этот документ предусматривал создание специальных женских лагерей (лаготделений). Лишь в исключительных случаях разрешалось размещать женщин в отдельных изолированных зонах мужских подразделений. По состоянию на 1 января 1950 года, в лагерях и колониях было создано 545 отдельных женских лагерных подразделений, в которых содержалось 67 % заключённых женщин. Остальные 33 % содержались в общих с мужчинами подразделениях, но в отдельных выгороженных зонах. До этого «великого разделения» особых проблем с удовлетворением похоти не наблюдалось. Вот эпизод из рассказа Сергея Снегова «Что такое туфта и как её заряжают»: «— Отлично! Пойду облегчусь, — сказал Прохоров и направился к уборной. Но его остановил парень из “своих в доску” и заставил вернуться. — Парочка заняла тёплое местечко, так он сказал, — объяснил Прохоров возвращение. Мы с минуту отдыхали, потом снова взялись за ручки. Из уборной вышли мужчина и женщина, к ним присоединился охранявший любовное свидание — все трое удалились к другому краю лагеря, там было несколько бараков для бытовиков и блатных. — Мать-натура в любом месте берёт своё, — сказал Прохоров, засмеявшись». Теперь стало туговато. Впрочем, у 33 % женщин, которым «повезло» попасть в выгороженные зоны мужских лаготделений, шансы всё же оставались. Свидетельством тому — лагерная песня, которая называется «Чёрная стрелка» и описывает как раз один из способов проникновения женщин на мужскую территорию. Интересно уже само название песни. Слово «стрелка» на уголовно-арестантском жаргоне означает условленную встречу. Это — заимствование из практики железнодорожников[26], где упрощённым «стрелка» обозначается стрелочный перевод — устройство для разветвления путей, направления поезда с одной колеи на другую. В российских местах лишения свободы «стрелкой» называют место, где каждое утро происходит развод арестантов на работу — в промышленную, жилую, административную зоны, на бесконвойку за территорию колонии и т. д. То есть по аналогии со «стрелкой», которая распределяет движение во всех направлениях. Отсюда «забить стрелку», то есть назначить встречу. Поначалу это выражение означало искусственное затягивание процедуры лагерного развода для того, чтобы зэки из разных бараков могли о чём-то «перетереть». Хождение из барака в барак запрещалось; конечно, запрет этот постоянно нарушался, но всё же он действовал. Поэтому проще и безопаснее было общаться именно на «стрелке», но для этого её надо было «забить». «Забить стрелку» — тоже аналогия с железной дорогой: на путях стрелки «забивались», когда снег и лёд попадали между подвижными участками рельсов (остряками) и основной рамой. Приходилось задерживать движение, чтобы стрелку прочистить. Из путейского быта пошло и лагерное выражение «перевести стрелки» на кого-либо: отвести подозрение, обвинив другого человека. Затем оно широко вошло в обычную речь. К чему мы это всё? Да к тому, что название песни — «Чёрная стрелка» — представляет собой не только точное отражение её содержания, но и остроумную игру слов, блестящий каламбур! Ведь лагерная песня — переделка «Песенки о стрелках» композитора Исаака Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача из популярной музыкальной комедии Григория Александрова «Весёлые ребята»:Беременный ГУЛАГ
После «калининской амнистии» руководство ГУЛАГа продолжило политику освобождения «мамок». Ситуация в 1946–1947 годах сложилась катастрофическая. Количество малышей, рождённых за колючей проволокой, в три раза превышало вместимость лагерных домов младенца, поэтому часть из них содержалась в малопригодных и даже в общих бараках вместе со взрослыми заключёнными. Поэтому 16 августа 1947 года выходит очередной указ Президиума Верховного Совета СССР (под грифом «Без публикации») — «Об освобождении от наказания осуждённых беременных женщин и женщин, имеющих при себе в местах заключения детей», согласно которому из лагерей и колоний освободилось 20 749 женщин. Указ не распространялся на лагерниц, осуждённых за хищение социалистической собственности. Впрочем, таких в ГУЛАГе было мало (указ «четыре-шесть» за два месяца не успел развернуться в полную силу). В лагерях вместе с заключёнными матерями находились 18 790 детей в возрасте до четырёх лет, а также 6820 беременных женщин. После указа в лагерях осталось менее 5 тысяч «мамок». Одновременно усиливалась изоляция заключённых женщин от мужчин. Как пишет Солженицын, в Кенгире с этой целью возвели стену высотой пять метров и поверху пустили провод высокого напряжения. Однако перемены возымели обратный эффект: «С отделением женщин резко ухудшилось их общее положение в производстве. Раньше многие женщины работали прачками, санитарками, поварихами, кубовщицами, каптёрщицами, счетоводами на смешанных лагпунктах, теперь все эти места они должны были освободить, в женских же лагпунктах таких мест было гораздо меньше. И женщин погнали на “общие”, погнали в цельно-женских бригадах, где им особенно тяжело. Вырваться с “общих” хотя бы на время стало спасением жизни. И женщины стали гоняться за беременностью, стали ловить её от любой мимолетной встречи, любого касания… “Как же девочку назовёшь?” — “Олимпиадой. Я на олимпиаде самодеятельности забеременела”. Ещё по инерции оставались эти формы культработы — олимпиады, приезды мужской культбригады на женский лагпункт, совместные слёты ударников. Ещё сохранились и общие больницы — тоже дом свиданий теперь». С 1 января 1948 года по 1 марта 1949 года число осуждённых женщин с детьми возросло на 138 %, беременных женщин — на 98 %. На 1 марта 1949 года в «стране Зэкландии» находилось 26 150 женщин с детьми и 9100 беременных женщин — 6,3 % от общей численности лагерниц. Правда, начальник ГУЛАГа Георгий Добрынин пояснял: «Наличие этих контингентов осуждённых женщин объясняется поступлением подавляющего большинства их в места заключения с детьми и в состоянии беременности. Случаи возникновения беременности в местах заключения незначительны». Объяснение справедливое. Следует добавить, что к этому времени в стране поднялась волна возмущения чудовищной практикой судов, которые бросали за «колючку» беременных женщин и матерей с детьми-малолетками. В правительство поступали тысячи жалоб. В мае 1948 года Сталин и его окружение получили письмо от журналистки А. Абрамовой. Она сообщала о тяжёлом положении матерей и беременных женщин, осуждённых по указам от 4 июня 1947 года за мелкие кражи. Абрамова просила создать правительственную комиссию по пересмотру таких дел. В качестве аргумента приводилось и то, что такая практика слишком дорого обходится государству. По сведениям того же Добрынина, стоимость содержания детей в местах заключения составляла свыше 170 миллионов рублей в год, а неработающих беременных женщин и кормящих матерей в декретный период — около 65 миллионов рублей в год. Власть прислушалась. С одной стороны, 22 апреля 1949 года последовал указ Президиума Верховного Совета СССР «Об освобождении от наказания осуждённых беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей». На свободу досрочно вышли 55 657 лагерниц с детьми и беременных, а через некоторое время — ещё 28 560 женщин, имевших детей вне мест заключения. Однако, как и прежде, указ не коснулся колхозниц и работниц, осуждённых по закону от 7 августа 1932 года и указам от 4 июня 1947 года. Абрамову также поддержал председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Шверник. Он 5 августа 1948 года сообщил Сталину о многочисленных заявлениях от осуждённых и их родственников, в которых указывалось на бессмысленную жестокость судов, каравших за мелкие преступления огромными сроками. Шверник предложил пересмотреть дела осуждённых по указам от 4 июня 1947 года за мелкие кражи и переквалифицировать эти преступления по указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 года «Об уголовнойответственности за мелкие кражи на производстве и хулиганство» (санкция — один год тюремного заключения). Начались массовые пересмотры дел, что способствовало дополнительному исходу матерей с малолетними детьми и беременных женщин на свободу. А 28 августа 1950 года выходит указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому из мест заключения вышли 100 % беременных женщин и матерей, имевших при себе детей в лагерях, а также 94,5 % женщин, у которых малолетние дети оставались на свободе. Всего была освобождена 119 041 лагерница из 122 738 «мамок» (остальные вышли на свободу чуть позже). Это в значительной мере сняло напряжение. Зато ещё более подстегнуло стремление оставшихся заключённых женщин к сожительству и беременности. Они находили для этого всевозможные лазейки, что отмечено в «Докладной записке о состоянии лагеря Строительства № 503 МВД СССР», составленной в июне 1951 года. Документ сообщал, что распоряжение об изолированном размещении женщин от мужчин выполняется не полностью, и, как следствие, в колонне № 54 «на день проверки было зарегистрировано 8 беременных женщин, кроме этого, в апреле 11 беременных были переведены в другую колонну… На колонне № 22… зарегистрировано 14 случаев беременности». Однако в ту пору героиня «колымского романса» была уже на свободе.Лагерный календарь по песенным меткам
Можно довольно точно определить, когда именно происходили события, о которых повествует романс. Из текста следует, что сын у лагерной пары родился уже на воле. Причём будущая мама освободилась, будучи в положении, но не столь явном, чтобы её перевели в лагерный «дом малютки». Ведь как сообщает герой песни: «Я провожал тебя тогда на пристань», то есть лично отвёл любимую из лагеря до парохода (каким образом зэк попал на пристань, неизвестно; возможно, работал на бесконвойном передвижении). А перед этим указано и время года: «Пришла весна». В какую же именно весну произошло расставание? Вряд ли в военную. Конечно, Ростов-на-Дону (судя по тексту, героиня песни — ростовчанка) был освобождён советскими войсками уже 19 февраля 1943 года, но во время войны бывших заключённых по выходе из лагеря обычно оставляли вольнонаёмными на Севере. Нужно было работать для фронта, для победы. 1945 год тоже не очень подходит: ведь 18 января прошла «калининская амнистия», под которую попало большинство беременных женщин. Будь героиня в положении, она покинула бы лагерь по этому указу. Но в песне говорится: «и кончился твой срок», то есть подруга отбыла наказание полностью. Значит, речь идёт о марте-мае либо 1946, либо 1947 годов. Правда, есть оговорки. Во-первых, даже если мы исключаем, что возлюбленная лирического героя была бандиткой, убийцей или рецидивисткой, остаётся вероятность того, что её осудили как «политическую» по 58-й статье или же «за колоски» по указу от 7 августа 1932 года. Тогда понятно, почему она не попадала под январский «калининский» указ. Во-вторых, она могла забеременеть и в короткий отрезок времени после указа — февраль, март, апрель или даже начало мая. Так что время действия песни сводим к весне 1945,1946 или 1947 годов. А когда же вышел на свободу наш лирический герой — папаша ростовского мальчика? Как можно понять из строк —«Так здравствуй, поседевшая любовь моя…»
И ещё один интересный вопрос: насколько реальной можно считать ситуацию, описанную в «колымском романсе»? Как-то она больше похожа на эпический вымысел, на историю верной Пенелопы и лагерного Одиссея, который через годы, расстояния и испытания вернулся к любимой женщине и уже взрослому сыну. В жизни такое вряд ли можно встретить… Возможно, в какой-то мере эти замечания справедливы. Но лагерная любовь действительно часто продолжалась за пределами лагеря. Вот что писал об этом Солженицын: «Всегда преследуемые, уличаемые и рассылаемые, туземные пары как будто не могли быть прочны. А между тем известны случаи, что и разлучённые они поддерживали переписку, а после освобождения соединялись… Шли уверенно на материнство те, кто рассчитывали после освобождения соединиться с отцом своего ребенка. (И расчёты эти иногда оправдывались. Вот А. Глебов со своей лагерной женой спустя двадцать лет: с ними дочь, рождённая ещё в УнжЛаге, теперь ей 19 лет, какая славная девочка, и другая, рождённая уже на воле десятью годами позже, когда родители отбухали свои сроки.)» Порою лагерные браки, основанные на общем несчастии, страдании, оказывались крепче, чем официальные, и приводили к разрушению первой семьи, даже если жена на воле ждала и верила: «Известен такой случай: один врач, Б.Я.Ш., доцент провинциального мединститута, в лагере потерял счёт своим связям — не пропущена была ни одна медсестра и сверх того. Но вот в этом ряду попалась З*, и ряд остановился. З* не прервала беременности, родила. Б.Ш. вскоре освободился и, не имея ограничений, мог ехать в свой город. Но он остался вольнонаёмным при лагере, чтобы быть близко к З* и к ребёнку. Потерявшая терпение его жена приехала за ним сама сюда. Тогда он спрятался от неё в зону (где жена не могла его достичь), жил там с З*, а жене всячески передавал, что он развёлся с ней, чтоб она уезжала». На Колыме изоляция и безысходность заставляла заключённых самого разного социального положения и культурного уровня тянуться друг к другу — и в лагерях, и после освобождения. Хорошо об этом пишет Евгения Гинзбург: «Некоторые из тех женщин, у кого были небольшие сроки и кто успел выйти из лагеря ещё до начала войны, но без права выезда на материк… перешагнув порог лагеря, стремительно вступали в колымские браки, абсолютно не стесняясь мезальянсов. Помню такую Надю, которая накануне своего освобождения вызывающе швыряла в лицо своим барачным оппоненткам: — Ну и засыхайте на корню, чистоплюйки! А я всё равно выйду за него, что бы вы ни говорили! Да, он играет в подкидного дурака, да, он говорит “моё фамилий”… А я кончила иняз по скандинавским языкам. Только кому они теперь нужны, мои скандинавские! Устала я. Хочу свою хату и свою печку. И своих детей. Новых… Ведь тех, материковских, больше никогда не увидим. Так рожать скорей, пока ещё могу… На окрестных приисках всегда знали, когда предстоит освобождение группы женщин с Эльгена, и к этому времени съезжались женихи. Когда Соня Больц, сложив “форму А” вчетверо, благоговейно увязывала её в платок, к ней подошёл рослый детина в лохматой меховой шапке и хрипловато сказал: — Я извиняюся, гражданочка… Вы освободилися? Ну и лады… Сам-то я с Джелгалы. Человек, хошь кого спросите, самостоятельный. Желаю обменяться мнением… Соня критически осмотрела претендента и задала несколько неожиданный вопрос: — Скажите, а вы — не еврей? — Нет, гражданочка, чего нет, того нет… Врать не стану… Сами-то мы сибирские, с-под Канску… — И чего это я спрашиваю, — вздохнула Соня, — откуда взяться вольному еврею на этой проклятой земле! Ещё хорошо, что вы не этот… каракалпак… И после небольшой паузы исчерпывающе добавила: — Я согласна. Смешнее всего, что эта пара прожила потом долгие годы в добром согласии, а в пятьдесят шестом, после реабилитации, супруги вместе выехали в Канск». Об эльгенской «ярмарке невест» пишет и Варлам Шаламов в рассказе «Зелёный прокурор». Павел Михайлович Кривошей освобождается из лагеря без права выезда с Колымы, устраивается по специальности на один из заводов в качестве инженера-химика: «Поработав неделю, он взял отпуск “по семейным обстоятельствам”, как было сказано в документе. — За женщиной еду, — чуть улыбнувшись, сказал Кривошей. — За женщиной!.. На ярмарку невест в совхоз “Эльген”. Жениться хочу. Этим же вечером он возвратился с женщиной. Около совхоза “Эльген”, женского совхоза, есть заправочная станция — на окраине поселка, на “природе”. Вокруг, соседствуя с бочками бензина, — кусты тальника, ольхи. Сюда собираются ежевечерне все освобождённые женщины “Эльгена”. Сюда же приезжают на машинах “женихи” — бывшие заключённые, которые ищут подругу жизни. Сватовство происходит быстро — как всё на колымской земле (кроме лагерного срока), и машины возвращаются с новобрачными. Подробное знакомство при надобности происходит в кустах — кусты достаточно густы, достаточно велики. Зимой всё это переносится в частные квартиры-домики. Смотрины в зимние месяцы отнимают, конечно, гораздо больше времени, чем летом». Та же Евгения Гинзбург печально отмечала в «Крутом маршруте»: «Трудно проследить, как человек, загнанный бесчеловечными формами жизни, понемногу лишается привычных понятий о добром и злом, о мыслимом и немыслимом. Иначе откуда же в деткомбинате такие младенцы, у которых мама — кандидат философских наук, а папа — известный ростовский домушник!»… А если подумать: так ли это плохо, когда домушник и кандидат философских наук дают жизнь новому человеку, а может быть, даже создают новую семью (как Надя — специалист по скандинавским языкам)? Может, это смешение самого утончённого и самого низкого — и есть настоящая Россия?
Как танго о Родине превратилось в танго о таёжной трассе «Не печалься, любимая»



Подарок Петру Лещенко
Песня «Не печалься, любимая», которую часто называют также «Спецэтап», — одна из самых пронзительных, искренних лагерных песен. По художественным достоинствам, профессионализму её текст можно сравнить разве что с «Ванинским портом». Эти две песни стоят особняком от всех других произведений песенного фольклора арестантов. Традиционным шлягерам свойственны мелодраматизм, шаблонные обороты («и я заметил блеск твоих прекрасных глаз», «навеки верность сохранить») и ситуации («платком батистовым слезу утрёшь»), примитивные рифмы и пр. «Спецэтап» (как и «Ванинский порт») — точное, эмоциональное отражение реальности, пропущенное через душу. И оно создано рукою мастера. Время появления этого шедевра можно отнести к середине 1940-х годов. Известна и песня, которая подвигла неведомого сочинителя к созданию «Спецэтапа». Это — танго «Тоска по Родине», связанное с именем певца Петра Константиновича Лещенко. В истории русского песенного искусства и эстрады имя это стоит в одном ряду с именами Вадима Козина, Изабеллы Юрьевой, Юрия Морфесси, Аллы Баяновой и других выдающихся исполнителей. Незаконнорожденный сын малороссийской крестьянки, Пётр Константинович ещё в младенчестве с матерью переехал в Кишинёв (март 1899 г.), где получил музыкальное образование в церковном хоре. Затем — Первая мировая война, школа прапорщиков, ранение, госпиталь в Кишинёве… Когда Лещенко в 1918 году выписался из госпиталя, Бессарабия была присоединена к Румынии, и молодой человек стал румынским подданным. Как танцор и певец Лещенко стал выступать в различных труппах, добрался до Парижа, где познакомился со своей первой женой — латышской артисткой Жени Закитт. Они выступают вместе, дают гастроли в городах Европы и Ближнего Востока, затем — Кишинёв, Рига… В Риге певец знакомится с композитором Оскаром Строком, исполняет его знаменитые «Чёрные глаза», «Синюю рапсодию», «Скажите, почему», другие танго и романсы. Приходит успех. Пластинки Лещенко издают в Германии, Румынии, Латвии, певец заключает контракт с румынским филиалом английской фирмы звукозаписи «Columbia». В 1933 году Лещенко с семьёй обосновался в Бухаресте, выступал с ансамблем «Трио Лещенко» (супруга и две сестры). Летом 1941 года Румыния, будучи союзницей Германии, начала боевые действия против СССР. Пётр Лещенко призван в румынскую армию, несмотря на его попытки уклониться. В декабре 1941 года певец получает приглашение от директора Одесского оперного театра с предложением выступить в оккупированной румынскими войсками Одессе. В мае 1942 года он даёт здесь несколько концертов, знакомится с юной студенткой Одесской консерватории Верой Белоусовой, через два года женится на ней, разведясь с первой женой. С 1942 по 1944 год на фронте в составе военной артистической группы выступал перед румынскими солдатами и офицерами. Впрочем, с сентября 1944-го, после входа в Бухарест Красной Армии, Лещенко давал концерты в госпиталях, воинских гарнизонах, офицерских клубах для советских солдат. С ним выступала и Вера Лещенко. Песни Петра Лещенко обретают огромную популярность не только в советских войсках на освобождённой территории Европы, но и по всему Советскому Союзу. Что не спасло певца и его вторую жену от репрессий. Органы госбезопасности арестовали Петра Константиновича в марте 1951 года, а в июле 1952-го последовал арест Веры Белоусовой-Лещенко. Как следует из допросов певца, он проходил «свидетелем» по делу жены, обвинённой в «измене Родине». Но вероятнее всего, сам Лещенко был обвиняемым по другим делам: ведь фактически он числился офицером румынской армии и — пусть опосредованно, в качестве артиста — принимал участие в боевых действиях против СССР. Во всяком случае, Вера Белоусова-Лещенко, приговорённая 5 августа 1952 года к смертной казни (которую заменили 25 годами лишения свободы), в 1954 году вышла на волю — причём со снятием судимости. А её супруга-«свидетеля» продолжали содержать в румынских тюрьмах. Умер Пётр Лещенко в тюремной больнице Тыргу-Окна 16 июля 1954 года. До сих пор материалы по его делу засекречены. Всё это имеет непосредственное отношение к теме нашего очерка. Ведь с 1945 года и вплоть до самого ареста певца танго «Тоска по Родине» (его называли также «Я тоскую по Родине», «Письмо из Румынии», «Златокудрая») было визитной карточкой Петра Лещенко. Этой песней он завершал каждый свой концерт. Вот что вспоминал об одном из таких выступлений журналист и писатель Григорий Кипнис: «Лещенко объявляет следующий номер: — Самое дорогое для каждого человека, — говорит он, — это Родина. Где бы ты ни был, куда бы ни заносила тебя судьба. О тоске по Родине и споём мы с моей женой Верой Белоусовой-Лещенко. И тут она начинает своим сильным голосом под собственный аккомпанемент аккордеона:«Автора слов ещё не поймали»
Это — старая шутка, которая касается непосредственно уголовно-арестантского песенного фольклора: «Музыка народная, автора слов ещё не поймали». Чаще всего так оно примерно и выходит. Как правило, сочинители известнейших арестантских и блатных шлягеров либо неизвестны вовсе, либо на одно место слишком много претендентов. Что, собственно, означает то же самое — «автор неизвестен». Увы, песня о спецэтапе — не исключение. Хотя в одном из песенников предполагаемый сочинитель указан. Я имею в виду сборник «Песни узников» (1995), составленный красноярским журналистом Владимиром Пентюховым. В разделе «Песни политических заключённых» автором лагерного танго «За вагоном проходит вагон» (почему-то с указанием в скобках — «третий вариант») назван поэт Борис Емельянов, которому приписан следующий текст:«Здесь на каждом вагоне замок»
А теперь обратимся к тексту лагерной песни. Некоторые определяют её жанр не как танго (в отличие от творения Ипсиланти — Храпака), а как романс. Что вполне естественно, поскольку как-то не вяжется танго с арестантским бытом. Ну, да как ни назови, суть от этого не меняется. Итак, речь идёт о спецэтапе заключённых, на что указывается в первых жестроках. Вот и начнём с того, что такое спецэтап и чем он отличается от обычного этапа. В дореволюционной России этапом назывался пункт для ночного или дневного отдыха партий арестантов и войсковых команд во время их передвижения пешком по дорогам. Расстояние между этапами было от 15 до 25 вёрст. На каждом этапе арестанты (мужчины и женщины) и конвой размещались в отдельном здании с особыми помещениями. Позднее, с развитием сети железных дорог, подобные этапы отошли в прошлое. В Советской России так стали называть принудительную транспортировку осуждённых, подследственных, ссыльных, их маршрут следования к пункту назначения либо же партию транспортируемых. Чаще всего это происходит железнодорожным путём (реже — автотранспортом или авиацией); отсюда жаргонное название арестанта — «пассажир». Этапирование происходит по определённому графику. В некоторых случаях (срочность, особая опасность арестанта, целевая необходимость доставки отдельного этапа в конкретное место) заключённые могут транспортироваться вне графика или даже поодиночке (так из Владикавказа доставляли в Ростов-на-Дону полковника Юрия Буданова, обвинённого в убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой). Такие способы доставки и называются спецэтапом. Именно специальными этапами заключённых доставляли в северные лагеря, которые занимались строительством или добычей полезных ископаемых. Количество этапников определялось заявками, на основании которых и формировались составы. Для этапов подобного рода нельзя было составить чёткий график: всё зависело от «естественной убыли» контингента на местах, незапланированного увеличения объёмов работ и т. д. Обычные же этапы отправлялись в «стабильные» лагеря, где существовал чёткий график освобождения заключённых, а значит, можно было планировать строго обозначенные объёмы пополнения контингента. В связи с этим возникает и другой вопрос: в каких вагонах перевозят заключённых, о которых идёт речь в песне? Ведь ГУЛАГ транспортировал своих подопечных в двух типах вагонов: «столыпинских» и «телячьих». «Столыпинский вагон» назван по имени Петра Аркадьевича Столыпина, который, будучи саратовским губернатором, в 1905 году жёстко и эффективно подавил крестьянские и городские волнения. Это настолько впечатлило Николая II, что в апреле 1906 года он направил Столыпину телеграмму, предложив ему стать министром внутренних дел России. А 8 июля того же года последовал Высочайший указ, согласно которому 44-летний Столыпин стал ещё и премьер-министром, совместив два поста. В рамках предложенной новым премьером аграрной реформы важная роль отводилась интенсивному заселению крестьянами восточной части империи и введению в сельскохозяйственный оборот пустующих земель. В результате реформы на восток переселилось около трёх миллионов человек. Именно для переселенцев и были созданы вагоны, называемые по сию пору «столыпинскими» или попросту «Столыпиными» (по одним сведениям, они появились в 1908 году, по другим — в 1910-м). Вагоны эти являлись модификацией пассажирских — с той разницей, что часть пространства с торцов была выгорожена под перевозку сельхозинвентаря и скота. И советский, и современный вагонзак имеют мало общего с реальным «столыпинским» типом вагона. Разумеется, никаких решёток и конвоя вагоны для переселенцев не предусматривали: в них ехали вольные люди. Для перевозки заключённых использовались и используются переделанные купейные вагоны, где купе оборудованы под камеры. До четырёх купе отводится конвойной службе, а далее следуют купе-камеры — большие и малые. Количество варьируется: например, пять больших (12–16 человек) и три трёхместные — «тройники» (куда можно впихнуть до шести «пассажиров»). Журналист и сценарист Валерия Подорожнова в очерке «Тюрьма на колёсах» так описывает «Столыпина»: «Часть вагона отведена сопровождающим: первым идет купе проводника, кухня, купе, где работает начальник, и спальня дежурных конвоиров (они меняются каждые два часа). “Зэковская” часть напоминает плацкартный вагон без боковых полок. Всего там восемь камер, две из них малой вместимости — вполовину меньше большой. Наполняемость большой камеры — до 16 человек, малой — до 6. В большой камере вторая полка откидывается и образует горизонтальный мостик посреди камеры, за счёт этого помещается больше человек». От коридора камеры отделяются решётками, которые сами зэки называют «сеткой». И правильно, поскольку прутья переплетены ромбом, как у сетки, а не расположены квадратами, как у решётки. Так и в блатной песне:«Кто решится рискнуть головой?»
А теперь выглянем из вагона наружу. В одном из вариантов поётся:«Проложили таёжную трассу»: Колымский тракт
Ещё один важный вопрос: что за трассу проложили песенные зэки «в подарок рабочему классу»? Вообще из текста неясно, сколько лет эту самую трассу прокладывали. В разных версиях указаны различные временные отрезки: «за пять лет трудовых лагерей», «за семь лет трудовых лагерей», «десять лет трудовых лагерей» (или, как пела Кира Смирнова в передаче «В нашу гавань заходили корабли», — «за червонец трудов-лагерей») и даже «двадцать лет трудовых лагерей». Но нам важна не столько продолжительность работ, сколько их география. И здесь безвестные сочинители «Спецэтапа» предлагают два варианта. Первый, по «емельяновской» версии, отсылает нас на Колыму:«Проложили таёжную трассу»: Байкало-Амурская магистраль
И всё же существует вторая версия того, где именно тянули таёжную трассу узники сталинского ГУЛАГа. Её сторонники убеждены, что речь идёт не о Колыме, а о Байкало-Амурской магистрали — знаменитом БАМе, который пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского края. Общая протяжённость БАМа от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 километров. Некоторые оппоненты такого предположения напирают на то, что слово «трасса» в отношении железнодорожной магистрали не совсем точно: обычно так называют именно автодорогу. Однако это не совсем так. Одно из основных значений слова трасса, как определяют его толковые словари (от немецкого Trasse — направление линии, пути): маршрут движения каких-либо транспортных средств; линия, определяющая путь движения или продольную ось дороги, трубопровода и тому подобного сооружения большой протяжённости. БАМ под это определение вполне подходит. Более того, многие исполнители прямо указывали, что речь идёт именно о железной дороге. Так, в очерке «От пластинок к магнитофонам» Рувим Рублёв, он же Рудольф Фукс — продюсер и импресарио Аркадия Северного, вспоминает о Вадиме Козине: «До нас, коллекционеров, дошёл его старческий уже, надтреснутый голос, записанный на любительском магнитофоне:«Даже “Сталинцу” сил не хватало…»
Упоминание «Сталинца» в песне не случайно. В эпоху Отца народов этот трактор олицетворял собою мощь советского сельскохозяйственного машиностроения. Гусеничный трактор «Сталинец» С-60 имел мощность 60 «лошадей», а более поздняя модификация С-65 — соответственно 65. Как сообщает Рудольф Седов в исследовании «История строительства Колымской трассы», к 1937 году на прокладке дороги работали 905 автомашин и 39 тракторов. Среди них, скорее всего, были и упомянутые в песне «Сталинцы». Первая партия этих тракторов, созданных на базе американского «Катерпиллер-60», сошла с конвейера Челябинского тракторного завода (знаменитого ЧТЗ[30]) 1 июня 1933 года. «Сталинец» — легенда отечественного тракторостроения. И дело не только в мощности. Именно эта машина в модификации С-65 была оснащена первым советским дизельным двигателем. Задачу в кратчайшие сроки перевести тракторы ЧТЗ на дизели поставил председатель Высшего совета народного хозяйства СССР Григорий Орджоникидзе на VII Всесоюзном съезде Советов в 1935 году. Для достижения этой цели была создана специальная дизельная комиссия. Делегация ведущих сотрудников тракторного завода даже выехала в США для заказа оборудования и переговоров с фирмой «Катерпиллер» о техническом сотрудничестве. Однако американцы, поставлявшие большую часть своей продукции за рубеж, были обеспокоены возможной конкуренцией со стороны Советов: в СССР планировалось выпускать дизельных тракторов в несколько раз больше, чем в Штатах. Так что сотрудничества не получилось, и конструкторам из Челябинска пришлось надеяться только на свои силы. Собственно, уже в начале 1935 года конструкторской группой инженера Элизара Гуревича был создан дизель-мотор М-75, а в апреле эти дизели запустилив специальное производство. 14 августа опытный образец дизельного трактора С-65 с новым мотором совершил первый пробег на площадке завода. Кроме дизтоплива, мотор работал на смеси автола с керосином, легко заводился в 30-градусные морозы от пускового бензинового 20-сильного двигателя. Для работы в условиях Севера это качество было одним из важнейших. Так, прибывшие на Колыму в 1940-е годы экскаваторы часто ломались, не выдерживая нагрузок при низких температурах. В мае 1937 года в Париже открылась международная выставка «Искусство и техника современной жизни», где трактор С-65 получил «Гран-при». С трактора С-65 началась дизелизация тракторного парка страны. А в феврале 1938-го первая партия обновлённых «Сталинцев» в количестве 60 штук пошла на экспорт. Забегая вперёд, скажем, что в годы войны «Сталинцы» показали себя с самой лучшей стороны. Их использовали как тягачи для буксировки орудий и перевозки боеприпасов. К сожалению, многие из них в начале боевых действий оказались в руках противника. Немцы высоко ценили такие трофеи: за каждый работоспособный трактор солдат вермахта мог получить недельный отпуск и даже Железный крест. В тексте песни говорится, что в условиях тайги, снежной и морозной зимы не хватало сил даже мощному «Сталинцу». Насколько же тяжело приходилось людям, если отказывали даже «стальные кони» мощностью 60–65 л.с.! А ведь основная часть работ ложилась именно на плечи заключённых. Бывший лагерник М. Е. Выгон вспоминал о строительстве 1937 года: «Лагпункты располагались через каждые 10–15 км. Вдоль всей трассы от сопок к дороге были проложены дощатые дорожки, по которым двигались тысячи тачек: к дороге — гружённые песком и гравием, обратно, к сопкам, пустые. Колонны с зэками идут по трассе круглосуточно. Отправляют на вновь открытые прииски. Карамкен — целый палаточный городок, окружённый колючей проволокой. Вдоль дороги несколько деревянных домов лагерной администрации… Картина та же, что и раньше, — кишащий муравейник людей с тачками. Работают по 12 часов в светлое время». Чрезвычайно важны в этом смысле замечания авторов сборника «Заключённые на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР». В книге справедливо подчёркивается, что «важнейшими индикаторами низкой эффективности экономики ГУЛАГа с первых шагов её существования были так называемые антимеханизаторские настроения, крайний дефицит квалифицированной рабочей силы и невозможность её воспроизводства непосредственно в рамках лагерной системы. Экономика НКВД, основанная преимущественно на тяжёлом физическом труде, отторгала технический прогресс еще в большей мере, чем неэффективная советская экономика в целом». Другими словами, в условиях первых шагов индустриализации даже на воле катастрофически не хватало опытных трактористов, водителей, экскаваторщиков и т. п., не говоря уже о лагерях, где подавляющая часть заключённых состояла из уголовников или «контриков» (то есть партсоваппарата и интеллигенции). Лагерному начальству было проще и удобнее использовать ручной тяжёлый труд именно поэтому, а не потому, что «Сталинцу» сил не хватало. Согласно аналитическим данным, даже те немногочисленные механизмы и оборудование, которые поступали на объекты ГУЛАГа в довоенные годы, использовались плохо, простаивали и приходили в негодность. Так, проверка на строительстве Куйбышевского гидроузла выявила, что экскаваторы в первом квартале 1939 года «давали лишь 28,3 % чистой работы к рабочему времени, а количество работающих автомобилей составляло 49 % от их списочного числа». В мае 1940 года инспекция показала, что «на Волгострое мощный импортный экскаватор “Любек” пролежал свыше 3 лет и только сейчас намечен к продаже как ненужный; новый экскаватор “Дитчер” в течение 2 лет не был в употреблении и не намечается к использованию в дальнейшем; на один из участков этого строительства были завезены 7 жёстких дерриков[31], из них только 2 и то частично были использованы, а остальные 5 лежат более 2 лет неиспользованными». К началу 1950-х годов эта чудовищная статистика несколько изменилась к лучшему. Так, на строительстве Волго-Донского канала, Цимлянского гидроузла и оросительных систем простои одноковшовых экскаваторов за восемь месяцев 1952 года составляли 21,3 %, а многоковшовых — 13,8 %. На строительстве Куйбышевской ГЭС эти показатели составляли 11,4 и 40 % соответственно, Сталинградской ГЭС — 19,2 и 9,7 %. Сказалось то, что к этому времени техническая грамотность и профессиональная подготовка советских рабочих резко повысились. Причём не в последнюю очередь в результате войны. Огромная танковая мощь Советского Союза сослужила добрую службу: любой бывший танкист легко осваивал сельскохозяйственную и строительную технику. Дороги войны также «обкатали» тысячи водителей автотранспорта. К сожалению, немало этих людей попало и в лагеря. Но всё же постепенная механизация тяжёлых и трудоемких работ на лагерных стройках, с одной стороны, снижала потребность в большом количестве заключённых, с другой — повышала спрос на квалифицированные кадры. Чем дальше, тем больше становилось очевидным, что с топором, тачкой и кайлом в современных условиях катастрофическое отставание от развитых стран обеспечено.«Я вернусь раньше времени…»
Особого внимания заслуживает обещание лирического героя песни: «Я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь!» с уточнением — «Как бы ни был мой приговор строг». Подобного рода заверений мы не встретим ни в одной арестантской песне. При этом речь не идёт о побеге: лагерник описывает, как он вернётся домой вполне открыто… Существовал ли в период создания лагерного танго способ выйти на свободу раньше определённого судом срока? Ну, была актировка, то есть освобождение по причине тяжёлой, неизлечимой болезни. Однако вряд ли именно на это уповает заключённый, обращаясь к любимой. Тогда на что же? Самым действенным способом заслужить реальное сокращение лагерного срока являлась система так называемых «зачётов рабочих дней», когда при выполнении и перевыполнении норм выработки срок наказания соответствующим образом сокращался: например, два отбытых дня засчитывались за три, три — за четыре, один день — за два и даже один день — за три дня. Впервые зачёты рабочих дней были введены постановлением Народного Комиссариата юстиции РСФСР от 4 декабря 1919 года. Заключённым из числа трудящихся два дня работы засчитывали за три дня отбывания наказания. Это положение вошло позже в Исправительно-трудовой кодекс 1924 года: «Проявление заключённым из среды трудящихся особо продуктивного труда и приобретение им профессиональных знаний… поощряются… зачётом двух дней работ за три дня срока». При этом постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 февраля 1928 года предлагает «в отношении классовых врагов допускать досрочное освобождение лишь в исключительных случаях». Однако на переломе 1920-1930-х годов происходит становление неформального воровского закона, согласно которому профессиональные уголовники не имели права трудиться ни в лагерях, ни на воле. Власть столкнулась с массовым отказом от работы, что оказалось для неё неожиданным и неприятным сюрпризом. Нарком Генрих Ягода в январе 1931 года утверждает временное положение о зачёте рабочих дней заключённым, содержащимся в исправительно-трудовых лагерях, на основе которого ГУЛАГ ОГПУ утвердил 22 ноября специальную «Инструкцию по зачёту рабочих дней». Согласно этому документу, зачёты могли применяться ко всем заключённым — независимо от того, за что они судимы и какой срок получили. Но всё же принцип классового подхода не был забыт. Зачёт по первой категории — три дня работы за четыре дня срока — применялся в отношении заключённых, принадлежавших к классу трудящихся и к социально близким группам населения СССР (бывшие рабочие, крестьяне, служащие, кустари, ремесленники). Зачёт по второй категории — четыре дня работы за пять дней срока — производился по отношению к остальным группам заключённых. Ударникам производства, то есть тем, кто постоянно и существенно перевыполнял нормы, зачитывались даже два дня работы за три дня срока. С 1 января 1935 года (через месяц после убийства в Ленинграде Сергея Мироновича Кирова) вступило в действие новое положение о зачёте рабочих дней. Оно было значительно жёстче по отношению к «контрикам». Зачёт ставился в прямую зависимость от характера преступления, социального положения заключённого и пр. Осуждённым за контрреволюционную деятельность, т. е. шпионаж, терроризм, диверсии, измену Родине и т. п., начисление зачётов допускалось только с разрешения ГУЛАГа НКВД в каждом отдельном случае: шесть дней срока наказания за пять дней работы. Священник Игорь Затолокин в очерке «Искитимский лагерь» пишет: «Зачёт в 45 дней стал присуждаться только “соцблизким” бытовикам; зачёт в 30 дней стал даваться политическим с лёгким пунктом обвинения, а на долю политических, обвинённых в шпионаже, диверсии и терроре, остался зачёт в 18 дней за квартал». Существовало множество причин, по которым зачёты к заключённым не применялись: «промот» казённой одежды, повреждение инструментов, нахождение в штрафном изоляторе и т. д. В то же время на особо тяжёлых работах существовала особо льготная система зачёта рабочих дней. Так, в приказе НКВД СССР № 241 от 1 августа 1935 года указывалось: «В лагерях, особо отдалённых, находящихся в тяжёлых природных и климатических условиях, ведущих строительство государственного значения (Бамлаг, Севвостлаг, Вайгач, отдельные подразделения Дальлага и Ухты), применяется сверхударный зачёт, за 1 день работы — 2 дня срока, что сокращает срок наполовину, т. е. за один календарный год считается два года». Эти меры служили серьёзными стимулами для многих колымских лагерников. В начальный период деятельности Дальстроя система зачётов позволяла заключённым сократить сроки наказания в полтора-два раза. Для них были установлены нормы выработки «на основе единых всесоюзных норм с соответствующими поправочными коэффициентами». По итогам 1935 года зачёты имели 72 % заключённых. Однако затем нормы для зэков стали резко увеличивать. В 1936 году (когда нормы выработки подняли на треть) среди лагерников насчитывалось уже 58 % «зачётников». Но даже в этих условиях, как отмечалось в отчёте Дальстроя за 1936 год, 20 % заключённых являлись «стахановцами» и выполняли нормы на 150 %, а около 40 % были «ударниками» — регулярно выполняли задания. Однако от 30 до 50 % лагерников с повышенными нормами не справлялись. Вместе с тем, как указывает ряд исследователей, возможность существенного сокращения срока, помимо «текучести» арестантов, вела к припискам и даже коррупции, о чём начальник лагерей железнодорожного строительства Натан Френкель доложил в 1939 году Берии. По некоторым сведениям, именно в эти годы зарождается будущее «сучье» движение в воровском мире, а часть воров, не работая реально, между тем числится в бригадах и даже попадает в число «ударников» посредством запугивания и подкупа нарядчиков. Некоторые авторитетные блатари даже формально занимают должности бригадиров. Так что бардак с начислением зачётов рабочих мест, конечно, имел место. С другой стороны, применение зачётов вело к резким сокращениям сроков наказания и необходимости пополнять редеющие ряды заключённых. Берию (а по некоторым данным, и самого Сталина) это совершенно не устраивало: маховик репрессий в 1937–1938 годах и без того был чересчур раскручен. Поэтому постановлением ЦК ВКП(б) «О лагерях НКВД» от 10 июня 1939 года система зачётов рабочих дней была упразднена: «1. Отказаться от системы условно-досрочного освобождения лагерных контингентов. Осуждённый в лагерях должен отбывать установленный судом срок своего наказания полностью. Дать указание Прокуратуре СССР и судам прекратить рассмотрение дел по условно-досрочному освобождению из лагерей, а Наркомвнуделу прекратить практику зачётов одного рабочего дня за два дня срока отбытия наказания». Вместе с тем по отношению к отдельным заключённым, отличникам производства, «дающим за длительное время в лагерях высокие показатели труда», допускалось условно-досрочное освобождение решением Коллегии НКВД или Особого Совещания НКВД по ходатайству начальника лагеря и начальника политотдела лагеря. На основе постановления вышли соответствующие указы Президиума Верховного Совета СССР от 15 и 20 июня 1939 года. Во время Великой Отечественной войны система зачётов официально не действовала. Между тем некоторые исследователи замечают, что кое-где этот запрет нарушался. Так, Леонид Бородкин и Симон Эртц в работе «Структура и стимулирование принудительного труда в ГУЛАГе» пишут о лагерях Норильлага: «Заключённым, осуждённым по бытовым статьям, зачёты по-прежнему производились… Нельзя выяснить, был ли запрет системы зачётов, принятый в 1939 г., позже частично снят в пользу бытовиков или речь идёт об инициативе местной лагерной администрации». Впрочем, нас в рамках данного очерка интересует именно послевоенный период ГУЛАГа. Для нас важно, практиковалась ли тогда система зачётов рабочих дней и если да, то когда именно она была введена. Судя по некоторому оптимистическому настрою героя песни о спецэтапе, читатель может догадаться о том, что зачёты снова стали внедряться в лагерную жизнь. И не ошибётся. Но каких усилий всё это стоило! Какие плелись интриги и какие бои местного значения велись вокруг этих самых зачётов! Начнём с того, что 3 ноября 1947 года совместным секретным приказом МВД и Генеральной прокуратуры СССР № 001133/301 была введена в действие «Инструкция о зачёте рабочих дней заключённым, содержащимся в ИТЛ и ИТК МВД». Она восстанавливала исчисление зачётов рабочих дней на отдельных строительствах и объектах, включая лагеря Дальстроя. Причём соотношение допускалось немыслимое: до трех зачётных дней за один день работы! Берия был возмущён таким либерализмом до предела. Он даже вынес в 1948 году вопрос на рассмотрение Бюро Совета министров СССР и потребовал отменить зачёты на том основании, что «отступления от указа Президиума Верховного Совета <1939 г.>, запрещающего досрочное освобождение заключённых, приняли массовый характер и сводят на нет наказание лиц, осуждённых за разные преступления и, в том числе, за хищение социалистической собственности». Министры согласились с Лаврентием Павловичем и 20 марта 1948 года приняли секретное постановление «О прекращении применения льготного порядка зачётов заключённым сроков отбытия наказания». После чего совместным приказом МВД и Генерального прокурора СССР от 29 марта того же года было объявлено: «Прекратить с 1 апреля 1948 года практику применения зачётов рабочих дней заключённым, содержащимся в ИТЛ и ИТК МВД. Каждый рабочий день считать за один день отбытия срока наказания, независимо от размеров выработки производственных норм». Однако Берия торжествовал недолго. Уже 21 июня 1948 года совместным приказом МВД и Генерального прокурора СССР «в целях повышения производительности труда заключённых и обеспечения выполнения производственных планов Дальстроя МВД» вводится инструкция о зачёте рабочих дней заключённым, содержащимся в ИТЛ УСВИТЛ и в Особлаге № 5. Мало того: согласно инструкции, право на зачёты рабочих дней имели все работающие заключённые, в том числе и осуждённые к каторжным работам, независимо от установленного для них срока наказания, статьи осуждения и времени пребывания в лагере! Это уже называется — к обиде прибавить оскорбление… Зачёты устанавливались в следующих пропорциях: за каждый рабочий день при выполнении норм выработки за месяц от 100 до 110 % — 1,5 дня; от 111 до 120 % — 1,75 дня; от 121 до 135 % — 2 дня; от 136 до 150 % — 2,5 дня; от 151 % и выше — 3 дня. Фактически ударно работающий заключённый мог сократить свой срок вдвое или даже втрое. В условиях, когда эти сроки по указу «четыре шестых» составляли от 10 до 25 лет, — стимул существенный. Видимо, чтобы совсем расстроить Лаврентия Павловича, в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 20 ноября 1948 года заключённые, занятые на работах Дальстроя, с 1 января 1949 года стали получать заработную плату. Этим дело не окончилось. Такая же инструкция постановлением Совета министров СССР в декабре 1948 года была введена на объектах Главпромстроя МВД СССР. Зачёты постепенно распространились на значительное количество лагерей. Например, по отношению к заключённым Норильлага инструкция, действовавшая по Дальстрою, была введена в действие в мае 1950 года. К концу 1950 года зачёты рабочих дней применялись в лагерях, где находилось более 27 % всех заключённых. Министр внутренних дел СССР Сергей Круглов 13 сентября 1950 года докладывал в правительство: «Практика зачётов рабочих дней заключённым показала исключительно большое значение их в деле повышения производительности труда и укрепления лагерного режима и дисциплины… По материалам Дальстроя, Норильска, Волгодонстроя, спецстроек и других лагерей, установлено, что после введения зачётов рабочих дней заключённым производительность труда повысилась в среднем на 20–30 %… При существующей практике зачётов рабочих дней заключённый, осуждённый к лишению свободы сроком на 10 лет, если он будет на протяжении всего времени отбытия наказания в лагере перевыполнять производственные нормы, получит возможность сокращения календарного срока наказания примерно на 2–3 года». Есть все основания предполагать, что именно такое масштабное возрождение практики зачётов рабочих дней стало основанием для того, чтобы в песне «Не печалься, любимая» появился пусть грустный, но всё же оптимизм, надежда на то, что разлука не будет долгой и невыносимой, что дорогая женщина простит, дождётся и встретит у порога… К сожалению, далеко не у всех заключённых была возможность сократить срок ударным трудом. В целом советское правительство рассматривало зачёты как «либеральное излишество», которым не следует злоупотреблять. А потому, несмотря на экономическую эффективность, система зачётов вводилась только на самых значительных объектах ГУЛАГа. Например, при возведении Сталинградской ГЭС это поощрение за труд было сочтено правомерным, а вот зэкам-строителям Камской ГЭС зачёты решили не вводить. Впрочем, после смерти Сталина 5 марта 1953 года наступила пора так называемого «реабилитанса», и значительная часть узников ГУЛАГа, в том числе и политических, обрела свободу без всяких зачётов рабочих дней. Песня о спецэтапе оказалась провидческой.
Как лагерные сочинители попутали Крым с Печорой «Начальник Барабанов дал приказ»



Куда погнали этап весёлых зэков
Эта послевоенная лагерная песня представляет собой большую загадку. Чтобы распутать клубок нелепостей, связанных со странным «этапом на Джанкой», нам придётся изрядно попотеть. Но оно того стоит. Первый вопрос, и один из самых простых: куда именно везли зэков? О каких Печорских лагерях идёт речь? Ответить несложно, поскольку начинается песня с упоминания «начальника Барабанова». А такой начальник на всю Печору был один. Но — всё по порядку. Упоминание Печоры в блатной песне связано с попыткой осуществления грандиозного проекта: так называемой «трансполярной магистрали» — железнодорожного пути гигантской протяжённости от Мурманска и Архангельска до Чукотки. Прокладка дороги началась ещё до Великой Отечественной войны на территории Печорского угольного бассейна. После закрытия Ухтинско-Печорского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР (Ухтпечлаг) 10 мая 1938 года на его базе было создано несколько ИТЛ, одним из которых стал Северный железнодорожный ИТЛ (Севжелдорлаг, Севжелдорстрой). Именно его заключённые (Печоржелдорлаг) занимались строительством Печорской железной дороги. А с началом войны Печорский угольный бассейн приобрёл особое стратегическое значение для снабжения углем Ленинграда, Москвы, Северного флота, так что строительство велось в авральном режиме. Инженеры Печоржелдорлага и Лентранспроекта создали временную схему дороги, обходя естественные преграды и труднопроходимые места, допуская критические подъёмы и повороты, минимальные выемки и насыпи. Порою рельсы укладывались прямо на землю. Экономили на шпалах, используя их вдвое-втрое ниже нормы. Авраам Боровицкий (в то время замначальника лагеря) вспоминал: «Были случаи, когда отсыпанное днём полотно на следующее утро исчезало в бездонном болоте. Из-за сжатых сроков мы вынуждены были проходить отдельные выемки узкими траншеями, в которых только-только проходил поезд. Однажды в такой траншее произошёл оползень и засыпало паровоз с несколькими платформами. Пришлось состав так и оставить под землёй, а рядом сделать обход». Чтобы ускорить работы, на трассе создали 21 строительное отделение — на каждые 20 километров пути. К концу декабря 1941 года был сдан первый отрезок — Котлас — Воркута. До 1942 года положение заключённых, работавших на строительстве дороги, было крайне тяжёлым. После организации в мае 1940-го Печорского желдорлагеря смертность заметно превышала средние показатели по ГУЛАГу. Если по всем ИТЛ она составляла примерно 0,3 % от общего числа заключённых, то в Печоржелдорлаге — от 2 до 3,5 % в месяц. Всего за 1940 год умерло 3680 человек — 14 % от общей численности Печлага. 25 декабря 1940 года Лаврентий Берия подписал приказ № 001606 «О проверке состояния Печорского железнодорожного лагеря НКВД», где отмечалось, что в результате преступного пренебрежения руководства к организации быта и труда заключённых имеют место высокая заболеваемость и смертность. Начальник лагеря Г. Большаков был отстранён от должности и отдан под суд. Однако в мае 1941-го начальник ГУЛАГа В. Наседкин докладывал наркому внутренних дел о продолжающихся безобразиях. Заключённые целыми днями простаивали в холодной воде и грязи в валенках и старых брезентовых ботинках, что приводило к тяжёлым формам простуды. Только по Южному участку на больничные койки слёг 1361 человек. Жестоко свирепствовала цинга. Бараки и палатки содержались в антисанитарном состоянии, катастрофически не хватало постельных принадлежностей и нательного белья, вшивость среди заключенных достигала 70 %, почти отсутствовали сушилки, бани, дезокамеры. Положение резко изменилось в 1942 году с назначением на должность начальника Управления Северо-Печорского железнодорожного строительства и ИТЛ старшего лейтенанта НКВД (соответствовало общевойсковому званию майора) Василия Арсентьевича Барабанова. Барабанов сразу послал в ГКО СССР письмо с просьбой приравнять строителей Печорской магистрали по снабжению к полярникам. Просьбу удовлетворили, и заключённые стали получать мясные консервы из Бразилии, американский бекон в банках, канадскую муку, яичный порошок, сахар. В мемуарах «Увиденное и пережитое» профессор Владимир Зубчанинов, отбывавший срок в печорских лагерях, вспоминал: «Жить в нашем лагере к концу 1942 года стало легче… как только начали поступать продукты по американскому ленд-лизу, они потекли на Воркуту. Бывали периоды, когда из-за отсутствия чёрного хлеба весь лагерь кормили пышным американским белым хлебом». Сливочное масло доставляли вагонами. Тоннами завозили аскорбиновую кислоту и почти покончили с цингой. За неимением казённой одежды зэков стали одевать в спортивные американские костюмы и жёлтые башмаки с подошвами толщиной в два пальца. После войны планы создания трансполярной магистрали получили дальнейшее развитие. Идея принадлежала лично Сталину, который заявил: «Надо браться за Север, с Севера Сибирь ничем не прикрыта, а политическая ситуация очень опасная». Сначала в секретном постановлении № 1255-331сс «О строительстве ж.д. линии к морскому порту в Обской губе» Совет министров СССР принял решение проложить линию от станции Чум Печорской железной дороги до порта, который планировалось возвести в районе Мыса Каменный. С экономической точки зрения это способствовало бы освоению северных территорий, богатых полезными ископаемыми, с военно-стратегической — защите Арктического побережья. 28 апреля 1946 года было организовано Северное управление желдорстроительства МВД с условным наименованием «строительство № 501» (лагерники окрестили его «стройка Пятьсот весёлая» — одна из станций на отрезке пути к юго-востоку от Салехарда действительно называлась Весёлая). Начальником и здесь назначили Василия Барабанова — к тому времени он уже дослужился до полковника. К концу 1948 года ударный зэковский народ протянул «железку» длиной 196 километров от посёлка Чум до посёлка Лабытнанги в устье Оби. Правда, выяснилось, что место для морского порта выбрано крайне неудачное. Тогда Великий Вождь взял карандаш и продолжил по карте линию дороги до Игарки, которая расположена на севере Красноярского края. От Игарки в сторону Лабытнанги тоже принялись тянуть железнодорожное полотно — навстречу «печорцам». Красноярское строительство получило секретный номер 503. Правда, линиям так и не суждено было соединиться, хотя к началу 1953 года было проложено почти 800 километров из запроектированных 1482. Однако в марте Иосиф Виссарионович испустил дух, а его соратники принялись строить грандиозные планы совершенно иного свойства. На трансполярный проект махнули рукой, правительство сначала законсервировало, а затем и вовсе ликвидировало стройку. На прокладку дороги было затрачено несколько миллиардов рублей, а на её ликвидацию только в 1953 году — 78 миллионов (в ценах того времени). Из-за удалённости от населённых пунктов и отсутствия транспорта многое так и не удалось вывезти. Пришлось уничтожать на месте оборудование, мебель, одежду и т. д. Остались брошенные паровозы, бараки, десятки километров колючей проволоки… До сих пор идут споры о том, нужна была или нет эта сталинская дорога. Защитники проекта указывают на возможные выгоды, противники — на то, что после тяжёлой войны миллиарды следовало вкладывать в восстановление хозяйства, а не в мифические прожекты. К тому же значительная часть магистрали была, что называется, «склеена соплями» и не годилась для длительной эксплуатации. Сейчас эту дорогу называют «мёртвой». Но в то время она была живее всех живых и считалась одной из самых важных строек Страны Советов. Именно о ней, о «Пятьсот весёлой», и рассказывает песня.«Дядя Вася»
Вернёмся, однако, к Василию Барабанову. Нет ни одного другого лагерного начальника, который был бы запечатлён в блатном фольклоре. Можно вспомнить только одну фамилию, увековеченную в зэковской поговорке: «Ничтенка![33] — сказал Петренко». По странному совпадению, выходец из семьи железнодорожника Иван Григорьевич Петренко тоже всю жизнь возглавлял прокладку стальных магистралей — амурских, забайкальских, знаменитого «строительства № 500» Комсомольск-на-Амуре — Совгавань… Именно во время создания «500-й линии», прошедшей через порт Ванино, и появилась блатная поговорка. Затем в 1947 году Петренко становится начальником Главного управления лагерей железнодорожного строительства МВД СССР (ГУЛЖДС) — то есть прямым начальником Барабанова. Умер генерал-майор Петренко в 1951 году полновластным хозяином колымской «планеты Дальстрой». Увы, поговорка о нём почти забыта. Барабанову повезло больше: песня о нём до сих пор входит в «обязательную программу» классического блатного репертуара. Впрочем, и здесь без казусов не обходится. Так, в одном из вариантов 1990 года некий Лёха исполняет зачин в следующем виде: «Начальник барабаном дал приказ». Разумеется, никаких барабанов в сталинском ГУЛАГе не существовало. Но эта путаница неожиданно оказывается созвучной истории каторжанской России! Дело в том, что на царской каторге общие команды для каторжан действительно сопровождались громкой барабанной дробью. «Не слушался отца-матери, послушайся теперь барабанной шкуры» — гласила поговорка каторжан XIX века. Она заимствована (с лёгкой переделкой) из русского военного пособия 1647 года «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», где приведена в следующей форме: «Мирская молва живёт: кто отца и матери не слушает, тот послушает телячьей кожи». В данном случае имеется в виду военный барабан, позже переделанный в каторжанский. А в своих «Записках из Мёртвого дома» Фёдор Достоевский приводит даже отрывок известной каторжной песни:«В ночь на 9-е апреля зам. нач. ДМИТЛАГа НКВД В. А. Барабанов и начальник Культурно-воспитательного отдела лагеря М. В. Филимонов приехали в пьяном виде на первый участок Дмитровского района. При въезде на участок ими были, без всяких оснований, арестованы вахтер и дежурные по участку и караулу, которые были вскоре освобождены. При этом одному из них, дежурному по участку тов. Сысоеву, Барабановым было объявлено, что он премируется 100 рублями. Вслед за этим также без причины были арестованы двое заключённых, которые впоследствии были освобождены как незаконно задержанные. Все эти пьяные похождения происходили в присутствии ряда заключённых. Вина Барабанова усугубляется ещё тем обстоятельством, что, зная его пристрастие к алкоголю, я его вызывал к себе и он мне дал слово большевика-чекиста не пьянствовать и не позорить звание сотрудника органов НКВД. Усматривая в поведении Барабанова и Филимонова дискредитацию органов НКВД и грубейшее нарушение революционной законности, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Барабанова и Филимонова отстранить от занимаемых должностей, арестовать и произвести в ускоренном порядке расследование. 2. Назначить заместителем нач. ДМИТЛАГа НКВД СССР тов. А. А. Горшкова. Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г. ЯГОДА».Барабанов был также исключён из партии за «пьянство и сокрытие кулацкого происхождения» (восстановлен только в 1940 году). Но на сей раз кровавый нарком сослужил Василию Арсентьевичу добрую службу. Сразу после выхода приказа Барабанова отправляют в Коми АССР руководить промыслом в Ухто-Печорском ИТЛ. Здесь его карьера снова идёт вверх: с конца 1937 года — помощник начальника Управления железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке, с начала 1940 года — начальник Нижне-Амурского УИТЛ НКВД, с апреля 1942 года — начальник Саратовского ИТЛ НКВД, с сентября 1942 года — начальник Северо-Печорского УИТЛ НКВД, «хозяин» Печорской железной дороги… А вот его коллегам, оставшимся в Дмитровлаге, крупно не повезло: 28 апреля 1937 года начались массовые аресты, а затем почти всё руководство лагеря было расстреляно как «враги народа»… Некоторые исследователи до сих пор утверждают, что и сам Барабанов в 1937 году полгода провёл в одиночной камере. Однако на самом деле чаша сия его миновала. Но это, скорее, счастливая случайность. Даже позднее, когда Барабанов получал очередное повышение, в довесок к характеристике пошла тайная аттестация от всеведущих служб НКВД:
«Совершенно секретно 3 экземпляра Приложение к справке на БАРАБАНОВА Василия АрсентьевичаВ те времена расстреливали и за меньшее… Но уж больно хорошим спецом зарекомендовал себя товарищ Барабанов. И, возможно, всю жизнь помнил о том, как коса смерти чиркнула над его головой — да, слава богу, не задела. Может, потому и благоволил к «политикам». А ещё полковник слыл заядлым театралом. И труппа, созданная в Северном управлении лагерей железнодорожного строительства на станции Абезь, собралась отменная! В «барабановском театре» служили более 200 человек: драматическая и опереточная труппы, симфонический оркестр, джаз. Подбором кадров занимался бывший редактор газеты «Известия» «контрик» Алексей Моров (как он рекомендовал себя сам — «старый абезьянин»), попавший в воркутинские лагеря в 1945 году и назначенный заведующим художественной и постановочной частью театра. Барабанов разрешил Морову свободное передвижение в пределах лагпунктов Воркуты и дал право отбирать из контингента артистов, музыкантов, художников. Режиссёром стал Леонид Оболенский, который до ареста дружил с Сергеем Эйзенштейном (его воспоминания мы цитировали выше). В лагерной оперетте пела Дора Петрова, бывшая солистка императорского театра в Петербурге, балетмейстером был Федор Редин, педагог балетной труппы Большого театра. Симфонический оркестр возглавил бывший дирижёр одесского театра Николай Чернятинский. Эстрадными музыкантами руководил известный в Советском Союзе джазмен Зиновий Бинкин. Основу драматической труппы составляли артисты Театра Ленсовета под руководством Эрнеста Радлова, осуждённые за то, что работали на оккупированной территории. На сцене блистали Михаил Названов — будущий король Клавдий из «Гамлета» Георгия Козинцева, балерина Валентина Ратушенко, которая (по слухам) загремела в лагеря за то, что отказалась стать любовницей приёмного сына Ворошилова… Специально для печорского театра зэков из Большого театра прислали осветительные приборы и несколько ящиков со сценическими костюмами, на которых сохранились нашивки с именами прежних владельцев: «Лемешев», «Козловский». Бывший лагерник Леонид Юхин вспоминал, что Барабанов приказал пошить ведущим актёрам костюмы вместо зэковской униформы, и «театральные люди» ходили, как вольные. Театр много гастролировал. Концерты и спектакли шли не толькодля вольнонаёмных, но и для заключённых. Сам Василий Арсентьевич не пропускал ни одного премьерного спектакля. Он делал всё, чтобы облегчить жизнь актёрам за колючей проволокой. Режиссёр Юсуф Аскаров, игравший в «барабановском театре», вспоминал, что артистов селили в спецбараки. Семейным парам предоставляли отдельную комнату. Кормили овощами и мясом. Дирижёрам, режиссёрам и певцам-солистам выдавали дополнительный паёк — молоко. Не было команд «подъём» и «отбой». Театральный спецконвой не зверствовал. Многие конвоиры сами участвовали в представлениях как статисты. Барабанов руководил строительством печорских железных дорог до весны 1950 года. Затем служил начальником Цимлянского ИТЛ, который строил Цимлянский гидроузел, где «за особо выдающиеся заслуги и самоотверженную работу» ему было присвоено звание Героя Социалистического труда и звание генерал-майора. В июле 1952 года его назначили начальником Главного управления лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива, потом под руководством Барабанова возводился комплекс зданий МГУ на Ленинских Горах в Москве. Затем Василий Арсентьевич вышел на пенсию и три года возглавлял совет общественной приёмной редакции газеты «Известия». Умер генерал-майор Барабанов в 1964 году. Говорят, на его похороны съехались бывшие лагерники со всех концов Советского Союза…
По сообщению начальника Краснополянского РО УНКВД Московской области БАРАБАНОВ происходит из зажиточной семьи огородников. Отец до революции имел клубничный сад в 10 га с применением наёмной рабочей силы до 20 чел. и бакалейную лавку. Сестра БАРАБАНОВА в 1937 году арестовывалась и высылалась. Её муж ВАСИЛЬЕВ за к-р деятельность арестован органами НКВД. Брат отца БАРАБАНОВА — БАРАБАНОВ В.Ф. — в 1930 году раскулачен, его дочь замужем за крупным б. капиталистом фирмы “Га” и “Караван”, в годы революции оба бежали в Германию, где проживают в настоящее время. Состоял членом ВКП(б), исключался за пьянство. Спецпроверки проведены с 1922 по 1935 годы. Перепроверка в 1939 году. Восстановлен в ВКП(б) в 1940 году. Начальник 6 отделения ОК НКВД СССР ст. лейтенант ГБ ФИЛАТКИН Оперуполномоченный 6 отделения ОК мл. лейтенант ГБ БАЧУРИН».
Загадка «Джанкойского этапа»
А теперь хотелось бы подробнее разобраться со станцией Джанкой, которая упоминается в первом куплете. Тем более многие нынешние шансонные исполнители по примеру Александра Дюмина именуют песню не иначе как «Джанкойский этап». Но прежде проясним одно немаловажное обстоятельство. Песня о «начальнике Барабанове», несомненно, отражает реальную ситуацию, связанную с подавлением внутрилагерных волнений:«Джанкой-на-Печоре»
Откуда же, в таком случае, гонят этап заключённых до Печоры? И каким образом в песню попало упоминание о далёкой крымской станции? Начнём с того, что Джанкой фигурирует не во всех версиях песенного текста. Например, в записи того же Лёхи, которая начинается словами «Начальник барабаном дал приказ», сообщается, что зэки «побрели на станцию Шанхой». Правда, означенной станции в природе не существует, хотя мне удалось выяснить, что на Вологодчине есть глухая деревенька с таким названием. Так что вариант Лёхи отвергаем — памятуя к тому же, что он уже содержит по меньшей мере одну явную «барабанную» нелепость. Есть ещё одна версия (сайт blatata.com), где заключительные строки второго куплета предстают в виде — «И этапом до Печоры побрели на станцию толпой». Станция вообще не называется. Возможно, исполнитель почувствовал, что Крым к Печоре совершенно не лепится. А может, были другие причины. Не исключено, что именно так и выглядел первоначальный текст. В любом случае, эта редакция тоже не даёт нам разгадки маршрута. Подсказку мне дал интернет-пользователь Анатолий Попов. Он написал: «Возражаю против трактовки варианта песни “Гоп со смыком”, который начинается словами “Начальник Барабанов дал приказ…” Есть там географические строчки: “И этапом до Печоры побрели до станции Джанкой…” Скорее всего, в тексте опечатка: надо “от Печоры…”. Так вот, изначально в песне не могло и быть никакого Крыма, никакого “Джанкойского этапа”, ибо название станции — ДЖИНТУЙ. Возникла она во время строительства железной дороги, строительство которой вёл, в том числе, и Севжелдорлаг, во главе которого стоял Барабанов. Он-то мог себе позволить отправить этап “от Печоры” на расстояние в двести километров до станции ДЖИНТУЙ. Кто-то из слушателей не так услышал начальных авторов текста… и пошло-поехало». Версия заслуживает внимания. Для начала уточним: топоним «Печора» в данном конкретном случае обозначает не реку, протекающую по территории Республики Коми и Ненецкого национального округа. И даже не в целом Печорлаг как систему лагерей в Коми АССР (типа «погнали нас на Печору», то есть вообще в северные лагеря). Печора в песне — конкретный населённый пункт. Вот только трудно определить, являлся ли он ко времени создания блатного шедевра городом или рабочим посёлком. Дело в том, что ещё в 1935 году на месте будущего города торчала всего одна охотничья избушка, которая принадлежала промысловику Николаю Денисову из деревни Красный Яг. Затем появилась бакенская будка братьев Ивана и Ильи Головиных, а в 1938 году — первый лагерь, заключённые которого занимались лесозаготовками. В 1940–1941 годах здесь возникают рабочие посёлки при строительстве станции Печора и речного порта Канин Нос. В июне 1946 года для ускорения строительства посёлков Печора и Канин из Абези сюда переводят управление Северо-Печорского железнодорожного строительства и ИТЛ (Печоржелдорлаг) — то самое, которым руководил Барабанов. Тогда же Печора получила статус рабочего посёлка. А вот город появился только в 1949 году путём объединения рабочих посёлков Печора и Канин. Песня, таким образом, могла возникнуть и с 1947 по 1949 год, и с 1949 по 1950-й (в 50-м, как мы помним, Барабанов отбыл на строительство Цимлянской ГЭС). Точнее трудно сказать. А вот с географией проще. Большинство заключённых из лагерей и спецпосёлков, расположенных в Коми, были заняты на лесозаготовках и на угольных шахтах. Лишь «барабановцы» вкалывали на прокладке путей. Причём первое отделение Печлага располагалось от реки Печоры до разъезда Джинтуй. Отделение имело 38 подразделений (колонн), расстояние между которыми составляло от 2 до 10 километров. Узнаёте направление песенного этапа? Вообще-то лагерных зон хватало и в самой Печоре, и вокруг неё. Как сообщают источники, город построен буквально на костях заключённых. Но, по версии Анатолия Попова, блатных бузотёров погнали под стволами автоматов к разъезду Джинтуй. И не случайно. «Джинтуй» в переводе с коми означает «середина пути». Места здесь неописуемой красоты, рай для рыбаков и альпинистов (вокруг возвышаются грозные скалы). Правда, с обилием комаров, мошкары, слепней и оводов… Посёлок возник в 1939 году — вместе с так называемой «штрафной колонной», куда свозили самых отпетых уголовников. Бывший зэк Георгий Черников вспоминал: «Между Печорой и Интой — Джинтуй — знаменитый, союзного значения штрафняк. Все сливки — по три-четыре побега, по три-четыре судимости. У всех на формуляре — надпись РООП: рецидив, особо опасный преступник. Все уголовники. И чисто случайно попадали такие, как я, — со статьёй 58-Б. Ну я туда и загремел. Там каменоломни, пережигали камни, получали известь». Джинтуй считался самой страшной зоной Печорлага. Упоминаний об этом жутком месте в лагерной мемуарной литературе достаточно. Так, сын известного революционера и партийного деятеля Антон Владимирович Антонов-Овсеенко, прошедший Печору и Воркуту, в книге «Враги народа» отмечает: «В Печорском ИТЛ самым гибельным местом считался каменный карьер близ станции Джинтуй. Добываемый там штрафниками материал не всегда отвечал техническим условиям строительства, зато Джинтуй успешно решал задачу истребления неугодных элементов». Благодаря Черникову мы точно знаем, о каких именно «неугодных элементах» идёт речь. Это были почти исключительно профессиональные уркаганы — убийцы, грабители, разбойники, законченные мошенники… Поэтому сомнительными представляются нынешние постоянные поездки деятелей культуры (прежде всего музейных работников) в Джинтуй в рамках республиканской программы «Покаяние». Вспоминается известная русская поговорка про неумеренные молитвы и разбитый лоб… Станция Джинтуй существует и сегодня. Правда, находится она в двух километрах от прежней. А вот посёлка уже нет: сначала в 1957 году был закрыт лагерь, а затем в начале 1960-х — и завод. Поселяне разъехались, а по приказу руководства Северной железной дороги гулаговские постройки спалили, чтобы они не уродовали проплывающий за окнами поездов пейзаж. Однако репортёру газеты «Печорское время» Татьяне Плосковой и сотруднику печорского музея Татьяне Афанасьевой в 2010 году удалось разыскать останки прежнего Джинтуя в двух километрах к северу от нынешней станции. Вот как журналистка описала увиденное в материале «К развалинам ГУЛАГа»: «Спустившись с насыпи, обследуем то, что осталось от бывшего Джинтуя. Фундаменты зданий из удивительно легкого косьинского кирпича сохранились, как сохранился сделанный из шпал мосток. А вот и то, что некогда являлось изолятором — тюрьмой в тюрьме… Изолятор находился в центре посёлка и был самым большим зданием с прочными кирпичными стенами. Но мы идентифицировали его ещё и по сохранившимся оконным рамам — они тройные, близ которых лежали деревянные щиты, прозванные заключёнными намордниками. Кроме фундаментов, время оставило нам металлические части крупных предметов вроде полозьев саней и, что удивило, изобилие вёдер, тазов и корыт. Одно ведро, с дырами в днище, видимо, служило душем. Из найденного мы взяли в фонд музея алюминиевую миску, железнодорожный фонарь и подвесной электрический фонарь, типичный для лагерей времен ГУЛАГа». Вот такое печальное зрелище. Но как случилось, что мрачный Джинтуй превратился в солнечный Джанкой? Не могу согласиться с Анатолием Поповым — вряд ли можно говорить о том, что последующие певцы (слушатели) исказили начальный вариант песни. Всё-таки тройная рифма «гурьбой — строй — Джанкой» свидетельствует о том, что именно при сочинении оригинальной версии песни появилось указание на крымский город. Скорее всего, Джинтуй в Джанкой превратили весёлые жулики из одесситов или других жителей Малороссии. Хотя инициатива могла исходить и от вертухаев. Типа ответа на вопрос — «Куда вы нас гоните?» — «Не боись — почти что в Джанкой!» Тем более учитывая то, что в системе ГУЛАГа на территории Коми АССР служило немало украинцев. Среди зэков даже был популярен издевательский каламбур: Коми УССР, Хохло-Мансийский национальный округ…Мифы и легенды о «печорском бунте»
Есть и другое возражение по поводу версии Попова. На мой взгляд, песенный этап гнали не от Печоры на Джинтуй, а именно песенным маршрутом: этапом на Печору до станции Джинтуй. То есть «на Печору» — указание направления, а Джинтуй — конечная точка. Есть косвенные аргументы в пользу этой версии. Нередко побудительным мотивом для создания фольклорного произведения служит реальное событие, обросшее слухами, домыслами, мифами. То есть если описаны лагерные волнения, возможно, они имели место в реальности. Вот и надо разобраться: было в печорских лагерях на «строительстве 501» нечто подобное тому, о чём рассказано в песне о начальнике Барабанове? Задача непростая: многие архивы до сих пор закрыты, а сведения — засекречены. Остаётся уповать на мемуары, отрывки документов и т. д. Существует достаточно упоминаний о том, что «строительство 501» сотрясали лагерные волнения. Одним из первых затронул эту тему Александр Солженицын в десятой главе пятой части «Архипелага ГУЛАГ» — «Когда в зоне пылает земля». Правда, автор сразу оговаривается: «Может быть… узнаем мы — нет, уже не мы — о легендарном восстании 1948 года на 501-й стройке — на строительстве железной дороги Сивая Маска — Салехард. Легендарно оно потому, что все в лагерях о нём шепчут и никто толком не знает. Легендарно потому, что вспыхнуло не в Особых лагерях, где к этому сложилось настроение и почва, — а в ИТЛовских, где люди разъединены стукачами, раздавлены блатными, где оплёвано даже право их быть политическими и где даже в голову не могло поместиться, что возможен мятеж заключённых». По Солженицыну, восстание подняли бывшие офицеры и солдаты Красной Армии, осуждённые и брошенные за «колючку». К ним якобы примкнули заключённые власовцы, казаки Петра Краснова, а также бойцы «национальных отрядов» (бандеровцы, прибалтийские «лесные братья», фашистские пособники из числа калмыков, крымских татар, кавказцев). Солженицын красочно описывает вооружённый бунт: «Всё задумано было и началось в какой-то бригаде. Говорят, что во главе был бывший полковник Воронин (или Воронов), одноглазый. Ещё называют старшего лейтенанта бронетанковых войск Сакуренко. Бригада убила своих конвоиров… Затем пошли освободили другую бригаду, третью. Напали на посёлок охраны и на свой лагерь извне — сняли часовых с вышек и раскрыли зону… Вооружившись теперь за счёт охраны… повстанцы пошли и взяли соседний лагпункт. Соединёнными силами решили идти на город Воркуту! — до него оставалось 60 километров. Но не тут-то было! Парашютисты высадились десантом и отгородили от них Воркуту. А расстреливали и разгоняли восставших штурмовики на бреющем полёте. Потом судили, ещё расстреливали, давали сроки по 25 и по 10». Другие источники расписывают события ещё более красочно. На одном из Интернет-форумов, посвящённых восстаниям в СССР, подтверждается, что летом 1948 года действительно произошло крупное восстание заключённых Обского лагеря. Далее идёт «творческий пересказ» Солженицына — правда, без фамилий руководителей бунта, зато рассказывается, что эвакуировали семьи работников лагерной администрации, жгли архивы; к авиации и парашютистам добавлены ещё и танки. В завершение — штрих к судьбе восставших зэков: «120 человек уцелевших отправили на штрафной лагпункт цементного завода, где они погибли от голода, холода и непосильного труда». В эмигрантском журнале «Посев» (№ 6, 2004) Александр Штамм уточняет: по некоторым данным, против повстанцев применили химическое оружие, погибло несколько тысяч человек. Он же повествует и о другом вооружённом выступлении печорских политзэков на станции Абезь, которое возглавил осуждённый подполковник Б. Мехтеев: восставшие «перебили охрану и освободили тысячи собратьев по несчастью. Освобождая лагеря один за другим, повстанцы пытались дойти до Воркуты, чтобы освободить каторжников-шахтёров. Всего восставшим удалось освободить до 70 тыс. человек. Повстанцы прошли с боями около 80 км. Чтобы предотвратить взятие Воркуты, власти выбросили воздушный десант. В двухнедельных боях с восставшими применялись авиация и артиллерия. В результате повстанцы были разбиты. Уцелевшие ушли на северо-запад Урала, где несколько лет партизанили. Мехтеев был захвачен и приговорён к 25 годам заключения». Ну, тут товарищ явно переборщил. Освободить 70 тысяч зэков во время 80-километрового «крестового похода» от Абези на Воркуту было невозможно — за неимением на этом отрезке такого количества спецконтингента. Все лагеря Обского Севера насчитывали чуть более 100 тысяч человек. Выходит, лихие бойцы освободили три четверти зэков? К тому же разбросанных на тысячах квадратных километров… Это слишком круто. Кроме того, такую силу невозможно было вооружить даже кирками и лопатами. Ставить же цель «захвата Воркуты» голыми руками — полный маразм, и это ясно для любого не то что подполковника, но даже ефрейтора. А уж «двухнедельные бои» с практически безоружной массой лагерников — картина за гранью фантастики. Правда, в книге «Забыть нельзя: Страна “Лимония” — страна лагерей» бывший узник Игарских лагерей Александр Сновский уточняет о восстании в Абези: «Восставшие, перебив охрану, прошли с боями (бывшие фронтовики!) и освободили 7000 человек». В остальном Сновский повторяет Штамма, публикация которого вышла пятью годами ранее. Лагерник лишь откорректировал явно нелепый порядок цифр. Авторы хроники политических репрессий, вышедшей в третьем томе мартиролога «Покаяние» (Сыктывкар, 2000), датируют «восстание заключённых Северо-Печорского ИТЛ на строительстве железной дороги Чум — Лабытнанги» августом 1948 года. По их версии, количество арестантов на этом участке к тому времени достигло 40 тысяч, и когда рабочие колонны восточного участка соединились в районе лагпункта «Красный Камень» с колоннами западного участка, произошло «массовое самоосвобождение заключённых», как обозначили этот процесс в официальных документах. Основное ядро восстания состояло из бывших солдат и офицеров Красной Армии, входивших в состав 37-й штрафной колонны при известковом карьере, расположенном в 30 км от станции Чум. Повторяется та же история с «походом на Воркуту», но при этом уточняется: часть восставших откололась и направилась на восток, к Обской губе, чтобы захватить корабли и уйти в море. Власть задействовала заградотряды МВД, авиацию и танки. Около сотни оставшихся в живых повстанцев были отправлены в штрафные зоны Воркуты, где они погибли от голода и болезней. В сентябре 1995 года газета «Аргументы и факты» публикует статью А. Добровольского «Маленькая война на Северном Урале», которая почти идентична сыктывкарской хронике. Скорее всего, в обоих случаях авторы ориентировались на одни источники (мартиролог называет, в частности, воспоминания Роберта Штильмарка). По словам Добровольского, в условный час в песчаном карьере группа заговорщиков напала на конвой и разоружила солдат, затем на грузовиках ворвалась в свой лагерь и освободила остальных узников, а также заключённых из близлежащих лагпунктов. Всего на свободе оказалось несколько тысяч лагерников. Все эти свидетельства объединяет одно: никто из исследователей не называет источников информации — ни реальных участников событий, ни документов. Неувязки и с датами: «вспоминают» 1947, 1948, 1950, даже 1952 год. Так, «Строительная газета» опубликовала в июле 1989 года письма бывших узников Печорлага В. Чернышёва и В. Ермакова, которые откликнулись на просьбу сообщить подробности восстания на «строительстве 501». Чернышёв вспомнил, что в конце 1950 года на правом берегу реки Воркуты, напротив лагпункта шахтоуправления № 2 комбината «Воркутауголь», срочно установили пять или шесть бараков, обнесли колючей проволокой и поставили вышки охраны. Затем по «лагерному телефону» узнали, что зона предназначена для зэков, восставших на 501-й стройке. Далее повторяется история с разделением: одни — на штурм Воркуты, другие — в уральские леса. Правда, по Чернышёву, бунтарей было несколько сотен человек. А рассказ Ермакова относится к 1952 году и фактически повторяет подробности «мехтеевского» вооружённого выступления. В одном из источников утверждается, что танки против восставших не использовались: с Большой Земли прислали эшелон с танковым батальоном, но оказалось, что в условиях полярного Урала танки применить невозможно. А в книге Эдвардаса Бурокаса «История, писаная кровью» приводится рассказ некоего вольнонаемного К. из Воркуты: «Перед восстанием в одну из зон прибыло пополнение — около тысячи заключенных. Органами МВД они были отобраны специально — спровоцировать восстание. Возможно, это были уголовные, может, политические, после исполнения замысла им было обещано освобождение. На спине бушлатов возле воротника у многих из них были вшиты пистолеты (обычно, проходя через постового, охрана спину не прощупывала, а “оглаживала” бока). Вот эти провокаторы и подняли мятеж. Много смелых голов пошло за ними. Были уничтожены все провокаторы и все поверившие им. Говорят, что погибли четыре генерала Красной Армии». Это, конечно, явный бред. «Злобные чекисты», которые отвечали за успех строительства собственными головами, просто спали и видели, как бы замутить бунт зэков и уничтожить побольше строителей… История с пистолетами на загривках вообще потрясает воображение.А паразиты — никогда!
Но мы так и не ответили на вопрос: были волнения заключённых на «строительстве 501» или это — всего лишь мифы? Волнения, безусловно, были. И речь идёт даже не об отдельном случае. В уже упомянутой книге Бурокаса приводится отрывок из выступления начальника «барабановского» политотдела Панфилова на конференции 28–29 мая 1949 года: «Мы в 1948 году не сумели предотвратить вооружённый побег большой группы особо опасных преступников. Совершено 64 побега, сбежали 129 заключённых… 66 бандитов смогли совершенно разоружить отряд охраны, взять всё оружие, открыть ворота колонны, где находилось 500 заключённых, осуждённых на большие сроки». О Панфилове вспоминает целый ряд бывших лагерников, фигура это реальная. О подлинности документа судить трудно, но его содержание вызывает доверие. Хотя А. Шеренас, по книге которого Бурокас цитирует Панфилова, присовокупляет комментарий: «Осенью 1948 года с 501-й стройки бежало не 500 заключённых, а гораздо больше. Восставшие хотели идти в Воркуту, по дороге освобождая заключённых… и по радио обратиться к мировой общественности с заявлением о нарушении прав человека в Советском Союзе… Среди восставших было много литовцев». Из выступления начальника политотдела, однако, можно понять, что речь идёт не о политзаключённых, а об уголовниках, бандитах — особо опасных рецидивистах. Эту проблему затрагивает и работа Александра Макарова «Восстания в ГУЛАГе в годы Великой Отечественной войны». Приводя данные Солженицына о печорском восстании и «походе на Воркуту», автор пишет: «Александру Исаевичу оппонирует И. М. Елисеев, который сообщает, что восстание имело место, но только не на 501-й стройке, а в “одном из режимных каторжных лагерей”. Елисеев приводит следующие данные: “Восставшие обезоружили на работе… конвой, с помощью отобранного оружия они напали на несколько лагерей и освободили заключённых. Восставших собралось порядка 1500 человек. Для ликвидации этого восстания прибыл эшелон войск с пулемётами. Стали направо и налево расстреливать восставших. Уцелевшие, около 600 человек, ушли с оружием в лес”». Как мы видим, данные близки к тому, что сообщил на конференции Панфилов. Непонятно, правда, что подразумевается под «режимным каторжным лагерем» — зона для «политиков» или для уголовников. «Режимным каторжным лагерем» можно назвать и Джинтуйский штрафняк, и спецлаг для политзэков (особлаги стали создаваться как раз в 1948 году). Говоря о «строительстве 501» (равно как и 503), следует заметить, что «штрафняки» здесь предусматривались прежде всего для уркаганов. Основной контингент работяг (бытовиков и «политиков») пытались склонить к работе более методом пряника, нежели кнута. В этом мы могли убедиться в предыдущих главах. Если же говорить о событиях 1948 года, ряд исследователей предпочитает называть их не «восстаниями», а «вооружёнными побегами». Историки отмечают, что количество подобных ЧП в ГУЛАГе резко подскочило даже не в 1948 году, а годом раньше. Ужесточение борьбы с преступностью после войны привело к тому, что за «колючкой» пошёл процесс «паразитического перенаселения» (термин историка В. А. Козлова). По амнистии 1945 года освободилась часть «мужиков», зато лагеря стали наполняться профессиональными уголовниками. На блатных, не работавших согласно воровскому закону, не стало хватать «рабов». А тут ещё в криминальный мир стали вливаться «вояки», затем полыхнула «сучья война» внутри воровского мира — и именно за место у кормушки. Появление «вояк» (как блатарей, воевавших в рядах Красной Армии, так и молодого уголовного пополнения из обычных фронтовиков) серьёзно осложнило обстановку в местах лишения свободы. Уже 16 июня 1947 года заместитель начальника ГУЛАГа по оперативной работе Г. П. Добрынин тревожно отмечал значительный рост побегов — особенно групповых и даже вооружённых. А указ «четыре шестых», подняв планку сроков наказания до 20–25 лет лишения свободы, подлил масла в огонь. Он буквально провоцировал на вооружённые побеги и уголовников, и наиболее радикально настроенных «политиков» — прежде всего «вояк». Расстрел отменили, а четверть века в лагерях — всё равно что пожизненное заключение. Так чего бояться? Поводов для беспокойства у власти появилось достаточно. В 1948 году волна групповых вооружённых побегов захлестнула ГУЛАГ. Собственно, граница между такими побегами и бунтами была очень зыбкой. Особенно на Печоре и в Воркуте, где за один год произошло несколько серьёзных ЧП подобного рода. Дошло до того, что сам Генеральный прокурор СССР Григорий Сафонов заявил: «Групповые вооружённые побеги, имевшие место в Воркутинском, Печорском и Обском лагерях, были организованным выступлением особо опасных преступников, которые ставили перед собою задачу освобождения других заключённых и уничтожения работников охраны и лагеря». Как пишет историк В. Козлов в исследовании «Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти»: «Фактически прокуратура рассматривала эти выступления заключённых как возможную предпосылку широкомасштабных восстаний в ряде окраинных районов СССР». И всё же повторимся: в 1948 году такие выступления ещё не получили достаточного размаха, оставаясь на уровне «вооружённых побегов», но не вырастая до «восстаний». Главные события пришлись на последующие годы, когда власть жестоко поплатилась за своё непродуманное решение изолировать политических заключённых (в том числе военных) в особые лагеря — чтобы «контрики» не разлагали общую массу зэков. В результате именно особлаги скопили взрывную массу, которая доставила серьёзные неприятности руководству ГУЛАГа. Пока же на Печоре и Оби проявились лишь первые симптомы. Да, скорее всего, действительно движущей силой этих массовых вооружённых побегов стали «вояки». Но прежде всего именно уголовная их часть — с незначительной примесью 58-й статьи. Всё остальное вокруг «побегушников» обросло слухами, дикими преувеличениями и героическими мифами. Что за люди участвовали в «бунтах», можно судить хотя бы по такому факту. Во время побега из Обского лагеря от общей массы заключённых отделилась группа в 33 человека, каждый из которых был осуждён за измену Родине на 25 лет. 15 из них (по другим сведениям — 19) через трое суток вышли в расположение оленеводческого колхоза — три ненецких чума. В чумах проживало 42 человека (7 мужчин, 15 женщин и 20 детей, начиная с 5-месячного возраста). Все жильцы, включая младенцев, были зарублены топорами и застрелены из винтовок. Создавшееся к 1948 году положение очень точно сформулировал В. Козлов: «В ГУЛАГе обозначились… признаки жестокой борьбы за ресурсы выживания, что многократно увеличивало предрасположенность Архипелага к волнениям, бунтам и беспорядкам. Напряжение в среде профессиональных преступников и бандитов болезненно отразилось как на положении всех остальных заключённых, так и на состоянии режима и в конечном счете на выполнении ГУЛАГом его производственных функций». Именно уголовники, а не «политики» представляли основную опасность для жизнедеятельности ГУЛАГа. Как отмечает тот же Козлов, уже в августе 1947 года начальник 6-го отдела 1-го управления ГУЛАГа Александров представляет на имя заместителя начальника ГУЛАГа Б. П. Трофимова докладную записку с анализом оперативной обстановки в лагерях и колониях. Согласно этому документу, главной угрозой стабильности Александров считал не 567 тысяч «контрреволюционеров», а 93 тысячи уголовников, осуждённых за бандитизм, убийства, разбой и т. п. По оценке автора докладной записки, это было «громадное количество» уркаганов. А в 1948 году оно резко возросло — когда уголовный элемент эшелонами попёр в лагеря в результате действия указа «четыре шестых». И крышку котла сорвало… Но ведь мы упоминали, что полковник Барабанов старался отбирать на свою стройку только «контриков» и «бытовиков». Всё верно. Однако одно дело — желание, другое — суровая реальность. Оградить «строительство 501» от наплыва блатарей было невозможно, особенно после упомянутого выше указа от 4 июня 1947 года об усилении охраны государственной, кооперативной, колхозной и личной собственности. Да и с самого начала Печоржелдорлаг кишел профессиональными преступниками. Так, дочь Василия Барабанова Елена Силадий вспоминала о первых годах, проведённых вместе с отцом на строительстве северных дорог: «Мне было 7 лет, сестра Надежда на 5 лет старше меня… Приехали в Воркуту. Там, где мы жили, стояло, по-моему, бараков 5 свежесрубленных. Тут мы жили. Рядом — барак заключённых. Почему-то их называли “урками”. Запомнила двух: “Москву” (его звали только по кличке) и Колю Тимошенко. Они оба были молодыми и имели по 6 судимостей. Папа сразу предупредил маму: “Шура, двери не закрывай! Никаких замков. Всё должно быть открыто! Доверие полное к заключённым!” Когда они получали посылки, то приходили к нам и кормили нас, детей. Нас было трое. Третий ребёнок был из семьи вольнонаёмных. “Александра Ивановна, дай девочек, погулять пойдём”, — часто обращались заключённые к маме. А мама вспоминала, что у неё волосы на голове шевелились, но она ничего не могла поделать, помня о приказе мужа. И они с нами подолгу возились, ракушки искали, просто гуляли. Вскоре в зону привезли троцкистов. Сын Троцкого был, его секретарь, в общем, всё окружение его было выслано туда. Они приехали туда с такими громоздкими чемоданами — очень много было у них вещей. На следующий день их обворовали. Папа вызывает к себе “Москву”: “Ребята, что же вы делаете? Меня позорите! Вы представляете, что мне может быть? Вы их обворовали!” На следующий день у нас в коридоре стоял огромный куль с приложенной запиской: “Вернули всё! Консервы съели”. Этот “Москва” с Колей повсюду ходили за папой, охраняя его. “Что же ты без пистолета ходишь? Ведь они тебя могут убить”. Они думали, что троцкисты опасны». Вот такое трогательное единение начальника и урок. Однако это — 1942 год, когда о «паразитическом перенаселении» ГУЛАГа блатными не было и речи. В послевоенные годы, особенно начиная с 1947-1948-го, обстановка сложилась совершенно другая. Так что Барабанову пришлось отказаться от блатных телохранителей и вспомнить опыт Дмитровлага. Тогда, на строительстве канала Москва — Волга, с «законниками» и прочей уголовной шушерой долго не церемонились: не поддающихся «перековке» бросали в штрафные изоляторы, откуда выводили на тяжёлые работы в роты усиленного режима. Особо упрямых отправляли в северные лагеря, а несгибаемых воров просто расстреливали на месте. И вот когда количество уркаганов, их агрессивность и наглость стали переходить все границы и поставили под угрозу интересы производства — «начальник Барабанов» стал отдавать приказы…«На пеньки нас становили…»
Песня как раз и отражает процесс расправы с лагерниками, поднимавшими бучу из-за «паразитического перенаселения» и нехватки «ресурсов выживания». И касалось это в основном блатных! Вспомним обычных работяг: они как раз отмечали, что на «стройке 501» было легче, чем в других лагерях ГУЛАГа! Но «барабановские» пайки и прочие льготы распространялись только на тех, кто вкалывал! Отказчикам от работы ничего не перепадало. Попытки грабить «пахарей» на стройке пресекались жестоко: «паразиты» в этой системе не были предусмотрены. Необходимость соблюдения напряжённого графика работ исключала систему нахлебников. Этим печорское строительство отличалось от множества других ударных строек ГУЛАГа, где царствовали «туфта» и беспредел блатарей. Естественно, такое положение вещей не могло устроить уркаганов. И они реагировали единственно возможным способом — «бузой». За что и получали по полной программе. А лагерная мифология превращала таких бузотёров в героических борцов против режима. Наверняка к блатарям примыкали и «политики». После указа «четыре шестых» и тех, и других объединяли немыслимо большие сроки наказания. Смысл бунтовать был лишь у зэков, чьи сроки составляли от 15 до 25 лет. А это, как правило, — уркаганы и «контрики». Но не просто «контрики», а преимущественно из числа «вояк» — людей с бойцовской психологией. Такой народ и в целом по ГУЛАГу, и тем более в Печоржелдорлаге составлял явное меньшинство. Основная часть лагерников представляла собой инертную массу и не горела желанием выступать против власти. Напротив, в условиях системы зачётов «день за три» люди стремились заработать сокращение срока. Итак, песня о «начальнике Барабанове» начинается рассказом о внутрилагерном выступлении недовольных. Подавлено оно было «враз»: несколько очередей поверх голов, затем — БУР и этап под конвоем в сторону Печоры до Джинтуя (который находится от Печоры не в 200, а в 80 километрах). Правда, сочинители слегка приукрасили действительность, сообщив, что на станции Джинтуй они устроили большой «кипиш»:«Стройка Хальмер-Ю не для меня»
Скорее всего, подобные куплеты содержались и в ещё одной песне блатарей, мотавших срок на «строительстве 501–503». Я имею в виду песню «Стройка Хальмер-Ю не для меня». Правда, это произведение в полном виде до нас не дошло. Его цитирует Андрей Синявский (Абрам Терц) в своей замечательной статье «Отечество. Блатная песня», где приводит лишь несколько строк. Более полную версию сообщил Н. Л. Бощановский, однако и он не вспомнил завершения песни:
Краткая библиография
«А я не уберу чемоданчик!»: Песни студенческие, школьные, дворовые / сост. М. Баранова. М., 2006 Авторская песня: антология / сост. Д. Сухарев. Екатеринбург, 2003 Азаров О. «По тундре, по железной дороге…» // Покаяние: Мартиролог: сб. Т. 2. Сыктывкар, 1999 Амальрик А. Нежеланное путешествие в Сибирь. Нью-Йорк, 1970 Антология забытой песни. URL: http://andjusev.narod.ru/c/102.htm Антонов-Овсеенко А. Враги народа. М., 1996 Антуфьева Н. Он же Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Гора… // Центр Азии. 2002. № 15-17 Афанасьева Т. Хранить вечно // Печорское время. 2010. 30 октября Бардах Я., Глисон К. Человек человеку волк: Выживший в ГУЛАГе. М., 2002 Бахтин В. «Я помню тот Ванинский порт…»: автор и песня. URL: http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/GULAG/Vaninskiy_port.html БеломорскоБалтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931–1934 гг. М., 1934 Бирюков А. Колымские истории: очерки. Новосибирск, 2004 Бирюков А. Север. Любовь. Работа. URL: http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=345 Бирюков Ю. «И вот мы снова у стен Ростова…» // Крестьянин. 2007.19 февраля Блатная песня: сб. М., 2002 Блатные песни: сб. / сост. и откоммент. Фимой Жиганцом. Ростов н/Д, 2001 Бородкин Л., Эртц С. Структура и стимулирование принудительного труда в ГУЛАГе: Норильлаг, конец 30-х — начало 50-х годов. URL: https://www.memorial.krsk.ru/Articles/2003/Ertc/Ertc2.htm Бурокас Э. История, писаная кровью. URL: http://www.llks.lt/knygos/E_Buroko%20knygos/PutemePriesVeja4%20Rus.pdf «В нашу гавань заходили корабли». Пермь, 1996 «В нашу гавань заходили корабли». Вып. 3. М., 2000 Вайль П. Соловецкая ночь // Ёж. 2002. № 1-2 Вайскопф Я. Блатная лира. Иерусалим, 1981 Вергасов Ф. Сталинские железные дороги. Стройки №№ 501, 502 и 503. URL: http://levrakhlis.narod.ru/obol503.html Волков О. Погружение во тьму. М.: Молодая гвардия, 1989 Вольтер Г. Зона полного покоя. Аугсбург, 2004 Восстания в ГУЛАГе в годы Великой Отечественной войны. URL: http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20voyni%2014.htm Высоцкий В., Мончинский Л. Чёрная свеча. М., 1992 Габдрахманова А. «Я помню тот Ванинский порт…» URL: http://www.slovoart.ru/node/48 Гинзбург Е. Крутой маршрут: в 2 т. Рига, 1999 Глинка Е. Трюм, или Большой «колымский трамвай»: рассказ-свидетельство // Радуга. 1990. № 2 Глинка Е. «Колымский трамвай» средней тяжести. URL: http://www.congressst.ru/post/elenaglinkakolymskiitramvaisredneityazhesti2 Глущенко А. О памяти и памятниках. URL: http://stalinism.narod.ru/docs/repress/pamiat.htm Годлевская Н., Крейтер И. «Красноярское дело» геологов. URL: http://ihst.ru/projects/sohist/papers/gkr94os.htm Гроссман В. Всё течёт // Октябрь. 1989. № 6 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2004 Демидов Г. Дубарь. URL: http://shalamov.ru/context/14/ Дёмин М. Блатной. М., 1991 Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917–1939). М., 1998 Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1940–1991). М., 2001 Джекобсон М., Джекобсон Л. Преступление и наказание в русском песенном фольклоре (до 1917 года). М., 2006 Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992 Джуха И. Стоял позади Парфенон, лежал впереди Магадан. История репрессий против греков в СССР: греки на Колыме. СПб., 2010 Диденко В. «Миндальничать с арестованными нечего…» URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=615 Добровольский А. По следам «мёртвой дороги» // Строительная газета. 1989. 5 июля «Доднесь тяготеет». Т. 1–2. М., 1989, 2004 Дубров А. Фальшивка о «Джурме». URL: http://www.usinfo.ru/stalin.htm Евграфов В. Арестованный театр // Вечерний Красноярск. 1993. 8 октября Евстюничев А. Наказание без преступления. Сыктывкар, 1991 Ершов И. «Богема» и уголовники: Соловецкий театр 1920-х годов. Борис Глубоковский. URL: http://www.urokiistorii.ru/node/209 Ефимова Е. Современная тюрьма. Быт, традиции и фольклор. М., 2004 Женское лицо ГУЛАГа // Новая газета. 2009. 7 августа Женщина в ГУЛАГе. URL: http://www.memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/05/OrlovaAlek.htm Жигулин А. Чёрные камни. М., 1989 «За что?»: сб. М., 1999 Заключённые на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР. Собрание документов и фотографий. М., 2008 Запрещённые песни / сост. А.Железный, Л. Шемета, А. Шершунов. М., 2004 Звенья: исторический альманах. Вып. 1. М., 1991 Зимородок Е. Поэзия поощрялась официально // За решёткой. 2010. № 2 Зиновьев Г. «Я иду не по нашей земле…». Об авторе текста известной песни. URL: http://a-pesni.org/emigr/a-toska.php Золото за колючей проволокой. Предыстория развития советской золотодобычи. URL: http://kular.ucoz.ru/publ/zoloto_za_koljuchej_provolokoj/1-1-0-44 Зубчанинов В. Увиденное и пережитое. М., 1995 «И вот мы снова у стен Ростова» // Мой Ростов. 2010. 26 марта Изюмов М. О чём молчит Кизилташское урочище. URL: http://kyzyl-tash.narod.ru/izumov.htm Ильин В. Власть и уголь: шахтёрское движение Воркуты. Сыктывкар, 1998 Исерс Г. Воспоминания. URL: http://iremember.ru/partizani/isersgrigoriyizrailevich/stranitsa3.html История строительства Колымской трассы. URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=498 История строительства Тенькинской трассы. URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=391 Качан И. Гагарлаг в Кизилташе. URL: http://kyzyl-tash.narod.ru/gagarlag.htm Козлов А. Взрывы в бухте Нагаево: правда или вымысел. URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=48 Козлов В. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953–1985 гг. М., 2006 Колесников Г. Немые крики. Ростов н/Д, 1991 Коновалов В. ГУЛАГ // Дуэль. 1998. 1 декабря Копелев Л. Хранить вечно. М., 1990 Котек Ж., Ригуло П. Век лагерей. М., 2003 Котляр Н. Именем закона. М., 1981 Крайнев В., Скворцов Л. Байкальский Адмирал. Иркутск, 2001 Крапивский С. Трижды рождённый. Тель-Авив, 1976 Краснов П. Здравые рассуждения о массовых репрессиях. URL: http://sovserv.ru/KA6AH/usatruth/usatruth.by.ru/stalinrepressii.htm Краснопёров А. «Блатная старина» Владимира Высоцкого. URL: http://www.vsvysotsky.ru/post62867902 Кто автор песни? // Мой Ростов. 2010. 19 марта Куземко В. Записки сталинского зэка. URL: https://cripo.com.ua/persons/?p=121668/ Лата Л. Анастасия Якубек: материалы для фильма собирали «с миру по нитке», спасибо всем! URL: http://severdv.ru/news/show/?id=56191 Леви А. Записки Серого Волка. М., 1994 Лесняк Б. Кедровый стланик. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/les/nyak/7.htm Лихачёв Д. Воспоминания. СПб., 1995 Лихачёв Д. Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. Л., 1989 Лихачёв Д. Статьи ранних лет. Тверь, 1993 Лутова С. Молчание Кизилташского урочища // Санкт-Петербургские Ведомости. 2006. 6 октября Лучшие дворовые песни: Песенник с нотами и аккордами / сост., коммент, и примеч. Фимы Жиганца. Ростов н/Д, 2010 Люлечник В. Народные бунты в СССР. URL: http://www.russianmontreal.ca/meetingplace/archive/0068/005.html Магаданская ретроспектива. URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=565 Максимовский Э. Империя страха. М., б.г. Малая медицинская энциклопедия. М., 1991-1996 Марцинкевич М. («Тесак»). Реструкт. URL: http://sudiliche.ru/restrukt.aspx Матвеева Е. История одной зэчки. М., 1993 Махов В. Словарь блатного жаргона в СССР. Харьков, 1991 Миндлин М. 58/10. Анфас и профиль. М., 1999 Музыкант Е. Джинтуй под грифом «секретно» // Красное знамя Севера. 2010. 2 сентября Мухина-Петринская В. На ладони судьбы. Саратов, 1990 О Ванинском порте. URL: http://palladamuseum.ucoz.ru/index/morskoj_port/0-l7 Ольховой А. «Нам дороги эти позабыть нельзя» // Во славу Родины. Беларусь, 2011. 29 июня Пентюхов В. Как я стал абезьяном // День и ночь. 2007. № 1-2 Пепеляев В. Наказание без преступления // Илин. 2000. № 4 — 2001. № 1 Песенник анархиста-подпольщика. URL: http://www.apesni.golosa.info/org.html Песни нашего двора / автор-сост. Н. Белов. Минск, 2003 Песни нашего двора-3 / сост. А. Ткачёв. URL: http://www.musicallib.ru/a/aleksandr_tkach_petro/alb6.shtml Песни узников / сост. В. Пентюхов. Красноярск, 1995 Петров Н. История империи ГУЛАГ. URL: http://www.pseudology.org/GULAG/index.htm Пинаев Е. Зона комфорта. О художнике Льве Вейберте. URL: http: //www.proza.ru/2011/05/13/341 Письмо узника Заксенхаузена А. Д. Русанова своим соотечественникам. URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000164/st146.shtml Плоскова Т. К развалинам ГУЛАГа // Печорское время. 2010. 16 июня Подорожнова В. Тюрьма на колёсах. URL: http://proza.ru/2005/08/26-132 Поживши в ГУЛАГе. М., 2001 Полыхалов И. Как НКВД издевался над детьми // Спецназ России. 2007. № 2 Померанцев В. По царским и сталинским тюрьмам. URL: https://www.memorial.krsk.ru/memuar/P/Pomerancev/0.htm Потапов С. Словарь жаргона преступников: Блатная музыка. М., 1927 Пыхалов И. Каковы масштабы сталинских репрессий? URL: http://stalinism.narod.ru/docs/repress/repress.htm Пыхалов И. Штрафники: правда и вымысел // Спецназ России. 2007. № 11 (34) Разгон Л. Непридуманное. М., 1989 Ратушная Л. Этюды о колымских днях. Киев, 2004 Рейс в преисподнюю. URL: http://www.kopernik.name/2011/06/blogpost.html Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. Т. 1–2. М., 1991 Россия и СССР в войнах XX века. М., 2001 Рублёв Р. От пластинок к магнитофонам (Из записок коллекционера магнитиздата) // Новое русское слово. 1980.1 марта Рубцов Ю. Новая книга о штрафбатах. М., 2010 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР (1943–1945 гг.). Т. 13. М., 1997. Русский шансон / автор-сост. И. Банников. М., 2002 Сайт детсадовского фольклора. URL: http://odnapl1yazyk.narod.ru/detsad.htm Свинцов В. У рыбацкого костра. Барнаул, 2006 Седых Т. Как умирали пароходы. URL: http://www.pravda.ru/accidents/factor/catastrof/30-10-2002/9881-nahodca-0/ Сечкин Г. За колючей проволокой. М., 1999 Сидоров А. Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Т. 1–2. Ростов н/Д, 1999 Синявский А. Диссидентство как личный опыт // Юность. 1999. № 5 Сиреневый туман: песенник / сост. А. Денисенко. Новосибирск, 2001 Смирнов А. Тайны Магадана. URL: http://www.kolyma.ru/magadan/index.php?newsid=420&news_page=2 Снегов С. Язык, который ненавидит. М., 1991 Сновский А. Забыть нельзя. М., 1997 Соколов Д. Зародыш ГУЛАГа // Крымское эхо. 2011. 2 декабря Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1–3. М., 1990 Солоух С. Швейк. Комментарии. URL: http://ukh.livejournal.com/225556.html Сопельняк Б. Смерть в рассрочку. М., 1998 Спириденков В. Лесные солдаты. Партизанская война на Северо-Западе СССР. М., 2007 Стимулирование правопослушного поведения заключённых в исправительно-трудовых лагерях посредством реализации поощрительных норм, 1930–1956 гг. URL: http://bankrabot.com/part2/work_77489.html Тельнов Е. Далеко ли от Коломны до Колымы? URL: http://slovari21.ru/analytics/daleko_li_ot_kolomni_do_kolimi Трагедия в порту Нагаево. URL: http://www.agesmystery.ru/node/1828 Трактор «Сталинец» С-60: история создания. URL: http://zazsila.ru/news/2011-02-19-32 Туманов В. Всё потерять — и вновь начать с мечты… М., 2011 Файтельберг-Бланк В. Бандитская Одесса: Двойное дно. М., 2002 Файтельберг-Бланк В. Бандитская Одесса-2. Ночные налётчики. М., 2002 Фельдгун Г. Записки лагерного музыканта. Новосибирск, 1998 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2008 Фрид В. Записки лагерного придурка. URL: http://lib.ru/PROZA/FREADV/58_2.txt Хандзинский Н. Блатная поэзия. Иркутск, 1926 Цепкалова А. Главпромстрой в системе ГУЛАГа: экономика принудительного труда на «великих стройках коммунизма». URL: vak2.ed.gov.ru>idcUploadAutoref/renderFile/57808 Шаламов В. Колымские рассказы. Т. 1–2. М., 1992 Шаламов В. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004 Шашкина А.Ванинская пересылка. Советская Гавань, 2005 Шеболкин Д. Джинтуйский десант. URL: http://www.geo.komisc.ru/public/vestnik/2004/111/pdf/111_32.pdf Ширяев Б. Неугасимая лампада. Издание Сретенского монастыря, 2000 Штамм А. Кенгир как конец сталинского ГУЛАГа // Посев. 2004. № 6 Южанинов Л. Северный этап. Воронеж, 2007 Яковлев Б. Концентрационные лагеря в СССР. URL: http://www.modernlib.ru/books/yakovlev_b/koncentracionnie_lageri_sssr_otrivki/read_4
Последние комментарии
1 час 23 минут назад
3 часов 10 минут назад
4 часов 23 минут назад
5 часов 29 минут назад
6 часов 38 минут назад
18 часов 36 минут назад