Весна сорок пятого [Илья Афроимович Туричин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Илья Туричин
Весна сорок пятого
В романе читатели встретятся с братьями-близнецами Петром и Павлом Лужиными, один из которых становится бойцом партизанского отряда в Словакии, а второй воюет в рядах Советской Армии. Автор рассказывает о судьбах друзей Петра и Павла, о его родителях и о том, как после окончания войны вся семья Лужиных вновь вернулась к работе в цирке.
Рисунки И. Жмайлова
Часть первая. ПЕТР.
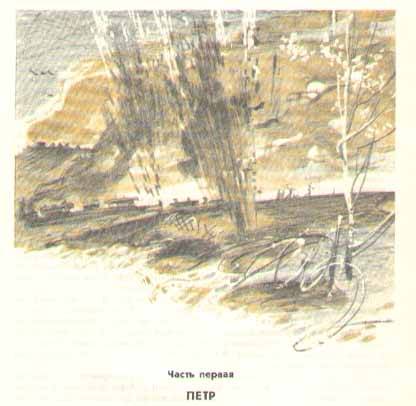
1
Корпус генерал-лейтенанта Зайцева третью неделю не выходит из боя. Ни потери, которые он понес, ни чудовищная усталость бойцов и офицеров, ни возникающие внезапно неполадки: то кухни отстали, то горючее застряло невесть где, то кончаются боеприпасы, - ничто не может остановить наступления. Кажется, останься от всего корпуса только взвод, он все равно будет идти вперед, теперь уже по польской земле. Вперед, только вперед! На Берлин! Генерал-лейтенанта Зайцева не застать в штабе, он появляется то на командных пунктах дивизий, то в полках, то в наступающих батальонах. Его бессменный адъютант майор Синица неотступно следует за ним. И если генерал имеет возможность прикорнуть в машине, рискуя набить шишки на ухабах, то Синица такой роскоши позволить себе не может, потому что именно дремлющий генерал нуждается в особой опеке. Впрочем, недремлющий тоже. Генерал не знает страха, не кланяется пулям, не бросается на землю при вое авиабомбы, спокойно делает свое дело: разговаривает с людьми, принимает решения, отдает приказы, отчитывает, поощряет. Синица настолько привык к Зайцеву, что иногда ощущает себя как бы частью его, порой ему кажется, что он, майор Синица, даже может подменить своего генерала, принять за него нужное решение, отдать приказ, кого надо - отругать, кого надо - наградить. Вот только, к сожалению, выспаться или нормально поесть за него он не может. Впрочем, за себя тоже. Чем меньше Синица спал и ел, тем более склонялся к философствованию. Если бы он вел дневник, сколько бы удивительных мыслей записал! Например: наступая противнику на пятки, приглядывай за носками собственных сапог. Или: после артподготовки кухню не подвозят. Или: "Выше голову!" - совет для штатских; для военных - "Пригнись вовремя". Впрочем, Синица не очень уверен, его ли это мысли, или брошены генерал-лейтенантом Зайцевым. Дневника Синица не ведет. Это немцы ведут дневники. Почти что все поголовно. У кого, конечно, есть на чем писать. Но дневники у них писаны так, будто для гестапо. Если гестаповцы, часом, найдут, чтоб шею не намылили. Или, того хуже, веревку. Не далее как вчера взяли небольшой городок. Жителей раз, два и обчелся. Живут в подвалах, погребах, без воды, без пищи. А на площади на фонаре висит молоденький немец в солдатской форме. И дощечка на нем аккуратненькая: "Я - пораженец, я предал фюрера!" Не иначе как вел дневник и записал в него "не то". А сейчас многие из немцев написали бы "не то". Страх сдерживает. Не тот фашист, что в сорок первом шел. Те нахальные были, сытые, молодые, напролом перли, вроде бы даже смерти не боялись. Или не сознавали, что на смерть идут. А эти хоть и дерутся отчаянно, а хотят выжить, выжить, домой вернуться, к своим Гретхен, к детишкам. Жить хотят! Вот тебе и "один народ, одна империя, один фюрер"! Да, удивительная вещь - наступление! Красноармеец становится отделением, отделение взводом, взвод - ротой… А уж зайцевский корпус лупит фашистов в хвост и гриву как иная армия не сможет! Да что там армия - фронт! Старенькая "эмка" генерала, заляпанная пятнами краски защитного, желтого и коричневого тонов, за что была прозвана "ягуаром", металась по хлипким весенним дорогам, а то и прямо по невспаханному полю, а за ней неотступно следовал бронетранспортер, как жеребенок за кобылой. Радисты, связисты, автоматчики. И в "ягуаре" рядом с шофером сидел радист, ус антенны мотался за приспущенным окошком. В окошко врывался холодный, пронизанный дождем ветер. Генерал зябко ежился. Ехали в полк к майору Церцвадзе, который еще не знал, что стал подполковником. Зайцев вез ему новенькие золотые погоны с прикрепленными двумя звездочками. Генералу было приятно поздравить Церцвадзе первым, приятно, что, доверив офицеру полк, не ошибся. "Ягуара" потряхивало на выбоинах, промятые пружины сидений не смягчали толчков. Сколько раз генерал-лейтенант клялся, что едет в этой "эмке" последний раз, что завтра же, нет, сегодня же возьмет новую машину. А увидит глаза своего шофера Коли, как они вдруг мутнеют, увидит Колино лицо, которое вдруг покорежится, будто все зубы разом заболели, и только рукой махнет. Консерватор Коля, вот он кто! Прикипел, что ли, к своему "ягуару"? Ведь смотреть тошно, перед всем фронтом стыдно!… А с другой стороны, не было случая, чтобы машина отказала. И пули ее дырявили, и осколки рвали!… Все шоферы как шоферы, прежде всего на кухню бегут. Подкрепиться. А Коля сначала к технике бежит: нельзя ли поживиться чем?… Задремавший было Зайцев открыл глаза, посмотрел на Колин затылок. Хорошо ему, за "баранку" держится на ухабах. А тут трясись! И чтобы сон окончательно не сморил, сказал громко сидящему рядом Синице: – Вернемся в штаб - сменим машину. Коля даже ухом не повел. Слышали уже! И не раз!… Чтоб машину сменить, надо шофера сменить. Потому что он, Коля, на другой машине не поедет! Хоть в трибунал! А генерал без Коли куда ж? Пропадет ни за грош!… Слева, недалеко от дороги раскинулась большая брезентовая палатка. "Молодцы медики", - подумал одобрительно Зайцев. – Сверни, Коля. – Есть. "Ягуар" свернул к медсанбату. Возле входа в палатку стоял грузовик. Молодая женщина в белом халате распоряжалась, сортировала раненых, которых осторожно сгружали с грузовика. На носилках лежал боец с перебинтованной грудью, Зайцев остановился возле него. Спросил сочувственно: – Что, брат, досталось? Раненый не ответил, видно, трудно было говорить, только моргнул. – Ну и им от тебя досталось. Крепко. Драпают, еле догоняем! Солдат слабо улыбнулся. – Поправляйся, друг, нам еще с тобой Берлин брать. Зайцев тихонько похлопал раненого по руке. – Возьмем… товарищ… генерал… - прохрипел тот через силу. Пожилые санинструкторы подняли носилки, понесли. Зайцев смотрел вслед. Потом повернулся к женщине: – Много раненых? – Много, товарищ генерал. – Где начальник? – Оперирует. – Давно в медсанбате? – Вторую неделю, товарищ генерал. – Первый бой. Страшно? – Некогда пугаться, товарищ генерал. – Вот и славно. - Зайцеву очень хотелось сказать этой молодой красивой женщине что-нибудь особенное, душевное, а слов не находилось. - Увидите начальника, скажите: был, мол, Зайцев. Передавал привет. – Слушаюсь, товарищ генерал! Эх, и жизнь генеральская! Никто тебя по имени-отчеству не назовет. Зайцев влез в "ягуар", почему-то сердито хлопнул дверцей. Тотчас с другой стороны примостился Синица. – Давай, Коля. "Ягуар" рванул с места, стал быстро набирать скорость, выскочил на дорогу и помчался, обгоняя колонну грузовиков, двигающихся тоже к фронту. Впереди стелился сизый дым. Воздух пропах пожарищем и пороховой сладковатой гарью. Близко гремело. – Не проскочи, - предупредил Зайцев шофера. – Не проскочу, - откликнулся Коля и, помолчав немного, сказал громко, почти крикнул, чтобы генерал услышал сквозь артиллерийский гул и шум мотора: - Разрешите аргумент, товарищ генерал. – Ну! – К примеру, фрицы вознамерятся уничтожить машину генерал-лейтенанта Зайцева, поскольку генерал им как кость в горле у журавля? – Ну-ну!… - подбодрил Зайцев. Коля говорил редко, но уж если начинал говорить, то слова словно бусинки на нитку нанизывал, стараясь показать и начитанность свою и умение вести "светский разговор". Синица как-то сказал, что среди штабных писарей - а среди ни* ох и доки попадались! - Коля слыл мудрецом. – Они выберут машину новенькую как игрушечку, поскольку ихние генералы ездят в лакированных ландо. – В чем, в чем? - изумился Зайцев. – В лакированных ландо! - со смаком выкрикнул Коля. - "Оппель-адмирал", "мерседес-бенц"! И станут те фрицы искать авто генерала Зайцева. И найдут, товарищ генерал! - победно протрубил Коля. Зайцев засмеялся. – Это почему ж? – И курице понятно! - назидательно произнес шофер. - Мой "ягуар" для фрицев - камуфлированная тайна! Неказистая машиненка, не генеральский вид! Не будет генерал-лейтенант Зайцев ездить на такой машине. Негалантно. – Чего-чего?… - снова изумился Зайцев. – Негалантно, говорю, не по ихнему обхождению. Они - на свой аршин, а мы их - своим лупцуем. Так что, товарищ генерал, "ягуар" надежней. А возьмете новую машину - накроют! – Жуткая перспектива! - засмеялся Зайцев и схватился обеими руками за спинку переднего сиденья, потому что Коля резко затормозил возле воткнутой на обочине палки с дощечкой, на которой было химическим карандашом написано: "Церцвадзе. Милости просим!" Буквы размыты дождем, но читались. "Ягуар" отвалил от дороги на такой ухабистый проселок, что Зайцеву захотелось выйти. Но он только вздохнул. Надо отдать справедливость Коле, он снизил скорость, и "ягуар" по-кошачьи пополз по ухабам. Даже трясти перестало. – Вот, товарищ генерал, "ягуар" свою службу понимает. – Уж ты скажешь, - возразил генерал. – Никто не докажет обратного! - Коля поднял указательный палец и помахал им в воздухе. Въехали в редкую березовую рощу. Кое-где березы были повалены, несколько стволов срезаны снарядами. Коля повел "ягуара" без дороги меж деревьев, каким-то своим шоферским чутьем угадывая путь, потому что лесная дорога оказалась перепаханной глубокими свежими воронками. Лежали убитые гитлеровцы. Валялось оружие. Дождь не успевал прибивать дым к земле. Бой гремел где-то рядом. Роща, казалось, просматривалась насквозь, но нигде не было и признака полкового КП.
 Коля остановил "ягуара", шедший параллельно по разбитой дороге бронетранспортер тоже тотчас остановился.
Генерал вышел, потоптался на месте, разминая ноги.
– Синица, пошуруйте-ка Церцвадзе.
Синица послал связистов и автоматчиков, а сам от генерала ни на шаг. Прижался к белому мокрому стволу, стал внимательно осматриваться. Мало ли! Может, фриц какой недобитый выскочит… Война.
– Есть! - крикнул один из автоматчиков. - Картонка к дереву прибита. "Ушел вперед. Церцвадзе".
– Значит, и мы - вперед! - удовлетворенно сказал Зайцев.
Коля остановил "ягуара", шедший параллельно по разбитой дороге бронетранспортер тоже тотчас остановился.
Генерал вышел, потоптался на месте, разминая ноги.
– Синица, пошуруйте-ка Церцвадзе.
Синица послал связистов и автоматчиков, а сам от генерала ни на шаг. Прижался к белому мокрому стволу, стал внимательно осматриваться. Мало ли! Может, фриц какой недобитый выскочит… Война.
– Есть! - крикнул один из автоматчиков. - Картонка к дереву прибита. "Ушел вперед. Церцвадзе".
– Значит, и мы - вперед! - удовлетворенно сказал Зайцев.
2
Петру казалось, что все вокруг пропахло бензином - и мокрая земля, и мелькающие березы, даже небо и тусклое солнце. Теплая броня танка, на котором он сидел, дрожала, норовила вытряхнуть душу. Танк, грохоча гусеницами и добавляя в сизую пелену новые порции газа, мчался по дороге вслед за передними. Петр подумал: если их танк вдруг остановится, задний непременно налетит на него. И ребята, что сидят рядом на броне, ссыпятся на землю, как горох. Они сидели плотно прижавшись друг к другу. Командир отделения гвардии сержант Яковлев беспокойно вертел головой, старался разглядеть слезящимися глазами что-то, что может представить для его отделения опасность. А что разглядишь в такой гонке? Петр не то чтобы дружил с Яковлевым - дружба дело долгое, обстоятельное. Вот с Великими Вождями была дружба - равенство и братство. Один за всех, все за одного. А Яковлев - сержант, командир - какое уж тут равенство! Яковлев приказывает - ты выполняешь. Должен. Обязан. А сам ты Яковлеву приказывать не имеешь права. А в остальном все-таки дружба: один за всех и все за одного. Общий враг - фашисты. И цель общая - победить! Яковлев за все отделение в ответе. Потому он и беспокойный такой. Все что-то добывает, выпрашивает - получше сапоги, побольше патронов, лишнюю пачку махорки или пшенного концентрата. Не для себя, для отделения. Надо - он и свое отдаст. Хотя бойцов гоняет будь здоров! Свободная минута на отдыхе выпадет - заставляет ползать по-пластунски, учит работать лопаткой, использовать с толком укрытия на местности, маскироваться, прыгать, бегать, драться врукопашную… Поначалу у Петра настырность Яковлева вызывала раздражение. В партизанском отряде тоже учились. Лейтенант Каруселин очень требовательным был. Но не так, чтобы до седьмого пота, до изнеможения. Что, сержанту больше всех надо? Потом был первый бой. Отделение неспешно и толково рассыпалось в цепь, и сам Петр, точно зная свое место в этой цепи, выбрал свежую воронку, отбросил деловито крупные комья земли лопаткой перед собой, уложил автомат для прицельного огня и стал ждать команды сержанта. И вдруг понял, что все это он умеет, будто уже был в таком точно бою. И бегущие прямо на него, словно возникающие из-под земли, фашисты, стреляющие на ходу, и свист и щелканье пуль вокруг не были страшны. Вообще страха не было. Потому что все казалось привычным. Это он понял потом, после боя. А тогда лежал и ждал команду. Очень хотелось выстрелить, но он ждал команду. А сержант не спешил. Он лежал в середине цепи, тоже устроившись поудобнее, и, видимо, ждал, когда фашисты подойдут поближе, чтобы не тратить зря боезапас, а бить наверняка. И когда наконец раздалась команда "огонь", Петр уже держал на мушке фашиста, нажал спуск. Фашист дернулся, словно с налету наткнулся на препятствие, взмахнул нелепо руками и упал. Справа басисто затакал ручной пулемет. "Венька Колесов", - подумал Петр, привычными точными движениями сменяя диск автомата. Враги залегли. – Не давайте им подняться, ребята! - крикнул Яковлев. Неподалеку разорвалась мина. Осколки зашлепали по земле. Потом вторая. Третья. Таканье пулемета оборвалось. Петр повернул голову посмотреть: что там случилось у Колесова? Но ничего не увидел. Только обрезанное краем воронки небо, белесое от дыма. Оно сладко пахло порохом. Вот как сейчас бензином. …Потом, заново переживая первый бой, мысленно повторяя все, что он делал, начиная с команды "в цепь", Петр понял, что, неумолимо гоняя на учении бойцов, сержант не для себя старался, для пользы дела. Промелькнуло несколько домов. Вспыхнула оранжево черепица крыш, будто проскочили мимо гигантские белки. Танк несколько раз сильно встряхнуло. – Держись, ребята! - крикнул сержант Яковлев. Его никто не услышал, голос растворился в грохоте гусениц. Все и так держались друг за друга. Петр попал в десант впервые. После недельного непрерывного наступления их сменила свежая часть, а роту отвели на отдых, разместили на окраине полусгоревшего села. Усталые бойцы повалились спать, не дожидаясь походной кухни. Тело ныло, как после побоев. А тут - тревога. Отделение заняло свое место в строю. Вместе с комбатом пришел командир полка подполковник Церцвадзе, тоненький, черноглазый, улыбчивый. Петр видел его несколько раз. Сейчас подполковник не улыбался, темное лицо его с острым, горбатым носом и дряблыми мешками под глазами было хмурым. Тоже, видать, не спал. Он молча обошел строй, вздохнул. Обронил тихо: – Устали?… Вижу - устали. Счастливые вы люди. Нет слаще усталости, чем в наступлении! А? Вон как фашисты от вас драпанули. Герои! Все как один герои! - На мгновение сверкнули белые зубы, и снова лицо потемнело, нахмурилось. - Сейчас бы в баню и подушку давить.! А тут такое дело. Километрах в семидесяти отсюда - концентрационный лагерь. Есть сведения, что гитлеровцы намереваются замести следы своих преступлений. Всех в том лагере уничтожить! А там есть женщины и дети. Дети! - внезапно крикнул Церцвадзе. - Понимаете, дети! Генерал-лейтенант Зайцев дал танки. Задача: прорваться к лагерю во что бы то ни стало. На вас вся надежда, гвардейцы! …Впереди несколько раз грохнула пушка. Танк, на котором сидело отделение Яковлева, сошел с дороги и помчался прямо по полю. Затрясло еще сильнее. Выскочили из облака дыма и увидели впереди густые ряды колючей проволоки, а за ними длинные низкие дощатые бараки, а еще Дальше кирпичное здание с высокой дымящей трубой. Сразу за проволокой стояли вышки. С вышек ударили пулеметы. Танк на мгновение остановился. – Прыгай! - крикнул Яковлев. Красноармейцы ссыпались с танка. Танк развернулся и, набирая скорость, пополз прямо на вышку, снес проволочное заграждение, ударил в основание вышки - та рухнула. – Вперед! - скомандовал Яковлев и повел свое отделение в пролом. Рота заняла круговую оборону. Отделению Яковлева достался главный вход: двойные обмотанные колючей проволокой ворота на обстоятельных массивных столбах. Дорога, ведущая внутрь лагеря, посыпана желтым песком и отсечена от порыжевшей, прошлогодней травы острыми, крашенными мелом кирпичами. Поперек, сразу за воротами, - полосатый шлагбаум. Возле домика встал танк. В любой момент к лагерю могут подойти фашисты. По сути танки с десантниками вышли к ним в тыл. Надо быть готовыми ко всему. Подошел майор-танкист со следами ожога на лице. Яковлев, сидевший на крыльце караулки, вскочил, козырнул лихо. – Товарищ майор, отделение занимает оборону, согласно приказа. Командир отделения гвардии сержант Яковлев. – Добре. Тихо? – Пока тихо, товарищ майор. – Вот именно пока. Гусев! - громко позвал майор. Из открытого люка танка высунулся рыжий танкист. – Я! – Связь есть? – Налаживаю. – Долго, - недовольно сказал майор. – Так ведь лампы побило. Я у фрицев рацией одолжился. Вот налаживаю. Танкист исчез в люке, а майор присел на крылечко, снял шлем. Волосы у него были короткие, с проплешинами. Наверно, тоже от ожогов. – Разрешите, товарищ майор, спросить? - тихо сказал Яковлев. – Ну. – Много их там? Майор понял, о ком он спрашивает, кивнул несколько раз печально. – Полны бараки. Женщины, детишки мал мала меньше. Вот так, сержант. Крематорий у них тут день и ночь работал. Трупы жгли. А может, и живых. Баня газовая. – Как это, товарищ майор? – Приводили как бы помыться. А потом на голых газ пускали. Из специальных баллонов. Тех баллонов целый склад у них тут. Из люка высунулся рыжий танкист. – Есть связь, товарищ майор. Майор торопливо залез на броню, взял у танкиста наушники, закричал в микрофон: – Товарищ семнадцатый, я на месте. Как слышите? Я на месте. Слышите меня? Прием… Да. Заняли круговую… Прием… Кухонь, кухонь побольше, товарищ семнадцатый. Мы все отдали. Все энзе. Но их тут тысячи! Прием… У них тут боевая группа. Я им оружие немецкое отдал. Может, обороняться придется. Прием… Есть, товарищ семнадцатый. Продержимся. - Майор сунул рыжему в руку наушники и микрофон. Отер со лба обильный пот. - Стой, сержант, насмерть! Пока наши не подойдут.
 – Тихо как, - сказал Яковлев. - Словно и нет никого.
– Бараки закрыты. Нельзя открывать бараки. Немцы могут сунуться. Бой будет. Еще детишек перебьют.
Но немцы не появились. Видно, не до лагеря им было. А к вечеру подошли походные кухни, несколько санитарных машин и роты две пехоты.
В ворота въехала рябая "эмка", резко тормознула. Из нее выскочил майор, открыл дверцу. Показался генерал-лейтенант в накинутой на плечи шинели.
– Зайцев, - шепнул Яковлев, озираясь по сторонам. Никого из офицеров поблизости не было. Никто не подавал команды, не встречал генерала. - Смирно! - крикнул Яковлев.
Петр смотрел на генерала, вытянув шею. Слышал он о нем много, а видел впервые.
Генерал оглядел вытянувшихся бойцов. Поздоровался. Ответили дружно.
– Вольно, - сказал Зайцев. - Яковлев! Никак это ты?
– Гвардии сержант Яковлев, товарищ генерал! - представился Яковлев и растянул губы в радостной улыбке.
Зайцев подошел, протянул руку.
– Ну здравствуй, сержант.
– Здравия желаю, товарищ генерал!
– Воюешь. - Зайцев потрогал сержантские награды - два ордена Славы и медали. - Ишь, наград нахватал! Вы лагерь брали?
– Так точно, товарищ генерал!
– Ну, быть тебе полным кавалером, Яковлев. Молодцы! Герои! Всех благодарю!
– Служим Советскому Союзу! - дружно ответил строй.
От центра лагеря уже бежали к комкору офицеры.
– Взять взяли, а кого выручили - не видели, - буркнул Яковлев, понимая, что это дерзость, может и влететь. - Приказано уходить в расположение своего полка.
Подбежал подполковник, доложил, что кухни и медицина прибыли, охрана лагеря обеспечена. Открывают бараки. Много женщин и детей.
Генерал выслушал внимательно, кивнул, повернулся и пошел по желтенькой дорожке, на которой сгущались вечерние тени. Внезапно остановился, будто что вспомнил.
– Пусть люди посмотрят лагерь. Бить фашистов злее будут.
Яковлев повел свое отделение.
Первое, что поразило Петра, - запах. Лагерь пахнул карболкой, потом, гарью и еще чем-то, чем, видимо, были пропитаны стены бараков. Это был запах отчаяния и безысходного горя, запах смерти.
Возле детского барака в длинную очередь у походной кухни выстроились маленькие тощие фигурки, бледные лица светились в сгущавшихся сумерках. Глазницы казались пустыми провалами. Некоторые ребятишки не могли стоять, сидели на песке возле стены. Бойцы в белых куртках носили им алюминиевые миски с супом и давали каждому по кусочку хлеба.
Молоденькая военврач в белом халате, накинутом на плечи, стояла возле котла и все время повторяла:
– Не наливайте помногу… Они изголодались… Не наливайте помногу… Слышите?… - В голосе ее звенели слезы. Изредка, не сдержавшись, она всхлипывала и утирала нос рукавом.
Дети были разного возраста и роста, но все бледные и тощие, словно одежду надели на скелетики. На иных были полосатые штаны и куртки, как на взрослых.
Какой-то мальчик в очереди неожиданно покачнулся и сел на землю, видно, ноги не держали.
Силыч, самый старший в отделении, самый бывалый, стоявший рядом с Петром, странно гукнул и, словно слепой, двинулся к мальчику. Присел возле на корточки, погладил стриженую голову, неожиданно подхватил его на руки, прижал к груди. Повернулся лицом к товарищам, сказал растерянно:
– В нем и весу нет. Как же так?… Доктор, дай-ка мне миску, я покормлю…
Силыч сел на землю, посадил мальчика на свои вытянутые ноги. А тот обвил его шею тонкими руками с торчащими косточками запястья.
– Ох, ты боже ж мой!…
Тут от сумрака стены шагнул вперед подросток в полосатой куртке, уставился на Петра.
А у Петра ком стоял в горле. Сейчас бы топор в руки и рубить, крушить эти бараки!
Подросток в полосатой куртке глядел на него не отрываясь. И от взгляда этого Петру становилось неловко, будто он чем-то виноват перед полосатым. Хотя он ни в чем не виноват.
Подросток шагнул еще ближе. Сказал тихо и хрипло:
– Пауль. Пауль Копф…
Петр не понял, что он бормочет, спросил участливо:
– Ты что, мальчик?
Подросток протянул вперед руку, ткнул в Петра грязным с поломанным ногтем указательным пальцем и заговорил быстро по-немецки, задыхаясь от непонятной ярости. Острый кадык плясал на горле.
Петр быстро шагнул к подростку, схватил его за плечи, встряхнул, спросил по-немецки:
– Ты видел Пауля?
Подросток резким движением вырвался из его рук.
– Я и сейчас вижу!… Он шпион! Гитлеровский шпион! - закричал подросток, снова тыкая пальцем в Петра.
К нему подошли еще несколько мальчишек, сжав кулаки, готовые защитить товарища.
А с другой стороны подошел Яковлев, положил руку на плечо Петра.
– Ты что, Лужин, говоришь по-немецки?
– Говорю.
– Он шпион! Гитлеровский шпион! Я его узнал! - снова закричал полосатый.
– О чем он? - спросил Яковлев.
– Говорит, что я - гитлеровский шпион. Что он меня узнал.
Яковлев с изумлением посмотрел на Петра.
– Вот те на!
Стало уже совсем темно. Кто-то засветил керосиновый фонарь. Из темноты появился подполковник.
– Что тут происходит?
Увидев офицера, подросток в полосатой куртке бросился к нему, заговорил горячо.
– Кто-нибудь его понимает? - спросил подполковник.
– Вот он понимает, - сказал Яковлев.
– Можете перевести?
Петр кивнул.
– Он говорит, что учился вместе со мной в школе в Берлине. И что я - гитлеровский шпион.
– Вот как? - удивился подполковник и нахмурился. - А вы действительно учились в Берлине?
– В жизни там не был. Это он с моим братом Павлом учился.
– У вас брат в Берлине?
– Да. Его увез доктор Доппель из рейхскомиссариата "Остланд".
– Как же вы в армию попали?
– Как все. Из партизанского отряда "Смерть фашизму".
– Ви хайсен ду? - спросил подполковник полосатого, с трудом подбирая немецкие слова и указывая на Петра.
– Пауль Копф.
– Та-ак… И как же вас зовут? - обратился подполковник к Петру.
– Рядовой Петр Лужин.
– Будем разбираться, - сказал подполковник. - Товарищ сержант, берите обоих и отведите в штаб, вон за тем бараком.
– Есть! Только мы ж уходим в расположение полка.
– Он догонит, - сухо произнес подполковник и зашагал в темноту.
– Ну дела-а… Скажи ему, чтобы шел с нами.
Петр произнес фразу по-немецки.
Полосатый исподлобья посмотрел на него и гордо вскинул голову.
– Гитлер капут!
– Чего ж раньше не сказал, что немецкий знаешь? - спросил Яковлев.
– Не спрашивал никто.
– Тихо как, - сказал Яковлев. - Словно и нет никого.
– Бараки закрыты. Нельзя открывать бараки. Немцы могут сунуться. Бой будет. Еще детишек перебьют.
Но немцы не появились. Видно, не до лагеря им было. А к вечеру подошли походные кухни, несколько санитарных машин и роты две пехоты.
В ворота въехала рябая "эмка", резко тормознула. Из нее выскочил майор, открыл дверцу. Показался генерал-лейтенант в накинутой на плечи шинели.
– Зайцев, - шепнул Яковлев, озираясь по сторонам. Никого из офицеров поблизости не было. Никто не подавал команды, не встречал генерала. - Смирно! - крикнул Яковлев.
Петр смотрел на генерала, вытянув шею. Слышал он о нем много, а видел впервые.
Генерал оглядел вытянувшихся бойцов. Поздоровался. Ответили дружно.
– Вольно, - сказал Зайцев. - Яковлев! Никак это ты?
– Гвардии сержант Яковлев, товарищ генерал! - представился Яковлев и растянул губы в радостной улыбке.
Зайцев подошел, протянул руку.
– Ну здравствуй, сержант.
– Здравия желаю, товарищ генерал!
– Воюешь. - Зайцев потрогал сержантские награды - два ордена Славы и медали. - Ишь, наград нахватал! Вы лагерь брали?
– Так точно, товарищ генерал!
– Ну, быть тебе полным кавалером, Яковлев. Молодцы! Герои! Всех благодарю!
– Служим Советскому Союзу! - дружно ответил строй.
От центра лагеря уже бежали к комкору офицеры.
– Взять взяли, а кого выручили - не видели, - буркнул Яковлев, понимая, что это дерзость, может и влететь. - Приказано уходить в расположение своего полка.
Подбежал подполковник, доложил, что кухни и медицина прибыли, охрана лагеря обеспечена. Открывают бараки. Много женщин и детей.
Генерал выслушал внимательно, кивнул, повернулся и пошел по желтенькой дорожке, на которой сгущались вечерние тени. Внезапно остановился, будто что вспомнил.
– Пусть люди посмотрят лагерь. Бить фашистов злее будут.
Яковлев повел свое отделение.
Первое, что поразило Петра, - запах. Лагерь пахнул карболкой, потом, гарью и еще чем-то, чем, видимо, были пропитаны стены бараков. Это был запах отчаяния и безысходного горя, запах смерти.
Возле детского барака в длинную очередь у походной кухни выстроились маленькие тощие фигурки, бледные лица светились в сгущавшихся сумерках. Глазницы казались пустыми провалами. Некоторые ребятишки не могли стоять, сидели на песке возле стены. Бойцы в белых куртках носили им алюминиевые миски с супом и давали каждому по кусочку хлеба.
Молоденькая военврач в белом халате, накинутом на плечи, стояла возле котла и все время повторяла:
– Не наливайте помногу… Они изголодались… Не наливайте помногу… Слышите?… - В голосе ее звенели слезы. Изредка, не сдержавшись, она всхлипывала и утирала нос рукавом.
Дети были разного возраста и роста, но все бледные и тощие, словно одежду надели на скелетики. На иных были полосатые штаны и куртки, как на взрослых.
Какой-то мальчик в очереди неожиданно покачнулся и сел на землю, видно, ноги не держали.
Силыч, самый старший в отделении, самый бывалый, стоявший рядом с Петром, странно гукнул и, словно слепой, двинулся к мальчику. Присел возле на корточки, погладил стриженую голову, неожиданно подхватил его на руки, прижал к груди. Повернулся лицом к товарищам, сказал растерянно:
– В нем и весу нет. Как же так?… Доктор, дай-ка мне миску, я покормлю…
Силыч сел на землю, посадил мальчика на свои вытянутые ноги. А тот обвил его шею тонкими руками с торчащими косточками запястья.
– Ох, ты боже ж мой!…
Тут от сумрака стены шагнул вперед подросток в полосатой куртке, уставился на Петра.
А у Петра ком стоял в горле. Сейчас бы топор в руки и рубить, крушить эти бараки!
Подросток в полосатой куртке глядел на него не отрываясь. И от взгляда этого Петру становилось неловко, будто он чем-то виноват перед полосатым. Хотя он ни в чем не виноват.
Подросток шагнул еще ближе. Сказал тихо и хрипло:
– Пауль. Пауль Копф…
Петр не понял, что он бормочет, спросил участливо:
– Ты что, мальчик?
Подросток протянул вперед руку, ткнул в Петра грязным с поломанным ногтем указательным пальцем и заговорил быстро по-немецки, задыхаясь от непонятной ярости. Острый кадык плясал на горле.
Петр быстро шагнул к подростку, схватил его за плечи, встряхнул, спросил по-немецки:
– Ты видел Пауля?
Подросток резким движением вырвался из его рук.
– Я и сейчас вижу!… Он шпион! Гитлеровский шпион! - закричал подросток, снова тыкая пальцем в Петра.
К нему подошли еще несколько мальчишек, сжав кулаки, готовые защитить товарища.
А с другой стороны подошел Яковлев, положил руку на плечо Петра.
– Ты что, Лужин, говоришь по-немецки?
– Говорю.
– Он шпион! Гитлеровский шпион! Я его узнал! - снова закричал полосатый.
– О чем он? - спросил Яковлев.
– Говорит, что я - гитлеровский шпион. Что он меня узнал.
Яковлев с изумлением посмотрел на Петра.
– Вот те на!
Стало уже совсем темно. Кто-то засветил керосиновый фонарь. Из темноты появился подполковник.
– Что тут происходит?
Увидев офицера, подросток в полосатой куртке бросился к нему, заговорил горячо.
– Кто-нибудь его понимает? - спросил подполковник.
– Вот он понимает, - сказал Яковлев.
– Можете перевести?
Петр кивнул.
– Он говорит, что учился вместе со мной в школе в Берлине. И что я - гитлеровский шпион.
– Вот как? - удивился подполковник и нахмурился. - А вы действительно учились в Берлине?
– В жизни там не был. Это он с моим братом Павлом учился.
– У вас брат в Берлине?
– Да. Его увез доктор Доппель из рейхскомиссариата "Остланд".
– Как же вы в армию попали?
– Как все. Из партизанского отряда "Смерть фашизму".
– Ви хайсен ду? - спросил подполковник полосатого, с трудом подбирая немецкие слова и указывая на Петра.
– Пауль Копф.
– Та-ак… И как же вас зовут? - обратился подполковник к Петру.
– Рядовой Петр Лужин.
– Будем разбираться, - сказал подполковник. - Товарищ сержант, берите обоих и отведите в штаб, вон за тем бараком.
– Есть! Только мы ж уходим в расположение полка.
– Он догонит, - сухо произнес подполковник и зашагал в темноту.
– Ну дела-а… Скажи ему, чтобы шел с нами.
Петр произнес фразу по-немецки.
Полосатый исподлобья посмотрел на него и гордо вскинул голову.
– Гитлер капут!
– Чего ж раньше не сказал, что немецкий знаешь? - спросил Яковлев.
– Не спрашивал никто.
3
Петру очень хотелось поговорить с парнишкой в полосатой куртке, он наверняка принял его за Павла, раз утверждает, что учился с ним в школе в Берлине. С тех пор как партизаны отбили маму и его у немцев, не было ни писем, ни слухов. Павел для них пропал. А Петр все время помнил о нем, думал и тосковал. Всех раскидала война. Всех. Мама где-то в Москве. Отец погиб. Брат в Германии. И вот рядом идет паренек в полосатой куртке, который учился в школе вместе с Павлом. Когда? Как паренек попал в концентрационный лагерь? Где Павел? Может быть, мается в таком же лагере? Но разговаривать на ходу, да еще по-немецки, Петр посчитал неловким. Недоразумение выяснится, и он все узнает. Он только спросил у паренька: – Как тебя зовут? Тот усмехнулся. – Запамятовал? Вайсман я. Курт Вайсман. – О чем вы? - спросил Яковлев. – Имя узнал. Вайсман Курт. Штаб помещался в двухэтажном кирпичном здании. Короткий коридор, двери направо и налево. Лестница наверх и вниз, очевидно в подвал. Яковлев доложил какому-то лейтенанту, что по приказанию подполковника привел своего красноармейца и лагерника для выяснения недоразумения. – Недоразумения? - переспросил лейтенант удивленно. – Так точно. Лагерник принял рядового Лужина за немецкого шпиона. – Ясно, - кивнул лейтенант, хотя по лицу его было видно, что ничего ему не ясно. - Вы, товарищ рядовой, побудьте в коридоре до подполковника. А вы пройдите пока вниз. - Он показал пальцем на лестницу в подвал. Вайсман отшатнулся и съежился, словно от внезапного удара. – Чего это он? - спросил Яковлев, обращаясь к Петру. – Ты чего? - спросил Петр по-немецки. – Там… Там господин комендант пытал… Петр перевел. Лейтенант нахмурился. – Ясно. Пусть посидит в другом конце коридора. - Он махнул рукой. – Иди туда, в тот конец, - сказал Петр по-немецки. Вайсман кивнул и побрел по коридору, по-стариковски подволакивая ноги. Сидеть там было не на чем, он пристроился на полу у стены. – По-немецки говорите? - спросил лейтенант хмуро. - Дайте-ка ваш автомат. Петр посмотрел на Яковлева и отдал автомат лейтенанту. – Вам его вернут, - сказал лейтенант и ушел. – Разберутся. - Яковлев похлопал Петра по плечу. - Догоняй роту. – Есть, товарищ гвардии сержант! В коридоре под потолком плавал синий махорочный дым. Сквозняк от двери к окну не успевал вытягивать его. Приходили и уходили заключенные, с потемневшими худыми лицами, в разбитой разномастной обуви, а то и босые, в полосатых лагерных куртках, некоторые успели разжиться солдатскими гимнастерками. Все были возбуждены, еще не верили, что пришла Красная Армия, что они свободны, что кончились пытки и перестала дымить труба крематория. Стоял разноголосый, разноязыкий шум. Хлопали двери. Петр давно не спал по-человечески, от махорочного дыма, шума и мелькания полосатых курток закружилась голова, он закрыл глаза и задремал, прислонясь к стене. Когда его встряхнули за плечо, он не сразу смог понять, где находится, сознание возвращалось медленно. Подполковник сердито глядел на него. Откуда подполковник? Ах, да… – Простите, товарищ подполковник. Заснул. – Подходящее местечко. Идемте. Петр пошел за подполковником наверх, на второй этаж. Здесь было потише, часовой у лестницы не пускал посторонних. Подполковник открыл одну из дверей и пропустил Петра вперед. В тесной комнатенке стоял канцелярский стол и несколько стульев. – Садитесь, - сказал подполковник, указывая на стул возле стола. Петр сел, сняв пилотку. Подполковник сел напротив, достал из полевой сумки лист бумаги, тонкую желтую ручку с металлическим перышком. Заглянул в чернильницу. – Ваша фамилия, имя и отчество? – Лужин Петр Иванович. – Год рождения? – Тысяча девятьсот двадцать седьмой. – Как же вы в армию попали? – Из партизанского отряда "Смерть фашизму". Был подрывником. – Но вам же всего семнадцать. – Фашисты убивают, не спрашивают, сколько лет. – Родители есть? – Мама. Она сейчас в Москве. – А отец? – Отец погиб в сорок первом. Герой Советского Союза младший лейтенант Лужин Иван Александрович. Подполковник посмотрел на Петра внимательно. – Вы что ж, извещение о его гибели получили? – В газете было написано - "посмертно". – Как маму зовут? – Лужина Гертруда Иоганновна. Подполковник все записывал. Буковки были маленькие, строчки ложились ровно, словно чистый лист разлинован. – Откуда вы этого немца знаете? – Я его не знаю. – А он вас знает. Называет Паулем Копф. – Копф - это девичья фамилия мамы. А Пауль - это Павлик, мой брат. Мы - близнецы. Его увез доктор Доппель, еще когда мама была владелицей гостиницы для офицеров в Гронске. – Для советских офицеров? – Для немецких. Если бы для советских, то была бы не владелицей, а заведующей гостиницы. Или директором. – Послушайте, Лужин, вы утверждаете, что ваша мать была владелицей гостиницы для офицеров во время оккупации? – Да. – А вы в это время были в партизанском отряде? – Нет. Мы с Павликом были при маме. Помогали ей. – А как же вы попали в отряд? – Это уже после того, как Павлика увезли. Меня вместе с мамой захватили партизаны. – И маму тоже? – Да. Она была переводчицей. В штабе бригады. – И фамилия ее Копф? – Лужина. – Только что вы сказали, что фамилия мамы Копф. – Это девичья ее фамилия. А когда она вышла замуж за отца, она стала Лужиной. Ну и непонятливый этот подполковник! – Значит, вы утверждаете, что не были в Берлине, не учились там в школе и не знаете Курта Вайсмана. – Утверждаю. – А мать была владелицей гостиницы для офицеров в оккупированном гитлеровцами городе Гронске. – Да. – Темно, темно, Лужин. – Чего ж тут темного, товарищ подполковник? Мы выполняли задание. – Чье задание? А верно, чье задание они выполняли? "Дяди Васи"? Алексея Павловича? – Советской власти, - неуверенно сказал Петр. – Как, говорите, зовут вашего отца? – Иван Александрович Лужин. Он погиб в сорок первом. – Вот именно. А что делал ваш брат в Берлине? – Учился в школе. – Откуда вы знаете? – Он писал нам. – Кому "нам"? – Маме и мне. – Из Берлина? – Да. – А еще что он писал? – Что жив и здоров. Что скоро мы победим. Хайль Гитлер. – Как? – Хайль Гитлер. Для камуфляжа. Он ведь из Берлина писал. – Так. – Еще передавал приветы Фличу. – Кому? – Фличу. Настоящая его фамилия Фличевский. Фокусник. – Фокусник? – Мы же в цирке работали. На лошадях. До войны. А Флич - это наш старый друг, фокусник. – Значит, в Берлине был Павел? – Павел. – Вот Вайсман и утверждает, что вы - Павел. Петр засмеялся. – Ничего удивительного. Мы ж близнецы. Нас всегда путали. – Прямо шекспировский сюжет! - усмехнулся подполковник. - А я вам не верю! – Почему? – Путаете много… Фокусника приплели… Мамина фамилия то Копф, то Лужина… – А как ваша фамилия, товарищ подполковник? – Боровский. – А я вам не верю! - четко сказал Петр и голос его сорвался по-петушиному. – То есть… – Не верю и все. Может, вы не Боровский и не подполковник. И вообще вас нету. Подполковник рассердился. – Ну знаете, Лужин… Много себе позволяете. Мы здесь не шутки шутим! Вот прикажу вас арестовать. – За что? – За грубость. За то, что путаете тут, вместо того чтобы… – Извините, товарищ подполковник. Обидно. Вы ж мне не верите! – Подпишите. – Что? – Ваши показания, - подполковник протянул Петру ручку, макнув перо в чернильницу. Петр аккуратно вывел: "Петр Лужин". – Разрешите идти? – Куда? – В свой полк. – Нет, Лужин. Побудете пока здесь. Поработаете на кухне. Вон народу сколько кормить надо! – А как же… – А так же. Приказания не обсуждаются, устава не знаете! – Есть остаться работать на кухне! – Найдете внизу дежурного лейтенанта. Он вас определит. – Есть! Разрешите… Разрешите обратиться, товарищ подполковник? – Обращайтесь. – Можно мне с Вайсманом поговорить? – О чем? – Он же Павла видел! – Успеете, Лужин. Идите. – Есть. Петр ушел, а подполковник Боровский перечитал его показания, сложил бумагу пополам и сунул в полевую сумку. До войны он был инструктором райкома партии, любил и понимал людей. В армию попал по партийному набору. Стал политработником. Потом его направили в Особый отдел. Нелегкая это работа, ох нелегкая. В бою враг вот он, целься, бей. А враг, с которым он борется сейчас, может принять любую личину, надеть любую форму, предъявить любые документы, враг - оборотень, перевертыш. Его надо найти, распознать, обезвредить. Очень много он вреда может принести, очень.
4
Работа на кухне начиналась затемно. Угрюмый ефрейтор Егги, не то латыш, не то эстонец, расталкивал Петра, который спал на тонком матраце возле остывшей кирпичной плиты. Плита сложена еще немцами, в нее вмазано несколько больших чугунных котлов с мятыми железными крышками. В них варили баланду из подгнивших овощей для заключенных. Теперь только кипятят воду. А пищу готовят в походных кухнях. Петр был убежден, что в голове Егги спрятан часовой механизм: когда бы ни лег спать ефрейтор - просыпался ровно в пять утра. Быстро умывшись, они шли на дровяной склад. Дров немцы запасли, ведь круглые сутки работал крематорий. На складе они сбрасывали гимнастерки и брались за двуручную, отлично отточенную и разведенную пилу. Наточил и развел ее ефрейтор. Часа полтора, не останавливаясь, пилили они швырок на колобашки. Егги не любил остановок, не любил остывать. Петр был убежден, что руками ефрейтора тоже управляет какой-то скрытый механизм. Он считал себя крепким, тренированным парнем, привычным к нагрузкам. Но руки у него деревенели, а ефрейтору хоть бы хны! Потом напиленные колобашки кололи. Петр и раньше любил колоть дрова, когда семья приезжала к деду в Березов. Они даже спорили с Павлом, кому начинать первому, потому что у деда был всего один топор. Дед прекратил споры, одолжив у соседа другой. Но там, в Березове, это было удовольствие. Устанешь - посидишь. А здесь, в лагере, надо было переколоть уйму дров, а ефрейтор Егги не любил передышек, не любил остывать. И Петру приходилось тянуться за ним. Часто подходили бывшие узники, хотели помочь. Угрюмый ефрейтор цедил сквозь зубы: – Никак нелься. Отдыхать, отдыхать… Бывшие узники садились на колобашки, сочувственно смотрели на ефрейтора и красноармейца, безостановочно как автоматы раскалывавших колобашки на поленья, и только одобрительно покачивали головами - крепкие люди, хорошая работа. И исчезала из рук деревянность, приходило второе дыхание, как во время представления после долгой трудной репетиции. Петр был артистом, сыном артистов, бывшие узники становились для него зрителями, а дровяной склад - маленьким манежем. И к концу работы он даже с удовольствием чувствовал себя еще здоровее, еще крепче. Великое дело - кураж! Старая сивая лошадь неторопливо развозила дрова по лагерю в телеге с высоко поднятыми бортами. Только грузи да разгружай. Украдкой, когда никто не видел, Петр обнимал шею лошади, прижимался щекой к ее морде, вдыхал запах лошадиного пота. И тотчас словно возвращался в цирк, к Мальве и Дублону, видел светлые строгие глаза мамы, смеющиеся - отца, и с другой стороны к сивой лагерной лошади подходил Павел, и вот-вот его руки соприкоснутся с руками брата. Возле походных кухонь выстраивались очереди. День ото дня бывшие узники становились шумливее, оживленнее, словно скалывалась с них невидимая скорлупа настороженности, страха боли, страха смерти. Многие требовали, чтобы их зачислили в Красную Армию и выдали оружие сейчас же, немедленно. И не только советские люди, но и поляки, и чехи, и французы, и даже антифашисты-немцы. Но оружия никому не давали и в Красную Армию никого не зачисляли. В лагере работала комиссия. Проверяли каждого: где родился, как жил, при каких обстоятельствах попал в концентрационный лагерь? Проверяли и перепроверяли. Подполковник Боровский осунулся и потемнел от бессонницы. Петр несколько раз сталкивался с ним, приветствовал согласно уставу; подполковник равнодушно отвечал и шел дальше, даже взгляда не остановив на лице Петра. Не узнавал, что ли? Или забыл? Петр собрался было уже напомнить о себе. Время шло, а он все колол дрова да разносил пищу больным. А полк, наверно, уже отдохнул, переформировался. Яковлев патроны получил, сапоги починили. Может, уже двинулись вперед. Без него, без Петра! Может, даже взяли кого-нибудь вместо него на довольствие. Нет, не такой человек гвардии сержант. Сам генерал Зайцев разговаривает с ним уважительно. Яковлев генерала подполковником помнит. Нет, никого не возьмет сержант на его место. Ждет, наверно, тревожится. Надо напомнить о себе подполковнику, а то полк до Берлина дойдет - не догонишь! Но напомнить о себе не пришлось. Во время обеда к Петру подошел лейтенант, тот самый, который определял его на кухню. – Ну как, Лужин, настроение? – Паршивое, товарищ лейтенант. – Ну-у?… – В полк надо. Полк ждет, - сказал Петр с таким выражением словно, не появись он сейчас же, немедленно в полку, пропадет полк. – Дивизия отдыхает, - улыбнулся лейтенант. - Это мы с тобой работаем не покладая рук. Слушай, Лужин, подполковник сказал, что ты был артистом в цирке. "Значит, не забыл подполковник, помнит, - подумал Петр. - Помнит, а держит". Лейтенант ждал ответа, но Петр молчал. – Такое дело. Ребятишек надо как-то развлечь, развеселить их, что ли! Ведь что они за свою кошмарную жизнь видели? Ничего. Побои, да голод да шприцы. Да трубу эту дымящую. У них же детства нету. Они смеяться не умеют… В общем, так, подполковник разрешил использовать тебя как циркового артиста. Что ты можешь для детишек сделать? Вопрос был настолько неожиданным, что Петр растерялся. – В каком смысле? – В прямом, Лужин. Ты каким артистом был? – Вольтижером на лошади. – На лошади? - огорчился лейтенант. - Где ж я тебе лошадь найду? Ведь не всякая и сгодится? – Не всякая. – А еще что можешь? Акробатика, фокусы там или на проволоке плясать. Я до войны бывал в цирке! Чудо, чудо! Может, ты клоуном можешь чего изобразить? Петр вдруг увидел Мимозу. Вот он идет между бараками в широченных клетчатых штанах и тесном пиджачке. Носы длинных туфель загнуты вверх. Сейчас он выйдет на солнечный свет и крикнет по-петушиному: "А вот и я!" Лейтенант посмотрел в ту сторону, куда глядел Петр, ничего не увидел и спросил удивленно: – Ты чего? Мимоза исчез, растворился в солнечных лучах. – Я так сразу не могу, - сказал Петр. - Мне подготовиться надо. Костюм какой-нибудь… А музыки у вас нету? – Баян. Только баянист в госпитале. А долго тебе готовиться? – Ну, хоть два-три дня. Я ж позабыл все! – Вспомни, Лужин, вспомни! Детишки ведь! Петра освободили от колки дров и предоставили самому себе.
5
Сивая лошадь не имела имени. Может, у нее и было когда-то имя, только его никто не знал. Так же как никто не знал, откуда лошадь взялась в лагере. Она откликалась и на сивку, и на Машку, и просто на лошадь. Она отзывалась на человеческий голос и была очень спокойной и понятливой. Но когда, коротко разбежавшись, Петр вскочил ногами на ее спину, она удивленно дернула головой и, перестав жевать сено, покосилась на человека круглыми глазами. Всякое довелось ей повидать за свою долгую трудную жизнь: и телегу возила, и сани тащила, и верхом на нее садились. Но никто не прыгал на спину. Нет, это не тяжело - подумаешь, парнишка на спину вскочил! - но неожиданно и как-то непонятно. Сбросить, что ли? У парнишки добрый голос и добрые руки. Уж она-то повидала всяких хозяев. И плеткой били, и сапогами в живот, и вожжами!… А вот гриву, как этот, никто не расчесывал. И не говорил с ней, как этот, тихо и ласково. И она не стала сбрасывать парнишку со спины, только покосилась на него удивленно. Тот сам спрыгнул и засмеялся. – Что, Сивенькая, непривычно?… Да и не подойдешь ты для манежа. Это я так. Других лошадок вспомнил. - Петр обнял шею лошади. - Не сердись. Лошадь развезла дрова по кухням и теперь, распряженная, стояла возле дровяного склада, опускала голову, подбирала губами сено из кучки, которую перед ней положил Петр. Петр присел возле на чурбаках. Как все поначалу казалось простым! Надо развлечь детей. Да, десятки, сотни тысяч детей перебывали на представлениях в цирке! Раскрыв рты следили за каждым движением артиста, восторженно хлопали в ладоши, смеялись над проделками клоуна, сочувствовали ему, предупреждали об опасности, когда на манеж выходил шпрехшталмейстер. О-о! Мимоза умел не только смешить, он умел дружить с детьми! Кое-что из его реприз, из его трюков можно повторить. Если получится. Скажем, "проглоченный свисток". Но нужен партнер. Эх, Павлика бы сюда! Уж вдвоем-то они!… Драку бы показали. Чем не номер? Тот же акробатический этюд. Пожонглировали бы. Булав нету - яблоки в ход пошли бы, картошка. Однажды на праздничном вечере они показывали пародию на жонглеров. Всем очень понравилось, все смеялись. А между прочим, артистов рассмешить куда труднее, чем публику. Тогда мама и костюмы придумала. У Павлика по ходу номера все время падали брюки. Он должен был успеть и яблоко поймать и брюки подтянуть. В конце концов, чтобы освободить руки, он засовывал яблоко в рот. Подтянет брюки - и снова жонглирует. А яблоко все откусывает и откусывает и наконец съедает. Очень все смеялись! Эх, Павлика бы сюда! А Флич!Петр вспомнил вечер в школе, последний вечер перед войной… Нет, не сможет он так. Ни как Флич, ни как Мимоза, ни даже как он сам с Павликом. Все только поначалу казалось простым. И все же он должен что-то придумать, что-то показать, как-то развлечь детей. Они ведь и в самом деле разучились смеяться!… Петр вспомнил, как Мимоза лез за подвешенной на лонже трубой. А что, если использовать для балансировки колобашки? Они ж круглые! Он отобрал несколько колобашек. Первую, потолще, поставил на попа, вторую положил на ее торец так, чтобы она свободно каталась. Третью на вторую, но тоже торцом. Попробовал взобраться на это шаткое сооружение. Оно тотчас рассыпалось. Ничего удивительного - сырые, тяжелые колобашки не легкие бочонки из алюминия. Да и тренироваться надо. А времени нет. Петру показалось, что он не один здесь, а кто-то смотрит на него, следит за ним внимательно. Ощущение было таким четким, что Петр огляделся. Неподалеку к стене прислонился парнишка в голубой рубашке и коротких, чуть ниже колен, брюках. Голова стрижена наголо, на худом лице голодные глаза. – Ты чего? - спросил Петр. Парнишка не ответил, только смотрел не отрываясь. – Иди в свой барак. Сейчас обед. – Ты верно не Пауль? - спросил неожиданно парнишка по-немецки. Петр пригляделся. – Никак Курт Вайсман? – Я-то Вайсман. А ты кто? Петр засмеялся. – Слушай. Мне с тобой разговаривать подполковник не разрешил. Где ты такие штаны достал? Вайсман неопределенно махнул рукой. – А там еще есть или все разобрали? – Есть, наверно. Значит, ты не Пауль? – Сколько раз тебе повторять? Я - Петр Лужин. Из-за тебя я от своего полка отстану. – Извини. Я был уверен, что ты Пауль Копф и пробрался в Красную Армию, чтобы шпионить. – Пауль тоже не шпион. И настоящая его фамилия Лужин. И если бы он сейчас услышал, что ты про него несешь, он бы тебе почистил физиономию! Слушай, Вайсман, ты давно в лагере? – В этом недавно. Нас перевели. Здесь у нас брали кровь, - он протянул руки, показав внутренние стороны локтей. На них были иссиня-бурые пятна. - Они предпочитали немецкую кровь, но брали у всех. – А Пауля ты давно видел? Вайсман махнул рукой: – Давно! – Может, он тоже в лагере каком-нибудь? Вайсман пожал плечами: – Не думаю. Доктор Доппель ведь не отказывался идти на фронт, как мой отец. У доктора Доппеля золотой значок "наци". – Видел, - нахмурился Петр. – Где? - насторожился Вайсман. – Еще в Гронске, Доппель увез Павла в Германию, а я остался с мамой. – Ты говоришь по-немецки не хуже Пауля. – Вместе учились. Значит, ты ничего про него не знаешь? – Нет. Меня забрали. Я попал в лагерь. И больше никого из ребят не видел. – Жаль. А я-то рассчитывал хоть что-нибудь узнать от тебя. Ладно. Иди в барак. Обед. Да и не разрешил подполковник мне с тобой разговаривать. – Я обедал. Меня к тебе господин офицер послал. Помогать. – Ты что же, в цирке работал? – Почему в цирке? - удивился Вайсман. – А как же ты мне будешь помогать? Я ведь артист цирка. Готовлюсь к выступлению. Глаза Вайсмана округлились, и Петр впервые приметил в них детское любопытство. – И Пауль был артистом? – Еще каким! - воскликнул Петр и приврал: - Его имя на афишах печаталось вот такими буквами. – А мы ничего в школе не знали. Мальчик как мальчик, немножко нелюдимый. Друзей не заводил. Мы думали, гордится доктором Доппелем и своей мамочкой. Мама-то богатая. Владелица гостиницы! – Длинная история, - сказал Петр. - А дружить он с вами ни с кем не хотел. И что советский - скрывал. И что артист цирка - скрывал. Вы бы его давно замучили!… Вайсман нахмурился и отвернулся. – Извини, - сказал Петр, - Я тебя не имел в виду. Раз ты в лагерь попал, значит, антифашист. Ладно. Садись и сиди. Может, и понадобишься. Вайсман сел на чурку, а Петр прислонился к стене, достал из кармана медную трехкопеечную монету и стал гонять ее по тыльной стороне ладони, обдумывая, что же все-таки он сможет показать детишкам. Вайсман с любопытством следил за движением монеты, потом сказал: – Этот фокус я видел несколько раз. – Пауль показывал? - улыбнулся Петр. – Нет. Здесь, в лагере, один дедушка приходил к нам в барак по вечерам. Положит монету, побольше этой, на ладонь, а она, как живая, ходит и между пальцами и на другую сторону руки. У Петра перехватило дыхание. – А что… Что он еще делал… дедушка этот?… – Деньги из воздуха ловил, бросал в кружку… Динь… Динь… - Вайсман показал, как он это делал, и улыбнулся. - Потом перевернет кружку, а там - пусто. Шарик исчезал и появлялся то из носа у кого-нибудь, то из уха. Еще листок бумаги рвал на части, а он целым оказывался. – А как… как звали старика? – Не знаю. Дедушка и дедушка. Мы его дедушкой звали. – Флич? Фличевский? - требовательно спросил Петр. – Не знаю. Тут в лагере не по именам, по номерам. – В черном фраке, с белой манишкой? – Да ты что?… Полосатый он был, как все. И на кармане номер. – Ну а лицо у него какое? Волосы черные? – Седой. – А нос с горбинкой? Вайсман пожал плечами. – Экой ты бестолковый, Вайсман! Носа у человека разглядеть не можешь! – Чего ты кричишь? - с обидой спросил Вайсман. – Да не кричу я. Может, это Флич был, понимаешь? Флич! – Ну и что? – Флич!… Слушай, а куда тот дедушка делся? Вайсман снова пожал плечами: – Наверно, куда все. В крематории сожгли. – Он же живой был! – Старый. Старых быстро сжигали. – Когда ты его видел в последний раз? Вайсман подумал: – Снег уже вроде стаял. Надежда затеплилась в душе Петра. А может быть, Флич здесь, в лагере? Лагерь-то большой. Могли и не встретиться. Или он больной лежит в каком-нибудь бараке. – Вайсман, идем! – Куда? Петр не ответил. Зашагал к штабу. Лейтенант хотел отругать Петра за то, что тот не занимается порученным делом, но Петр выкрутился, заявил, что он разыскивает фокусника как раз для выполнения задания. Лейтенант пошел в канцелярию искать Фличевского или Флича в уточненных списках, а Петр и Вайсман стали ждать возле штаба. Вайсман по дороге узнал кое-что о Фличе от Петра и сейчас вопросов не задавал, понимая, как Петр волнуется. Они отошли под единственное дерево в лагере - большой ветвистый дуб со стволом чуть не в два обхвата с такой густой листвой, что сквозь нее не пробивалось солнце и тень под дубом была сплошной и прохладной. – Сюда иногда выносили складной столик, и комендант пил чай из русского самовара, - сказал Вайсман. - Не дай бог, в это время попасться ему на глаза. Поморщится, рукой махнет - и все. Даже охранники обходили этот дуб подальше. – За все заплатит, - сквозь зубы процедил Петр. В дверях штаба показался лейтенант, парнишки, не сговариваясь, шагнули ему навстречу. – Среди живых по уточненным спискам ни Флич, ни Фличевский не числится. – А среди мертвых? - тихо спросил Петр. – Этого никто вам не скажет, пока не разберут архив. Да и весь ли он? Может быть, уничтожали людей, уничтожали и документы. Без следа. Фашисты!… – Понимаю. – И давайте, Лужин, заниматься делом. Помощника вам дали, если еще что надо - говорите. – Костюм бы какой. – Вайсман здесь все знает. Он вас отведет на склад. В случае чего, ссылайтесь на меня. – Ясно. Разрешите идти, товарищ лейтенант? – Идите. И завтра вечером представление в бараке. Тут у нас еще медсестричка есть поющая. Музыку добываем. Петр велел Вайсману вести его на вещевой склад, не совсем представляя себе, что это такое. Очевидно, обмундирование немецкое, так оно ему ни к чему. Хотя вот Вайсман оделся в цивильные штаны. Петр молча покосился на Вайсмана. А Вайсману не хотелось идти на склад. Тогда он схватил короткие штаны, первую попавшуюся рубаху и убежал. И долго не мог надеть вещи. Хоть оставайся в полосатой куртке! И еще Вайсману казалось, что он уже видел и эти штаны, и эту рубаху на ком-то. Только не помнит, на ком. Видел. Будь он проклят этот лагерь! – Пришли, - сердито сказал Вайсман, останавливаясь возле стандартного барака. – Идем. – Иди, я подожду. Петр удивленно пожал плечами и открыл дверь. Пахнуло карболкой, потом, гарью - привычный, свойственный лагерному бараку запах. И к нему примешивался какой-то необычный, но тоже знакомый. Что-то пахло вот так же дома. Зимние вещи. Нафталин. Причем здесь? Ах да, склад вещевой… – Вам что, товарищ боец? Заблудились? В полумраке Петр разглядел незнакомого старшину, тускло сверкнули медали на гимнастерке. – Я по приказанию коменданта лагеря. Мне надо одежду подобрать для выступления. – Выступления? - не понял старшина. – Да. Детишек приказали развлекать. Артист я цирковой. – Понял. Пойдем. Старшина зажег довольно яркий фонарь и двинулся по длинному до самого конца барака коридору. – Я еще сам плохо ориентируюсь. Завтра комиссия придет считать. - Он открыл одну из дверей. - Что здесь? Детская обувь. – Что? – Обувь, говорю, детская. Ботиночки, туфельки. Каждая пара заприходована. Старшина поднял фонарь над головой, и Петр увидел: все помещение почти до потолка набито старой детской обувью - тысячи, десятки тысяч маленьких туфелек и ботиночек! Десятки тысяч! Старшина закрыл дверь. – Идем дальше. Здесь, вроде. - Он открыл еще одну дверь. - Нет. Тут женские волосы. Только сейчас Петр понял, что и туфельки, и ботиночки, и волосы принадлежали казненным. Тем, которых сожгли в крематории. Фонарь в руках старшины потемнел. – Кажется, здесь. Точно здесь, - произнес старшина. – Не надо! - крикнул Петр. - Не надо. Обойдусь. Придумаю что-нибудь. Сошью!… – Как знаешь, - устало откликнулся старшина. - Я тут неделю уж, а привыкнуть не могу. Весь ихний рейх надо каленым железом. И чтоб без следа. В пепел. – Простите, товарищ старшина. Потревожил зря. – Чего там. - Старшина сел на табурет возле маленького столика и слился с деревянной стеной. Вайсман старался не смотреть на появившегося из двери Петра, чтобы не видеть на белом лице потемневшие, неподвижные бешеные глаза. А Петр не заметил Вайсмана, он просто забыл о нем. Он шел по лагерю все ускоряя шаги, не видя ни бараков, ни встречных людей, ни белесого неба. Ему уступали дорогу, удивленно смотрели вслед. За ним тенью почти бежал Вайсман. Он не понимал, куда стремительно спешит этот странный Петр, так похожий на Пауля, и не задумывался над этим. Он просто бежал следом, словно привязанный к Петру невидимой, но прочной нитью. Что Петр не Пауль, это он понял и даже обрадовался, что ладный паренек в красноармейской форме никакой не шпион, а самый настоящий красноармеец, один из их спасителей, свалившихся с неба прямо на краснозвездных танках. А вот Что Пауль такой же!… Нет, вдруг не поверишь!… Он вспоминал Пауля таким, каким видел его в школе. Обыкновенный немец из благополучной семьи. Так же, как все, кричал "хайль!", так же тянулся перед одноруким инструктором Вернером. Артист цирка? Акробат? Гм Что-то на уроках гимнастики незаметно было. А разве заметно было что он русский? Русский! Узнали бы тогда… Да Вернер расшиб бы ему голову протезом! Столько времени и так притворяться? Не Копф, а Лужин? Нет, к этому надо еще привыкнуть. Петр не вошел, а ворвался в штаб, чуть не сбив с ног незнакомого майора с перекошенным шрамом лицом, который в это мгновение спускался со второго этажа. – Извините! - крикнул Петр и устремился наверх. Майор сдвинул светлые брови и замер, закрыв глаза. Потом тряхнул головой и засмеялся. Вайсман, оставшийся внизу, смотрел на майора удивленно и восторженно. У майора на гимнастерке над орденами и медалями сверкала Золотая Звезда. Точно такая же была у веселого генерала, который приходил к ним в барак. Хорошо, что майор засмеялся, а то попало бы Петеру. Чуть с ног не сшиб! Горячий парень Петер. Вон как взорвался! Словно в него бес вселился. А он, Вайсман, видать, зачерствел, привык, что каждый день сжигают и маленьких и больших? Не-ет! Он ведь тоже на этом "складе" схватил первую попавшуюся одежду… Майор обратился к Вайсману, спросил что-то по-русски. Вайсман не понял, только вытянул руки по швам, чуть отставив локти, как их учили в школе. Майор снова засмеялся, махнул рукой и поднялся обратно на второй этаж. Дверь в кабинет подполковника Боровского была открыта, и взволнованный срывающийся голос почти выкрикивал: – Отдайте мой автомат!… Я должен в свою роту. Меня сержант Яковлев ждет. Гвардии сержант!… Я в армию пошел не дрова колоть, а фашистов бить!… - Голос на какое-то мгновение умолк, а потом произнес потише с хрипом, словно ком застрял в горле и мешал: - Вы детские ботиночки видели, товарищ подполковник? Туфельки вот такусенькие?… Отпустите меня, товарищ подполковник. Не могу я дрова, когда… Голос перешел почти на шепот, и майору показалось, что говоривший всхлипнул. Он заглянул в открытую дверь. Подполковник Боровский сидел за столом, положив руки на столешницу. Пальцы сжаты в кулаки, словно подполковник старается зажать в кулаках что-то, что сидит в нем самом, внутри, зажать, не дать выплеснуться наружу. Поэтому и взгляд воспаленных глаз такой напряженный. А спиной к двери стоит боец, гимнастерка топорщится на спине. Из широковатых кирзовых голенищ торчат тонкие ноги. Сквозь загар на шее проступает злость, от волнения. Майор не видит лица, но так четко представляет себе его - чуть вздернутый нос, светлые материнские глаза, мальчишеские припухшие губы, - так четко, что сжимается сердце и предательски начинает щекотать в носу. – Рядовой Лужин, - строго сказал Боровский, - прекратите истерику. Думаете, мне не хочется взять автомат и бить их?… А вот сижу здесь и разбираюсь. Приказ. – А мне гвардии сержант Яковлев приказал догонять роту, - упрямо возразил Петр. – Гауптвахта по вас плачет, Лужин. Просто рыдает. Вот, товарищ майор… - Лицо подполковника внезапно засветилось улыбкой. - Вот красноармеец, которого я имел в виду. Ваш? – Мой, - майор с трудом разлепил внезапно пересохшие губы. Петр недоуменно смотрел на майора с розовым шрамом на правой щеке, на светлые глаза… Глаза… Глаза… – Что, Петушок?… Изменился сильно?… "Петушок"… Внезапно Петр увидел себя и брата маленькими на пестром коврике. Они вцепились друг в друга, сопят и стараются повалить один другого. А папа присел на корточки, смеется. "Нет, мать, v нас не мальчишки, а Петушок да Павлин!…" Петр глядел на майора, и недоумение в его взгляде сменилось удивлением, кровь отхлынула от щек. Он понял, что перед ним отец, но еще не верил, не верил. – Папа, - сказал он так тихо, что никто, кроме майора, не мог его услышать. - Папа…
6
Поезд уходил в первом часу ночи, но Гертруда Иоганновна приехала на вокзал часов в девять, нашла в переполненном зале ожидания освободившийся угол скамейки, присела, положив на колени маленький чемоданчик, с такими ходят спортсмены на тренировки, придерживая крышку указательным пальцем, чтобы не открылась. Кругом сидели пассажиры с чемоданами, баулами, мешками, корзинами, узлами. Они с подозрением косились на худенькую женщину с легкой сединой в светлых волосах, с хмурым отчужденным взглядом больших серых глаз. Такой взгляд отбивает охоту перекинуться словом-другим. Да и одета женщина странно, грубые солдатские сапоги и видавший виды ватник никак не строятся с ярко-голубой тяжелого шелка юбкой. Впрочем, все за войну пообтрепались. Да и вещичек у нее - кроха чемоданчик. Несолидно. А если бы знали, что в чемоданчике всего-то пара белья, штопаные чулки да красная коробочка с орденами!… Никто не провожал Гертруду Иоганновну. Кто ж ее провожать будет, если она в Москве одна-одинешенька? И никто не встретит ее в Гронске. Кто ж ее будет встречать, если никто не ждет? Вот и притащилась она на вокзал пораньше, деваться-то некуда! День выдался суматошным. Решение ехать в Гронск пришло внезапно. То ли озарение, то ли затмение. Верно, назревало оно подспудно, толкала к нему теперешняя ее жизнь. Словно бы не нужна никому. Там, в Гронске, в период оккупации было трудно, ох как трудно! Вспоминаешь - и не веришь! Сама не веришь. А рассказать кому!… Ведь в обнимку со смертью жила. Одно слово неосторожное, неверный шаг - и конец! Но жила!… А теперь? Месяц на работу оформляли. Ей бы тогда и насторожиться! Месяц приходила изо дня в день в отдел кадров к полной женщине, чью фамилию никак не могла вспомнить. Встречала холодный взгляд за толстыми стеклами очков. "Завтра, милочка. Все не так просто. У нас, между прочим, и фронтовые бригады формируются". Ждала терпеливо. Кончились продуктовые карточки, полученные в штабе партизанского движения. Стукнуть бы кулаком по столу! А может, и верно все не так просто? Проверяют. Проверят - и образуется. В коридоре Управления цирками полно народу, приезжают, уезжают, стоят в очередях в кассу, бегают из кабинета в кабинет с бумагами, собираются группками, галдят, целуются встречаясь, целуются прощаясь. Расступаются перед именитыми, пропускают без очереди: имя! Знакомых лиц почти нету. А и встретишь - здравствуй и прощай. Смотрят удивленно. Словно она с неба свалилась. И не расскажешь - где была три года, что делала. Да и рассказывать не хочется, чтобы не насторожить немецким своим акцентом. Надо было, когда в отдел кадров шла, ордена надеть. Постеснялась. Неловко как-то напоказ, вот, мол, глядите, какая я! Однажды в коридоре она натолкнулась на своего директора, Григория Евсеевича Лесных. Так внезапно и неожиданно, что оба остановились. – Гертруда! Живая! - наконец воскликнул директор, обнял ее и ткнулся холодным носом в щеку. - Гертруда! Ах, как же это хорошо! И мальчики здесь? Ей так давно никто не радовался, что горло перехватил спазм, и она прикусила губу, чтобы не разреветься. Она смотрела сквозь слезы на осунувшееся, серое лицо Григория Евсеевича и только кивала. – Что, шибко переменился? Никогда толстым не был. Замотался. А ты поседела, что ли? - Он отстранился и внимательно оглядел ее. - Ну чистый мальчишка! А где Петр и Павел - день убавил?… Давно в Москве?… Пойдешь в мою фронтовую бригаду. И слушать не хочу!… Ты и мальчики - конный номер. Правда, перевозить лошадей сложно… А! Что-нибудь придумаем!… Не боги горшки!… Есть кураж?… Слушай, - Григорий Евсеевич отошел на шаг и оглядел ее всю сразу, как бы оценивая, - ты почему в военном? Гертруда Иоганновна улыбнулась: – А нет ничего другого… – Это в каком смысле? – Нету… – Дела-а… Ничего. Пошьем. Лесных не откажут! - Он подмигнул. - Такой номер сделаем! – Григорий Евсеевиш, нету малтшиков в Москве… Я одна… – Нету?… А где ж они? – Петя не знаю. А Павлик… Это ошень долго… - Она покосилась на снующих кругом. Григорий Евсеевич взял ее за руку и потянул за собой. – Идем. Идем, идем!… Кто-то окликнул его. Он обернулся. – Занят. Прости. Завтра. Все дела завтра. Он вывел Гертруду Иоганновну на улицу, спросил: – Обедала?… - И не дожидаясь ответа, сказал: - Идем. Тут за углом такая столовка! Гертруда Иоганновна решительно остановилась, отвела взгляд на стену противоположного дома, будто там бог знает как интересно. Обронила тихо: – У меня нет картошек. – Как это нет? – Отдел кадров оформляет… – Черт с ним, с отделом кадров! - воскликнул Григорий Евсеевич. - Столовка без карточек. Идем. Он привел ее в маленькую учрежденческую столовую, она не обратила внимания на название учреждения. Повесил свой плащ и ее ватник вешалку. Усадил за маленький, покрытый несвежей скатертью столик. – Посиди, я сейчас. Гертруда Иоганновна следила за ним взглядом, как он торопливо пересекает зальчик, подходит к официантке, что-то говорит улыбаясь. И уходит вслед за ней в дверь, ведущую, очевидно, на кухню. И вдруг ей показалось, что она уже была в этой столовой, давным-давно. И так же торопливо шел Григорий Евсеевич к той же официантке и говорил ей что-то. А рядом сидели Иван и мальчики. Мальчики под столом тихонько пинали друг друга, а лица у них были благодушно-каменные, словно ничего не происходит под столом, а сидят они чинно-благородно. Такие условия игры. Сердце превращается в крохотный комочек, вытолкнув всю кровь, и кровь приливает к щекам, к горлу, она чувствует ее жар. Трудно дышать. А сердце словно окаменело, остановилось. Последнее время у нее бывают эти странные приступы. Надо посидеть тихонько, расслабившись. Оно пойдет, сердце, пойдет… Вернулся Григорий Евсеевич. Лицо у него было такое, словно он дрался там, на кухне, и победил. Следом шла официантка с подносом, на котором стояли тарелки. Гертруда Иоганновна ела старательно и неторопливо. Григорий Евсеевич хлебал суп быстро, словно боялся не успеть опорожнить тарелку. Да еще рассказывал какие-то истории, которые случались с цирковой бригадой на фронте. Гертруда Иоганновна почти не слышала, он понимал, что она не слушает, думает о чем-то своем, и все говорил, говорил, стараясь бессознательно отвлечь ее от ее мыслей, понимал, что они мало радостные. Ей было неловко, что она не слушает директора, но ничего Гертруда Иоганновна поделать с собой не могла. Слово "фронт" сразу вызывало в памяти уход Ивана, его глаза, теплые, такие родные губы… Она пережила его смерть и его воскресение, ни разу так и не повидав мужа, даже не зная, где он, что с ним. А теперь еще и Петя на фронте. А за линией фронта, где-то там, в Германии, Павел. И ничего-то, ничегошеньки она не знает ни о ком. Она оторвана от них, и нет, наверное, ничего горше этой пустоты вокруг. Даже в Гронске, в фашистском замкнутом круге, который все сужался и сужался, как петля, накинутая на шею, ей не было так одиноко, так худо. После обеда она почувствовала предательскую слабость: отвыкла за эти дни от сытной еды. Когда вышли из столовой на шумную залитую мартовским солнцем улицу, она внезапно остановилась и глубоко вздохнула. – Ты что, Гертруда? – Нишего, Евсеевиш… Пройдет… Устала… – Пойдем-ка, посидим в скверике. Не замерзнем на солнышке? Она слабо улыбнулась в ответ. Сквер был пуст, только в глубине, на скамейке сидела старушка закутанная в серый платок, да рядом играл ребенок. Скреб деревянной лопаткой серый снег. Они сели на скамейку под деревом, на котором каким-то чудом еще трепетались кое-где сухие коричневые листья. Некоторое время Гертруда Иоганновна наблюдала за неуверенными движениями малыша. – Ну, давай рассказывай, где мальчики, что делала? Последний раз я видел Павлика и Петю, когда они сбежали с дороги в Гронск. Тебя выручать. А за ними ушел Жак Флич. Она кивнула. Флич… Флича увезли в какой-то лагерь, и она ничего не смогла сделать. Вокруг нее уже стягивалась петля. И она начала рассказывать. Первый раз в жизни она как бы видела себя со стороны, осмысливала и оценивала поступки свои, мысли, переживания. Даже представить себе не могла, что вот так просто, в скверике, под шуршание шин и автомобильные гудки она сможет найти слова, чтобы рассказать о сокровенном, не переживая его заново, а отстраненно, как бы не о себе рассказывала. А Григорий Евсеевич слушал и ужасался, и слезы текли по его щекам, когда поведала она о гибели клоуна Мимозы, дяди Миши, и о том, как Доппель увез Павла, и вместе с Гертрудой пережил он мнимую гибель Ивана. Добрая душа директора отзывалась на каждое ее слово, хотя рассказывала она медленно, с трудом подбирая русские слова, как бывало всегда, когда она волновалась. Почернело небо, и на улице зажглись фонари, потянул холодный ветер, а Гертруда Иоганновна все вспоминала и вспоминала. Через два дня был подписан приказ о зачислении артистки Лужиной Гертруды Иоганновны на работу. Ей выдали продуктовые карточки и предоставили место в общежитии. Она понимала, что не обошлось без вмешательства Григория Евсеевича, и в душе была ему благодарна. Она бы сказала об этом, но Григорий Евсеевич уехал со своей бригадой в очередную поездку. Она понимала, что он взял бы и ее, если бы у нее был номер. Но увы, номера не было. Лошадей, Мальву и Дублона, передали какому-то ведомству, искать их было бесполезно, за три года вряд ли лошади сохранили цирковые навыки. Надо было брать новых лошадей и начинать все сначала - объездку, дрессировку… Ей одной не под силу. Да и не дадут лошадей, пока не вернутся с войны Иван и мальчики. Ах, скорей бы!… Считалось, что она на репетиционном периоде, но по сути она стала нахлебницей: получала зарплату, карточки, а ничего не делала. Попробовала было подыскать себе партнера или партнершу. Сделать партерный номер, ведь поначалу работали же они с Иваном акробатический этюд! И неплохо получалось. Впрочем, это было так давно, совсем в другой жизни. И тогда рядом был Иван, а с Иваном она могла работать хоть под куполом. Иван был надежен. Иван!… Свободных актеров немало слонялось в коридорах Управления. Не во-первых, не со всяким сможешь работать, а те, с которыми могла бы, относились к идее совместного номера более чем прохладно. Номер делать непросто, а вернется старый партнер - и все рухнет, тем более что у Гертруды не просто партнер, а муж. Да и как ее судьба сложится? Немка. В тюрьме сидела. Гертруда Иоганновна ощущала неприязнь к себе, холодность, ловила во взглядах любопытство, даже осуждение. Попытки сблизиться с двумя артистками, с которыми она жила в комнате общежития, как-то не удавались. Фразы повисали в воздухе. Ответы были односложными. Она замолчала, замкнулась, ложилась на койку и притворялась спящей или бродила по Москве, пока не замерзала. А по вечерам уходила на Красную площадь, глядела на всполохи салютов, жадно слушала сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего. И каждый салют для нее был салютом в честь Ивана, приветом от Ивана. И внезапно пришло решение - уехать в Гронск. Не задумываясь написала она заявление с просьбой предоставить ей отпуск за свой счет, в связи с тем что репетиционный период затянулся, так как ни партнеров, ни лошадей нет. И пошла с этим заявлением, написанным меленькими растрепанными буквами, в конце строчек сползающими вниз, к начальнику актерского отдела, с ужасом думая о том, что ей могут отказать. И тогда - тупик. По крайней мере ей так казалось в ту минуту. Она даже не подумала, что будет делать в Гронске? Просто потянуло в Гронск. Начальник актерского отдела прочел заявление, хмыкнул неопределенно, макнул перо в красивую чернильницу с бронзовым львом и размашисто написал наискосок в пустом углу: "Не возражаю". Буквы ровные, округлые, уверенные. Прижав заявление к груди, Гертруда Иоганновна поблагодарила. Начальник актерского отдела кивнул. Ему не до артистки Лужиной, в его руках огромная трудно управляемая масса цирковых артистов: больших и маленьких, которые шли гарниром к большим. Аттракционы: львы, собаки, медведи, лошади и еще невесть что - и куча отдельных номеров: групповых, парных, сольных; акробаты, гимнасты, каучук, жонглеры, антиподы, прыгуны, канатоходцы, эксцентрики, манипуляторы, иллюзионисты. Клоуны!… И всех их нужно собрать, объединить, оснастить, одеть… Пусть Лужина идет в отпуск, раз не работает… Увеличенные толстыми стеклами глаза начальницы отдела кадров смотрели с открытым ехидством: "Вот те на! Давно ли пороги обивала каждый день, и - в отпуск без содержания. На что жить будет? Надеть нечего!…" Впрочем, ничего вслух. Начальница быстро обменяла продуктовые и хлебные карточки на розовые "рейсовые", по которым можно было получить хлеб и продукты в любом городе. Выдала справку, что артистка Лужина находится в отпуску сроком… Тут она задумалась: "День? Неделя? Месяц?… А хоть навек!" И написала: "До вызова". Подумав: "Вряд ли вызовут!…" И вот Гертруда Иоганновна сидит в тесном, по-банному гудящем зале ожидания с чемоданчиком на коленях и терпеливо ждет, когда объявят посадку на поезд, идущий в Гронск. На душе у нее смутно. Последний раз она ехала в поезде с Иваном и детьми. В тот же Гронск. Только это было очень давно, в другой жизни, ставшей призрачной, как фотография, которую долго носили в кармане: лица не видишь - угадываешь. Когда наконец объявили посадку и многие, подхватив вещи, бросились в толкучку у выхода на перрон, она не шевельнулась, словно одеревенела от горьких мыслей и стертых видений. И лишь несколько минут спустя вздохнула прерывисто, встала и, внезапно ощутив непомерную усталость, по-старушечьи волоча ноги, побрела на платформу. Чуть ли не последней она протиснулась в свой вагон. Он был допотопным, средние полки смыкались, и на этих сплошных нарах, и на боковых лавках, и на третьем этаже под потолком копошились, устраиваясь, пассажиры, перекрикивались, ругались, искали вещи, в середине вагона надрывно кричал младенец. Гертруда Иоганновна стояла в проходе, прижимая к груди легкий чемоданчик. Вагон дернулся, за окнами поплыли назад синие огоньки перрона. – Поехали! - сказал кто-то удовлетворенно. Пассажиры улеглись и уселись где кто мог, притихли, а Гертруда Иоганновна все стояла, ощущая, как прижатый к груди чемоданчик обретает вес, становится тяжелее и тяжелее. Наконец она поставила его на попа и села. Ничего, что в вагоне темно и душно и пробирающиеся в тесноте пассажиры спотыкаются о ее ноги; куда ж их денешь? Главное, что она едет. В Гронск… Там, в Гронске… А что там?… Под утро поезд долго стоял в поле. Небо начало сереть, отделилось от черной земли, приподнялось, вычерчивая линию горизонта. Сквозь дрему Гертруде Иоганновне слышались храп, стоны, сонное бормотанье, какое-то неумолчное, едва приметное движение. Казалось, что вагон заполнен одним огромным, жарким сонным существом, которое никак не может улечься удобно. В дверях появилась проводница, влезла на край полки, потянулась руками вверх, открыла стекло фонаря, пальцами пригасила почти совсем оплывшую свечу. За окном прогрохотал встречный поезд. Проводница поманила пальцем Гертруду Иоганновну, та даже сразу не поняла, что это ее зовут. Потом поднялась со своего чемоданчика, шагнула через чьи-то вытянутые поперек прохода ноги. – Чемоданчик-то прихвати, уведут… Гертруда Иоганновна вернулась за чемоданом. Проводница провела ее в служебное купе. Там на верхней полке спала женщина с ребенком. – Ложись вот. - Проводница кивнула на нижнюю полку, застеленную серым одеялом. – А вы? – А мне уж недосуг… Да ты поспи, поспи, сидя-то и спину сломать можно. Ложись. Гертруда Иоганновна кивнула только, сняла ватник, легла, укрывшись им с головой, и провалилась в теплый, качающий сон. И спала без сновидений, даже не поворачиваясь на другой бок, пока не разбудила проводница. – Гронск, гражданочка.
7
Гертруда Иоганновна спустилась по решетчатым подножкам на платформу и остановилась. Кто-то из выходящих бесцеремонно толкнул в спину. Она отошла к разрушенной стене вокзала и неожиданно сквозь опаленную до черноты дыру в ней увидела привокзальную площадь, мощенную крупным булыжником. Ржавые рельсы. Сиротливо торчащие трамвайные столбы, растерянно раскинувшие железные руки без проводов. Рядом со старенькой, донельзя обшарпанной полуторкой запряженную в телегу лошадь с подвешенной к морде торбой. Деревянные облезлые дома, словно осевшие под тяжестью низкого хмурого неба. Суетливо расходились прибывшие пассажиры. Странно и жутко было видеть площадь сквозь изрешеченную дырами стену. Суета за спиной нарастала, новые пассажиры пробивались к вагонам, цеплялись за поручни, толкались, кричали. Потом лязгнули буфера вагонов, колеса медленно начали выстукивать на стыках свою привычную песню. А Гертруда Иоганновна ничего не слышала, словно уши забиты ватой. Она стояла у пролома в стене, обеими руками прижимая к груди чемоданчик, и завороженно глядела на площадь. И иные люди обступали ее. …Хлестал весенний дождь. Она держала за руки своих мальчиков, Петра и Павла. Смеялся Иван. Что-то говорил Флич, забавно вздергивая кустики бровей… Война разрубила жизнь на две неравные части, и та, довоенная, длинная и счастливая, стала казаться короткой, а короткая военная - бесконечно длинной, страшной и мучительной. Где Иван? Где мальчики? Зачем? Зачем она приехала в Гронск? Здесь их нет. Она посылала Петру письма на почтамт до востребования. И не получила ни одного ответа. Скорее всего, Петр ушел с армией на Запад. Павел в Германии. Если, конечно, жив… Если, конечно… Иван… Она уже хоронила его один раз, второго она не вынесет… Флич пропал где-то в лагерях… Зачем она приехала? Возник какой-то шаркающий звук, словно натирают пол. Он был навязчиво-непрерывным. Она даже оглянулась. Платформа пуста. На дальних путях товарные вагоны и цистерны недвижны. Возле свежесколоченного из белых досок домика с надписью: "Кассы" маячит дежурный по станции в красной фуражке, глядит в ее сторону. Откуда ж этот нарастающий непрерывный шаркающий звук? Внезапно сквозь пролом она увидела втекающую на площадь колонну немцев в перепачканных шинелях, с оружием. Она вздрогнула от неожиданности. Какая нелепость! А потом вгляделась и поняла, что у них не оружие, нет - лопаты и ломы. А рядом шагает красноармеец с винтовкой. Пленные. Гертруда Иоганновна вздохнула тяжело, будто эти серо-зеленые в колонне преследовали ее и ей только-только удалось скрыться. – Вам плохо? Она повернулась на голос. Рядом стоял дежурный в красной фуражке. Она и не заметила, как он подошел. – Нет-нет, спасибо… Гертруда Иоганновна кивнула дежурному и двинулась к выходу в город. Не стоять же век у черного пролома в вокзальной стене. Ну зачем? Зачем она приехала в Гронск? Она вышла на площадь. Хвост колонны пленных втягивался в улицу, ведущую к центру. Замыкал колонну еще один красноармеец с винтовкой. Гертруда Иоганновна поморщилась и побрела вслед за колонной. У нее не было ни определенной цели, ни какого-либо плана, ни каких-либо желаний. Только одно - двигаться. Шагать. Туда. В центр. К своему прошлому. Ей казалось, что у нее нет ни настоящего, ни будущего, только прошлое. Ноги болят, и дышать трудно. Может, она заболевает? Болезнь прокралась неприметно и вот грызет суставы и сердце. А может, это усталость? Как изменился город: полинял, обгорел. Проклятая война! Колонна пленных свернула в боковую улицу. Гертруда Иоганновна постояла немного на перекрестке, глядя ей вслед, и побрела к центру, обдумывая, с чего начать жизнь в Гронске. Но мысли все время перескакивали на детей. То мерещился Павел, окровавленный на каменном полу. Под доброй личиной доктора Доппеля - жестокое сердце фашиста. Чтобы подчинить мальчика, он не остановится ни перед чем. Он - порождение рейха! О! Они еще немало бед принесут, прежде чем им сломают хребет. Идея национальной исключительности порождает цинизм и вседозволенность. Это страшно, это очень страшно… То виделся ей огромный немецкий солдат с пустыми глазами под зеленой каской, с автоматом в волосатых с засученными рукавами руках. И дуло автомата направлено в грудь Петра. Сейчас он выстрелит, выстрелит… Иван! Где ты, Иван! Спаси, спаси сына!… Она брела по улицам, чемоданчик бился о ногу. Она старалась думать о собственном будущем, но не могла, не могла думать о себе. Потому что и Иван, и мальчики - это тоже она. Что-то остановило Гертруду Иоганновну. Она сразу не поняла, что, оторвала взгляд от щербатых плит панели и увидела потрепанный, изорванный купол шапито. Он стоял на своей площадке сиротливо и неприкаянно, открытый и солнцу, и ветрам, и дождям. Брезентовая крыша обветшала, осела, в брезентовых боках зияли дыры… И снова не хватило воздуха. Распахнуть бы ватник! Она даже расстегнула верхнюю пуговицу… Кто-то бесцеремонно схватил ее за рукав, и рядом раздался визгливый женский голос: – Ах, кого я вижу! Попалась, немецкая шкура! Гертруда Иоганновна вырвала рукав и отшатнулась. Перед ней стояла Олена, та самая, с которой она сидела в тесной камере еще до прихода в город фашистов. Тогда никто не знал, что сидела она по собственной воле, что она приняла предложение сесть в тюрьму, рассчитывая на то, что фашисты освободят ее и поверят ей. Ведь она была немкой, "соотечественницей"… – Что, узнавать не хочешь?… - Ярко накрашенные губы кривились в усмешке. - Как издевалась надо мной в тюрьме, забыла? Я напомню!… Возле начали останавливаться любопытствующие. Оскалясь, Олена ткнула Гертруду Иоганновну наманикюренным пальцем. – Хозяйка офицерской гостиницы фрау Копф! Глядите, люди добрые! Не успела удрать! Идем в милицию, я тебя сдам нашей Советской власти. Пускай тебя шлепнут, шкура немецкая! Она снова вцепилась в рукав ватника и потащила Гертруду Иоганновну под одобрительные возгласы добровольного конвоя из прохожих. Не каждый час доводится поймать шпионку! Гертруда Иоганновна шла покорно. Наверно, многое предстоит еще вытерпеть. Многое. Эта бешеная могла и убить. Так и ввалились в комнату дежурного галдящей, возбужденной толпой. За деревянным барьером стоял облезлый в чернильных пятнах письменный стол. А за ним сидел молоденький лейтенант в милицейской форме с золотой нашивкой за тяжелое ранение и с медалью "За отвагу". Строгое лицо его было в синих пороховых пятнах. Перед ним на столешнице рядом с бумагой и фарфоровой чернильницей-непроливашкой лежала фуражка. Он неторопливо надел ее, как бы подчеркивая, что он - лицо официальное. Постучал ладонью по столешнице. – Тихо, граждане! Кто-нибудь один. Все притихли и посмотрели на женщину с крашеными губами, все еще цепко державшую рукав ватника. Олена произнесла с наслаждением: – Шпионку поймали. Не успела удрать. Вот, фрау Копф, владелица гостиницы "Фатерлянд"… Шкура. – Та-ак… Все эту гражданку опознали? Какая-то тетка, укутанная в серый платок так, что один нос торчал, прошепелявила: – Лично-то я с ей не зналась. Но ежели шпиёнку ведут, чего ж не помочь? Дело обчее. – Ясно. А остальные? Все загалдели. Лейтенант поморщился, будто у него зуб заболел. – Тихо, граждане! Кто эту гражданку не опознает, можете быть свободными. Кто опознает - останьтесь. Не базар, понимаете. И все ушли, кроме Олены, все еще вцепившейся в рукав ватника, словно она боялась, что "фрау" уйдет вместе с остальными. – Та-ак… - Лейтенант почесал переносицу, обдумывая, с чего начать, внимательно оглядел Гертруду Иоганновну. - Что имеете в чемодане? Гертруда Иоганновна пожала плечами. – Алексеев, примите чемодан. Стоявший у двери милиционер подошел к Гертруде Иоганновне, мягко отобрал чемоданчик и, перегнувшись через барьер, поставил его на стол. Лейтенант кивнул, неторопливо подвинул к себе листок бумаги, взял тоненькую желтую ручку, макнул перышко в чернила, оглядел его внимательно, не пристало ли что, и перевел взгляд на Олену. – Фамилия? – Мое? – Ваша. – А я-то при чем, товарищ начальник? - нахмурилась Олена. - Ее допрашивайте. Она - шкура немецкая. – Допросим, - сказал лейтенант. - Но вы сделали заявление. Сделали?… Вот. И я должен его зафиксировать. – Зафиксировывай. Валяй. Фамилие мое Сивко Олена Тарасовна. – Где проживаете? Олена назвала адрес. – Что имеете заявить по существу дела? – Она вот, - Олена наконец отпустила рукав ватника и подчеркнуто брезгливо вытерла ладонь о пальто. На ней было новенькое серое пальто с подложенными плечами, застегнутое на три большие пуговицы. Все это Гертруда Иоганновна заметила, покосившись на свою бывшую соседку по камере. – Она вот, фрау Копф, владелица гостиницы "Фатерлянд". Для немецких офицеров. Подружка шефа СД, которого наши партизаны угробили, когда взорвали ее ресторан. Между прочим, ее еще наши посадили, когда война началась. Я с ней в одной камере сидела. – За что? – За ошибки молодости… - Олена посмотрела на потолок, будто там, на потолке, пыталась отыскать неуловимую тень своих ошибок, потом в упор глянула на Гертруду Иоганновну. - А таких, как эта фрау, шлепать надо. Да ее и шлепнули б, кабы гитлеры не пришли, не выпустили из тюрьмы. – Вы подтверждаете, что вы фрау Копф? - обратился лейтенант к Гертруде Иоганновне. Она кивнула. – Та-ак… "Копф" - по-русски "голова"? Она снова кивнула. И лейтенант кивнул, довольный своими познаниями немецкого языка, потом протянул бумагу Олене, макнул перо в чернильницу. – Подпишите. – Это можно. - Олена старательно вывела свою фамилию, повернулась к Гертруде Иоганновне и сказала со счастливой улыбкой: - Все. Шлепнут. На всю катушку. – Присядьте, - бесстрастно произнес лейтенант и взял чистый лист бумаги. - Теперь с вами. - Он подождал, пока Олена усядется на деревянную скамейку с натертой до блеска спинкой, и спросил: - Значит, ваша фамилия Копф? – Моя фамилия Лужина. – Как же? Вы только что подтвердили, что вы фрау Копф. – Во время оккупации. - Гертруда Иоганновна впервые употребила слово "оккупация", оно показалось ей чуждым, неопределенным, и она уточнила: - При немцах я действительно называлась, имела имя фрау Копф. Но настоящая фамилия моя Лужина. – Две фамилии, как у жуликов, - сказала Олена. – Что ж, так и запишем: Копф-Лужина. Имя, отчество? – Гертруда Иоганновна. – Национальность? – Немка. – Сознается, - снова вставила Олена. Лейтенант посмотрел на Гертруду Иоганновну с любопытством. Ему доводилось сталкиваться с немцами, стреляющими, бегущими, поднимающими руки. А вот разговаривать так не приходилось. Чего только не наглядишься в милиции! Он положил ладонь на чемоданчик. – Что в чемодане? – Вещи. – Алексеев. – Есть! - Милиционер подошел, повернул чемодан замком к себе. - Не запертый? – Осторожней. Может, там бомба, - сказала Олена. Гертруда Иоганновна усмехнулась. – Мошно открывать. Щелкнул замок. Алексеев аккуратно переложил из чемоданчика на стол белье, чулки, фотографии. – Кто на фото? - спросил лейтенант. – Муж и дети. – Вот, - сказал Алексеев, доставая из чемодана красную коробочку. Лейтенант открыл ее. Олена встала, потянулась посмотреть. – Однако, ордена и медаль, - сдержанно произнес милиционер. – Ваши? - спросил лейтенант. – Сперла где-нибудь, - позлорадствовала Олена. – Мои. – Имеются документы? Гертруда Иоганновна молча достала из-за пазухи завернутые в большой носовой платок паспорт и орденскую книжку, отдала лейтенанту. – Подделка, - убежденно сказала Олена. - И не такое подделывали. – Вы - мошет быть, - обронила Гертруда Иоганновна, не глядя на Олену. – Ну ты!… - угрожающе нахмурилась Олена. – Тихо! - сказал лейтенант. - Не базар. - И посмотрел на Гертруду Иоганновну с любопытством. - За что? – За гостиницу "Фатерлянд", товарищ лейтенант. Долго рассказывать. Лейтенант хотел было поправить ее, не "товарищ" лейтенант, а "гражданин" лейтенант, но ясный взглядсветлых, чуть воспаленных от усталости глаз и какая-то внутренняя уверенность, спокойствие задержанной остановили его. А у Гертруды Иоганновны, когда она произнесла вслух "за гостиницу "Фатерлянд", появилось ощущение, будто в комнату дежурного вошли ее товарищи, друзья, больше чем друзья: Флич, Федорович, Алексей Павлович, дети, фельдфебель Шанце… Ощущение было таким острым, четким, что она обернулась, чтобы разглядеть их. И неожиданно рассмеялась. Вероятно, в это мгновение она поняла, что в Гронск поехала не от московских неудач, сердце вело ее, сердце и память! Глупый она задавала себе вопрос: зачем? Если тебе нужны друзья, - значит, и ты нужна им. Лейтенант глядел на задержанную, с трудом подавляя ответную улыбку. Не хватает еще хихикать на дежурстве! Ты никому не имеешь права верить. Никому и ничему. Только установленным и проверенным фактам. Ни один преступивший закон не считает себя преступником. Его надо припереть фактами. Припереть к стене. Но что-то мешало лейтенанту, почему-то он склонен был задержанной верить. А это уже чувства, или, говоря по ученому, эмоции. Недопустимо! Поступило заявление. Вот. Он прижал подписанную гражданкой Сивко Оленой Тарасовной бумажку ладонью к столу, как бы нащупывая в той бумажке собственную пошатнувшуюся твердость. И в этот момент дверь резко растворилась и в ней появился милицейский подполковник в наглухо застегнутой шинели. Лейтенант торопливо встал. – Товарищ подполковник, за время моего дежурства особых происшествий не было. Задержаны три мешочника, карманник и вот гражданка по подозрению в шпионаже. Гертруда Иоганновна повернулась к вошедшему и ничуть не удивилась, узнав под милицейской фуражкой вечно желтоватое скуластое лицо заместителя командира партизанской бригады Ефима Карповича Мошкина. – Здравствуйте, Ефим Карповиш. Мошкин прищурился и стремительно шагнул к ней, протягивая обе руки. – Лужина!… Какими судьбами! Видение!… Они обнялись. На этот раз лейтенант не смог удержать губы, они растянулись в улыбке. Милиционер Алексеев стоял навытяжку спокойный и безучастный. Только в глазах светилось любопытство. – Вы ж в Москве остались!… – Приехала. – Похудели… Осунулись… - Мошкин отстранил Гертруду Иоганновну от себя и, чуть склонив голову набок, рассматривал ее уставшее лицо. Она засмеялась, махнула рукой: – Были б кости, мясо наживется. – И то верно. - Мошкин повернулся к лейтенанту, сдвигая свирепо брови. - Так это она, что ли, шпионка? – Так точно, товарищ подполковник. – Это Гертруда Иоганновна Лужина, подпольщица и партизанка, наш дорогой боевой товарищ. Лейтенант развел виновато руками: – Имеется заявление, товарищ подполковник. – Какое заявление? – Вот, гражданки… Но гражданки не было в комнате. Никто не заметил, как она исчезла. Лейтенант взял со стола бумажку: – Гражданки… Сивко Олены Тарасовны… – Выбрось… Или нет, попридержи, лейтенант. Может, случайность, а может, и нет. А Гертруду Иоганновну мы знаем как самих себя. - Он повернулся к ней. - Ну, пойдем ко мне, поговорим. – Пойдем. Только скажите, Ефим Карповиш, где Петр? На письма не отвешал… – Воюет. А точно где - не знаю. Пойдем, позвоним "дяде Васе". Вот обрадуется!
8
Вопрос с жильем решился сам собой. "Дяди Васи" - Порфирина - на месте не оказалось: колесил где-то по области. Мошкин предложил Гертруде Иоганновне пожить пока у него, предупредив, что будет тесновато. Гертруда Иоганновна поблагодарила, но отказалась. Она решила разыскать Злату, или Василия Долевича, или циркового сторожа Филимоныча, у которого квартировал Флич. Мошкин объяснил, что Злату можно найти в гостинице, где теперь госпиталь. Девушка работает там санитаркой. И Василь Долевич лежит там же. В день освобождения города он подорвал немецкий бронетранспортер на мосту и его сильно контузило. Светленькое серое небо висело над улицей, над домами со следами незаживших ожогов, с окнами, кое-где забитыми фанерой. Иные из домов огорожены заборами из свежих желтых досок, и за заборами этими подымаются стены с ярко-красными заплатами новеньких кирпичей, с еще незастекленными, некрашеными оконными переплетами. С крыш свешиваются блоки с перекинутыми толстыми веревками, и, подвязанные к ним, ползут вверх маленькие деревянные люльки с кирпичом, с цементом, с толстыми шпунтованными досками для пола… Город деловито зализывает раны, строится. На заборы наклеены самодельные афиши: "В кинотеатре "Родина" идет фильм "Актриса". Прохожих немного, а праздношатающихся и вовсе нет, все идут стремительно, с озабоченными лицами, значит, по делам. Гертруда Иоганновна включилась в уличный ритм, тоже пошла стремительно, упругим шагом, хотя спешить ей было некуда. Филимоныч живет в доме, где мастерская Захаренка, на четвертом этаже. Это она помнила, хотя никогда там не бывала. Она снова вышла к цирковой ограде. Ветер трепал рваный брезент, за куполом виднелись облупившиеся вагончики. Здесь ее схватила за рукав Олена… Гертруда Иоганновна поежилась, до того неприятным было воспоминание. А собственно, чего она ждала? Ведь для непосвященных она - фрау Копф, владелица немецкой гостиницы. Как к ней могут отнестись люди, которые ее ненавидели? Надо быть готовой ко всему. Противно, что именно Олена потащила ее в милицию. Именно Олена, которая сама услуживала оккупантам. Теперь, видимо, старается обелить себя. Все, кто услуживал, наверно, будут стараться обелить себя. Гертруда Иоганновна попыталась открыть калитку, она оказалась запертой изнутри на замок. Наверно, повесил его еще Филимоныч. А купол "сгорел" - солнце, дожди, ветер делали свое дело. Шутка ли - четыре года! И мачты, наверно, проржавели, и лебедка… Люди поизносились, что уж говорить о вещах… И снова кто-то тронул ее за рукав. Она резко отдернула руку. Рядом угрожающе зарычала собака. – Серый, стоять спокойно! - Парнишка в пальто с коротковатыми рукавами одной рукой натягивал поводок, а другой схватился за ошейник. Знакомый парнишка. - Здравствуйте, фрау Копф. - Парнишка улыбнулся. - То есть Гертруда Иоганновна. Не узнаете? Толик я, Глебов. – То-ольик! Здравствуй, Тольик! - Гертруда Иоганновна протянула руку, опасливо глядя на собаку. Толик пожал руку. – Это Серый. Мой. Он очень умный. А это Гертруда Иоганновна, Серый. Мама Петьки и Павлика. Я тебе о них рассказывал. Серый склонил голову набок и вывалил язык между клыками, как бы говоря: ну, раз такое дело, то, пожалуйста, разговаривайте, хлопайте друг друга по лапам. Хорошему человеку и я рад. – А Петя говорил, что вы в Москве. – Я только приехала. А где Петя? – В Красной Армии. А меня вот не взяли. А ведь мы из одного класса! - обиженно добавил Толик. – Нитшего. Возьмут. Ты - храбрый мальтшик. – А Киндер у деда. – Киндер?! - У Гертруды Иоганновны слезы навернулись на глаза и защекотало в носу. Киндер!… Как же она могла не вспомнить ни разу Киндера! Друга ее мальчиков, ее друга! - Киндер. У какого деда? - спросила она с внезапной хрипотцой в голосе. – У Пантелея Романовича, который самогон для вас гнал. Еще у него Петя и Павлик прятались. – Как же Киндер к нему попал? – Петя привел. Я хотел было у себя Киндера оставить. В Красную Армию с собакой нельзя. Не служебный он. Да Петя отвел его к деду. Они ж старые знакомые. Только плох дед стал, еле ходит. Я и карточки у него забрал. Все выкупаю. У деда сына фашисты сожгли вместе с детьми и с женой. Дед как узнал - почернел. С того дня и болеет. Гертруда Иоганновна кивнула печально. – Ты не можешь меня отвести к нему? – Идемте. Идем к деду, Серый. Присевшая у его ног собака поднялась и натянула поводок. Она знала, в какую сторону двигаться. Шли молча. Гертруда Иоганновна думала о своем, а Толик, понимая, что мысли ее чем-то заняты, не мешал. И только когда свернули вдоль речки, Гертруда Иоганновна остановилась внезапно. – Может, ему неприятно будет меня видеть? – Это почему ж? – Я немка. – Тю!… Вы ж не фашистка. Вы ж наша, своя… Едва Толик открыл калитку, как из сада вылетел серый комок, захлебываясь лаем, бросился к Гертруде Иоганновне, подпрыгнул, ткнул холодным мокрым носом в подбородок. Гертруда Иоганновна присела на корточки, обеими руками обхватила дрожащее собачье тело и заплакала. И в тон ей начал тоненько взвизгивать Киндер. Серый завертелся на месте, беспомощно глядя в глаза хозяина. Он не понимал: надо ли заступаться за своего маленького друга, или все в порядке и тот визжит от радости? На усыпанной пожелтевшими листьями дорожке показался Пантелей Романович. Он двигался медленно, опираясь на суковатый посох, дряблые веки почти совсем закрывали глаза на сморщенном темном лице. Длинно и тихо шаркали по земле блестящие калоши, натянутые на старые черные валенки. Тесемки с ушей кроличьей шапки свисали вниз и казались издали двумя тоненькими струйками воды.
 Увидев старика, Гертруда Иоганновна выпустила Киндера и распрямилась. Киндер метнулся к Пантелею Романовичу, радостно тявкнул несколько раз, бросился обратно к старой хозяйке и снова к Пантелею Романовичу.
– Ты, Толик? - тихо спросил Пантелей Романович, щурясь подслеповато.
– Я, деда. И еще вот Гертруда Иоганновна, мама Пети и Павлика.
– Вона, - так же тихо обронил Пантелей Романович. Он ничуть не удивился, что в саду вдруг появилась мать Павлика и Пети. Он давно уже потерял способность удивляться. Но веки его чуть приподнялись, и в блеклых глазах мелькнул интерес. - Стало, неподдельная Кине хозяйка. - И он вздохнул.
Гертруде Иоганновне показалось, что старик решил, будто она пришла забрать у него собаку, и поэтому вздыхает.
– Нет, нет, - сказала она торопливо. - Я не за собакой. Я за знакомством. Я столько слышала про вас от мальтшиков! Спасибо вам, Пантелей Романовиш, спасибо, - она прижала руки к груди, словно боялась, что сердце выскочит.
– Заходи в дом, - кивнул Пантелей Романович, и тесемки на ушанке дрогнули.
На кухне было просторно и тихо. Доски столешницы выскоблены добела, а пол, видно, давно не мыт. В углу возле двери лежал старенький половичок весь в собачьей шерсти. Киндерово место. Пахло яблоками.
– Сымай одежку. Тепло… - старик поднял с пола и поставил на стол корзинку. - Яблоки. Угощайся.
– Спасибо. - Гертруда Иоганновна стояла у двери недвижно, видела, как за стол садятся Петр и Павел, берут по яблоку. Ей казалось, что она даже слышит, как с хрустом вонзаются мальчишечьи зубы в сочную мякоть плодов. - Вот тут они и жили? - тихо спросила она.
Пантелей Романович внимательно рассматривал гостью. Рисковая женщина. Голову совала тигру в пасть. И мальчишек круто воспитала. Хорошие мальчишечки, очень их не хватает…
– Тут и жили, - тихо ответил старик и поманил Гертруду Иоганновну ладонью с негнущимися пальцами. Она прошла следом за стариком в комнату, где стояли два деревянных топчана, укрытых грубыми одеялами, самодельный стол и три табуретки. Над столом висели книжные полки с потрепанными, но аккуратно подклеенными книжками. А рядом с книжками в деревянных рамках стояли фотографии: три мальчика, один меньше другого, возле пальмы. Те же мальчики по отдельности.
– Сыны в малолетстве, - пояснил Пантелей Романович. - Этого, старшенького, сожгли вместе с семьей, с детями малыми…
Гертруда Иоганновна не могла отвести взгляда от фотографий. Она понимала старика и ничем, ничем не могла утешить его. Ей легче. Он знает, что его старший погиб, а у нее еще есть надежда. Есть надежда.
– Тут вот Петя, - Пантелей Романович показал на топчан, - а тут Павлик. Как же ты его в Германию отпустила? - Он не осуждал, не удивлялся, в вопросе прозвучали недоумение и растерянность. Она поняла, что старик немало размышлял над отъездом Павла и она должна казаться ему чудовищем.
Она присела на Павликов топчан, погладила шершавое одеяло. Выдавила с трудом только одно слово:
– Обстоятельства…
Губы не слушались, каменели, и горло перехватывало судорогой.
– Ну-ну, - произнес Пантелей Романович успокаивающе. - Тебе виднее. Значит, и верно надо было… - Он потер седую щетину на подбородке. Сказал неожиданно: - Ты б пожила у меня. Один. Просторно.
Гертруда Иоганновна вспомнила про брошенный у калитки чемоданчик - все ее пожитки. Прокашлялась.
– Тольик! Принеси мой багаж! Пожалуйста…
Ночью она долго не могла уснуть, вслушивалась в тишину. Ей мерещилось дыхание сыновей рядом, совсем рядом. Стоит только протянуть руку, и она поправит сползшее одеяло.
Сначала она легла на топчан Павлика, потом перебралась на Петин. Долго ворочалась, вздыхала, снова поднялась, придвинула Петин топчан к Павликову и легла сразу на оба. Спроси кто: зачем она это делает? Она бы не смогла ответить. Все совершалось как бы само собой, без ее участия.
Утром Пантелей Романович спросил:
– Вещи все тут?
– Все.
– А морозы ударят?
Она пожала плечами:
– Как это говорят: будет день, будет что кушать.
– Ну-ну…
Она помогла старику разжечь самовар, затопила печь на кухне, поставила воду в котлах.
Пантелей Романович ушел в сад. В окошко она видела, как бродит он меж деревьев, опираясь на посох, что-то собирает в кучу. Паданцы? Киндер потерся о ноги, она прогнала его за дверь, налила в ведро горячей воды, подоткнула подол шелкового платья повыше, чтобы не мешал, и принялась мыть на кухне пол.
Люди требовались везде. Каменщики, плотники, штукатуры, маляры, разнорабочие. Слесари-ремонтники, машинисты, путейцы на железную дорогу.
Требовались трамвайному парку, электростанции, деревообделочному заводу и тем предприятиям, что эвакуировались в начале войны, а теперь восстанавливались.
Но Гертруда Иоганновна не была ни строителем, ни электриком, пожалуй, даже в разнорабочие не годилась: ничего не умела. А артисты цирка нигде не требовались. Она перечитала десятки объявлений, обдумывая свое ближайшее будущее. Надо было что-то делать, работать. Идет война, кругом разруха, не хватает рабочих рук. Да и жить надо на что-то!
Увидев старика, Гертруда Иоганновна выпустила Киндера и распрямилась. Киндер метнулся к Пантелею Романовичу, радостно тявкнул несколько раз, бросился обратно к старой хозяйке и снова к Пантелею Романовичу.
– Ты, Толик? - тихо спросил Пантелей Романович, щурясь подслеповато.
– Я, деда. И еще вот Гертруда Иоганновна, мама Пети и Павлика.
– Вона, - так же тихо обронил Пантелей Романович. Он ничуть не удивился, что в саду вдруг появилась мать Павлика и Пети. Он давно уже потерял способность удивляться. Но веки его чуть приподнялись, и в блеклых глазах мелькнул интерес. - Стало, неподдельная Кине хозяйка. - И он вздохнул.
Гертруде Иоганновне показалось, что старик решил, будто она пришла забрать у него собаку, и поэтому вздыхает.
– Нет, нет, - сказала она торопливо. - Я не за собакой. Я за знакомством. Я столько слышала про вас от мальтшиков! Спасибо вам, Пантелей Романовиш, спасибо, - она прижала руки к груди, словно боялась, что сердце выскочит.
– Заходи в дом, - кивнул Пантелей Романович, и тесемки на ушанке дрогнули.
На кухне было просторно и тихо. Доски столешницы выскоблены добела, а пол, видно, давно не мыт. В углу возле двери лежал старенький половичок весь в собачьей шерсти. Киндерово место. Пахло яблоками.
– Сымай одежку. Тепло… - старик поднял с пола и поставил на стол корзинку. - Яблоки. Угощайся.
– Спасибо. - Гертруда Иоганновна стояла у двери недвижно, видела, как за стол садятся Петр и Павел, берут по яблоку. Ей казалось, что она даже слышит, как с хрустом вонзаются мальчишечьи зубы в сочную мякоть плодов. - Вот тут они и жили? - тихо спросила она.
Пантелей Романович внимательно рассматривал гостью. Рисковая женщина. Голову совала тигру в пасть. И мальчишек круто воспитала. Хорошие мальчишечки, очень их не хватает…
– Тут и жили, - тихо ответил старик и поманил Гертруду Иоганновну ладонью с негнущимися пальцами. Она прошла следом за стариком в комнату, где стояли два деревянных топчана, укрытых грубыми одеялами, самодельный стол и три табуретки. Над столом висели книжные полки с потрепанными, но аккуратно подклеенными книжками. А рядом с книжками в деревянных рамках стояли фотографии: три мальчика, один меньше другого, возле пальмы. Те же мальчики по отдельности.
– Сыны в малолетстве, - пояснил Пантелей Романович. - Этого, старшенького, сожгли вместе с семьей, с детями малыми…
Гертруда Иоганновна не могла отвести взгляда от фотографий. Она понимала старика и ничем, ничем не могла утешить его. Ей легче. Он знает, что его старший погиб, а у нее еще есть надежда. Есть надежда.
– Тут вот Петя, - Пантелей Романович показал на топчан, - а тут Павлик. Как же ты его в Германию отпустила? - Он не осуждал, не удивлялся, в вопросе прозвучали недоумение и растерянность. Она поняла, что старик немало размышлял над отъездом Павла и она должна казаться ему чудовищем.
Она присела на Павликов топчан, погладила шершавое одеяло. Выдавила с трудом только одно слово:
– Обстоятельства…
Губы не слушались, каменели, и горло перехватывало судорогой.
– Ну-ну, - произнес Пантелей Романович успокаивающе. - Тебе виднее. Значит, и верно надо было… - Он потер седую щетину на подбородке. Сказал неожиданно: - Ты б пожила у меня. Один. Просторно.
Гертруда Иоганновна вспомнила про брошенный у калитки чемоданчик - все ее пожитки. Прокашлялась.
– Тольик! Принеси мой багаж! Пожалуйста…
Ночью она долго не могла уснуть, вслушивалась в тишину. Ей мерещилось дыхание сыновей рядом, совсем рядом. Стоит только протянуть руку, и она поправит сползшее одеяло.
Сначала она легла на топчан Павлика, потом перебралась на Петин. Долго ворочалась, вздыхала, снова поднялась, придвинула Петин топчан к Павликову и легла сразу на оба. Спроси кто: зачем она это делает? Она бы не смогла ответить. Все совершалось как бы само собой, без ее участия.
Утром Пантелей Романович спросил:
– Вещи все тут?
– Все.
– А морозы ударят?
Она пожала плечами:
– Как это говорят: будет день, будет что кушать.
– Ну-ну…
Она помогла старику разжечь самовар, затопила печь на кухне, поставила воду в котлах.
Пантелей Романович ушел в сад. В окошко она видела, как бродит он меж деревьев, опираясь на посох, что-то собирает в кучу. Паданцы? Киндер потерся о ноги, она прогнала его за дверь, налила в ведро горячей воды, подоткнула подол шелкового платья повыше, чтобы не мешал, и принялась мыть на кухне пол.
Люди требовались везде. Каменщики, плотники, штукатуры, маляры, разнорабочие. Слесари-ремонтники, машинисты, путейцы на железную дорогу.
Требовались трамвайному парку, электростанции, деревообделочному заводу и тем предприятиям, что эвакуировались в начале войны, а теперь восстанавливались.
Но Гертруда Иоганновна не была ни строителем, ни электриком, пожалуй, даже в разнорабочие не годилась: ничего не умела. А артисты цирка нигде не требовались. Она перечитала десятки объявлений, обдумывая свое ближайшее будущее. Надо было что-то делать, работать. Идет война, кругом разруха, не хватает рабочих рук. Да и жить надо на что-то!
9
Третий час сидели они в комнатенке подполковника Боровского. Иван Александрович на письменном столе. Петр на стуле возле окна. Свет падал на лица обоих, и из-за странной, чуть скошенной улыбки, из-под розового шрама на правой щеке все явственнее проступало привычное лицо отца, и Петр радовался этому узнаванию. Даже погоны, даже звезда на гимнастерке начали казаться привычными, как привычными когда-то были белые сапожки и яркая куртка усыпанная блестками. Разве в одежде дело? Вот папа. Он живой. Его голос, теплые крепкие руки, и выражение лица быстро меняется, как когда-то. А к шраму надо просто привыкнуть, и словно нет его! Отца интересует все, каждая подробность их жизни. Как мама одевалась, что говорила, что делала? Как увез Павла Доппель? И кто он вообще такой, этот Доппель? Он расспрашивал о Фличе, о Мимозе, об эвакуации цирка. Сердился, когда узнал, что братья сбежали выручать маму, и смеялся, когда Петр рассказывал о ефрейторе Кляйнфингере. Подполковник Боровский куда-то исчез. Потом появился внезапно в сопровождении Вайсмана, у которого руки были заняты солдатскими котелками. В комнате запахло чуть пригоревшей кашей. – Проголодались, поди? - пробурчал подполковник. Иван Александрович засмеялся: – Совсем забыл! У меня ж в сумке сало и хлеб! – Папа, это Курт Вайсман, который учился с Павликом в Берлине. Он - антифашист. Хороший парень. Принял меня за немецкого шпиона! Вайсман глядел на офицера со шрамом на лице во все глаза. Петера долго не было, и он не уходил из нижнего коридора, ждал. Потом ушел подполковник, а Петера все не было. И Курт начал было волноваться, уж очень решительно шел сюда Петер, переругается со всем начальством, накажут. Главное, чтобы не увели Петера в подвал. Вайсман никак не мог привыкнуть к тому, что в подвале не пытают. Многое рассказывали про русских еще в школе! Потом снова появился подполковник и велел идти с ним. Вайсман повиновался. На кухне ему дали два котелка с кашей, и подполковник привел его обратно прямо на второй этаж. – Это мой отец, Курт! - сказал Петр по-немецки. – Отец? Ты нашел своего отца? Петр засмеялся: – Это он меня нашел. Вернее, товарищ подполковник нашел нас обоих. Вайсман быстро-быстро закивал, голова его на тощей шее дергалась, будто к ней привязали веревочку и кто-то энергично дергал за другой конец. – Ну, здравствуй, Вайсман! - Иван Александрович протянул руку. - Гутен таг, геноссе Вайсман. Курт сунул ему вялую ладошку. В глазах его были любопытство и испуг. А вдруг советский офицер со звездой на груди протянул руку не для того, чтобы поздороваться, а чтобы дать почувствовать свою силу. Вайсман даже вобрал голову в плечи, на всякий случай. Он понимал, что это глупо, что русский не станет драться. Но еще не привык. К тому, что тебя не станут бить, тоже надо привыкнуть. – Ну что, товарищ Лужин, заберете парня к себе в разведку? Губы Ивана Александровича чуть скривились в улыбке. – Похлопотать можно. – Не надо, папа, - сказал Петр. – Не понял. – Не надо. Меня в полку ждут. – Да ты представляешь, что такое дивизионная разведка? - нахмурился Иван Александрович. – А ты представляешь, что такое стрелковое отделение, где командиром гвардии сержант Яковлев? Он меня солдатскому делу учил. Он мне верит. А я - под папино крылышко? – Тяжелый у вас характер, рядовой Лужин. Я это при первом знакомстве заметил, - сказал Боровский. – Так точно, товарищ подполковник! - Лицо Петра окаменело и лишилось какого бы то ни было выражения. – По-моему, его еще не поздно пороть, - повернулся Боровский к Ивану Александровичу. – Поздно, - вздохнул Иван Александрович. - Жаль. Нашлись, чтобы снова потеряться. Вместе бы воевать веселее!… – Не потеряемся, - улыбнулся Петр. - Война-то одна! Иван Александрович, прощаясь, наказывал сыну зря под пули не лезть, храбрость по-пустому не показывать. Петр согласно кивал. Вайсман скромно стоял в сторонке и завидовал Петеру. Еще бы! Отец нашелся! А его отца увели гестаповцы за то, что он отказался возвращаться на фронт. А как возвращаться, когда он еле ходил с палкой? Живого места на нем не было. От всей роты один остался… Вряд ли отец жив. Гестапо не госпиталь для раненых. В лучшем случае отправили в лагерь. А разве раненый может выжить в таком аду? Он, Курт, здоровый, а если б не русские - гореть бы в крематории! Инструктор Вернер, потерявший руку и глаз под Москвой, во всех бедах рейха винил русских, и ненавидеть учил русских, и целиться в русских. Вот бы посмотреть на лицо Вернера, если бы ему тогда, в школе, кто-нибудь сказал, что отец Пауля Копфа - Герой Советского Союза!… Иван Александрович перелез через борт грузовика и - не забыл ведь - помахал Вайсману рукой, дружелюбно помахал. А мог бы приказать расстрелять. Ведь он, Курт Вайсман, сын солдата, который воевал против русских. Грузовик тронулся. Вайсман подошел к Петру, и они оба стали махать вслед, пока грузовик не растворился в дождевой пыли. – Вот так, господин Вайсман. Пойдем работать. Завтра представление. Вайсман совсем забыл, зачем его послали к Петеру Лужину. Надо немного, хоть как-то повеселить детей в бараке. До сих пор дети едят кашу со страхом. А вдруг она отравленная и после нее поведут в крематорий? А может быть, кормят, чтобы взять побольше крови? Ведь и у русских немало раненых. Им тоже нужна кровь. В бараке живет мохнатый страх. Кто-то из малышей рассказывал, что видел его ночью Открыл глаза, а ОН стоит, вернее, висит прямо над головой. Надо сразу закрыть глаза и сделать вид, что ты его не видишь. А глаз не закрыть. И от него, от страха, руки и ноги становятся каменными, а сердце маленьким-маленьким и уходит в пятку. Надо развеселить детишек. Если они засмеются, страх рассыплется в пыль. И сразу станет легче дышать, и сердце забьется ровно и звонко. – Они так напуганы, их ничем не рассмешишь! - сказал Вайсман неожиданно. Но Петр понял, о чем он. – Рассмешим. Конечно он не Мимоза. У Мимозы всегда все смеялись. Хотя он как бы и не смешил нарочно. И дело даже не в его костюме, не в туфлях с длинными носами и не в широченных брюках. И даже не в рыжем парике. Хотя и это, наверно, нужно. Внешность как бы говорила: вот видите, я не такой, как вы, поэтому со мной могут происходить невероятные события и я могу попадать в такие переплеты, какие вам и не приснятся! И он действительно попадал в переплеты, но вел себя при этом естественно. И в этом, вероятно, скрывался главный секрет клоуна. Петр вспоминал Мимозу на манеже, мысленно воскрешал каждое его движение, каждый жест. Вот он выходит со своим радостным "А вот и я!…" Таким бесхитростно радостным, что зрители сразу же проникаются к нему симпатией, понимают, что он нетерпеливо стремился именно к этому мгновению, мгновению встречи с ними. Он улыбается - и они отвечают улыбкой. И что бы ни делал Мимоза дальше - заиграет ли на трубе, проглотит ли свисток, или начнет ловить рукав собственного пиджака - все вызовет дружный смех. Надо с первого появления привлечь внимание ребятишек и непременно понравиться им. Как Мимоза, я не смогу. Нет ни клоунского костюма, ни опыта. Значит, нужно быть самим собой. Как говорил Мимоза: "Главное - не терять кураж!" Что он, Петр, умеет сам? Работать на лошади, но для этого нужна цирковая лошадь. Немного жонглировать. Булав нету, колец нету. Что же есть? Картошины. Яблоки… Руки работать не будут: давно не тренировался. Надо попробовать. Гонять монету по ладони… У дровяного сарая лошадь подбирала мягкими губами сено с земли. Она оторвалась от своего занятия, скосила грустный карий глаз на подошедших, вздохнула и снова принялась подбирать сено. – Вот что, Вайсман. Сбегай к лейтенанту, скажи, что я прошу несколько газет. Можно старых. Ну-ка скажи по-русски: товарищ лейтенант, Лужин просит газеты. – Товарыш лейтенант, Лушин… - Вайсман запнулся. – просит… – прозит… – газеты… – гасеты… – Повтори. Вайсман повторил всю фразу. – Хорошо. Иди. Вайсман заторопился, прошептывая про себя фразу, чтобы не забыть. А Петр положил монету в карман, подошел к лошади и похлопал ее по шее. Она ткнулась в него носом, совсем как Дублон.
10
Сквозь сон или забытье Василь услышал легкие шаги. Так ходит нянечка, стоптанные валенки делают шаги легкими. Он сам подшил к старым валенкам новые мягкие подошвы. Вырезал из голенищ, которые принесла в госпиталь Катерина. Тогда он еще видел. Нянечка пересекла палату, поскрипела чем-то возле окна, постучала, и в палату ворвался звонкий гомон. Он даже сразу не сообразил, что это весело чирикают воробьи, то ли ссорятся за окном, то ли поют. И запахло вдруг знакомо талым снегом, нагретой землей, влажными от росы деревьями. Хотя откуда взяться деревьям? Госпиталь-то в бывшей гостинице. Нету тут деревьев. А пахнет так, как в школьном саду пахло, когда еще яблони были целы. До немцев. Можно быть, человек помнит не только то, что видел или слышал, хранятся в мозгу и запахи и возникают при случае, вот как сейчас. Потому что возле гостиницы нет деревьев, а он чует их запах. Василь жадно втянул в себя воздуху сколько смог и блаженно задержал его в груди. Потом выдохнул шумно, спросил нестойким баском: – Что, весна? – Весна, - откликнулась нянечка. Голос ее тоже показался весенним, с потаенным звоном. Василь представил себе ее лицо, круглое, в морщинах, с маленьким носиком, воткнутым между линялых глаз, высоко над сухими, ввалившимися губами. – Откупорила вот. Ежели простынешь, мне главный врач по шеям намылит, - прошамкала Митрофановна весело. – Не простыну. У меня здоровья на весь отряд хватит. А может, и на бригаду. Как там Берлин, не взяли? – Возьмут. Куда он денется? – Это верно, Митрофановна, никуда не денется. – Твоя-то уж прибегала… - Василь слышал, как Митрофановна шлепала мокрой тряпкой по паркетному полу. - Я не пустила. – Как это? – Не пустила и все. Тебе чего доктор прописал? Покой. Вот и покойся. А какой с ей покой, ежели она рядом сидит и за ручку держит? Я ж видела!… – Ой, Митрофановна!… Старый человек, а без понятия! - засмеялся Василь. - Мне только и покою, когда она здесь. А как ее нет, так сразу думать начинаю, а вдруг она под лошадь попала или под машину? Или еще что с ней случилось? Василь протянул руку к тумбочке, провел по ней ладонью, нащупал конверт, взял его, достал из конверта фотографию. Повернул ее глянцевой стороной к себе. Митрофановне со стороны показалось, что Василь рассматривает фото. Это с глухой-то повязкой на глазах! Даже сердце захолонуло. – Слышь, парень… Придет она. Придет. Василь не откликнулся, держал фотографию глянцевой стороной к себе. Лицо на фотографии знакомо до самой малой малости, будто и в самом деле видишь его. Большие синие глаза смеются. На фото они серые, фото-то не цветное. А на самом деле такие синие, как небо при раннем восходе, когда солнце вот-вот появится из-за горизонта, его еще нет, только густая синева разливается по небу. Вот и Златины глаза - предвестники солнца. Брови над ними ломаными дужками. На висках тоненькие голубые жилочки, едва приметные, на фото их и нет, а на самом деле… И завитки у ушей. Когда-то Злата их мочила, чтобы не очень завивались. А они высохнут - еще круче завьются. На фото девушка улыбается. Замерла растянутая верхняя губа над рядком ровных белых зубов, а из-под нижней, чуть припухлой, второй рядок выглядывает. Эх! Разве ж она так улыбается на самом деле? Каждое мгновение улыбка другая, подрагивают губы, зубы блестят, а кончик носа весело вздергивается. Даже щеки едва уловимо меняют окраску - то розовеют, то молочно бледнеют… Век бы глядел не отрываясь! Василь улыбнулся то ли фотографии, то ли той Злате, которую видел своей памятью, а может, самому себе. Сказал громко: – Соседи! Как жизнь? Никто не ответил. – А? – На солнышке они греются во дворе. Даже тот, на костылях, побрел. – А я дрыхнул, - с сожалением произнес Василь. – И дрыхай себе… Болезнь проходит, пока спит человек. Василь засмеялся. И тотчас поморщился: смех или резкое движение вызывали тупую боль в сердцевине головы, за глазами. Расслабишься, замрешь, и боль постепенно растворяется, тает. Еще она тает от прикосновения Златиной ладони ко лбу. Митрофановна пошуршала еще немного и скрипнула дверью. Василь прислушался к воробьиному гомону, ощутил щеками прохладу, которой тянуло от окна, подвигал руками, словно делал зарядку, и натянул одеяло до подбородка. Еще и верно простудишься! А никак нельзя, никак нельзя простужаться. Он уже и вовсе поправился зимой, все осколки выковыряли, ходить стал, и даже на морозец его Злата выводила, закутанного в тяжелый тулуп. И вот на тебе - ослеп. С обеда шел по коридору и вдруг - темнота. Будто кто день выключил. Он и не понял, что произошло, завертелся в поисках исчезнувшего света, сделал несколько шагов и уткнулся в стену. Так и стоял, ощупывая стену ладонями, словно выключатель искал, щелкнешь - и опять день. Потом кто-то рядом спросил: – Ты что, паря, к стене прирос? Иль худо? И он ответил: – Не вижу, понимаешь, света. Темно. Спокойно ответил, еще не осознавая случившегося, словно слеп не раз. Отвели в палату, уложили на койку. Никого к нему в тот день не пустили. И на другой. Только возили в операционную. Это он по запаху понял, что операционная, и еще по шуршащей, какой-то живой тишине, нарушаемой изредка коротким словом да легким звяканьем металла о стекло. – Долевич, свет видишь? – Ну… – Что "ну"?… Видишь или нет? Сестра, погасите лампу. Двиньте поближе. Зажгите. Видишь, Долевич? Ничего он не увидел. И стало так обидно, что он ничего не видит, так обидно, что, разозлившись, он буркнул: – Ну вижу!… – Трепло ты, Долевич, - с сожалением сказал врач. - Дал бы я тебе по шее, да бить тебя нельзя. Но ты у меня увидишь! Ты у меня за сто верст муху разглядишь! Вот тогда я с тобой поквитаюсь за введение в заблуждение медицины. Которая и так блуждает в потемках. Василь успокоился, злость прошла. Он и мысли не допускал, что может остаться слепым навсегда. Всю жизнь видел и вдруг здрасте! Он слово дал себе нерушимое - делать все, что велят медики. Им виднее. Прикажут лежать не двигаясь - не двинется. Прикажут стоять на руках - простоит. Плохо только, что к нему никого не пускают. Впрочем, думая "никого", он подразумевал Злату. – Доктор, - сказал он врачу. - Вы ко мне пустите, пожалуйста, Злату Кроль. – Синеглазую санитарочку с третьего отделения? – Угу… – Она что ж, тебе родня? – Невеста. – Гм… Будь по-твоему. Но если тебе станет хуже - не обессудь. Хуже ему не стало. И лучше не стало. Надо держаться. Держаться! Так он сказал самому себе. И держался. И вот уже весна. Ишь, воробьи расшумелись! Фашистов лупят в Германии. По всему видать - конец войне. Друзья разлетелись кто куда. От Петьки Лужина два письма пришло из Польши. Воюет. Серега Эдисон уехал - и пропал. Может, опять во вражеский тыл ушел. Радист. А Злата каждый день приходит. По нескольку раз. Как выдастся свободная минутка, прибегает. Он лежит на втором этаже, а она работает на третьем. Там полегче. Там - ходячие. Верный друг Злата, вернее не сыщешь. Если б не она - сорвал бы он к чертям собачьим повязку с глаз!… Иногда по ночам такие недобрые думы приходят… Но ночам… А может, и не ночь вовсе? Может, это для него ночь, а для других день? Бывают минуты, когда держаться нет сил. Бывают. Тут надо себя укрощать. Как зверей в цирке укрощали. Только тут ты сам себе и зверь и укротитель… Хорошо, что есть на свете Злата! – Василь, - донеслось от окна. Он повернул голову. "Катерина?" – Ты как в окне оказалась? Убьешься. – Не-а… Толик ящики подставил и меня держит. Как ты? – Нормально. Чего не в школе? Мотаешь? – Ну да-а… - Катерина шмыгнула носом, обиделась. - Полвторого уже. По карточкам за сахар повидлу давали. Яблочную. Я выкупила. – Уж и съела, наверно, - улыбнулся Василь. – Скажешь! Что я, маленькая? Подросла Катерина, подросла. Школьница. Он, наверно, когда увидит ее - удивится. В мыслях-то его она все такая же маленькая, как была. А они быстро растут, маленькие-то! – Ну-ну… В школе не шкодишь? – Что ты, мне нельзя. Я - сестра героя. Директор так и сказал: "Ты, Долевич, сестра героя". – Это когда ж он тебе сказал? – Сегодня. Я в коридоре стояла, а он мимо шел. – А чего ты в коридоре стояла? Катерина замялась. – Так… – Выгнали? – Ага… Но я не шкодила… Чего он за косы дергается? – Кто? Директор? - снова улыбнулся Василь. – Какой директор?… Витька Куцый… Ой!… Что-то шлепнулось за окном. – Катерина! - встревоженно позвал Василь. – Я ее на землю поставил. Брыкается, - произнес ломающийся басок. – Здорово, Толик. – Здорово. Как ты тут? – Нормально. – А у нас новость. Фрау приехала. – Какая фрау? – Гертруда Иоганновна. – Ну!… Цирк, что ли, приехал? - не то удивился, не то обрадовался Василь. – Какой цирк! Одна приехала. В отпуск. Петьку ищет. – Он же на фронте. – Она не знала. Писем от него не было. – А я два письма получил. Из Польши. Слушай, Толик, ты скажи Гертруде Иоганновне, чтоб она пришла. А Злата письма принесет. Там ведь и про нее, про Гертруду Иоганновну, есть. – Ладно. Только к тебе опять не пускают. – Это чтобы не тревожили. Повязку снимать будут. – Солнышко увидишь, - сказал Толик мечтательно. – Солнышко увижу, - как эхо повторил Василь и вздохнул. Ах, хорошо бы увидеть солнышко! – Это что за окнолазы! - раздался от двери строгий хрипловатый мужской голос. За окном что-то загремело, верно Толик второпях свалился вместе с ящиками. – Это ко мне приходили, Юрий Геннадиевич, - виновато сказал Василь. – А я думал, ко мне на прием. С типуном на языке. Не холодно? – Что вы!… Я ж под одеялом. Воробьев вот слушаю. Веселятся. – Весна. Ну-с, голова болит? – Нет. Только после резких движений. – После резких движений… - Врач тихонько постучал пальцем по стриженому рыжему Василеву темени и велел: - Сядь. - Потом стал пальцами ощупывать затылок, шею, ключицы.
 – У меня глаза, а не кости, - пробурчал Василь.
– Слышал такое выражение: сердце в пятки ушло?
– Это когда струсишь.
– Когда струсишь… - Пальцы ловко ощупывали сразу оба плеча словно сравнивали их. - А ум за разум заходит?
– Это когда заскоки.
– Когда заскоки… - Пальцы уже ощупывали кисти рук. Потом пошли по ребрам.
– Щекотно, - поежился Василь.
– Для того и щекочу, чтобы тебе щекотно было. Так вот, в человеческом организме все связано. Все - единое целое. Это вы еще в школе по анатомии проходили.
– Не было у нас анатомии.
– Была. Ты, наверно, голубей гонял или за девушками ухаживал. Вот ничего и не помнишь. Ну что, Долевич, есть настроение снять повязку?
– Как скажете, - внезапно охрипшим голосом ответил Василь.
– Так и скажу. Еще денька два-три, и мы с тобой попробуем посмотреть на белый свет.
– На солнышко…
– На солнышко… На солнышко не сразу. Если все будет хорошо - на минутку повязку снимем. Ясно? Терпением нам с тобой запастись надо, Долевич. Терпением. Я еще не раз ребра твои посчитаю. - Юрий Геннадиевич засмеялся хрипло. В груди его все время что-то переливалось, клокотало. "Это во мне старый табачище гудит, как дым в дымоходе. Поздновато я курить бросил, - пояснял он всем, кто чересчур внимательно начинал прислушиваться к его "мехам", так он именовал легкие. - Покурите с мое - еще не так загудите!"
Хотя весь госпиталь знал, что военврачу только-только за сорок и курить он бросил в первые дни войны, когда выбирался со своим медсанбатом из окружения. Шли долго, по глухим местам. Вывозили раненых на телегах, тащили на носилках, сбитых из жердей. Начались заморозки. А шинели у военврача не было. Он простыл, но никому ничего не сказал. Терпел, пока не свалился в жару и сам не попал на носилки…
И госпиталь знал эту историю не от военврача, просто она шла за ним из одного места службы в другое, обрастая подробностями, свидетельствами очевидцев.
Многие из тех раненых, которых удалось спасти тогда, дрались сейчас на фронтах, а один даже попал в тройский госпиталь. Но военврач его не признал.
– Ладно, Долевич, терпи.
– Доктор, а почему ко мне опять никого не пускают?
– Инфекции я боюсь. Занесут какой-нибудь дряни, ослабят твои организм. А тебе сейчас силы нужны. Понял? Моя б воля, я б тебя в стерильную палату сунул, под стеклянный колпак. Поскольку ты, Долевич, теперь представляешь немалый интерес для медицинской науки, которая, как известно, блуждает где?
– В потемках, - подсказал Василь.
В потемках. - Юрий Геннадиевич снова засмеялся, проклокотал. - Пусть уж лучше через окно с тобой общаются.
– А можно?
– Пока меня нету - можно.
– У меня глаза, а не кости, - пробурчал Василь.
– Слышал такое выражение: сердце в пятки ушло?
– Это когда струсишь.
– Когда струсишь… - Пальцы ловко ощупывали сразу оба плеча словно сравнивали их. - А ум за разум заходит?
– Это когда заскоки.
– Когда заскоки… - Пальцы уже ощупывали кисти рук. Потом пошли по ребрам.
– Щекотно, - поежился Василь.
– Для того и щекочу, чтобы тебе щекотно было. Так вот, в человеческом организме все связано. Все - единое целое. Это вы еще в школе по анатомии проходили.
– Не было у нас анатомии.
– Была. Ты, наверно, голубей гонял или за девушками ухаживал. Вот ничего и не помнишь. Ну что, Долевич, есть настроение снять повязку?
– Как скажете, - внезапно охрипшим голосом ответил Василь.
– Так и скажу. Еще денька два-три, и мы с тобой попробуем посмотреть на белый свет.
– На солнышко…
– На солнышко… На солнышко не сразу. Если все будет хорошо - на минутку повязку снимем. Ясно? Терпением нам с тобой запастись надо, Долевич. Терпением. Я еще не раз ребра твои посчитаю. - Юрий Геннадиевич засмеялся хрипло. В груди его все время что-то переливалось, клокотало. "Это во мне старый табачище гудит, как дым в дымоходе. Поздновато я курить бросил, - пояснял он всем, кто чересчур внимательно начинал прислушиваться к его "мехам", так он именовал легкие. - Покурите с мое - еще не так загудите!"
Хотя весь госпиталь знал, что военврачу только-только за сорок и курить он бросил в первые дни войны, когда выбирался со своим медсанбатом из окружения. Шли долго, по глухим местам. Вывозили раненых на телегах, тащили на носилках, сбитых из жердей. Начались заморозки. А шинели у военврача не было. Он простыл, но никому ничего не сказал. Терпел, пока не свалился в жару и сам не попал на носилки…
И госпиталь знал эту историю не от военврача, просто она шла за ним из одного места службы в другое, обрастая подробностями, свидетельствами очевидцев.
Многие из тех раненых, которых удалось спасти тогда, дрались сейчас на фронтах, а один даже попал в тройский госпиталь. Но военврач его не признал.
– Ладно, Долевич, терпи.
– Доктор, а почему ко мне опять никого не пускают?
– Инфекции я боюсь. Занесут какой-нибудь дряни, ослабят твои организм. А тебе сейчас силы нужны. Понял? Моя б воля, я б тебя в стерильную палату сунул, под стеклянный колпак. Поскольку ты, Долевич, теперь представляешь немалый интерес для медицинской науки, которая, как известно, блуждает где?
– В потемках, - подсказал Василь.
В потемках. - Юрий Геннадиевич снова засмеялся, проклокотал. - Пусть уж лучше через окно с тобой общаются.
– А можно?
– Пока меня нету - можно.
11
Первые дни в Гронске Гертруда Иоганновна словно оттаивала после московской зимы. Понемногу исчезала невыносимая внутренняя скованность, которую она все время ощущала и в общежитии и встречаясь с товарищами по манежу. "С бывшими товарищами", - с горечью думала она. Ей никто ни разу не сказал, что она чужая, никто не поморщился, услышав ее немецкий акцент, с ней вежливо здоровались и вежливо прощались. И все же не нашлось партнера, чтобы сделать номер, хотя бы акробатический. Не нашлось!… И душа ее начала промерзать, словно холод московских зимних улиц постепенно проникал в нее и копился, копился. Душу не отогреешь у печки, и даже самое жаркое солнце не в силах растопить скопившийся ледок. Человеческая душа согревается только возле других человеческих душ. А она была одинока в Москве. Ах как одинока! В Гронске она целыми днями бродила по городу, заново открывая его для себя. Останавливалась, чтобы понаблюдать за каменщиком, ловко кладущим кирпичи, воздвигающим на пепелище стену будущего дома. Глядела, как завороженная, на трамвайщиков, дружно подымавших поваленный трамвайный столб. Терпеливо стояла в очередях за хлебом, за крупой, за керосином. Это были не жуткие очереди времени оккупации. И хоть в тех очередях она не стояла, но при одном виде людей, укутанных во что попало, молча и обреченно стоявших друг за другом в ожидании подвоза хлеба, сердце сжималось. Сейчас в очередях оживленно переговаривались, обсуждали фронтовые успехи, нелегкие житейские дела, шутили. И хотя почти все были бедно одеты, поизносились за войну, но спины у всех стали прямее, руки не висели беспомощными плетями, но самыми удивительными стали глаза. Они светились, глядели открыто и доброжелательно. Из них исчезли обреченность, тоска и страх. Шли в школу дети, худенькие, бледные, в обносках, со старенькими портфелями и ранцами, а то и просто с какими-то мешочками, набитыми книгами и тетрадями. Шли весело свободные дети по свободному городу. И Гертруда Иоганновна улыбалась им. И вспоминала своих мальчишек, но боль и тревога за них как-то притуплялись, и в сердце начинала теплиться надежда. Жизнь не убить! Вон пробивается травка, крохотная, бледненькая, меж тяжелых холодных и влажных плит панели, нашла трещинку и пробилась, учуяв солнышко. Нет, жизнь не убить, жизнь сильнее! По вечерам она сидела с Пантелеем Романовичем на кухне. Старик медленно плел неуклюжими, негнущимися пальцами корзинку из тонких красноватых прутьев лозы. Он всегда был чем-нибудь занят, то подшивал валенки, то, надев брезентовый передник, точил пилу напильником, то строгал ножом какие-то колышки неизвестного назначения. Видимо, работа отвлекала его от мрачных мыслей, от воспоминаний, от одиночества или просто боялся остановиться, понимая что остановка - смерть. Оба были немногословны, и разговор у них шел медленный, с большими паузами, которые заполнялись обоим понятными мыслями, с недосказанными фразами, которые не нуждались в досказывании. Пантелей Романович вспоминал Петра и Павла, как привел их ночью к себе как они возились тут - мальчишки! - делали зарядку по утрам, на руках ходили, ногами дрыгали. Ни от какой работы не отказывались на улицу ни разу не вышли - такой приказ был. Хорошие мальчишки. Потом, как справил их в лес, долго скучал, беспокоился. Дети все-таки!… Не детское это дело - война. Как пришли к нему Толик со Златой, искали Киню. Услышав свое имя, Киндер подымал голову и начинал постукивать хвостом по полу: "здесь я, здесь", а когда произносили "Петр" или "Павел", настораживался и вопросительно смотрел в глаза то хозяйке, то хозяину, склоняя голову то на одну сторону, то на другую. Пантелея Романовича он, безусловно, считал тоже хозяином и слушался. Гертруда Иоганновна в свою очередь рассказывала о том, как работали в цирке, как ребята любили лошадей, дружили с медведями и слонихой. Как им не просто было и учиться хорошо и тренироваться каждый день, как репетировали до изнеможения и как радовались каждой удаче. Вспоминала их проказы, умолкала, волнуясь… И ни разу Пантелей Романович не усомнился в том, что Петр и Павел скоро вернутся. Шла война, шли тяжелые бои. Уже чуя конец, фашисты яростно сопротивлялись. Гитлер грозил новым, невиданным оружием. Где Павел - неизвестно, Петр - в армии. А Пантелей Романович говорил о скором возвращении мальчиков так уверенно, словно знал, что они вернутся. И Гертруда Иоганновна охотно поддавалась волшебству уверенности и тоже начинала верить, что так оно и будет. И на душе теплело и хотелось жить! Вот только в одном они не сходились. Старик был уверен, что мальчики вернутся непременно в Гронск и сразу же заявятся к нему. А куда ж им еще идти! Гертруда Иоганновна склонялась к тому, что они вернутся в Москву и будут искать ее в Управлении цирков. Ведь Петр знает, что она в Москве. И может быть, неправильно, что она взяла отпуск и примчалась в Гронск. Очень хотелось повидать всех: и Злату, и Василя, и старика сторожа Филимоныча, у которого жил Флич. Но в госпиталь к Василю не пустили, где живет Злата, она не знала, Филимоныча не оказалось дома. Толик не появлялся, ходил в школу и еще куда-то на стройку. На улице она встретила кое-кого из бывших партизан, поговорили накоротке, все спешили, у всех были дела. Несколько раз видела пленных, они строили дома и чинили дороги. Она молча проходила мимо. С этими разговаривать не хотелось. Однажды вечером она сказала Пантелею Романовичу: – Работать мне надо. Как вы думаете? – Отпуск же… – Работы нет… м-м… по специальность. Артистка цирка без цирка. Пантелей Романович только взглянул на нее, оторвавшись от плетения. Помолчали. – Как неприкаянная… Так по-русски?… Все работают, весь город. Дети… Нельзя есть незаработанный хлеб. Морально. – И куда ж подашься? Гертруда Иоганновна пожала плечами. – Надо искать специальность. Я ж ничего не умею! - сказала она удивленно. – Директором была. – Совладелицей. - Гертруда Иоганновна засмеялась. Даже вспомнить страшно! – Забыть еще страшней, - тихо произнес Пантелей Романович. – Хорошенькая специальность - совладелица! Как думаете, Пантелей Романовиш, меня будут брать на какую-нибудь работу? – Отчего ж? – Я считаюсь в Москве живущей. И потом мой выговор. – Ты что, зло людям делала? - рассердился старик. - Ты за Советскую власть рисковала. Ордена… – Да-да… Конешно… Я буду спрашивать у товарища Мошкина. И она пошла утром к Мошкину. По голубому небу быстро бежали легкие белые облака, то и дело закрывая солнце. Ветер гнал по улице пыль, заворачивал ее в маленькие смерчики и тут же рассыпал их. Возле домов и заборов с северной стороны еще лежал грязный снег, и, вероятно, от него ветер набрался холода. Гертруда Иоганновна то и дело поправляла шарф, потому что ватник был без воротника. Мошкин обрадовался, ей, расспросил, где она устроилась, как настроение? Нет ли чего нового о ребятах? – Надо работать, Ефим Карповиш. Все работают. – Дело. – Но я нишего не умею. – Так уж и ничего? Вы, Гертруда Иоганновна, артистка, работник культурного фронта. А у нас с культурой плохо. Большая нехватка кадров. – Но я нишего не могу без цирк. – Будет. Будет вам и белка, будет и свисток. – Свисток? – Это стихотворение Некрасова. – Ага… – В смысле, все будет. И цирк будет. А пока что и без цирка дел невпроворот. Вот я сейчас брякну Чечулину. – Что есть "брякну"? Мошкин провел рукой по желтому лицу. – Вульгаризм. Не следим мы за культурой речи. Позвоню по телефону Чечулину, он вас возьмет в отдел. - Мошкин снял трубку, набрал номер. - Товарищ Чечулин. Здравствуйте. Мошкин, начальник горотдела милиции. Тут у меня в кабинете сидит артисткаЛужина… Что?… Ну уж, если у меня, так непременно арестованная?… Лужина… Знаю, что не знаете. Я к вам ее подошлю, у нее ба-альшой опыт организационной работы. Она тут у нас заворачивала кое-каким искусством. - Мошкин прикрыл трубку ладонью и подмигнул Гертруде Иоганновне. - Да нет, она не здешняя. Из Москвы. Но вроде бы и здешняя… Рады будете? Так я ее подошлю к вам и договаривайтесь… Лады. До свиданья. - Мошкин энергично положил трубку на рычаг. - Согласовано. Пойдете к Чечулину, в отдел культуры. Помещается он в горсовете. Где была городская управа, - уточнил он. – Хорошо. А что я буду делать? – Как что? Культурой заправлять. Он человек хороший, но один в поле. А вы - артистка! Гертруда Иоганновна распрощалась с Мошкиным и пошла в горсовет. Даже смутно не представляла она себе, что сможет делать в отделе культуры, но верила Мошкину. Мошкин зря не пошлет. А главное сейчас - работать! Когда входила в здание горсовета, сердце невольно сжалось. Сколько раз она бывала здесь! Тогда у двери стояли немецкие автоматчики. И в вестибюле. Вот лестница. Сюда пускали только по пропускам Неужели это она подымалась по ней на третий этаж в кабинет доктора Доппеля? Улыбалась встречным офицерам? Подымала руку в фашистском приветствии?… Она остановилась возле лестницы, внезапно напряглась, словно вот сейчас оттуда спустится Доппель, сияя улыбкой. – Рад вас видеть, Гертруда! Вы кого-нибудь ищете? Она так явственно услышала его голос, что невольно вздрогнула. – Вы кого-нибудь ищете? - спросил кто-то рядом не голосом Доппеля, но тоже знакомым. Она обернулась. Перед ней стоял невзрачный лысый мужчина с повязкой на рукаве. В вестибюле горела одна лампочка и было темновато. – Мне нужен отдел культуры. – Фрау Копф… - сдавленным голосом прошептал мужчина и шарахнулся, словно увидел привидение. И тут она узнала лысого, это же господин Рюшин из финансового отдела! Она удивилась, но не подала виду, в ней проснулась артистка. На какое-то мгновение она действительно стала фрау Копф, богатой и надменной владелицей гостиницы и ресторана. – Здравствуйте, господин Рюшин, - произнесла она величественно. Рюшин испуганно замахал руками, зашипел: – Тс-с-с… Какой "господин"… Товарищ Рюшин… Вы… Вас же убили партизаны!… Гертруда Иоганновна согнула руки в локтях, посмотрела по очереди сначала на одну, потом на другую. – Что вы говорите? А я и не заметила! Тихо, бога ради, тихо!… – Пошему? - удивленно протянула она и спросила нарочно громко: - Так где, вы говорите, отдел культуры? - Она небрежно расстегнула ватник, чтобы Рюшин увидел ее ордена. И Рюшин увидел. Нижняя челюсть его отвисла, судорожным движением он достал из кармана носовой платок и вытер вспотевшую лысину. – Я… Мне… Меня простили. Что я?… Мелкая сошка. Жить-то надо было! – И другие жили. - Гертруда Иоганновна посмотрела на него так, как смотрела, когда была хозяйкой гостиницы. - Так где отдел культуры. Рюшин сглотнул и молча махнул рукой. Гертруда Иоганновна повернулась и спокойным шагом пошла по коридору, где стояла та же скамейка для посетителей напротив двери бывшего финансового отдела. Там теперь висела табличка: "Сектор доходов". И в самом конце коридора увидела дверь с табличкой: "Городской отдел культуры". Она постучала. – Прошу, - откликнулся за дверью густой красивый голос. Она вошла. Чечулин оказался маленьким старичком в черной засаленной ермолке, из-под которой на уши спускались седые, пожелтевшие от древности космы. На щеках в темных, словно прорезанных морщинах, казалось, пробивается седая щетина, хотя старичок был тщательно выбрит, белые брови клочками нависали над маленькими, утонувшими в мешках глазами, цвет которых и определить-то было невозможно. Может, они были голубыми, может, зелеными или серыми. Теперь уж и не угадаешь! И весь он был сморщенным и древним, и ни белая накрахмаленная рубашка, ни полосатый галстук, завязанный тугим узлом, ни отутюженные брюки, ни бутылочного цвета вельветовая толстовка не могли скрыть его древности. "Да ему не меньше ста лет! - решила Гертруда Иоганновна. - Он, наверно, Пушкина помнит! А может быть, даже войну с Наполеоном!" Она молча рассматривала Чечулина, и Чечулин так же молча рассматривал ее. Потом он спросил: – Стало быть, вы и есть Лужина? - И маленькой сморщенной ручкой указал на плюшевый потертый диван у стены кабинета. - Прошу присаживаться. Голос у него оказался неожиданно звучным, не подходящим его маленькой фигуре. Гертруда Иоганновна кивнула и присела на диван. – Наслышан о вас, голубушка, наслышан. Энергичные люди в отделе культуры нужны. Весьма. Неэнергичные тоже. Потому что отдел культуры - это я, в единственном, так сказать, числе. Собственно, и культуры пока нет никакой. Театр разбит еще при наступлении немцев. Его сначала строить надо. Дом культуры железнодорожников - тоже одни развалины. В клубе деревообрабатывающего завода - общежитие. А с жильем в городе сами понимате. Я живу тут же. - Чечулин махнул ручкой в угол, где в плюшевом кресле лежали ватное одеяло и подушка, прикрытые куском кумача. Гертруда Иоганновна понимала, что городу тяжко, но эти одеяло и подушка в кресле поразили ее больше, чем привычные развалины. – А семья? - спросила она тихо. – Э-э-э, голубушка!… Я бы и сам хотел знать, где моя семья. Жена-то скончалась в тридцать пятом году. Сын на фронте, а невестка с внуками эвакуировалась куда-то на Урал или в Сибирь. А куда - никто не знает. Да и сам я, голубушка, не здешний. Направили меня заведовать отделом культуры. Раньше-то, до войны, в опере пел. Потом администратором стал. Голос-то не вечен!… Поколесил по России! Вот теперь состою в должности заведующего отделом. А заведовать пока нечем, - добавил он печально. – Совсем-совсем нечем? – Почти. Библиотеку вот воскрешаем с энтузиастами. Оркестр на танцах играет. Трио и певец в кино. Вы снимите, голубушка, ватничек, снимите. - И ручкой ухватился за ворот, словно боялся, что Лужина, если не снимет ватник, уйдет. Гертруда Иоганновна сняла ватник. Чечулин посмотрел на ее награды. – Вот видите, голубушка. И представительность есть! А от меня отмахиваются. С годами солидность порастерял. Вот и столик для вас подходящий. Сейчас мы приказ издадим о зачислении. Подпишем в отделе кадров горисполкома. А зовут меня Касьян Абрамович. И прекрасно, и не возражайте. Вот листок. Вот ручка. Пишите. Заведующему отделом культуры товарищу Чечулину К. А. Прошу зачислить меня в отдел культуры инспектором. И будем работать! Работать, засучив рукава! Нельзя Советской власти без культуры!
12
Баянист нашелся сам. К лейтенанту пришел бывший узник из третьего блока в застиранных солдатских штанах и полосатой куртке. Немолодое бледное лицо с озорными глазами обрамляла воинственно торчащая борода, неровно подстриженная кем-то из соседей по бараку или, как говорили лагерники, блоку. Они вообще употребляли слова "блок", "зона", "карцер", "акция". У привыкшего здесь ко всему лейтенанта от этих слов сводило скулы. Борода у бывшего узника была черной, а сквозь черноту пробивалась седина. Он пришел насчет обмундирования для своего блока, поскольку был выбран старшим. На подоконнике стоял баян в коричневом дерматиновом футляре, потертом и исцарапанном. Пришедший назвался Фроловым и, пока разговаривал с лейтенантом, все время поглядывал на баян. – Что, знакомая штука? – Играл на свадьбах, - Фролов пошевелил пальцами, будто перебирал кнопочки баяна, вздохнул: - В другой жизни. Лейтенант снял с подоконника футляр, поставил на стол, открыл крышку: – А ну-ка, попробуйте… – Я?… - растерялся Фролов. – Не я же! Я его сроду в руках не держал. - Лейтенант улыбнулся. Фролов вынул баян из футляра. Черное лаковое покрытие инструмента потускнело, а местами и вовсе стерлось, превратилось в желтоватые мутные пятна. Фролов подержал баян в руках, потом отстегнул ремешки, сдерживающие гармошку мехов. Мехи беззвучно вздохнули. Фролов погладил их рукой, на которой не хватало пальца, сел на стул, поставил баян на колени, закинул широкий шершавый ремень на плечо, склонил голову, словно баян зашептал ему какие-то слова, которые никак нельзя было пропустить. Осторожно тронул кнопочки. Баян неуверенно произнес несколько звуков, словно знакомился, приноравливался к новым пальцам, и вдруг запел: "Степь да степь кругом, путь далек лежит…". Постепенно мелодия стала крепнуть, к тонким, певучим голосам присоединились хрипловатые басы. Иногда врывался чужой звук, Фролов фальшивил, но не обращал на это внимания. Пальцы бегали все уверенней, мелодия обрастала подробностями.
 Кто-то заглянул в комендантскую дверь да так и остался стоять на пороге, за его спиной появились новые лица. Люди останавливались и слушали. А баян пел: "Переда-ай поклон родной матушке А жене скажи слово прощальное, пе-ереда-ай кольцо обручальное…"
Фролов играл и играл, одна мелодия сменяла другую, и по бледным щекам его стекали слезы и прозрачными каплями повисали на черной бороде.
Внезапно мелодия оборвалась. Баянист поднял голову, шмыгнул носом, провел по глазам полосатым рукавом и удивленно посмотрел на лейтенанта.
– Помнят пальцы маненько. Помнят. - Как живого погладил он баян, глубоко вздохнул и поставил инструмент на стол. - Ну спасибо, лейтенант. Жить можно, коли душа не убитая, в пальцы идет.
В коридоре загалдели. Лейтенант, улыбаясь, смотрел на Фролова. Сказал неожиданно:
– Бери. Твой.
– Как можно… - Фролов даже отступил на шаг от стола. - Дорогая вещь.
– Бери. Баяну баянист нужен. Баян служить должен.
– Не шутишь?
– Бери, бери… Сейчас я тебя с одним пареньком сведу. Ему как раз музыка нужна.
– Эх! - как-то удивительно звонко крикнул Фролов, накинул ремень на плечо, развел мехи. И запел баян о трех танкистах.
Лейтенант взял футляр.
– Идем.
Так и пошли они по лагерю. Впереди лейтенант с коричневым футляром, за ним Фролов, озорно растягивая на ходу мехи баяна.
Встречные останавливались, махали руками, кто-то подпевал, и все улыбались.
Ефрейтор Егги недовольно морщился и поджимал тонкие губы. Освободили Лужина от работы - ладно. Найдем другого помощника. Вон их сколько шатается по лагерю, и каждый рад взять в руки хоть топор, хоть пилу. Силенок у них, конечно, не густо. Повыжали фрицы силенки. Зато охоты хоть отбавляй! Обратно же харч нормальный. Найдутся помощники.
На руках парень стоит больше, чем на ногах. Ну что ж, ежели он циркач? Ежели ему на роду положено на руках стоять!…
А вот на лошадь прыгать, стоя скакать, - это уже баловство. Лошадь - скотина рабочая, уважения требует. Что мужик в поле без лошади? Не вспашешь, не посеешь. Лошадь уважения требует, хоть бы и лагерная, подневольная. Ты ее накорми, напои, обиходь… Хотя этот Лужин лошадь понимает. Ничего не скажешь. Вон выскреб, вымыл - на десяток лет помолодела скотина. А все ж баловство. Кабы не приказ лейтенанта, шуганул бы его от лошади! У тебя свои дела - у нее свои. Порядок должен быть.
Ефрейтор Егги поджимал тонкие губы, но молча колол чурбаки на поленья. Баянист вот появился. Медсестричка. Голос тоненький, чистый. И его, ефрейтора Егги, дочка Вильма так же тоненько пела. А потом пришли гитлеровцы. Он думал - люди, пива домашнего выставил… Нету больше дочки… И хутора нет, спалили… Зверье!…
– Слышь, ефрейтор, водички у тебя нету попить?
– Ведро в сарае.
Фролов кивнул, пошел в сарай, зачерпнул железной кружкой из ведра. Вода была студеной, заломило зубы. Пальцы устали с непривычки, чуть припухли. Как бы вовсе не остановились. Отберет лейтенант баян!… Лужин с немчиком по-ихнему говорит, что горохом сыплет. И руки у него городские, с тонкими пальцами. Мальчишечка еще.
– Ну потерпи, лошадка. Это у тебя с непривычки кожа дергается. - Петр погладил лошадь. Когда отмыл ее, шерсть оказалась короткой, жесткой и блестящей. Вот только спина проваливается и ноги мохнаты. - Тебя бы откормить и потренировать - и айда на манеж! Не понимаешь ты, что такое манеж.
Лошадь слушала ласковый голос и кивала головой с расчесанной гривой. Не часто видела она ласку и тянулась к ней. Ничего, что больновато спине, когда человек прыгает на нее. Можно потерпеть. Зато как хорошо, когда ладони ласково трогают шею!
Петр привязал к поводу длинную веревку.
– Вайсман, давай!
Вайсман взял конец веревки, встал на середину уже изрядно протоптанного лошадиными копытами круга.
– Вперед, сивка! - Петр похлопал лошадь по крупу. Она пошла сначала шагом, потом мелкой рысью, дергая с непривычки головой. Веревка натянулась. Вайсман не давал лошади сойти с круга.
Петр побежал рядом с ней, приговаривая: "Хорошо, молодец, хорошо. Ай, браво!…" Потом ловко вскочил на ее спину, немного проехался верхом, потом встал на круп. В тяжелых кирзовых сапогах было неимоверно трудно устоять на лошади. Сейчас бы мягкие цирковые сапожки по ноге!… Чувствуя, что скользят подошвы по шерсти, и понимая, что сейчас свалится, Петр соскочил.
– Ничего не выходит!
– Выйдет, - сказал Фролов. - Ты очень ловкий парень.
– В таких-то сапожищах!
– А ты скинь. Скачи босиком.
– Босиком? - неуверенно переспросил Петр. Что ж это за номер цирковой - босиком? Все должно быть красиво, зрелищно! Но все же скинул сапоги. Ступням стало щекотно на прохладной мягкой земле.
– Вайсман, держи!
И снова лошадь побежала по кругу. Веревка натянулась, потому что лошади трудно было держаться протоптанной дорожки, ее выносило наружу. Петр вскочил на нее. Ноги стояли крепко. Привычно пружинили колени. Он встал на руки. Подумал: "Сейчас свалюсь", но удержался, снова сел верхом, вскочил на ноги, попробовал прокрутить сальто-мортале, но шмякнулся на землю лицом вниз, по привычке выставив руки вперед, превратив их в послушные пружины.
Медсестра Шурочка ахнула тихонько. Ефрейтор Егги перестал колоть чурбак. Лошадь остановилась.
И вдруг Петр вспомнил Мимозу, как тот падал, сбитый с ног на манеж, а когда вставал, изо рта и из носа у него сыпались опилки. Этот фокус и он когда-то проделывал. Просто так.
Петр загреб обеими ладошками мягкую землю, сел и, сморщив лицо, тихонечко подвыл, поднося руки к лицу. И Шурочке, и Фролову, и ефрейтору Егги, и даже Вайсману, стоявшему к нему ближе всех, показалось, что Петр выплевывает набившуюся ему в рот и нос землю. И вид у него был такой растерянный и виноватый, что они невольно рассмеялись.
– Смешно, да? - высоким фальцетом спросил Петр. "Если хочешь, чтобы зрители смеялись, делай все серьезно. Понарошку не смешно. Смешно только взаправду", - кажется, так учил Мимоза. - Смешно, да? - повторил сердито Петр. - А вот я вызову дежурного лейтенанта! - Он достал из кармана свисток и засвистел, надувая щеки.
Вайсман вспомнил, что он должен делать, подошел к Петру, сказал по-русски:
– Не свистеть!… - и толкнул Петра в плечо. Тот пошатнулся и… проглотил свисток. Трюк был старый как мир. Петр начал объясняться с Вайсманом, но вместо слов у него получались свистки. Петр сердился и просил, и свисток сердился и просил.
Даже хмурый Егги рассмеялся.
Только медсестра Шурочка испугалась, решила, что Петр в самом деле проглотил свисток. Она подбежала к нему и несколько раз стукнула по спине. Петр несколько раз беспомощно свистнул и свисток выскочил у него изо рта прямо в ладонь.
– Разве можно так? - все еще испуганно сказала Шурочка.
Вайсман в смехе повалился на землю. Его корчило от смеха. В жизни не доводилось ему так смеяться. Смеялся Фролов, сообразив, в чем дело; отворачивался Егги, затыкая рот варежкой: не мальчишка он, чтобы смеяться над глупостью.
Шурочка не понимала, почему все смеются, но тоже засмеялась.
И только Петр не смеялся. Он глядел на всех серьезно и покачивал головой. И от этого становилось еще смешнее.
– Ах, Шурочка, - сказал Петр уже обыкновенным, своим голосом, - если бы вы могли вот так же испугаться на представлении и так же постучать меня по спине!
Шурочка всплеснула руками:
– Так это вы нарочно!
– Что вы!… Мы ничего нарочно не делаем. Все всерьез.
Проблему с костюмами тоже решила Шурочка. Она соорудила из старых синих офицерских галифе удивительные штаны, от которых шарахнулась в испуге сивая лошадь. Пришлось ее успокаивать.
Штаны были обрезаны снизу до колен. На них нашиты с десяток цветных заплат-лоскутков. Штаны держались на половинке широкой резиновой подтяжки. Время от времени Петр щеголевато оттягивал большим пальцем подтяжку, и она звонко хлопала его по груди. Вместо гимнастерки на Петре была женская розовая кофточка с воланами, а на запястьях - манжеты, которые Шурочка соорудила из хирургической белой шапочки. На голове красовалась зеленая дамская шляпка перьями вороны, а из-под нее торчали светлые волосы. В ход пошла драгоценность лейтенанта - мочалка. Труднее всего было с обувью, остановились было на том, что Петр будет босой. Но подполковник Боровский пожертвовал на один вечер свои домашние тапочки, понимая, что вряд ли они вернутся к нему в первозданном виде. Тапочки были большого размера и сваливались. Шурочка шилом проделала в них дырочки и подвязала к ногам тонкой бечевкой, а заодно и подтянула носки тапочек так, что они загнулись, как традиционные клоунские башмаки.
Вайсман остался в своей одежде, хотели было приспособить ему усы из мочалы, но они не держались на его худеньком лице даже приклеенные хорошей дозой коллодия, и при светлых усах лицо юноши казалось совсем темным. Пришлось отказаться. Фролов надел добротную солдатскую гимнастерку и начистил сапоги.
Шурочка была в летнем платье цветочками с пышными подложенными по моде плечами. А вот туфель не нашлось, а со склада она что-либо взять категорически отказалась. Так и появилась в платье и сапогах.
Дети расселись большим кругом прямо на землю возле барака. Сзади толпились взрослые. Чуть не весь лагерь пришел.
Волновались все. И артисты, и зрители. Лошадь нетерпеливо перебирала ногами, стоя за бараком. Ей тоже передалось волнение людей.
"Ах, папы нету!" - подумал Петр, стоя рядом с лошадью и оглаживая ее. Теплая шкура мелко вздрагивала под рукой.
На "манеж" вышли лейтенант и Вайсман. Петр слышал, как притих "зал". Лейтенант должен был объявить начало по-русски, Вайсман перевести его слова на немецкий. А так как русского Вайсман не понимал, то выучил свой текст наизусть.
Потом Петр услышал.
– Ребята, товарищи! Сегодня у нас маленький праздник. Наша Красная Армия продвинулась вперед, и больше никогда фашистам не вернуться сюда.
Зрители радостно захлопали, закричали "ура!". Когда крики стихли, лейтенант сказал:
– А какой праздник без концерта! Сейчас вам будет показано веселое представление нашими, так сказать, доморощенными, артистами. Не судите их строго. Они очень готовились, и они постараются.
Вайсман сказал по-немецки:
– Начинаем наше представление, - и вынес стул.
Вышел Фролов с баяном. Ему захлопали. Он поклонился.
– Соло на баяне. Товарищ Фролов.
Фролов склонил голову к баяну, прислушиваясь к его дыханию, и заиграл. Одна за другой вплетались в мелодию русские песни. Пальцы послушно и быстро притрагивались к кнопкам. Сначала чуть болели, а потом разбегались.
Фролова долго не отпускали, заставляли играть еще и еще, а потом хором пели под баян "Катюшу".
Лейтенант похлопал Фролова по плечу:
– Ну как, доволен?
– Чего там! - Фролов был счастлив.
Потом пела Шурочка. Она очень стеснялась и робела, но зрители слушали ее с таким удовольствием, а иногда даже подпевали, что постепенно робость исчезла, голос окреп. Ее тоже долго не отпускали требовали еще песен. Она повторила "Синий платочек".
Петра трясло, как в лихорадке, начали дрожать руки. Каждый выход на манеж - волнение, но так он еще никогда не волновался. Ему казалось, что он ничего не сможет, ничего… Словно все позабыл: как идти, что говорить, что делать?…
Лошадь повернула к нему морду, ткнула мягкими губами в разрисованную губной помадой щеку. Он тронул ее за повод, и она послушно пошла следом. Он вышел из-за барака, как в тумане проследовал по образовавшемуся коридору в круг. Закричал по-петушиному, когда-то Мимоза:
– А вот и я!
И споткнулся о тапочку. Взаправду споткнулся и упал. И это разозлило его. Нельзя падать, когда не надо. Подбежал Вайсман, помог ему подняться. Петр огляделся: вокруг сидели на земле дети, восторженно хлопали и смеялись. Им понравился этот нелепый, неуклюжий клоун, может быть, они никогда не видели другого!
Он повернулся спиной к понуро стоящей лошади и спросил высоким фальцетом:
– А где моя любимая лошадь?
– Сзади, сзади! - закричали дети.
Петр обернулся и посмотрел под ноги, потом посмотрел с другой стороны. Лицо его стало обиженным.
Дети смеялись.
Сивка шагнула к нему и ткнулась носом в затылок. В настоящем цирке бог знает сколько надо было бы репетировать, чтобы лошадь вот так подошла и ткнулась в затылок. А она сама! Живет на свете удача!
Петр обернулся, схватил лошадиную морду обеими руками, крикнул:
– Вот она моя сивка-бурка!
И чмокнул лошадь в нос, отставив ногу.
– Сейчас я покатаюсь!
Петр заскакал вокруг лошади, держась за ее спину, но никак не мог залезть на нее.
– Помоги-ка…
Вайсман подсадил Петра, и тот оказался верхом лицом к хвосту. Лицо его вытянулось в недоумении, рот приоткрылся, зеленая шляпка сползла набок. Он сокрушенно крикнул:
– А куда же делась голова?
Ему ответили дружным смехом. И только сейчас он услышал галоп, который играл Фролов, увидел смеющегося лейтенанта и подполковника Боровского, с растянувшимся в широкой улыбке ртом. И ему стало легко. Он сполз с лошади, воинственно уткнул руки в бока и, сделав свирепое лицо, стал наступать на Вайсмана.
– Где голова? Положь на место голову!
– Голова! Голова! - радостно кричал Вайсман, тыкая пальцем в сторону лошади.
Разъяренный Петр подбежал к ней, схватил за хвост и, показывая его всем, запричитал:
– Это голова? Это грива? Дежурный! - Он выхватил из кармана свисток и засвистел.
Кто-то заглянул в комендантскую дверь да так и остался стоять на пороге, за его спиной появились новые лица. Люди останавливались и слушали. А баян пел: "Переда-ай поклон родной матушке А жене скажи слово прощальное, пе-ереда-ай кольцо обручальное…"
Фролов играл и играл, одна мелодия сменяла другую, и по бледным щекам его стекали слезы и прозрачными каплями повисали на черной бороде.
Внезапно мелодия оборвалась. Баянист поднял голову, шмыгнул носом, провел по глазам полосатым рукавом и удивленно посмотрел на лейтенанта.
– Помнят пальцы маненько. Помнят. - Как живого погладил он баян, глубоко вздохнул и поставил инструмент на стол. - Ну спасибо, лейтенант. Жить можно, коли душа не убитая, в пальцы идет.
В коридоре загалдели. Лейтенант, улыбаясь, смотрел на Фролова. Сказал неожиданно:
– Бери. Твой.
– Как можно… - Фролов даже отступил на шаг от стола. - Дорогая вещь.
– Бери. Баяну баянист нужен. Баян служить должен.
– Не шутишь?
– Бери, бери… Сейчас я тебя с одним пареньком сведу. Ему как раз музыка нужна.
– Эх! - как-то удивительно звонко крикнул Фролов, накинул ремень на плечо, развел мехи. И запел баян о трех танкистах.
Лейтенант взял футляр.
– Идем.
Так и пошли они по лагерю. Впереди лейтенант с коричневым футляром, за ним Фролов, озорно растягивая на ходу мехи баяна.
Встречные останавливались, махали руками, кто-то подпевал, и все улыбались.
Ефрейтор Егги недовольно морщился и поджимал тонкие губы. Освободили Лужина от работы - ладно. Найдем другого помощника. Вон их сколько шатается по лагерю, и каждый рад взять в руки хоть топор, хоть пилу. Силенок у них, конечно, не густо. Повыжали фрицы силенки. Зато охоты хоть отбавляй! Обратно же харч нормальный. Найдутся помощники.
На руках парень стоит больше, чем на ногах. Ну что ж, ежели он циркач? Ежели ему на роду положено на руках стоять!…
А вот на лошадь прыгать, стоя скакать, - это уже баловство. Лошадь - скотина рабочая, уважения требует. Что мужик в поле без лошади? Не вспашешь, не посеешь. Лошадь уважения требует, хоть бы и лагерная, подневольная. Ты ее накорми, напои, обиходь… Хотя этот Лужин лошадь понимает. Ничего не скажешь. Вон выскреб, вымыл - на десяток лет помолодела скотина. А все ж баловство. Кабы не приказ лейтенанта, шуганул бы его от лошади! У тебя свои дела - у нее свои. Порядок должен быть.
Ефрейтор Егги поджимал тонкие губы, но молча колол чурбаки на поленья. Баянист вот появился. Медсестричка. Голос тоненький, чистый. И его, ефрейтора Егги, дочка Вильма так же тоненько пела. А потом пришли гитлеровцы. Он думал - люди, пива домашнего выставил… Нету больше дочки… И хутора нет, спалили… Зверье!…
– Слышь, ефрейтор, водички у тебя нету попить?
– Ведро в сарае.
Фролов кивнул, пошел в сарай, зачерпнул железной кружкой из ведра. Вода была студеной, заломило зубы. Пальцы устали с непривычки, чуть припухли. Как бы вовсе не остановились. Отберет лейтенант баян!… Лужин с немчиком по-ихнему говорит, что горохом сыплет. И руки у него городские, с тонкими пальцами. Мальчишечка еще.
– Ну потерпи, лошадка. Это у тебя с непривычки кожа дергается. - Петр погладил лошадь. Когда отмыл ее, шерсть оказалась короткой, жесткой и блестящей. Вот только спина проваливается и ноги мохнаты. - Тебя бы откормить и потренировать - и айда на манеж! Не понимаешь ты, что такое манеж.
Лошадь слушала ласковый голос и кивала головой с расчесанной гривой. Не часто видела она ласку и тянулась к ней. Ничего, что больновато спине, когда человек прыгает на нее. Можно потерпеть. Зато как хорошо, когда ладони ласково трогают шею!
Петр привязал к поводу длинную веревку.
– Вайсман, давай!
Вайсман взял конец веревки, встал на середину уже изрядно протоптанного лошадиными копытами круга.
– Вперед, сивка! - Петр похлопал лошадь по крупу. Она пошла сначала шагом, потом мелкой рысью, дергая с непривычки головой. Веревка натянулась. Вайсман не давал лошади сойти с круга.
Петр побежал рядом с ней, приговаривая: "Хорошо, молодец, хорошо. Ай, браво!…" Потом ловко вскочил на ее спину, немного проехался верхом, потом встал на круп. В тяжелых кирзовых сапогах было неимоверно трудно устоять на лошади. Сейчас бы мягкие цирковые сапожки по ноге!… Чувствуя, что скользят подошвы по шерсти, и понимая, что сейчас свалится, Петр соскочил.
– Ничего не выходит!
– Выйдет, - сказал Фролов. - Ты очень ловкий парень.
– В таких-то сапожищах!
– А ты скинь. Скачи босиком.
– Босиком? - неуверенно переспросил Петр. Что ж это за номер цирковой - босиком? Все должно быть красиво, зрелищно! Но все же скинул сапоги. Ступням стало щекотно на прохладной мягкой земле.
– Вайсман, держи!
И снова лошадь побежала по кругу. Веревка натянулась, потому что лошади трудно было держаться протоптанной дорожки, ее выносило наружу. Петр вскочил на нее. Ноги стояли крепко. Привычно пружинили колени. Он встал на руки. Подумал: "Сейчас свалюсь", но удержался, снова сел верхом, вскочил на ноги, попробовал прокрутить сальто-мортале, но шмякнулся на землю лицом вниз, по привычке выставив руки вперед, превратив их в послушные пружины.
Медсестра Шурочка ахнула тихонько. Ефрейтор Егги перестал колоть чурбак. Лошадь остановилась.
И вдруг Петр вспомнил Мимозу, как тот падал, сбитый с ног на манеж, а когда вставал, изо рта и из носа у него сыпались опилки. Этот фокус и он когда-то проделывал. Просто так.
Петр загреб обеими ладошками мягкую землю, сел и, сморщив лицо, тихонечко подвыл, поднося руки к лицу. И Шурочке, и Фролову, и ефрейтору Егги, и даже Вайсману, стоявшему к нему ближе всех, показалось, что Петр выплевывает набившуюся ему в рот и нос землю. И вид у него был такой растерянный и виноватый, что они невольно рассмеялись.
– Смешно, да? - высоким фальцетом спросил Петр. "Если хочешь, чтобы зрители смеялись, делай все серьезно. Понарошку не смешно. Смешно только взаправду", - кажется, так учил Мимоза. - Смешно, да? - повторил сердито Петр. - А вот я вызову дежурного лейтенанта! - Он достал из кармана свисток и засвистел, надувая щеки.
Вайсман вспомнил, что он должен делать, подошел к Петру, сказал по-русски:
– Не свистеть!… - и толкнул Петра в плечо. Тот пошатнулся и… проглотил свисток. Трюк был старый как мир. Петр начал объясняться с Вайсманом, но вместо слов у него получались свистки. Петр сердился и просил, и свисток сердился и просил.
Даже хмурый Егги рассмеялся.
Только медсестра Шурочка испугалась, решила, что Петр в самом деле проглотил свисток. Она подбежала к нему и несколько раз стукнула по спине. Петр несколько раз беспомощно свистнул и свисток выскочил у него изо рта прямо в ладонь.
– Разве можно так? - все еще испуганно сказала Шурочка.
Вайсман в смехе повалился на землю. Его корчило от смеха. В жизни не доводилось ему так смеяться. Смеялся Фролов, сообразив, в чем дело; отворачивался Егги, затыкая рот варежкой: не мальчишка он, чтобы смеяться над глупостью.
Шурочка не понимала, почему все смеются, но тоже засмеялась.
И только Петр не смеялся. Он глядел на всех серьезно и покачивал головой. И от этого становилось еще смешнее.
– Ах, Шурочка, - сказал Петр уже обыкновенным, своим голосом, - если бы вы могли вот так же испугаться на представлении и так же постучать меня по спине!
Шурочка всплеснула руками:
– Так это вы нарочно!
– Что вы!… Мы ничего нарочно не делаем. Все всерьез.
Проблему с костюмами тоже решила Шурочка. Она соорудила из старых синих офицерских галифе удивительные штаны, от которых шарахнулась в испуге сивая лошадь. Пришлось ее успокаивать.
Штаны были обрезаны снизу до колен. На них нашиты с десяток цветных заплат-лоскутков. Штаны держались на половинке широкой резиновой подтяжки. Время от времени Петр щеголевато оттягивал большим пальцем подтяжку, и она звонко хлопала его по груди. Вместо гимнастерки на Петре была женская розовая кофточка с воланами, а на запястьях - манжеты, которые Шурочка соорудила из хирургической белой шапочки. На голове красовалась зеленая дамская шляпка перьями вороны, а из-под нее торчали светлые волосы. В ход пошла драгоценность лейтенанта - мочалка. Труднее всего было с обувью, остановились было на том, что Петр будет босой. Но подполковник Боровский пожертвовал на один вечер свои домашние тапочки, понимая, что вряд ли они вернутся к нему в первозданном виде. Тапочки были большого размера и сваливались. Шурочка шилом проделала в них дырочки и подвязала к ногам тонкой бечевкой, а заодно и подтянула носки тапочек так, что они загнулись, как традиционные клоунские башмаки.
Вайсман остался в своей одежде, хотели было приспособить ему усы из мочалы, но они не держались на его худеньком лице даже приклеенные хорошей дозой коллодия, и при светлых усах лицо юноши казалось совсем темным. Пришлось отказаться. Фролов надел добротную солдатскую гимнастерку и начистил сапоги.
Шурочка была в летнем платье цветочками с пышными подложенными по моде плечами. А вот туфель не нашлось, а со склада она что-либо взять категорически отказалась. Так и появилась в платье и сапогах.
Дети расселись большим кругом прямо на землю возле барака. Сзади толпились взрослые. Чуть не весь лагерь пришел.
Волновались все. И артисты, и зрители. Лошадь нетерпеливо перебирала ногами, стоя за бараком. Ей тоже передалось волнение людей.
"Ах, папы нету!" - подумал Петр, стоя рядом с лошадью и оглаживая ее. Теплая шкура мелко вздрагивала под рукой.
На "манеж" вышли лейтенант и Вайсман. Петр слышал, как притих "зал". Лейтенант должен был объявить начало по-русски, Вайсман перевести его слова на немецкий. А так как русского Вайсман не понимал, то выучил свой текст наизусть.
Потом Петр услышал.
– Ребята, товарищи! Сегодня у нас маленький праздник. Наша Красная Армия продвинулась вперед, и больше никогда фашистам не вернуться сюда.
Зрители радостно захлопали, закричали "ура!". Когда крики стихли, лейтенант сказал:
– А какой праздник без концерта! Сейчас вам будет показано веселое представление нашими, так сказать, доморощенными, артистами. Не судите их строго. Они очень готовились, и они постараются.
Вайсман сказал по-немецки:
– Начинаем наше представление, - и вынес стул.
Вышел Фролов с баяном. Ему захлопали. Он поклонился.
– Соло на баяне. Товарищ Фролов.
Фролов склонил голову к баяну, прислушиваясь к его дыханию, и заиграл. Одна за другой вплетались в мелодию русские песни. Пальцы послушно и быстро притрагивались к кнопкам. Сначала чуть болели, а потом разбегались.
Фролова долго не отпускали, заставляли играть еще и еще, а потом хором пели под баян "Катюшу".
Лейтенант похлопал Фролова по плечу:
– Ну как, доволен?
– Чего там! - Фролов был счастлив.
Потом пела Шурочка. Она очень стеснялась и робела, но зрители слушали ее с таким удовольствием, а иногда даже подпевали, что постепенно робость исчезла, голос окреп. Ее тоже долго не отпускали требовали еще песен. Она повторила "Синий платочек".
Петра трясло, как в лихорадке, начали дрожать руки. Каждый выход на манеж - волнение, но так он еще никогда не волновался. Ему казалось, что он ничего не сможет, ничего… Словно все позабыл: как идти, что говорить, что делать?…
Лошадь повернула к нему морду, ткнула мягкими губами в разрисованную губной помадой щеку. Он тронул ее за повод, и она послушно пошла следом. Он вышел из-за барака, как в тумане проследовал по образовавшемуся коридору в круг. Закричал по-петушиному, когда-то Мимоза:
– А вот и я!
И споткнулся о тапочку. Взаправду споткнулся и упал. И это разозлило его. Нельзя падать, когда не надо. Подбежал Вайсман, помог ему подняться. Петр огляделся: вокруг сидели на земле дети, восторженно хлопали и смеялись. Им понравился этот нелепый, неуклюжий клоун, может быть, они никогда не видели другого!
Он повернулся спиной к понуро стоящей лошади и спросил высоким фальцетом:
– А где моя любимая лошадь?
– Сзади, сзади! - закричали дети.
Петр обернулся и посмотрел под ноги, потом посмотрел с другой стороны. Лицо его стало обиженным.
Дети смеялись.
Сивка шагнула к нему и ткнулась носом в затылок. В настоящем цирке бог знает сколько надо было бы репетировать, чтобы лошадь вот так подошла и ткнулась в затылок. А она сама! Живет на свете удача!
Петр обернулся, схватил лошадиную морду обеими руками, крикнул:
– Вот она моя сивка-бурка!
И чмокнул лошадь в нос, отставив ногу.
– Сейчас я покатаюсь!
Петр заскакал вокруг лошади, держась за ее спину, но никак не мог залезть на нее.
– Помоги-ка…
Вайсман подсадил Петра, и тот оказался верхом лицом к хвосту. Лицо его вытянулось в недоумении, рот приоткрылся, зеленая шляпка сползла набок. Он сокрушенно крикнул:
– А куда же делась голова?
Ему ответили дружным смехом. И только сейчас он услышал галоп, который играл Фролов, увидел смеющегося лейтенанта и подполковника Боровского, с растянувшимся в широкой улыбке ртом. И ему стало легко. Он сполз с лошади, воинственно уткнул руки в бока и, сделав свирепое лицо, стал наступать на Вайсмана.
– Где голова? Положь на место голову!
– Голова! Голова! - радостно кричал Вайсман, тыкая пальцем в сторону лошади.
Разъяренный Петр подбежал к ней, схватил за хвост и, показывая его всем, запричитал:
– Это голова? Это грива? Дежурный! - Он выхватил из кармана свисток и засвистел.
 Дальше все пошло, как репетировали. Петр "проглотил" свисток ругался с Вайсманом, и вместо слов раздавался свист. Потом Вайсман похлопал его по спине и свисток выскочил на ладонь.
Петр скакал на лошади стоя, рвал газету - и она оказывалась целой, жонглировал яблоками и под конец бросил их ребятишкам. Из-за яблок началась свалка, всем хотелось завладеть ими, и тут Петр захлопал в ладоши, и двое бойцов вынесли на "манеж" большую корзину яблок, и Петр с Вайсманом шли рядом и раздавали ребятишкам яблоки. Губная помада на лице размазалась, по спине текли струйки пота…
Фролов снова заиграл "Катюшу", и все запели. К Петру подошел подполковник Боровский.
– Ну, Лужин, спасибо! Теперь я верю, что вы - настоящий артист.
– А раньше не верили?
– Раньше… - Боровский усмехнулся. - Раньше было раньше.
Вечером ефрейтор Егги сказал:
– Намучалась лошадь. - Не сердито, просто что-нибудь сказать. - Да и ты намучался…
Петр улыбнулся.
– Каждый вечер вот так!
И непонятно было, то ли он говорил о прошлом, то ли мечтал о будущем.
Дальше все пошло, как репетировали. Петр "проглотил" свисток ругался с Вайсманом, и вместо слов раздавался свист. Потом Вайсман похлопал его по спине и свисток выскочил на ладонь.
Петр скакал на лошади стоя, рвал газету - и она оказывалась целой, жонглировал яблоками и под конец бросил их ребятишкам. Из-за яблок началась свалка, всем хотелось завладеть ими, и тут Петр захлопал в ладоши, и двое бойцов вынесли на "манеж" большую корзину яблок, и Петр с Вайсманом шли рядом и раздавали ребятишкам яблоки. Губная помада на лице размазалась, по спине текли струйки пота…
Фролов снова заиграл "Катюшу", и все запели. К Петру подошел подполковник Боровский.
– Ну, Лужин, спасибо! Теперь я верю, что вы - настоящий артист.
– А раньше не верили?
– Раньше… - Боровский усмехнулся. - Раньше было раньше.
Вечером ефрейтор Егги сказал:
– Намучалась лошадь. - Не сердито, просто что-нибудь сказать. - Да и ты намучался…
Петр улыбнулся.
– Каждый вечер вот так!
И непонятно было, то ли он говорил о прошлом, то ли мечтал о будущем.

Часть вторая. ПАВЕЛ.

1
Какая длинная, тяжелая зима! Гитлеровцы словно начинили горы пехотой, артиллерией, танками… Всполошились, чуют - конец близок! И за отрядом шли фашисты по пятам, как шакалы, не давали ни передохнуть, ни обсушиться. И вдруг исчезли… Ни выстрела, ни снежного хруста… Не иначе как переправили фашистов на восток, в Карпаты. Ждут нового наступления Красной Армии. Тучи над горами висят низко, темные, вздувшиеся, прилипают к вершинам Сыплет, не переставая, крупный мохнатый снег, тропы раскисли. Измученные, голодные, продрогшие, бойцы выбиваются из сил. Связи с центром нет, связные не возвращаются. А если и возвращаются, то не так просто найти отряд. Он все время в движении: минирует дороги, устраивает завалы, нападает на обозы немцев Павел, пожалуй, выносливее многих. Даже здесь, в горах, утр0 у него начиналось с зарядки. Верно говорят: привычка - вторая натура После боя на шоссе, когда командир подарил ему свой портсигар, его больше не считали "недомерком", не старались спрятать от пули, он стал бойцом, как все, словацким партизаном. Привалы унылы. Деревья не укрывают от мокрого снега. Набухла одежда, отяжелели вещмешки, крупно смолотая кукуруза сама по себе превращается в мамалыгу - хоть ложкой черпай. На оружии сквозь смазку проступают предательские пятна ржавчины. Хорошо хоть, немцы не давят на пятки - можно развести костерок. Правда, тепла от него не жди - один едкий дым: лежалый сушняк давно уж не "сушняк", а "мокряк". Но все же и дым - теплый, жилье напоминает. На одном из привалов командир позвал Павла к своему костру. – Говорят, у тебя мать немка? – Да. - Павел насторожился, нахохлился. Почему командир задал этот вопрос? Разве в отряде нет немцев? Немка - еще не фашистка. Командир улыбнулся. – Ну-ну… Не пузырься. Говорят, ты по-немецки чешешь, как по-русски. Павел кивнул. – Пойдешь с нами. Павел не стал спрашивать: куда? Не положено. Только поднялся, готовый идти куда прикажут. – Сиди, - сказал командир. - Чуть попозже, как стемнеет. - Он отвел взгляд от Павла и стал пристально смотреть на бегающие по сырым головешкам огоньки. Головешки "стреляли" маленькими клубами пара, иногда внезапно оседали, выбрасывая сноп ярких оранжевых искр. И полз над ними густой дым, переливался сизо-сиреневым, алым, синим. Если закрыть глаза, шум костра напоминает шум отдаленного боя. Командир сидел молча, глядел на костер и думал, и думы его, видать, были не легкими, потому что угрюмая складка четко обозначилась между бровей и глубокие скорбные морщины легли у губ. Сколько лет командиру? Рассказывали, он, раненным, попал в плен. Сидел в концентрационном лагере. Сколотил там группу отчаянных парней, которым было все нипочем. Организовал побег, но его поймали. И отправили в другой лагерь, который обслуживал военный завод. В цехах под землей точили артснаряды и авиабомбы. Завод и лагерь были окружены колючей проволокой. Всюду стояли пулеметные вышки, охрана ходила с овчарками. Только фашисты могли вырастить такую злобную породу. Они все время скалились и готовы были вцепиться в любого, лишь отпусти поводок. Кормили плохо. Заключенные умирали от истощения. Командир и там задумал побег. Он готовился в глубокой тайне. Товарищи, которые помогали смельчакам, рисковали жизнью. Покойников выносили и закапывали сами заключенные, немцы только наблюдали. Этим и решили воспользоваться. Пятерых умерших товарищей, после осмотра вечно пьяного лагерного врача, который подписывал акт о смерти, спрятали под нарами, сняв с них полосатые куртки с номерами на груди. Эти куртки надели командир и его товарищи. После обеда "похоронная команда" положила их на телегу, и старая кляча повезла за ворота. Беглецы лежали лицами вверх, чтобы охрана у ворот могла видеть номера на куртках. На лица набросили небрежно кусок брезента. Главное - проскочить ворота. Потом в бараке обнаружат еще пять покойников, на которых надели куртки бежавших. Охрана сверила номера на куртках с номерами в акте о смерти. Шевельнись кто-нибудь в телеге, чихни, вздохни и - конец! Но никто не шевельнулся, не вздохнул. Охранник махнул рукой. Старая кляча выкатила телегу за ворота." "Похоронная команда" брела рядом, опираясь на лопаты, как на палки, а следом шел автоматчик с собакой. Телегу подкатили ко рву. Брали мнимых покойников за руки и за ноги и, качнув несколько раз, как делали это обычно, бросали в ров на слой мертвецов, брошенных сюда вчера и позавчера. Автоматчик стоял поодаль, собака сидела у его ног, оба равнодушно смотрели, как бросают полосатые трупы. Потом заключенные из "похоронной команды" засыпали "мертвых" землей, стараясь меньше сыпать на головы, сложили лопаты на телегу и побрели назад. До наступления темноты пятеро беглецов лежали, не смея согнать с лиц ползающих мух. А когда стало темно и в лагерной зоне зажглись прожектора, беглецы по одному выползли из рва и ушли в ночь. Историю этого побега знал весь отряд. Двое избежавших с командиром тоже здесь, а двое погибли. Один нарвался на патруль, вступил в рукопашную схватку, и его застрелили в упор. А второй, француз Поль, умер почти что на руках Павла. Веселый француз, которому фашисты отбили легкие. Сколько же лет командиру? Может, и не так уж много, просто пережитое, а не время нарезало на его лице морщины. – Такое дело, Павел, - неожиданно произнес командир. - Тут ребята провод нашли. Можешь послушать? Павел удивленно поднял брови. – Мы подключимся, трубка есть. А ты послушай повнимательней. Мало ли!… – Конечно, товарищ командир!… В горах не как на равнине, темнеет быстрее, ночь не с неба опускается, а выползает из ущелий. На вершине еще день, а здесь, внизу, уже ночь склеила заснеженные деревья в одну дремучую черно-белую массу. – Пошли, - сказал командир. Павел поднялся и двинулся вслед за командиром во тьму, приметив, как вперед соскользнули две тени - разведчики. Шли довольно долго. Глаза никак не привыкали к темноте, фигура командира не виделась, а, скорее, угадывалась впереди. Ноги вязли в глубоком снегу, Павел то и дело спотыкался о невидимые камни и чувствовал от этого досаду, потому что старался идти тихо, а под ногами скрипело и хлюпало. – Тут, - произнес кто-то рядом, и Павел чуть не наткнулся на командира. – Подключай, - сказал командир. Впереди завозились, чиркнули спичкой, вспыхнул слабый огонек. Сверкнуло лезвие ножа. Спичка погасла. Тьма стала еще гуще. – Давай, Павел! Павел подошел, командир сунул ему в руку холодную мокрую трубку. Он прижал ее к уху. В трубке что-то слабо потрескивало и шуршало. Как ни вслушивался Павел, ничего больше не слышал. – Ну! - нетерпеливо произнес командир. Павел отрицательно помотал головой. Он не знал, можно ли отвечать, не услышат ли его те, что держат трубки на концах этого провода! Командир понял его. – Чтоб тебя слышали, надо нажать рычаг на трубке. – Ясно. Ничего, товарищ командир. – Слушай. Заговорят. Не для того провод по горам тянули. Павел кивнул, не отрывая ухо от трубки. Откуда и куда этот провод? Он представил себе связиста, идущего вверх. За спиной его крутится катушка, отматывается двужильный провод. Откуда? Куда? В трубке что-то щелкнуло. Павел насторожился. – Але, але! Гора! Я - Камень, я - Камень… Гора! - произнес в трубке низкий, простуженный голос так внятно, что Павел отшатнулся. - Гора! Я - Камень. Как слышите? – Да слышу-слышу! - откликнулся ленивый дискант. - Это ты, Ганс? – А кто ж еще! Свинья Мольман дрыхнет, и метель ему нипочем! – А у вас метель? - спросил дискант. – А у вас нет? – Махнемся? Я тебе - нашу, ты мне - вашу. – Францихен, ты все такой же… - Тут простуженный голос произнес слово, которого Павел не понял. Ленивый хмыкнул. – Ты чего звонишь? – Проверка линии. В трубке снова щелкнуло, и осталось только шуршание и потрескивание. Павел пересказал услышанный разговор командиру. – Да-а… Не густо. А все же слушать надо. Франек, останешься с Павлом. В случае любой тревоги - уходите. Можете подремать по очереди, но трубку слушать. Если начнут разговор - трубку отдаешь Павлу. Все ясно? Один из разведчиков шевельнулся, но ничего не ответил. Так это Франек! Как же он его сразу не узнал? По калошам? Франек уснул у костра, и сапоги на нем истлели, и шерстяные носки, и проснулся он только тогда, когда начало жечь пятки. Теперь Франек ходит в калошах, привязанных к ногам парадными шнурами с офицерского мундира. Командир и второй разведчик ушли, а Павел и Франек остались. – Маш пофайчить? - спросил тихо Франек. – Нет. Не курю, - по-русски ответил Павел. Франек вздохнул. В трубке все потрескивало и шуршало. – А куда провод? - спросил Павел. Франек пожал плечами, уселся поудобнее, привалился к толстому стволу, закрыл глаза. Командир разрешил подремать.
 – Разбуди, если что… - обронил он сквозь зубы и мгновенно засопел тоненько.
Тихое сопение сливалось с потрескиванием и шелестом в телефонной трубке. Павел тоже уселся бы поудобнее, но провод трубки был короток. Немцы молчали. Павел вспомнил, как он по утрам звонил Петьке в гостиницу, голосом доктора Доппеля спрашивал маму. Сейчас бы Петьку сюда, пусть посмотрит, как он, Павел, партизанит в горах Словакии! Нет, Петька не из таких, что со стороны смотреть могут. Петька бы тоже стал партизаном. А уж с Петькой вдвоем они такого натворили бы!… А если б еще папу и маму сюда! А может быть, папа там, за перевалом? Идет с Красной Армией навстречу ему, Павлу? Очень даже может быть. А вот где Петька и мама?… Нет, в гибель их он не верит. Скорее всего, они партизанят. И доктор Доппель сказал, что их захватили партизаны. Для него партизаны - это смерть. Он же не знает, что для мамы и Петра - это жизнь. Он же ни о чем даже не догадывался, доктор Доппель. Ни разу он, Павел, не выдал себя ни словом, ни жестом.
– Але! Гора! Я - Камень, - захрипела трубка.
– Здесь Гора.
– Франц, твой гауптман далеко?
– А что?…
– Обер-лейтенант Юнге желает с ним поговорить.
– Он у оберста.
– Балуются шнапсом? - ехидно спросил простуженный.
– Твое счастье, что не слышит герр оберст. Он бы из тебя сделал свиную отбивную на закуску.
– Где оберст - где мы! - неопределенно хмыкнул простуженный. - Скажи своему гауптману, что мой обер-лейтенант ждет его звонка. Отбой.
– Отбой! - откликнулся дискант.
Щелчок. Павел некоторое время слушал молча шорохи в трубке, потом вдруг сказал голосом простуженного:
– Обер-лейтенант Юнге вызывает герра гауптмана.
И тут же сам себе ответил дискантом:
– Гауптман у герра оберста ест свиную отбивную.
Франек схватился за автомат:
– Немцы?
Павел засмеялся.
– Да нет, спи, Франек. Это я разговаривал.
– С кем?
– Да с самим собой.
Франек не понял, озирался, водя стволом автомата.
– Это я… Я говорил. Ну, как будто они. Спи, Франек. - И повторил хриплым басом: - Обер-лейтенант Юнге вызывает герра гауптмана.
Франек показал ему кулак и, все еще озираясь, стал снова укладываться.
Ночь тянулась томительно. Снег все сыпал и сыпал, во всем мире, наверно, белым-бело. Трубка молчала. Павла клонило ко сну, но жалко было будить Франека, а тот сам не просыпался. Павел клевал носом, очень боялся заснуть и выпустить из рук мокрую трубку.
И вдруг:
– Камень, Камень! Я - Гора! Отвечайте! Я - Гора!…
– Камень слушает, - откликнулся простуженный сонно.
– Дрыхнешь, Ганс?
– С тобой выспишься.
– Буди своего обер-лейтенанта. На проводе гауптман Брук.
– Сейчас.
Прошло минуты две молчания, потом молодой мужской голос произнес:
– Обер-лейтенант Юнге слушает.
– Клаус, опять нарушаешь инструкцию, ск-казано н-никаких чинов, н-никаких имен, - голос был ровным, с низкими нотами и чуть спотыкающимся. Говорящий слегка заикался.
– Хорошо порезвились?
– Т-ты что, не знаешь оберста? В-весь вечер торчали над картами.
– Чего ради?
– Г-готовим оборону. В-вам там на верхушке д-должно быть в-вид-нее, что творится.
– Особенно ночью, да еще в метель! - насмешливо откликнулся обер-лейтенант.
– Н-не проспите красных.
– А что, уже близко?
– Не телеф-фонный разговор.
– Нас тут продувает насквозь. Облака лезут прямо под шинель. Пушки и те скоро отжимать придется. Мориц, будь человеком, пришли шнапса.
– М-может быть, к-коньяку? - спросил гауптман, и Павел услышал смешок.
– Да прокачивайте свой коньяк сами. Нам бы самого паршивого шнапсу. Только побольше. Шнапсу, Мориц, шнапсу!
В трубке замолчали, потом гауптман сказал потускневшим голосом:
– Забрало тебя не на шутку.
– Какие шутки, Мориц! Закопаться мы в гору кое-как закопались, а откапывать другим придется, если нас не отогреть.
– Ладно, утром пошлю по канистре на взвод, только боюсь, мои солдаты з-заплутаются.
– А пусть по проводу идут, - посоветовал повеселевшим голосом обер-лейтенант. - Подъем, конечно, крутенек и снегу по горло, зато путь короче. А мы встретим!
И снова потрескивание и шорох, будто по проводам гуляет метель.
– Франек! - позвал тихонько Павел.
Франек проснулся мгновенно. У многих партизан выработалось это свойство: засыпать и просыпаться мгновенно.
– Франек, поговорили они. - Павел помахал трубкой. - Сходи за командиром. Понимаешь? Командира сюда.
Франек заколебался: не было приказа оставлять товарища.
– Надо, Франек, надо, - Павел даже провел ребром ладони по горлу, чтобы показать, что очень надо.
Франек кивнул, бесшумно поднялся, подхватив автомат, и исчез в темноте. Как растворился.
Павел остался один. Он слушал шум в трубке, а сам настороженно всматривался во тьму. И не то чтобы ему становилось страшно, он не трус, не маленький мальчик, который боится темных углов. Да они с Петькой и маленькими ничего не боялись. Однажды из клетки каким-то образом вышел лев. Где ж это было? В Новосибирске или в Свердловске? Названия-то какие - Но-во-си-бирск, Сверд-ловск!… Или в Иркутске? Им тогда с Петькой было по пять лет. Сидят они у служебного входа в цирк и играют в камешки. И вдруг из двери на улицу выходит лев. "Гляди-ка, - сказал Петя. - Лев идет, и, наверно, без спросу". А он ему: "Еще под машину попадет". И так стало жалко льва, который может под машину попасть! Схватили они его, не сговариваясь, за мохнатую гриву. "Куда? - спросил Петька. - Нельзя тебе на улицу без хозяина", - сказал он и приказал льву лежать.
Лев лег, видно, шум улицы напугал его. Прохожие шарахались, а они лежали, обняв львиную гривастую теплую шею, на теплой каменной ступеньке, пока не пришел дрессировщик Пальчиков и не забрал льва. Все тогда удивлялись, как это мальчишкам не было страшно? А чего страшного, ведь они спасали льва, он мог попасть под машину или еще хуже, под трамвай.
Нет, и сейчас ему не страшно. Только какая-то холодная жуть вползает в сердце, словно и туда пробрались струйки текучего снега. И шорохи вокруг какие-то не такие, будто подкрадывается кто. Неуютно одному… Хрустнула ветка!… Показалось? Павел прижал трубку к уху плечом и обеими руками взял автомат. Мокрое холодное ложе успокаивало. Зверь ли, враг - сумеет встретить. А вообще-то надо думать о чем-нибудь постороннем. Бывали такие моменты, когда откуда-то приходила и вселялась в тебя неуверенность. Тебе, скажем, крутить двойное сальто-мортале, а в башке мысль: нет, не прокрутишь. Почему? Ведь не первый же раз! Пора крутить, а ты уже в себя не веришь. И тут надо подумать о чем-нибудь постороннем, но не понарошку, вот я, мол, думаю о постороннем. Надо так думать, чтобы та мысль в башке, что не прокрутишь, в уголок забилась! Чтобы ее и с фонарем не отыскать! Отчаянно надо думать. И тогда уж - крути. А не выйдет, разозлись и крути снова! Получится!
– Гора! Гора! Я - Камень. Как слышите? - раздалось в трубке.
– Заткнись, Ганс!… - тотчас откликнулся дискант. - Дай подремать.
– Фарнцихен, ваш гауптман утром посылает шнапс.
– Ну и что?
Ганс хихикнул:
– Канистра на взвод, все одно что слону капля.
– А тебе подавай цистерну! Как в Витебске.
– Не вспоминай, Франц!… В той цистерне доблестно утонул обер-ефрейтор Кушке, пусть земля ему будет пухом. Помнишь, привязал он к котелку веревочку и черпал через люк и вдруг пропал…
– Меня мутит от воспоминания…
– Будь мужчиной, Францихен! Мне не нужна цистерна, я хочу дотянуть до победы. А вот если ты пришлешь старому другу флягу…
– Ты всегда умел разжалобить, Ганс. Ладно, спроси у ребят. Не знаю, кто пойдет, но у кого-нибудь на поясе будет для тебя фляга.
– Я твой должник, Франц! Отбой.
Удивительное дело, все вокруг стало на место. И снег шуршит, как обычно, и тьма ночная не гуще других ночей. И вряд ли кто подкрадется к нему незаметно. Потому что и он сам для других незаметен. Ночь для всех одна. Отвлекли Ганс и Франц - и все стало на место.
Павел сидел неподвижно, прижимая трубку к уху плечом, не ощущая ни страха, ни тревоги, только зябкость и желание уснуть. Но спать нельзя.
– Разбуди, если что… - обронил он сквозь зубы и мгновенно засопел тоненько.
Тихое сопение сливалось с потрескиванием и шелестом в телефонной трубке. Павел тоже уселся бы поудобнее, но провод трубки был короток. Немцы молчали. Павел вспомнил, как он по утрам звонил Петьке в гостиницу, голосом доктора Доппеля спрашивал маму. Сейчас бы Петьку сюда, пусть посмотрит, как он, Павел, партизанит в горах Словакии! Нет, Петька не из таких, что со стороны смотреть могут. Петька бы тоже стал партизаном. А уж с Петькой вдвоем они такого натворили бы!… А если б еще папу и маму сюда! А может быть, папа там, за перевалом? Идет с Красной Армией навстречу ему, Павлу? Очень даже может быть. А вот где Петька и мама?… Нет, в гибель их он не верит. Скорее всего, они партизанят. И доктор Доппель сказал, что их захватили партизаны. Для него партизаны - это смерть. Он же не знает, что для мамы и Петра - это жизнь. Он же ни о чем даже не догадывался, доктор Доппель. Ни разу он, Павел, не выдал себя ни словом, ни жестом.
– Але! Гора! Я - Камень, - захрипела трубка.
– Здесь Гора.
– Франц, твой гауптман далеко?
– А что?…
– Обер-лейтенант Юнге желает с ним поговорить.
– Он у оберста.
– Балуются шнапсом? - ехидно спросил простуженный.
– Твое счастье, что не слышит герр оберст. Он бы из тебя сделал свиную отбивную на закуску.
– Где оберст - где мы! - неопределенно хмыкнул простуженный. - Скажи своему гауптману, что мой обер-лейтенант ждет его звонка. Отбой.
– Отбой! - откликнулся дискант.
Щелчок. Павел некоторое время слушал молча шорохи в трубке, потом вдруг сказал голосом простуженного:
– Обер-лейтенант Юнге вызывает герра гауптмана.
И тут же сам себе ответил дискантом:
– Гауптман у герра оберста ест свиную отбивную.
Франек схватился за автомат:
– Немцы?
Павел засмеялся.
– Да нет, спи, Франек. Это я разговаривал.
– С кем?
– Да с самим собой.
Франек не понял, озирался, водя стволом автомата.
– Это я… Я говорил. Ну, как будто они. Спи, Франек. - И повторил хриплым басом: - Обер-лейтенант Юнге вызывает герра гауптмана.
Франек показал ему кулак и, все еще озираясь, стал снова укладываться.
Ночь тянулась томительно. Снег все сыпал и сыпал, во всем мире, наверно, белым-бело. Трубка молчала. Павла клонило ко сну, но жалко было будить Франека, а тот сам не просыпался. Павел клевал носом, очень боялся заснуть и выпустить из рук мокрую трубку.
И вдруг:
– Камень, Камень! Я - Гора! Отвечайте! Я - Гора!…
– Камень слушает, - откликнулся простуженный сонно.
– Дрыхнешь, Ганс?
– С тобой выспишься.
– Буди своего обер-лейтенанта. На проводе гауптман Брук.
– Сейчас.
Прошло минуты две молчания, потом молодой мужской голос произнес:
– Обер-лейтенант Юнге слушает.
– Клаус, опять нарушаешь инструкцию, ск-казано н-никаких чинов, н-никаких имен, - голос был ровным, с низкими нотами и чуть спотыкающимся. Говорящий слегка заикался.
– Хорошо порезвились?
– Т-ты что, не знаешь оберста? В-весь вечер торчали над картами.
– Чего ради?
– Г-готовим оборону. В-вам там на верхушке д-должно быть в-вид-нее, что творится.
– Особенно ночью, да еще в метель! - насмешливо откликнулся обер-лейтенант.
– Н-не проспите красных.
– А что, уже близко?
– Не телеф-фонный разговор.
– Нас тут продувает насквозь. Облака лезут прямо под шинель. Пушки и те скоро отжимать придется. Мориц, будь человеком, пришли шнапса.
– М-может быть, к-коньяку? - спросил гауптман, и Павел услышал смешок.
– Да прокачивайте свой коньяк сами. Нам бы самого паршивого шнапсу. Только побольше. Шнапсу, Мориц, шнапсу!
В трубке замолчали, потом гауптман сказал потускневшим голосом:
– Забрало тебя не на шутку.
– Какие шутки, Мориц! Закопаться мы в гору кое-как закопались, а откапывать другим придется, если нас не отогреть.
– Ладно, утром пошлю по канистре на взвод, только боюсь, мои солдаты з-заплутаются.
– А пусть по проводу идут, - посоветовал повеселевшим голосом обер-лейтенант. - Подъем, конечно, крутенек и снегу по горло, зато путь короче. А мы встретим!
И снова потрескивание и шорох, будто по проводам гуляет метель.
– Франек! - позвал тихонько Павел.
Франек проснулся мгновенно. У многих партизан выработалось это свойство: засыпать и просыпаться мгновенно.
– Франек, поговорили они. - Павел помахал трубкой. - Сходи за командиром. Понимаешь? Командира сюда.
Франек заколебался: не было приказа оставлять товарища.
– Надо, Франек, надо, - Павел даже провел ребром ладони по горлу, чтобы показать, что очень надо.
Франек кивнул, бесшумно поднялся, подхватив автомат, и исчез в темноте. Как растворился.
Павел остался один. Он слушал шум в трубке, а сам настороженно всматривался во тьму. И не то чтобы ему становилось страшно, он не трус, не маленький мальчик, который боится темных углов. Да они с Петькой и маленькими ничего не боялись. Однажды из клетки каким-то образом вышел лев. Где ж это было? В Новосибирске или в Свердловске? Названия-то какие - Но-во-си-бирск, Сверд-ловск!… Или в Иркутске? Им тогда с Петькой было по пять лет. Сидят они у служебного входа в цирк и играют в камешки. И вдруг из двери на улицу выходит лев. "Гляди-ка, - сказал Петя. - Лев идет, и, наверно, без спросу". А он ему: "Еще под машину попадет". И так стало жалко льва, который может под машину попасть! Схватили они его, не сговариваясь, за мохнатую гриву. "Куда? - спросил Петька. - Нельзя тебе на улицу без хозяина", - сказал он и приказал льву лежать.
Лев лег, видно, шум улицы напугал его. Прохожие шарахались, а они лежали, обняв львиную гривастую теплую шею, на теплой каменной ступеньке, пока не пришел дрессировщик Пальчиков и не забрал льва. Все тогда удивлялись, как это мальчишкам не было страшно? А чего страшного, ведь они спасали льва, он мог попасть под машину или еще хуже, под трамвай.
Нет, и сейчас ему не страшно. Только какая-то холодная жуть вползает в сердце, словно и туда пробрались струйки текучего снега. И шорохи вокруг какие-то не такие, будто подкрадывается кто. Неуютно одному… Хрустнула ветка!… Показалось? Павел прижал трубку к уху плечом и обеими руками взял автомат. Мокрое холодное ложе успокаивало. Зверь ли, враг - сумеет встретить. А вообще-то надо думать о чем-нибудь постороннем. Бывали такие моменты, когда откуда-то приходила и вселялась в тебя неуверенность. Тебе, скажем, крутить двойное сальто-мортале, а в башке мысль: нет, не прокрутишь. Почему? Ведь не первый же раз! Пора крутить, а ты уже в себя не веришь. И тут надо подумать о чем-нибудь постороннем, но не понарошку, вот я, мол, думаю о постороннем. Надо так думать, чтобы та мысль в башке, что не прокрутишь, в уголок забилась! Чтобы ее и с фонарем не отыскать! Отчаянно надо думать. И тогда уж - крути. А не выйдет, разозлись и крути снова! Получится!
– Гора! Гора! Я - Камень. Как слышите? - раздалось в трубке.
– Заткнись, Ганс!… - тотчас откликнулся дискант. - Дай подремать.
– Фарнцихен, ваш гауптман утром посылает шнапс.
– Ну и что?
Ганс хихикнул:
– Канистра на взвод, все одно что слону капля.
– А тебе подавай цистерну! Как в Витебске.
– Не вспоминай, Франц!… В той цистерне доблестно утонул обер-ефрейтор Кушке, пусть земля ему будет пухом. Помнишь, привязал он к котелку веревочку и черпал через люк и вдруг пропал…
– Меня мутит от воспоминания…
– Будь мужчиной, Францихен! Мне не нужна цистерна, я хочу дотянуть до победы. А вот если ты пришлешь старому другу флягу…
– Ты всегда умел разжалобить, Ганс. Ладно, спроси у ребят. Не знаю, кто пойдет, но у кого-нибудь на поясе будет для тебя фляга.
– Я твой должник, Франц! Отбой.
Удивительное дело, все вокруг стало на место. И снег шуршит, как обычно, и тьма ночная не гуще других ночей. И вряд ли кто подкрадется к нему незаметно. Потому что и он сам для других незаметен. Ночь для всех одна. Отвлекли Ганс и Франц - и все стало на место.
Павел сидел неподвижно, прижимая трубку к уху плечом, не ощущая ни страха, ни тревоги, только зябкость и желание уснуть. Но спать нельзя.
2
Окно палаты, в которой лежал Василь, выходило на асфальтированный дворик, ограниченный кирпичной оштукатуренной стеной чуть выше человеческого роста. Летом по двору ветер гонял белые шары, скатанные из тополиного пуха; осенью разливались большие дождевые лужи - приходилось прокладывать дощатые мостки; зимой заваленная снегом стена становилась ниже - через нее можно было чуть ли не перешагнуть. А весной, когда улицы уже просыхали, отзвенев ручейками, под стеной еще лежал серый рыхлый снег. Он и нынче лежит, и от него тянет холодом. Толик подтащил несколько ящиков, составил их пирамидой, чтобы добраться до Василева окна. Катерина помогала ему. Несколько раненых сидели прямо посередине двора на таких же ящиках. Здесь светило солнце, парил нагретый асфальт, можно было расстегнуть ватники, а один поотчаянней вовсе снял ватник и рубаху и подставил весеннему солнцу белую спину. – Эй, зря стараетесь! Нету вашего Василя в палате, - крикнул один из раненых, дядя Костя, у которого были перебинтованы обе руки. – Как это нету? - обернулся Толик. - Был-был и нету? – Увезли его. – Куда увезли? - насторожился Толик. – Известно, в операционную. Глаза разувать будут. Катерина ойкнула. – Чего ты пугаешься? - ласково сказал тот, что подставлял спину солнцу. - Это ж хорошо. Человек прозреть должен. – Думаете, увидит? - с надеждой спросил Толик. Раненые переглянулись. – Думай не думай… - произнес дядя Костя. - Должен. Раз доктор сказал, то должен. Садись-ка вот и жди. Толик подтащил два ящика, для себя и Катерины, сел. – Садись, Катюня. Возле стены Серый передними лапами разгребал снежную кучу. Замирал на мгновение, опускал голову, принюхивался и снова принимался разгребать. – Видать, косточку почуял, - сказал дядя Костя. – Ну и псина у тебя! - воскликнул раненый, возле которого на асфальте лежали костыли. - Такой и за глотку схватить может. – Тебя схватишь, - засмеялся другой. - Ты сам кого хошь схватишь. – Гитлера - схвачу, - отбрил владелец костылей. Фамилия у него была интересная - Колечко. И пожалуй, не было никого в госпитале, кто не спел бы ему хоть разок: "Потеряла я колечко, а с колечком и любовь…" В ответ Колечко делал вид, что бросает в обидчика костыль, хотя нисколько не обижался. Обижался он только на собственную судьбу. Это надо ж!Ну хоть бы огнестрельная рана или там осколками. А то с крыши упал! С самого первого дня в боях. Пули - мимо, словно кругом облетали, как завороженного. Он и не верил в пулю. Не отлил еще для него Гитлер! А тут бой на улице. Из-за угла носа не высунешь. Фрицы засели на крыше с пулеметом. – Разрешите, товарищ командир, я их оттуда турну? Покусал командир зубами свой рыжий ус. – Давай, Колечко. Выручай. А из-за угла не высунься, поливают фрицы! Они ж не знают, что его пуля не берет, убить могут ненароком. Тогда вышиб Колечко прикладом стекло в окне и влез в чью-то квартиру. Стол стоит, диван, буфет. Фото на стене висят, да рассматривать времени нет. Попал в коридор. А там на полу женщина сидит в зимнем пальто, вся платками укутанная, на голове - котелок чугунный, а к животу полотенцем большая чугунная сковорода привязана. Колечко даже не удивился, некогда удивляться. Только спросил: – Чего это вы, бабуся, обрядились? – Так стреляют же! - ответила "бабуся" звонким девичьим голосом. – Это точно! - подтвердил Колечко. - Где тут у вас выход во двор? "Бабуся" поднялась с пола, взяла его за руку и, пригибаясь на всякий случай, провела за собой во тьму. Чего-то грохнулось, то ли таз, то ли корыто. – Я вам стекло вышиб. Извиняйте. Вернусь - починю. "Бабуся" вывела его на лестницу, пропахшую кошками. – Эта дверь на двор. – Спасибочки. Колечко выглянул во двор. Пусто. Ринулся к подворотне. Теперь улицу перескочить. Фрицы на крыше противоположного дома. Эх, была не была! Выскочил на улицу и, петляя по-заячьи, рванул на ту сторону. Потом по лестнице вверх, по сбитым цементным ступеням. Этаж, второй, третий… Двери на чердак, верно, снарядом снесло. Во как разворочено! Высунулся в чердачное окно. Вот они, голубчики. Двое. Устроились, гады! Поднял автомат. Жмет на спуск. Что за дьявольщина! Не стреляет. Патронов нет. Весь боезапас расстрелял! А у этих есть! Вон, целый ящик рядом. Выскочил Колечко на крышу - и к пулеметчикам. Пулемет ногой шибанул. Фрицев схватил за шкирки, как щенков паршивых, приподнял - откуда и сила взялась! - толкнул вниз. Один успел за Колечко ухватиться. И пришлось Колечко вместе с фрицами вниз с крыши лететь. Фрицы насмерть расшиблись. А Колечко ноги вот сломал. Обидно. – И Серый Гитлера за глотку схватит, - сказал Толик и крикнул собаке: - Гитлер капут! Гав-гав, - свирепо откликнулся Серый. Раненые засмеялись. – Собака, а соображает, - сказал дядя Костя одобрительно. - Ну-ка, Толик, сверни-ка мне. Кисет в кармане. Толик достал из кармана дяди Костиного ватника затейливо расшитый цветными нитками кожаный кисет. В нем лежали аккуратно сложенный газетный лист, коробок спичек и крупнорезанная темно-зеленая махорка. Ловко свернул длинный фунтик из кусочка газеты, сломал его пополам, насыпал махорки, сунул в приоткрытый дяди Костин рот. Чиркнул спичку. Дядя Костя зажал "козью ножку" меж перебинтованных рук. Он был танкистом. В танк ударил фашистский снаряд. Танк загорелся. Открыли нижний люк. Командир приказал уходить, а сам прилип к пушке, завертел башней, потому что к горящему танку полным ходом шли два танка противника, а за ними бежали автоматчики. И никто не покинул машину, не оставил командира. Стреляли, пока задыхаться не начали. Один немецкий танк завертелся на месте, теряя гусеницу. Второй тоже остановился и задымил. Автоматчики повернули назад. Уж как дядя Костя оказался на земле возле танка, вытащил его кто или сам выполз, он не помнил. Рядом лежал водитель, уже мертвый, обгорелый до неузнаваемости. А командир так и остался у орудия. Навечно. Дядя Костя выжил. "Против закона природы", - сказал врач. Днем это был общительный добрый человек, а по ночам стонал и скрипел зубами. Видно, долго еще будет задыхаться дядя Костя в синем дыму горящего танка. В двери, ведущей со двора на кухню, появилась Злата в белом халате и стоптанных туфлях на босу ногу. Волосы прихвачены белой косынкой. Раненые примолкли. И Злата стояла молча, на бледном усталом лице синели глаза. Катерина бросилась к ней, прижалась. Злата погладила ее плечи. – Ты что, Злата? - тихо спросил Толик. Злата всхлипнула и отвернулась, прижалась лбом к притолоке. – Василь? - Толик поднялся с ящика, глядел напряженно, будто готовился к драке. К нему подошел Серый, шерсть на холке стояла дыбом. – Видит он, видит… - сквозь всхлипывания сказала Злата. Раненые загалдели, заговорили все разом. Толик подошел к Злате. – Так чего ты ревешь, Крольчиха? – Так… От радости… - Она наклонилась, поцеловала Катерину. Та отерла Златины слезы со своей щеки. – Куцый сказал, что Василю новые глаза прибинтовали вместо старых. Прижились, значит? – Дурак твой Куцый, - засмеялась Злата сквозь слезы. - Свои У Василя глаза, свои… – Тогда чего ж ему прибинтовали? - недоуменно спросила Катерина. Колечко прихватил костыли, оперся на них, поднялся неуклюже. – И везет же вашему Василю! У тебя синеглазой сестрички нет? Или подружки? А то мне и потанцевать не с кем! – А ты отыщи свою, с котлом на голове, - посоветовал дядя Костя. – Тю!… Я ж не разглядел, что там под котлом. Раненые засмеялись. – Идемте, - позвала Злата Толика и Катерину. - Я вас к Василю проведу. – Уже можно? - спросила Катерина. – Ну, прогонят… Катерина пошла за Златой, а Толик стал быстро складывать ящики под окном. Доктора он побаивался, а со двора надежней, да и Серого с собой в госпиталь не возьмешь! Он забрался на ящики, поцарапал стекло. Никто не открыл. Он поднялся на цыпочки, прижался к стеклу носом. В щель между занавесок увидел Василя. Тот сидел на своей койке, прижавшись к подложенной под спину подушке. Глаза по-прежнему забинтованы. А напротив на стуле сидела Гертруда Иоганновна, держала в руках тетрадочные листки. Толик уже видел эти листки, письма Петра с фронта.
3
Три немца шли, не скрываясь, по заснеженной тропе, двое с мешками за плечами, у третьего в руках была свежесрезанная палка, и он опирался на нее. У всех троих на шеях висели автоматы, а полы шинелей для удобства были заткнуты под ремни. Немец с палкой все время посматривал вправо, где тянулся скрытый в кустах телефонный провод. Немцы не разговаривали, а только перекидывались отдельными словами, тропа шла круто вверх. Внезапно она свернула в сторону. А провод тянулся прямо. Они остановились на повороте. – Идем тропой? - полуспросил один из солдат. – Нет. Приказано идти вдоль провода, - откликнулся тот, что с палкой, видимо он был старшим и отвечал за поход. – У тебя есть запасные ноги? - сердито произнес третий. – Это у тебя запасной язык, - буркнул солдат с палкой и повторил решительно: - Пойдем вдоль провода. Нас встречают. Он сошел с тропы и стал карабкаться вверх, проваливаясь в глубокий снег, хватаясь за обнаженные мокрые ветки. Товарищи его, тяжело дыша, закарабкались следом. И тут сверху раздался молодой голос: – Стой! Кто идет? – Свои, - обрадованно откликнулся тот, что с палкой. – Пароль? – Бранденбург. – Ну здорово, горные орлы! Шнапс не ополовинили? Пришедшие засмеялись. Тот, что с палкой, сказал: – Ну и забрались вы! Трезвому не пройти. – Значит, цел шнапс, - весело сказал самый молодой из встречавших. - Как здоровье гауптмана Брука? – А чего ему сделается. У нас тихо. – Давай поможем, - предложил молодой. Немцы скинули мешки с канистрами. Молодой усмехнулся: – А автоматы не тянут? И тут немец с палкой заметил, что молодой одет не совсем по форме: на нем штатские коричневые штиблеты и черные блестящие краги. – Руки! - строго сказал молодой. И на пароль он не ответил. В растерянности немец вскинул палку, как автомат. Молодой засмеялся. – Что б вы так с самого начала воевали! С немцев сняли автоматы и стали снимать шинели и мундиры. Они не сопротивлялись, только удивленно моргали. – Вы немцы? - спросил тот, что с палкой. – Немцы, - сказал один из товарищей молодого. - Настоящие немцы. Можешь не сомневаться. Хотя вот он - русский. – Командир, они готовы, - сказал молодой. Откуда-то из-под снежной замяти появилось несколько человек, одетых пестро, кто во что. Один из них, в офицерской шинели с меховым воротником и в армейской шапке с суконными наушниками, сурово, без улыбки посмотрел на немцев, стоящих в одних рубашках. Потом повернулся к молодому и его товарищам: – Одевайтесь быстро. И этим бросьте что-нибудь. Замерзнут, потом возись с ними. Трое молча переодевались в немецкую форму. – Пароль усвоил? - спросил командир. – Бранденбург. – А отзыв? – Какой отзыв? - спросил молодой по-немецки. – Блиндаж, - оторопело ответил немец. – Палку давай. Немец протянул палку. Что-то автоматическое бы по в каждом его движении, словно он двигался, не соображая, не понимая, что произошло. Молодой взял палку. Двое его товарищей закинули на спины тяжелые мешки с канистрами, в которых был шнапс. Кто-то из пришедших с командиром вздохнул притворно-горестно: – Эх, какое горючее мимо проходит! Но командир повернул к нему каменно-суровое лицо, и он умолк. – Будь внимателен, Павел, и осторожен. – Есть, товарищ командир. У нас в цирке дрессировщик Пальчиков совал голову в пасть льва. Это пострашнее. – Здесь тебе не цирк. Здесь война. На всякий случай мы связь прервем. А вы действуйте по обстановке. - Командир протянул руку. - Ну успеха, артист! – Спасибо. Командир молча пожал руку двум другим товарищам, и Павел двинулся вперед вдоль провода. – И не очень спеши, - сказал вдогонку командир. Ноги утопали в голубоватых сугробах. Пар от тяжелого дыхания поднимался к голым заснеженным веткам и там таял. А с веток за шиворот сыпалась холодная белая пыль. Так они молча поднимались вперед: Павел и два немца-антифашиста. Задача простая: отнести фашистам канистры со шнапсом и вернуться, по возможности рассмотрев их позиции, прикинув: можно ли подобраться к тем позициям скрытно? Чем выше они подымались, тем плотнее становился туман вокруг, видимо к вершине прилипло плотное облако. Внезапно оно разорвалось, и они увидели над головой мокрые деревья, а над ними серое небо с другим слоем облаков. А между деревьев стояли два фашиста с автоматами наизготовку, нажмут на спуск - и конец. – Стой! Пароль? – Бранденбург, - ответил Павел хрипло. - Отзыв? – Блиндаж. – Ну и забрались вы! Трезвому не пройти, - произнес Павел ту же фразу, которую произнес тот, с палкой. Кто их знает, фашистов может быть, это какой-нибудь второй пароль? И спросил: - Далеко еще? – Дотащите. Встречавшие немцы двинулись было вперед, но Павел внезапно вспомнил ефрейтора Кляйнфингера, как тот жадно хлебал самогон прямо из горлышка, и предложил осторожно: – Может, подкрепимся? Встречавшие остановились и переглянулись. – Да не убудет шнапса. Все равно ваш обер-лейтенант одну канистру заберет себе. – Давай. Канистру вытащили из мешка и поставили на снег, все пятеро уселись вокруг нее. Павел открыл замок. Из канистры выполз сивушный дух. – Эх, зажевать нечем! - с досадой воскликнул один из товарищей Павла. Один из встречавших воровато оглянулся и достал из кармана банку свиной тушенки. Банка была в следах масла предохранительной смазки, к ней прилипли табачинки и какой-то мусор. Быстро вскрыли ее ножом. Павел искренне облизнулся, давно не ел он тушенки! К горлышку канистры припадали по очереди, останавливались с кряканьем, подхватывали ножом розовые в белом сале куски тушенки, зажевывали торопливо. Павел только мочил губы, делая вид, что пьет. Он еще ни разу в жизни не пил этой дряни. И пить не будет. Кончится война - ему в цирке работать. Какой же он вольтижер или жонглер после шнапса? Когда немцы хлебнули по нескольку раз и глаза у них заблестели, Павел закупорил канистру и натянул на нее мешок. – Только тихо! А не то ваш обер-лейтенант нам всыпет. – Понимаем, - осклабился один из встречавших. - Давай сюда. Понесу. Несколько сотен метров по крутому заснеженному склону - и они вышли на небольшое плато, изрытое траншеями. Вдали на еще более высоких вершинах клубились облака. Павел понял по направленным в ту сторону стволам орудий, что именно там, за теми вершинами, Красная Армия. Именно оттуда ее ждут немцы. Он увидел подходящего к ним обер-лейтенанта, шея и подбородок обмотаны пестрым шерстяным шарфом. Павел вскинул руку: – Хайль Гитлер! - И доложил по всем правилам, прижав ладони к бедрам и чуть оттопырив локти, еще в берлинской школе научился этой премудрости: - Господин обер-лейтенант, согласно приказу доставили две канистры со шнапсом. Рядовой Пауль Копф. – Молодцы! - обер-лейтенант Юнге махнул рукой, приказал торопливо подбежавшему фельдфебелю. - Заберите - и в землянку. - Копф… Что-то я тебя раньше не видел. – Так точно, господин обер-лейтенант, мы все трое из пополнения. Фольксштурм. Юнге неодобрительно оглядел двух солдат с морщинистыми лицами стариков. Видно, не очень хороши дела, если берут на фронт таких… сосунков и стариков. – Ганс! Мольман! Кто там есть! Из-под земли как черт из преисподней высунулся солдат с немытым, закопченным лицом. – Ганс, вызови Гору, скажи, что канистры здесь. Или лучше позови меня. Я сам поговорю с гауптманом. – Ха-ха! - сказал Ганс бодро. - Разрешите, мой обер-лейтенант, сначала получить свою флягу. – Флягу? - удивился Юнге. – Так точно. Обоюдный сговор с телефонистом Францем. Он обещал прислать мне фляжку. Так сказать индивидуально. Мы же с ним земляки еще по России! – Берите. – Эй, мокрые курицы, кто принес мне флягу? – А ты кто? - спросил Павел. – Я Ганс, черт побери. Кто же еще; тот, кому вы несли флягу. – Вот она, - Павел достал из-под шинели флягу. - Франц велел передать в собственные руки. – То-то, - засмеялся Ганс. - Спасибо, мой обер-лейтенант. Сейчас вызову Гору. Он выхватил флягу из рук Павла и побежал к землянке, на ходу отвинчивая пробку и засовывая горлышко фляги в рот. Обер-лейтенант поморщился недовольно. Он считал себя военной косточкой, требовал на своей батарее порядок и дисциплину. Но старого солдата не одернешь, на нем армия держится. Только он еще и может воевать. А новенького не научишь! Времени нет. Вот пришлют и ему фольксштурм - хлебнет горя! – Отдыхайте. Скажете, чтобы вас накормили. А гауптман решит, отправить вас обратно или здесь оставить. Хорошие солдаты везде нужны. А вы хорошие солдаты? – Так точно, господин обер-лейтенант! - гаркнул Павел во всю глотку. – А вы чего молчите? - спросил Юнге у стариков. Те переглянулись и ответили нестройно: – Так точно, господин обер-лейтенант. – Вижу, - засмеялся Юнге и, кутая подбородок в пестрый шарф, зашагал туда, где скрылся чумазый телефонист. Вскоре он вернулся. – Вы за проволоку не держались, когда шли? Нет, господин обер-лейтенант. – Связи нет… Юнге вернулся в свою землянку. Мимо промаршировала группа с автоматами и биноклями на шеях. – Эй, Карл, не усни на посту, ворона очки упрет! - крикнул один из солдат. – А ты тут мой шнапс не прикончи! – Разговорчики! - сердито крикнул фельдфебель, который забрал канистры, сейчас он вел строй. – У нашего фельдфебеля чужое возьмешь! Свое бы не потерять! - Солдат проводил строй взглядом и повернулся к вновь прибывшим. - Как там у вас жизнь? – А толком не знаем, - ответил Павел. - Мобилизовали и в Карпаты. Даже как это чертово место называется, не знаем. Приказали идти вдоль провода - и пошли. Товарищи его согласно закивали. – Сам-то откуда? – Я-то из Берлина. – Из самого? – А то. – И фюрера видел? – Как тебя, - нахально соврал Павел. – И как он там? – Тебя как звать? – Хольстен. – Вот как раз про тебя фюрер и спросил. Как там мой верный Хольстен? Хватает ему шнапса? Сгрудившиеся кругом солдаты рассмеялись. – Верно говорят: берлинцу и волку палец в рот не клади, откусят! - смеясь вместе со всеми, сказал Хольстен. – А где тут у вас кухня, ребята? - спросил Павел, озираясь. – Идемте покажу. Все трое двинулись за Хольстеном через плато на другой его конец мимо орудий. "И как они затащили их сюда? - подумал Павел. - Наверно, есть какая-то дорога. На облаках не перевезешь. И где-то или транспортеры, или лошади. Не сами ж тащили орудия в гору". По ту сторону плато в аккуратно вырытой с ровными краями яме стояли две походные кухни. Над ними прикрытая маскировочной сеткой закопченная дощатая крыша. – Живете! - завистливо сказал Павел. – Каша да тушенка. Селений близко нет, поживиться нечем. И крышу сделали из досок. А ведь доски напилить надо. Или с собой привезли? – Герман, накорми-ка гостей, обер-лейтенант приказал. Хмурый повар темными, неповоротливыми пальцами взял деревянную лопатку, помешал в котле. – Берите котелки. Только вымоете сами. Ложки-то есть? – Есть, - весело откликнулся Павел. Вкусно пахло тушенкой. Повар деревянной лопаткой наложил им в котелки каши. – Каша "иго-го". Что нам, что лошадям, - пояснил Хольстен. - У вас, поди, получше? – То же самое. – Видать, интенданты запасли где-то овса. В России, наверно. "Вот и давитесь!" - зло подумал Павел, а вслух сказал: – Мне мама говорила, овес очень полезен.
 – Мама ему говорила! - закричал повар. Голос у него был хриплый и густой, будто говорил он сквозь трубу. - Мама! Кха! А еще что тебе говорила мама? Насчет папы она тебе ничего не говорила? - Повар заржал по-лошадиному.
Павел даже подумал: может, и в самом деле овес приравнял его к лошади?
– Мой папа отдал жизнь за фюрера! - заносчиво ответил он.
– Да ладно, не обижайся. Поживешь тут - озвереешь! Сваришь овес, а будет ли кому жевать - неизвестно. Каждую секунду русских ждем. Что у вас там говорят?
– Говорят: вот-вот придут, - мстительно сказал Павел. - Где вы котелки моете?
– А вон пониже, снег пожиже.
Пока спускались, Павел заметил в кустах под деревьями еще одну батарею. Стволы тоже направлены в сторону высокой горы, изрезанной вьющейся лентой дороги. Да, именно там, за этими горами, Красная Армия. И она вот-вот шагнет сюда. Ах, как было бы хорошо заткнуть стволы этих пушек!
Они протерли снегом котелки и поднялись наверх. Всю дорогу Хольстен что-то болтал, но что, Павел не расслышал. Надо было запомнить все до мелочей. Все пригодится командиру. Неглубокие окопы. Пулеметные гнезда.
Наверху они снова увидели обер-лейтенанта.
– Накормили вас?
– Так точно, мой обер-лейтенант! Спасибо!
– Обратно пойдете тем же путем.
– А дорогой нельзя? - наивно спросил Павел. - Уж очень там снегу много.
– Вниз можете и на заднице скатиться. Пойдете тем же путем! Глядите в оба. У меня нет связи. Где-то обрыв. Ветер, черт его побери, и снег. А мне нужна связь. Найдешь обрыв, сумеешь соединить концы?
– Конечно. А может, Ганс с нами пойдет?
– Ганс… - обер-лейтенант усмехнулся. - Ганс теперь пойдет через сутки! Ступайте! Да поосторожней. Где-то рядом словацкие бандиты.
– Ой, что вы!… - испугался Павел.
– Ладно, ладно. - Юнге поморщился. - Спешите. Вниз не вверх.
Провожаемые тупыми шутками артиллеристов разведчики двинулись в обратный путь.
– Мама ему говорила! - закричал повар. Голос у него был хриплый и густой, будто говорил он сквозь трубу. - Мама! Кха! А еще что тебе говорила мама? Насчет папы она тебе ничего не говорила? - Повар заржал по-лошадиному.
Павел даже подумал: может, и в самом деле овес приравнял его к лошади?
– Мой папа отдал жизнь за фюрера! - заносчиво ответил он.
– Да ладно, не обижайся. Поживешь тут - озвереешь! Сваришь овес, а будет ли кому жевать - неизвестно. Каждую секунду русских ждем. Что у вас там говорят?
– Говорят: вот-вот придут, - мстительно сказал Павел. - Где вы котелки моете?
– А вон пониже, снег пожиже.
Пока спускались, Павел заметил в кустах под деревьями еще одну батарею. Стволы тоже направлены в сторону высокой горы, изрезанной вьющейся лентой дороги. Да, именно там, за этими горами, Красная Армия. И она вот-вот шагнет сюда. Ах, как было бы хорошо заткнуть стволы этих пушек!
Они протерли снегом котелки и поднялись наверх. Всю дорогу Хольстен что-то болтал, но что, Павел не расслышал. Надо было запомнить все до мелочей. Все пригодится командиру. Неглубокие окопы. Пулеметные гнезда.
Наверху они снова увидели обер-лейтенанта.
– Накормили вас?
– Так точно, мой обер-лейтенант! Спасибо!
– Обратно пойдете тем же путем.
– А дорогой нельзя? - наивно спросил Павел. - Уж очень там снегу много.
– Вниз можете и на заднице скатиться. Пойдете тем же путем! Глядите в оба. У меня нет связи. Где-то обрыв. Ветер, черт его побери, и снег. А мне нужна связь. Найдешь обрыв, сумеешь соединить концы?
– Конечно. А может, Ганс с нами пойдет?
– Ганс… - обер-лейтенант усмехнулся. - Ганс теперь пойдет через сутки! Ступайте! Да поосторожней. Где-то рядом словацкие бандиты.
– Ой, что вы!… - испугался Павел.
– Ладно, ладно. - Юнге поморщился. - Спешите. Вниз не вверх.
Провожаемые тупыми шутками артиллеристов разведчики двинулись в обратный путь.
4
Командир внимательно выслушал возвратившихся "фольксштурмовцев". Цепкая память Павла помогала ему восстановить шаг за шагом все, что они видели на батарее. Павел рассказывал подробно, ничего особо не выделяя и ничего не пропуская. И невольно заговорил голосами немцев. Вот обер-лейтенант Юнге - голос молодой, уверенный, с неприметным внутренним звоном. Вот простуженный телефонист требует флягу от Франца. Вот рыкающий фельдфебель… Непроизвольно Павел менял не только голос, менялась посадка головы, по-другому двигались руки. Товарищи, ходившие с ним в разведку, смотрели на него удивленно и улыбались. И командир поначалу улыбался, но когда Павел стал рассказывать про орудия, где и как они установлены, посерьезнел. – Та-ак… Молодцы. Франек! Разведчик появился тотчас, как с дерева свалился. – Франек, восстанови-ка связь. Франек непонимающе уставился на командира. Резать провода не раз приходилось, но восстанавливать!… – Соедини провода. Пусть болтают. Мы их в любой момент отключим. – Есть! - И Франек так же мгновенно исчез, как появился. – А вы отдыхайте пока. – Переодеться? - спросил Павел. Командир не ответил, смотрел в пространство остановившимся взглядом. Павел еще раньше подметил за ним эту привычку сосредоточенно думать, как бы отстраняясь от всего окружающего. – М-да… - Внезапно он повернулся к Павлу. - Так, говоришь, заснеженные кручи там? В лоб лезть нет смысла? – Перебьют, товарищ командир. – Из орудий? – Орудия у них крупные. По близкой цели палить не будут. На горы направлены. А для ближних - пулеметные гнезда. Не подойти. – Да-а… Соваться нам туда просто так не с руки. Нужен сюрприз. - Командир улыбнулся. - Будем искать сюрприз. К ночи невидимый ветер над вершинами разогнал тучи. Небо вызвездило. И с вершин в долину пополз холод. Но командир не разрешил разжигать костры. Спали кое-как, вполглаза, прижавшись друг к другу. Некоторые не выдерживали, подымались, начинали приплясывать и хлопать себя руками, чтобы согреться. Отряд подняли до рассвета. Зашагали, спотыкаясь, в темноте, чертыхаясь вполголоса, растянувшись длинной цепочкой. За ночь тропа подмерзла, у впереди идущих под ногами хрупал молодой ледок, а замыкающим доставалось уже липкое месиво. Проводник, сухой крепкий старик, в кепке с большой пуговицей на макушке, в полупальто и высоких болотных сапогах, шел впереди вместе с разведчиками, опираясь на тяжелую суковатую палку. Шел ходко, привычно взбираясь на кручи, легко спускаясь в ущелья, дышал ровно, на вопросы не отвечал. Иногда приходилось пробиваться сквозь заросли, ветки больно хлестали по лицу. И Павел понял, что никакой тропы нет, а старик ведет отряд по заросшим склонам, ориентируясь то ли по блекнущим звездам, то ли внутренним чутьем угадывая дорогу. Потому что кругом была густая белая тьма. Потом небо стало светлеть и из рассеивающейся тьмы выпали отельные обнаженные деревья, зеленые ели и мокрые камни, с которых сдуло снег. Небо поголубело, и внезапно с очередной вершины открылась на его фоне темная фантастическая громада старинного замка. Павел уже видел замки в Словакии и не переставал удивляться им. Крепко сложенные стены с бойницами, высокие башни каждый раз вызывали в памяти зубчатые, такие привычные стены Московского Кремля. И казалось Павлу, что разбросанные по Словакии старинные гордые замки сродни величественному Кремлю, меньшие братья его. Чтобы добраться до замка, предстояло спуститься в ущелье и потом уж подыматься по довольно крутому склону. Но на спуске голова колонны замешкалась и остановилась. Вскоре из-за кустов появился запыхавшийся Франек, видимо, он преодолел обратный подъем на одном дыхании. – Това… Товарищ командир… Дальше не пускают. – Кто? - удивился командир. Франек только развел руками. – Вооруженные… Требуют командира. – Идем, - командир решительно пошел сквозь кусты, из которых появился Франек. Павел и несколько партизан из первого взвода двинулись за ним. Возле высокой ели стояли проводник и разведчики. А ниже на склоне трое незнакомцев. Один в солдатской шинели, подпоясанной ремнем с кобурой, второй в черном пальто, с аккуратно подстриженной бородкой, держал в руках немецкий "шмайсер", на непокрытой голове кудрявился темный чуб. Третий, очень сутулый, из-за чего казался низкорослым, одет в коричневую куртку, шея обмотана пестрым шерстяным шарфом, вооружен винтовкой. Командир подошел, спросил: – Кто такие? – А вы кто? - откликнулся тот, в шинели. – Я - командир партизанского отряда "Смерть фашизму". Трое переглянулись. – "Смерть фашизму"? - удивленно переспросил мужчина в шинели. - Как же вы здесь оказались? – Обстоятельства, - внушительно произнес командир. – И много вас? – Отряд. А вы кто ж? – Мы… ну, допустим, группа самообороны. – Немцы не появлялись? – А что им тут делать? Тут фашистам дорога заказана. Командир улыбнулся: – Так и предполагали… Ну что ж, здравствуйте, товарищи. Приютите на время. Передохнуть нам надо. Поизмотались. – Должен предупредить - тесновато у нас. И в замке полно, и в деревне… Беженцы, погорельцы… – Понимаю, - кивнул командир. – Пошли, - пригласил мужчина в шинели и стал спускаться. За ним - командир, а следом двинулась вся цепочка. А сутулый и тот, с аккуратной бородкой, остались стоять по обе стороны тропы, пропуская отряд. Словно подсчитывали гостей. В предвкушении отдыха партизаны приободрились, кое-где послышались шутки, вспыхнул смех. Но крутой подъем к замку приглушил их.
 Павел невольно стал вертеть головой, глядел то вправо, то влево Ему казалось, что они идут сквозь строй вооруженных людей. То мелькнет над кустами шапка, то черный ствол автомата. А в одном месте даже пулемет померещился.
Командир хмурился, но спокойно шел вперед. Сколько же их тут в самообороне?
Наконец добрались до замка. Кованые глухие ворота были открыты но командир не торопился вести в них своих людей. Остановился у ворот и огляделся.
Внизу, куда хватал глаз, до самого горизонта тянулись горы. В низинах густела туманная муть, а на вершинах, ощетинившихся лесом, гуляло солнце. Павлу показалось, что он видит сверкающие капли на темно-зеленых иглах елей и сосен, будто наброшены на них тонкие стеклянные бусы.
А командир видел горы и едва уловимое движение на них. "Да тут чуть не армия! - подумал он. - Что ж, ничего удивительного. В горах не мы одни. А место удобное". Не зря же он повел своих людей к старому замку.
По ту сторону замка раскинулась на склоне маленькая деревушка, а за ней командир разглядел шалаши, сложенные из жердей и еловых лап и даже большую брезентовую палатку, сверху забросанную теми же лапами. Маскировка.
– Плотно осели, - одобрительно кивнул командир. - Сколько ж вас тут?
Мужчина в шинели не ответил, протянул руку в сторону ворот:
– Прошу. А люди пусть отдохнут.
– Всем оставаться на местах, - хмуро приказал командир. - Франек, Павел, со мной.
Высокая стена замка, сложенная из тесаных камней, оказалась толстой, и за первыми воротами притаились вторые, полегче первых, скованные из железных прутьев, на которых бурыми пятнами проступала ржавчина. На мощенном каменными плитками довольно просторном дворе вдоль стены стояли самодельные деревянные столы, возле которых сосредоточенные мужчины и несколько женщин чистили оружие.
В другом конце двора небольшая группа, в основном молодежь, расселась на деревянных скамейках вокруг пожилого солдата, который возился с пулеметом. "Учатся", - сообразил Павел, разглядывая двор с удивлением.
Мужчина в шинели повел командира к сложенному из таких же тесаных камней зданию. В него вела узкая дубовая дверь, за которой сразу же начиналась каменная лестница, ведущая вверх. Они поднялись по ней и оказались в зале с оштукатуренными стенами и высоким темным, словно приконченным потолком. Сквозь деревянные стрельчатые окна пробивались солнечные лучи и падали на громоздкий дубовый стол, вокруг которого стояли темные стулья, тоже дубовые, с резными крепкими полированными спинками. Вдоль стены тянулась такая же массивная дубовая лавка.
У противоположной стены в большом отделанном пестрыми плитками камине потрескивали поленья, оранжевое с голубыми прожилками пламя лизало черные стены топки. Отсвет его играл на полу, на стоящих возле деревянных скамеечках. На одной, свернувшись клубком, лежала кошка. А рядом у сложенных аккуратной кучкой дров сидел на корточках старик и длинной кочергой шуровал в топке.
За столом над разложенной картой склонилось несколько мужчин тихо о чем-то переговаривались.
– Вот, товарищ комбриг, прибыл командир партизанского отряда "Смерть фашизму", - сказал громко приведший их мужчина.
Мужчины у стола распрямились и посмотрели на вошедших. Один, с русой бородкой, в телогрейке-безрукавке поверх военной формы, спросил:
– Как ты сказал?
– Прибыл командир партизанского отряда "Смерть фашизму", с отрядом.
– Надо же! - И русобородый рассмеялся, хотя ничего смешного не было сказано. - Добро пожаловать. - Он двинулся вдоль стола навстречу пришедшим. Протянул руку. Представился: - Товарищ Алексей, командир партизанской бригады "Смерть фашизму".
– Под одним названием ходим? - удивился командир.
– Под одним. Название-то - существенное.
Товарищ Алексей говорил по-словацки с каким-то своеобразным акцентом и кого-то неуловимо напоминал Павлу.
Возле камина звякнула кочерга, и старик, что помешивал дрова, подошел поближе. Сощурился, приглядываясь, и хлопнул себя руками по бедрам:
– Га!… Вот так встреча! Пауль! Живой!
– Дедушка Ондрей! - Павел узнал старика-садовника, шагнул к нему порывисто, обнял и так на радостях стиснул, что старик крякнул.
– Гляди-ка, внучек нашелся, - сказал кто-то радостно.
– Не внучек, - откликнулся Ондрей лукаво. - Я у его превосходительства садовником был. Ну конечно, не у этого превосходительства, у другого, постарше. А это - Пауль, я его и в горы переправлял прошлым летом. Живой, при автомате!
– Дедушка Ондрей, а где Янко?
– Дома. В отряд просился - не взяли. Мал еще. Да и дома дел хватает! - Старик важно поднял палец, намекая на какие-то особые дела. - А мы тебя вспоминали. Маму-то разыскал?
– Где ж! Всю зиму в горах… Вот Гитлера побьем - разыщу.
Внезапно русобородый товарищ Алексей взял Павла за плечи и бесцеремонно повернул к свету.
– Что вы так… разглядываете?…
– А еще говорят, чудес на свете не бывает! - сказал товарищ Алексей по-русски.
– Вы - русский? - обрадовался Павел.
Что, Павлик, своих не узнаешь? - светлые глаза смотрели в упор и смеялись.
И внезапно Павел вспомнил сторожку в лесу под Гронском: он и Петр сидят за выскобленным столом и уплетают пшенный кулеш с салом, а напротив сидит человек и объясняет им, как они должны вести себя в Гронске, как найти маму, кого остерегаться…
– Алексей Павлович… - тихо сказал Павел.
– Товарищ Алексей, - строго произнес Алексей Павлович, а глаза смеялись. - Ну, мы еще с тобой поговорим, товарищ Павел, - мягко добавил он. - А сейчас, извини, дела. Садись, командир.
Алексей Павлович и командир отошли к столу.
– Ты откуда товарища Алексея знаешь? - спросил дед Ондрей.
– Да уж знаю… - уклонился от ответа Павел. Можно ли рассказывать о тех встречах в управлении НКВД и в лесу? Он-то знает что Алексей Павлович - чекист, а вот должны ли это знать другие? Многому научила его жизнь в оккупированном Гронске и в фашистском логове, в Берлине. Научила сдержанности и осторожности, научила скрывать свои мысли и чувства. Если бы он первым узнал в товарище Алексее Алексея Павловича, он бы и виду не подал. Но Алексей Павлович явно хотел быть узнанным.
– А ты совсем словаком стал, Пауль, и язык наш освоил.
– Ну, не так уж и хорошо освоил… Вы, дедушка, пожалуйста, не называйте меня Паулем на немецкий манер.
– Хорошо, не буду, Павел. Привычка!… Пойдем вниз?
– Мне нельзя, я при командире.
– Строгий?
– Командир!
В это слово Павел вложил и уважение к командиру, и готовность идти за ним. Ему нравился командир своей неторопливостью, спокойствием. Командир был и храбр и осторожен одновременно. Прост с бойцами и требователен. Выделялся только в бою, в походах и на отдыхе мок и мерз, как все, ел то же, что и остальные. Вот только, когда рождалась песня у костра, никогда не подтягивал. А слушать любил. Сядет в сторонке, прикроет глаза и сидит неподвижно.
– Как его зовут-то? - спросил дед Ондрей.
– Командира? - удивился Павел. А верно, как зовут командира? Вроде никто никогда не называл его по имени. - Не знаю. Товарищ командир!
А у стола командир рассказывал товарищу Алексею и остальным партизанским вожакам о дерзкой разведке батареи, которую немцы выдвинули к перевалу, чтобы встретить Красную Армию.
Слушали внимательно. Спрашивали подробности.
– Павел! - позвал командир. - Расскажи-ка поподробней, что где у немцев?
Павел скупо и коротко рассказал, какие видели они орудия, как они установлены, где пулеметные гнезда, где кухня, какая охрана.
– Ну спасибо, товарищи, это очень важно, - сказал Алексей Павлович. - Хорошо бы эту батарею…
– Вот и мы думаем - хорошо бы!… - кивнул командир. - Только в лоб их не возьмешь. Сюрприз нужен.
– Сюрприз, говорите? А мы на них сначала авиацию бросим.
– Авиацию? - командир посмотрел недоуменно на Алексея Павловича. - А у вас и авиация есть?
– А как же!… - Алексей Павлович усмехнулся. - Есть рация. Держим связь. Соображаете? - И громко добавил: - Радиста ко мне!
– Есть! - откликнулся кто-то у входных дверей, и через зал торопливо прошагал партизан с красной повязкой на рукаве. Гулко под потолком отдались шаги. Он толкнул дверцу возле камина, неприметную, под цвет стены, и скрылся за ней.
Павел невольно стал вертеть головой, глядел то вправо, то влево Ему казалось, что они идут сквозь строй вооруженных людей. То мелькнет над кустами шапка, то черный ствол автомата. А в одном месте даже пулемет померещился.
Командир хмурился, но спокойно шел вперед. Сколько же их тут в самообороне?
Наконец добрались до замка. Кованые глухие ворота были открыты но командир не торопился вести в них своих людей. Остановился у ворот и огляделся.
Внизу, куда хватал глаз, до самого горизонта тянулись горы. В низинах густела туманная муть, а на вершинах, ощетинившихся лесом, гуляло солнце. Павлу показалось, что он видит сверкающие капли на темно-зеленых иглах елей и сосен, будто наброшены на них тонкие стеклянные бусы.
А командир видел горы и едва уловимое движение на них. "Да тут чуть не армия! - подумал он. - Что ж, ничего удивительного. В горах не мы одни. А место удобное". Не зря же он повел своих людей к старому замку.
По ту сторону замка раскинулась на склоне маленькая деревушка, а за ней командир разглядел шалаши, сложенные из жердей и еловых лап и даже большую брезентовую палатку, сверху забросанную теми же лапами. Маскировка.
– Плотно осели, - одобрительно кивнул командир. - Сколько ж вас тут?
Мужчина в шинели не ответил, протянул руку в сторону ворот:
– Прошу. А люди пусть отдохнут.
– Всем оставаться на местах, - хмуро приказал командир. - Франек, Павел, со мной.
Высокая стена замка, сложенная из тесаных камней, оказалась толстой, и за первыми воротами притаились вторые, полегче первых, скованные из железных прутьев, на которых бурыми пятнами проступала ржавчина. На мощенном каменными плитками довольно просторном дворе вдоль стены стояли самодельные деревянные столы, возле которых сосредоточенные мужчины и несколько женщин чистили оружие.
В другом конце двора небольшая группа, в основном молодежь, расселась на деревянных скамейках вокруг пожилого солдата, который возился с пулеметом. "Учатся", - сообразил Павел, разглядывая двор с удивлением.
Мужчина в шинели повел командира к сложенному из таких же тесаных камней зданию. В него вела узкая дубовая дверь, за которой сразу же начиналась каменная лестница, ведущая вверх. Они поднялись по ней и оказались в зале с оштукатуренными стенами и высоким темным, словно приконченным потолком. Сквозь деревянные стрельчатые окна пробивались солнечные лучи и падали на громоздкий дубовый стол, вокруг которого стояли темные стулья, тоже дубовые, с резными крепкими полированными спинками. Вдоль стены тянулась такая же массивная дубовая лавка.
У противоположной стены в большом отделанном пестрыми плитками камине потрескивали поленья, оранжевое с голубыми прожилками пламя лизало черные стены топки. Отсвет его играл на полу, на стоящих возле деревянных скамеечках. На одной, свернувшись клубком, лежала кошка. А рядом у сложенных аккуратной кучкой дров сидел на корточках старик и длинной кочергой шуровал в топке.
За столом над разложенной картой склонилось несколько мужчин тихо о чем-то переговаривались.
– Вот, товарищ комбриг, прибыл командир партизанского отряда "Смерть фашизму", - сказал громко приведший их мужчина.
Мужчины у стола распрямились и посмотрели на вошедших. Один, с русой бородкой, в телогрейке-безрукавке поверх военной формы, спросил:
– Как ты сказал?
– Прибыл командир партизанского отряда "Смерть фашизму", с отрядом.
– Надо же! - И русобородый рассмеялся, хотя ничего смешного не было сказано. - Добро пожаловать. - Он двинулся вдоль стола навстречу пришедшим. Протянул руку. Представился: - Товарищ Алексей, командир партизанской бригады "Смерть фашизму".
– Под одним названием ходим? - удивился командир.
– Под одним. Название-то - существенное.
Товарищ Алексей говорил по-словацки с каким-то своеобразным акцентом и кого-то неуловимо напоминал Павлу.
Возле камина звякнула кочерга, и старик, что помешивал дрова, подошел поближе. Сощурился, приглядываясь, и хлопнул себя руками по бедрам:
– Га!… Вот так встреча! Пауль! Живой!
– Дедушка Ондрей! - Павел узнал старика-садовника, шагнул к нему порывисто, обнял и так на радостях стиснул, что старик крякнул.
– Гляди-ка, внучек нашелся, - сказал кто-то радостно.
– Не внучек, - откликнулся Ондрей лукаво. - Я у его превосходительства садовником был. Ну конечно, не у этого превосходительства, у другого, постарше. А это - Пауль, я его и в горы переправлял прошлым летом. Живой, при автомате!
– Дедушка Ондрей, а где Янко?
– Дома. В отряд просился - не взяли. Мал еще. Да и дома дел хватает! - Старик важно поднял палец, намекая на какие-то особые дела. - А мы тебя вспоминали. Маму-то разыскал?
– Где ж! Всю зиму в горах… Вот Гитлера побьем - разыщу.
Внезапно русобородый товарищ Алексей взял Павла за плечи и бесцеремонно повернул к свету.
– Что вы так… разглядываете?…
– А еще говорят, чудес на свете не бывает! - сказал товарищ Алексей по-русски.
– Вы - русский? - обрадовался Павел.
Что, Павлик, своих не узнаешь? - светлые глаза смотрели в упор и смеялись.
И внезапно Павел вспомнил сторожку в лесу под Гронском: он и Петр сидят за выскобленным столом и уплетают пшенный кулеш с салом, а напротив сидит человек и объясняет им, как они должны вести себя в Гронске, как найти маму, кого остерегаться…
– Алексей Павлович… - тихо сказал Павел.
– Товарищ Алексей, - строго произнес Алексей Павлович, а глаза смеялись. - Ну, мы еще с тобой поговорим, товарищ Павел, - мягко добавил он. - А сейчас, извини, дела. Садись, командир.
Алексей Павлович и командир отошли к столу.
– Ты откуда товарища Алексея знаешь? - спросил дед Ондрей.
– Да уж знаю… - уклонился от ответа Павел. Можно ли рассказывать о тех встречах в управлении НКВД и в лесу? Он-то знает что Алексей Павлович - чекист, а вот должны ли это знать другие? Многому научила его жизнь в оккупированном Гронске и в фашистском логове, в Берлине. Научила сдержанности и осторожности, научила скрывать свои мысли и чувства. Если бы он первым узнал в товарище Алексее Алексея Павловича, он бы и виду не подал. Но Алексей Павлович явно хотел быть узнанным.
– А ты совсем словаком стал, Пауль, и язык наш освоил.
– Ну, не так уж и хорошо освоил… Вы, дедушка, пожалуйста, не называйте меня Паулем на немецкий манер.
– Хорошо, не буду, Павел. Привычка!… Пойдем вниз?
– Мне нельзя, я при командире.
– Строгий?
– Командир!
В это слово Павел вложил и уважение к командиру, и готовность идти за ним. Ему нравился командир своей неторопливостью, спокойствием. Командир был и храбр и осторожен одновременно. Прост с бойцами и требователен. Выделялся только в бою, в походах и на отдыхе мок и мерз, как все, ел то же, что и остальные. Вот только, когда рождалась песня у костра, никогда не подтягивал. А слушать любил. Сядет в сторонке, прикроет глаза и сидит неподвижно.
– Как его зовут-то? - спросил дед Ондрей.
– Командира? - удивился Павел. А верно, как зовут командира? Вроде никто никогда не называл его по имени. - Не знаю. Товарищ командир!
А у стола командир рассказывал товарищу Алексею и остальным партизанским вожакам о дерзкой разведке батареи, которую немцы выдвинули к перевалу, чтобы встретить Красную Армию.
Слушали внимательно. Спрашивали подробности.
– Павел! - позвал командир. - Расскажи-ка поподробней, что где у немцев?
Павел скупо и коротко рассказал, какие видели они орудия, как они установлены, где пулеметные гнезда, где кухня, какая охрана.
– Ну спасибо, товарищи, это очень важно, - сказал Алексей Павлович. - Хорошо бы эту батарею…
– Вот и мы думаем - хорошо бы!… - кивнул командир. - Только в лоб их не возьмешь. Сюрприз нужен.
– Сюрприз, говорите? А мы на них сначала авиацию бросим.
– Авиацию? - командир посмотрел недоуменно на Алексея Павловича. - А у вас и авиация есть?
– А как же!… - Алексей Павлович усмехнулся. - Есть рация. Держим связь. Соображаете? - И громко добавил: - Радиста ко мне!
– Есть! - откликнулся кто-то у входных дверей, и через зал торопливо прошагал партизан с красной повязкой на рукаве. Гулко под потолком отдались шаги. Он толкнул дверцу возле камина, неприметную, под цвет стены, и скрылся за ней.
 – Свободен, - кивнул командир Павлу.
– Есть.
Павел повернулся по-военному и отошел к Франеку. Они сели на широкую лавку у стены.
– Здесь, как в мышеловке, - тихо сказал Франек.
– Что ты!… Товарищ Алексей - старый партизан. Бригада тут расположена.
– Я не про то. Замок, что мышеловка.
Откуда-то запахло подгорелой кашей или еще чем-то вкусным. Оба принюхались. Давно не ели доброй горячей пищи.
– Ну, если так пахнет в мышеловках, готов стать мышью, - сказал Павел.
– Чем это пахнет? Живот подводит, - спросил Франек присевшего рядом деда Ондрея.
– Кухня на первом этаже.
В это время снова отворилась дверца возле камина и вслед за дежурным с красной повязкой появился долговязый парень в красноармейской форме без шапки, коротко остриженный. Молча остановился возле Алексея Павловича.
– Когда выходишь на связь?
– В двадцать один десять, согласно расписанию.
Голос!… Знакомый голос. Где он слышал этот голос? Павел смотрел во все глаза и не верил. Эдисон меньше ростом, мальчишка. Но ведь и он, Павел, был тогда мальчишкой!… И голос… Голос…
Алексей Павлович достал из кармана записную книжку. Написал несколько слов… Замер с карандашом в руке.
– Ну-ка, командир, уточни на карте.
– Если не ошибаюсь, вот эта высотка… Карты у меня нет… Здешние люди водят… Да. Эта высотка.
– Добре, - Алексей Павлович приписал еще несколько слов, вырвал листок, протянул радисту. - Передашь как особо важное.
– Есть передать!
Радист направился к дверце.
Павел встал, напряженно глядя на удаляющегося, не выдержал, окликнул громко:
– Эдисон!
Радист остановился, обернулся. В другом конце зала стоит парень в немецкой шинели. Он, что ли, звал?…
А Павел скрестил руки на груди, как делали это в далеком довоенном детстве Великие Вожди Благородных Бледнолицых.
Радист быстро пошел к нему.
– Петька! Откуда ты взялся? - в голосе и радость и удивление.
– Павел я, Павел!…
– Павел?!. Тебя ж в Германию увезли?!
– Было. Сбежал. А ты как здесь?
– Радист… - Он протянул обе руки. - Здравствуй, Павлик!
– Здравствуй, Эдисон!
Они обнялись и стали тискать друг друга.
– Да у тебя тут полбригады знакомых! - засмеялся дед Ондрей.
– Слушай!… Ну чудеса!… Я ведь с Петром вместе партизанил.
– С Петром?… И брат здесь?
– Нет. Петр в Красной Армии. На фронте. Как мы Гронск освободили, так он в армию мобилизовался. А я вот…
– А мама?
– Гертруда Иоганновна?… Тоже с нами в бригаде была. Потом в Москву улетела.
Лицо Павла сморщилось, немыслимо защекотало в носу. Он всхлипнул.
– Ну что ты, Павлик! - Дед Ондрей положил руку на его плечо. - Нашлась же мама. Радоваться надо, а ты…
– Я и радуюсь… - Павел снова всхлипнул.
– Ну, с нашим комиссаром, товарищем Ковачеком, вы уже познакомились, - сказал товарищ Алексей и кивнул на мужчину в шинели.
– Познакомились, - скупо улыбнулся командир, - получили сведения, что у вас тут отряд самообороны.
– Не сердись. Не мог же я выложить всю дислокацию первому встречному, хоть и симпатичному.
– Да я не сержусь. Все правильно, комиссар.
– Что ж, ставим вас на довольствие. Вольетесь в нашу бригаду отдельным отрядом, если не возражаете, - сказал товарищ Алексей.
– Возражений нет. Вместе бить фашистов сподручней.
– Добре. Как вас величать?
– Людовит Влчек, капитан Словацкой армии.
– Комиссар, сам проводишь товарищей или пошлем кого?
– Сам, - откликнулся Ковачек. - Как-никак первый знакомый. - Он засмеялся.
– Добре. Устраивайтесь, отдыхайте. И, если можно, оставьте мне Павла. Воевал вместе с его матерью.
– Конечно, конечно. Он - замечательный парень, хоть и артист. Франек!
Командир ушел в сопровождении Франека и Ковачека. Алексей Павлович подошел к ребятам.
– Встреча Великих Вождей?
– А вы откуда знаете? - вспыхнул Эдисон.
– Я, брат, многое знаю, но только сейчас понял, что ты, Эдисон, из этой компании. Ничего у вас была компания. Подходящая!
До позднего вечера просидел Павел у Алексея Павловича в его "келье" - маленькой комнатке с низким потолком, с узким окном, прихваченным изнутри решеткой, и с двумя железными кольцами, вделанными в стену. Павел сразу обратил на них внимание. Вероятно, когда-то, в незапамятные времена, здесь содержались узники. Может быть, борцы за свободу? Железными цепями приковывали их к этим кольцам, чтобы сломить волю. Может быть, здесь они и умирали, не уступив?
Павел все узнал о маме и Петре. Это было так важно, так важно знать, что они живы, боролись и борются!
– И папа мой жив, - сказал Павел. Как давно он ни с кем не говорил об отце! Даже старался не думать о нем, чтобы не проговориться. Теперь можно. Мама в Москве. Брат воюет. И он, Павел, как все Лужины!
Павел рассказал обо всем, что пережил с того самого дня, когда доктор Доппель увез его в Германию и так жутко выл Киндер. Он рассказывал и нет-нет поглядывал на торчащие из стены железные кольца. А ведь он тоже был скован невидимой цепью. Не менее страшной, чем железная. Но не сломался. Нет.
Алексея Павловича интересовали мельчайшие подробности.
А когда Павел рассказал о посещении покинутого дома и о письме Матильды, которое она оставила на столе в его комнате, Алексей Павлович нахмурился:
– К англичанам или американцам? Скользкий тип. Ищет новых хозяев.
– Но они ж союзники! - возразил Павел.
– Союзники поневоле. Не случайно так долго тянули с открытием второго фронта. Все ждали, чтобы мы изошли кровью. Союзники! Одну руку тебе протянут, а в другой за спиной - финка!… Ладно, Павел, наговорились мы с тобой. Рад, что ты такой же, как твои папа и мама. А теперь - спать. У меня заночуешь?
– Лучше бы у Эдисона…
Алексей Павлович улыбнулся:
– Ну что ж, желание гостя - закон! Ступай.
Павел распрощался и ушел. А Алексей Павлович присел на деревянную койку, застеленную солдатским одеялом, и долго еще сидел, опустив голову на руки. Воспоминания разбередили душу. Виделась Гертруда Иоганновна с сияющим лицом, тоненькая, светловолосая, такой она была, когда маршал вручал ей ордена. Гертруда Иоганновна, которая против воли вошла в его сердце и осталась там, вероятно, навсегда.
– Свободен, - кивнул командир Павлу.
– Есть.
Павел повернулся по-военному и отошел к Франеку. Они сели на широкую лавку у стены.
– Здесь, как в мышеловке, - тихо сказал Франек.
– Что ты!… Товарищ Алексей - старый партизан. Бригада тут расположена.
– Я не про то. Замок, что мышеловка.
Откуда-то запахло подгорелой кашей или еще чем-то вкусным. Оба принюхались. Давно не ели доброй горячей пищи.
– Ну, если так пахнет в мышеловках, готов стать мышью, - сказал Павел.
– Чем это пахнет? Живот подводит, - спросил Франек присевшего рядом деда Ондрея.
– Кухня на первом этаже.
В это время снова отворилась дверца возле камина и вслед за дежурным с красной повязкой появился долговязый парень в красноармейской форме без шапки, коротко остриженный. Молча остановился возле Алексея Павловича.
– Когда выходишь на связь?
– В двадцать один десять, согласно расписанию.
Голос!… Знакомый голос. Где он слышал этот голос? Павел смотрел во все глаза и не верил. Эдисон меньше ростом, мальчишка. Но ведь и он, Павел, был тогда мальчишкой!… И голос… Голос…
Алексей Павлович достал из кармана записную книжку. Написал несколько слов… Замер с карандашом в руке.
– Ну-ка, командир, уточни на карте.
– Если не ошибаюсь, вот эта высотка… Карты у меня нет… Здешние люди водят… Да. Эта высотка.
– Добре, - Алексей Павлович приписал еще несколько слов, вырвал листок, протянул радисту. - Передашь как особо важное.
– Есть передать!
Радист направился к дверце.
Павел встал, напряженно глядя на удаляющегося, не выдержал, окликнул громко:
– Эдисон!
Радист остановился, обернулся. В другом конце зала стоит парень в немецкой шинели. Он, что ли, звал?…
А Павел скрестил руки на груди, как делали это в далеком довоенном детстве Великие Вожди Благородных Бледнолицых.
Радист быстро пошел к нему.
– Петька! Откуда ты взялся? - в голосе и радость и удивление.
– Павел я, Павел!…
– Павел?!. Тебя ж в Германию увезли?!
– Было. Сбежал. А ты как здесь?
– Радист… - Он протянул обе руки. - Здравствуй, Павлик!
– Здравствуй, Эдисон!
Они обнялись и стали тискать друг друга.
– Да у тебя тут полбригады знакомых! - засмеялся дед Ондрей.
– Слушай!… Ну чудеса!… Я ведь с Петром вместе партизанил.
– С Петром?… И брат здесь?
– Нет. Петр в Красной Армии. На фронте. Как мы Гронск освободили, так он в армию мобилизовался. А я вот…
– А мама?
– Гертруда Иоганновна?… Тоже с нами в бригаде была. Потом в Москву улетела.
Лицо Павла сморщилось, немыслимо защекотало в носу. Он всхлипнул.
– Ну что ты, Павлик! - Дед Ондрей положил руку на его плечо. - Нашлась же мама. Радоваться надо, а ты…
– Я и радуюсь… - Павел снова всхлипнул.
– Ну, с нашим комиссаром, товарищем Ковачеком, вы уже познакомились, - сказал товарищ Алексей и кивнул на мужчину в шинели.
– Познакомились, - скупо улыбнулся командир, - получили сведения, что у вас тут отряд самообороны.
– Не сердись. Не мог же я выложить всю дислокацию первому встречному, хоть и симпатичному.
– Да я не сержусь. Все правильно, комиссар.
– Что ж, ставим вас на довольствие. Вольетесь в нашу бригаду отдельным отрядом, если не возражаете, - сказал товарищ Алексей.
– Возражений нет. Вместе бить фашистов сподручней.
– Добре. Как вас величать?
– Людовит Влчек, капитан Словацкой армии.
– Комиссар, сам проводишь товарищей или пошлем кого?
– Сам, - откликнулся Ковачек. - Как-никак первый знакомый. - Он засмеялся.
– Добре. Устраивайтесь, отдыхайте. И, если можно, оставьте мне Павла. Воевал вместе с его матерью.
– Конечно, конечно. Он - замечательный парень, хоть и артист. Франек!
Командир ушел в сопровождении Франека и Ковачека. Алексей Павлович подошел к ребятам.
– Встреча Великих Вождей?
– А вы откуда знаете? - вспыхнул Эдисон.
– Я, брат, многое знаю, но только сейчас понял, что ты, Эдисон, из этой компании. Ничего у вас была компания. Подходящая!
До позднего вечера просидел Павел у Алексея Павловича в его "келье" - маленькой комнатке с низким потолком, с узким окном, прихваченным изнутри решеткой, и с двумя железными кольцами, вделанными в стену. Павел сразу обратил на них внимание. Вероятно, когда-то, в незапамятные времена, здесь содержались узники. Может быть, борцы за свободу? Железными цепями приковывали их к этим кольцам, чтобы сломить волю. Может быть, здесь они и умирали, не уступив?
Павел все узнал о маме и Петре. Это было так важно, так важно знать, что они живы, боролись и борются!
– И папа мой жив, - сказал Павел. Как давно он ни с кем не говорил об отце! Даже старался не думать о нем, чтобы не проговориться. Теперь можно. Мама в Москве. Брат воюет. И он, Павел, как все Лужины!
Павел рассказал обо всем, что пережил с того самого дня, когда доктор Доппель увез его в Германию и так жутко выл Киндер. Он рассказывал и нет-нет поглядывал на торчащие из стены железные кольца. А ведь он тоже был скован невидимой цепью. Не менее страшной, чем железная. Но не сломался. Нет.
Алексея Павловича интересовали мельчайшие подробности.
А когда Павел рассказал о посещении покинутого дома и о письме Матильды, которое она оставила на столе в его комнате, Алексей Павлович нахмурился:
– К англичанам или американцам? Скользкий тип. Ищет новых хозяев.
– Но они ж союзники! - возразил Павел.
– Союзники поневоле. Не случайно так долго тянули с открытием второго фронта. Все ждали, чтобы мы изошли кровью. Союзники! Одну руку тебе протянут, а в другой за спиной - финка!… Ладно, Павел, наговорились мы с тобой. Рад, что ты такой же, как твои папа и мама. А теперь - спать. У меня заночуешь?
– Лучше бы у Эдисона…
Алексей Павлович улыбнулся:
– Ну что ж, желание гостя - закон! Ступай.
Павел распрощался и ушел. А Алексей Павлович присел на деревянную койку, застеленную солдатским одеялом, и долго еще сидел, опустив голову на руки. Воспоминания разбередили душу. Виделась Гертруда Иоганновна с сияющим лицом, тоненькая, светловолосая, такой она была, когда маршал вручал ей ордена. Гертруда Иоганновна, которая против воли вошла в его сердце и осталась там, вероятно, навсегда.
5
– У меня отец был охотником. И дед. И прадед. И пра-пра… Потому и фамилия Польовник. И между прочим, всех звали Франеками. – И прапрапра?… - удивился Павел. Франек погасил сигарету, воткнув ее в землю, и посмотрел на свои новенькие австрийские башмаки из пупырчатой свиной кожи на толстой подошве. Их подарил ему комиссар бригады Ковачек. Франек считал, что за храбрость, ну и за выносливость, конечно. Не всякий пройдет зимой по горам в калошах, подвязанных к ногам шнурами с офицерского парадного мундира. Они втроем сидели возле каменной стены замка на солнечной стороне. От стены тянуло холодом, а солнце грело, ласкало щеки. Серега Эдисон вытянул длинные ноги в офицерских шевровых сапогах со стоптанными подошвами и щурился, как кот, подставляя лицо солнцу. Он не понимал словацкого и не вмешивался в разговор. Только изредка поглядывал на Павла и сравнивал его с Петром. Интересно, теперь они так же на одно лицо, как и раньше, или изменились? Ведь сколько времени прошло! Он вспомнил Петра. Вот он стоит возле землянки в сером ватнике и ушастой шапке… Да нет, это ж Павел!… Павел рядом, вот он, чешет по-словацки… Или Петр? Эдисон неожиданно засмеялся. – Ты чего? – Сравниваю тебя с Петром. В уме. – Ну? – Путаюсь! Павел тоже засмеялся. И Франек засмеялся. За компанию. – А Ржавый женится на Крольчихе, - неожиданно сообщил Эдисон. – Ну? - Павел удивленно уставился на товарища. - Как женится? – Обыкновенно. По любви. – Мы с Петькой тоже были в нее влюблены. – Оба? – Оба. – Надо же!… И я маленько, - признался Эдисон. - А может, только кажется… – Нет. Не кажется, - убежденно сказал Павел. - А Толик? – Что Толик? – Тоже, наверно… – Между прочим, он меня от смерти спас. - И Эдисон рассказал, как попал к полицаям, как убили его напарницу - Валю. Как допрашивали, а потом вдруг повели ломать кирпичную стену. А Толик со Златой подготовили побег. Толик поднял суматоху, и ему удалось бежать. Павел слушал затаив дыхание и коротко пересказывал все Франеку. А потом объяснил, что у них в Гронске была компания такая - Великие Вожди. Игра, конечно. Но все остались верны клятве. Все! В какое-то мгновение он вдруг пожалел, что рассказывает о Великих Вождях… Детство. Пять мальчиков и синеглазая девочка. Франек засмеет еще!… Но тот слушал с интересом, стал расспрашивать о землянке в лесу. И в глазах его загорелись озорные огоньки. Все-таки он был тоже мальчишкой, Франек, хоть и старался держаться солидно. – Слушай, Эдисон, давай примем Франека в Великие Вожди, - неожиданно для самого себя предложил Павел. – А что? - загорелся Серега. – Ты как, Франек? – Вы серьезно? – Конечно. - Павел встал и скрестил руки на груди. И Серега встал и скрестил руки на груди. Глаза Франека вспыхнули, будто попали в них куски солнца. Он поднялся, недоверчиво посмотрел на Павла и Серегу и осторожно скрестил руки. – Дружба навек, Франек! И тайна. - Павел поднял руку над головой, как когда-то это сделал Василь Долевич - Ржавый в заброшенной землянке под Гронском. - Никому! Никогда! Ни слова! Язык проглоти, а тайну не выдай! Один за всех и все за одного! - И добавил от себя: - Смерть фашизму! – Смерть фашизму! - как клятвуповторили друзья. Все-таки они в душе оставались мальчишками - и партизан Павел, и радист Серега, и разведчик Франек.
6
Не простое это дело - сидеть в дозоре. А главное, утомительное. Особенно под утро. Веки сами смыкаются, хоть спички вставляй. А уснешь - беда! А ну как проскочит мимо тебя вражеский лазутчик? В замке и в деревушке сотни людей, вооруженных и невооруженных, есть старики, женщины, дети. И все как бы на твое попечение оставлены, спят спокойно, знают, что ты бодрствуешь, никого не подпустишь. Ну, не один ты, конечно. Лагерь окружен дозорами, ближними и дальними. Все тропы перекрыты. Павел сидел в кустах на слоистой холодной каменной плите, торчащей прямо из земли. Здесь выходила наружу горная порода. А метрах в двух ниже кусты расступались, давая место узкой дороге, присыпанной тем же дробленым камнем - серым, коричневым, желтым, вперемешку со снегом, видно, не очень-то наезженная дорога, хотя всезнающий Франек рассказывал, что она единственная к селу и замку. По ту сторону ее - второй пост, партизан укрылся в камнях, только клетчатая кепка торчит. Вероятно, и он видит его, Павла. Можно, конечно, перекинуться с ним словом-другим, но кругом такая утренняя тишина!… Только где-то неподалеку под снегом прозрачно журчит вода, то ли родничок, то ли ручеек. Надо будет, как сменят, взглянуть. И от журчания этого, жужжания, тишина кажется глубокой и ломкой. Скажешь слово, разобьешь ее, и пойдет гулять твое слово по горам, откликнутся ему камни и кусты, деревья и светлеющее небо. А у врага тоже уши! Нет уж, лучше помалкивать. Павел слышит тишину и видит дорогу и все, что возле и над ней и даже, ему кажется, то, что и вовсе не видно: как поворачивает дорога за скалу и бежит по ущелью и где-то там, за извилистыми километрами, наталкивается на шоссе, покрытое тонкой ледяной коркой. Может, он и бывал в том месте с отрядом. Всю осень и зиму кружили по горам, уходили то на юг, в Словацкие Рудные горы, то на север, в Высокие Татры. Может, и побывал у конца этой каменистой дороги, а может, и нет… Когда вымотаешься на кручах, горы становятся похожими на одно лицо. Некогда вглядеться, некогда вслушаться. Только бы лечь, закрыть глаза, забыться коротким сном и ни о чем не думать! А сейчас спать нельзя. Надо ущипнуть себя побольнее. Павел улыбнулся - детство все это, щипки там всякие. Если ты боец, так и будь бойцом. Приказал себе не спать и не спи! Это тишина усыпляет… Тишина… Если вслушиваться в журчание воды, в какое-то мгновение перестаешь его слышать, оно сливается с тишиной, растворяется в ней… Так и в цирке бывало, когда кто-нибудь показывал рискованный трюк под куполом. Оркестр замолкал, затихал зал, казалось, что люди даже дышать перестали. Звучала только дробь барабана. Но дробь эта не воспринималась, как звук. Становилась частью настороженной тишины… Павел не услышал, скорее, угадал, уловил перемену в тишине. Хруст? Сорвался камешек? Шаги? Павел взглянул на противоположную сторону дороги. Клетчатая кепка исчезла. Ага… Значит, тоже услышал. А хруст все явственней. Нет, не шаги. Шаги были бы разделены паузами, а хруст сплошной, с какими-то легкими ударами. "Лошадь с телегой", - подумал Павел. И не ошибся. Вскоре из-за поворота показалась коричневая понурая лошадь со спутанной гривой. Она тащила телегу с высоким брезентовым верхом, как у бродячих цыган. "Кибитка", - подумал Павел, беря автомат на изготовку. Вожжи свободно висели вдоль тощих лошадиных боков, а концы были привязаны к скамейке на передке телеги. Возницы не было. Павел и партизан в кепке одновременно вышли на дорогу. – Тпру-у… - произнес Павел. Лошадь тотчас остановилась и вздохнула, словно долго-долго ждала команды, покивала головой и равнодушно посмотрела на остановивших ее людей. От тощих боков ее подымался пар. "Нет никого, что ли?" - удивился Павел, обошел телегу и, стволом автомата отодвинув сзади край брезента, заглянул внутрь. На соломе лицом вниз лежал мужчина, а рядом, свернувшись калачиком, мальчишка или девчонка. Не разобрать. Еще приметил темный фанерный ящик, и вдоль брезентовых стен свисали маленькие дети в пестрых одеждах. Павел даже отшатнулся от неожиданности. Кошмар какой-то! – Погляди-ка! - воскликнул он сдавленным голосом. Напарник подошел. А в кибитке что-то шевельнулось. Павел наставил ствол автомата на брезент. Брезент раскрылся и в щель высунулась девчоночья голова, из темных волос торчали соломинки, синие глаза смотрели непонимающе и моргали. – Здрасте, - сказал Павел по-русски. Брезент раскрылся еще больше, и девочка соскочила с телеги, отряхивая с коротковатого пальтишка солому. На плече висел серый шерстяной платок, видно свалился с головы. – Вы кто? - спросила девочка по-словацки. – А ты? – А я уснула. - Она сняла платок, встряхнула его и быстро накинула на голову, сразу превратившись из девочки в девушку. – А кто там еще? - Павел повел стволом автомата на телегу. – Дедушка. – Чего ж не выходит? – Болеет, - ответила девочка и нахмурилась. – Больше никого? Девушка только руками развела. – А дети повешенные? - спросил Павел, не опуская автомата. – Дети? - удивилась девушка. – Дети. Висят. Девочка посмотрела на Павла, и в глазах ее быстро начал разгораться синий огонь. Сперва забегали искорки, потом полыхнуло, и она рассмеялась весело, безудержно, заразительно. Ничего не понимающий партизан в клетчатой кепке заулыбался. Лошадь махнула хвостом, только Павел смотрел на девушку требовательно, в упор. Он не принимал смеха. – Это ж бабки… Бабки, - проговорила девушка сквозь смех. Павел не понял, не знал этого слова. Он обошел девушку и заглянул в брезентовую щель. Дети висели на прежних местах. У одного была сивая борода. У другого, маленького, красный колпак с двумя кисточками, на которых висели колокольчики. У третьего, со старушечьим лицом, из-под мятой юбки торчали деревянные ноги. "Куклы", - сообразил Павел. Даже от сердца отлегло. – Куклы! – Бабки… - девушка все еще смеялась. Тут и Павел не выдержал, засмеялся, опустил автомат. – Бабкове дивадло, - сказал партизан в клетчатой кепке. – Ясно. Кукольный театр, - кивнул Павел. - А что с дедушкой? – Немцы. Ни сесть, ни лечь. Второй день не ест. А вы кто? – Оружие есть? - спросил на всякий случай Павел. – Кухонный ножик, - ответила девушка почему-то сердито. "Кого она напоминает? Раньше я ее не встречал". Павел посмотрел в ее построжевшие синие глаза. И сказал громко и удивленно: – Злата! Такие же синие, как у Златы, глаза. – Альжбетка… С кем ты там?… - послышался слабый старческий голос. – Люди, дедушка, с ружьями. – Обижают?… – Нет, дедушка, не обижают. Вы не беспокойтесь. Лежите себе… Она повернулась к Павлу. - Меня зовут Альжбета, а тебя? – Павел. – Юрай, - представился партизан в клетчатой кепке. – Вы куда направляетесь? - спросил Павел. – Дедушка велел к старому замку… Подальше от немцев. Он работать не может. Чего есть будем? - Альжбета посмотрела на Павла печально. – Накормим, - ласково ответил Павел и повернулся к Юраю. - Я провожу их. – Давай. – Лезь к своим куклам, - скомандовал Павел, а сам забрался на передок, отвязал вожжи. - Н-но-о!… Хио!… Лошадь повернула голову, посмотрела на нового возницу с недоверием, но тронулась с места. Девушка к куклам не полезла, впрыгнула на ходу, села рядом с Павлом. – Так и ездите? - спросил он. – Так и ездим. Сперва вчетвером ездили. Папа с мамой. А теперь вот вдвоем с дедушкой. – А… – Не знаю… Осенью их немцы забрали. На работы какие-то. Всю зиму мы с дедом кое-как… Вдвоем. Теперь вот деда высекли. Поправится - дальше поедем. – За что его? – Сказку мы показывали про дракона и принцесску. Как дракон девушек по очереди поедал. И принцесскина очередь пришла. А тут Бача с Гашпарко. Пришли принцесску выручать. Если гитлеров поблизости нет - так дедушка дракону на головы касочки немецкие надевал. Вроде драк-немец… А тут и гитлеры нагрянули. Увидали касочки на драконьих головах и высекли деда. И убить могли. – Могли, - согласился Павел. – Теперь вот деду отлеживаться надо. Что есть будем? – А дома своего у вас нет? – Есть. Только далеко, почти что в Венгрии… Вот поправится дедушка, и поедем. Может, и мама с папой туда придут. Если живы еще… - добавила Альжбетка тихо. Павел покосился на нее и только вздохнул. Что скажешь? утешишь? Вот и он ничего про отца не знает. Жив ли? Сколько времени прошло!… Мама… Повидаться бы с мамой! Вот война кончится…
7
– Товарищ гвардии сержант… старший сержант, - поправился Петр, заметив новенькие широкие красные лычки на зеленых погонах Яковлева, - красноармеец Лужин прибыл. Яковлев только кивнул. Лицо его было хмурым, озабоченным. – Хорошо. Я уж думал, ты вовсе отсачковал. Котелок цел? Петр удивленно пощупал голову. – Да не твой котелок, - усмехнулся Яковлев. - Настоящий. – Цел. Старший сержант махнул рукой в сторону: – Иди подкрепись. И у Силыча боезапас возьми. Он на тебя получил. Давай, артист. Петр пошел в ту сторону, куда показал Яковлев. Почему это он его артистом назвал? Никогда так не называл. Только по фамилии. И хмурый. Недоволен чем? Так он же не по своей воле в лагере застрял!… Петр посмотрел по сторонам и заметил неторопливое движение кругом. Кто-то нес патронные ящики, кто-то чистил оружие. Связисты, деловито переругиваясь, крепили провода к столбу, один наверху с "кошками" на ногах, другой внизу отматывал провод с катушки. Из хаты вышла группа офицеров, расставались не прощаясь, расходились в разные стороны. Свое отделение Петр увидел за забором, на вскопанном огороде, возле походной кухни. Бойцы сидели кружком. Поблескивали на солнце ложки, чернели прокопченные котелки. – Привет! Все дружно оторвались от котелков и посмотрели на Петра. – Нашлась пропажа. – А мы думали, ты уж в генералы подался! – Лезь в дыру, - улыбнулся Силыч, повернулся в сторону кухни и крикнул повару: - Вахрамеенко! Выдай ему двойную порцию. Отощал парень на генеральских харчах! Петр пролез в дыру в заборе, улыбаясь, прошел к походной кухне. Ворчун Вахрамеенко наскреб ему со дна котла каши со свининой. Держа котелок в обеих руках, Петр подошел к товарищам, сел рядом на сырую землю, замкнул красноармейский круг, сверкнул алюминиевой ложкой. Так хорошо, так радостно было на душе, словно домой вернулся после долгой разлуки. Все ели не торопясь, молча. Не слышно было обычных подковырок. И по сосредоточенным лицам товарищей, по движению на улице вдоль забора Петр понял - предстоит "дело". Яковлев никогда не говорил "бой", "атака", только "дело", "рывок". И никогда не волновался или скрывал, что волнуется. И бойцы не волновались. Как-то легче идти "на дело", чем "в бой". Когда поели, Силыч сказал одному из товарищей: – Елкин, захвати-ка наши котелки, мой и Петрухин. Я ему вводную дам. Маленький усатый Елкин молча забрал пустые котелки, пошел мыть. А что ему? Ему б занадобилось, Силыч помыл бы или Петруха. Все - пальцы одной руки. – Такие дела, - неопределенно произнес Силыч, когда они остались вдвоем. - Слышал, у тебя отец нашелся? Петр кивнул. – Он и не терялся. Он погиб в сорок первом. – Вона! - удивился Силыч. – Ошибка вышла в газете… – Приятная ошибка, коли живой он. Генерал? – Майор. – Я и говорю - генерал-майор. – Да просто майор. Герой Советского Союза. Разведчик. - Петр счастливо улыбнулся. - Он меня к себе хотел забрать. – Ну… – Не согласился я… Не маленький при папе состоять. – Ну и дурак. Отец все-таки!… Вдвоем воевать сподручней, - сказал Силыч, нахмурясь. – Я и так не один воюю. А Яковлев, а ты, а Елкин, а ребята?… - запальчиво произнес Петр. – Оно конечно… А все ж - не родной отец. Я б хотел, чтоб мой Колька рядом был. – Ну что ты, Силыч, по-твоему выходит: война - семейное дело? – А может, и семейное, - строго сказал Силыч. - Какая семья! – А меня вот папа понял, когда я отказался. – Понял… А душа, верно, на части трескается… – У тебя мой боезапас? - спросил Петр, чтобы переменить разговор. – В вещмешке. – На "дело" идем? – Приказали быть наготове. Слышь, как там ребятишки-то? Петр понял, что Силыч спрашивает про лагерных мучеников. – Отъедаются. – Говорят, шуму ты там наделал, на коне задом наперед скакал. – Кто говорит? - насторожился Петр. – Слухом земля полнится. Утром чихнул, вечером - будь здоров. Говорят, ты прямо артист! "Вот почему Яковлев назвал его артистом. И сюда дошло", - понял Петр, а вслух сказал: – Что приказали, то и делал. - Как бы отмежевывался от представления. - А у тебя никак новая медаль "За отвагу"? Силыч покосился на медали. – Вчера вручили. Всем, кроме Яковлева, награды. – Как же это? - усомнился Петр. – А Яковлева представили к первой степени. Будет вроде полный кавалер. Петр кивнул. И грустно ему стало. Всех за "дело" наградили. А он в лагере на коне скакал. Обидно. – Так собираться? – А чего тебе собирать? Весь тут! Забирай у меня боезапас. Петр забрал патроны и гранаты, переложил в свой вещмешок. Вернулись товарищи. Елкин молча подал ему котелок. – Поздравляю, - сказал Петр. – С чем это? – С наградой.
 – А… Спасибо. Обмыть бы, - сказал Елкин, подкрутил ус и пол мигнул Петру.
За забором показался Яковлев с офицером в плаще, придержал штакетину, сказал почтительно:
– В дырку, товарищ подполковник. - И крикнул негромко: - Отделение, становись!
Построились в одну шеренгу без суеты, но быстро. Узнали командира полка.
Церцвадзе поздоровался. Ответили дружно.
– Ну как, орлы? Готовы?
– Так точно, товарищ подполковник.
Взгляд подполковника скользнул по лицам.
– Который?
– Рядовой Лужин, два шага вперед, - скомандовал Яковлев.
Сердце у Петра екнуло, неужели отец забирает его? Сейчас, при всех. Стыд!
С каменным лицом Петр выполнил приказание.
– Рядовой Лужин, по поручению командира корпуса, от имени Верховного Совета вручаю вам боевую награду - медаль "За отвагу". Носите ее с честью!
– Служу Советскому Союзу! - звонко по-мальчишечьи выкрикнул Петр.
Подполковник прикрепил к его гимнастерке медаль.
– Поздравляю.
– Спасибо, товарищ подполковник.
– Майор Лужин ваш отец?
– Так точно.
– Хороший у вас отец. И выходит, сын у вашего отца тоже орел! Идите в строй.
– Есть!
Церцвадзе снова оглядел бойцов, сказал весело:
– Что б я без вас делал, орлы? - Козырнул и заспешил к дырке, на улицу.
– Вольно, разойдись! - скомандовал Яковлев.
Товарищи окружили Петра, хлопали по спине, поздравляли. Петр сиял. И только краем уха услышал, как Силыч спросил старшего сержанта:
– Как же ты, Яковлев?
– А так. Пошел к подполковнику. Давайте, хоть я вручу, если сами не можете. На "дело" все-таки идем. А бойцу табак, кашу и награду вынь да положь!
– А… Спасибо. Обмыть бы, - сказал Елкин, подкрутил ус и пол мигнул Петру.
За забором показался Яковлев с офицером в плаще, придержал штакетину, сказал почтительно:
– В дырку, товарищ подполковник. - И крикнул негромко: - Отделение, становись!
Построились в одну шеренгу без суеты, но быстро. Узнали командира полка.
Церцвадзе поздоровался. Ответили дружно.
– Ну как, орлы? Готовы?
– Так точно, товарищ подполковник.
Взгляд подполковника скользнул по лицам.
– Который?
– Рядовой Лужин, два шага вперед, - скомандовал Яковлев.
Сердце у Петра екнуло, неужели отец забирает его? Сейчас, при всех. Стыд!
С каменным лицом Петр выполнил приказание.
– Рядовой Лужин, по поручению командира корпуса, от имени Верховного Совета вручаю вам боевую награду - медаль "За отвагу". Носите ее с честью!
– Служу Советскому Союзу! - звонко по-мальчишечьи выкрикнул Петр.
Подполковник прикрепил к его гимнастерке медаль.
– Поздравляю.
– Спасибо, товарищ подполковник.
– Майор Лужин ваш отец?
– Так точно.
– Хороший у вас отец. И выходит, сын у вашего отца тоже орел! Идите в строй.
– Есть!
Церцвадзе снова оглядел бойцов, сказал весело:
– Что б я без вас делал, орлы? - Козырнул и заспешил к дырке, на улицу.
– Вольно, разойдись! - скомандовал Яковлев.
Товарищи окружили Петра, хлопали по спине, поздравляли. Петр сиял. И только краем уха услышал, как Силыч спросил старшего сержанта:
– Как же ты, Яковлев?
– А так. Пошел к подполковнику. Давайте, хоть я вручу, если сами не можете. На "дело" все-таки идем. А бойцу табак, кашу и награду вынь да положь!
8
Альжбетка не отходила от дедушки. Несмотря на тесноту, ему освободили кровать в одном из домов деревни. Он лежал плашмя, то уперевшись подбородком в плоскую подушку, то прижавшись к ней колючей щекой, и изредка тихо стонал. Он мог поворачивать только голову, и то с усилием, спина и бока были в синяках и кровавых полосах. Немцы били обрывком стального плетеного троса и сапогами. Видно, и внутри что-то отбили, он не мог есть, а когда кашлял, на губах являлась розовая кровь. Партизанский доктор сказал про него: не жилец. Но Альжбетка не верила, не хотела верить. Она раздобыла курицу, сварила крепкий бульон, белое мясо накрошила меленько-меленько, чтобы деду не жевать. Но дед сказал: – Не надо, Альжбетка… Не лезет в меня… Вот отлежусь… Альжбетка достала из ящика в кибитке маленькую кофейную чашечку и оделила бульоном всех. И Павел выпил свою порцию. – Последние деньги на эту курицу ушли. Чем кормить деда буду? – Мир не без добрых людей, - сказал дед Ондрей. Он и спустился в деревню, чтобы чем-то помочь, если сможет. Альжбеткин дедушка оказался старым знакомцем. Они и словом ни разу не перекинулись, но дед Ондрей видел представления маленького кукольного театра. Узнал и кукольника, и его внучку и очень сокрушался, что с ними такая беда приключилась. И Франек, оказывается, видел представление. – У них куклы, как живые: и поют, и разговаривают, и дерутся. Ну чисто человечки, - рассказывал он Павлу, одновременно и восторгаясь, и удивляясь. - А девочка с железной тарелкой ходила, деньги собирала. Не просила, люди сами давали, кто сколько мог. Она только кивала да "спасибо" говорила. Гордая девочка. Ишь как заневестилась!… Павел несколько раз побывал в кибитке кукольников, с любопытством рассматривал кукол. Они были вырезаны из цельных, потемневших кусков дерева, а деревянные головы, руки и ноги крепились на шарнирах. От рук, ног и головы тянулись веревочки к деревянному перекрестью. За эти веревочки и водили кукол. Потянешь за одну - рука подымается, за другую потянешь - нога шагнет. Он попробовал поводить куклу Бачу - старика в крестьянском костюме, опоясанном широким кожаным поясом. Тяжелая кукла оттягивала руки и двигалась несуразными рывками. Альжбетка смеялась. – Чего ты смеешься? - обескураженно спросил Павел. - Тебе его и не поднять! Альжбетка пожала плечами, отобрала у него куклу и спустила Бачу с кибитки вниз, на землю. Бача встал на обе ноги, почесал рукой в затылке и сказал странным девичьим басом: – Куда ж подевался этот озорник Гашпарко? - При этом рот Бачи открывался и закрывался. Бача подошел к колесу, заглянул за него, наклонился, посмотрел под колесо, покачал головой: - Сладу с ним нету. А может, он догадался, что я голодный, как волк, и пошел стянуть у кого-нибудь поросенка? Несколько партизан остановились рядом, с улыбкой смотрели на Бачу. – Здорово, - искренне похвалил Павел. - Дай-ка я еще попробую. Он влез в кибитку, взял у Альжбетки деревянное перекрестье, от которого тянулись веревочки к кукле. – Значит, это - руки, это ноги, это рот. Альжбетка кивнула. Бача дернулся несколько раз, потом поднял руку, почесал затылок и сказал голосом деда Ондрея: – Куда ж подевался этот озорник Янек? - Павел подергал за ниточки от ног, Бача, нелепо подпрыгивая, двинулся к колесу, но вместо того чтобы наклониться, шлепнулся в землю носом. Партизаны засмеялись. – Ничего, Павлик, - утешила Альжбетка. - Не сразу… Поводишь и научишься. Не так уж и трудно. С этой минуты Павла охватил азарт. Он захотел во что бы то ни стало научиться водить кукол. Ощущение было знакомым. Бывало в цирке они с Петькой "заболевали" трюком, тренировались до изнеможения. Мама запрещала перегрузки, а папа подначивал. "Ничего Гертруда, пускай стараются. Всякое старание на пользу". - "Но мошно и сломаться", - возражала мама. Папа только смеялся: "Эти не сломаются. Упорства у них хватит. И упорства хватало. Такой же азарт появился и теперь. И Павел рад был ему. От кукольного туловища вверх шел металлический стержень, за него-то и приходилось держать тяжелую куклу. По сути дела на весу. Рука скоро затекала, каменела. А другая подергивала нужные веревочки. Павел менял руки, затекшая путала концы. Кукла несуразно дергалась. Только разберешься с веревочками, начнешь привыкать, уже рука затекает. Поменяешь - и начинай все сначала. Альжбетке нравилось упорство, с каким Павел овладевал куклами. И восторгало его умение говорить на разные голоса. – Да ты прирожденный артист, Павлик! - как-то воскликнула она. – А я и есть артист. – Как это? - удивилась Альжбетка. – Я ж в цирке выступал до войны. – В цирке? – Ну да!… На лошади скакал. Акробатический этюд работал с братом, с папой и мамой. – Серьезно? - не поверила Альжбетка. Вместо ответа Павел прошелся на руках, сделал несколько фляков, прокрутил арабское колесико. Хотел было сделать сальто-мортале, но в последний момент испугался, что не получится. Отвык он от акробатики. Не до нее было эту зиму. Да и негде тренироваться. Не в снежных же сугробах в горах! Альжбетка восторженно захлопала в ладоши. В это время появились Серега и Франек. Они очень подружились, говорили на какой-то невероятной смеси русского, белорусского и словацкого, подкрепляя чуть не каждое слово жестами. Серега даже начал учить любознательного Франека работе с радиостанцией. Франек сказал весело: – Новый способ покорять девичье сердце, ставить свое с ног на руки. А Серега лукаво спросил: – А как же Злата? Павел покраснел и нахмурился, буркнул: – Мы репетируем. – А мы что? Мы ничего… - засмеялся Серега и подмигнул Франеку. – И как успехи? - спросил тот чересчур серьезно. – Он - талант! - Альжбетка ткнула пальчиком в сторону Павла. - Он артист из цирка! - И спросила невинно: - А кто это - Злата?
 – Это… - Серега перехватил сердитый взгляд Павла. - Это… Лошадь так звали в цирке.
– Да врет он все, Альжбетка! - сказал Павел. - Злата - девочка У нее такие же синие глаза, как у тебя. Она красивая.
– И я красивая? - спросила Альжбетка, посмотрела требовательно на Павла и опустила взгляд.
– Конечно! - воскликнул Павел. - И кто со мной не согласен с тем я буду драться!
Альжбетка снова взглянула на Павла, поняла, что он действительно будет драться, и сердце ее остановилось на мгновение, замерло сладко, а потом бросилось догонять самое себя, и кровь жарко прилила к щекам! Она схватила самую маленькую куклу - Гашпарко - звякнули колокольчики на кисточках колпачка - и чмокнула его в нос.
– Ты б уж лучше сразу… - Франек хотел сказать: "Павлика поцеловала", но осекся… У каждой шутки есть предел, и его должно подсказать собственное благородство. А вдруг Павел и в самом деле полюбил Альжбетку? Чего ж тут смешного! Лично он, Франек, никогда не влюбится. Никогда! По крайней мере пока не разгромят фашистов. Конечно, кое-кто ему симпатичен, но влюбиться - нет! Никогда! Он - партизанский разведчик! А Павлик - артист. У артистов слабые сердца, они живут чувствами, а он, Франек, - волей! Долгом! Головой! Подумав так, Франек зауважал себя, выпрямился и, гордо подняв голову, посмотрел на Павла чуть свысока. Хотя, честно говоря, он не возражал бы, чтобы маленькая Альжбетка почаще глядела на него, а пореже на Павла. Артисты! Рыбак рыбака видит издалека. Но уж дружбу их мужскую не порушат даже синие глаза Альжбетки!
Взгляд Франека потеплел.
– Ну и чего вы достигли?
Павел и Альжбетка переглянулись и дружно полезли в кибитку. Оттуда послышался невнятный шепот, о чем-то они не то спорили, не то сговаривались.
Серега и Франек уселись на бревно возле дома.
Сверху спустились сразу две куклы: Чернокнижник - патлатый в черном сюртуке и черной шляпе, глаза у него были выпуклые, живые, в них отражалось солнце, и от этого они горели каким-то адским огнем, и маленький Гашпарко в красном камзоле и красном колпаке. В хитрых глазках его тоже отражалось солнце. Вообще лица у кукол были до того естественными, что становилось даже жутко.
– Ты кто? - спросил Чернокнижник густым утробным голосом.
– Я? - Гашпарко ткнул себя пальчиком в грудь. - Гашпарко. - Он позвенел колокольчиками.
– А этих ты знаешь? - Чернокнижник указал на Франека и Серегу.
– Этих? - спросил Гашпарко.
– Этих.
– Да кто ж их не знает! Франек и Эдисон! А ты кто?
– Я?
– Ты.
– Чернокнижник, колдун, маг и волшебник! Профессор белой и черной магии и клептомании!
– Вот это да-а! - восторженно вскликнул Гашпарко звонким голосом Альжбетки.
– Проси что хочешь - все исполню. Хочешь, сделаю тебя большим, как Эдисон? А может, ты хочешь стать разведчиком, как Франек?
Но Гашпарко не успел сказать свое желание. Из дома вышла хозяйка, простоволосая, с перепуганными глазами.
– Альжбетка, иди скорее, дедушке плохо.
Ножки Гашпарко подогнулись, и он упал на землю. Альжбетка спрыгнула с кибитки и бросилась в дом. Франек и Серега вскочили. Павел торопливо убрал кукол в кибитку и побежал следом за Альжбеткой.
Дедушка все так же лежал на животе, прижавшись небритой щекой к подушке, дыхание было прерывистым, хриплым. Он открыл глаза, пустые, как у слепого. Увидел Альжбетку, шевельнул губами, хотел что-то сказать, уткнулся ладонью в подушку, попытался встать, но не смог. Хрип прервался.
– Дедушка, - позвала Альжбетка. - Это я, дедушка. Ну что ты, что ты?… Я тебе еще бульону сварю… Дедушка.
Хозяйка плакала, обняв Альжбетку, прижав ее к себе.
А Альжбетка смотрела на деда остановившимся синим взглядом и не верила, не верила, что дедушка умер.
С девочкой что-то случилось. Она не плакала, она всю ночь просидела возле дедушки, не смыкая глаз, и не проронила ни одной слезинки. Все в ней замерло - душа, сердце, не было ни мыслей, ни желаний, она сидела на стуле возле деда, положив руки на колени, словно они ей уже не нужны, и смотрела куда-то мимо деда, в никуда.
А дедушка лежал вверх лицом, со сложенными на животе морщинистыми натруженными руками, которые даже смерть не смогла высветлить, лежал на спине впервые после того, как его избили. И ему не было больно, вот что удивительно! Ему не было больно!…
Хозяйка принесла Альжбетке кружку молока и кусок хлеба. Должна же девочка поесть! Сунула кружку ей в руки. А Альжбетка словно не заметила кружки, тоненькой струйкой молоко полилось на пол.
Павел сидел возле большой холодной печки и тоже не смыкал глаз. Он понимал, что Альжбеткин дедушка умрет, даже доктор сказал про него: не жилец. Он видал смерть совсем близко. Хоронил француза Поля осенью. Зимой - павших в боях партизан. И каждый раз сердце его содрогалось от горя и ужаса. Нет, никогда он не привыкнет к смерти, никогда! К смерти нельзя привыкнуть. Это фашистам человеческая жизнь - ничто. Их приучали убивать. А он не фашист. И если он стреляет в фашистов, то только потому, что они уже не люди. Разве люди могут избить старика стальным тросом!…
Павел сидел возле большой холодной печки и смотрел на Альжбетку. Больше смерти дедушки потрясло его Альжбеткино состояние, хоть бы закричала, заплакала. А она… Она стала похожа на деревянную куклу с синими глазами, которых не может оживить даже свет керосиновой лампы. Они вбирают в себя свет, а не отражают его, он уходит в пустоту.
Как она теперь будет жить? У нее из живых существ осталась только старая лошадь. Как поедет в своей кибитке среди молчаливых кукол? Где найдет родителей, да и живы ли они?
Павел вспомнил, как он тосковал по маме, по брату, по отцу. А ведь ему было легче. Хотя окружали его враги, и среди них нашлась добрая душа - толстая Матильда. И потом он занимался трудным делом, которое поглощало его всего: он притворялся таким же, как окружающие его, и сохранял себя таким, какой он есть, сохранял в себе Человека! Теперь, когда все позади и он вступил с врагами в открытую смертельную схватку вместе со своими товарищами-партизанами, вместе с Красной Армией, вместе со всем советским народом, частицей которого оставался всегда, - теперь он понимает, через какой ад прошел и выстоял. Это все мама, ее пример, ее любовь, ее верность. Это отец - Герой Советского Союза. Это брат Петр. Это Великие Вожди. Все, все помогли ему выстоять.
А Альжбетка - одна. Почему одна? А он, Павел? А его товарищи? Разве они оставят Альжбетку в беде? Что сказала бы мама? Она сказала бы:
– Альжбетка, это мои сыновья, Петр и Павел. Ты будешь мне дочерью, а им сестрой.
Наверно, так сказала бы мама.
Павел встал и тихонько подошел к Альжбетке, которая все сидела неподвижно возле деда и смотрела в никуда. Он тихонько тронул ее за плечо, встав рядом. Она качнулась, прислонилась к его боку, словно нашла опору, и продолжала смотреть на деда невидящими глазами.
И не было для Павла в этот момент никого ближе и дороже. Жалость к девушке перехватила горло, но он сдержался, только вздохнул протяжно и остался стоять рядом. Он не мог отойти от нее.
Войска Красной Армии начали большое наступление в районе Моравской Остравы. Новость оживленно обсуждалась в партизанской бригаде "Смерть фашизму". Все понимали, что начинается последний, решительный бой, Красная Армия сломала хребет фашистам, но прежде чем с ними будет покончено, немало прольется крови. И все, все готовы были помочь Красной Армии!
Алексей Павлович удвоил охранение, обходил батальоны, взводы, роты вместе с комиссаром Ковачеком и начальником штаба. Казалось, что командир находится одновременно всюду.
Серега Эдисон сутками дежурил у рации.
Франек укрощал свои рыжие австрийские сапоги, чтобы не скрипели. Что за разведчик, у которого скрипят башмаки!
А Павел не находил себе места. Ему необходимо было поговорить с Алексеем Павловичем, но подойти он не решался, понимал, что Алексею Павловичу не до него: бригада вот-вот вступит в бой. Павел и ждал, и хотел этого, и боялся. Нет, не боя. Он боялся за Альжбетку.
И на похоронах деда она не проронила ни слезинки. Кукольника хоронили с воинскими почестями. Ковачек сказал над его могилой:
– Он не был партизаном и не был солдатом. Он был простым словаком и крепко любил свою Родину. Искусство было его оружием, искусство - душа народа. Даже если уничтожить народ, как того хотят фашисты, душа его останется жить и, как несломленный вечный костяк, обрастет мясом. И снова возродится народ. Куклы его говорили людям правду, звали людей на борьбу. Они были воинами. И мы отдаем кукольнику воинские почести по праву. - И когда отгремели троекратные залпы салюта, комиссар крикнул громко, чтобы услышали его родные горы и долины и все, отдавшие жизнь за них: - Смерть фашизму! Свободу народам!
А Альжбетка словно не слышала комиссаровых слов. Она стояла возле свежего холмика каменистой земли и смотрела в никуда, и глаза ее были сухими. А Павел плакал и не стыдился своих слез, тело его сотрясали рыдания. Он плакал и за себя, и за Альжбетку, которая не могла плакать. Ему казалось, что Альжбетка сошла с ума. Мысль эта вселяла в него ужас. Он не отходил от девушки, а она и его словно бы не замечала. Он еще не понимал, что, не замечая его присутствия, она заметила бы его исчезновение.
"Альжбетка, - думал он с нежностью, - Альжбетка. Как же тебе помочь? Чем?"
Он вычистил старую Альжбеткину лошадь, раздобыл ей сено, смазал дегтем колеса кибитки и даже заштопал дырку в брезенте.
Ничего Альжбетка не заметила, ничего не оценила.
И вот бригада готовится к походу, к бою. Видно по всему. Что будет с Альжбеткой? Вряд ли Алексей Павлович и комиссар разрешат ей остаться в бригаде.
Надо поговорить с Алексеем Павловичем, объяснить ему. Да как с ним поговоришь?
И вдруг его вызвал к себе сам Алексей Павлович.
В большом мрачном зале замка кроме комбрига был только дед Ондрей. Оба сидели у края дубового стола и молча смотрели на приближающегося Павла.
– Товарищ командир, партизан Лужин прибыл по вашему приказанию.
Алексей Павлович с любопытством оглядел Павла, будто тот был какой диковинкой и видел он ту диковинку впервые.
– Садись.
Павел присел на стул с высокой резной спинкой. Не мягче чем на лавке в деревенской избе.
– Красная Армия начала наступление. Конец приходит фашистам. - Алексей Павлович задумчиво погладил ладонью мореный дуб столешницы. Сказал неожиданно: - Все думаю, какие удивительные мастера сработали эту мебель! А?
– Уж потрудились, - обронил дед Ондрей.
– Потрудились, - кивнул Алексей Павлович, и в голосе его прозвучало уважение к мастерам. - А ты как думаешь? - обратился он к Павлу.
Павел не ответил, но внутреннее напряжение перестало сковывать, ослабело. И он сказал неожиданно даже для самого себя, сказал о том, что его мучило последние дни.
– Альжбетку жалко. - И пояснил: - Ту, что с куклами, у которой дедушку похоронили.
Алексей Павлович молча кивнул.
– Что с ней будет? - спросил Павел. - Нельзя ж ее одну бросить!…
– Нельзя, - согласился Алексей Павлович.
– Значит, вы возьмете ее в бригаду?
– Она и так уже в бригаде. Но начнутся бои…
– Альжбетка храбрая и сильная, - горячо сказал Павел. - Она санитаркой может, поварихой, да кем угодно!
– Верю, - улыбнулся Алексей Павлович и спросил лукаво: - А в разведку годится?
– Конечно! Она ж маленькая, как девочка, на нее никто внимания не обратит!
Алексей Павлович помолчал, обдумывая что-то, потом сказал:
– Говорят, ты с куклами освоился?
– В каком смысле? - насторожился Павел.
– В прямом. Знаешь, за какую ниточку дергать, что да как сказать.
– Так. Художественная самодеятельность, - небрежно произнес Павел.
– Значит, не достиг еще совершенства? - снова улыбнулся Алексей Павлович.
– Не достиг.
– Ну что ж, даю тебе два дня сроку. Достигай.
– В каком смысле? - удивился Павел.
– В прямом. Это тебе боевое задание. Через двое суток отправитесь в глубь Словакии, в немецкие тылы. Нам нужно знать все до мелочи. Да тебя учить не надо, ты даже к немцам на укрепления ходил! Кстати, тех укреплений нет. Штурмовики снесли. Так что от имени командования Красной Армии объявляю благодарность.
– Спасибо.
– Э-эх, Лужин, надо отвечать: Служу Советскому Союзу!
– Служу Советскому Союзу! - произнес Павел и покраснел. - Не приходилось, товарищ командир. Я больше "хайль Гитлер" кричал, - добавил он с затаенной горечью.
– Ничего, Павел. Скоро здесь будут наши. И конец Гитлеру. И поедем мы с тобой, Павел Лужин, домой. Домой!
– Где он, дом? - неожиданно вырвалось у Павла. Действительно, где он, дом? В Москве? В Гронске? В Березове?
Алексей Павлович нахмурился.
– Человек бездомным не бывает. Просто дом у нас с тобой большой - Родина. И нас там ждут… - добавил Алексей Павлович не очень уверенно, потому что его никто не ждал. Не было у него семьи, не успел обзавестись. Неожиданно вспомнилась Гертруда Иоганновна. Вот она идет к нему, чуть прихрамывая… Тоненькая, светленькая, в туфлях на босу ногу… Этого еще не хватало! - Два дня, Лужин, - сердито сказал он. - Поедете втроем. Ты, Альжбетка и вот дед Ондрей. Он эти края знает. Подучите его кукол дергать. Он - старший, его приказания… Сам понимаешь.
Павел кивнул и сказал:
– Альжбетка не плачет. Совсем не плачет. Как не в себе.
– Я зайду вечером. Поговорю с ней. Иди.
– Есть!
Павел спускался вниз по крутой каменистой тропе, спотыкаясь о древесные корни. Тропой ближе, чем дорогой.
Что ж получается? Бригада вступит в бой, а его как бы вывели из боя. Как в первые партизанские бои, когда командир считал его маленьким… Надо доложить командиру о приказе товарища Алексея. Еще подумает, что дезертировал… Нет, командир так о нем подумать не может. Командир ему верит. Наверно, и Алексей Павлович, прежде чем дать ему это задание, посоветовался с командиром. Странное задание. Хотя почему странное? Разведка есть разведка. А кукольный театр - отличное прикрытие.
Командир выслушал Павла молча и вздохнул.
– Да знаю я, знаю… И одобряю. Ты ж у нас артист, тебе и куклы в руки! - Он засмеялся, а потом посерьезнел: - Главное - умелость. Назвался косарем - коси траву, назвался шофером - крути баранку. Взаправду, чтоб никому и в голову не пришло, что ты не косарь, не шофер, а разведчик. Тогда тебе поверят. А ты парень толковый. Собственно я тебя и рекомендовал товарищу Алексею.
– Вы?
– А что тебя удивляет, Павел? Паренек ты храбрый, голова светлая, к тому ж немецким владеешь. Портсигар не потерял?
– Нет. - Павел похлопал по карману, где лежал подаренный командиром после боя на шоссе портсигар с двумя конскими головами.
– Вот видишь! - удовлетворенно сказал командир, будто, потеряй Павел портсигар, не послали бы его в глубокую разведку.
Альжбетку Павел нашел возле лошади. Девушка сидела на чурбачке, и в глазах ее стояли… слезы.
– Ты чего, Альжбетка? - встревоженно спросил Павел.
– Да-а-а… Запропастился куда-то, а я тут одна.
– Как же одна? А лошадь?
Альжбетка шмыгнула носом, похлопала по торчащим лошадиным ребрам.
– Ты говори, когда уходишь.
– Ладно. Меня командир бригады вызывал, товарищ Алексей.
– Зачем?
– Дело у нас с тобой, Альжбетка. Репетировать надо. Репетировать, репетировать… Будем представления давать.
– Здесь?
– Нет. Туда подадимся. - Он махнул рукой в сторону заходящего солнца.
– Там же немцы, - испуганно прошептала Альжбетка.
– Немцы. Да не только немцы. Там и наши. Ты что, немцев боишься?
– Никого я не боюсь, если с тобой.
Ах, Альжбетка, чистая душа!
– С нами дед Ондрей поедет. И его надо научить, ну хоть с драконом управляться… Красная Армия наступает. Чуешь? А мы едем помогать ей.
– Пусть она их бьет! Пусть она их… - Альжбетка задохнулась от внезапно нахлынувшей жгучей ненависти к фашистам. И заплакала в три ручья.
Павел не стал ее утешать. Пусть плачет. Хозяйка сказала, что нельзя в себе слезы держать. Они, как отрава. Пусть плачет. Он присел рядом на землю.
– Утонут они в твоих слезах, Альжбетка!
– Пусть… тонут…
Они посидели немного молча.
Отдохнувшая лошадь медленно хрупала сеном и вздыхала.
Раскрасневшееся солнце, прежде чем исчезнуть, жаркой щекой коснулось горы, наверно чтоб остынуть. В ущельях быстро сгущались тени. Альжбетка уже не плакала, только всхлипывала тоненько. Павел тронул ее за плечо:
– Все, Альжбетка, все. Давай работать. Репетировать.
– Давай.
Они направились к кибитке. Взяли тяжелые куклы: Павел пастуха Бачу, Альжбетка его сварливую жену Бачеву.
– Ах ты, лежебока, - произнесла она все еще всхлипывая. - Овец проспал.
Бача почесал в затылке.
– Никуда не денутся. Дорогу домой знают.
– Знают? Напасти на тебя нет! А дракон? Дракон всех пожрет.
– Га!… Нужны ему твои овцы. Ему девушек подавай. Хоть бы тебя слопал. Может, подавится!
– Это ты так про жену? Ну погоди, сейчас я возьму вожжи!…
Бачева исчезла в кибитке.
– Ну теперь начнется, - вздохнул Бача. - Не иначе черт мне жену подсунул. И где были мои глаза!
– В бутылке с можжевеловой, - появился маленький Гашпарко.
– Эх, тебе хорошо, ты не женат! А она за вожжами пошла.
– Сховайся.
– Куда от нее сховаешься?
– А вот сюда. Сиди и помалкивай. Я тебя выручу.
Бача убежал, а Гашпарко присел на камень.
– Ну как? - спросил Павел.
– Хорошо. Теперь тебе надо взять Бачеву. И води ее. А я буду на два голоса говорить. Лампу бы зажечь. Темно.
– Нельзя. Приказ.
Где-то далеко-далеко прогрохотало.
– Гром, - сказала Альжбетка.
Павел посмотрел на чистое, вызвездившее небо.
– Нет, это не гроза. Это артиллерия.
– Так близко?
– Наши. Наши идут, - сказал Павел.
Они замерли и стали слушать отдаленный невнятный грохот. И маленький Гашпарко замер и слушал.
Павел пошарил в кармане и заговорщицки сказал:
– Альжбетка, хочешь, я тебе достану звезду с неба?
– Хочу, - так же тихо ответила она.
Павел поднял руку, взмахнул ею и протянул Альжбетке ладонью вверх. На ней лежала и поблескивала маленькая красноармейская звездочка.
Альжбетка взяла ее, повертела в пальцах и прижала к щеке.
Как хорошо! Как хорошо, что есть в мире алые звездочки!
– Это… - Серега перехватил сердитый взгляд Павла. - Это… Лошадь так звали в цирке.
– Да врет он все, Альжбетка! - сказал Павел. - Злата - девочка У нее такие же синие глаза, как у тебя. Она красивая.
– И я красивая? - спросила Альжбетка, посмотрела требовательно на Павла и опустила взгляд.
– Конечно! - воскликнул Павел. - И кто со мной не согласен с тем я буду драться!
Альжбетка снова взглянула на Павла, поняла, что он действительно будет драться, и сердце ее остановилось на мгновение, замерло сладко, а потом бросилось догонять самое себя, и кровь жарко прилила к щекам! Она схватила самую маленькую куклу - Гашпарко - звякнули колокольчики на кисточках колпачка - и чмокнула его в нос.
– Ты б уж лучше сразу… - Франек хотел сказать: "Павлика поцеловала", но осекся… У каждой шутки есть предел, и его должно подсказать собственное благородство. А вдруг Павел и в самом деле полюбил Альжбетку? Чего ж тут смешного! Лично он, Франек, никогда не влюбится. Никогда! По крайней мере пока не разгромят фашистов. Конечно, кое-кто ему симпатичен, но влюбиться - нет! Никогда! Он - партизанский разведчик! А Павлик - артист. У артистов слабые сердца, они живут чувствами, а он, Франек, - волей! Долгом! Головой! Подумав так, Франек зауважал себя, выпрямился и, гордо подняв голову, посмотрел на Павла чуть свысока. Хотя, честно говоря, он не возражал бы, чтобы маленькая Альжбетка почаще глядела на него, а пореже на Павла. Артисты! Рыбак рыбака видит издалека. Но уж дружбу их мужскую не порушат даже синие глаза Альжбетки!
Взгляд Франека потеплел.
– Ну и чего вы достигли?
Павел и Альжбетка переглянулись и дружно полезли в кибитку. Оттуда послышался невнятный шепот, о чем-то они не то спорили, не то сговаривались.
Серега и Франек уселись на бревно возле дома.
Сверху спустились сразу две куклы: Чернокнижник - патлатый в черном сюртуке и черной шляпе, глаза у него были выпуклые, живые, в них отражалось солнце, и от этого они горели каким-то адским огнем, и маленький Гашпарко в красном камзоле и красном колпаке. В хитрых глазках его тоже отражалось солнце. Вообще лица у кукол были до того естественными, что становилось даже жутко.
– Ты кто? - спросил Чернокнижник густым утробным голосом.
– Я? - Гашпарко ткнул себя пальчиком в грудь. - Гашпарко. - Он позвенел колокольчиками.
– А этих ты знаешь? - Чернокнижник указал на Франека и Серегу.
– Этих? - спросил Гашпарко.
– Этих.
– Да кто ж их не знает! Франек и Эдисон! А ты кто?
– Я?
– Ты.
– Чернокнижник, колдун, маг и волшебник! Профессор белой и черной магии и клептомании!
– Вот это да-а! - восторженно вскликнул Гашпарко звонким голосом Альжбетки.
– Проси что хочешь - все исполню. Хочешь, сделаю тебя большим, как Эдисон? А может, ты хочешь стать разведчиком, как Франек?
Но Гашпарко не успел сказать свое желание. Из дома вышла хозяйка, простоволосая, с перепуганными глазами.
– Альжбетка, иди скорее, дедушке плохо.
Ножки Гашпарко подогнулись, и он упал на землю. Альжбетка спрыгнула с кибитки и бросилась в дом. Франек и Серега вскочили. Павел торопливо убрал кукол в кибитку и побежал следом за Альжбеткой.
Дедушка все так же лежал на животе, прижавшись небритой щекой к подушке, дыхание было прерывистым, хриплым. Он открыл глаза, пустые, как у слепого. Увидел Альжбетку, шевельнул губами, хотел что-то сказать, уткнулся ладонью в подушку, попытался встать, но не смог. Хрип прервался.
– Дедушка, - позвала Альжбетка. - Это я, дедушка. Ну что ты, что ты?… Я тебе еще бульону сварю… Дедушка.
Хозяйка плакала, обняв Альжбетку, прижав ее к себе.
А Альжбетка смотрела на деда остановившимся синим взглядом и не верила, не верила, что дедушка умер.
С девочкой что-то случилось. Она не плакала, она всю ночь просидела возле дедушки, не смыкая глаз, и не проронила ни одной слезинки. Все в ней замерло - душа, сердце, не было ни мыслей, ни желаний, она сидела на стуле возле деда, положив руки на колени, словно они ей уже не нужны, и смотрела куда-то мимо деда, в никуда.
А дедушка лежал вверх лицом, со сложенными на животе морщинистыми натруженными руками, которые даже смерть не смогла высветлить, лежал на спине впервые после того, как его избили. И ему не было больно, вот что удивительно! Ему не было больно!…
Хозяйка принесла Альжбетке кружку молока и кусок хлеба. Должна же девочка поесть! Сунула кружку ей в руки. А Альжбетка словно не заметила кружки, тоненькой струйкой молоко полилось на пол.
Павел сидел возле большой холодной печки и тоже не смыкал глаз. Он понимал, что Альжбеткин дедушка умрет, даже доктор сказал про него: не жилец. Он видал смерть совсем близко. Хоронил француза Поля осенью. Зимой - павших в боях партизан. И каждый раз сердце его содрогалось от горя и ужаса. Нет, никогда он не привыкнет к смерти, никогда! К смерти нельзя привыкнуть. Это фашистам человеческая жизнь - ничто. Их приучали убивать. А он не фашист. И если он стреляет в фашистов, то только потому, что они уже не люди. Разве люди могут избить старика стальным тросом!…
Павел сидел возле большой холодной печки и смотрел на Альжбетку. Больше смерти дедушки потрясло его Альжбеткино состояние, хоть бы закричала, заплакала. А она… Она стала похожа на деревянную куклу с синими глазами, которых не может оживить даже свет керосиновой лампы. Они вбирают в себя свет, а не отражают его, он уходит в пустоту.
Как она теперь будет жить? У нее из живых существ осталась только старая лошадь. Как поедет в своей кибитке среди молчаливых кукол? Где найдет родителей, да и живы ли они?
Павел вспомнил, как он тосковал по маме, по брату, по отцу. А ведь ему было легче. Хотя окружали его враги, и среди них нашлась добрая душа - толстая Матильда. И потом он занимался трудным делом, которое поглощало его всего: он притворялся таким же, как окружающие его, и сохранял себя таким, какой он есть, сохранял в себе Человека! Теперь, когда все позади и он вступил с врагами в открытую смертельную схватку вместе со своими товарищами-партизанами, вместе с Красной Армией, вместе со всем советским народом, частицей которого оставался всегда, - теперь он понимает, через какой ад прошел и выстоял. Это все мама, ее пример, ее любовь, ее верность. Это отец - Герой Советского Союза. Это брат Петр. Это Великие Вожди. Все, все помогли ему выстоять.
А Альжбетка - одна. Почему одна? А он, Павел? А его товарищи? Разве они оставят Альжбетку в беде? Что сказала бы мама? Она сказала бы:
– Альжбетка, это мои сыновья, Петр и Павел. Ты будешь мне дочерью, а им сестрой.
Наверно, так сказала бы мама.
Павел встал и тихонько подошел к Альжбетке, которая все сидела неподвижно возле деда и смотрела в никуда. Он тихонько тронул ее за плечо, встав рядом. Она качнулась, прислонилась к его боку, словно нашла опору, и продолжала смотреть на деда невидящими глазами.
И не было для Павла в этот момент никого ближе и дороже. Жалость к девушке перехватила горло, но он сдержался, только вздохнул протяжно и остался стоять рядом. Он не мог отойти от нее.
Войска Красной Армии начали большое наступление в районе Моравской Остравы. Новость оживленно обсуждалась в партизанской бригаде "Смерть фашизму". Все понимали, что начинается последний, решительный бой, Красная Армия сломала хребет фашистам, но прежде чем с ними будет покончено, немало прольется крови. И все, все готовы были помочь Красной Армии!
Алексей Павлович удвоил охранение, обходил батальоны, взводы, роты вместе с комиссаром Ковачеком и начальником штаба. Казалось, что командир находится одновременно всюду.
Серега Эдисон сутками дежурил у рации.
Франек укрощал свои рыжие австрийские сапоги, чтобы не скрипели. Что за разведчик, у которого скрипят башмаки!
А Павел не находил себе места. Ему необходимо было поговорить с Алексеем Павловичем, но подойти он не решался, понимал, что Алексею Павловичу не до него: бригада вот-вот вступит в бой. Павел и ждал, и хотел этого, и боялся. Нет, не боя. Он боялся за Альжбетку.
И на похоронах деда она не проронила ни слезинки. Кукольника хоронили с воинскими почестями. Ковачек сказал над его могилой:
– Он не был партизаном и не был солдатом. Он был простым словаком и крепко любил свою Родину. Искусство было его оружием, искусство - душа народа. Даже если уничтожить народ, как того хотят фашисты, душа его останется жить и, как несломленный вечный костяк, обрастет мясом. И снова возродится народ. Куклы его говорили людям правду, звали людей на борьбу. Они были воинами. И мы отдаем кукольнику воинские почести по праву. - И когда отгремели троекратные залпы салюта, комиссар крикнул громко, чтобы услышали его родные горы и долины и все, отдавшие жизнь за них: - Смерть фашизму! Свободу народам!
А Альжбетка словно не слышала комиссаровых слов. Она стояла возле свежего холмика каменистой земли и смотрела в никуда, и глаза ее были сухими. А Павел плакал и не стыдился своих слез, тело его сотрясали рыдания. Он плакал и за себя, и за Альжбетку, которая не могла плакать. Ему казалось, что Альжбетка сошла с ума. Мысль эта вселяла в него ужас. Он не отходил от девушки, а она и его словно бы не замечала. Он еще не понимал, что, не замечая его присутствия, она заметила бы его исчезновение.
"Альжбетка, - думал он с нежностью, - Альжбетка. Как же тебе помочь? Чем?"
Он вычистил старую Альжбеткину лошадь, раздобыл ей сено, смазал дегтем колеса кибитки и даже заштопал дырку в брезенте.
Ничего Альжбетка не заметила, ничего не оценила.
И вот бригада готовится к походу, к бою. Видно по всему. Что будет с Альжбеткой? Вряд ли Алексей Павлович и комиссар разрешат ей остаться в бригаде.
Надо поговорить с Алексеем Павловичем, объяснить ему. Да как с ним поговоришь?
И вдруг его вызвал к себе сам Алексей Павлович.
В большом мрачном зале замка кроме комбрига был только дед Ондрей. Оба сидели у края дубового стола и молча смотрели на приближающегося Павла.
– Товарищ командир, партизан Лужин прибыл по вашему приказанию.
Алексей Павлович с любопытством оглядел Павла, будто тот был какой диковинкой и видел он ту диковинку впервые.
– Садись.
Павел присел на стул с высокой резной спинкой. Не мягче чем на лавке в деревенской избе.
– Красная Армия начала наступление. Конец приходит фашистам. - Алексей Павлович задумчиво погладил ладонью мореный дуб столешницы. Сказал неожиданно: - Все думаю, какие удивительные мастера сработали эту мебель! А?
– Уж потрудились, - обронил дед Ондрей.
– Потрудились, - кивнул Алексей Павлович, и в голосе его прозвучало уважение к мастерам. - А ты как думаешь? - обратился он к Павлу.
Павел не ответил, но внутреннее напряжение перестало сковывать, ослабело. И он сказал неожиданно даже для самого себя, сказал о том, что его мучило последние дни.
– Альжбетку жалко. - И пояснил: - Ту, что с куклами, у которой дедушку похоронили.
Алексей Павлович молча кивнул.
– Что с ней будет? - спросил Павел. - Нельзя ж ее одну бросить!…
– Нельзя, - согласился Алексей Павлович.
– Значит, вы возьмете ее в бригаду?
– Она и так уже в бригаде. Но начнутся бои…
– Альжбетка храбрая и сильная, - горячо сказал Павел. - Она санитаркой может, поварихой, да кем угодно!
– Верю, - улыбнулся Алексей Павлович и спросил лукаво: - А в разведку годится?
– Конечно! Она ж маленькая, как девочка, на нее никто внимания не обратит!
Алексей Павлович помолчал, обдумывая что-то, потом сказал:
– Говорят, ты с куклами освоился?
– В каком смысле? - насторожился Павел.
– В прямом. Знаешь, за какую ниточку дергать, что да как сказать.
– Так. Художественная самодеятельность, - небрежно произнес Павел.
– Значит, не достиг еще совершенства? - снова улыбнулся Алексей Павлович.
– Не достиг.
– Ну что ж, даю тебе два дня сроку. Достигай.
– В каком смысле? - удивился Павел.
– В прямом. Это тебе боевое задание. Через двое суток отправитесь в глубь Словакии, в немецкие тылы. Нам нужно знать все до мелочи. Да тебя учить не надо, ты даже к немцам на укрепления ходил! Кстати, тех укреплений нет. Штурмовики снесли. Так что от имени командования Красной Армии объявляю благодарность.
– Спасибо.
– Э-эх, Лужин, надо отвечать: Служу Советскому Союзу!
– Служу Советскому Союзу! - произнес Павел и покраснел. - Не приходилось, товарищ командир. Я больше "хайль Гитлер" кричал, - добавил он с затаенной горечью.
– Ничего, Павел. Скоро здесь будут наши. И конец Гитлеру. И поедем мы с тобой, Павел Лужин, домой. Домой!
– Где он, дом? - неожиданно вырвалось у Павла. Действительно, где он, дом? В Москве? В Гронске? В Березове?
Алексей Павлович нахмурился.
– Человек бездомным не бывает. Просто дом у нас с тобой большой - Родина. И нас там ждут… - добавил Алексей Павлович не очень уверенно, потому что его никто не ждал. Не было у него семьи, не успел обзавестись. Неожиданно вспомнилась Гертруда Иоганновна. Вот она идет к нему, чуть прихрамывая… Тоненькая, светленькая, в туфлях на босу ногу… Этого еще не хватало! - Два дня, Лужин, - сердито сказал он. - Поедете втроем. Ты, Альжбетка и вот дед Ондрей. Он эти края знает. Подучите его кукол дергать. Он - старший, его приказания… Сам понимаешь.
Павел кивнул и сказал:
– Альжбетка не плачет. Совсем не плачет. Как не в себе.
– Я зайду вечером. Поговорю с ней. Иди.
– Есть!
Павел спускался вниз по крутой каменистой тропе, спотыкаясь о древесные корни. Тропой ближе, чем дорогой.
Что ж получается? Бригада вступит в бой, а его как бы вывели из боя. Как в первые партизанские бои, когда командир считал его маленьким… Надо доложить командиру о приказе товарища Алексея. Еще подумает, что дезертировал… Нет, командир так о нем подумать не может. Командир ему верит. Наверно, и Алексей Павлович, прежде чем дать ему это задание, посоветовался с командиром. Странное задание. Хотя почему странное? Разведка есть разведка. А кукольный театр - отличное прикрытие.
Командир выслушал Павла молча и вздохнул.
– Да знаю я, знаю… И одобряю. Ты ж у нас артист, тебе и куклы в руки! - Он засмеялся, а потом посерьезнел: - Главное - умелость. Назвался косарем - коси траву, назвался шофером - крути баранку. Взаправду, чтоб никому и в голову не пришло, что ты не косарь, не шофер, а разведчик. Тогда тебе поверят. А ты парень толковый. Собственно я тебя и рекомендовал товарищу Алексею.
– Вы?
– А что тебя удивляет, Павел? Паренек ты храбрый, голова светлая, к тому ж немецким владеешь. Портсигар не потерял?
– Нет. - Павел похлопал по карману, где лежал подаренный командиром после боя на шоссе портсигар с двумя конскими головами.
– Вот видишь! - удовлетворенно сказал командир, будто, потеряй Павел портсигар, не послали бы его в глубокую разведку.
Альжбетку Павел нашел возле лошади. Девушка сидела на чурбачке, и в глазах ее стояли… слезы.
– Ты чего, Альжбетка? - встревоженно спросил Павел.
– Да-а-а… Запропастился куда-то, а я тут одна.
– Как же одна? А лошадь?
Альжбетка шмыгнула носом, похлопала по торчащим лошадиным ребрам.
– Ты говори, когда уходишь.
– Ладно. Меня командир бригады вызывал, товарищ Алексей.
– Зачем?
– Дело у нас с тобой, Альжбетка. Репетировать надо. Репетировать, репетировать… Будем представления давать.
– Здесь?
– Нет. Туда подадимся. - Он махнул рукой в сторону заходящего солнца.
– Там же немцы, - испуганно прошептала Альжбетка.
– Немцы. Да не только немцы. Там и наши. Ты что, немцев боишься?
– Никого я не боюсь, если с тобой.
Ах, Альжбетка, чистая душа!
– С нами дед Ондрей поедет. И его надо научить, ну хоть с драконом управляться… Красная Армия наступает. Чуешь? А мы едем помогать ей.
– Пусть она их бьет! Пусть она их… - Альжбетка задохнулась от внезапно нахлынувшей жгучей ненависти к фашистам. И заплакала в три ручья.
Павел не стал ее утешать. Пусть плачет. Хозяйка сказала, что нельзя в себе слезы держать. Они, как отрава. Пусть плачет. Он присел рядом на землю.
– Утонут они в твоих слезах, Альжбетка!
– Пусть… тонут…
Они посидели немного молча.
Отдохнувшая лошадь медленно хрупала сеном и вздыхала.
Раскрасневшееся солнце, прежде чем исчезнуть, жаркой щекой коснулось горы, наверно чтоб остынуть. В ущельях быстро сгущались тени. Альжбетка уже не плакала, только всхлипывала тоненько. Павел тронул ее за плечо:
– Все, Альжбетка, все. Давай работать. Репетировать.
– Давай.
Они направились к кибитке. Взяли тяжелые куклы: Павел пастуха Бачу, Альжбетка его сварливую жену Бачеву.
– Ах ты, лежебока, - произнесла она все еще всхлипывая. - Овец проспал.
Бача почесал в затылке.
– Никуда не денутся. Дорогу домой знают.
– Знают? Напасти на тебя нет! А дракон? Дракон всех пожрет.
– Га!… Нужны ему твои овцы. Ему девушек подавай. Хоть бы тебя слопал. Может, подавится!
– Это ты так про жену? Ну погоди, сейчас я возьму вожжи!…
Бачева исчезла в кибитке.
– Ну теперь начнется, - вздохнул Бача. - Не иначе черт мне жену подсунул. И где были мои глаза!
– В бутылке с можжевеловой, - появился маленький Гашпарко.
– Эх, тебе хорошо, ты не женат! А она за вожжами пошла.
– Сховайся.
– Куда от нее сховаешься?
– А вот сюда. Сиди и помалкивай. Я тебя выручу.
Бача убежал, а Гашпарко присел на камень.
– Ну как? - спросил Павел.
– Хорошо. Теперь тебе надо взять Бачеву. И води ее. А я буду на два голоса говорить. Лампу бы зажечь. Темно.
– Нельзя. Приказ.
Где-то далеко-далеко прогрохотало.
– Гром, - сказала Альжбетка.
Павел посмотрел на чистое, вызвездившее небо.
– Нет, это не гроза. Это артиллерия.
– Так близко?
– Наши. Наши идут, - сказал Павел.
Они замерли и стали слушать отдаленный невнятный грохот. И маленький Гашпарко замер и слушал.
Павел пошарил в кармане и заговорщицки сказал:
– Альжбетка, хочешь, я тебе достану звезду с неба?
– Хочу, - так же тихо ответила она.
Павел поднял руку, взмахнул ею и протянул Альжбетке ладонью вверх. На ней лежала и поблескивала маленькая красноармейская звездочка.
Альжбетка взяла ее, повертела в пальцах и прижала к щеке.
Как хорошо! Как хорошо, что есть в мире алые звездочки!
Часть третья. МЫ БЫЛИ И БУДЕМ!


1
– Никакой физической работы. Не нагибаться, не бегать, не читать. При ярком свете лучше надевать темные очки, светофильтры. Врач Юрий Геннадиевич нахмурился: Василь глядел в окно и, казалось, не слушал, о чем ему толкуют. – Долевич, зрение тебе вернули, так ты оглох? - ехидно спросил Юрий Геннадиевич. – Да слышу, слышу. – А ежели слышишь, так невежливо поворачиваться ко мне спиной. – Да не спиной я. Слушаю внимательно. Солнце-то какое! Совсем весна, - произнес Василь так, словно он лично причастен по крайней мере к изготовлению солнца. – Да-а, - засмеялся врач. - С тобой не соскучишься. Василь повернулся к нему всем корпусом, прищурился, чтобы лучше разглядеть Юрия Геннадиевича, от этого лицо сделалось хитрым, лукавым. – А чего со мной скучать? Я - веселый! В открытое настежь окно докторского кабинета, бывшего номера в гостинице, из которого вынесли все лишнее, оставили только узкую деревянную кровать, письменный стол и три стула, врывалось солнце, тащило за собой пьянящие запахи оттаявшей земли, воробьиный гомон. Василь столько пролежал, столько прождал этого часа, столько промучался, что от солнца и вольного шума за окном захмелел. – Веселый! - притворно нахмурился Юрий Геннадиевич. - Вот мне где твое веселье, - и он похлопал себя ладонью по затылку. – А что, с постным лицом ходить? - с обидой спросил Василь. – Долевич! Я с тобой разговариваю серьезно. И от того, как ты усвоишь то, что я тебе рекомендую, зависит многое. Если снова потеряешь зрение, медицина может оказаться бессильной. – Потому что она блуждает, где? - совсем по-докторски сказал Василь. – В потемках, - засмеялся Юрий Геннадиевич. В груди его захрипело, заклокотало, он закашлялся, пригнулся к столу. Василь посмотрел на него сочувственно. Кашель оборвался так же внезапно, как начался, Юрий Геннадиевич вздохнул несколько раз глубоко и произнес грустно: – Вот так. Ты был моим любимым пациентом. И поскольку медицина… – Блуждает в потемках… - весело подсказал Василь. – Бродит в потемках, то считай, что с тобой произошло чудо. – Вы ж сами говорили, что чудес на свете не бывает. – На этом - нет, а на том, где ты побывал, видимо, бывают. Ты как жить думаешь дальше? Василь пожал плечами. Врач ждал ответа, глядя на пациента внимательно, чуть склонив голову набок. Василь понял: надо ответить. А что ответить? По-разному виделась ему будущая жизнь. И в вечной слепоте с палкой в руках… Было, было и такое, когда в затылке возникала невыносимая боль. Он так четко представлял себе эту жизнь, что выть хотелось от тоски!… Видел он себя и рабочим человеком в пропахшей металлом спецовке. Руки все могут! Он сжимал и разжимал пальцы, ощупывал ворсистое одеяло, холодящую шершавую стену, гладкий край тумбочки… Только бы прозреть!… И за партой себя представлял. Смешно, конечно, дылда за партой, но кто ж виноват, что он, Василь Долевич, не доучился? Война! Эх, знать бы, что так сложится, он бы не мотал с друзьями с уроков. Он бы учился как зверь! И других бы заставил. Не ценим мы жизни, которой живем. Заносит нас в стороны. То в лес, то в речку… Вот сядет он за парту… Уж поучится всласть!… А рядом Злата будет сидеть… Злата, Злата… Кем бы и каким бы ни видел себя - она рядом. Юрий Геннадиевич ждал ответа, а Василь все молчал, потом сказал тихо: – Женюсь я. – Ох, Долевич, Долевич, - произнес Юрий Геннадиевич так, словно Василь беспомощный, беззащитный жалкийкутенок, которого пожалеть надо. - Ну-ка повтори, как ты должен себя вести? – Да знаю я, знаю. Не работать, не читать, не бегать, не есть, не дышать, не смеяться, а заказать себе гроб с подстилкой помягче. – Долевич!… Я вижу, что к выписке ты не готов! И Василь испугался, подобрался весь. – Шучу я, доктор. Весна. Озорую я. Больше не буду. Можете выписывать. – Да тебя не выпишешь - ты в окно сиганешь! Василь улыбнулся. – Сигану. – Невеста-то - Злата? Василь кивнул. – Дуракам счастье… - буркнул Юрий Геннадиевич совсем не сердито. - Внизу дожидается? - Юрий Геннадиевич встал. - Ну что ж, счастья тебе, Василь. – Спасибо, Юрий Геннадиевич. – И каждую неделю являйся. Помни, что еще лечишься. И все еще представляешь ценность для медицины. – Которая, как известно, бродит в потемках, - сказал Василь. - И даже спасибо вам не говорю. Нет такого "спасибо", чтобы словами выразить! Нету… – Ну-ну, да ты, Василь, философ… – Полежишь во тьме… Юрий Геннадиевич легонько похлопал Василя по плечу: – Ступай. У меня еще дел невпроворот. До скорого. Злата ждала его в вестибюле, возле стола дежурного. Когда Василь появился на лестнице, она поднялась со стула и с тревогой следила, как он спускается. Василь не держался за перила, а спускался посередине. Ступени он видел как бы в легком тумане, но оступиться не боялся. Он мог бы сойти по этой лестнице и с закрытыми глазами. Хаживал. – Ждешь? - улыбнулся он Злате. – Жду. – Гулять? - спросил дежурный. Голос Василь узнал, а вот лицо увидел впервые. – Харитонов? - спросил он. – Харитонов. – Вот теперь вижу, какой ты есть, Харитонов. Нет, товарищ Харитонов. Не гулять, а насовсем. – Ну поздравляю, Долевич. – Спасибо. Тут Василь заметил в руке Златы синее расплывчатое пятно. – Что это? Злата протянула ему букетик подснежников. – Тебя приветствует земля, бледнолицый брат мой. – Подснежники!… - Василь вдохнул легкий запах земли и леса. - Спасибо. А… а больше никто не пришел? – А ты кого ждал? - спросила Злата. – Тебя. – Так я - тут! – Вижу. Вижу!… - Ах, как ему захотелось поцеловать эти родные синие глаза! Верно, Злата почувствовала это, засмеялась и покраснела. Василь попрощался с Харитоновым, и они вышли на улицу, в воробьиный гомон, в солнечные лучи, которые ласково стеганули по глазам так, что оба зажмурились. – Пойдем медленно, - попросил Василь. Злата кивнула и посмотрела на него снизу вверх. – А ты вырос, пока болел, - сказала Злата. - Там как-то не заметно было. А сейчас… – Мужчина должен быть большим и… - Он хотел сказать "красивым", но это прозвучало бы хвастливо. Уродом он себя не считал, но и красивым не был. - И рыжим, - закончил он с улыбкой. – А ты не рыжий, ты - ржавый, - заулыбалась Злата. – А ржавый - это высший сорт рыжего! - удовлетворенно заключил Василь. Они медленно двинулись по солнечной улице. Все вокруг казалось Василю зыбким, подернутым кисеей, и от этого ступал он не очень уверенно. Злата взяла его под руку, не повисла на его локте и не поддерживала его, просто держала крепко, вселяя в него уверенность. Они свернули за угол и вышли к школьному саду. Там детвора выкорчевывала пеньки погибших яблонь, а тех, что дали побеги, бережно окапывала. Директор Николай Алексеевич ходил меж молодыми саженцами с секатором, подрезал ветки. Тлел собранный в кучи мусор, и от него ветерок относил голубой горьковатый дым. Злата и Василь остановились у ограды. – Сад приводят в порядок. Видишь? - спросила Злата. – Вижу. Все вижу! – А Николая Алексеевича видишь? – Директора? А вон он, и в руке у него секатор. – Поздороваемся? – А как же… – Три-четыре, - сказала Злата. – Зравствуйте, Николай Алексеевич! - крикнули оба одновременно. Николай Алексеевич обернулся, увидел их, заулыбался: – О-о-о, какие гости! Что ж не заходите? – Да вот… из госпиталя идем… - Злата почему-то отпустила локоть Василя. Неудобно как-то при директоре. – Как глаза, Долевич? - спросил Николай Алексеевич, подходя к ограде с другой стороны. – Да вот… Вас вижу. – Ну, меня ты должен видеть с закрытыми глазами, - засмеялся директор. - Помнишь, как ты у меня на бирже труда кляксу в трудовом листке поставил? – Случайно, - сказал Василь. – Нарочно, Долевич, нарочно!… Меня, брат, не проведешь!… Какие планы строишь? – Не знаю еще, Николай Алексеевич. Сперва оклематься надо. А там погляжу. - Он положил руку на плечо Златы, просто так, машинально. Она не отстранилась, только быстро взглянула на него снизу вверх. – Ну, отдыхай, Долевич. И приходи. Может, вместе что надумаем. И ты, Злата, приходи. Доучиваться надо. Злата снова взглянула на Василя и сказала: – Мы придем. Обязательно придем, Николай Алексеевич. Двое мальчишек заспорили из-за лопаты, и директор поспешил к ним, разнимать. А Василь и Злата двинулись дальше. – Хороший мужик Николай Алексеевич, - сказал Василь. – Хороший. А что это за кляксу он вспомнил? – Да это я когда за направлением на биржу приходил, листок заполнял. Так взял и кляксу на него стряхнул. Нарочно. Я же не знал, что Николай Алексеевич наш, подпольщик. Думал, у немцев работает. Ну и шлепнул назло… - Он внезапно остановился. - Гляди-ка, цирка нет. Всю войну простоял!… И Злата удивленно смотрела на голую площадку, где раньше стоял шатер шапито. И вагончиков не было, в которых потом немцы жили с собаками. Только с краю лежали разобранные железные мачты. Над сырым, потрескавшимся асфальтом подымался легкий парок. То ли она не была здесь давно, то ли не заметила, когда шатер убрали. – Пусто как, - сказала она с сожалением. – Да-а… Помнишь, как через забор лазали к Петьке и Павлу? – Где-то они сейчас? Живы ли?… – Великие Вожди Благородных Бледнолицых бессмертны, - сказал Василь. - Потому что смелого пуля боится, смелого штык не берет!… Ты как, смелая? – Смелая, - ответила Злата с вызовом. – Тогда я тебя сейчас поцелую. – Люди ж кругом, - не очень уверенно возразила Злата. – Люди… - вздохнул Василь. - Это хорошо, когда люди кругом. Идем дальше? Злата махнула рукой, поднялась на цыпочки и чмокнула Василя в щеку. – Ну ты даешь!… - засмеялся счастливый Василь и взял девушку под руку. - Идем. А цирк к нам приедет, вот увидишь. У Василя немного разболелась голова от свежего воздуха, от того, что идет по улице, видит дома, встречных людей, воробьев, дерущихся на раскатанном прошлогоднем конском навозе. В госпитале разбаливалась голова - хоть кричи, а теперь-то что! Он снова видит, узнает каждый камень, каждую щербинку на плитках панели… А вот это что-то новое. Здесь был деревянный дом с сердечками на ставнях, с темными резными наличниками, а в маленьких оконцах вечно цвели какие-то мелкие красные цветочки. Теперь подымается стена из свежего белого кирпича, с просторными проемами окон еще без рам. Ба! Никак немцы строят? – Тут же дом был с сердечками, - сказал Василь, останавливаясь. – Сгорел. Теперь вот какой домину пленные строят. – Ну правильно, - нахмурился Василь. - Сами разрушили, сами пусть и строят. Они двинулись дальше, Василь свернул было к своему двору, но Злата удержала его за руку. – Куда ты? У тебя там сырость. Ни разу не протопили. К нам пойдем. Василь кивнул благодарно. Дверь в Златину квартиру оказалась не запертой, Василю даже померещилось, что кто-то торопливо шмыгнул в нее, когда они появились во дворе. За дверью была тишина. – А где Катерина? - недоуменно спросил Василь в прихожей. – Идем-идем… - Злата открыла дверь в комнату. И навстречу грянул туш. Его во всю глотку орал Толик, а подтягивали Захаренок и Гертруда Иоганновна. Катерина держала в руках крышки от кастрюль и била ими друг о друга невпопад. Василь столбом стал в дверях, а под ноги ему с визгом бросился серый комок, запрыгал вокруг, норовил лизнуть, но разве достанешь до носа такого длинного человека. – Киндер, Киндер… - узнал Василь. А огромная овчарка в углу зарычала, и шерсть на ее загривке поднялась. – Серый! - крикнул Толик. - Это же Ржавый. Мы ж с тобой к нему в госпиталь ходили… Ай-яй-яй!… Толик подошел к Василю. – Здорово, Ржавый! Серый, это друг. Овчарка подошла, обнюхала Василя и вильнула хвостом. – Что ж ты не предупредила меня, - упрекнул Василь Злату. – Сюрприз! Катерина бросила гремящие крышки и повисла у Василя на шее. – Василь, ты мне честно скажи, тебе новые глаза прибинтовали? – Дурочка. Старые у меня глаза. Свои. Видишь, серые, как у тебя, - он поставил Катерину на пол. - Здравствуйте, Гертруда Иоганновна. – Здравствуй, Василь, - Гертруда Иоганновна подошла и поцеловала Василя в щеку. Василь смутился, поэтому сказал бодро: – Что-то меня все сегодня целуют. – А кто еще? - спросила Катерина. Злата покраснела. – Все, - сказал Василь. - Даже милиционер постовой. – Ну здорово, подмастерье, - протянул Василю руку Захаренок. – Здравствуйте, господин хозяин, - серьезно ответил Василь, с трудом сдерживая улыбку. Радость так и распирала его. Вот-вот взлетишь к потолку и повиснешь вместо абажура. – Не забыл науку? – Век помнить буду. Когда улеглась первая суматоха, все уселись за стол, накрытый льняной скатертью. На столе стояла плетенка с хлебом, нарезанная аккуратными, аппетитными ломтиками селедка с луком, на блюдце высилась колбаса "второй фронт", розовая, еще хранящая форму банки, из которой ее вытряхнули, на другом блюдце лежал брусок яблочного повидла. – Ого, какой пир! - улыбнулся Василь и вдруг посерьезнел: - Ну вот, жизнь начинается снова. – Долгая и прекрасная, - мечтательно протянула Злата. – И пусть все вернутся домой, как Василь, - промолвила Гертруда Иоганновна. Последние дни она жила в постоянной безотчетной тревоге, осунулась, под глазами появились темные круги, у носа и губ обозначились тонкие морщинки, которые не проходили, как она ни разглаживала их по утрам. Гертруда Иоганновна возненавидела тесный кабинет, в котором она работала с Чечулиным. Касьян Абрамович любил поговорить, раскатывая свой звучный голос сверху вниз, снизу вверх, словно рулады выводил. На столе лежала куча "входящих" и "исходящих" бумаг. Она читала их под аккомпанемент чечулинских рулад, прокалывала дыроколом, который противно щелкал, и подшивала в картонные папки с надписью: "Дело". А как раз дела-то никакого и не было! Бумаги лежали себе в папках, никого не тревожа, никого не заставляя задуматься. Ни искусства, ни культуры в городе от них не прибавлялось. Театр считался первоочередным объектом для восстановления. Но были и сверхочередные: жилье, деревообрабатывающий завод, электростанция, машиностроительный. Так что до театра очередь пока не доходила. Даже актерскую бригаду не удавалось сколотить. Не было в городе актеров. Чечулин собирался поехать в Москву, на актерскую "биржу", поискать. Конечно, Касьян Абрамович с его красноречием сколотил бы труппу. Но ведь людей где-то поселить надо. Найти помещение для репетиций. Накормить. Одеть. – Будет труппа, скорее построят театр, - гудел старик по утрам, убеждая самого себя. Но так в Москву и не собрался. Горсовет жилье пока выделить не имел возможности. И для репетиций помещения не было… – Войне конец, - донесся до Гертруды Иоганновны будто издалека голос Захаренка. - Конец. По всему видать. Бьют фашистов в самой Германии. Конец Гитлеру! И скорей бы уж. Работать некому. А дел - сами видите. Сколько городов, сколько земли разорено. Все воскресить надо! "Верно", - подумала Гертруда Иоганновна. Работы много, а она сидит в кабинетике, бумажки подшивает, кивает сладкоголосому Чечулину. Карточка литер "а". Как же! Старший инспектор отдела культуры! А младших и нет. И вообще ничего нет. – Может, пойдешь ко мне в мастерскую? А, Василь? Конечно, не бог весть какое важное дело, но надо ж и людям починку производить, примуса, то да се. Я б на завод ушел, да в исполком вызвали: надо, говорят, Захаренок, мастерскую налаживать. Тоже важное дело. А я - один. Чуть не на весь город. А, Василь? – Ему режим нужен. И потом нельзя в подвале, - сказала Злата строго. Василь улыбнулся ей. – Ладно. Подумаем. Решим. Вот передохну маленько. – Я бы к вам пошла, да не умею нишего, - грустно произнесла Гертруда Иоганновна. – Вы - артистка. У вас - свое назначение, - сказал Захаренок. – Да… Конечно… И про себя подумала: "Вот вернется Иван, мальчики, восстановим номер. Станем выступать". Гертруда Иоганновна посмотрела на свои ладони, словно на них было написано будущее. А сможет ли она работать на манеже? Не потеряла ли гибкость, силу? Сейчас бы сделать хоть фляк… Она даже огляделась вокруг, как бы подыскивая подходящее место в комнате. "Как маленькая", - подумала она и улыбнулась. – Вы что? - спросила Злата. – Так… Мысли… Мимоза говорил: главное - не потерять кураж. – А я тоже, наверно, в цирк поступлю. Дрессировщиком собак. Как вы думаете, возьмут? - сказал неожиданно Толик. – Сегодня и ежедневно! Анатолий Ефимов! Говорящие собаки! - закричал Василь совсем как пять лет назад и добавил: - А я пойду к тебе собакой. Злата потрепала его по отросшим волосам, сказала ласково: – Таких рыжих собак не бывает. – Бывает, - возразил Толик. - Шотландский сеттер. – А как мы его назовем? - спросила Злата. – Ржавый, - предложил Захаренок и засмеялся.
2
Бои завязались тяжелые и какие-то вязкие. Фашисты сопротивлялись отчаянно, беспрерывно контратаковали. Пленный фельдфебель рассказал, что слышал в своей роте речь политофицера. Тот разъяснял солдатам, какая на них лежит ответственность. Сам фюрер следит за каждым их шагом. Если Богемия и Моравия не будут удержаны, война будет проиграна. Если вы отдадите Моравскую Остраву, вы отдадите Германию! Враг цеплялся за каждую высотку, за каждый дом, за каждую траншею. Построил целые цепи дотов, связанных между собой ходами сообщений. Каждая пядь земли перед ними была пристреляна. В поселках каменные дома превращены в крепости. Подступы заминированы. И как назло, посыпал крупный мокрый снег. Артиллерия не могла вести прицельный огонь. Авиации не взлететь: ничего не видно. Полк Церцвадзе прорвался к реке. Узенькая на карте, в паводок она разлилась, несла откуда-то с гор коричневую пену, кусты, коряги, обегала тощие, обнаженные стволы деревьев, и казалось, что растут они прямо из воды. Сыпал густой снег, закрывая пеленой противоположный берег. И от этого река становилась бесконечно широкой. Отделение быстро и ловко закопалось в землю, и в свежевырытых щелях из-под донного песка тотчас засочилась вода, словно отрыли родник. Коснувшись земли, снег таял и стекал в щели тоненькими струйками грязи. Над головами выли и шелестели пролетающие с берега на берег снаряды. Петр сидел в щели скорчившись, до боли в глазах вглядываясь в белую пелену. Рядом пристроился Силыч. Неподалеку взвыла мина, разорвалась, сыпанула комьями земли в спины. – Удивительная штука, - глубокомысленно произнес Силыч и вздохнул. - До войны ноги ныли в непогоду, а теперь вот сидишь в воде - и хоть бы что! – Это еще не вода, - откликнулся лежавший в соседней щели Яковлев. - Вода впереди. Из пелены за спиной артиллеристы на руках выкатили три сорокапятки, и следом выползла, меся грязь, самоходка. Пробежал, пригибаясь, старший лейтенант, командир роты. – Где командир взвода? – Гвардии старший сержант Яковлев. Младший лейтенант ранен в живот. И провоевал-то всего неделю. – Яковлев, приказано форсировать водную преграду. – Есть. А на чем? – Если бы у меня было на чем, я бы уже там был, - сердито ответил старший лейтенант. - Тут сарай неподалеку. Называется подсобные плавсредства. Смекаешь? – Ежу понятно. Разрешите действовать? – Давай. Там саперы подошли, уже действуют. - Старший лейтенант побежал дальше. Яковлев выпрыгнул из щели. – Силыч, Елкин, Потапов, со мной. Остальным держать оборону. Могут и со стороны реки сунуться! Яковлев и остальные растворились в снежной пелене. Артиллеристы подтаскивали ящики со снарядами. Молоденький лейтенант выжимал намокшие полы шинели. Вскоре вернулись ушедшие с Яковлевым. Притащили бревна, доски. Бросили в кучу и снова исчезли. Петр краем глаза улавливал движение за спиной, но упорно старался не отвлекаться, глядеть вперед на черную воду, текущую под белым снегом. Значит, будем форсировать водную преграду. Он так и назвал мысленно реку, как старший лейтенант: водная преграда. Да и не река она, если стоит поперек дороги. Он вспомнил речку в Гронске, кипящую под мостом. Широкий разлив ее напротив дома деда Пантелея. Пологий берег, поросший острой осокой… Значит, будем форсировать водную преграду. Ему еще не доводилось форсировать. Переплывать речки переплывал и на озерах плавал. И в море. Плавал. Купался. Теперь вот будет форсировать. Как война меняет язык, слова. Раньше бы сказали: поплывем на тот берег. А теперь: будем форсировать водную преграду. Приволокли новую партию бревен и досок. Пришли саперы. Застучали топоры. Петр смотрел на черную текучую воду так пристально, что мгновениями ему начинало казаться: вода стоит, а он и торчащие из воды деревья стремительно мчатся мимо стоячей воды. Как в детстве, когда они с братом ложились на траву лицами вверх и долго смотрели на плывущие в небе облака. Пока облака не останавливались, а ты не начинал лететь мимо. "Летишь?" - спрашивал Павел. "Лечу. А ты?" - "И я лечу!" Снова, почему-то пригибаясь, хотя бой грохотал где-то справа и слева, а здесь только журчала вода и тихо сыпал снег, прибежал комроты. Саперы молча потащили узкие плоты к воде. Из снега вынырнули бойцы, еще сухие. Полезли в отрытые щели. И вдруг Петру жалко стало расставаться со своей щелью, из которой вновь прибывший принялся котелком выбирать набравшуюся на дне воду. – Береги дом, - сказал ему Петр. Боец не ответил, только удивленно посмотрел на Петра. Глаза у него были испуганные. – Не боись, - сказал Петр. - Щель заговоренная. В нее фрицам не попасть. Боец силился улыбнуться, но провыла неподалеку мина, и он плюхнулся на дно, стукнув каской о котелок. – Ничего лишнего не брать, - негромко скомандовал Яковлев. - Патроны, гранаты. "Энзе". Кухню не скоро подвезут. "А вот Яковлев не первый раз форсирует водную преграду, - подумал Петр, ощупывая свой тощий вещмешок. - Ему легче". – Снегу бы погуще, - сказал Силыч, щурясь. – Куда ж гуще? - спросил Петр. – Разговорчики! Не курить. Не шуметь. Тенями! – Закуришь тут, - проворчал Силыч. - Вся махра промокла. – Вперед, - скомандовал Яковлев. Саперы вошли в воду, положили на нее плоты. Бросили на плоты инструменты, оружие, миноискатели. – Помогай, пехота, - негромко сказал саперный офицер. Откуда-то появился подполковник Церцвадзе. – Зацепитесь за тот берег - плоты обратно. И ни шагу назад. Продержитесь, ребятки. У меня сегодня день рожденья. Уж подарите мне клочок земли на том берегу. Давай, артиллеристы! Грохнули сорокапятки, выплюнули снаряды в снежную мглу. Снова, снова. Потом ударила самоходка так, что в ушах зазвенело. – Вперед, орлы! - крикнул Церцвадзе. Петр вошел в воду вслед за Яковлевым. Рядом сопел Силыч. – Ложись на плоты, - скомандовал Яковлев, когда воды стало по пояс. Петр торопливо полез на плот, чуть не обронил автомат. Чертыхнулся тихо. Взвыла мина, подняла столб воды. Она рассыпалась темными брызгами, зарябила, словно ветер прошел. Справа и слева двигались плоты. Бойцы отталкивались шестами, гребли досками. Снова рванула мина. Соседний плот приподняло. Люди посыпались в воду. Кто-то прорычал хрипло. – Я… пла… плавать не умею. – Научишься. Держись за бревно. – Тихо!… "А на том берегу ждут фашисты", - подумал Петр. На быстрине плоты начало сносить вниз. Загребли еще яростней. Вода кипела. А снег все сыпал и сыпал. "Середина. Полпреграды форсировали. Видела бы мама мокрого сына на мокром плоту. В постель бы уложила! У него с детства склонность к ангинам!" Петр невольно улыбнулся. – Ты чего скалишься? - удивился Силыч. Он лежал рядом, поворачивая голову то вправо, то влево, словно выбирал место, где полегче свалиться с плота в случае чего. – Так. Мысли…
 "Надо же, мысли… На дело идем, может быть, на смерть, а у него мысли!…" - сердито подумал Петр о себе.
И снова рванула мина, обдала каскадом воды. Сапер рядом вскрикнул, выронил самодельное весло и стал падать в воду. Петр мгновенно схватил его за ворот, потянул на себя.
– Ты чего?
Сапер навалился на него, промычал что-то невнятно.
– Весло! - крикнул Яковлев.
Петр отодвинул тяжелое тело сапера, схватил весло, стал яростно грести.
На соседних плотах зашевелились, стали прыгать в воду.
– Лужин, гони плот назад! Быстро! Вперед! - скомандовал Яковлев.
Люди бросились по воде к берегу, который внезапно возник смутной полосой в белой пелене. Бросились беззвучно по кипящей воде.
"А я - назад?" - с обидой подумал Петр. Но тотчас схватился за весло. В ладонь впилась заноза. Черт с ней! Он торопливо замахал веслом. Плот двинулся. Его начало сносить. Петр греб и греб. Стало жарко. На лице смешались пот и снег. Теперь уже кругом рвались мины. Одна угодила в соседний плот. Бревна встали дыбом, отлетевшей доской треснуло Петра по каске. Чуть не сшибло в воду. Он покосился на лежащего неподвижно на плоту сапера и еще яростнее заработал веслом.
Когда показался берег, Петр спрыгнул в воду и стал толкать плот руками. А навстречу уже бежали бойцы, торопливо карабкались на плоты. Усатые санинструкторы унесли сапера на берег.
Петр узнал в новом соседе бойца с испуганными глазами. Снег на его новенькой каске превращался в струйки и стекал с краев на испачканную шинель. Боец прилип к плоту, прямо-таки врос в него.
– Не боись! - сказал Петр. - Плот заговоренный. Фрицы в него не попадут. - Он работал веслом, не чувствуя боли от занозы. Он понял, что все решает быстрота. Чем скорее он попадет на тот берег, тем меньше шансов искупаться в весенней реке. Хотя он и так мокрый с головы до пят, до нательной рубахи.
Едва показался берег, Петр спрыгнул в воду. Боец с испуганными глазами сполз вслед за ним.
– Тащи плот! - крикнул Петр и ухватился за скользкое бревно.
Боец пыхтел за спиной.
Берег показался пустым. Лежало несколько убитых, своих и немцев, да к плотам, возникнув из-под земли, санинструкторы потащили раненых. Позже Петр понял, что они укрывались в воронке.
Тяжелых клали на притянутые поближе плоты. Те, что могли ходить, шли к плотам сами.
Петр присматривался к лицам, но своих не увидел.
Незнакомый лейтенант с круглой головой, на которой торчали стриженные ежиком черные, наверно очень жесткие волосы, дико поводил по сторонам взглядом узких, раскосых глаз, казалось, он пересчитывает своих бойцов.
"Потерял каску", - подумал Петр и тотчас приметил на земле каску. Он быстро поднял ее и протянул лейтенанту:
– Держите!
Лейтенант покосился на него, взял каску.
– Она ж немецкая…
Теперь и Петр понял, что она немецкая.
– Надевайте. Все-таки каска.
Голова лейтенанта ушла в каску по самые глаза.
– За мной! - крикнул он и побежал от реки, туда, где сквозь снежную пелену прорывались слабые вспышки.
Петр побежал вместе со всеми, надеясь отыскать свое отделение. Далеко они уйти не могли, судя по пальбе впереди. Здесь где-нибудь. Вот только там ли высадились, где в первый раз? Течение сносило.
Боец с испуганными глазами бежал рядом, какая-то невидимая связка держала его возле Петра.
– Давай, давай! - крикнул ему Петр на ходу. - И я заговоренный!
Они перескочили траншею, в которой, как и на берегу, лежали убитые. Навстречу кто-то полз, волоча неподвижную ногу. Петр узнал маленького усатого Елкина.
– Елкин!
Тот оттолкнулся руками от земли, сел. По грязному лицу протянулись светлые полоски. Елкин всхлипнул.
– Ногу, понимаешь… Далече берег?
– Рядом. Я помогу.
Елкин помотал головой.
– Доползу… - он скрипнул зубами. - Застряли наши у второй траншеи. Петруха, диск у меня полный. И гранаты. Возьми.
– А ты?
– Возьми… - Елкин положил на землю диск и две гранаты.
Петр взял их.
– Бывай, Петруха.
Елкин лег на живот и пополз.
У бойца с испуганными глазами лицо было белым.
– Ты что?… Вперед! - заорал Петр яростно. - От своих отстал!
Откуда взялась эта ярость? От белого лица? Или от плачущего Елкина?
Боец шарахнулся от Петра и, вцепившись темными пальцами в автомат, побежал.
И Петр побежал следом. Рядом просвистели шальные пули. "Свою пулю не услышишь". Яковлев так говорил.
Петр бежал в полный рост, автомат болтался на шее, пальцы сжимали елкинские гранаты. А пули свистели. "Свою пулю не услышишь". Ярость клокотала в груди, от нее становилось жарко, она бросала ставшее невесомым тело вперед.
Кто-то крикнул рядом: "Ложись!" И то ли схватил за ногу, то ли сделал подножку. Петр шмякнулся плашмя на мокрую землю, граната, что была в правой руке, откатилась. Он хотел вскочить, но его придавили к земле.
– Остынь! Эдак и до Берлина добежишь, если штаны не потеряешь.
Рядом лежал Силыч.
Потом, когда в прорыв потянулись свежие войска, когда переправилась артиллерия и саперы навели мост, по которому переползли наши танки, когда полк Церцвадзе вывели из боя на короткую передышку и формировку, Петр мучительно силился вспомнить подробности боя и не мог.
Все было как во сне, как в тумане…
Снег сменился дождем…
Из амбразур дота вырывались клочки пламени.
Пули прижимали к земле. Силыч перевязывал голову командиру роты. Старший лейтенант мычал от боли и обиды.
– Мы вас в тыл эвакуируем, - сказал Яковлев.
– Какой к черту тыл! - очень внятно произнес комроты. Видно было, что говорить ему трудно. - Яковлев, обойди с тыла… Гранатами… - Комроты осторожно потрогал голову руками. - Чтоб у них башка раскололась.
– Сделаем. Силыч, Лужин. - Яковлев пополз, плотно прижимаясь к земле.
Силыч и Петр за ним.
Они ползли. Долго ползли. Вечность. Пули тенькали рядом, брызгали грязью. А они ползли. Едкий пот заливал глаза, и некогда было утереться… Но и у вечности есть конец. Они уткнулись касками в бетон. Дот…
Яковлев сел, прислонился к мокрому бетону… А может, не садился?… У Силыча сердитое лицо… Он забрался на бетонную глыбу. Петр полез следом. Глыба была мокрой и шершавой. Болела ладонь. Заноза все еще сидела в ней, и ладонь вспухла.
Силыч достал из кармана шинели гранаты. И Петр достал гранаты.
Застрекотал автомат. Совсем близко. Вероятно, Яковлев огнем отсекал кого-то от дота, кого-то, кто был по ту сторону.
Они подползли к краю дота. Под ними захлебывались огнем вражеские пулеметы. Сладко пахло порохом.
– Подержи-ка меня, - сказал Силыч.
Петр понял, схватил его за ноги. Силыч свесился с края и бросил гранаты одну за другой прямо в амбразуру. Взрыва они не слышали. Только пулемет умолк.
– Подержи! - крикнул Петр. И, свесившись, бросил гранаты во вторую амбразуру…
Отсюда, сверху, было видно, как повскакали бойцы; донеслось "ура".
Затенькали пули. Силыч и Петр резво скатились к Яковлеву.
Яковлев сидел неподвижно, прислонясь спиной к бетонной стенке, держал автомат обеими руками. Неподалеку лежали фашисты, видно, пробирались в дот, да Яковлев их не подпустил.
– Яковлев, - позвал Силыч.
Яковлев не ответил. Глаза его стекленели.
– Яковлев! - крикнул Силыч. Лицо его исказилось от боли, словно пуля досталась ему. - Нас прикрыл… Ну гады!
И снова Петр ощутил в груди жгучую ярость…
Потом они бежали с Силычем… И стреляли… Силыч огрел немца прикладом так, что каска отлетела куда-то далеко-далеко…
Потом мелькнула перебинтованная голова комроты, одну руку он прижимал к затылку, в другой - пистолет…
Потом… Что было потом?… Опять шел снег… Силыч лезвием ножа выковыривал из ладони Петра расколовшуюся щепку. Было больно. И стыдно, что ладонь приходится перевязывать из-за какой-то занозы… А ладонь вспухла.
– В медсанбат придется, - сказал сокрушенно Силыч.
Смешно!… Вон у комроты голова в бинтах и то не уходит…
Это было уже в третьей траншее. И осталось от их отделения только трое: он, Силыч и неприметный молчаливый Потапов.
"Надо же, мысли… На дело идем, может быть, на смерть, а у него мысли!…" - сердито подумал Петр о себе.
И снова рванула мина, обдала каскадом воды. Сапер рядом вскрикнул, выронил самодельное весло и стал падать в воду. Петр мгновенно схватил его за ворот, потянул на себя.
– Ты чего?
Сапер навалился на него, промычал что-то невнятно.
– Весло! - крикнул Яковлев.
Петр отодвинул тяжелое тело сапера, схватил весло, стал яростно грести.
На соседних плотах зашевелились, стали прыгать в воду.
– Лужин, гони плот назад! Быстро! Вперед! - скомандовал Яковлев.
Люди бросились по воде к берегу, который внезапно возник смутной полосой в белой пелене. Бросились беззвучно по кипящей воде.
"А я - назад?" - с обидой подумал Петр. Но тотчас схватился за весло. В ладонь впилась заноза. Черт с ней! Он торопливо замахал веслом. Плот двинулся. Его начало сносить. Петр греб и греб. Стало жарко. На лице смешались пот и снег. Теперь уже кругом рвались мины. Одна угодила в соседний плот. Бревна встали дыбом, отлетевшей доской треснуло Петра по каске. Чуть не сшибло в воду. Он покосился на лежащего неподвижно на плоту сапера и еще яростнее заработал веслом.
Когда показался берег, Петр спрыгнул в воду и стал толкать плот руками. А навстречу уже бежали бойцы, торопливо карабкались на плоты. Усатые санинструкторы унесли сапера на берег.
Петр узнал в новом соседе бойца с испуганными глазами. Снег на его новенькой каске превращался в струйки и стекал с краев на испачканную шинель. Боец прилип к плоту, прямо-таки врос в него.
– Не боись! - сказал Петр. - Плот заговоренный. Фрицы в него не попадут. - Он работал веслом, не чувствуя боли от занозы. Он понял, что все решает быстрота. Чем скорее он попадет на тот берег, тем меньше шансов искупаться в весенней реке. Хотя он и так мокрый с головы до пят, до нательной рубахи.
Едва показался берег, Петр спрыгнул в воду. Боец с испуганными глазами сполз вслед за ним.
– Тащи плот! - крикнул Петр и ухватился за скользкое бревно.
Боец пыхтел за спиной.
Берег показался пустым. Лежало несколько убитых, своих и немцев, да к плотам, возникнув из-под земли, санинструкторы потащили раненых. Позже Петр понял, что они укрывались в воронке.
Тяжелых клали на притянутые поближе плоты. Те, что могли ходить, шли к плотам сами.
Петр присматривался к лицам, но своих не увидел.
Незнакомый лейтенант с круглой головой, на которой торчали стриженные ежиком черные, наверно очень жесткие волосы, дико поводил по сторонам взглядом узких, раскосых глаз, казалось, он пересчитывает своих бойцов.
"Потерял каску", - подумал Петр и тотчас приметил на земле каску. Он быстро поднял ее и протянул лейтенанту:
– Держите!
Лейтенант покосился на него, взял каску.
– Она ж немецкая…
Теперь и Петр понял, что она немецкая.
– Надевайте. Все-таки каска.
Голова лейтенанта ушла в каску по самые глаза.
– За мной! - крикнул он и побежал от реки, туда, где сквозь снежную пелену прорывались слабые вспышки.
Петр побежал вместе со всеми, надеясь отыскать свое отделение. Далеко они уйти не могли, судя по пальбе впереди. Здесь где-нибудь. Вот только там ли высадились, где в первый раз? Течение сносило.
Боец с испуганными глазами бежал рядом, какая-то невидимая связка держала его возле Петра.
– Давай, давай! - крикнул ему Петр на ходу. - И я заговоренный!
Они перескочили траншею, в которой, как и на берегу, лежали убитые. Навстречу кто-то полз, волоча неподвижную ногу. Петр узнал маленького усатого Елкина.
– Елкин!
Тот оттолкнулся руками от земли, сел. По грязному лицу протянулись светлые полоски. Елкин всхлипнул.
– Ногу, понимаешь… Далече берег?
– Рядом. Я помогу.
Елкин помотал головой.
– Доползу… - он скрипнул зубами. - Застряли наши у второй траншеи. Петруха, диск у меня полный. И гранаты. Возьми.
– А ты?
– Возьми… - Елкин положил на землю диск и две гранаты.
Петр взял их.
– Бывай, Петруха.
Елкин лег на живот и пополз.
У бойца с испуганными глазами лицо было белым.
– Ты что?… Вперед! - заорал Петр яростно. - От своих отстал!
Откуда взялась эта ярость? От белого лица? Или от плачущего Елкина?
Боец шарахнулся от Петра и, вцепившись темными пальцами в автомат, побежал.
И Петр побежал следом. Рядом просвистели шальные пули. "Свою пулю не услышишь". Яковлев так говорил.
Петр бежал в полный рост, автомат болтался на шее, пальцы сжимали елкинские гранаты. А пули свистели. "Свою пулю не услышишь". Ярость клокотала в груди, от нее становилось жарко, она бросала ставшее невесомым тело вперед.
Кто-то крикнул рядом: "Ложись!" И то ли схватил за ногу, то ли сделал подножку. Петр шмякнулся плашмя на мокрую землю, граната, что была в правой руке, откатилась. Он хотел вскочить, но его придавили к земле.
– Остынь! Эдак и до Берлина добежишь, если штаны не потеряешь.
Рядом лежал Силыч.
Потом, когда в прорыв потянулись свежие войска, когда переправилась артиллерия и саперы навели мост, по которому переползли наши танки, когда полк Церцвадзе вывели из боя на короткую передышку и формировку, Петр мучительно силился вспомнить подробности боя и не мог.
Все было как во сне, как в тумане…
Снег сменился дождем…
Из амбразур дота вырывались клочки пламени.
Пули прижимали к земле. Силыч перевязывал голову командиру роты. Старший лейтенант мычал от боли и обиды.
– Мы вас в тыл эвакуируем, - сказал Яковлев.
– Какой к черту тыл! - очень внятно произнес комроты. Видно было, что говорить ему трудно. - Яковлев, обойди с тыла… Гранатами… - Комроты осторожно потрогал голову руками. - Чтоб у них башка раскололась.
– Сделаем. Силыч, Лужин. - Яковлев пополз, плотно прижимаясь к земле.
Силыч и Петр за ним.
Они ползли. Долго ползли. Вечность. Пули тенькали рядом, брызгали грязью. А они ползли. Едкий пот заливал глаза, и некогда было утереться… Но и у вечности есть конец. Они уткнулись касками в бетон. Дот…
Яковлев сел, прислонился к мокрому бетону… А может, не садился?… У Силыча сердитое лицо… Он забрался на бетонную глыбу. Петр полез следом. Глыба была мокрой и шершавой. Болела ладонь. Заноза все еще сидела в ней, и ладонь вспухла.
Силыч достал из кармана шинели гранаты. И Петр достал гранаты.
Застрекотал автомат. Совсем близко. Вероятно, Яковлев огнем отсекал кого-то от дота, кого-то, кто был по ту сторону.
Они подползли к краю дота. Под ними захлебывались огнем вражеские пулеметы. Сладко пахло порохом.
– Подержи-ка меня, - сказал Силыч.
Петр понял, схватил его за ноги. Силыч свесился с края и бросил гранаты одну за другой прямо в амбразуру. Взрыва они не слышали. Только пулемет умолк.
– Подержи! - крикнул Петр. И, свесившись, бросил гранаты во вторую амбразуру…
Отсюда, сверху, было видно, как повскакали бойцы; донеслось "ура".
Затенькали пули. Силыч и Петр резво скатились к Яковлеву.
Яковлев сидел неподвижно, прислонясь спиной к бетонной стенке, держал автомат обеими руками. Неподалеку лежали фашисты, видно, пробирались в дот, да Яковлев их не подпустил.
– Яковлев, - позвал Силыч.
Яковлев не ответил. Глаза его стекленели.
– Яковлев! - крикнул Силыч. Лицо его исказилось от боли, словно пуля досталась ему. - Нас прикрыл… Ну гады!
И снова Петр ощутил в груди жгучую ярость…
Потом они бежали с Силычем… И стреляли… Силыч огрел немца прикладом так, что каска отлетела куда-то далеко-далеко…
Потом мелькнула перебинтованная голова комроты, одну руку он прижимал к затылку, в другой - пистолет…
Потом… Что было потом?… Опять шел снег… Силыч лезвием ножа выковыривал из ладони Петра расколовшуюся щепку. Было больно. И стыдно, что ладонь приходится перевязывать из-за какой-то занозы… А ладонь вспухла.
– В медсанбат придется, - сказал сокрушенно Силыч.
Смешно!… Вон у комроты голова в бинтах и то не уходит…
Это было уже в третьей траншее. И осталось от их отделения только трое: он, Силыч и неприметный молчаливый Потапов.
3
В лагере царило возбуждение. Партизаны понимали, что назрели большие, решающие события. Ожидали их с нетерпением. Ночью подошла большая группа с боеприпасами. Тяжелые ящики тащили на себе через перевалы, ущельями, переправляясь через взбухшие ручьи. Люди валились с ног от усталости, но лица у всех были счастливые. Говорили, что боеприпасы чуть ли не из самой Москвы. Ну может, и не из самой, но послала их Москва. Дальние артиллерийские раскаты с рассветом возобновились. Прозрачность и чистота утра как бы приближали их. – Словно рушатся горы, - сказал Павел, прислушиваясь. – Горы - вечны, - откликнулся дед Ондрей, возясь с непослушными драконьими головами. Они никак не хотели "гордо возвышаться", сталкивались друг с другом, словно хмельные, падали одна на другую и вообще вели себя так, будто они не головы страшного дракона, а простые деревяшки. Дед Ондрей сердился и дергал не за те веревочки. Сегодня они уезжали. Товарищ Алексей и комиссар Ковачек хотели посмотреть спектакль. Проверить все. Да и партизанам не плохо бы чуток развлечься. Предстоят, вероятно, тяжелые бои в немецких тылах. Сначала командование бригады предполагало выйти навстречу Красной Армии, пробиться с боем, соединиться с ее наступающими частями. Но, все обдумав и взвесив, посчитали рейд по глубоким тылам противника более эффективным. Такую помощь Красной Армии более действенной. Вечером комиссар Ковачек пришел в кибитку. Вчетвером сели под брезентовой крышей, как заговорщики, беседовали вполголоса. Уточняли маршрут, способы связи. В городках и селах всюду у партизан были свои люди. Павлу пришлось заучивать добрых два десятка имен и адресов. Да еще и пароли, потому что они были разными. Перепутаешь - и не поймут тебя, не признают, вся работа - впустую. Кроме чисто разведывательных задач надо было предупредить подполье о начале наступления, чтобы люди были готовы, стали подспорьем наступающим войскам, а главное, не давали уничтожать оккупантам национальное, народное добро. Брали власть в свои руки. Комиссара выслушали внимательно, даже Альжбетка перестала штопать кукольное платье. Пробный спектакль назначили на десять часов утра. Пригласили всех свободных от боевых нарядов и работ. Артисты спали плохо, тревожно. Павлу все казалось, что чего-то они недоделали. Деду Ондрею снились проклятые драконьи головы, они Разевали огнедышащие пасти и норовили сожрать его, деда Ондрея. С них станется! Альжбетка вспоминала дедушку. Сейчас и он бы отправился с ними. Насколько все было бы проще! Он знал норов каждой куклы, они его слушались, оживали в его руках. Конечно, Павлик - артист, приспособился быстро, говорит на разные голоса. А дедушку не заменить!… Потом она мысленно собрала ширму. Ведь обычно это делал дедушка, она только помогала ему. Хоть и проста ширма, а ничего перепутать нельзя. Все должно встать на свое место. Утром все трое проснулись хмурыми, невыспавшимися. Павел даже зарядку не стал делать как обычно, помахал руками да подпрыгнул пару раз. Съели по куску хлеба с салом и принялись за дело. Павел под руководством Альжбетки ставил на телеге ширму. Дед Ондрей вытащил дракона, уложил его на земле и стал тренироваться, то натягивая веревочки, то опуская. Головы шевелились, раскрывали пасти, вываливали красные языки. Вот чем приходится заниматься на старости лет! А не получится - засмеют. Позора не оберешься. Стал артистом - крути головы, чтоб ими фрицы подавились! Когда поставили наконец ширму и пристроили позади скамеечку, на которую нужно было забраться артистам, чтобы водить кукол сверху, Альжбетка достала со дна кибитки длинную доску. Она была небесно-голубого цвета, с одной стороны нарисована плачущая маска - губы опущены вниз, а с другой - смеющаяся - кончики губ загибаются кверху. А между ними красными буквами тянулась надпись: "Boli sme a budeme!" [1].
– Приколачивай наверху. – Это обязательно? - спросил Павел. – Дедушка всегда приколачивал. Ну, раз дедушка… Павел залез на скамейку и прибил сверху доску. Она сразу придала форму всему сооружению. Подвесили пестрораскрашенную занавеску, подергали за веревку, занавеска легко двигалась по проволоке. Солнце поднялось над замком, высветило кукольную сцену, будто гигантский прожектор. Дед Ондрей убрал ненавистного дракона, потому что начала собираться публика. Послышались шутки. А дед Ондрей шуток над собой не любил. К десяти пришли товарищ Алексей и комиссар Ковачек. Сели в первом ряду на землю. Зрителей собралось порядочно. Переговаривались вполголоса, с нетерпением ожидая начала. Гул за занавесом напомнил Павлу гул в зале цирка. И там каждый раз публика ждала с нетерпением начала представления. Но там артисты выходили на манеж, зрители следили за каждым их движением, а здесь артистов не видят, только кукол. Отчего ж он волнуется не меньше, чем перед выходом на манеж? А дед Ондрей красный как вареный рак, и руки у него трясутся. Одна Альжбетка держится. Или делает вид, что держится? Молодец девушка! – Начинаем? - спросила Альжбетка. – Сейчас, - Павел выпрыгнул из кибитки, обошел ее. – Товарищ командир, можно начинать? – Минутку, - комиссар поднялся, подошел к кибитке, снял фуражку. – Товарищи, минуточку внимания! Недавно мы с вами проводили старого кукольника. Он ушел от нас, вернее, фашисты забили его до смерти. - Стало так тихо, что отчетливо послышался свист птицы. - Фашисты рассчитывали, что вместе с ним они убьют и его театр, его искусство. Но искусство не знает смерти. У кукольника осталась внучка, к ней присоединились два наших партизана, вы их знаете - Павел и дед Ондрей! И театр воскрес! Прочтите надпись над ширмой: "Мы были и будем!" Ее сделал старый кукольник, когда показывал представления в оккупированных фашистами селах за кусок хлеба насущного. Нет, пожалуй, это я не точно сказал. Не только за кусок хлеба За веру в победу! В нашу победу! Вдумайтесь в эти слова, запомните их. Мы были и будем! Всегда и во всем! Смерть фашизму! Свободу народам!
 Альжбетка вытерла набежавшие слезы, не время плакать. Дедушка не любил, когда она отвлекалась. Павел забрался на скамейку, приготовил куклу Бачу.
Дед Ондрей должен был выйти к зрителям, сказать вступительное слово о представлении. Такова традиция. По этому поводу на нем была надета белая рубаха, штаны заправлены в смазанные сапоги, а на голове красовалась шляпа с короткими полями. Два дня дед учил текст, а вышел, к людям - все перезабыл, запыхтел, утер рукавом рубахи пот со лба. Стоял и молчал. Но надо ж говорить хоть что-нибудь!
– Значит, так… - произнес он хрипло, в горле пересохло, язык прилипал к небу. - Значит, так, товарищи… Перезабыл я все, что надо говорить. - Зрители засмеялись добродушно. - Смеетесь? Это хорошо! - Дед Ондрей вдруг выкрикнул громко: - Уважаемая публика! - Горло прочистилось. - Мы покажем вам представление, про пастуха Бачу и сварливую Бачеву, про хитрого Гашпарко, про прекрасную принцесску и про ужасного дракона, который ее хотел съесть. Гляди и смекай, кто есть принцесска, а кто дракон, чтоб его черти в ад забрали! - Дед Ондрей распалился. Он все сказал, что надо, а остановиться не мог: - Видали мы таких драконов и головы им рубали прочь-напрочь! И в Банской Быстрице, и в наших Низких Татрах, и в Высоких Татрах, и в Бескидах, и на Карпатах, и в Словацких Рудных горах! Не один дракон там полег и еще поляжет!
Кто-то из зрителей крикнул:
– Верно, дед Ондрей! Всех подавим!
– Вот и я говорю! - Дед Ондрей победно снял шляпу, утер лоб рукавом и поклонился. Ему захлопали дружно.
– Чего ж вы, дедушка Ондрей, не то говорили? - прошептала Альжбетка, когда тот вернулся в кибитку.
– Позабыл, понимаешь, слова, такое дело…
– Открывайте занавес!…
Дед Ондрей потянул за веревку, раздвинулась пестрая занавеска, и началось представление.
Альжбетка вытерла набежавшие слезы, не время плакать. Дедушка не любил, когда она отвлекалась. Павел забрался на скамейку, приготовил куклу Бачу.
Дед Ондрей должен был выйти к зрителям, сказать вступительное слово о представлении. Такова традиция. По этому поводу на нем была надета белая рубаха, штаны заправлены в смазанные сапоги, а на голове красовалась шляпа с короткими полями. Два дня дед учил текст, а вышел, к людям - все перезабыл, запыхтел, утер рукавом рубахи пот со лба. Стоял и молчал. Но надо ж говорить хоть что-нибудь!
– Значит, так… - произнес он хрипло, в горле пересохло, язык прилипал к небу. - Значит, так, товарищи… Перезабыл я все, что надо говорить. - Зрители засмеялись добродушно. - Смеетесь? Это хорошо! - Дед Ондрей вдруг выкрикнул громко: - Уважаемая публика! - Горло прочистилось. - Мы покажем вам представление, про пастуха Бачу и сварливую Бачеву, про хитрого Гашпарко, про прекрасную принцесску и про ужасного дракона, который ее хотел съесть. Гляди и смекай, кто есть принцесска, а кто дракон, чтоб его черти в ад забрали! - Дед Ондрей распалился. Он все сказал, что надо, а остановиться не мог: - Видали мы таких драконов и головы им рубали прочь-напрочь! И в Банской Быстрице, и в наших Низких Татрах, и в Высоких Татрах, и в Бескидах, и на Карпатах, и в Словацких Рудных горах! Не один дракон там полег и еще поляжет!
Кто-то из зрителей крикнул:
– Верно, дед Ондрей! Всех подавим!
– Вот и я говорю! - Дед Ондрей победно снял шляпу, утер лоб рукавом и поклонился. Ему захлопали дружно.
– Чего ж вы, дедушка Ондрей, не то говорили? - прошептала Альжбетка, когда тот вернулся в кибитку.
– Позабыл, понимаешь, слова, такое дело…
– Открывайте занавес!…
Дед Ондрей потянул за веревку, раздвинулась пестрая занавеска, и началось представление.
4
Дважды войска генерал-лейтенанта Зайцева получали благодарность в приказах Верховного Главнокомандующего. Подходили свежие силы, части быстро переформировывались и снова бросались в бой. Командир дивизии, в которую входил полк Церцвадзе, в последнем бою получил тяжелое ранение, и подполковника назначили вместо него. Подполковник сильно переживал разлуку с полком, ходил хмурый, придирался к каждой мелочи, отчитывал ни в чем не повинных людей. Но на него не обижались, ему сочувствовали, его понимали - все, от начальника штаба полка до ездового в обозе. Кто-то попробовал утешить Церцвадзе: – Командир дивизии - генеральская должность! Церцвадзе даже побелел, но сдержался. Спросил ласково: – Ты хочешь быть генералом? – Хочу. – Валяй. Предоставлю все возможности. А я хочу дойти со своим полком до Берлина. Понимаешь? Со своим полком!… А потом - домой. Детишек учить. Понимаешь? Я - учитель. Пифагоровы штаны на все стороны равны! Слышал такое? Подполковник Боровский, невольный свидетель этого разговора, сказал: – Ваш полк остается в вашем подчинении, товарищ Церцвадзе. От дивизии до полка рукой подать. Церцвадзе поостыл, смуглое лицо порозовело. А когда дивизия, усиленная танками и отдельным саперным батальоном, передислоцировалась поближе к передовой, перенес КП дивизии в расположение бывшего своего полка. Зайцев разрешил. Так что Петру до штаба дивизии добираться было просто. Даже попутку ловить не надо. Зачем вызывают в штаб, Петр не спрашивал и гадать не стал. После того ожесточенного боя, когда погиб Яковлев и от отделения только трое остались в строю, он посуровел и как-то сразу повзрослел. Новый командир отделения Силыч, которому присвоили звание сержанта, был требователен и строг, как Яковлев. Молодые бойцы ворчали. Им не нравилось, что Силыч гоняет в поле, заставляет работать лопатками, учит маскироваться. Они считали, что силы надо беречь для подвига. Они жаждали подвига, с завистью поглядывали на награды Петра. За тот тяжкий бой его наградили орденом Славы. Петр понимал их желание отличиться и немного жалел, как несмышленых ребятишек. Он знал цену солдатским наградам и давно уже понял, что война не игра, не подвиг одного, война - тяжкий, кровавый труд! Ненавистная работа, которую надо исполнять на совесть, если хочешь, чтобы Родина твоя была свободной и великой. Петр научился исполнять эту работу, он стал солдатом в самом высоком смысле этого слова. Он научился не задавать лишних вопросов, не произносить лишних слов. Он не завидовал чужим наградам и не кичился своими. Он научился думать только о том, как лучше ему, солдату, на своем месте ударить врага. Погибнуть на войне просто, победить - труднее. Он начал понимать неторопливую мудрость Яковлева, вспоминал его обкатанные окопным временем, родившиеся в огне афоризмы. И повторял их молодым бойцам. Те выслушивали и усмехались. Уж очень простыми казались они, эти фразы. Но Петр знал: пройдет немного времени и ребята познают их истинную цену и в свою очередь будут повторять молодым. Это - закон войны: накапливать и беречь опыт. Петр шагал по тылам своего полка, мимо сгоревших немецких танков, разбитых орудий, покореженных автомашин. По обеим сторонам дороги зеленела молодая травка, кое-где набухшие почки на кустах лопнули, проклюнулись листики, будто на кусты набросили легкую зеленую кисею. Весна! А пахнет соляркой, гарью, обожженным металлом. Дважды его останавливали патрули, проверяли документы. Третий патруль остановил на входе в деревушку, от которой остались целыми два дома. На развалинах других кое-где копошились жители с лопатами, ломами. Копали огороды, складывали в штабеля годные еще обгорелые доски, целые черепицы. Идя селом, не похожим на русские деревни, Петр впервые ощутил, что он уже не на своей земле, это - далекая Чехословакия! Вот куда ты дошел, Петр Лужин, куда принес освобождение! Неподалеку женщина тащила чугунный верх от плиты; верно тяжелый, потому что она волокла его по земле, оставляя глубокий черный след. Петр подошел, молча приподнял волочащийся край. Женщина улыбнулась, сказала: – Дякуем пекне! [2]
"Дякуем"… Совсем по-белорусски. Он помог дотащить чугунную плиту до сгоревшей хаты, приметил свежевырытую землянку - временное жилище. Успели уже! Потом пошел в штаб. Подполковника Боровского, который его вызывал, не оказалось на месте. Велели подождать. Молоденькая девушка в форме младшего лейтенанта, ладно подогнанной по тонкой, тщедушной фигурке, коротко стриженная, склонилась над столом, заваленным бумагами и письмами. Разбирала их, читала, шевеля губами, будто по слогам. Петру хотелось разыскать отца. Он где-то здесь, раз командует дивизионной разведкой. Пока не появился Боровский, можно бы и повидаться. С тех пор как они разговаривали в концентрационном лагере, Петр не видал его, хотя приветы получал и даже шоколад, которым по-братски поделился с товарищами. Петр кашлянул и поднялся со стула. – Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться? – Вы мне? – Так точно. Девушка смутилась. – Слушаю вас. – Вы не знаете случайно майора Лужина?… - Видя, что девушка пытается что-то вспомнить, он добавил: - Герой Советского Союза. Шрам у него на щеке. – Из разведки, - кивнула девушка. - Иногда заходит. – Разрешите мне его повидать, товарищ младший лейтенант. – Пожалуйста. Только я вам не начальник. – Вы - старшая по званию. Не положено уходить без разрешения. Разрешите идти? – Идите. Петр вышел из комнаты очень довольный собой. Под наскоро сколоченным навесом дымила походная кухня. Невдалеке за огородами виднелась госпитальная палатка, напомнившая Петру шатер шапито. Где-то призывно ржала лошадь. Петр подошел к повару, рябому немолодому бойцу в белой куртке и пилотке. – Друг, где тут разведчики? Мне майора Лужина. Повар покосился на него, помешивая большой деревянной лопаткой в котле. – Второй день не приходит. Видать, сытый. Или умотал куда по делам. У них сейчас самое дело. Ответ озадачил Петра и огорчил. Он хотел было спросить у повара, где располагаются разведчики, чтобы сходить самому, но в это время из-за госпитальной палатки показался подполковник Боровский. Петр узнал его сразу. Боровский шагал крупно прямо по перекопанной земле, помахиваяполевой сумкой в такт шагам. Лицо его было хмуро. Петр повернулся и заспешил в штаб. При появлении Боровского младший лейтенант вскочила. И Петр встал, неторопливо, с достоинством. – Сидите, - подполковник бросил полевую сумку на стол… – Товарищ подполковник, рядовой Лужин… – Вижу, - прервал его Боровский. - Здравствуй! - Он оглядел Петра. - Воюешь? – Так точно, товарищ подполковник. – Садись. Командир дивизии разрешил отозвать тебя в мое распоряжение. У меня переводчика убили, лейтенанта. Из лесу пальнули - и наповал. Вот такие дела. – На фронте? - спросил Петр, понимая, что вопрос глупый. – У нас всюду фронт. Не только на передовой, - жестко сказал Боровский. - Мы чекисты! Знаешь, что такое чекисты? – Так точно. – Так что не думай, что тебя в санаторий отозвали. Обедал? – Никак нет. – Идем. Петр вышел из штаба вслед за подполковником. Тот шагал быстро, приходилось приноравливаться к его размашистому шагу. Подошли к кухне. – Кожин, обедать, - бросил на ходу Боровский и снял фуражку. - Садись, Лужин. Кожин у нас большой мастер по гречневой каше со свининой. – Сегодня пшенная, товарищ подполковник, - сказал Кожин, ставя на стол две тарелки пшенной каши с мясной подливкой. - Приятного аппетита. – Спасибо. Ели молча. Каша действительно оказалась вкусной. Потом Боровский сказал: – Отступая, фашисты оставляют в нашем тылу небольшие группы для разведки, для диверсий. - Он словно бы рассуждал сам с собой, но Петр понимал, что все это говорится для него, и слушал внимательно. - Мне нужен человек боевой и со знанием языка. Разве лучше тебя найду? И знакомые мы старые, - Боровский усмехнулся. - И орден у тебя боевой. И медаль "За отвагу". Вопросы есть? – Никак нет. – Тогда бери автомат, пару дисков, каску. Через полчаса двинемся. – А… - Петру очень хотелось спросить Боровского об отце, но в последний момент проглотил слова, готовые сорваться. Боровский смотрел на него выжидающе. – А… плащ-палатку брать, товарищ подполковник? – Возьми. Ночи прохладные, и дождь возможен.
5
Корпус генерал-лейтенанта Зайцева, взломав оборону противника, погнал его перед собой. Немцы пытались цепляться за маленькие городки и поселки, свернуть в предгорья, ждали подкреплений. Знали, что к ним на помощь идут танки и самоходки, направляются стрелковые дивизии. Но дивизии не доходили. Они натыкались на взорванные мосты, на завалы в ущельях; их щипали и рассеивали партизанские отряды. А Красная Армия надвигалась неумолимо, неся свободу словакам и чехам. Десять суток с подполковником Боровским казались Петру сплошным недосмотренным сном. Они тряслись на "виллисе" по дорогам и бездорожью, лежали в засадах, вылавливали разрозненные группы немцев, допрашивали пленных, помогали местному населению избавляться от предателей. Не хватало времени для еды и сна. – Ничего, Лужин. Чуешь весну? Это мы принесли весну! Три десятка автоматчиков следовали за ними на грузовике. Брезентовый верх натягивали только в дождь. Но дождя почти не бывало. Деревья оделись в легкое кружево зелени. В деревнях висели сине-бело-красные и красные флаги, как в праздник. Да это и был праздник. Великий праздник освобождения. В одном селе увидели на площади толпу, возле кибитки с брезентовым верхом. Боровский приказал остановиться. Петр вышел вслед за ним из "виллиса". В толпе раздавались дружные взрывы смеха. Подошли поближе, их уважительно пропустили к кибитке. Над раздвинутым пестрым занавесом висела голубая доска с плачущей и смеющейся масками. А между масками надпись: "Boli sme a budeme!". А под ней меж раздвинутых пестрых занавесок, на маленькой сцене, трехглавый зеленый дракон, извергая из пастей дым, собирался съесть прекрасную принцессу. – Кукольный театр! - удивленно воскликнул Петр. – Тс-с-с… - Боровский приложил палец к губам, лицо у него стало детски наивным; воспаленными от бессонницы глазами он глядел на кукол и улыбался. Может быть, вспомнил свое далекое детство? А на сцене уже появились двое - пастух и маленький человечек в красном камзоле и красном колпаке с бубенчиками. – Отпусти принцесску! - закричал пастух и взмахнул мечом. Дракон выпустил из лап безжизненную принцессу, головы его зловеще зашевелились. И Петр увидел на них немецкие каски, маленькие, склеенные из бумаги. – Кто ты есть такой, - произнесла голова дракона утробным голосом, - чтобы приказывать мне - повелителю Германии, Чехии, Моравии и Словакии?
 – Я - пастух Бача. И земля эта - моя!
– Испепелю! - завыл дракон.
– Шеи коротки, - крикнул тоненьким голоском маленький человечек в красном и ткнул дракона маленьким мечом.
– Так его, Гашпарко! - крикнул кто-то в толпе.
Дракон изрыгнул пламя из пастей. Это было жуткое зрелище.
Бача поднял меч и бесстрашно двинулся на дракона.
Зрители замерли.
Сверкнул меч, и одна голова покатилась по сцене.
Две другие взвыли и потянулись к Баче.
Гашпарко подскочил к ним сбоку, крикнул:
– Вон Бачева жена идет с палкой!
Головы дракона повернулись в ту сторону, куда показал человечек, сверкнул меч, и вторая голова покатилась.
– Пощади меня, Бача! - взвыла оставшаяся голова. - Я тебе давать золота сколько захочешь, я тебе подарить кафтан на меху, я тебя женить на принцесске!
– Свобода не продается! - громовым голосом ответил Бача, ударил мечом, и последняя голова дракона свалилась.
Очнулась принцесска, потянулась, словно после сна.
– Это ты меня спас? Ты убил дракона?
– Мы, - сказал Бача, обнимая Гашпарко.
– Спасибо вам, храбрецы!
Бача повернулся к зрителям.
– Мор го! Смерть фашизму! Свободу народам!
Маленький пестрый занавес сдвинулся.
Зрители дружно и весело зааплодировали. Из кибитки вышли артисты - тоненькая девушка, старик и парень. Держась за руки, они поклонились.
Петр рванулся к ним.
– Ты что? - перехватив его руку, спросил встревоженно Боровский.
– Это… Это… - Петр смотрел на вышедшего кланяться парня.
И Боровский посмотрел и увидел… второго Петра. От удивления он отпустил его руку.
Петр выскочил из толпы к кибитке.
– Павка!
– Петька!
Петр смотрел на брата, как завороженный, потом вдруг ударил его в грудь.
– Ты что? - спросил Павел.
– А ты что?
Павел толкнул в грудь Петра, и тот упал. Но как-то очень удачно. На руки. Тотчас вскочил и бросился на Павла.
От неожиданности люди вокруг шарахнулись, и образовалось пространство, где дрались парни. Упала пилотка. Сыпался град ударов. Павел отклонял туловище в стороны, потом внезапно схватил занесенную над ним руку и перебросил брата через себя!
– Прекратить! - строго крикнул ничего не понимавший Боровский.
Но Петр сунул голову между ног Павла, резко выпрямился. И вот уже Павел летит в воздухе, переворачивается. Кажется, сейчас он шмякнется о землю и больше не встанет. Но в какую-то последнюю долю секунды он умудряется встать на ноги.
И тут тоненькая девушка бросилась к Петру и повисла на нем, заступаясь за Павла.
– Прекратить! - снова строго крикнул Боровский.
А Петр и Павел улыбались.
– Что ты, Альжбетка! Да ты посмотри на него!
Альжбетка посмотрела на бойца, потом на Павла. Рот ее открылся, глаза сверкнули. Она всплеснула руками.
– Товарищ подполковник, это мой брат Павел. А драка - как аттракцион в цирке. Он повернулся к брату, хлопнул его по плечу. - Не забыл нашу драку!
Подполковник Боровский снял фуражку и улыбался.
– Товарищи! - крикнул Павел. - Это мой родной брат Петр! Красноармеец!
Их обступили незнакомые люди, хлопали в ладоши, что-то говорили, кричали… Дед Ондрей поднялся на кибитку и поднял руку.
– Тихо, люди, тихо!… - Он хотел произнести торжественную речь. И когда вокруг стихли, сказал: - Такое дело. Встретились братья на нашей земле. Такое дело. И я скажу: все мы - братья! Все, кто против фашистов. Глядите, что тут написано, - он показал пальцем на лозунг над ширмой: - "Мы были и будем!"
И все поняли деда Ондрея. И аплодисменты прокатились над маленькой сельской площадью. Хлопали крестьяне. Хлопал строгий подполковник Боровский, хлопали автоматчики.
И в ответ им, далеко на западе, гремели орудия, катилось по чехословацкой земле могучее красноармейское "ура". Вперед! К восставшей Праге!
По земле шагала весна тысяча девятьсот сорок пятого года.
– Я - пастух Бача. И земля эта - моя!
– Испепелю! - завыл дракон.
– Шеи коротки, - крикнул тоненьким голоском маленький человечек в красном и ткнул дракона маленьким мечом.
– Так его, Гашпарко! - крикнул кто-то в толпе.
Дракон изрыгнул пламя из пастей. Это было жуткое зрелище.
Бача поднял меч и бесстрашно двинулся на дракона.
Зрители замерли.
Сверкнул меч, и одна голова покатилась по сцене.
Две другие взвыли и потянулись к Баче.
Гашпарко подскочил к ним сбоку, крикнул:
– Вон Бачева жена идет с палкой!
Головы дракона повернулись в ту сторону, куда показал человечек, сверкнул меч, и вторая голова покатилась.
– Пощади меня, Бача! - взвыла оставшаяся голова. - Я тебе давать золота сколько захочешь, я тебе подарить кафтан на меху, я тебя женить на принцесске!
– Свобода не продается! - громовым голосом ответил Бача, ударил мечом, и последняя голова дракона свалилась.
Очнулась принцесска, потянулась, словно после сна.
– Это ты меня спас? Ты убил дракона?
– Мы, - сказал Бача, обнимая Гашпарко.
– Спасибо вам, храбрецы!
Бача повернулся к зрителям.
– Мор го! Смерть фашизму! Свободу народам!
Маленький пестрый занавес сдвинулся.
Зрители дружно и весело зааплодировали. Из кибитки вышли артисты - тоненькая девушка, старик и парень. Держась за руки, они поклонились.
Петр рванулся к ним.
– Ты что? - перехватив его руку, спросил встревоженно Боровский.
– Это… Это… - Петр смотрел на вышедшего кланяться парня.
И Боровский посмотрел и увидел… второго Петра. От удивления он отпустил его руку.
Петр выскочил из толпы к кибитке.
– Павка!
– Петька!
Петр смотрел на брата, как завороженный, потом вдруг ударил его в грудь.
– Ты что? - спросил Павел.
– А ты что?
Павел толкнул в грудь Петра, и тот упал. Но как-то очень удачно. На руки. Тотчас вскочил и бросился на Павла.
От неожиданности люди вокруг шарахнулись, и образовалось пространство, где дрались парни. Упала пилотка. Сыпался град ударов. Павел отклонял туловище в стороны, потом внезапно схватил занесенную над ним руку и перебросил брата через себя!
– Прекратить! - строго крикнул ничего не понимавший Боровский.
Но Петр сунул голову между ног Павла, резко выпрямился. И вот уже Павел летит в воздухе, переворачивается. Кажется, сейчас он шмякнется о землю и больше не встанет. Но в какую-то последнюю долю секунды он умудряется встать на ноги.
И тут тоненькая девушка бросилась к Петру и повисла на нем, заступаясь за Павла.
– Прекратить! - снова строго крикнул Боровский.
А Петр и Павел улыбались.
– Что ты, Альжбетка! Да ты посмотри на него!
Альжбетка посмотрела на бойца, потом на Павла. Рот ее открылся, глаза сверкнули. Она всплеснула руками.
– Товарищ подполковник, это мой брат Павел. А драка - как аттракцион в цирке. Он повернулся к брату, хлопнул его по плечу. - Не забыл нашу драку!
Подполковник Боровский снял фуражку и улыбался.
– Товарищи! - крикнул Павел. - Это мой родной брат Петр! Красноармеец!
Их обступили незнакомые люди, хлопали в ладоши, что-то говорили, кричали… Дед Ондрей поднялся на кибитку и поднял руку.
– Тихо, люди, тихо!… - Он хотел произнести торжественную речь. И когда вокруг стихли, сказал: - Такое дело. Встретились братья на нашей земле. Такое дело. И я скажу: все мы - братья! Все, кто против фашистов. Глядите, что тут написано, - он показал пальцем на лозунг над ширмой: - "Мы были и будем!"
И все поняли деда Ондрея. И аплодисменты прокатились над маленькой сельской площадью. Хлопали крестьяне. Хлопал строгий подполковник Боровский, хлопали автоматчики.
И в ответ им, далеко на западе, гремели орудия, катилось по чехословацкой земле могучее красноармейское "ура". Вперед! К восставшей Праге!
По земле шагала весна тысяча девятьсот сорок пятого года.


НЕСКОЛЬКО ПРОЩАЛЬНЫХ СЛОВ ОТ АВТОРА
В 50-х годах судьба забросила меня в Гронск. Город неузнаваемо похорошел, отстроился, стал еще более зеленым. Да к тому ж был украшен. Завтра - День Победы. Возле седьмой школы в яблоневом саду бушевала лепестковая метель, засыпая дорожки и старую "пушкинскую" скамейку. Она стояла на том же месте, как много лет назад. Меж яблонь носились ребятишки, играли в пятнашки. С ними бегал высокий рыжий учитель. Я вспомнил, как Великие Вожди прыгали через ограду прямо в сад, поймал себя на желании тоже перепрыгнуть, но сдержался. Неудобно все-таки, дурной пример для детей. Я прошел через калитку и не торопясь направился к школе. Хотелось повидать директора Николая Алексеевича Хрипака, если он еще не ушел на пенсию. Николай Алексеевич сидел за своим старым письменным столом, и в зеленом колпаке старой лампы отражалось весеннее солнце. И весь кабинет показался мне меньше, чем был, и хозяин его словно стал меньше ростом, сильные очки увеличивали глаза, и двигался Николай Алексеевич, чуть сутулясь и опираясь на крепкую сучковатую палку. Мы вспоминали с ним былое, и я спросил, как сложились судьбы Великих Вождей. – "Великие Вожди", - улыбнулся Николай Алексеевич, - а ведь они действительно оказались великими. На долю их выпали великие испытания, и выдержали они их с честью. Одного из них вы, наверно, видели, Ржавого, Василя Долевича. - Николай Алексеевич подошел к окну. - Да вон он, Василий Максимович, играет со своими питомцами. – Рыжий - учитель? - догадался я. – Да. Несмотря на болезнь, он ведь тяжело контужен был, окончил педтехникум. Сейчас учится заочно в Педагогическом институте. Удивительно умеет находить общий язык с ребятишками. Хотя иногда ставит в их тетрадки красные кляксы. Между прочим, женат на Злате Кроль. Она работает операционной медсестрой в больнице. А дочка их Оленька учится у нас. - Он вздохнул. - Бежит время! – А Серега Эдисон? – Сергей погиб. Уже после войны. Опознал на улице предателя, который застрелил радистку в сорок третьем. Он ведь радистом был в отряде! Решил задержать. Бандит нанес ему несколько ножевых ран. Но Сергей не выпустил его. Из последних сил вцепился. Тут и помощь подоспела. Но Сергея спасти не удалось. Много народу на похороны пришло. Любили его. Он ведь секретарем горкома комсомола был… Мы помолчали. Потом Николай Алексеевич сказал: – Еще был Толик Ефимов, любитель собак. Он уехал вместе с матерью к отцу. Отец потерял ноги на войне. Прятался от семьи, но жена разыскала его. Собрались в одночасье и уехали. И что с ним - не знаю. – А близнецы? – Лужины? - заулыбался Николай Алексеевич. - Да вы что, афиш не видели? Весь город афишами заклеен. "Сегодня и ежедневно". Как раз сегодня все идем. Я шел по улице, раздумывая о том, что услышал от Николая Алексеевича, и вдруг увидел афишу. "Цирк. Весь вечер на манеже клоун Мимоза". Даже вздрогнул от неожиданности. Ведь Мимоза погиб! Вечером я, разумеется, пошел в цирк. Шатер шапито стоял на той же площадке, новенький, нарядный, в гирляндах разноцветных лампочек. Над входом весело вспыхивали и гасли алые буквы - ЦИРК. Зал был полон. Публика возбужденно шумела. Погас свет, заиграл оркестр. Первыми выступали молоденькие акробаты. Мячиками пролетали они над манежем, переворачиваясь в воздухе, подбрасывая друг друга. Сверкали блестки костюмов в свете прожекторов. А я нервничал, я ждал Мимозу. И вот он появился, клоун Мимоза, в тесном пиджаке и широких клетчатых брюках, на рыжих волосах чудом держалась крохотная кепочка, длинноносые башмаки сами спотыкались о ковер. Он крикнул по-петушиному: – А вот и я! - и пошел через манеж, волоча за собой веревку. И когда под общий смех дошел до противоположного барьера, из форганга вышла тощая лошадь, привязанная к другому концу веревки. Она шла, понуро кивая головой. Клоун начал наматывать веревку на локоть, лошадь подходила все ближе, и когда она подошла к нему вплотную, клоун оказался весь перепутан веревкой. Уж как у него это получилось, никто не заметил. Только он из-за этой веревки никак не мог забраться на лошадь. Падал. Подымался. Лошадь замотала сердито головой, ухватила зубами веревку. Мимоза обхватил ее за шею свободной рукой, и она понесла его прочь с манежа, словно куклу, запеленутую веревкой. Зал смеялся. Шпрехшталмейстер вывел упирающегося клоуна на манеж и торжественно объявил: – Весь вечер на манеже клоун Мимоза, артист Петр Лужин! Зал зааплодировал. Но громче всех аплодировали в ложе у центрального прохода. Там сидели Василь Долевич и синеглазая красивая женщина, на коленях ее пристроилась рыжая синеглазая девочка. Я сообразил, что это Злата и Оленька. А рядом опирался на палку Николай Алексеевич. Клоун поклонился публике, споткнулся, упал, долго разбирался с собственными ногами, потому что они у него как-то странно переплелись. Наконец поднялся, подошел к ложе и отдельно поклонился сидящим в ней. В глазах его полыхала неподдельная радость. Девочка бросила ему цветок. Он поймал его, прижал к губам и снова переломился в поклоне. Мимоза появлялся после каждого номера. Проглатывал свисток, играл на трубе, извлекая из нее поначалу такие звуки, что кое-кто, смеясь, затыкал уши. А потом внезапно полилась чистая звонкая мелодия. Шпрехшталмейстер отбирал трубу, подвешивал ее к лонже, и клоун лез за ней, поставив шаткий стул на шаткий столик… Я следил за его движениями затаив дыхание, понимал, что это Петр Лужин, но вдруг мне начинало мерещиться, что это Мимоза, старый Мимоза, который погиб. Программа была большой, интересной, а я смотрел невнимательно и ничего не запомнил. Я все ждал чего-то тревожно. И дождался. – Вольтижеры на лошадях, артисты Лужины! - возвестил шпрехшталмейстер. Оркестр заиграл галоп, и на манеж вышел немолодой артист в каком-то нецирковом костюме - защитного цвета френч, офицерские галифе с тонким кантом, мягкие шевровые сапоги. А на френче - Звезда Героя Советского Союза. Шрам на щеке немного скашивал его улыбку. Я наклонился к билетерше, которая стояла в проходе: – Он всегда так одет? – Нет. Только сегодня. Артист щелкнул хлыстом, и из форганга выбежали две лошади. На одной стояла светловолосая артистка в синей, чуть расклешенной юбке и гимнастерке, перепоясанной ремнем. Сверкали два ордена Красной Звезды, и тоненько, но слышно позванивали медали. А на другой - молодой мужчина тоже в солдатской форме с медалями на груди. Они проскакали по кругу, приветственно подняв руки. Потом спрыгнули с лошадей. На манеже появилась тоненькая девушка, прошлась колесом, ослепительно сверкающая в своем цирковом костюме, так непохожем на костюмы ее партнеров. Тогда я еще не знал, что ее зовут Альжбетка. А номер был красивым и строгим, поражал четкостью каждого движения, каждого трюка, которые зал встречал доброжелательным гулом. Номер кончился. Артисты выходили несколько раз. Шпрехшталмейстер задерживал их, не давал уйти и вдруг поднял руку, успокаивая зрителей, и сказал громко: – Дорогие товарищи! Артисты Лужины в рядах Советской Армии и красных партизан освобождали Гронск! Что поднялось в цирке, и рассказать невозможно. Зрители повскакали с мест и устроили овацию. И я вскочил вместе со всеми и до боли отбивал ладоши. Так вот почему эти нецирковые костюмы! Это - память, память о тех страшных и героических годах. Память о невернувшихся с войны, память о выстоявших и победивших! Может быть, именно в тот вечер и родилась мысль написать эти книги: "Кураж", "Братья", "Весна сорок пятого".
Последние комментарии
6 часов 52 минут назад
22 часов 56 минут назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
3 дней 14 часов назад
3 дней 18 часов назад