Тонкий профиль [Анатолий Михайлович Медников] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]





Первое знакомство
Когда мы подлетали к городу, стюардесса громко и торжественно объявила: — Граждане пассажиры! Наш самолет приземлится на аэродроме Челябинска. В годы Великой Отечественной войны здесь был мощный арсенал обороны. Сейчас продукция челябинских заводов широко славится. В городе шесть институтов, здесь живет двадцать семь тысяч студентов, из них восемнадцать тысяч обучаются в технических вузах. В Челябинске есть оперный театр на пятьсот мест, драматический… А наш самолет уже ложился на правое крыло, заходя на посадку. Вот, наконец, его колеса первым неуверенным толчком коснулись бетонной дорожки, нас немного подбросило, затем колеса решительно ударили о бетон второй раз, третий… Пассажиры уже невнимательно слушали стюардессу. Потом — длинная дорога с аэродрома. Автобус бежал мимо поля, голубым глазом промелькнуло озеро, лесок, и только через полчаса начал выпячиваться, громоздиться в небо железобетонный, обволакиваемый по окраинам клубами заводских дымов, благоустроенный большой город. От площади Ленина, куда приходит автобус с аэродрома, можно проехать к трубопрокатному заводу. В 1956 году, когда я впервые попал в Челябинск, ехать надо было долго. На двух трамваях. На одном — до конечной станции, потом на другом. Красный вагон, как челнок, сновал туда и обратно по нитке узкоколейного пути, разделенного узелками остановок. Вот, наконец, сам заводской поселок, раскинувшийся на берегу озера Смолино. Место тут относительно ровное. С одной стороны тянулись незастроенные еще пустыри, с другой — виднелись трубы заводов, и только за озером, вдали, словно прочерченные тонким пером на голубой полосе горизонта, вставали бледные зубцы гор. Завод мне понравился сразу. Даже и тогда было в его облике нечто такое, что соответствует понятию — современный. Автоматика и удивительная малолюдность в цехах, красиво распланированная территория, где много деревьев и всюду асфальтированные дорожки. Правда, были сразу заметны и шумные, грязноватые уголки около старого мартеновского цеха, вокруг копрового двора, где дробит металл большой стальной шар, падая с высоты. Но это лишь отдельные уголки. Я жил тогда, в 1956 году, в городе, в гостинице «Южный Урал», и каждый день рано утром, как на работу, ездил на завод. Если хочешь почувствовать ритм жизни людей, работающих здесь, надо и самому включиться в него — рано вставать, появляться на заводе к восьми, когда звенит первый звонок в заводоуправлении, или еще раньше, к семи, когда закапчивается ночная и начинается утренняя смена в цехах. Тогда застанешь и пересменку, и коротенькое оперативное совещание у директора, где обсуждаются итоги работы за сутки, а по понедельникам к девяти попадешь на общезаводскую оперативку, которую по итогам всей недели проводит директор или главный инженер в присутствии всего командного состава завода. Перед началом оперативки интересно было зайти минут на десять в диспетчерскую заводоуправления, дверь которой, обитая войлоком и черным дерматином, заметно выделялась в коридоре, ведущем к конференц-залу. В диспетчерской — световые табло на стенах: каждому цеху свое табло, на нем — световые точки, которые означают агрегаты: работающие — зеленые точки, простаивающие — красные, это сигнал тревоги. Ближе к окну, на середине комнаты, большой селектор, экран телевизора, кодирующая цифры счетно-решающая машина, телетайп, связанный с главной диспетчерской министерства. А на командных креслах — главный диспетчер, сменные, старшие… Диспетчерская — это, пожалуй, то самое место, где острее всего чувствуется пульс завода, его дыхание. Разговоры по селектору в этой комнате, цифры, тонны, названные в рапортах, дают наиболее отчетливое представление о том, что такое этот завод, сколь весом здесь каждый рабочий час. Уже в пятьдесят шестом Челябинский трубопрокатный прочно встал в ряд правофланговых всей армады прокатных заводов страны. Год от года челябинцы наращивали мощности своих станов. Были модернизированы сначала те цехи, которые в годы войны перебазировались с юга Украины на Южный Урал, — мартеновский, цех пильгер-стана. Затем построены новые цехи. Челябинский трубный сегодня один из крупнейших трубопрокатных заводов страны. Конечно, в пятьдесят шестом завод был меньше теперешнего, но и тогда, остановись его цехи на двое-трое суток, это сразу бы остро почувствовалось на стройках, на многих предприятиях, на дальних трассах трубопроводов. Ежедневно десятки эшелонов уходили от станции погрузки, а если случалась заминка с транспортом — на заводских складах катастрофически вырастали штабеля готовых труб. Летом по утрам в диспетчерской открыты окна, и, взбадривая дежурных, тянется в комнату от озера и дальних гор свежий, прохладный воздух. Диспетчер всегда в гуще событий. Сидя, переключает кнопки селектора, снимает трубки. Страж выполнения производственных графиков, он связывает, мирит, успокаивает людей… Старшего диспетчера звали Александр Каганов. Я был приятно удивлен, узнав, что он готовит интересную диссертацию. Бывает так: человек учился сначала в гуманитарном вузе, хотел стать педагогом, но война распорядилась по-своему. Зимой сорок второго он попал на Урал, на завод, овладел специальностью диспетчера, полюбил ее и, стремясь получить для работы как можно больше знаний, решил заняться… исследованиями в области психологии. Вскоре я познакомился с этим невысоким, широкоплечим человеком. Серые глаза его глядели спокойно и строго. Мы разговорились. Каганов сказал мне, что психологией инженерного творчества занимается не первый год. — Меня интересуют даже такие мелочи, — заметил он, — как степень уважения к собеседнику, отношение к своим обещаниям, признательность за оказываемую помощь. Все это важно в коллективе, которому свойственны общие побуждения, потребности, радости. Из диспетчерской я проходил прямо на планерку. Пример Каганова воодушевлял и меня. Наблюдая за присутствующими на планерке, я записывал их фразы, реплики, иногда к ним — комментарий моего друга Виктора Терехова. Виктор, заместитель начальника производственного отдела, был одним из моих первых знакомых на заводе, человек волевой, упорный, целеустремленный. Правда, друзья Виктора склонны были жаловаться на его тяжеловатый характер. Но ведь не зря говорят, хотя и в шутку, что если есть у мужчины характер, то он всегда тяжелый. У Виктора — мягкая, мечтательная улыбка. Особенная, примечательная. Пока не привыкнешь к ней, все кажется она немного чужеродной на лице, увы, уже лысоватого тридцатилетнего мужчины в очках.Совещания, которые проводил директор завода Яков Павлович Осадчий, обычно проходили так. Вначале — постановка проблем, ознакомление с новыми техническими идеями, потом — короткая по времени, деловая, оперативная часть: итоги выполнения плана, претензии цехов. Директор Челябинской «Трубной Магнитки» давно уже привлекает внимание журналистов. Об Осадчем пишут и, должно быть, будут еще писать. Основные вехи его биографии известны. Родился на Украине, в Херсонской губернии. Отец его работал грузчиком на известковых печах. В Донбассе начал свою рабочую жизнь и четырнадцатилетний Яша — работал коногоном на известковых карьерах, потом перешел на угольную шахту, был откатчиком, грузчиком, забойщиком. Энергичного, смышленого парня заметили, выдвинули на профсоюзную работу. Сначала председателем рудничного комитета, потом пригласили в областной центр — в комитет профсоюза строителей угольных шахт. Оттуда Осадчий уехал на строительство Днепрогэса. И снова он в постройкоме, потом начальник отдела найма и увольнения. Совсем молодой еще парень, а успел показать организаторскую жилку. Умел заглянуть в душу человека, оценить не по анкете — по рабочей хватке. На Днепрогэсе Осадчий увидел, что такое большая стройка, почувствовал ее размах, силу. Здесь он познакомился с выдающимися деятелями энергетики того времени — Винтером, Веденеевым. Со знаменитой стройки Осадчий уехал учиться в Промышленную академию на подготовительный факультет. До этого он учился мало. «Грамоты у меня всего две зимы церковно-приходской школы, товарищ нарком», — так сам он определил свой образовательный ценз, когда на строительной площадке встретился с Серго Орджоникидзе. «Немного», — сказал Серго. «Я уже начальник, — посетовал Осадчий, — а начну бумагу составлять — мучение: слова вразброд и мысль никак не поймаешь. Подучиться мне необходимо. Очень хочу!» — «Будешь, раз хочешь, — сказал нарком. — Мы такие желания уважаем». Осадчий учился в академии истово, как люди, которые поздно садятся за студенческую парту. К диплому инженера пробивался упорно, как, бывало, забойщиком в шахте через угольный пласт. После академии — Первоуральск и должность заместителя директора трубопрокатного завода. Была потом в жизни Осадчего одна, и хорошо, что только одна, «временная должность». После Первоуральска два года он проработал на высоком посту заместителя министра черной металлургии Украины. Но через два года попросился снова на завод. Ныне откровенно рассказывает об этом, чистосердечно признается, что не потянул, не справился, заскучал, почувствовал себя не на месте. Наверное, у каждого человека случаются в жизни должности временные, а есть и прочные, постоянные, отвечающие характеру. Осадчий — директор постоянный, по призванию и по любви, и он доказал это тридцатипятилетним стажем. Мы встречались не раз, хотя не так уж и часто, зато в разные годы, и само время корректировало мои впечатления: к тому же об Якове Павловиче я слышал на заводе много и едва ли не каждый день от самых разных людей. Нравственный портрет… Не лепится ли он всякий раз именно из этой пестрой мозаики суждений и оценок всех тех, кто близко знает человека? Как-то один из инженеров показал Осадчему памятку — плод некоторых примечательных размышлений о деловых качествах директора. Отдельные мысли запомнились Осадчему, потому что показались правильными. Вот такие, например: «Не делай того, что могут выполнить подчиненные, умелые и компетентные, тогда не потонешь в море мелочей, а будешь видеть перед собой общее, существенное. Знай меру иронии, когда она бьет твоего подчиненного, ведь он-то в большинстве случаев не может или не посмеет тебе ответить тем же. Неблагодарность — большое зло. Если даже хороший работник уже отмечен в официальном порядке, всегда полезно лично поблагодарить его. Еще Толстой говорил, что мы любим тех, кому делаем добро. Но, упаси боже, впадать и в инерцию делания зла. Тогда ожесточение против человека легко может перейти границы объективного и трезвого суждения о его поступках. Критика — лекарство горькое и никому не нравится, по имей терпение выслушать любую критику и в свой адрес…» В памяти хорошо сохранилась одна из оперативок, которую вел Осадчий. Обычно, открывая совещание, он поднимался из-за стола, говорил всегда стоя, памятуя, может быть, правило, что так легче, удобнее воздействовать на своих слушателей. — Итак, начнем, товарищи, — сказал Осадчий. — Поговорим о международных стандартах на трубы. — Еще год-два назад, — шепнул мне Терехов, — никто и не вспоминал о стандартах. А сейчас вышли на мировой рынок. Но его не так просто завоевывать. — Знают ли ваши мастера в цехе международные стандарты? — спросил Осадчий у Игоря Михайловича Усачева, начальника трубоэлектросварочного цеха. Усачев — невысокий, светловолосый, с приятным лицом, улыбка на котором отражает душевное равновесие и удовлетворение собой, — не торопясь поднялся, неловко покрутил шеей, словно ему жмёт воротник рубашки, и долго тянул с ответом. — Ну как, Игорь Михайлович, знают ли ваши мастера международные стандарты? — негромко спросил и Терехов, наклонясь ко мне. — Нот, не все знают. Есть инструкции, но ведь мало мы занимаемся тем, чтобы довести эти стандарты до рабочих. Директор прав. От международных стандартов Осадчий перешел к… телевидению. Да, телевидению. Правда, речь шла о телевидении промышленном, о том, что хорошо бы использовать телевизионные установки для контроля сварочных швов внутри труб 820. Осадчий говорил: — Мы не можем допускать, чтобы рабочий или работница залезали внутрь двенадцатиметровой трубы. Там и температура высокая, и вредный флюс, и еще черт знает что! Нам говорят, что на экране телевизора невозможно получить четкое изображение шва. Да, пока не получается, товарищи! Но надо связаться с институтами, решить проблему… Терехов в этот момент посмотрел внимательно на главного инженера Чудновского. Тот сидел рядом с директором и спокойно смотрел в зал, ни на кого персонально, на всех сразу с выражением вежливого и снисходительного внимания. Упрек Осадчего, видимо, был адресован ему. Терехов шепнул мне, что Чудновский утверждает, будто телевизионная камера, даже оснащенная мощными юпитерами (если не жалеть денег и загнать их вместе с камерой в трубу), все равно не в состоянии уловить мельчайшие, с волосок, трещинки на матово-серебристом шве сварки. Пока телеглаз еще уступает в чуткости глазу человеческому. — …Не выйдет с телевидением сегодня, так выйдет завтра. Важно не слезать с этой проблемы — долбить и долбить в одну точку, — продолжал директор. В большой комнате, где проходила оперативка, было так тихо, что я услышал жужжание мухи, слепо бившейся о стекло. Чудновский вдруг шумно поднялся — высокий, с крупной головой, седой, по-стариковски обаятельный. Он, видно, собрался говорить. Заметив это, директор повернулся к Чудновскому, заметил: — Прошу вас, Алексей Алексеевич, только коротенько, в двух словах. Сейчас не время открывать дискуссию. Я коснулся этого вопроса попутно, у нас другая повестка. Не знаю, долго ли собирался Чудновский говорить, но, должно быть, слова директора он воспринял, как новый упрек. Заметно покраснев, главный инженер снял медленным жестом очки. — Не будет объясняться, — шепнул мне Терехов. И действительно, Чудновский, пододвинув стул, сел. — Есть вещи, которые не объясняются в двух словах, — бросил он. — Все, что можно, мы делаем. Но на реальной технической основе. Идея же с телевизором хотя и звучит благородно, но это… — Чудновский искал определение. На резкое он, видно, не решался, мягкое же не отвечало его настроению. — Он хочет сказать — афера, — комментировал Терехов. Чудновский произнес: — Это несерьезно. Можно загнать прожектора в трубу, но это будет прожектерство! — Он слегка улыбнулся, довольный своей шуткой. Я оглянулся. Многие, опустив головы, что-то писали или чертили в своих блокнотах. Опять стало слышно, как назойливо бьется муха об оконное стекло. На площади перед заводом прозвенел трамвай. Потом еще раз. Звук таял, как удаляющийся колокольчик. В конце оперативки Осадчий подозвал Терехова. — Прошу вас выяснить, что там происходит с цинковой ванной в цехе пильгерстана. Главный инженер собирался сам пойти в этот цех. И вот директор посылает туда не его — другого. — Сейчас же иду, — ответил Осадчему Терехов. Через минуту, когда мы вышли в коридор, Виктор Петрович сказал, недоуменно пожимая плечами: — Если директору угодно подчеркивать свою размолвку с главным инженером, в конце концов это его дело! Я чувствовал, что спор о промышленном телевидении — лишь часть более крупных разногласий между директором и главным инженером. «Что ж, конфликт не такой уж редкий, — подумалось мне. — Но не буду торопиться с выводами». Пока же я отправился вслед за Тереховым. Цех пильгерстана в годы войны первым перебрался с юга на Урал. Заводской ветеран, он стал родоначальником всех других цехов. И тем был мне интересен вдвойне. По пути Терехов рассказал, что цех не подвергся пока значительной реконструкции по той причине, что еще не придуман иной способ производства определенного сорта труб как только с помощью вращения заготовки на прошивном стане. Потом из этой заготовки — «гильзы» — ударным действием стальной пики на пильгерстане выделывают уже самую трубу — бесшовную, удивительной прочности, способную выдержать огромные давления — в триста и даже четыреста атмосфер. Такие трубы нам нужны для нефтяного бурения и в других отраслях промышленности. Вот и пильгерстан пока заменить нечем и его стальную пику, делающую два шага-удара вперед и один назад. В цехе мы неожиданно увидели Чудновского. Он приехал на машине раньше нас и стоял около печи. Багровые блики плясали на его лице, седые волосы казались выкрашенными в нежно-красный цвет. Главный инженер втолковывал что-то мастеру, сложив одну ладонь рупором, а второй закрывал глаза от света и жара. Словно бы выкристаллизовавшись в краснобелое облачко, жар плыл как нечто материальное над раскаленной добела заготовкой, грохочущей по рольгангу. Говорить на площадке, где стоит адский шум, невозможно. Чудновский и Терехов отошли к воротам цеха. — Алексей Алексеевич, что с ванной? Цинк все уходит? — спросил Терехов. — Нет, нет. Оказывается, протекала не сама ванна, ушел тот старый слой металла, который раньше подтек под днище — расплавился от высокой температуры. Но хуже, мой милый, другое. Захлебнулся один моторчик при перекачке цинка. Прошляпил мастер. Сейчас с этим возимся. — А как вы увидели? — Что? — Под днищем? — Как? Полез под ванну! Тут до этого никто не додумался и ждали старика — главного инженера, чтобы он встал на четвереньки. Вот так! — Чудновский засмеялся и подмигнул сначала Терехову, потом и мне, стоящему неподалеку. — Вас-то я, во всяком случае, избавил от этого, — заметил он. — Между прочим, многие так называемые сложные проблемы решаются именно таким способом: надо лечь на собственное брюхо и внимательно посмотреть окрест себя. Чудновский шутил, поддерживая в себе хорошее настроение. — Тут паника, — продолжал он. — А ларчик просто открывается. Подошел мастер, тот самый, у которого закозлило цинковый мотор. По привычке всех слегка оглохших людей он закричал так, будто сообщал о пожаре. Главный инженер ответил ему так же громко, напрягая горло, и зашагал с мастером к мотору. Вот тогда я, признаться, впервые подумал, что конфликт с Чудновским не так-то прост. Да и вряд ли я столкнулся здесь с фабулой ординарных сочинений на производственную тему: директор-новатор против консервативного главного инженера. Конкретная жизненная ситуация явно ломала привычные литературные коллизии. Хотя бы потому, что и директор, и главный инженер были одного возраста, немолодые, оба коммунисты и с большим стажем, оба заслуженные, с весомым и уважаемым жизненным опытом. «Да, не так-то просто все это, совсем не так просто!» — снова подумал я. У меня появилось желание поближе познакомиться с Чудновским, побольше узнать о нем. Помог мне в этом Терехов.
Мы поехали на дачу к Чудновскому втроем: Терехов с женой и я. Добираться туда было удобно — на электричке всего километров двадцать. Красивый финский домик весело поблескивал окнами в глубине сада, за курчавым валом из малины и крыжовника. Справа виднелись грядки с клубникой. Сразу было видно, что здесь живет опытный садовод. Человека, впервые попавшего сюда через калитку в металлическом из тонких трубочек заборе, удивляла большая медная труба телескопа на высокой треноге. Прибор, коему следовало покоиться в строгой тишине обсерватории, торчал на траве, между двух измазанных известью корявых стволов яблонь, вблизи терраски с цветными стеклами. Я заметил, что Веру Терехову, которая впервые попала к Чудновскому, это поразило не меньше меня. Поразило тоже и обилие книг во всех трех комнатах дачи. По словам хозяина, это была лишь коллекция последних двадцати лет. Когда Тереховы вошли в столовую, Алексей Алексеевич, заметив живой блеск в глазах Веры при виде книг, тут же повел ее вдоль книжных полок, любовно показывая то одну, то другую книгу. Вера заинтересованно рассматривала все эти справочники, технические книги, изданные на разных языках. Довершил ее восхищение стереофонический прослушиватель с двумя большими репродукторами-усилителями, прикрепленными к книжным полкам. Собственно, даже не сам прослушиватель. У Тереховых тоже имелась вся современная теле- и магнитофонная аппаратура с записями различных концертов. Вера сказала мне, что ей понравилась сама идея устройства на даче вот такой маленькой, уютной домашней консерватории, где можно создать стереофонический звук и слушать долгоиграющие пластинки — Баха, Брамса, Вагнера, Бетховена. — Вот включаю, когда устану от работы. Сижу один и слушаю, — заметил Алексей Алексеевич. — Тихо здесь, хорошо, можно сосредоточиться. Я очень люблю серьезную музыку. — Я тоже, — сказала Вера. Да, видно, Чудновский умел жить со вкусом, и круг интересов его был широк. Этот загородный дом скорее походил на обитель ученого, чем на дачу сугубо делового производственника, хотя и главного инженера на большом заводе. — Хотите посмотреть в мой телескоп? — предложил нам хозяин, и мы тут же согласились. Все, кто бывал у Чудновских, «отмечались» у этого телескопа. Отказать ему в этом маленьком удовольствии означало примерно то же, что и обидеть его. Чудновский получил телескоп лично от… Сталина, когда написал ему письмо о своих увлечениях астрономией. Это была вторая главнейшая страсть его, если первой считать трубное производство. Он щедро отдавал ей свой досуг, размышляя над теориями происхождения Вселенной. Точнее, он имел свою гипотезу и в связи с нею — длительную переписку с Академией наук, академиком Шмидтом, после его смерти — с его учениками, пока тем не надоела назойливость какого-то инженера, и переписка не прекратилась. Однако Сталин — это было вскоре после войны — сочувственно отнесся к просьбе астронома-дилетанта. Как и почему, трудно сказать, но, во всяком случае, дорогой импортный телескоп, который трудно было в те годы получить и научному учреждению, неожиданно прибыл в распоряжение главного инженера трубопрокатного завода. Вдоволь насмотревшись в телескоп, мы вернулись на террасу и в комнаты. Чудновский поставил на проигрыватель пластинку, уселся в глубокое мягкое кресло, прикрыл рукой глаза. Как это случается со мной нередко, слушая музыку, я думал тогда не о самой музыке, а как бы только в связи с нею, только лишь ею настроенный на свои думы и размышления. И думал я более всего о Чудновском. Мне как-то рассказали, что директор, бывший здесь до Осадчего, человек крутой и не очень воздержанный на язык, однажды, сорвавшись, повысил на главного инженера голос. Тот спокойно оборвал его: — Вы на меня не кричите, мы одного возраста и одного положения, я уже четверть века как работаю главным инженером разных заводов. И директор осекся. Чудновский, действительно, проработал в промышленности около сорока лет, из них двадцать пять — на руководящих должностях, многое видел и пережил, мог считаться одним из зачинателей нашей трубной индустрии. Я давно заметил, что люди, много пережившие, с трудом привыкают к этому понятию — история, им все кажется, что и молодость была недавно, и война-то, по сути дела, не так уж далеко позади, все свежо, остро в памяти. Я слышал, как Чудновский однажды пошутил, что, мол, по аналогии с известной книгой генерала Игнатьева он мог бы назвать свои ненаписанные пока мемуары «Сорок лет в трубу». Вообще слово «труба» своим двойным, тройным этимологическим смыслом открывала большой простор для упражнений заводских остряков. «Вылететь в трубу!», «Протрубить всю жизнь!», «Труба — твое дело!» — частенько подшучивали на заводе. Когда мы ехали на дачу, еще в электричке, Терехоз рассказал мне, что года три назад Чудновский потерял жену, с которой прожил тридцать пять лет (нелепый случай, автомобильная катастрофа). С трудом оправившись после этого удара, он заметно сдал, постарел. Моп размышления прервала Ирина — дочь Чудновского, которая работала врачом в заводской больнице. — Папа, — сказала она, войдя в комнату и поздоровавшись с нами, — ты замучаешь гостей своей музыкой. В конце концов люди приехали на дачу, в лес, хотят дышать свежим воздухом, двигаться. Ирине лет тридцать пять. У нее привлекательное лицо с довольно тонким рисунком носа и губ, с мохнатенькими бровями и крутым лбом в обрамлении коротко стриженных, но пышных каштановых волос, редкого оттенка голубые глаза с несколько удлиненным разрезом век. Чудновский, посмотрев на Ирину, поднялся: — Ты права, дочка, концерт окончен. Все собрались в лес полюбоваться раскинувшимся неподалеку озером. Место, куда мы вскоре попали, оказалось очень красивым. Бор совсем близко подбегал к берегу озера, солнце горело на янтарной коре сосен золотистым блеском, блики его лежали на воде, отсвечивали на камнях, гладко отполированных небольшим накатом волн. Дул свежий с горчинкой ветер, попахивающий сосной. А само озеро казалось громадной зеленой чашей с обломанными кое-где краями. Это там, где лобастые отроги гор вклинивались и придавливали у берега густую плоть воды. Я заметил, что вдали маячат несколько белых треугольников — яхты. Они казались птицами с длинными косыми крыльями. — Виктор Петрович, можно вас на минутку? — позвал Терехова Чудновский. Он стоял около высокой сосны, как раз там, где начинался песчаный берег и желтая полоса его резко, контрастно граничила с зеленой, травянистой. Я услышал, как, взяв Терехова под руку и уводя его в сторону, Чудновский заговорил: — Директор то, а? На последней оперативке… Что скажете? Этот блеф с телевидением! Я уж опускаю мелкие уколы в мой адрес… — Да, — неопределенно промямлил Терехов. — Более чем странно! Даже говорить мне не давал. Ну, просто театр одного актера, и этот актер — директор… — Ну, нет, — возразил Терехов, — зачем вы так! Непохоже… — Вы меня знаете, — продолжал Чудновский, — я человек не мелкий, не склочный, да и в возрасте едва ли не библейском, мудром. Но все же и меня обидеть можно… Он не договорил, к ним подошли женщины, это избавило Терехова от необходимости поддерживать, должно быть, трудный для него разговор. Погуляв с часок у берега, мы вернулись на дачу. А вскоре уехали в город. Тереховы ссылались на какие-то домашние дела, беспокоились за дочку, с которой попросили посидеть знакомую женщину. Мне показалось тогда, что Виктор Петрович не разделяет озлобления Чудновского против нового директора и поэтому не может быть совершенно искренним с ним. Вместе с тем он и не возражал всерьез, когда Чудновский критиковал директора. Не решался? Почему? Многое я понял позднее. Год от года, постепенно накапливались факты, складывались выводы. Я увидел в остром конфликте разных характеров глубокие закономерности, проявившиеся в непрерывном потоке жизни. Но, пожалуй, одним из самых кульминационных и важных этапов этого конфликта, да и всего послевоенного процесса развития завода, стала та примечательная история, которую по праву сейчас можно назвать спором через границы.
Спор через границы
Сначала это сообщение прозвучало по радио. Потом на завод пришли газеты. Они накапливались в парткоме, у директора, в цехах. Почти каждый день какое-нибудь новое известие. В Боннском бундестаге разразилась парламентская буря. Правительство ФРГ объявило об эмбарго на поставку в СССР стальных труб большого диаметра. На трубопрокатном заводе с возрастающим удивлением следили за тем, как заправилы НАТО стараются раздуть кадило эмбарго, перекинуть его дымовую завесу и на другие страны Атлантического блока. Бонн оказывал сильное политическое давление на Англию, стараясь удержать ее от продажи «стратегических» труб. В США откровенно радовались политике Аденауэра. Однако внутри парламентской фракции христианских демократов не было единогласия. Правящая фракция прибегла к процедурному крючкотворству. Официальные лица заявляли, что вопрос об эмбарго является в высшей степени политическим делом. Мировая пресса с интересом обсуждала сложившуюся ситуацию: новый шаг в холодной войне! Попытка затормозить экономическое развитие СССР! «Мы делаем России булавочный укол, а себе наносим удар ножом», — предупреждали свое правительство западногерманские экономисты. Журналисты подсчитали, что предприниматели ФРГ теряли на эмбарго заказы приблизительной стоимостью в сорок пять тонн золота. И все же озлобление политиканов взяло верх над интересами промышленников. Игнорируя мнение значительной части депутатов парламента, правительство ФРГ все же настояло на своем и добилось введения эмбарго. Это произошло 18 марта 1963 года. Весь мир начал следить за вспыхнувшим экономическим сражением между политиканами Бонна и металлургами-трубопрокатчиками Советского Союза. Но мало кто знал тогда в ФРГ, да и в пашей стране, что на передний край этой промышленной битвы выдвинулся расположенный за несколько тысяч километров от наших западных границ далекий Южноуральский трубопрокатный завод в Челябинске. Зимой 1963-го самые большие трубы, которые производил завод, имели диаметр 820 миллиметров. А дальним газопроводам были нужны трубы метрового диаметра. Прекратив поставку именно таких труб, ФРГ пыталась остановить продвижение наших газовых магистралей. Создавалась ли тогда действительная угроза строительству одной из трасс: Бухара — Урал? Да, могла бы возникнуть. Если бы… Если бы введение эмбарго, действительно, застало нашу промышленность врасплох. Запрещение вступило в силу 18 марта 1963 года. А 30 марта в Челябинске при огромном стечении людей праздновалось, правда, еще экспериментальное, еще, так сказать, не рабочее рождение первой большой уральской трубы диаметром 1020 миллиметров. Угроза из ФРГ застала челябинцев в разгар строительной страды. Она только повысила и без того огромное напряжение в труде, родила новый энтузиазм и темпы. Иначе и быть не могло. Уже давно начала наша молодая трубная промышленность сложный путь к вершинам мировой промышленной практики, к высшим достижениям этого древнейшего и вечно молодого «трубного искусства». Истоки этого пути — в тридцатых годах, в довоенных пятилетках. И чтобы увидеть ясно в исторической перспективе жаркое поле боя весной 1963 года в Челябинске, надо мысленно оглянуться на эти истоки, вспомнить военную юность самого завода и начало трубопрокатного дела в стране.Об инженере Юлиане Николаевиче Кожевникове я впервые услышал в Челябинске, как об основателе завода. До войны Кожевников был начальником Главтрубостали. Много лет он занимал высшие командные должности в трубной промышленности, и жизнь его, по сути дела, стала отражением полувекового пути, пройденного сначала небольшим, а ныне разросшимся отрядом людей, тесно спаянных профессионально, хорошо знающих друг друга на протяжении многих лет. Одним словом, он один из славной дружины трубников в огромной армии советских металлургов. Мне сказали, что Юлиан Николаевич хочет писать историю трубопрокатной промышленности. Он ныне на пенсии и наконец-то располагает свободным временем. Не первый раз я уже сталкиваюсь с тем, что важное дело — создание истории наших заводов и фабрик — становится в зависимость от личной инициативы и возможностей тех или иных уважаемых и заслуженных пенсионеров. Задуманное когда-то Горьким как широко государственное и в первую очередь писательское дело, как история не только заводов, но и человеческих судеб в годы великих свершений, оно, к сожалению, не дало нужных результатов. А вместе с тем уходят годы и люди, стареет и уходит от нас поколение ветеранов промышленности, которое могло бы рассказать так много интересного и неповторимого! Приехав в Москву после своей поездки на завод, я поспешил разыскать Юлиана Николаевича. И вот мы беседуем в его квартире, в громадном сером доме, который когда-то одним из первых поднялся у гранитного берега Москвы-реки. Мы сидим за столом и разбираем фотокопии документов, подобранных Юлианом Николаевичем. Их немного. Никто ведь всерьез и не озабочен ни в министерстве, ни на заводах собиранием документов для истории. Самое интересное среди увиденного мною — приказы Серго Орджоникидзе. Мой собеседник комментирует их. Точнее, документы служат ему лишь направляющими вехами воспоминаний, волнующих его, как и всякого человека, который может с высоты прожитых лет оглянуться назад в прошлое, отданное главному делу жизни. Юлиан Николаевич — коренная рабочая косточка. Дед его был мастером по паровым машинам, отец — вальц-токарем, сам он — рабочим, и все жили, работали в одном городе — Днепропетровске. Внук окончил институт и в том же цехе, где был рабочим, стал начальником. А сам цех тонкостенных труб под его руководством вырос в такой, что от него, как говорит Юлиан Николаевич, «пошла вся металлургия высококачественных труб». Ни в дореволюционной России, ни после революции в нашей стране тонкостенные трубы не производились. Просто не умели их делать. Целиком зависели от импорта, главным образом из Швеции. Не делали сложных труб, например, для самолетов — было время, когда мысль конструкторов-авиационников ориентировалась не на дюраль, а на стальные трубные конструкции. Не производили и более простых труб, предназначенных для автомашин. Их тоже ввозили из-за границы. В те годы только одна автотракторная промышленность потребляла 137 разновидностей труб. Подумайте только — 137 видов для сотен тысяч тракторов, и все за счет импорта, оплачиваемого валютой! Поистине удушающий золотой обруч стискивал горло тракторной, автомобильной, нефтяной, химической промышленности, которая развивалась в гигантских масштабах. Его надо было разбить, этот обруч, сбросить в бою. Да, в бою! С годами в нашем литературном обиходе эта метафора как-то примелькалась, стерлась, но тогда, в тридцатые годы, она звучала свежо и точно, выражая коренной смысл событий и истинный дух энтузиазма. «В боях за трубы». Это название книги, фотографию которой я взял из папки Юлиана Николаевича. Год издания — тридцать четвертый. Издана в Харькове. Вот статья Кожевникова и его портрет. Лицо молодое, большелобое, с резко очерченной линией рта, с милой ложбинкой над верхней губой, чуть-чуть курносое, серьезное, глаза смотрят пристально из-под густых бровей. Бывает, что тяжкие рубцы времени резко меняют лицо человека. Но есть и такие лица, которые долго сохраняют ясный лик молодости — не счастливый ли то знак устойчивости характера и мироощущений? Неважно, что нет ныне у Юлиана Николаевича буйной шевелюры, седой ободок волос еще больше обнажил нависший над глазами лоб и нет былой угловатости, округлились, смягчились черты лица, а все же, чувствую я, жив в человеке, любовно перебирающем старые фотографии, комсомолец тридцатых годов, «энтузиаст овладения новой техникой», как сказано в подписи под портретом. — Нас никто не учил, учились сами, — говорит Юлиан Николаевич, — срывались, ошибались, мучились и снова учились. А иного пути не было. Никто бы не подарил нам этой науки. И опыта. И патентов. Все сами. Без иностранной технической помощи. Было время, когда трубопрокатный цех завода имени Ленина в Днепропетровске являлся и единственной производственной базой, и всесоюзной лабораторией трубной новизны. — А как мы размахивались в экспериментах! — вспоминал Юлиан Николаевич. — Каким шли широким фронтом поиска! От фигурных крупных труб до капиллярных, диаметром в каких-нибудь пять миллиметров и полумиллиметровой толщины стенки — ювелирная работа! Сначала мы только несколько ослабили импорт… Хромомолибден… хромоникель… хромовольфрам… За каждым из таких звенящих слов — рассказы о том, как мучительно трудно открывалась желанная дорога к самостоятельности. Я уверен, не написанные и не исследованные еще никем интересные повести таятся за каждым названием такой новой марки стали. 28 ноября 1933 года нарком Орджоникидзе издал приказ «Об освоении производства автотракторных труб». Там были такие строки: «…предприятиями черной металлургии было принято к освоению 127 позиций труб из 137, потребляемых автотракторной промышленностью, из коих 93 ранее в Союзе не изготовлялись… Отмечая это достижение, создающее базу по снабжению автотракторной промышленности трубами внутрисоюзного производства, объявляю благодарность…» И далее — длинный список фамилий мартеновцев и трубопрокатчиков. Отныно тракторы и автомашины стали делаться целиком из отечественных деталей. Работал в те годы в Харькове рано погибший при катастрофе конструктор Константин Алексеевич Калинин, создавший самолет-гигант «К-7». Кожевников дружил с ним, вместе они создавали первые легированные тонкостенные трубы для самолета. Подобно своему крылатому собрату, самолету-гиганту «Максим Горький», «К-7» погиб в полете. Но трубы выдержали самое жестокое из возможных испытаний — испытание катастрофой. И остались целы. Оказались крепче шведских. И вот новый приказ Орджоникидзе: «….Осевые трубы к легким самолетам и гнутые полуоси к тяжелым изготовлялись из хромоникелевой стали исключительно в Швеции, которая по очень высокой цене поставляла их нам… …Особую сложность и трудность освоения представляло производство полуосей для тяжелых самолетов… Теперь трудности освоения преодолены. Отмечая достигнутые успехи в деле освобождения от импорта в абсолютной сумме за 1933 и 1934 гг. на 10000000 р. и поднятие обороноспособности нашей страны, объявляю благодарность и приказываю премировать следующих работников…» Далее снова шли списки трубопрокатчиков. Их много. Это были интереснейшие люди. А в войну трубы — это бомбы и минометы, орудийные стволы и «катюши». …Челябинск военной зимы сорок второго года. На пустынной площадке далеко за городом еще нет никаких цехов, лишь торчат полузанесенные снегом стропила недостроенного базового помещения для каких-то нужд наркомата. Пустырь этот пока именуется непонятным для непосвященного человека, полузашифрованным диковатым названием «Стройсемь». Осенью сорок первого Кожевников по поручению правительства руководил эвакуацией Днепропетровской и Никопольской групп трубных заводов. Положение в Приднепровье создалось крайне тяжелое. Кожевников находился в своем родном Днепропетровске и каждый день звонил в Москву: докладывал обстановку. Фашисты рвались к Днепропетровску. Кожевников предупреждал, что надо скорее эвакуировать завод имени Либкнехта, находящийся на левой стороне Днепра, ибо если вражеские части войдут в город и займут правый высокий берег, они начнут обстреливать завод. — Завод надо останавливать, — убеждал Кожевников. — Подожди, — отвечали ему из Москвы, — положение еще выправится. Ждали. На соседнем заводе имени Ленина эвакуация шла успешно. Вывезли и станы, и оборудование. А на заводе имени Либкнехта, к сожалению, случилось так, как и предвидел Кожевников. Противник занял город и с правого берега осыпал цехи шрапнелью. Демонтаж шел под огнем. Люди гибли на заводском дворе. И все же часть оборудования вывезли. Остальное привели в негодность. Тем временем еще южнее, в Мариуполе, сложилась такая же грозовая ситуация. Приказ об эвакуации завода на Урал пришел, когда немцы уже стояли близ города. 18 сентября 1941 года здесь остановились прокатные станы. Но и подача железнодорожных вагонов к городу почти прекратилась. В Мариуполе — железнодорожный тупик. Эвакуация морем в планах не предусматривалась. Начали переадресовывать угольные составы. Уголь сбрасывали на землю, в вагоны грузили прокатное оборудование. Негабаритные, как говорят железнодорожники, махины станов высоко поднимались над платформами. Работы по эвакуации привалило столько и такая кругом царила суматоха и запарка, что директор завода Михаил Федорович Щербань и главный инженер Сергей Алексеевич Фрикке едва не прозевали тот момент, когда немецкие мотоциклисты уже начали въезжать в западные ворота завода. Фрикке вскочил в пожарную машину, совершенно случайно задержавшуюся на территории, и на этой последней машине выехал через восточные ворота, оставив за своей спиной грохот взрывов, клубы пыли, пламя разгорающихся пожаров. На коленях у Фрикке лежали чертежи, схемы им же заминированного завода, через плечо висела сумка от противогаза, в которой не было противогаза, по зато лежал сигнальный экземпляр его новой книги по теории проката. Оборудование завода пошло на восток и на юг. Противник бомбил железные дороги. Менялись маршруты, пересоставлялись эшелоны. Многотонный маховик от пильгерстана попал в Баку, его погрузили на судно, а судно затонуло. Крупный ротор приводного электрического мотора мощностью в 3500 лошадиных сил, будучи негабаритным, зацепился где-то за мост и с поврежденной обмоткой вместо Урала попал в город Сумгаит. Но заводу надо было жить, устраиваться на новом месте, на площадке «Стройсемь» под Челябинском, надо было срочно начать производство труб. Зимой 1942 года здесь встретились люди, которым предстояло в кратчайшие сроки пустить первый стан эвакуированного на восток завода. Это были Щербань и Фрикке, главный механик Михаил Иванович Матвеев, начальники будущих цехов Казаков, Мотрий, сын Матвеева Юрий Михайлович и бригада Наркомчермета, руководимая Юлианом Николаевичем Кожевниковым. Жилья для рабочих не было — рыли землянки. На Южном Урале климат суровый — зимой жгучие морозы. Плохо одетые люди работали по 16–18 часов в сутки. Не меньшая нагрузка выпала и на долю проектантов. Снабжение плохое, люди падали с ног, но чертежи приходили на стройку вовремя. Кожевников имел комнатку в общежитии ферросплавного завода, ночевал же большей частью прямо на столе в конторе. Не было времени даже съездить в общежитие. Незадолго до войны ему пришлось побывать во Франции, Бельгии, Италии. Отличные гостиницы, чистенькие заводы… Теперь было даже как-то странно вспоминать ту далекую сытую жизнь. В какую даль отодвинулось все это от площадки «Стройсемь», где рукавицы примерзали к холодному металлу, где люди и на морозе жили в палатках! Над пролетом монтируемого стана висел плакат: «Чтобы врага победить на войне, план выполняй вдвойне и втройне!» Три года полагалось на строительствотакого завода по нормам. Его возвели за полгода. Как это вышло, трубники удивляются до сих пор… Цех готов. Но где взять мощный мотор к стану? Ведь он уникальный! В конце лета на площадку прилетел нарком Тевосяп. — Где пильгермотор? — сурово спросил он у главного инженера. Фрикке развел руками. Он не знал точно, никто не знал. — Остался там! — неопределенно махнул рукой Фрикке. — Остался! А ты зачем приехал? И Тевосян, подойдя к инженеру, резким движением надвинул ему кепку на глаза. Фрикке не обиделся на вспыльчивого наркома, понимая его состояние и глубоко уважая этого умного руководителя. А если бы и обиделся, что это изменило бы?.. Фашистские части рвались к Сталинграду. Горные егеря гитлеровцев уже стучали коваными каблуками по тропкам, ведущим к перевалам Главного Кавказского хребта. — Поезжай в Мариуполь за мотором, — сказал Тевосян, не глядя в лицо собеседнику. Сказал серьезно. Фрикке даже не ответил, что там немцы. Разве Тевосян не знал этого? Шли дни. Пожалуй, не было даже в войну других таких месяцев, когда бы, как осенью сорок второго, понятие «время» стало полным синонимом жизни, когда опо, неумолимое, поистине отсчитывало часы истории. Выиграть время! Обязательно! Но как? Как пустить стан без маховика и основного приводного мотора? Наконец решились взять мотор от другого механизма, от блюминга Нижне-Тагильского завода, и пустить стан. Риск? Конечно! Но оправданный. Запросили Гипромез в Москве. Пришло несколько рекомендаций. Судя по одним — пускать можно, по другим — нельзя. Кожевников, мучимый сомнениями, позвонил Тевосяну. — Решай сам, — ответил Иван Федорович. — Ты на месте, ты хозяин. В октябре, за несколько дней до пробного пуска, в Челябинск прилетел замнаркома Райзер. Ходил по площадке мрачный, озабоченный. Потом уехал на Магнитку, оттуда позвонил ночью Кожевникову. — Мне сказали электрики, что они дают голову на отсечение — стан не пойдет. А ты уверен? Можно ли пускать? — Будем пробовать, — сказал Кожевников. В ту же ночь начали. Стан немного покрутился и остановился. Мотор не тянул. В цехе сгустилась зловещая атмосфера катастрофы. Но ошибку все же решили искать. И нашли. Когда исправили электросистему, стан заработал. Катали всю ночь. Сначала легкие трубы, потом все более тяжелые. Удивительнее всего было то, что стан работал… без маховика! Якорь мотора служил и маховиком. Такого еще не случалось в мировой практике пильгерстанов. Через некоторое время позвонил Тевосян. Спросил у Кожевникова: — Кто автор безмаховичной работы пильгерстана? Вот уж и научный термин появился, обозначавший новаторство, родившееся в силу крайней и острой нужды. Юлиан Николаевич задумался, ответил растерянно: — А черт его знает, кто автор. Тут такое было… Не заметили! Все думали, все мучились, каждый что-либо предлагал. И Щербань, и Фрикке, и Матвеев. Но Тевосян продолжал допытываться: — Не Гипромез ли? Кожевников возмутился: — У меня сохранились телеграммы. Одно заключение — налево, другое — направо. Я вам докладывал! — А Гипромез рапортует по-другому, — заметил нарком. — Ну, не знаю, — вздохнул Кожевников. — Я думаю, главный автор — завод. Все мы тут. И товарищи из Гипромеза. Дело артельное. Титул основателя завода как-то прилепился к Кожевникову позже. В сорок втором на его плечах лежала должность начальника Главтрубостали. Когда за чертой фронта остались все южные заводы, в главный бастион трубной индустрии превратился город Первоуральск. Он вобрал в себя все — и оборудование эвакуированных на восток предприятий, и людей. В цехах висели знамена южных заводов, как знамена дивизий, побывавших в бою. Бывшие директора заводов становились начальниками цехов. Первоуральский новотрубный превратился, по сути дела, в завод заводов. Директором стал Осадчий. Это ему каждый день и утром, и вечером звонили из Москвы из Государственного Комитета Обороны. Сколько сделано труб для минометов? Когда отправлены эшелоны? Час, минута? Прямо в цехе стоял паровоз с вагонами, куда грузились трубы. На вагонах пункт назначения — «Москва». Первоуральский в те годы ежесуточно давал тысячи стволов минометов. Можно себе представить, чего стоил здесь каждый час труда для фронта! Но потрясающая трудовым героизмом летопись этого флагмана трубопрокатной промышленности в военные годы — особая тема. Здесь же необходимо сказать еще только об одном. В Первоуральске впервые громко зазвучало в семье трубников имя Якова Павловича Осадчего. Пятнадцать лет жизни и часть своей души он отдал Первоуральску. Приехав сюда в тридцать восьмом, застав здесь два цеха, он уехал в пятьдесят четвертом и оставил десятки цехов. Было вокруг завода несколько бараков — вырос большой город. Осадчий получил ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, дважды был удостоен Государственной премии. Сложный, в чем-то противоречивый и вместе с тем очень цельный образ Осадчего-директора сложился в Первоуральске. Со своей замминистровской должности Осадчий снова хотел вернуться на родной завод. Это естественно. — Все замечательные кадры юга я оставил там, в Первоуральске, — говорил мне как-то Яков Павлович. — Какие специалисты! Золотые люди. Золотые руки. Даже получив назначение на Челябинской трубопрокатный, Осадчий не оставлял попыток вернуться в Первоуральск, правда, уже не столь активных. Об этом мне рассказывал не он, другие. Но по-человечески я понимаю и такое. Руководитель на новом месте производит сразу великие перемены только в плохих романах. В жизни действия нового директора часто напоминают медленное движение айсберга, три четверти которого до времени скрыты глубоко под водой. Осадчий появился на Челябинском трубопрокатном как четвертый директор. И начал с того, что довел до конца недоделанное его предшественником. Прежде всего достроил дома в поселке, раздвинувшем хаос мелких домишек и сараев на берегу огромного, голубоватого озера Смолино. Расширил и достроил стадион и рядом с ним клуб, стоявшие недостроенными на берегу и напоминавшие развалины древнеримского цирка с колоннами и каменным полукружием трибун. Поставил рядом с клубом две новые столовые, ресторан, оборудовал пляж, яхт-клуб. Там, где раньше шныряли в кустах рыболовы, теперь вытянулся приозерный бульвар, право, украсивший бы любой приморский городок. Кто-то пустил тогда по заводу шутку: «Новый директор ищет путь к сердцу рабочего через его желудок». Шутки бывают разные. Эта звучала по-доброму, с оттенком уважения. Директор круто занялся делами жилищными, снабжением. Многое добывал для завода: от холодильников до автомашин. Весной, когда в городе нигде нельзя было достать апельсины, только на трубопрокатном продавали рабочим эти рыже-золотые шары, веселые, ароматные, их просто подержать на ладони — и то удовольствие. Не так много в стране заводов, имеющих свои здравницы на Кавказском побережье. А новый директор начал строить спальный корпус в Сочи. Нашел деньги, добился разрешения. В этом уже чувствовался размах той щедрой заботы о рабочем человеке, которой здесь не были избалованы. Правда, и времена прежде были более суровыми. Да, хозяйская жилка у четвертого директора была, как говорится, налицо! И она понравилась людям. Но пока проступали лишь отдельные, хотя и любопытные штрихи портрета человека. Неизвестно было, куда все повернется. Не выродится ли линия четвертого директора в делячество хозяйственника, у которого государственный горизонт конусом сошелся только на его заводе? Бывает ведь так. Недаром говорят, что иные наши недостатки суть продолжение наших достоинств…
«Дело об афере»
Приемная Осадчего — на третьем этаже внушительного здания заводоуправления. Чтобы попасть в нее, надо пройти сначала через тихий угол коридора, минуя несколько комнат референтов слева и справа, затем большую комнату секретаря. Из нее уже в кабинет ведет двойная, обитая кожей дверь. Открыв ее, вы попадаете в просторную, продолговатую комнату с белыми занавесками на окнах, шкафами из красного дерева, с красивой и дорогой модной люстрой, висящей над традиционным столом заседаний. Рядом с ним стоит еще один, маленький, для селектора и трех телефонных аппаратов. Кабинет внушителен. Уютен. Пожалуй, еще и величествен. Он отражает лицо завода, его масштабы и значение, а о том, чтобы это эмоционально ощущалось, позаботился бывший директор. Осадчий ничего здесь не менял, кабинет был удобен для работы. Зато все другое, оставленное Осадчему в наследство, подверглось критическому пересмотру. И прежде всего новый, самый большой цех. Директор предложил его вдвойне расширить. Как? Опять реконструкция? Но трубоэлектросварочный только-только пустили после многонедельных мук настройки и отладки! Новенький, чистенький, красивый, он радовал глаз, вселял гордость в душу строителей, проектировщиков. И впереди еще столько работы, чтобы заставить цех набрать нужный темп, подняться до проектной мощности. Можно понять тех, кому причиняла боль уже самая мысль о том, что новенький цех надо реконструировать и, не воспользовавшись вдоволь сладкими плодами победы, вновь окунуться в бетонную пыль, железный скрежет и сумятицу всяких строительных и переделочных работ. — Страшно подумать, что его надо будет остановить минимум на год! — ужасались противники реконструкции. Они были против: и главный инженер, и его заместитель. Осадчий вдруг ощутил упругую волну сопротивления, почувствовал мощный заслон из тех самых рук, которые должны были ему помогать во всех заводских делах, во всех начинаниях. — Цех мы останавливать не будем, новую линию можно поставить на месте склада, который сейчас фактически пустует, — убеждал он. Однако это не разрешило спора. Случается порой такая психологическая коллизия, которая, как туман над полем. Знаешь, он вот-вот пройдет, рассеется, но пока висит в воздухе мутной пеленой, застилает глаза. Что бы ни говорил Осадчий, а фактом оставалось то, что он на заводе человек новый, а те, кто ему возражал, начинали здесь с нуля, с зимы сорок второго. Он приехал лишь принимать трубоэлектросварочный, а они его выстрадали и построили. Ни разу не брошенный прямо в лицо, но от этого не менее ощутимый, спрятанный за каждой репликой все время растворялся в спорах горький привкус упрека: «Еще бы! Тому, кто не строил, легко крушить, ему не дороги наши успехи! Известно: новая метла чисто метет!» Осадчий мысленно отбрасывал эти упреки, сметал их, как мусор с души, который может сбить с толку, увести от главного…Совещание было не первое и не последнее. И, как на прежних, здесь накалились страсти, обозначились острые грани конфликта. Спор шел в Южноуральском совнархозе, размещавшемся в массивном песочного цвета здании, фасадом выходящем на живописный бульвар. Я зашел сначала с Тереховым на этаж, где размещалось металлургическое управление, ведавшее трубными заводами нескольких уральских областей. Потом вместе со специалистами этого управления и заводскими работниками прошел к кабинету председателя совнархоза. Еще в приемной председателя, пока люди собирались, и разговор касался то того, то сего, только не самого существенного, Осадчий вдруг, казалось бы, вне прямой связи с повесткой совещания, вспомнил, как здесь же, в совнархозе, работал однажды экономический семинар для директоров заводов. Он был, по его словам, поражен, что сам председатель читал лекции по организации производства с расчетом на… малоопытного директора предприятия. — А ведь наш председатель — умный человек, — сказал Яков Павлович, — значит, в том была нужда. Были такие директора, которых приходилось учить элементарному: как управлять заводом, с чего начинать рабочий день, чем заканчивать. Удивительно? Еще бы! У меня даже температура поднялась дома после этого совещания. Так разволновался! — признался Осадчий. — Вот я работал еще при Серго, — продолжал он. — Как у нас было? Если нужен директор на новый большой завод, подбирают человека с опытом, который уже поработал директором лет десять. А на смену ему выдвигают его же главного инженера. И выбирают-то даровитых людей с предприятий всей страны, а не только в совнархозовской епархии. Он немного помолчал, потом живо продолжал: — А сейчас нас во многом спеленали. Вот, например, научно-исследовательские институты ведут на заводах свои работы, получают на это средства, но мы не властны влиять на то, чтобы их исследования как-то помогали заводу. Или того лучше: директор не может уменьшать количество рабочих, а потом увеличивать, если этого требует обстановка — штатное расписание тут же сократят. Вот мне летом нужно пятьсот строительных рабочих, но чтобы взять их, я вынужден весь год держать пятьсот бездельников согласно штатному расписанию. И даже добавить зарплату одному толковому работнику и сократить двух бездельников тоже нельзя. Не имею права. Помнится, он улыбнулся в этом месте, как бы извиняясь за то, что так беспощаден в своих суждениях, сказал, что иначе не привык и не считает нужным. — Да, научиться быть директором нелегко… Я сначала был заместителем, и то стоил государству немало денег, пока набрался опыта. Ведь директор — это все: кадры, производство, жилье, ясли, столовые… И техническая политика, развитие завода — это тоже директор. Вот так! Осадчий умолк, потому что открылась обитая черной кожей дверь кабинета председателя совнархоза. Мы все прошли в кабинет. А я продолжал думать над словами Осадчего. Мне даже показалось, что он настраивал себя на боевой лад перед совещанием, отсюда и его мысли о правах и ответственности директора. Собравшихся было много, они заняли все места у стола заседаний. Вел совещание сам председатель — человек плотного сложения, широкоплечий, с умным лицом, сдержанный, если не сказать, скупой на слово и жест. В прошлом директор крупнейшего в стране металлургического завода, человек большого опыта, несомненно уважаемый, он вначале обошел едва ли не всех присутствующих, каждому пожал руку, сказал несколько слов. Вначале председатель произнес небольшое вступительное слово. Оно было спокойным и, казалось, доброжелательно объективным по отношению к различным точкам зрения. В выступлениях же Осадчего, Чудновского, проектировщиков из Гипромеза, сотрудников научно-исследовательского института сразу же определились две главные стороны одной большой проблемы. Первая касалась масштабности завода. Каким он должен стать? Средним, выше среднего или заводом-гигантом, сосредоточившим в своих цехах огромные производственные мощности? За рубежом мало заводов-гигантов, полностью специализирующихся на производстве труб. На это особенно напирал Чудновский. Об этом упомянул и председатель совнархоза. Сосредоточение в одном месте огромных мощностей, наверное, может создать в будущем известные затруднения с транспортом. Какое же количество металла надо каждый день доставлять на завод и сколько эшелонов труб отправлять? Но, с другой стороны, кто может оспорить преимущества завода с такими станами и такой автоматизацией поточных линий, которые позволяют создать наилучшую технологию, принесут высшие скорости прокатки труб, в том числе и невиданных до сей поры размеров? Трубы-гиганты могут родиться только на заводе-гиганте. Это был главный довод Осадчего. Он обосновывал его с присущей ему энергией, напористостью и страстью убежденного человека. Он говорил искренне. Искренняя убежденность впечатляет в технических спорах не меньше, чем в поэзии. Но, странное дело! Бывает, что люди произносят порою одни и те же слова и даже лозунги, но вкладывают в них противоположный смысл. Осадчий говорил товарищам: — Это движение вперед, подготовка к тем новым высоким рубежам, которые наверняка поставит перед нами жизнь. — Это гигантомания, вредная и уже выходящая из моды, — возражали его противники, и горячее всех Чудновский. Между прочим, главный инженер упомянул и о военной опасности. Если завод-гигант будет хотя бы на какое-то время выведен из строя, это пагубно отразится на экономике страны! А три средних завода создают в этом отношении известную гарантию. — Главная гарантия в том, чтобы не допустить остановки завода — ни гиганта, ни среднего, ни на день, ни на час! — крикнул со своего места Осадчий. Там, где все очевидно, не возникает ни споров, ни конфликтов. Когда Осадчий во второй раз взял слово, он опять заговорил о том, что большие и даже огромные трубы вскоре понадобятся стране, надо готовиться в этому. — Вот мы, товарищи, призываем беречь каждый грамм металла, каждую копеечку народного добра. Это правильно. Но надо беречь и миллион! Я убежден, что реконструкция некоторых наших цехов может избавить государство от строительства новых заводов. Да, именно так! Конечно, реконструкция тоже требует денег, — продолжал он, — но значительно меньше, чем строительство нового завода… Чудновский в принципе не оспаривал эту мысль. Ее и трудно было оспорить. Но он возражал против реконструкции именно трубоэлектросварочного. — Яков Павлович, проблема больших труб — дело не заводского масштаба, а общегосударственного, — повернулся он к директору. — Не нам ее ставить, не нам решать. — Почему? — пожал плечами Осадчий. — Потому, что на заводе, в наших условиях, мы с этим не справимся, и затея эта — прожектерство, попахивающее аферой! Да, Чудновский произнес вслух это слово — афера! Я видел, как вздрогнул Осадчий. Он как раз закончил выступление и возвращался к своему стулу. Слова Чудновского словно бы хлестнули его по спине. Яков Павлович даже остановился и, остановившись, посмотрел в лицо тому, кто бросил ему этот упрек. Постоял в мертвой тишине, вздохнул и не торопясь прошагал к своему месту. Мне показалось тогда, что резкость позиции Чудновского, не остановившегося перед прямым обвинением в прожектерстве, произвела на некоторых известное впечатление. Порою ведь в таких публичных дискуссиях эмоциональную силу приобретает не столько то, что говорит оратор, сколько то, как он это говорит. А доводы Чудновского выглядели логичными и, я бы сказал, вескими, особенно тогда, когда он перешел ко второй части возникшего спора и заговорил о металле, о стальном листе, необходимом для трубы «1020». — В стране нет пока широкого стального листа, из которого можно делать большие трубы, — утверждал главный инженер. Осадчий кивком подтвердил — это так. — Нет и соответствующих станов, — продолжал Чудновский. Это тоже было верно. Сначала лист, потом станы и трубы — так прозвучала формула Чудновского. Казалось бы, куда как логично! И естественно, что в своих выступлениях несколько проектировщиков частично или полностью согласились с Чудновским. Речи их звучали, как предупреждения людей разумных, осторожных, мыслящих хрестоматийно правильно. Но эти речи не поколебали Осадчего. И в третий раз он взял слово. Меня поразило упорство, с каким он повторял, словно бы стараясь врубить в сознание всех свою формулу: сначала станы, а потом лист, и мы выиграем время! — Лист появится, — убеждал Яков Павлович. — Будет нужен — значит, появится. Жизнь потребует — и промышленность ответит: «Есть!» Терехов, слушая Осадчего, произнес: — Ну и кремень мужик! — и трудно было определить, чего больше было в этом восклицании — удивления или восхищения. Я тогда, на совещании, и позже не раз вспоминал формулу Осадчего, определившую всю его позицию в конфликте. Был ли во всем этом риск — забежать вперед, потратить огромные деньги, построить новые станы, линии и… оставить их без листа, без необходимого металла? Я спрашиваю себя и отвечаю. Да, по-видимому, был риск. Но известная доля смелого риска и афера — это не одно и то же. Далеко не одно и то же! Разве жизнь сразу выдает нам абсолютно верные решения, не влекущие за собою каких-либо отрицательных факторов? Существует в конце концов диалектика. Диалектика, и в ней закон единства противоположностей. Примерно в таком духе высказывался в заключение и председатель совнархоза. Он отметил, что обмен мнениями был весьма полезным, и, видимо, эта дипломатическая формула скрывала желание руководителя совнархоза еще раз взвесить все, подумать. Конечно, такие вопросы не решаются с кондачка. Однако симпатии не скроешь, и мне показалось, что председатель сочувствовал позиции директора трубопрокатного.
Когда Осадчему не удавалось по разным причинам побывать в заводе, как здесь говорят, то есть в цехах, проехать в дальние уголки его на машине, обязательно где-то пройтись пешком и побеседовать с рабочими, такой день Яков Павлович считал для себя неудачным. Бывать в цехах, вышагивать не один километр по длинным пролетам, «дышать» «заводом — все это с годами стало привычкой, такой же неизбывной и рефлекторной, как, скажем, чтение газет по утрам или слушание последних известий по радио. Правда, этот утренний осмотр завода не всегда оставлял одни приятные впечатления, случилось, где-то что-то недоделали, а то и не выполнили прямого распоряжения. Все подмечал острый глаз директора. Осадчий более всего не терпел обмана: провинился — признайся честно, не выкручивайся, не обманывай, ибо нет такой лжи, которая бы рано или поздно не вышла наружу. На лгунов у Якова Павловича суд был скорый и жесткий. Осадчий горячо любил свой завод. Директор, который не любит завод, ему порученный, вообще не директор. Но сказать, что все буквально нравилось Якову Павловичу на трубном, что он от всего был в восторге, нельзя. Не нравился ему, например, старый цех с пильгерстаном, где было и тесно, и слишком жарко, и очень шумно. Осадчий не мог дождаться, когда начнется его коренная реконструкция. Не любил он и старый мартеновский цех, построенный еще в тяжелые военные годы, с небольшими и уже изношенными печами, которые надо было все латать, ремонтировать, увеличивая то вместимость ковшей, то мартеновские ванны. Осадчий гордился тем, что его стараниями заводская территория, ранее захламленная, превратилась ныне в огромный цветник, и на обширных газонах, на клумбах, разбитых прямо возле цехов, — повсюду были цветы. Он помнит, как в первое время цветы эти вырывали, растаскивали. Приходилось высаживать их снова. На второй год рвали меньше. Еще через год — совсем мало. Но все же, когда случалось Якову Павловичу увидеть опустошенную клумбу, он мрачнел и готов был расспрашивать всех, не заметил ли кто того негодяя, которому не дорога красота заводской земли. Но если и оставался у Якова Павловича на душе неприятный осадок после утреннего осмотра завода, он, чтобы снять этот осадок, направлялся в трубоэлектросварочный цех. Знал: там обязательно вылечит дурное настроение. Мне кажется это естественным для заводского работника, а для директора особенно. В конце концов цехи — как дети в большой семье. Один сын с трудным характером, и масса от него неприятностей, другой — молодец, гордость, отрада. Мы любим тех, кому делаем добро, и чем больше добра, тем сильнее эта любовь. Наша привязанность к работе, к вещам, к машинам, к цеху, наконец, не находится ли в той же зависимости? Наиболее зримо всю меру своих трудов, казалось Осадчему, он мог охватить взором с высокого моста главной эстакады трубоэлектросварочного цеха. Главная эстакада имела множество разветвлений — мостиков, и все они вместе образовывали как бы второй этаж цеха. Ажурные сплетения переходов напоминали мостики над машинным отделением корабля. В этом и было внешнее своеобразие цеха, его особинка. Когда я бывал здесь, мне тоже каждый раз представлялся образ корабля, даже с иллюзией присутствия на палубе, под которой внизу медленно ползут по пролетам трубы, озаряемые голубоватыми звездами сварки, гудят станы-машины, словно хотят сдвинуть корабль с места, увести отсюда вдаль. А корабль-цех все на том же своем месте, на вечной якорной стоянке. Осадчий любил постоять здесь, наверху эстакады, молча, забыв на время о делах и заботах, наблюдая жизнь цеха. Как-то в один из дней, вскоре после совещания в совнархозе, он поднялся на эстакаду, встал на свое любимое место, как раз над линией стана „820“, там, где сформованная на прессе труба со звоном перекатывается к рольгангам внутренней сварки. Положив руки на стальную балочку перил, долго смотрел вниз. Потом огляделся по сторонам и вдруг увидел совсем рядом с собою главного инженера. Чудновский тоже стоял тут в одиночестве, не замечая директора, наблюдая за работой линии „820“. Быть может, он проводил в цехе какое-то совещание и сейчас возвращался к себе в кабинет кратчайшим путем через эстакаду. Или же назначил кому-нибудь деловое свидание не в кабинете, а в цехе. Делал же так иногда сам Осадчий, на эстакаде ему всегда хорошо думалось. Как бы то ни было, а они встретились вот так вдвоем, без свидетелей и посторонних, на „капитанском мостике“ того самого цеха, о будущем которого столько спорили. „Капитан“ завода и его „старший помощник“. В последние дни они виделись главным образом на совещаниях, оперативках, всегда окруженные людьми. Сейчас же случай словно специально свел их для прямого разговора, и предчувствуя, что разговор выйдет крутой, Осадчий вдруг ощутил какое-то томительно-неприятное стеснение в груди. Он сделал вид, что первым увидел Чудновского. — Как самочувствие, Алексей Алексеевич? Я еще не видел вас сегодня. Проехал прямо в завод. — Спасибо. Самочувствие нормальное, — сдержанно ответил Чудновский. И тут же, переходя к делу, сообщил, что провел совещание в цехе с мастерами-калибровщиками. — О чем же? — Я вам докладывал — о качестве продукции. Не все трубы идут у нас высоким классом. Осадчий кивнул, соглашаясь с Чудновским, и вдруг, неожиданно даже для себя, резко заметил: — Делать надо, Алексей Алексеевич, а не совещаться. Ох, боже мой, сколько мы еще совещаемся, заседаем! Думаю, делать вот что надо: бракоделов ударить рублем, а хороших рабочих тем же рублем поощрить за высокий процент выхода газопроводных труб. Это будет по-хозяйски. Чудновский ничего не ответил, только слегка нахмурился. Потом очень серьезно сказал: — Давайте начистоту, Яков Павлович! Нам что-то мешает согласованно работать. Но что? Будто возник какой-то незримый барьер… — Этот вопрос я верну вам. Сам хочу его повторить. В чем же, действительно, дело, Алексей Алексеевич? Осадчий увидел, как Чудновский слегка зарозовел лицом, должно быть, волновался. — Два опытных инженера, много повидавшие на своем веку, — продолжал Чудновский, — два старых коммуниста. Ну, пусть мы разные люди по характерам, по привычкам. Но все же это не причина для дурных отношений? — Нет, не причина, — подтвердил Осадчий. — Обида? — продолжал размышлять вслух Чудновский, как бы испытывая на откровенность и себя, и собеседника. — На что нам обижаться, когда мы связаны общим делом, которому отдаем все силы? Вот вы, Яков Павлович, часто говорите о чувстве хозяина. — И Осадчий сразу почувствовал, одним толчком сердца, что Чудновский подвел его к тому главному, ради чего и затеял весь разговор. — Чувство хозяина… Но ведь оно предполагает еще и хозяйскую дальновидность, техническую зоркость. — Вот, вот! — встрепенулся Осадчий. — Верно сказано. Но в том-то и дело, что видится нам вдали, дорогой Алексей Алексеевич, разное! Да, разное. Поймите меня правильно, я говорю только о технической политике, — подчеркнул Осадчий. — Понимаю. И все же твердо остаюсь на своей позиции. Не буду повторять аргументов — они известны. Давайте начистоту, чтобы не держать никаких камней за пазухой. В открытую. Помните: „Платон мне друг, но истина дороже“? Осадчий усмехнулся: — Бросайте свой камень лучше в меня, чем туда, — он показал вниз на цех. — Я бы вам тоже ответил шуткой, — Чудновский потер указательным пальцем у виска, словно хотел что-то вспомнить или же просто уменьшить внезапно возникшую боль, — но, признаюсь, слишком взволнован и юмор меня оставил. Единственное, что хочу и должен сказать: обсуждение в совнархозе не удовлетворило меня. Не скрою, я отослал большое мотивированное письмо в Москву, в комитет, а копию — в ЦК партии. Не мог не отослать. — Вот как!.. — вырвалось у Осадчего. Значит, его главный инженер решился на борьбу. Что ж, само упорство Чудновского могло бы вызвать уважение, если бы их позиции так резко не расходились. — Это ваше право, — сказал Осадчий. — Если вы, конечно, по-прежнему уверены в своей правоте. — Уверен, — кивнул Чудновский. — Вот какие дела! — невесело вздохнул Осадчий. Продолжать разговор было уже нелегко. Чудновский бросил свой „камень“, и Осадчий мог предположить, что круги по воде от этого „камня“ разойдутся далеко. Пауза получилась длинной, неприятной. Кто-то должен был ее прервать. И это сделал Чудновский: — Поймите меня правильно, Яков Павлович. Никаких личных мотивов здесь нет… — Это сейчас и неважно, — оборвал Осадчий. — Вы начали борьбу, но в каждой борьбе есть своя логика. Иногда жестокая. Не обижайтесь потом, Алексей Алексеевич, если пружина этой логики, может статься, ударит ненароком и по вашей спине. — Или по вашей, — хмуро ответил Чудновский. Осадчий помолчал. Они исчерпали тему и выяснили отношения. О чем больше говорить? — Надо идти работать, — сказал Осадчий. — Тем более, что придется, видно, мне вслед за вашим письмом, Алексей Алексеевич, снова ехать в Москву. Чудновский не ответил, просто отвернулся. Затем они рядом молча прошли по эстакаде и, миновав контору цеха, уже на заводском дворе разошлись.
К новым рубежам
В Москве шел дождь. Когда "ИЛ-18" приземлился и с последним сердитым чиханьем заглохли моторы, вдруг стало слышно, как звонко, словно дробью по стеклу, барабанит ливень по дюралевой обшивке. "Прилетать в дождь — хорошая примета", — подумал Осадчий. Пассажиры, натягивая дождевики, торопливо тянулись к трапу, словно бы белольдистое здание аэровокзала, окутанное дождевой сеткой, могло, подобно автобусу, отъехать от них куда-нибудь. На площади перед аэродромом Осадчий поманил такси, коротко бросил: — Площадь Ногина! Вот и знакомый поворот на главное шоссе и транспарант, выглядывающий из леса: "Счастливого полета!" "Надо бы дописать еще: после счастливого завершения дел", — подумал Осадчий. Машина шла по гладкому, словно отполированному асфальту с роняющими слезы елками на обочине. А впереди, в дождливом тумане, первые белые квадраты и башенки новых зданий. Москва! На довольно крутом спуске от Старой площади к площади Ногина какой-то парень в шляпе ринулся перед самой машиной через улицу. Не сработай мгновенная реакция у шофера, зажегшего фары и круто повернувшего Вправо, угодил бы человек под колеса. Парень изобразил почти балетное движение, поднялся на цыпочки, и Осадчий заметил его ошалелые от напряжения и страха глаза, в то время как такси, лишь обдав его грязью, "с ветерком" пронеслось мимо. — Уф! — вырвалось у шофера. Осадчий оставался спокойным. Он только внимательно посмотрел на шофера, молодого парня, сообщившего, что у него это сегодня второй случай. — А случись, некуда было бы свернуть? — вопрошал водитель, все еще возбужденный. — Тогда все, этот парень пахал бы мордой асфальт… — Отсюда вывод, — заметил Осадчий. — Всегда имей место для маневра. Иначе тоже будешь пахать этот самый асфальт. А когда к нему прикладывают — больно бывает, друг! — Точно, — согласился таксист. Через несколько минут Осадчий уже поднимался в лифте и шагал по гулким, темноватым коридорам старого большого дома, давнего штаба тяжелой индустрии (еще со времен Серго Орджоникидзе) — дома, который всегда оставался этим штабом, как бы ни менялись вывески у парадного подъезда: наркомат, министерство, комитет… Сейчас в этом доме происходила очередная перестройка, во всяком случае, внешняя: менялась мебель в кабинетах, с дверей снимались старые таблички и укреплялись новые, где-то рубили перегородку, расширяя комнату. В коридоре пахло стружкой, масляной краской, влажным цементом, как на новостройке. Запахи эти живо напомнили Осадчему о перестройке нового цеха, которую он уже мысленно представлял себе во всех ее последовательных этапах. И вспомнив разговор с таксистом, он подумал, что у него-то самого не так уж пока много пространства для маневра. В комитете не говорили окончательно ни да, ни нет. Тянули, взвешивая доводы "за" и "против". Есть у нас такие работники, люди неплохие и знающие, для которых самое мучительное — принять решение. Всегда удобнее, если ответственное решение примет кто-либо другой. И будет за него отвечать. Потом эта привычка к многоступенчатым согласованиям. Конечно, согласовывать нужно. Но в том-то и дело, что порой дьявольски трудно найти человека, с кем можно согласовать решение. Да, именно так. Осадчий пробыл в комитете несколько часов. Положение не прояснилось. Яков Павлович чувствовал, что вызревает все определеннее, все более властно стучится в сердце решимость сделать еще один важный и ответственный шаг. Вернее, несколько десятков шагов от площади Ногина к Старой площади. Чтобы обдумать все окончательно, Осадчий решил погулять по городу. Когда приезжий выходит на шумный асфальтовый пятачок площади Ногина, куда он свернет отсюда? Направо, на Солянку? Вряд ли! Можно подняться к Старой площади и бывшей Маросейке, ныне улице Богдана Хмельницкого. Осадчий хотя и не москвич, но названия московских улиц с запахом старины знал и, привыкнув к ним, даже любил. Эта дорога идет по красивому бульвару. Слева — здание ЦК КПСС, в конце бульвара — старинный, в виде маленького бастиона, памятник гренадерам, павшим под Плевной. Но скорее всего приезжий пойдет налево. Так сделал в Осадчий. Он шел по Варварке, ныне улице Разина, что тянется по склону покатого кремлевского холма. Отсюда видна темно-серая, как срез свинца, вода Москвы-реки, и Зарядье, и Замоскворечье. Каждый шаг приближал его к знаменитому спуску от Красной площади к Кремлевской и Москворецкой набережным. Когда бы ни попадал в Москву Осадчий, летом или зимой, в мирные годы или военные, а уж Красную площадь не обходил никогда. О многом здесь думалось, многое вспоминалось. Как-то зимой, в военный год, вызвали Осадчего из Первоуральска в Москву получать орден Ленина в том самом большом кремлевском здании, зеленый купол которого и всегда трепещущее на ветру знамя хорошо видны с площади. Осадчий помнил, что очень нервничал, ожидая вызова, хотя что же могло случиться? Указ-то ведь уже был опубликован. И все же он волновался, как мальчик, и успокоился лишь тогда, когда Николай Михайлович Шверник мягко пожал ему руку, негромко и доверительно, как бы ему одному, пожелал успехов в работе и здоровья. И хотя Шверник примерно то же самое говорил каждому, Осадчий чувствовал себя растроганным, и эти слова привета прозвучали для него с какой-то особой интонацией. Так казалось ему, наверное, казалось всем. Чтобы понять это, надо было пережить военное время, нести его бремя, не отделяя себя от народа, от его труда и подвига. В день награждения Осадчий вместе с другими сфотографировался рядом со Шверником в Андреевском зале. Они сидели вместе — группа металлургов и двое летчиков, Герои Советского Союза, и группа партизан, и женщины-текстильщицы, молодые и старые, в скромных кофточках, ситцевых платьях той суровой поры. Человек, проживший на свете шестьдесят, приобретает в дар двойное временное зрение, когда настоящее легко опрокидывается в прошлое, а прошлое высвечивается резким светом настоящего. Сейчас Осадчий подумал о том, что та военная, вспомнившаяся ему на Красной площади битва за трубы, ныне в иных условиях и формах все же остается битвой за новые рубежи и свершения. И нечего бояться таких определений — да, битвой! С Красной площади Осадчий вернулся на площадь Ногина и оттуда поднялся вверх по бульвару, на Старую площадь, к зданию ЦК КПСС. В Центральный Комитет он обратился, предварительно собрав все необходимые материалы — расчеты, проекты, суждения, порою противоречивые, — заинтересованных организаций: Госкомитета, Гинромеза, Госплана. Вопрос серьезный. И решение, которое может быть по нему вынесено, должно иметь принципиальное значение. Оно предопределит во многом характер развития нашей трубной индустрии. Хотя речь пока идет только об одном цехе. Так был поставлен вопрос в отделе Центрального Комитета. — Подготовьтесь основательно, — сказали Осадчему. — Возможно, вас будут слушать на заседании. — Что же надо мне сделать? — спросил Осадчий. — Вы опытный человек, Яков Павлович, и знаете, что надо для такого случая быть во всеоружии фактов, расчетов и вашей непоколебимой внутренней убежденности. — Это я понимаю, — ответил Осадчий, — это ясно, по, может быть, мне следует вызвать украинских ученых из сварочного института? Пусть тоже защищают свое предложение. Речь шла об украинских ученых, выступивших с новой идеей. Они предлагали формовать большие трубы не из цельных листов, как раньше, — тогда понадобились бы листы более чем трехметровой ширины, ими страна не располагала, — а сваривать трубу из двух полуцилиндров, раздельно сформованных на прессе. Это было новшество мирового масштаба. Нигде никто так не варил большие трубы. Вокруг нового предложения возникли горячие споры. Выйдет — не выйдет? Осадчий поначалу тоже колебался. Но потом решительно склонился к поддержке нового, смелого метода. И не просто склонился, а начал активно помогать украинским и местным, уральским, энтузиастам. Он готов был предоставить им для экспериментов в заводском масштабе свои линии, свои станы. Теперь на эту новую идею тоже следовало получить добро. А она подтверждала реальность смелой формулы Осадчего: сначала — станы, потом — лист. — Ученых мы вызовем сами, — сказал Осадчему ответственный работник отдела. — А вот как насчет вашего главного инженера? Он нам писал. — Знаю, — ответил Осадчий. — И то, что вы не единомышленники, тоже знаете? — И это знаю. — А как Чудновский относится к идее украинцев? — спросил собеседник Осадчего. — Как относится? По пословице — отрубив голову, по волосам не плачут. Я хочу сказать, — пояснил он, — что если человек отбрасывает целое, то его уже не интересуют частности. Он-то ведь против реконструкции. — Понятно. А все же, как он, крупный специалист, относится к самой технической идее, к самой мысли, она ведь заманчива? — Как относится к самой мысли, не знаю. А к возможным хлопотам по внедрению, наверное, прохладно. Хлопоты-то лягут на его плечи. И на мои — тоже, — добавил Осадчий. — На то вы и руководители завода. Так вызывать или не вызывать Чудновского? Яков Павлович только неопределенно пожал плечами, что могло означать примерно следующее: прямых возражений у него нет, но и свидание в ЦК с Чудновским не кажется ему необходимым. Однако поняв, что от него ждут прямого ответа, после паузы сказал: — На нашем заводском уровне мы, вообще-то говоря, уже четко определили наши разногласия. Был такой разговор. Размежевались вполне определенно. — И надежд на достижение согласия во взглядах не питаете? — Нет, — подтвердил Осадчий хмуровато. — Тогда, может быть, и не стоит отрывать Чудновского от дела, — заключил собеседник. — Посоветуемся в Москве с работниками Гипромеза и Госплана. А вы, Яков Павлович, поживете немного в Москве? — Надо бы на завод, но что делать — поживу. Да и дела есть разные — в том же Гипромезе, и в плановых организациях, — ответил Осадчий.Приезжая в Москву, Осадчий всегда останавливался в гостинице "Москва". Гостиница — тот же дом, к которому можно привыкнуть. Яков Павлович старался выбрать себе номер на этаже повыше, с окнами, выходящими на Красную площадь и Кремль. Особенно приятно было летом постоять у открытого окна, наблюдая за потоками экскурсантов, которые всегда стекаются на эту главную площадь страны. В то лето темп бурной и строящейся Москвы проник за кремлевские стены. Осадчий хорошо видел из своего номера, как заезжали в Кремль грузовики со строительными материалами, а там, вблизи здания Верховного Совета, где Яков Павлович получал орден Ленина, поднимались в небо стальные конструкции Дворца съездов. Может быть, взгляд с высоты сам по себе психологически настраивает человека на более широкие, смелые, дерзкие мысли — во всяком случае, Осадчий не раз ловил себя на том, что здесь в гостиничном номере, стоя у окна, он с удовольствием думает о своих планах, о будущем завода. И часто после этих раздумий он звонил домой, в Челябинск, в киевский институт, чтобы снова и снова посоветоваться со своими работниками, с учеными. Иной раз для людей, уже принявших смелое решение, очень полезны вот такие беседы для самоутверждения в своей правоте. Вскоре Осадчего пригласили в ЦК партии. Запомнилась большая уютная комната приемной, в которой сидели вызванные на совещание. Осадчему сказали: "Ваш вопрос — тридцать второй", а это означало, что надо подождать своей очереди. Он прошел в соседний с приемной буфет, где можно было подкрепиться, по обнаружил, что волнение, если не убивает совсем аппетит, то ухудшает его. Волнуясь Осадчий все время спрашивал у товарищей, какой по очередности вопрос уже "прошел", хотя и был предупрежден, что, когда подойдет время, его вызовут. Сообщение, которое делал Осадчий, заняло не более получаса. Затем выступили представители Госплана, Гипромеза, украинского института. Председательствующий на совещании задал Осадчему несколько вопросов относительно сроков реконструкции, стоимости нового стана, поинтересовался, действительно ли смогут на заводе провести реконструкцию таким образом, чтобы не останавливать трубоэлектросварочный цех. — Да, конечно, — подтвердил Осадчий. — Мы не будем его останавливать. — Вы это твердо обещаете? — переспросил представитель Госплана. — Безусловно! — сказал Осадчий. Как это часто с ним бывало, он волновался лишь в преддверии какого-либо важного дела, доклада, выступления на ответственном совещании, но едва начинал говорить, как волнение уходило, он успокаивался, однако не расслаблялся, а, наоборот, внутренне собранный, острее реагировал на замечания, быстрее думал, больше запоминал. Вот и сейчас он запомнил все реплики, брошенные в его адрес, несколько вопросов, таящих в себе нотку недоверия. И, конечно, слово в слово то, что в заключение сказал секретарь ЦК. Секретарь ЦК вначале коснулся общих проблемразвития трубной индустрии, перед которой сама жизнь ставит сейчас большие задачи. Потом сообщил, что есть все основания надеяться в ближайшее время на громадное увеличение добычи нефти и особенно газа на вновь открытых месторождениях в Средней Азии, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири. От этих месторождений к промышленным районам, к различным городам страны будут прокладываться тысячекилометровые газо- и нефтепроводы. И не только по нашей стране, их протянут далеко за рубежи Советского Союза. Вот тут-то и понадобятся трубы большого диаметра. — Поэтому идея создания таких труб на Челябинском заводе с точки зрения наших перспектив — идея назревшая и по направлению своему современна, — сказал секретарь ЦК. Услышав эти слова, Осадчий вздохнул с облегчением, может быть, даже слишком шумно и заметно, обнаружив таким непосредственным образом свою радость. А председательствующий продолжал говорить о том, что наше плановое хозяйствование вовсе не исключает, а, наоборот, предполагает смелую инициативу снизу, которая служит побудительным толчком к изменению или усовершенствованию тех или иных народнохозяйственных планов. — Так вот и в нашем конкретном случае, — подчеркнул он. — Строительство новых станов для больших труб побудит металлургов выдать необходимый стальной лист или же, используя предложение украинских ученых, трубопрокатчики пока обойдутся с помощью того листа, которым располагает наша промышленность. Возможно, это и есть лучшее решение вопроса. — Пока лучшего нет, — подтвердил Осадчий. — Таким образом, — заключил председательствующий, — если нет возражений, будем считать, что решение о строительстве стана "1020" состоялось. Мне бы хотелось только подчеркнуть, и вам, Яков Павлович, надо об этом помнить, что этой реконструкцией мы делаем еще один шаг к освобождению от импорта труб большого диаметра. Только я хочу, чтобы меня правильно поняли, — добавил председательствующий. — Мы можем делать любые трубы, но это вовсе не означает, что в интересах международной торговли мы не будем у кого-то покупать, кому-то продавать определенные сорта труб. Тогда, когда это диктуется интересами и экономики, и политики. — Мы об этом помним, — сказал Осадчий. Конечно, в тот день, когда было принято решение о строительстве стана "1020", ни Осадчий, ни другие работники, присутствовавшие на заседании, не могли предположить, что вскоре правительство ФРГ объявит эмбарго на поставку труб большого диаметра. Политиканы из Бонна поторопили события. Но зато в свете этих событий инициатива челябинцев и решение, принятое в Москве, оказались безусловно дальновидными, они стали составной частью научного предвидения громадного разворота отечественной нефтяной и газовой промышленности. Осадчий покинул памятное ему заседание в доме на Старой площади с чувством огромного душевного подъема и сознанием несомненно одержанной победы. Теперь предстояло выполнить обещания, не уронить чести завода, доказать на деле свою правоту. И едва Яков Павлович вошел в свой гостиничный номер и стал собирать вещи, готовясь к отъезду, как к радостному его настроению стало примешиваться ощущение деятельной озабоченности, даже тревоги, заставившее торопиться в Челябинск: надо немедленно браться за дело. Вечерний "ИЛ-18" приземлился в Челябинске уже близко к полуночи. Для встречающих время неудобное, да Осадчий и не любил, чтобы его встречали. Обычно ждала только машина. Вот и сейчас он быстро шел от самолета к ограде аэровокзала, обогнав растянувшуюся по летному полю цепочку пассажиров, шел прямо к дверям, где его всегда ожидал Петрович — шофер. Чудновского Осадчий и не заметил бы, если бы главный инженер не окликнул его сам. — Вы? — удивился Яков Павлович. — Добрый вечер! Кого-нибудь встречаете, Алексей Алексеевич? — Уже встретил, вас, — ответил Чудновский и, как показалось Осадчему, немного смутился. Раньше он никогда не приезжал на аэродром, да и на заводе сам первым не шел к директору, ждал, когда тот позовет, чтобы сообщить московские новости. И если бы Осадчий не заметил на лице Чудновского непривычную тень смущения, он бы решил, что случилось что-то чрезвычайное. Все же встревожась он спросил: — Что-нибудь на заводе? — Нет, нет! Все нормально, — поспешил успокоить Чудновский. — Просто… Да что там! Просто захотелось поскорее узнать подробности совещания. Не утерпел, грешным делом! — признался он. — Это уже в машине. Хорошо? — предложил Осадчий. — Согласен! Ночное, почти пустынное шоссе на пути от аэродрома, быстрая езда и разгорающиеся на горизонте огни города обычно настраивали Осадчего на мечтательный лад, хотелось ехать молча. Но на этот раз он должен был рассказывать Чудновскому о совещании. — Много подробностей, Алексей Алексеевич, я вам не обещаю. Устал после Москвы и полета, — начал Осадчий. И это была правда лишь наполовину, дело, конечно, не в усталости: хотел пощадить уязвленное самолюбие Чудновского и решил пока опустить некоторые детали. — Я только самое главное, — предупредил он. — Хорошо, — покорно согласился Чудновский. Но даже рассказ о самом главном Осадчий закончил, когда "Волга" уже вкатилась на улицы города. — Вот так, в общих чертах, — сказал Осадчий. — Добро получено, дело за нами. Он мог бы добавить: "И за вами", ибо ему не было безразлично, как воспримет принятое решение главный инженер. Чудновский молчал всю дорогу. Откинувшись на спинку сиденья, он слушал, прикрыв веки. Минутами казалось, что он дремлет. Осадчий же говорил, почти не поворачивая к нему головы, пытаясь отгадать настроение Алексея Алексеевича, не вглядываясь в его лицо. После долгой паузы, которую теперь уже умышленно Осадчий не хотел прерывать первым, Чудновский, волей-неволей вынужденный ответить, сказал: — Мое мнение вы знаете, Яков Павлович, но теперь это уже не имеет значения… — Почему же не имеет значения? Это неверно. Мне сейчас даже ваше настроение важно. Идти-то нам одной неторной дорожкой. Плечом к плечу. — Решение состоялось, Яков Павлович, а я человек дисциплинированный. Значит, будем вместе работать. Вот все, — заявил Чудновский, но голос его прозвучал тоскливо и невесело. — Что ж, принимаю и эту формулу. По-моему, это разумно и по-деловому. А за встречу еще раз спасибо, — сказал Осадчий, уже вылезая из машины. Он помахал рукой Чудновскому и шоферу, когда "Волга" тронулась от подъезда и повезла Алексея Алексеевича к его дому.
Победа
Был когда-то рыжеватый, крутолобый парень вратарем в юношеской футбольной команде завода. В то время он слесарил в автогараже, а потом ушел учиться в техникум и практику проходил на заводе. После техникума закончил институт — и снова на трубопрокатный. Мастер, начальник смены, замначальника цеха — проходил обычную здесь для молодого специалиста лесенку восхождения. И довольно быстро стал начальником огромного цеха. Я помню нашу первую встречу. По пролету быстро шагал человек с простым, чуть-чуть курносым лицом, с веселым взглядом, который выражал живую общительность. Разговаривая со мной, Игорь Усачев как-то успевал боковым зрением видеть все, что делалось на линии. Вот заметил какой-то непорядок на стане, когда штанга сварочной аппаратуры, выставив вперед, словно щупальца, три кончика толстой электродной проволоки, приблизилась к переднему краю трубы. Вспыхнула электрическая дуга. Ее голубоватый язычок был виден лишь одно мгновение и тут же погас под порошком флюса. А через минуту труба поглотила и весь флюсовый аппарат. Когда бункер, похожий на тендер крохотного паровозика, выползающего из длинного тоннеля, показался в заднем конце трубы, Усачев вместе с рабочими нагнулся над ним с ключами и молотком в руках. Об Усачеве уже тогда говорили: хороший механик. Любопытное дело, я заметил на трубопрокатном да и на других заводах, что всякий начальник, как правило, имеет еще и второе, чисто профессиональное лицо: то он хороший механик, то электрик, то сварщик. Руководитель, так сказать, вообще, без крепкой специальности ныне не в большой чести. Игорь Усачев прошел все ступени восхождения, не перепрыгивая ни через одну. И хотя шел быстро, но все же основательно набирал на каждой ступени опыт, мастерство. Он всегда казался мне очень молодым, и в первую нашу встречу, и в последующие, через десять лет. Моложавость его лица, должно быть, своего рода зеркало молодости души и энергии, которая не иссякает, и увлеченности, без которой трудно много лет работать на заводе. Именно в силу этих качеств, а не только по должности Усачев в шестьдесят третьем стал одним из руководителей специально созданного на заводе штаба по строительству стана "1020". Представьте себе громадное, трехпролетное здание, пристраиваемое к основной таких же размеров коробке. Здесь одних металлоконструкций на четыре тысячи тонн. Осадчий обещал не останавливать действующие линии. Но как быть, например, со складом готовой продукции, куда идет поток труб и без которого цех не может жить ни минуты? Усачев и строители находят выход. Ломая обычный порядок, спешно сооружают сначала один пролет, куда переносят склад, а затем уж другие пролеты. Но главное, конечно, темпы. И согласованность строительства и монтажа. И механизация, и своевременное поступление сборного железобетона. Штаб объявляет соревнование комплексных бригад за право поездки с первым эшелоном труб на трассу газопровода Бухара — Урал. Многотиражка на заводе — она называется "Трубопрокатчик" — день за днем печатала на своих полосах героическую хронику строительных будней: 2 февраля. "На строительство стана пришли комсомольцы Челябинска. Молодежь лакокрасочного, часового заводов, хлебокомбината, педагогического училища. Ребята долбили грунт, убирали опалубку. Принесли плакат: "Пусть страна быстрее получит трубы большого диаметра". 16 февраля. "До пуска стана осталось чуть больше месяца. Строители и монтажники это прекрасно понимают. Бригада И. Д. Волкова выполнила трехсуточное задание за 16 часов. Бригады Г. Т. Князева и В. П. Сериченко сэкономили 20 дней на монтаже пресса-расширителя". 27 февраля. "Много хлопот доставляет сборочное устройство, которое складывает два полуцилиндра будущей трубы. В ударной работе здесь отличились сварщики В. Ф. Галанцев, В. И. Фролов, Н. Ф. Игнатов, В. И. Крючков, А. П. Шаповалов". 2 марта. "За небывало короткие сроки смонтирован участок формовки трубы. Здесь отличился Б. Телешов". 13 марта. "Битва за большую уральскую трубу продолжается. Главная задача сейчас — пустить станы внутренней сварки". 20 марта. Прошло всего два дня со времени принятия в Бонне решения об эмбарго. "Трубопрокатчик" сообщает: "Уже опробовано в горячем состоянии оборудование внутренней сварки". 30 марта. "Из заводской оранжереи Игорю Михайловичу Усачеву принесли большой букет живых весенних цветов, правда, обернутых в плотную бумагу, потому что на улице сильнейший мороз. Усачев торжественно вручил букет Виктору Галанцеву, рабочему, который сварил первые швы на первых трубах…" К сожалению, меня не было в Челябинске на пуске стана. Я не видал в эти торжественные часы Усачева, рабочих Колю Падалко, его друга Валентина Крючкова, стоящего у сварочного пульта. Но рядом с ними там находился Геннадий Королев, молодой рабочий и начинающий рабкор. Все эти дни Геннадий Королев вел записи. Затем он опубликовал их в своей многотиражке — искренний, взволнованный репортаж с рабочего места сварщика: "…Идет последний лист диаметром 529 миллиметров. Цех работает без остановки. И вот два часа мы занимались регулировкой роликов и кулис. Наконец-то стальной лист уже не лист, а полукорыто, как мы здесь его называем. Заготовка устремилась к прессу окончательной формовки. И в ту же секунду со стуком уперлась кромкой в пуансон. Сотни глаз следят за каждым движением заготовки. Все невольно ищут глазами начальника участка формовки Бориса Приходько. — Пошел, пошел! — кричит Приходько. Заготовка входит в пресс окончательной формовки. Приходько машет рукой машинисту — и пресс опускается. Наступает, пожалуй, самая торжественная минута! Правильный полуцилиндр не спеша, будто с достоинством, выплывает из стана и замирает. Приходько хватает мел и крупно, прямо на трубе пишет: "1020". Я вижу Игоря Михайловича Усачева. Лицо у него озабоченное. Усталые глаза говорят, что сегодня ночь была неспокойной, бессонной. — Ну, как дела? — спрашивает он у старшего мастера сварки Виктора Ермолаева. — Все в порядке, сейчас зажжем дугу и начнем варить, — отвечает тот. И вот вспыхивает пламя дуги. — Дуга! Есть дуга! — кричит Ермолаев электрикам. — Только убавьте напряжение. И заструилась с концов электродов тонкая, ослепительная нить. Хочется кричать: "Ура! Да здравствует первая труба! Вот она, долгожданная!" Закончив шов, Алексей Красильников поднимает голову. Кто-то уже выводит мелом на трубе огромными буквами: "Теперь Аденауэру труба!" За воротами цеха светает. Холод к рассвету еще больше усилился. Вот оно какое крепкое, ядреное, жгуче морозное утро большой уральской трубы…" Окончательное завершение двух очередей нового стана праздновалось в апреле. На завод пришло поздравление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Коллектив поздравили ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. 20 апреля, поздно вечером, прямо на квартиру к Осадчему позвонили из Софии. Там готовился очередной номер "Отечественного фронта", и корреспондент задал Якову Павловичу несколько вопросов: — Мы видели снимок трубы, на которой написано "Теперь Аденауэру труба!" Как появилось такое "приветствие" самонадеянному канцлеру? Осадчий вспомнил: — Это написали сами рабочие. Когда первая труба появилась на рольганге. Один из тех, кто был поближе, и написал этот ответ советских рабочих господину Аденауэру. — Яков Павлович, наши читатели хотят узнать, какие у вас успехи в производстве труб большого диаметра? — спросил корреспондент. — Успехи такие, — сказал Осадчий. — По нашим советским нормам стан "1020" должен строиться два года. А мы сделали его за десять месяцев. Обещали правительству пустить стан к первому апреля — и пустили. — Для чего предназначаются ваши трубы? — Через два-три дня первые эшелоны будут отправлены на магистрали Бухара — Урал и "Дружба". Мы поставляем трубы и социалистическим странам. Если бы корреспондент из Софии позвонил еще раз, несколькими месяцами позже, Яков Павлович мог бы сказать ему, что та самая газовая река с востока и из Средней Азии, для которой завод эшелон за эшелоном поставлял новые трубы, пришла в Челябинск и на завод, где был торжественно зажжен яркий газовый факел мира.Вскоре после пуска стана "1020" на заводе стало известно, что группа западногерманских журналистов, совершающих поездку по Средней Азии, Сибири и Уралу, намерена посетить и трубопрокатный завод в Челябинске. Телеграмма о приезде гостей легла сначала на стол Осадчего, затем он показал ее своим заместителям, в парткоме. Тогдашний секретарь парткома Николай Кириллович Горенко отнес телеграмму в редакцию заводской многотиражки: кому, как не местным журналистам, лучше всех знающим свой завод, следует подготовиться к встрече гостей! Редакция заводской многотиражки располагается в двух маленьких комнатах, рядом с завкомом. И, должно быть, это не случайно, потому что многие рабочие, идущие со своими предложениями, нуждами в профсоюзный комитет, тут же, до разговора с председателем или после него, заворачивают "на огонек" в редакцию. В первой комнате — машинистки, корректор, так сказать, "секретариат", во второй — литературные сотрудники, их всего двое, да еще ответственный секретарь и редактор. Я издавна питаю чувство профессионального уважения к скромным и мало кому известным труженикам заводской печати. Литературная слава редко балует их, да они, кажется, к ней и не стремятся, редко даже пишут большие статьи или очерки, зато полностью отдают себя будничной работе, борьбе с недостатками, упущениями, напоминают об обязанностях на фактах малых или больших — день ото дня формируют, воспитывают общественное сознание большого рабочего коллектива. Редактор "Трубопрокатчика", к которой пришел Горенко с телеграммой, Клавдия Ильинична Егорова работала в многотиражке не первый год. Она появилась на заводе немного раньше Осадчего, имея за плечами немалый опыт жизни, нелегкую женскую судьбу, навыки партийного работника и газетчика. И Клавдия Ильинична считала, что ей повезло дважды — она очутилась на интереснейшем, перспективном предприятии и стала участником и очевидцем самого бурного и драматического этапа в его истории. — Ну, вот, Клавдия Ильинична, к нам жалуют… незваные гости, — сказал Горенко, протягивая телеграмму. Высокий, широкоплечий человек, в котором все было крупно — торс, голова, руки, — он удивлял собеседников своим неожиданно мягким и тихим голосом. И сейчас тихо, наклонившись к Егоровой, спросил: — Приезжают, по-вашему, в час урочный или неурочный? Как на это посмотреть? Егорова улыбнулась. Она знала, что Горенко сам не любил встречаться с иностранцами, ощущая всегда при этом какую-то неловкость. И если случалась возможность уклониться от таких свиданий, уклонялся. — А по-моему, в самое удачное время, — ответила она. — Стан пустили, завод на большом подъеме… — Но не все подчистили еще в цехе! — Естественно. Что мы для них показуху будем наводить? — возразила Егорова. — Как ни говорите — чужой глаз. Вы-то на всякий случай готовьтесь, Клавдия Ильинична. Возможно, придется сопровождать, — предупредил Горенко. — Это и Яков Павлович просил передать. Ну, а для беседы материал у нас есть. — Есть! — Егорова хлопнула ладонью по толстой кипе подшивок "Трубопрокатчика", лежавшей у нее на столе. Но она знала, что Горенко имеет в виду и другое. А именно — рукопись, над которой они работали вдвоем для местного издательства. Это была первая попытка рассказать кратко об истории завода, обозначить основные вехи ее. Рукопись, правда, еще не закончена, потому что не закончились пока и сами события на "гиганте трубной индустрии", как авторы в ней именовали завод. — Материалы богатые, — не без гордости произнесла Егорова. — Да и гости не слепые — сами разберутся… А знают ли они русский язык? — Знают, — почему-то с уверенностью сказал Горенко. — Что ж, Николай Кириллович! Скольких таких встречали и провожали. И всегда был порядок! Так и теперь, — почти весело заверила Егорова. — Ну-ну, смотрите… Гости, наши и иностранные, в самом деле, частенько бывали на трубопрокатном. Теперь, после ухода Горенко, Клавдия Ильинична думала о предстоящей встрече. Надо учесть опыт прежних. Тем более это журналисты из ФРГ. Диалог может получиться острым. И все же она ощутила прилив хорошего настроения в предвкушении того, что может показать не что-либо отвлеченное, а вещное, зримое, впечатляющее свидетельство настоящего героизма людей, о которых так часто писала в своей скромной многотиражной газете.
Гости приехали рано утром. Они собрались в большой приемной директора — двенадцать западногерманских журналистов, людей разного возраста, темперамента, гражданских судеб и, конечно, не одинаковых политических убеждений. Они представляли различные газеты, не говоря уже о том, что у каждого могло быть и свое отношение к нашей стране. В приемной стоял сдержанный шум, но минутами он взрывался каскадом смеха, бурными восклицаниями: журналисты — народ впечатлительный, сразу реагируют на острое слово, это, пожалуй, свойственно всем журналистам мира. Осадчий, обычно приезжавший к девяти, в тот день немного задержался, а без него не принято было начинать такие приемы. Именно Яков Павлович умел придать им особую торжественность и сердечность. Он любил принимать на заводе гостей со вкусом и размахом. Пока же с журналистами беседовали Чудновский, Терехов, Горенко, сотрудники из техотдела. Гостям представили и коллег — заводских журналистов. Егорова заметила, что немецкие газетчики почти все захватили с собой фотоаппараты и кинокамеры, у некоторых в руках были небольшие магнитофоны. Все это современное журналистское "вооружение", изготовленное "к бою", выдавало серьезный интерес гостей к заводу. Наконец, приехал Осадчий, делегацию пригласили в кабинет. Директор всегда начинал с непринужденного знакомства. А атмосферу непринужденности создает искренность. — Господа, вы уже, конечно, многое видели в нашей стране, — обратился к журналистам Осадчий, — но такого завода, как наш, вы не могли видеть, ибо второго такого нет. Поверьте мне! Тут уж бывали разные делегации, и все сходятся на том, что завод — красавец! На это добродушное, искреннее хвастовство, именно в силу его очевидной естественности, гости ответили улыбками. — А что тут было раньше? — спросил сам себя Осадчий. — Даже пять лет назад? Работники завода знали — этот риторический вопрос означает, что Яков Павлович сейчас обратится к своей любимой теме. Он мог говорить на эту тему долго, не утомляясь, говорить весомо, взволнованно. Что было и что стало. Рост завода — его станов, калибров труб, новых линий. Рост мощностей. Вчера, сегодня и завтра. Тут было о чем рассказать. Но Осадчий вдруг уловил в глазах гостей огоньки нетерпения, им хотелось скорее увидеть сами трубы, станы, попасть в цехи. И он сказал: — Господа! Как говорят, журналистского соловья долго баснями не кормят. Вам нужны зримые факты. История вопроса вам, конечно, известна. Может быть, кое-кто из журналистов и сам присутствовал на заседании бундестага, когда там была объявлена нам экономическая война из-за труб большого диаметра. Наверное, кто-то присутствовал? Егорова заметила, как несколько человек утвердительно кивнули. Она запомнила одного, потом узнала: его фамилия Поликайт. — Тем более, — продолжал Осадчий. — Так что господа могут наглядно связать начало и конец этой истории. Вот наш главный инженер, вот редактор, наши инженеры. Они к вашим услугам. Готовы ответить на любые ваши вопросы, дать консультации. А сейчас нам подадут машины, и мы поедем в завод. Так бывало не часто. Отложив в сторону все дела, сам директор повел по цехам столь необычную делегацию журналистов. О чем говорил с ними Яков Павлович, Егорова не слышала. Шла сзади. Большая группа разбилась на мелкие, как это обычно и водится. Одна — рядом с директором, другая — около главного инженера. Терехова и Егорову тоже окружили журналисты, жадно расспрашивали, внимательно слушали. Клавдия Ильинична вглядывалась в их лица, прислушивалась к интонациям голоса, пыталась составить себе представление об одном, о другом. Кто они, эти журналисты? Чего они ищут в своих поездках, что напишут о нашей стране, о заводе? Она услышала, как один из пожилых рабочих в цехе спросил журналиста, должно быть, своего ровесника, не бывал ли тот случайно в России раньше, в войну. Девушка-переводчица отошла куда-то в сторону, но тот, к кому обратился рабочий, высокий немец с седым бобриком волос, с продолговатым лицом и словно срезанными бритвой щеками, ответил по-русски: — Восточный фронт. — Ага, а я Западный, — подхватил рабочий, и, обрадовавшись чему-то, улыбнулся. — Напротив значит, — добавил он. — Хорошо, — сказал немец, не пояснив, что же именно хорошо и чему он сейчас тоже рад. Быстро сняв свою курточку и закатав рукав рубашки, все с той же веселой улыбкой он показал на шрам, идущий от локтя к плечу. — Русский бомба, — сообщил он. Егорова видела, как напряглось лицо у Терехова. Она подумала, что и по ее лицу, наверное, прошла тень тревоги. Как ответит рабочий? Найдет ли слово, жест, достойный и веский? Он нашел, молодец! Просто тоже закатал штанину на правой ноге и, хлопнув по своему четко видному шраму, произнес громко: — Немецкий миномет! Напряжение разрядилось. Все, слышавшие эту короткую словесную дуэль, рассмеялись: кто весело, кто грустно. И каждый, наверное, вспомнил войну, навязанную нам фашистами и залившую мир кровью. А Егорова, глядя на сварщика и на немца-гостя, подумала о том, что борьба за мир — это не нечто отвлеченное, а совершенно конкретное дело, это борьба за те же трубы, за технический прогресс на заводе. Отто, так звали высокого немца-журналиста, после ранения вновь попал на Восточный фронт, а затем и в русский плен. Работал как военнопленный на строительстве завода, вблизи Челябинска, так что эти южноуральские места были ему знакомы. — Кем работали? — спросил заинтересовавшийся Терехов. — Каменщиком. — Ну, тогда вы оцените это, — и Терехов показал рукой на новый пролет. — Тут одной рубки бетона пять тысяч кубометров, и укладки немногим меньше. — Ясно, — кивнул Отто. — Зер гут! Егорова еще слышала, как Виктор Петрович спросил у Отто: — Как вы стали журналистом? Ее это тоже интересовало, но, должно быть, запас русских слов у Отто был не так велик, чтобы объяснить, почему человек уже в зрелом возрасте становится журналистом. Гость сделал гримасу, пожал плечами, и понять его можно было так: ответ на вопрос равнозначен истории всей его жизни. В трубоэлектросварочном гости внимательно осматривали новую линию "1020", последовательно знакомились со всеми звеньями технологической цепочки рождения большой трубы. На конечном участке долго стояли около экспандера — пресса-расширителя, где вода под огромным давлением испытывала прочность труб и сварочных швов. Этот агрегат — неумолимый страж хорошего качества труб, заменяет многих контролеров ОТК. "Господин экспандер" — так уважительно окрестил его Осадчий. И, действительно, массивный, с толстыми стальными боками агрегат казался очень внушительным. Немцам перевели шутку Осадчего, и они заулыбались. После экспандера труба считалась почти готовой. Теперь к ней удобно было подойти. Можно было пощупать ее руками, постучать ладонями по гулкой стальной плоти. Это с удовольствием проделывали многие журналисты. Собственно, вот здесь, на рабочей площадке у экспандера, Осадчий и провел заключительную часть "пресс-конференции". Теперь, когда гости увидели все своими глазами, директор трубопрокатного готов был ответить на все их вопросы. Активнее других был Георг Поликайт — экономический обозреватель нескольких западногерманских газет, тот самый, который находился в ложе прессы на заседании бундестага. Он был главой делегации журналистов, а впоследствии и составителем их книги. Поликайт настойчиво интересовался качеством больших труб. — Наша продукция ни в чем не уступает той, что поставляла нам ФРГ, — ответил Осадчий. — А то, что у труб два сварных шва вместо одного, не сказывается на качестве. Любой специалист знает, — добавил он, — что труба почти никогда не лопается по сварному шву. Для газопровода Бухара — Урал требовались трубы, выдерживающие давление 70 атмосфер, а наши заводские прошли проверку в 110 атмосфер… и выдержали. В конце 1964 года в ФРГ вышла книга, явившаяся коллективным трудом западногерманских журналистов, побывавших в Челябинске. Она называлась "Там, где Москва — далекий запад". "Ехал я осматривать поле боя, — писал в ней Поликайт, — то самое поле боя, на котором летом 1963 года Федеративная Республика потерпела поражение. Правда, речь идет не о военной битве. Это было сражение в рамках так называемой холодной войны, в которой наша страна вновь вынуждена была участвовать после капитуляции 1945 года…" Отрывки из этой книги были напечатаны в наших журналах и газетах. Их прочитали и на трубопрокатном заводе. Вскоре Осадчий выступил в печати со своими комментариями к этому репортажу. Он писал, что репортаж Поликайта представляется ему в достаточной мере объективным, что сделан он с открытым сердцем и радует непосредственностью лестных для нашей страны признаний, дружеским и честным тоном наблюдений. "Прочтя книгу "Там, где Москва — далекий запад", многие читатели из ФРГ, — заключал Осадчий, — глубоко задумаются над тем, почему западногерманские реваншисты и их заокеанские подстрекатели потерпели очередное поражение, на сей раз на "трубном фронте". Экономические и прочие диверсии против могучего социалистического государства обречены на провал".
Горячий цех
Прошло полгода после того как закончилась битва за трубу "1020", и вот я снова на заводе с уверенностью, что опять найду, увижу, стану свидетелем интересных дел. Там, где есть труд и творчество, всегда будут и события, конфликты, которые выдвигает не знающая покоя жизнь. Теперь приезжать в Челябинск стало для меня душевной потребностью, и, ощутив в полной мере ее притягательную силу, я не только внутренне не сопротивлялся ей, но и радовался, что так случилось. Привязанность к заводу обогащала меня, помогала работать. Как-то я сидел у Терехова в его кабинете, когда Виктор Петрович сказал, вздохнув: — Ну, вот бог дал день и вместе с ним новые заботы… Но при этом на лице его появилась улыбка, менее озабоченная и более веселая, чем можно было ожидать после таких слов. — Есть уже с десяток ребусов на сегодня, которые надо разгадывать, — добавил он. — А где же записи? — спросил я. — Какие? — Да вот решения всех этих сложных производственных ребусов в поисках, труде? — Зачем? Наше дело толкать трубу, — сказал он, полагая, должно быть, что это и есть ответ. Я понял его мысль. Толкать трубу, делать сегодняшнее, конкретное, реальное дело. С историей-де потом разберутся кому надо. А я-то думал, что все мы берем грех на душу за то, что так мало озабочены фиксированием в документах и записях событий быстротекущей нашей повседневности. В те дни я интересовался историей, делами и людьми одного из горячих цехов завода, в котором как раз и начинал более полутора десятков лет назад свою производственную жизнь Виктор Петрович Терехов. Нелегко восстановить в деталях событие, о котором на заводе говорят: "Это было!" Сегодняшние заботы всегда быстро оттесняют вчерашние. Даже в памяти людей. Приходится собирать сведения по крупицам от участников и очевидцев, рыться в старых газетах, вспоминать самому. Еще сравнительно недавно на Челябинском трубопрокатном существовал только один цех непрерывной печной сварки труб в начале технологического потока — овальное каменное горло печи с горящим газом, через которое летит стальная лента штрипса. Ее потом утюжат калибры прокатных валков, и лента под обжатием становится из плоской круглой, превращается в трубу, которая летит из клети в клеть, пока в конце большая круглая маятниковая пила легким касанием с протяжным стонущим звуком не начнет ее резать. И станы, и трубы залиты пурпурно-торжественным сиянием. В первые минуты своего рождения багрово-красные трубы брызжут жаром и искрами, потом чернеют. Цех полностью автоматизирован, кажется простым и красивым, радует глаз гармонией и красочной палитрой, выделяясь даже среди прочих цехов красивого металлургического производства. Стан здесь импортный, американский. Скорость прокатки высокая — 250–300 метров в минуту. Но руководители цеха, в том числе заместитель начальника Наум Иосифович Каган, и директор завода настояли на создании второго горячего цеха, со станом отечественной конструкции и еще больших скоростей. В древних русских рукописях, когда хотели похвалить человека, называли его кротким. На заводе про Кагана говорили — деликатный. У этого человека не было ни тени бесцеремонной напористости или грубоватой фамильярности, которые порой свойственны производственникам. Он и по телефону, это я слышал сам, всегда разговаривал ровным голосом со всеми, никогда не повышая топа. Как-то в один из вечеров Терехов пригласил меня зайти в гости к Кагану — одному из своих первых наставников. Наум Иосифович занимал отдельную квартиру в новом шестиэтажном доме на улице Машиностроителей. Стараниями хозяина квартира была обставлена со вкусом. В гостиной, отделенной от коридора, стеклянной дверью, стояла хорошая мебель, мягкие кресла и диваны в белоснежных чехлах. В одну из командировок Каган купил и перевез из столицы пианино, в Челябинске его тогда, к сожалению, нельзя было приобрести. Он был хорошим музыкантом, обладал отличным слухом, играл еще и на скрипке. Терехов говорил, что Наум Иосифович особенно любит Чайковского и Рахманинова. В тот вечер, слушая его игру и глядя на бегающие по клавиатуре длинные, тонкие нервные пальцы, я подумал, что Каган мог бы, возможно, стать хорошим пианистом, если бы не был таким хорошим инженером. "Угостив" нас музыкой, хозяин дома показал Терехову несколько технических журналов и немецкие, чехословацкие иллюстрированные каталоги новинок трубопрокатного производства. Заговорили о станах. Странное дело. На моих глазах это повторялось не раз. Собираясь отдохнуть и развлечься, гости Кагана в начале или в конце вечера обязательно обращались к теме цеховых событий: что-то вспоминали, над кем-то шутили, кого-то хвалили — и никому от этого не становилось скучно. — Скорости, скорости! — говорил сейчас Каган. Он имел в виду проект нового стана. — В наш век так быстро меняются понятия о скоростях. Мы до сих пор приводим сравнение: "быстрый, как ветер"! А скорость ветра — это каких-нибудь сорок — шестьдесят километров в час. Ветер — черепаха по сравнению с реактивным самолетом, делающим тысячу километров в час. — Это так, — кивнул Терехов. — Но иной раз видишь пропасть между вершинами науки и узкими ущельями практики, где еще до черта кустарщины, ручного труда. — Будущее техники — то, что сегодня в лабораториях ученых, — заметил Каган. — Однако есть, конечно, в пашей инженерной армии сочинители всякого рода бумаг да и просто равнодушные, инертные исполнители. — Вот именно, — согласился Терехов. Мне показалось, что он чем-то озабочен и только ждет момента, когда можно будет заговорить о том, что его тревожит. Пока же разговор перекинулся на гастроли одесской оперы в Челябинске, на открытие нового оперного театра в городе. Часов около десяти мы втроем вышли погулять. В квартире остались домочадцы хозяина — его жена, мать жены, двое сыновей. Эту большую семью, любя всех, тащил он на своих плечах. Наум Иосифович надел известный всему цеху темносиний плащ и синюю кургузую кепку. Даже в полутьме центральной улицы поселка, неярко освещенного матовыми гроздьями фонарей, нашего спутника узнавали многие. В конце улицы, на спуске к скверу, молодежь толпилась вокруг здания кинотеатра. На стенде висела от руки написанная афиша: "Заграничный музыкальный фильм". — Может, зайдем? — предложил Каган. — Спасибо, мне что-то не до вальсов, — мрачновато ответил Терехов. От кинотеатра мы пошли вдоль озера по широкой асфальтированной улице. От озера тянуло свежестью. Линия берега расплывалась в полумраке и угадывалась лишь по глухому всплеску воды. Неподалеку от деревянной эстакады стояла вышка для прыжков. Одинокий фонарь отражался мутной звездочкой в темных волнах. — Как хорошо здесь, какой чистый воздух! — вздохнул полной грудью Каган. Мы подошли к каменной круглой беседке, белевшей у самого берега. Присели на скамейку. Несколько минут молча слушали, как свистит над домами ветер, тихо накатываются волны. В Челябинске постоянно дуют ветры, особенно сильные весной и летом. Часто в порывах ветра, в пыльных смерчах, столбы которого взлетают в небо, чувствуется соседство знойного юга и степей Казахстана. Но в тот день ветер был северный, со стороны гор. — Свежо что-то, — заметил Терехов, поднимая воротник пиджака. И, не выдержав, наконец, спросил. — Как же все-таки мой проект? Я уже знал, что проект его касается калибровки валков. Впервые предложил увеличить силу обжатия валков Каган. Речь шла о главной редукционной клети. Когда сделали это, скорость стана возросла, а следовательно, выросла и производительность. Теперь Терехов в своих расчетах шел дальше и предлагал увеличить обжатия уже на всех клетях, равномерно, с нарастающей нагрузкой. Каран ответил не сразу. Виктор Петрович, вы знаете, у Бальзака есть чудесная фраза: "Человеческая сила слагается из терпения и времени", — начал он. Голос Кагана звучал мягко, но я почувствовал, как Терехов насторожился. — Я просмотрел ваши расчеты. Вы сейчас поймете, почему я не хотел говорить о них дома. Поверьте, я буду совершенно откровенен. — Конечно, только так, — сказал Терехов. — Вы предлагаете новую калибровку, и логически возможны два решения: я поддерживаю эту идею или отвергаю. Давайте рассмотрим практическую сторону дела. Мы недавно ввели новую калибровку, и чтобы менять ее, надо снова останавливать стан, быть может, дня на четыре, пять. Это сейчас, когда так все напряжено с программой. От заказчиков приходят телеграммы самого грозного содержания. — Каган вздохнул. — Допустим, что из страха прослыть консерваторами, мы поддержим вас, — Наум Иосифович взял Терехова за руку, словно бы так ему легче было убедить собеседника. — И тогда в случае срыва наша задолженность государству только увеличится, рабочих это ударит по карману, лишит премии. Нельзя все время менять и менять технологию, как говорится, не переводя дыхания. Нужна какая-то устойчивость в работе, хотя бы для того, чтобы основательно проверить новый метод. — Совершенствование техники… — начал было Терехов. — Правильно, правильно, — перебил его Каган, — кто же спорит? Но ведь не зря в иных случаях говорится, что лучшее — враг хорошего. Поднимитесь выше авторского тщеславия, взгляните на все с точки зрения интересов цеха, завода. А вашу новую калибровку, не торопясь, предварительно ее проверив, мы в производственных масштабах сможем испытать уже в новом цехе, на новом отечественном стане. Я посмотрел на Терехова. Он, должно быть, менее всего ожидал такой ответ. Каган сам был новатором. Обращаясь к нему, Виктор Петрович готов был к любым техническим придиркам, к любым замечаниям по существу, но эти доводы… "Кто же в данном случае прав? — подумал я. — Позиция молодого Терехова по-своему убедительна: раз можно улучшить работу стана, значит, надо к этому немедленно приступать. Но, с другой стороны, нельзя, конечно, все время дергать людей, ломать производственный ритм, не успев внедрить новое, немедленно приступать к очередной ломке во имя новейшего. К тому же существуют производственные планы, которые надо выполнять". — План, план… — словно бы уловив мою мысль, произнес Терехов. — А перспектива? Должны же мы думать о дальнейшем развитии цеха. — Бесспорно, бесспорно, дорогой мой Виктор. Но ведь мы с вами работаем не в каком-то цехе вообще, а в нашем, совершенно конкретном, со своей, как говорится, биографией. Посмотрите на вещи реально. Провалим план, не спасет нас от гнева начальства никакая перспектива. Я подумал, что вряд ли Терехов даже в такую минуту может сомневаться в искренности своего учителя, который живет производством, болеет за его интересы. Просто дело это оказалось сложнее, чем он предполагал, как и все в жизни, которая редко дает простые решения. Каган, видимо, подумал о том же, потому что добавил: — Жизнь сложна, Виктор Петрович, и не все очевидное на первый взгляд оказывается правильным. Я понимаю вас, поверьте. Вы сейчас настроились на борьбу за свое предложение, а менять душевную настройку не так просто. Но давайте подождем, и в новом цехе я первым ринусь помогать вам с внедрением новой калибровки. Более того, мы внесем это новшество, если его подтвердит практика, в проект нового стана. Во всяком случае, будем стараться внести. И вообще, мы сейчас ведем большую борьбу за проект. Вы слышали? — Да, кое-что, — вяло откликнулся Терехов. — Да, ведем борьбу по очень существенным вопросам с теми, ну, одним словом, вы скоро узнаете… Теперь мы сидели на скамейке в каменной беседке молча, смотрели на темную гладь озера. В этот поздний час только лунные серебряные дорожки мерцали на воде Да мигавший фонарь казался огоньком одинокого суденышка, которое никак не может отчалить от берега. Наверное, на душе у Терехова было тяжело и смутно. Я чувствовал, Каган поколебал его уверенность, заставил серьезно задуматься. Сам же Наум Иосифович, по-видимому, высказал все, что хотел, и сейчас молчал. — Не знаю, убедил я вас или нет, но домой нам пора, — Наум Иосифович поднялся. На обратном пути мы не возвращались к прежнему разговору. Шли быстро, перебрасывались незначительными замечаниями, а потом и вовсе замолчали, озябнув от холодного вечернего ветра, резко дувшего нам в спину.Наум Каган принадлежал к тому поколению, которое встретило Великую Отечественную войну уже твердо встав на ноги, с дипломом и профессией. Путь его к диплому был не легок, юноша рано потерял родителей, воспитывался у отчима, сельского учителя. Закончив в селе семь классов, приехал в Днепропетровск, поступил на завод учеником токаря. Паренек оказался способным, с жилкой изобретателя. Работая токарем, придумал одно приспособление, второе, третье, на него обратили внимание, посоветовали учиться. Токарь Каган стал заочником Днепропетровского индустриального института, а когда успешно его закончил, получил назначение помощником мастера на Никопольский трубный завод. Здесь Каган овладевает навыками, которые ему очень помогут потом в инженерном творчестве… А вскоре получает инженерную должность. Началась война, и в первые ее дни Каган пошел в военкомат, но медицинская комиссия не пропустила его. Еще в юношеском возрасте Каган заболел туберкулезом легких, и за многие годы, то затихая, то вновь вспыхивая, коварная болезнь подсушила его и без того худощавую фигуру, ослабила тело. Пришлось вместе с заводом эвакуироваться в Первоуральск, а оттуда, через три года, — в Челябинск, на новый трубопрокатный завод. В середине войны резкая вспышка болезни свалила Кагана. Он, казалось, умирал. Был такой момент, когда уже никто не надеялся на его выздоровление. Однако Наум Иосифович поправился и начал работать, но не на должности инженера, а… в военизированной охране завода, где ему было легче. Но вот прошло некоторое время, и Каган садится за конструкторскую доску. Назначенный старшим инженером-конструктором, он снова много работает, порой теряя представление о времени, забывая об обеде, отдыхе. И все же конструкторская работа не может полностью удовлетворить этого энергичного, влюбленного в производство человека. И он просит перевести его в цех. — Но горячий цех… — говорят ему, — а вы с вашими слабыми легкими?! Может быть, не стоит? В ответ на этоКаган улыбнулся своей всегда словно бы немного виноватой, застенчивой улыбкой. — Стоит, стоит! — ответил он. — Знаете, есть такое понятие — эстетотерапия? Это лечение эстетическим удовольствием, красотой. Я знаю людей, которые лучше себя чувствуют в красивых местах, глядя на море или горы. А для меня красота — в металлургическом производстве, люблю смотреть на огонь, на огненные краски цеха. — Ну, это уж что-то больно отвлеченное… — не совсем уверенно заметили ему. — Хотя, если настаиваете… И Каган вернулся в горячий цех. В цех, строившийся тогда по американскому проекту, с американским оборудованием. Не все выходило ладно с этим оборудованием, и Каган возглавил техническую группу по доводке, увязке различных узлов стана. Вот тогда по его инициативе и началась модернизация американского стана с тем, чтобы "выжать" из оборудования большие скорости и на основе новаторского опыта спроектировать и построить свой, отечественный, более мощный, еще более производительный цех. Трудное это было время для Кагана. Он еще не совсем окреп после болезни, а работа такая, что неизбежно требовала полной отдачи всех сил. Да иного Каган себе и не представлял. Шла бессонная страда первых послевоенных лет, не менее трудная, чем в годы войны. Многие кадровые рабочие не вернулись с фронта, иные еще лежали в госпиталях, а в каждом цехе завода густо взошла зеленая поросль совсем молодых пареньков, едва начинающих рабочую жизнь. Двое из них особенно запомнились Кагану: Саша Гречкин и Коля Падалко. У обоих отцы — старые кадровые рабочие, в начале войны эвакуировавшиеся в Челябинск с южных украинских заводов. В тяжелые для страны дни они сказали своим сыновьям, должно быть, по-разному, но вложив в это одну мысль: "Сынок, ты видишь, какое положение в стране, надо пойти подсобить заводу". И Саша Гречкин, и Коля Падалко пошли помогать заводу. Они для солидности надбавили себе возраст, а в цехах им надбавили рост с помощью ящиков, подставленных к станкам, иначе ни Саша, ни Коля не доставали до суппорта. Их звали тогда "сынки завода". Сынков связывали общие автобиографические черты. И это были черты биографии не только Саши и Коли, не только их друзей и сверстников — черты биографии целого поколения молодых рабочих, пришедших на заводы в военные и первые послевоенные годы. И Саша, и Коля работали то в одном цехе, то в другом. Саша Гречкин из токарей попал в сталеплавильный, на канаву, готовил ковши, желоба для разливки. А оттуда перешел в горячий цех непрерывной печной сварки труб. Падалко из токарей перешел в трубоэлектросварочный цех да там и остался на многие годы. Так случилось, что ближе к Кагану оказался Саша Гречкин и его отец Павел Игнатьевич Гречкин. Они долго работали вместе в одном цехе, и оба Гречкиных входили в кагановскую бригаду внедрения новой техники. А когда вскоре по предложению Кагана началась модернизация американского стана, отец и сын Гречкины вместе с другими инженерами и рабочими старались выжать из стана большие скорости, чем те, что были обозначены в проекте.
Ночное происшествие
Александр Гречкин лежал на больничной кровати около окна и хорошо видел сад, прорезанный черным асфальтом дороги, по которой плавно катилась санитарная машина, слышал, как озабоченно постукивают по асфальту каблучки медсестер. За садом, вдали, виднелась труба ТЭЦ, очень высокая, от нее правее, у горизонта, — промышленные строения его родного трубопрокатного завода. Главной достопримечательностью и украшением этого отдаленного километра на четыре от завода тихого местечка было озеро, совсем близкое, так что из окон верхних этажей просматривался песчаный берег. Само здание больницы, под стать красивому озеру, радовало глаз современными, легкими архитектурными формами. Огромные окна, пропуская солнечные лучи и зеркально отражая голубизну водоема, помогали разом охватить всю эту красоту и водную ширь, огромность неба и глубину необозримого пространства. Так что, если бы врачи заводской больницы захотели использовать целительную силу эстетотерапии, они имели бы на это не меньшие возможности, чем в кавказских и крымских здравницах. Заводская больница обслуживала весь прилегающий жилой район, в котором насчитывалось несколько заводов, научно-исследовательский институт. Но самым большим был трубопрокатный завод, и поэтому в коридорах своего терапевтического отделения Александр, прогуливаясь в легком, не очень новом халате и шаркая по полу шлепанцами, встречал не меньше знакомых, чем в цеховой конторе. Несколько дней назад в ночную смену Александр вдруг почувствовал себя плохо. Он шел вдоль длинного ряда прокатных клетей. И казалось ему, что в эту ночь здесь необычно жарко. Впрочем, около стана всегда была высокая температура. Даже зимой, когда морозный воздух входил в открытые ворота, через которые ввозили в цех железнодорожные платформы. Летом же в жаркие дни вентиляция в цехе и вовсе не ощущалась. Ночные смены мало чем отличались от дневных. Разве что можно было на минуту выскочить через боковую дверь на заводской двор с успокаивающей глаз темной глубиной неба да прохладцей, разлитой в воздухе. Около стана висело световое табло с большими красными буквами: "Посторонним вход категорически запрещен!" А не посторонним? Сварщики ходили, а иногда и бегали по этим узким участкам между клетями и стеной, вдоль всего шестисотметрового стана, туда и обратно, за смену складывая метры в километры, как на хорошей марафонской дистанции. Особенно доставалось в часы неполадок, вынужденных остановок или запланированных настроек, как говорят на заводе, "перевалок клетей". В одну из таких смен все и произошло. Александр в ту ночь делал перевалку на редукционной клети. Прошедший день выдался очень жарким даже для июля. Вечер и ночь не принесли прохлады. Александр только что вернулся из отпуска и за это время немного отвык от цеховой обстановки, от того физического напряжения, которого требовала ночная смена, отвык от жаркой близости огня. Может быть, все это, вместе взятое, и сказалось на его самочувствии. На перевалку пришла дежурная бригада слесарей, началась возня с тяжелыми стальными цилиндрами, а тут еще кран отказал, пришлось нажимать вручную. Главный диспетчер трезвонил из заводоуправления, как на пожаре, торопил. Александр бегал то к телефону, то в мастерскую, она размещалась у ворот цеха, то к сатуратору с газированной водой. Говорят, вода, мол, не водка — много не выпьешь. К горячему цеху это выражение не подходило. Кто, не совладав с жаждой, начинал тянуть из сатуратора, остановиться уже не мог. Александр обычно пил очень мало, но в ту смену нервничал и сорвался с режима. Уже ближе к утру, когда он быстро шел из мастерской к редукционной клети, его сначала немного качнуло. Пол цеха, как палуба суденышка на волне, стал уходить из-под ног, внезапно потерявших обычную упругую твердость. Новизна ощущения несла в себе даже нечто забавное, смешное, но почему-то смеяться Александру не хотелось. Да и некогда было разбираться в своих ощущениях — у клети ждали рабочие. Он пошел помедленнее и невольно прислушивался к странному состоянию: не исчезнет ли эта вялость и ватная слабость в ногах, пьяное кружение в голове? Может быть, надо поглубже дышать? Александр подышал. "Да ерунда какая-то, — подумал он. — Так, показалось". Через два дня, с субботы на воскресенье, Гречкин собирался ехать на рыбалку к дальним озерам. Ездил он иногда с приятелями, иногда с отцом Павлом Игнатьевичем на "Москвиче" соседа. Брали палатку, одеяла для ночевки. Возвращались на другой день поздно. И долго еще потом в машине держался стойкий, густой запах рыбы. Сейчас, возясь с ломом около клети, Александр думал о поездке, с удовольствием предвкушая, как он в болотных сапогах и брезентовой куртке, надвинув кепчонку на лоб, покрутится на сиденье, чтобы устроиться поудобнее за рулем, рядом с отцом, а затем "рванет" на шоссе с ветерком, и чтобы лучше его почувствовать, опустит до отказа оба боковых стекла… Вдруг сзади, словно чем-то упругим, как резиновая дубинка, стукнуло по голове. И, не разобрав, что с ним произошло, Александр начал валиться на пол. Остро и сильно заныло сердце. Казалось, он за рулем машины летит в темный, глубокий, все ссуживающийся тоннель, надает, вновь стукается обо что-то твердое, снова летит, падает, падает. А к горлу подступает густой, рвотный запах рыбы… Очнулся Александр, когда два санитара вынесли его из машины "скорой помощи" на носилках и, облегченно вздохнув, опустили на пол приемного покоя. Первое, что он увидел, были голубые глаза с мохнатыми ресницами, лицо низко склонившейся к нему женщины в белом халате. Александр узнал заводского врача. От нее исходил легкий запах духов и неуловимо тонкий — от самих волос — приятный запах лимопа. — Ирина Алексеевна! — выдохнул Александр. — Доброе утро! Я вижу, вы проснулись, товарищ Гречкин, — сказала Ирина Чудновская. — Да, проснулся, — ответил Александр и попытался тут же приподняться. Но Ирина мягким, властным движением руки снова опустила его на носилки. — Мой дружок, лежите спокойно, — приказала она. — Привет вам, — с улыбкой произнес Александр, но вышло это, наверное, глуповато. Ирина отдала распоряжение отнести его на носилках в корпус, но Александр решительно воспротивился. Он и сам может ехать в лифте. — Ну хорошо, сам так сам! — согласилась Ирина. Его поместили в палату под номером семь — продолговатую комнату с большим окном, через которое широким потоком лилось солнце. Оно искрилось на блестящих трубчатых кроватях, кстати говоря, производства кроватного цеха его завода, на полированных тумбочках. Палата казалась веселой, даже праздничной. Александр никогда до сей поры не лежал в больнице. Эта сверкающая комната удивила его. Гречкина встретили в палате два его соседа, оба в халатах сидели на постелях. Один поднялся и пошел навстречу. Александр тут же узнал его. Этого сотрудника трубного института он видел в цехе, знал: его зовут Аликом. — Новое пополнение в нашу валидольную команду, — сказал Алик, протягивая Александру руку. — У вас приступ чего? — Ничего! Я вообще не больной, — ответил Гречкин. — Я так… — Ах, так! Экскурсант! Тогда пожалуйте к окну, там лучше обозревается местность. Второй сосед был тоже знакомый — мастер из трубоэлектросварочного, Яша, кажется, родственник Терехова. — Уже сердечник? — удивился Александр, кивнув Яше. — Рановато, брат! — У меня радикулит, — смущенно отозвался тот. — Что удивляться, сердечные болезни помолодели, мой друг, — наставительно заметил Алик. — Быстрое сгорание — двадцатый век! Вы с трубопрокатного, кажется? Что там у вас новенького?.. Александр сразу понял, что чего-чего, а недостатка в разговорах в этой палате не будет. Так оно и вышло. Каждый день после обеда приходили в палату посетители, и Александр тоже ждал "с воли" отца, как всегда, с новостями, газетами, вареной рыбой собственного улова, которую отец приносил ему в дополнение к больничному рациону. Павла Игнатьевича давненько уже на заводе называли "патриархом" и называли главным образом те молодые ребята, которые не только живого патриарха, но и попа-то близко не видели. Гречкин-старший не выглядел очень старым, да и седым был в меру, побелели только виски. Но на заводе он, действительно, работал давно, а до этого завода — на других, а еще раньше революцию прошел — не как сторонний наблюдатель, а как активный деятель ее и солдат. Закончилась гражданская война, Павел Игнатьевич демобилизовался из армии, отправился в Мариуполь, где началась его заводская жизнь. Возводил и ремонтировал мартеновские печи на трубопрокатном заводе, том самом, где работал впоследствии широко прославившийся сталевар Макар Мазай, пообещавший фашистам залить их глотки расплавленной сталью и геройски погибший в оккупированном Мариуполе. Павел Игнатьевич до войны перекладывал Мазаю печь. Коммунист, депутат горсовета, он, когда немцы подошли к городу, одним из последних уходил с завода. И, выполняя распоряжение, взрывал мазаевскую печь и другие мартены. Эвакуировавшись на Урал, Павел Игнатьевич скоро переменил специальность — каменщиком на печи работать стало уже трудно. Он стал электросварщиком. Но еще в те годы, когда старый мастер стоял у нагревательных печей, он много сделал для совершенствования конструкции печей, повышения их производительности. За многолетний самоотверженный труд заслуженному рабочему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Однако пришло время, и Павла Игнатьевича проводили на пенсию. Привыкнуть к новому положению было совсем не легко. Старый уклад жизни точно ножом отрезало, а новый оказался непривычным и… очень утомительным. В цехе смена пролетала — не успеешь оглянуться, а дома день тянулся медленно, как часовая стрелка на старинных ходиках с маятником. Павел Игнатьевич признался сыну, что особенно тоскливо проходили месяцы первой зимы. Хотя много читал, а всё же тоска брала за сердце, когда за окном крутит злая южноуральская метель, а ты сидишь на диване у окна и вспоминаешь о заводе. С каждым днем все больше тянуло в цех, посмотреть на знакомых, узнать о переменах. Давненько, когда еще работал он у печи, Павел Игнатьевич смастерил и принес в цех небольшую скамейку. Поставил ее у стены, шагах в восьми от нагревательной печи, пышущей жаром. Приятно было присесть, вытянуть натруженные ноги, выкурить папироску, послушать гудение пламени и ритмичный, точно на паровозе, перестук валков в прокатных клетях. Постепенно к гречкинской скамейке привыкли, она стала деталью рабочей площадки. Когда же Павел Игнатьевич ушел из цеха совсем, никто уже не помнил, что это его скамейка. Но сам Павел Игнатьевич не забывал о ней. Когда в первый раз после выхода на пенсию он заглянул в горячий цех, сразу прошмыгнул мимо клетей к своей скамейке, и Александр неожиданно увидел отца рядом. Павел Игнатьевич сделал сыну знак рукой — работай спокойно, не обращай на меня внимания. Старик сидел на скамейке, поджав под нее ноги и слегка подавшись вперед. Морщины на его лбу расправились. Улыбаясь чему-то своему, он сосредоточенно слушал гул печи. Рабочие, пробегая мимо, с любопытством поглядывали на "патриарха". Минутами Александру казалось, что отец задремал, почувствовав на лице приятный, слегка щекочущий кожу жар металла. Он даже заметил, что отец закрыл глаза, но когда от взорвавшихся, словно петарды, фейерверочно пышных снопов искр красноватыми бликами озарились цех, лицо и фигура Павла Игнатьевича, увидел, как вздрогнули тонкие ноздри и вытянутые вперед губы старика. Прошел год с тех пор, как старый Гречкин ушел на пенсию. Но разве он забыл свой цех? Закроет глаза — и вот уже видит его, чувствует, будто снова там, у стана. Шли минуты, часы утренней смены. Бывший мастер нагревательной печи тихо сидел на скамейке, время от времени курил, грелся около горячего металла. Его уже заметили все рабочие, мастера, начальник смены, но никто не подбегал ни с вопросами, ни с сочувственными расспросами о житье-бытье на пенсии, никто не высказывал удивления, что Павел Игнатьевич появился в цехе, словно это было совершенно естественно и нормально. Только в конце смены к нему подошел Александр. — Один или со мной походишь по цеху? — спросил он, деликатным своим предложением как бы вызываясь показать цеховые новинки, но вместе с тем и не желая затронуть самолюбие отца. — Нет, спасибо, Сашуня. Вот около печи посидел — душе хорошо стало. Спасибо, — сказал Павел Игнатьевич. — А стан у нас богатый. Вперед можно идти. Это точно. В совете ветеранов поговорим, чем подсобить можно. Ты знаешь, что меня туда приглашают? — Слышал, батя! Опять на действительную службу? …Сейчас Павел Игнатьевич входил в больничную палату в накинутом на плечи белом халате. — Здорово, сын! — весело, еще от двери провозгласил он. — Как себя чувствуешь-то? — Осведомился и тут же сам сделал вывод: — Хорошо выглядываешь, нормально. К удивлению Александра, отец принес ему вместе с продуктами букетик цветов — несколько пунцовых роз, голубовато-фиолетовых гиацинтов, желто-зеленых кувшинок. — Скажи нянечке, пусть поставит в кувшин с водой, они долго простоят. Кувшин найдется? Александр кивнул. Сидя на кровати в глухо запахнутом халате, он крутил босыми ногами на полу, искал запропастившиеся шлепанцы. — Здравствуйте, рады вам! — приветствовал Павла Игнатьевича Алик. К нему еще никто не пришел, и Алик хотел, видно, пока погреться разговором у чужого огонька. Но в этот момент в двери появилась Ирина Чудновская и за нею Виктор Петрович Терехов. — Ну как, товарищи, дела? — спросила Ирина. — Посидите с нами, Ирина Алексеевна, — встрепенулся Павел Игнатьевич, — я вам мигом опростаю место. Он пошел за стулом, смахнув что-то с него рукавом, пододвинул Ирине. Она поколебалась немного, но присела. Терехов, устроившись у кровати Яши, посмотрел на молодого Гречкина. Вспомнил, как три дня назад, когда подъезжал к заводу на своей "Волге", увидел у ворот проходной лимузин с красным крестом на сверкающем белизной кузове. Быстро выскочив из машины, Терехов подбежал к "скорой помощи". — Кого везете? Что случилось? — спросил он у Ирины Чудновской, сидевшей в кабине рядом с шофером. — Рабочего из сварочного. Тепловой удар, — ответила она. Терехов быстро подошел к "скорой", распахнул дверцы. На носилках лежал человек в серой брезентовой спецовке. Словно в кинокадре крупным планом, бросились в глаза подошвы его больших ботинок. Это были ботинки человека, ходившего по горячему бетонному полу. На толстых подошвах виднелись следы окалины и пятна прожогов. Лицо рабочего показалось Терехову знакомым. Да это же Саша Гречкин! Сейчас, в палате, вспомнив об этом, Терехов подошел к кровати Александра. Спросил у Ирины: — Это ведь, кажется, у нас не первый случай с… тепловым ударом? Правда? Чем объяснить, Ирина Алексеевна? Нас это не может не волновать! — И не только вас. Больницу тоже, поскольку это наши пациенты! Терехов понимающе кивнул. Он-то знал, что сама Ирина уже лет пять серьезно интересуется геронтологией — наукой о продлении активной и деятельной жизни человека. В Челябинской городской больнице существовал кабинет геронтологии, намечался к открытию такой же кабинет в заводской больнице. — Ну, что я вам могу ответить? — сказала Чудновская. — Да, случаи тепловых ударов бывали летом в старом мартеновском и сварочном. К сожалению, бывали. Видимо, вентиляция недостаточная. И воздух слишком сух. — Не организовать ли нам службу… продления жизни, так ее назвать, что ли? Врачей, администраторов, конструкторов подключить. Главного инженера. Как считаете? — Ах, боже мой, Виктор Петрович, как мы любим создавать службы, комиссии… — Ирина махнула рукой, словно пытаясь отогнать невидимую муху. — Еще одна комиссия… Звучит пышно, а ведь на самом деле все проще. Техника безопасности и производственная гигиена, их надо соблюдать. Увидел недостатки — устрани! Вот соберусь к вам в завком и выступлю с такой речью. — Будем рады, — сказал Терехов. Чудновская поднялась, все молча проводила ее глазами. — Толковая дочка у нашего главного, — заметил Павел Игнатьевич. — Самостоятельная. — Это верно! — улыбнулся Терехов. — Красивая и доктор хороший, — продолжал старший Гречкин. — Мне, старику, дело ее особенно приятно. Жизнь есть благо великое. Сколько я прожил, а еще ни одного человека не встречал, который бы сам захотел умирать, как бы ни страдал. Вот такая морковина-чепуховина! А от старости, ребята, все же пенсионеры страдают. С этим делом, то есть страданием, надо кончать. Терехов опять улыбнулся, а Александр открыто рассмеялся. Но отец не обиделся на него. Старый каменщик сидел, держа на коленях узловатые, в синих сплетениях вен руки, с седой щетинкой на щеках и смотрел внимательно и чуть сердито. "Может, за взгляд этот и прозвали отца патриархом?" — подумалось Александру. — Ты чего, батя? — спросил он, приподнимаясь. — А ты чего навострился вставать, морковина-чепуховина? Ложись в кровать, раз Ирина Алексеевна велит! — Ладно, ладно, не гуди, старый, — примирительно проговорил Александр. Он был доволен, что отец не уходит и можно еще поговорить о том, о сем, о заводских делах. Все же это главная для них тема, которая даже и в больнице казалась самой интересной…Всё остается на земле
Яков Павлович Осадчий вставал рано. Ровно без четверти восемь шофер негромко сигналил у подъезда, а в восемь Осадчий уже выезжал. Первый завтрак дома — совсем легкий. Булочка, кусочек масла, сыр, немного джема на блюдечке. И все. Если с утра не перегружать желудок, настроение бодрое и работается лучше. Вообще надо учитывать обозначившуюся с годами склонность к полноте. Шофер сразу набирал скорость, сворачивал с главных улиц на менее загруженные транспортом. А там выбирался на шоссе, ведущее к заводу. Ровно в восемь шофер включал радио. И он, и директор слушали "Последние известия" еще в машине. Шофер комментировал вслух спортивные новости. К его футбольным страстям Осадчий относился со снисходительным добродушием, сам он на стадионах бывал редко — не хватало времени. Но вот большой плавательный бассейн для рабочих завода задумал построить и решил, что хоть два раза в неделю будет плавать в нем. — Давай прямо в завод, — сказал он шоферу, когда "Волга" подошла к железным воротам проходной. — К Усачеву, — добавил он. Остановив машину около конторы цеха, Осадчий не поднялся в кабинет Усачева, а пошел пешком вдоль цеха, обогнул его и вошел в ворота, через которые подаются вагоны с сырьем — большими рулонами штрипса. Подальше от фасада цеха было грязнев, кое-где валялся лом, мусор. Осадчий решил при случае сделать внушение начальнику за состояние цеховых тылов. Директор вошел в цех и оказался на участке подготовки штрипса. Ленту разматывал барабан, и она, словно совершая причудливый танец, черной полоской извивалась на площадке, пока нагревательная печь не втягивала ее в себя. Осадчий пошел вдоль печи. Ее форсунки грозно гудели, в печи металось газовое пламя. Тянуло жаром, жар словно бы накатывал упругими воздушными волнами. Во многих местах от печи до стены было не более трех метров. Как тут поворачиваться с ремонтом, с очисткой горячего пода печи? Увидев директора, рабочие молча кивали или поднимали руку в знак приветствия. Все равно стан ревел так, что заглушил бы любой голос, если не кричать человеку в самое ухо. "Шумно, шумно, — подумал Осадчий, — тоже грядущая проблема — борьба с шумами". — Где Гречкин? — Осадчий остановил сварщика, нагнулся к самому его уху. Белозубая улыбка сверкнула на чумазом лице рабочего. — В дежурке! — прокричал он. И словно бы не уверенный, что директор знает, где дежурка, показал рукой направление. — Найду, спасибо! Осадчий поднялся на переходный мостик около маятниковой пилы, держась за теплые металлические поручни лестницы. Вдруг его, как сухим огненным дождем, осыпало веером искр. Осадчий поежился — неприятно! И покосился на рукава костюма — не прожгло ли? "Вот, пожалуйста. И тут недомыслие, черт знает что! — про себя выругался он. — Все это надо исправлять в проекте нового цеха, обязательно". Потом сошел с мостика, свернул направо к двери в дежурку. И здесь сразу увидел Александра Гречкина. Опытный мастер своего дела, сколько лет на заводе, а вот, поди ж ты, угодил в больницу из-за теплового удара. Необходимо предусмотреть, чтобы такое не повторялось. Осадчий поинтересовался, как Гречкин себя чувствует. — Нормально, Яков Павлович, — ответил тот. — Ну, а в цехе, тоже все нормально? — Не все. Слишком часто приходится останавливать стан. То одни трубы, то другие… Замучили перевалки. Вот бы поменьше их, а побольше потока! — Номенклатура, дорогой! — Осадчий развел руками. — Это так! Но переналадки, вот они где у нас, товарищ директор! — Гречкин провел ладонью по горлу. Осадчий оглянулся. В дежурке, за столом, сидело человек десять. Рабочие ждали, пока их позовет мастер. Четверо стучали костяшками домино. Один читал газету. На директора они не обратили внимания. И это даже было приятно — ни суетливости, ни заискивающих вопросов, ни даже жалоб. Зашел директор в дежурку — значит есть дело. Забежал еще один сварщик, разгоряченный, сразу же бросился к сатуратору, высосал две кружки газировки. — Много пьете воды? — спросил Осадчий. — Пьем. Жажда большая. А это на брюхо влияет в конечном счете. — Вот то-то и оно! — сказал Осадчий. За столом засмеялись, кто-то из игравших в домино так шлепнул костяшкой, словно хотел расплюснуть ее или проломить стол. Александр позволил себе даже по-приятельски подмигнуть директору: "Вот, мол, лупят!". Осадчий снисходительно улыбнулся, хотя сам не терпел домино и не понимал, как это взрослые люди могут вкладывать столько азарта в это малоинтересное занятие. — Вот что, Гречкин, — сказал Осадчий, — у меня в десять совещание по проекту нового цеха. Я вас приглашаю. Скажите Кагану или Усачеву, пусть подменят кем-нибудь на часок. — А я-то в каком же смысле? — удивился Александр. — Смысл есть. Приходите, — Осадчий протянул руку Гречкину и, попрощавшись общим кивком со всеми остальными, вышел из дежурки. За воротами цеха директора уже ждала машина. — Давай теперь к заводоуправлению и можешь отдыхать, — сказал Осадчий. — Мне бы заправиться съездить, Яков Павлович, и левый задний скат сменить. Как насчет регламента — не понадоблюсь? — осведомился шофер. — Поезжай. А потом, как обычно… — Ясно. — Шофер твердо усвоил директорский режим. Осадчий ездил обедать домой и всегда в одно время. Совещание началось ровно в десять. Осадчий не прощал небрежения временем ни себе, ни другим. Сказано: "Точность — это вежливость королей". Тем более эта формула обязательна для директора завода, у которого свободного времени меньше, чем у короля, забот больше, а люди, ежечасно сталкивающиеся с директором, более нелицеприятны и строги в своих суждениях, чем придворные. Почти каждый день Осадчий получал приглашения на совещания с обязывающим грифом: "Присутствовать лично". Вот и сейчас его секретарь положила на стол бумажку из облисполкома, сообщавшую, что в 11 утра ("Выберут же самое рабочее время!") будет обсуждаться вопрос о противопожарной безопасности. И внизу приписка: "Явка обязательна". Подавай не кого-нибудь, а именно директора! А что директор — главный пожарник на заводе, что ли? Пожарники, бог с ними, но ведь из десяти приглашений минимум восемь в такие инстанции, куда не поехать нельзя. Открыв заседание, Осадчий сказал: — Только сейчас я заходил в горячий цех. Чтобы еще раз выверить свои мысли и сомнения. Смотрел, думал о новом цехе, который мы построим. Прошелся вдоль стана, самых горячих участков. Жарко! А эти щели-проходы, которые мы пробили в стене в помощь вентиляции — нет, не то, недостаточно. Вот ведь и проектанты в новом цехе запланировали такие щели в стене. Но речь не только о них — о более важном. Директор отпил несколько глотков воды. И не затем, чтобы затянуть паузу, сильнее наэлектризовать слушателей. Нет, просто и сам он почувствовал необходимость в этой маленькой передышке. — Да, должен сказать прямо, — продолжал Осадчий, — мы еще не всегда достаточно думаем над тем, чтобы рабочему человеку создать максимально благоприятные условия для труда. А это нельзя помирить с нашей совестью. Какие бы скорости новый цех ни выдавал, но если он не улучшает условий труда — значит не удовлетворяет нашим требованиям. В проекте нового цеха, который нам предлагают, стан слишком сдвинут к стене. Конечно, это увеличивает площадь складирования труб — вырастает производительность стана, но в проходе между станом и стеной будет еще жарче, а сварщикам — неудобно работать. Нет, мы должны бороться за каждый метр свободной площади. За каждый метр! Он закончил, сказав главное. Ждал, никого не торопил с выступлениями. Пусть товарищи подумают. В глубине кабинета кто-то вдруг громко, даже с присвистом вздохнул. Это была первая реакция на предложение директора, и реакция достаточно красноречивая. Он понимал, что задал трудную задачу. Но что делать! Сколько раз уже им приходилось добиваться переделки проектов, носивших следы явного недомыслия, недальновидности, проектов, обреченных на быстрое старение. — Товарищ Каган, ваше мнение? — спросил Осадчий. — Вы ведь сами бывший конструктор. Каган поднялся, заговорил, как обычно, тихим голосом, но его услышали все: — Повернуть проект нелегко, Яков Павлович, к нам уже поступают рабочие чертежи. Я не раз говорил проектантам — дайте нам больше площади для сварщиков, больше воздуха, света. А они говорят — это дороже. Экономические факторы… Осадчий не выдержал, перебил: — Дороже всего люди! Эту заповедь надо закладывать во все проекты. — То, что будет жарко в проходах, еще полдела, хуже, что вальцовщик не сможет видеть, что делается в клети, — вставил Усачев. — А что думает сам вальцовщик, что рабочий думает? А, товарищ Гречкин? — спросил Осадчий. Гречкин поднялся со вздохом смущения — не часто приходилось ему выступать у директора, — но сказал твердо: — Эти самые щели-проходы в стене мало что дают. Особенно летом, товарищи. Жарковато, верно. А щели, так сказать, приспособление для сквозняков. Вентиляцию не за счет их надо усиливать. И в старом цехе, и в новом, конечно. — Мы можем отодвинуть правую стенку хотя бы метра на три? — спросил Осадчий, обращая этот вопрос к Чудновскому, Усачеву, Кагану. Все заговорили о сложности такой перекомпоновки, нарушающей общую композицию. Ведь надо передвигать и краны, и пульты — многое… — И все же добиться максимально возможного, — сказал в заключение Осадчий. — Вам, товарищ Каган, придется съездить в Москву, в Гипромез. И Терехову тоже. Будьте тверже, отстаивайте наши требования. Ставьте вопрос шире — в каждый технический проект надо закладывать заботу о человеке, в каждый, — повторил он ту главную мысль, которая не оставляла его все это рабочее утро. Потом перешли к текущим делам. Коммерческий директор, развернув папку, зачитал телеграмму относительно новых, ужесточенных требований ОТК к трубам на импорт, помянул про несколько новых заказов. Как обычно, всякое такое заседание заканчивалось разговорами о выполнении программы. Осадчий слушал выступающих, но думал о другом. Он мысленно видел перед собою будущий горячий цех со всеми трудностями строительства и проектирования, со всем ворохом возникших проблем. И вновь, как бывало уже не раз, в его сердце вошло холодком предчувствие новой острой и упорной борьбы. Такой же, как и в минувшие годы, когда решалась судьба трубоэлектросварочного, шли споры о масштабах завода, о технической политике. "Опять будет драка, — подумал Осадчий, — опять будет трудно!"В Москву Терехов и Каган отправились с серьезным заданием, если учитывать, что проект уже прошел апробацию в ряде инстанций. А кроме главного задания, были еще попутные — в техотделы министерства и Главснаба. Днем время уходило на посещения Гипромеза, Госплана, а в свободные вечера бывали в театрах или просто гуляли по городу. Тем более что и поселились они в гостинице, которая находилась в самом центре. Терехов, родившийся в Москве, хорошо знавший родной город, получал особое удовольствие от того, что знакомил с ним Кагана. Виктор помнил улицу Горького еще в довоенном облике. Мальчишкой любил гулять по ней. Теперь он рассказывал Кагану — днепропетровцу, какие раньше здесь были дома, пока улица не раздалась так могуче в своих каменных плечах и не стала впятеро выше ростом. Каган слушал Терехова с живым интересом. Проект нового цеха удалось основательно "повернуть". Терехов и Каган дрались буквально за каждый метр свободной площади, за каждое улучшение условий труда сварщиков, операторов, механиков. Контроль за выполнением проекта Осадчий поручил Кагану. Директор знал его неукоснительную исполнительность и всегдашнюю заботу о рабочих. Но, может быть, директор подумал тогда, что и Каган, более чем кто-либо другой, заинтересован в максимально благоприятной для здоровья обстановке в цехе. Жестокая болезнь не переставала мучить его. Лишь время от времени Каган получал короткую передышку — месяцы сравнительно сносного самочувствия. Было вообще удивительно, как этот человек работает на заводе, а не проводит годы в санаториях. Правда, каждое лето он уезжал отдохнуть в Чебакуль — на местный уральский курорт. Приезжал оттуда посвежевшим, бодрым, но не излечившимся окончательно. Но ни на курорте, ни на заводе, никогда, нигде Каган не говорил о своей болезни, не любил говорить. Даже самые близкие его друзья не подозревали о том, насколько тяжело он болен. Не предугадывал исхода болезни и Владимир Иванович Корнилов, работавший в те годы мастером в цехе, один из тех, с кем Каган в это тяжелое для себя время сошелся особенно близко. Всем складом своей натуры этот скромный, застенчивый человек с тихим голосом, должно быть, напоминал Кагану самого себя. Не это ли и притянуло их друг к другу, вопреки известному мнению, что похожие характеры более склонны к взаимоотталкиванию? Много позже я разыскал Корнилова в том же цехе, по в новой должности — заместителя начальника по электрооборудованию. О Кагане он заговорил сразу горячо и взволнованно. — Об этом человеке все будут говорить вам только хорошее, — сказал он мне. — Я любил Наума Иосифовича, да и как его было не любить! В последние годы он существовал, я думаю, уже только на одной любви к жизни и заводу. Мы разговаривали в кабинете Корнилова, он перебирал на столе какие-то бумаги, но не читая, откладывал, и мне показалось, что делает он это только, чтобы найти занятие своим рукам и сосредоточиться. К нему часто заходили люди, но Корнилов выпроваживал их за дверь резким движением руки — не мешайте — и продолжал рассказывать: — Каган почти всегда температурил, но никогда по оставлял своего поста… Такой человек! Я и сам, как многие другие, не подозревавший о серьезности его болезни, слушая Владимира Ивановича, вновь вспоминал былые встречи. И уже как бы иными глазами, иным духовным зрением оценивал и слова, и поступки Наума Иосифовича. — Иной раз у него бывали такие обострения, — вспоминал Корнилов, — что он, хотя и жил рядом с заводом, договаривался с охраной и вызывал такси, которое подвозило его прямо к цеху. Поднимается на третий этаж без лифта, задыхается — тяжело. Но отдохнет немного и снова идет. Не хотел поддаваться болезни. А сколько раз, бывало, при освоении нового цеха мы уговаривали его не ночевать в конторе, идти домой, ведь сон для него — все. Но ни разу не удалось уговорить. Вытащит из кармана, поглотает какие-то таблетки — и снова за работу. Новый цех вошел в строй действующих. Наступила пора, пожалуй, не менее ответственная, чем строительство, пора творческого освоения стана. Усачев и Каган возглавили комплексную бригаду, и она последовательно устраняла недоделки, доводила, додумывала каждый технологический узел и узелок. Предложенная научным институтом калибровка не оправдывала себя. Слишком часто лента трубы рвалась на стане. Тонкое это дело — калибровка валков. Здесь мало одних формул, нужен опыт, чутье, верная интуиция. Калибровку переделывали Усачев, Каган, Терехов. Наступило время использовать предложенную Тереховым идею. Каган никому не передоверял ответственные расчеты. Умел и любил это делать, и ни один расчет калибровки не миновал его строгого контроля. Новый цех не сразу вышел на рубеж своей проектной мощности. Прошел год, пока он, наконец, достиг запланированной производительности, а затем и намного превзошел ее. Вскоре в газете "Челябинский рабочий" появились крупные портреты новых лауреатов Ленинской премии. Это были инициаторы создания нового горячего цеха — Осадчий, Усачев, Каган. В те же дни заводская газета "Трубопрокатчик" писала: "…Известие о присуждении Ленинской премии застало Н. И. Кагана больным. Сейчас Наум Иосифович поправляется после болезни. Скоро он опять с головой окунется в работу. А пока он по телефону отвечает на многие поздравления друзей и товарищей…" Да, радостное известие, множество писем, поздравлений и приветствий застали Кагана в те дни, когда он, уже в который раз, собирался вновь лечь в больницу на исследование. Болезнь наступала. В последние месяцы произошел перелом к худшему, и с каждым днем борьба с недугом становилась все тяжелее, все более утомляла. Однако те, кто видел и навещал Кагана в больнице, уходили из больничной палаты с уверенностью, что Наум Иосифович вовсе не думает о смерти. До последней минуты он не терял живого интереса ко всему, что происходило в мире. Просил рассказывать ему о заводе, о новом цехе, сам звонил туда, разговаривал с Усачевым, Корниловым. И никому из заводских товарищей Кагана не приходило в голову, что время уже отсчитывает последние часы его жизни. Может быть, потому свершившееся показалось совершенно диким, неожиданным и невероятным для всех. Даже для близких друзей, как гром с ясного неба, грянуло траурное извещение в газете.
Утро в день похорон выдалось солнечное, как-то особенно, по-весеннему, просветленное, будто обещавшее долгое и теплое лето, которое так любил Каган. В это утро тысячи рабочих, спешивших, как обычно, к главной проходной на дневную смену, и рабочие, уходившие через проходные после ночной смены, узнали из сообщения заводской многотиражки о том, что "вынос тела состоится из дома № 30 по улице Машиностроителей". Улица эта примыкала к "заводу и тянулась вдоль его стены. Поэтому вся ночная смена, не растекаясь, как всегда, по улицам и переулкам, на трамвайные и автобусные остановки, а монолитной, печально молчаливой массой сгрудилась метрах в ста от завода, напротив трехэтажного дома с небольшим палисадником и балконами, украшенного траурными флагами. Гроб вынесли из дверей и, хотя рядом следовало несколько машин с венками, его пронесли всю дорогу на руках. В числе тех, кто подставлял под гроб свои плечи, попеременно уступая друг другу место, были Усачев, Терехов, Корнилов. Никто из них потом не мог вспомнить подробности — истинная печаль и неподдельное горе притупляют память. …Подробности об этой смерти я узнал только через несколько лет. Но тем приятнее мне было увидеть, что и через несколько лет инженера Кагана на трубопрокатном не забыли. Технический прогресс, как и сама жизнь, непрерывен. Инженер, оставивший после себя любое, самое новейшее производственное усовершенствование, не может быть уверен, что через некоторое время оно не будет заменено еще более новым, лучшим. Но стирается ли от этого его личный вклад, его творческий след на пути бесконечного развития индустрии? Конечно, нет, хотя бы потому, что суть всякого современного технического достижения — в его коллективности, в том, что каждый последующий шаг предполагает отправную точку, от которой он сделан. В этой неразрывной взаимосвязи и есть значение всякого усилия и награда тому, кто внес свой вклад в общее дело. Вспоминая о Кагане, я частенько заходил и в старый, и в новый горячие цехи посмотреть, как со скоростью 400–500 метров в минуту (так движутся курьерские поезда) летит между валков лента штрипса, как шелестит быстротекущий по рольгангам раскаленный металл, как знаменитая на заводе двойная кагановская петля штрипса вьется над нагревательной печью и внутри ее, а затем лучше прокаленная, с большей, чем когда-то, скоростью, устремляется в обжимные клети стана. Смотрел и думал, что если бы и не остались после Кагана эта зримая двойная петля, действующие по сей день расчеты калибровок и другие его усовершенствования, если бы и не стояли на заводской земле эти два огромных цеха — своеобразный памятник талантливому инженеру, все равно осталось бы людям ценное наследство — нравственный пример чистой и цельной жизни, с таким самозабвением и страстью отданной любимому делу.
Ступени
Тереховы получили новую трехкомнатную квартиру в центре города, и Виктор Петрович пригласил меня зайти к нему. Как-то так получилось, что мы больше встречались на заводе, в цехах, в его кабинете, даже в театре, но не дома. Воспользовавшись приглашением, я нашел восьмиэтажный большой дом, почти полностью заселенный работниками трубопрокатного завода, поднялся на пятый этаж без лифта по широкой лестнице и нажал кнопку звонка у обитой кожей двери с номером восемнадцать. Это была четвертая по счету квартира Тереховых в Челябинске, если считать первой ту самую комнату, которую делили пополам две семьи. После общежития Виктор Петрович получил сначала отдельную комнату, потом двухкомнатную квартиру в поселке и, наконец, вот эту, в доме вблизи драмтеатра, гостиницы, универмага, одним словом, в самом центре. Я помнил прежнюю "берлогу" Тереховых, как любил говорить Виктор Петрович. Она была обставлена со вкусом, но в пределах тех возможностей, которыми располагал тогда единственный в городе мебельный магазин. Сейчас я сразу же заметил ковер на полу, низкие кресла, тахту, журнальный столик у телевизора, магнитофон, радиолу — все то, что ныне представляет такую же неотъемлемую часть внутриквартирного интерьера, как сравнительно недавно — голландская печь, железная кровать и большой платяной шкаф. Над невысокими книжными шкафами висели копии картин Левитана и Репина, репродукции Пикассо — "Девочка на шаре" и еще какая-то цветовая композиция. Хотя я пришел в семь вечера, Вера сказала мне, что муж еще на заводе, и ушла ненадолго в спальню, оставив меня рассматривать лежащие на столике журналы. Когда она вернулась в комнату, я как раз разглядывал яркую, но, казалось бы, не совсем законченную картину, висевшую на стене. Я спросил Веру, не та ли это картина, которую она купила в Париже, на Монмартре, на знаменитой площади художников? Год назад вместе с Виктором, Верой, Ириной Чудновской и другими челябинцами мне довелось туристом ездить по Франции. Был апрель, ясный, солнечный, подлинная весна света и тепла, прекрасный парижский апрель. Тогда на Монмартре я увидел, как Вера торговалась с бородатым парнем лет тридцати, в мохнатом свитере, который едва ли не доходил ему до колен. Этот художник запросил за свою только что написанную картину двадцать франков. Верадолго его уговаривала отдать за десять, потому что больше у нее нет, а если она купит, то картина с Монмартра уедет на Урал, в Челябинск, сохранив в своих красках кусочек французского солнца и парижской весны. — Эта, эта самая, вы узнали! — воскликнула Вера. — Ох, и долго я торговалась, но все же получила ее. Помните? — Ну, конечно, — сказал я, — сейчас будто снова вижу эту площадь и художника вашего припоминаю. Я не сказал Вере, что еще помню, как она разволновалась, даже щеки у нее стали пунцовыми, она это чувствовала и все прижимала к ним ладони. Конечно, Вера не была уверена, понимает ли что-либо молодой художник из ее возбужденной речи, в которой все время звучало: "Урал, Урал, Челябинск!", однако картину он отдал, сняв толстый бумажный лист с подрамника и аккуратно свернув его. Сам же художник немедленно отправился в маленькое кафе, одно из тех, что окружали кольцом площадь Монмартра. Может быть, он был голоден с утра и мелькавший перед его глазами навес кафе со столиками оказался сильным союзником Веры в ее торге. Во всяком случае, она счастливая покинула эту обитель муз и искусства, села в автобус с белой трубочкой в руках. Сейчас Вера и я с еще большим вниманием посмотрели на картину. Собственно, это был эскиз, изображавший кабаре и эстрадный театр Мулен-Руж с эмблемой мельницы, вращающей крыльями. Знаменитый Мулен-Руж, что находится вблизи площади Пигаль. Мне было приятно увидеть в доме Тереховых этот эскиз, привезенный из Парижа, с Монмартра. Пока я думал об этом, Вера принялась за вязание, усевшись в кресло напротив меня, произнесла со вздохом: — Сегодня я устала. Набегалась. Надо бы мотороллер завести, что ли? Из моей заводской лаборатории до цеха манесмана, например, километра три наберется. А ведь не в один конец бегаешь! Я посоветовал купить малолитражку в складчину. — Вот только что и остается, — махнула Вера рукой и произнесла это в том топе, который предполагает шутку в ответ на такое же шутливое замечание собеседника. — Мне бы другое: как-нибудь выкроить… лишних полчаса на сон, — сказала она. — Как вы ездите на работу, все автобусом? — спросил я. — Заводским. Он подходит к дому. — А с мужем, на "Волге"? Вера пожала плечами. Нет, на "Волге" она не ездит, хотя машина главного инженера и приходит за мужем. Во-первых, это на полчаса раньше, а во-вторых, не положено. Есть такое словечко. Не по рангу. Пойдут разговоры: Терехов жену возит. Неудобно. Одно время Вера работала в совнархозе, находившемся рядом с ее домом. В перерыве она даже успевала забежать домой, покормить дочку. Это было удобно. Но теперь Вера снова вернулась на завод, попала в более жесткий регламент со временем, тратила лишних полчаса на дорогу и заматывалась в семейных делах. Часов в восемь раздался звонок у двери. — Это Терехов, — сказала Вера. Она часто называла его по фамилии, почему-то это было принято в их семье. — Раньше восьми я его обычно и не жду. Вкалывает по-молодому, — произнесла она явно без одобрения. Виктор Петрович появился в коридоре, бросил оттуда: "Здрасьте", затем я увидел его широкую спину и поблескивающую лысину. Он снимал в коридоре у вешалки плащ, шляпу и ботинки. Терехов вошел в гостиную, протирая платком стекла очков. Как у всех близоруких, глаза его без очков выглядели не так, как в очках, казались мягче, добрее и как-то беззащитнее. — Уф! — выдохнул он. — Есть будешь? — спросила Вера. — Нет, только чай. — Я несколько раз звонила диспетчеру. Спрашивала, выехал ли ты с завода. Отвечают — нет. Ну, что там? В этом вопросе Веры прозвучала, как ни странно, большая озабоченность делами заводскими, чем той усталостью, которая сейчас у Терехова проступала в каждой черточке лица. Я невольно улыбнулся. Как ни ворчала Вера на занятость мужа, а и она жила интересами завода. — Ты же знаешь, конец месяца, вытягиваем план, — ответил ей Виктор Петрович. — В каком цехе? — Всюду. Но в старом, горячем, особенно. — Ах, эти последние дни! — вздохнула Вера. — Всегда напряжение! — В общем, вытягиваем, — еще раз повторил Терехов с улыбкой, в которой явно просвечивали удовлетворение и еще оттенок того, что слово "вытягиваем", справедливости ради, надо понимать как "вытягиваю". — Тебя туда послал директор, — не то спрашивая, не то этим вопросом пытаясь разъяснить мне суть дела, сказала Вера. — Понимаете, каждый день совещания, — продолжал Терехов, как человек, начавший говорить о чем-то приятном и поэтому стремящийся еще немного продлить это удовольствие. — Совещания коротенькие, деловые. Что "жмет"? Чего не хватает? Конкретно разбирался, с карандашом. Пересчитал им режим прокатки в одном случае, в другом — сказал, как надо заварить треснувший валок. Мастера одного отстранил от работы — он меня обманул. — А именно? — заинтересовался я. — Не выполнил одного указания. Теперь побегает к директору! Восстановят, конечно, ибо мастер он вообще-то неплохой. Потом я двоих представил на премию. В общем, где взыскание, где поощрение, где твердость, а главное — анализ недостатков. — Директор как? Ты ему доложил? — Я видел, Вере очень хочется услышать, что мужа хвалят. — Ему каждое утро приносят сводки. Я позвонил, сказал: "План будет". Он: "Хорошо". И все. Мы немного помолчали. — А ты все-таки варварски относишься к своему здоровью, — произнесла вдруг Вера совсем другим тоном, словно бы только сейчас рассердившись на кого-то, кто в должной мере не оценил старания мужа, и на него самого за небрежное к себе отношение, и на себя за то, что… Ну, я уж не знаю, за что! — Ты избалован своим здоровьем, а оно не вечно, — все еще сердито продолжала Вера и вдруг погрозила мужу пальцем. — Понятно, понятно, — махнул рукой Терехов, и пошел в спальню переодеться. Я же остался один в гостиной. И невольно начал вспоминать рассказы самого Виктора Петровича о его производственных ступенях, о том, как он начинал свою жизнь на заводе.Виктор Терехов и его жена закончили московский институт в одном году, вскоре после войны. Вдвоем улетали осенней ночью из столицы. Москва прощалась с ними вспышками аэродромных прожекторов, мерцанием огней, уплывающих из-под крыла самолета. На рассвете из-за туч показались Уральские горы и, как мохнатые каменные звери, зашагали по земле, одна за другой, к черте горизонта. Внизу лежал край заводов и рудников, край голубых озер и рек — батюшка-Урал! — Дома, — произнес Терехов, когда самолет приземлился на аэродроме Челябинска. Он повернулся к Вере и вдруг увидел в ее глазах слезы. Просто она тогда разволновалась: перелет в чужой город, все новое, неизведанное, пугающее, и новая полоса жизни надолго, может быть, навсегда. — Не реви, здесь не любят слабонервных, — сказал тогда Терехов, чувствуя и у себя под сердцем какую-то сосущую слабость. Фраза эта запомнилась. Не оттого ли, что жизнь подтвердила ее? Никто ведь не знает, почему вам запоминается одно, а не другое. О, первый автобус с аэродрома и первый трамвай в городе, везущие Тереховых в новую жизнь! Это тоже запомнилось навсегда — предметно, картинно. Пожалуй, только молодость обладает веселой снисходительностью к тяготам быта, умеет скрашивать их шутками. Только в молодости можно без душевных драм, хотя и испытывая неловкость, двум семьям жить в одной комнате общежития. Здесь каждая семья имела свой очаг, уклад и могла бы поднять над ситцевой занавеской флаг своей семейной "конституции". Молодых людей выручало частично лишь то, что мужчины работали в разные смены: то один не ночевал в комнате, то другой, а жены днем тоже уходили на завод. Вера поступила в ЦЗЛ — центральную заводскую лабораторию. Виктор Петрович как-то рассказывал мне, что год назад задумал он написать не то воспоминания, не то рассказ о первых месяцах своей работы на заводе. И даже название придумал: "Хмурое утро Кольки Рябцева". Правда, времени на это не нашлось, но сюжет запомнился, может быть, потому, что Терехов не раз излагал его жене. А хотел он описать, как этот самый Колька Рябцев едет утром на завод в жарком и душном вагоне трамвая. И в горячем цехе, где он работает у стана, тоже очень жарко, пышет металл, мастер кричит, потому что все Бремя то в одном месте заедает, то в другом. В середине смены Рябцев зазевался, не заметил обрыва ленты штрипса, и кусок трубы ударил в круглую пилу. А лента летит по валкам с огромной скоростью. За десять секунд намотало вокруг стана метров семьдесят раскаленной полосы. Рябцев растерялся. Спасибо, мастер выручил — включил аварийный стоп-кран. Потом дали металлу остыть, и началась резка полос. Рябцев, обливаясь потом, тоже резал автогеном это стальное кружево. Кончилась смена. Рябцев отправляется домой. Успел пройти дождик, и на улице стало прохладно. Рябцев думает о прожитом трудном дне, который послужит ему уроком, и о своей ошибке, которую он уже больше никогда не повторит. И люди в трамвае ему кажутся симпатичнее, и некое даже чувство удовлетворения, хотя и настоянное на горечи осознанной вины, входит в его душу. Хмурым было только утро, а день — ясный и добрый. В общем, что-то в этом духе… Фабула не ахти какая сложная, но дорога тем, что в Кольке Рябцеве Виктор видел себя в те первые месяц или полтора, когда приходил домой, не чувствуя рук и ног, а Вера штопала его рабочий костюм. Она тогда часто повторяла, что Виктор, наверное, нарочно ищет в цехе то место, где можно прожечь штаны или пиджак, а по возможности обжечь и собственную кожу. Это не раз случалось. — Горю на работе, — отшучивался Виктор. — Могу сгореть совсем! Совсем он не сгорел, хотя и поменял за эти полтора месяца три пары ботинок — прожигал подметки. Потом первые дни и недели собственно инженерной работы. Они оказались не менее трудными. Как-то в цехе вышла из строя пила на стане. Начальник цеха Коньков вызвал Виктора, чтобы дать ему первое техническое задание. Человек лет сорока, с хмурым, скуластым лицом, раздражительный, очень подвижный, порывистый, Коньков словно бы все время горел на огне сильных и противоречивых желаний. Так оно и было на самом деле. Коньков страдал от семейных неурядиц, в коих сам был виной, изменял жене, но не мог решиться на развод, мучил и себя, и двух женщин. Но обо всем этом Виктор узнал лишь спустя много времени. А в тот день Коньков, на которого Виктор смотрел так внимательно и уважительно, как только мог выразить его взгляд, сунул Виктору чертеж и, искоса взглянув на него, бросил: — Разберитесь! Виктор отправился к пиле с чертежом в руках и уверенностью, что мигом разберется в неполадках. Однако к пиле его просто не пустили. Да, вот так не пустили — и все. Мастер и начальник смены без всяких объяснений сказали: "Подождите, молодой человек!" И стало ясно, что они не доверяют ни его знаниям, ни его рукам и боятся, что молодой инженер "наломает дров" в механизмах огромного и сложного стана. Была ли это грубая самодеятельность мастера или же сам Коньков изменил свое распоряжение, осталось для Виктора загадкой. Но чувство стыда, которое Терехов тогда испытал, долго не покидало его. Он, специалист с дипломом, инженер, только потоптался около пилы, почувствовав себя вдруг маленьким, робким, неуверенным. И, странное дело, в тот день Виктор не нашел в себе силы возразить мастеру или же поспорить с ним. Так он и не выполнил задания начальника цеха. Прошли день, два. К пиле Виктора так и не допустили, зато вскоре Коньков предложил ему другое задание. — Займитесь стыкосварочной машиной, — сказал он и тут же спросил подозрительно: — Справитесь? — А меня к ней подпустят? Это все-таки главное условие, — уже тверже сказал Виктор. — Да, идите, — кивнул Коньков. У стыкосварочной машины "барахлила" электрическая часть. Виктор сидел у машины чуть ли не сутками. Наконец нашел неисправность, устранил, машина начала работать. Третье задание Терехову давал уже не Коньков, а начальник смены. Виктор пришел к нему спросить, что ему делать. Конечно, он понимал, что проходит своеобразный испытательный срок, но так ли надо организовывать испытание? Удивительным казалось впоследствии, что оше-ломленный таким суровым приемом он тогда психологически даже не рассчитывал на постоянную инженерную нагрузку. Приходил за очередным заданием, не зная, что будет дальше. — Разберитесь с формовкой на второй клети, — предложил ему начальник смены. На второй клети плохо сваривалась труба, на стальном ее теле появились странные вмятины. В цехе не могли понять, откуда и почему они возникают. Сам Коньков долго ходил вдоль стана. Виктор чувствовал на себе внимательные взгляды рабочих, волнуясь, ходил вдоль стана, присматривался к этим чертовым вмятинам и ничего не мог понять. Наконец его осенила простая мысль: зайти с другой стороны стана. Тут Виктор и увидел навар шлака на валках. Он смерил расстояние между двумя вмятинами — оказалось, оно равно трем миллиметрам. Такое же расстояние было между бугорками шлаковых наваров. Значит, они и создают вмятины? Виктор показал расчет Конькову. — Да, точно, — сказал он. — Молодец! — и уже иными глазами посмотрел на Виктора. Внимательно, изучающе. Виктор почувствовал: его начинают уважать. Первый успех окрылил. Он принес с собой уверенность в своих силах и ту радость, которую дает это ощущение. Виктор ходил веселый, в приподнятом настроении. Но преждевременная уверенность часто приносит неудачу. И она не замедлила явиться. Существовала в цехе печной сварки труб такая простая на вид, но вместе с тем сложная операция. Надо было заправить в валки первой клети раскаленную, летящую с огромной скоростью ленту штрипса. Заправить вручную, клещами. Обычно операцию проделывал опытный, старший вальцовщик. Но ободренный первым успехом Виктор решил проделать это сам. Он стал заправлять конец штрипса и неправильно взялся за клещи. Всего-то! Но этого было достаточно, чтобы лента заформовалась неправильно, как говорят рабочие, "вверх тормашками", и выбила формовку на всем стане. Три часа пришлось вырезать автогеном застывшую, испорченную ленту штрипса во всех клетях. — Не умеете, не лезьте! — кричал на Виктора Коньков. — Вечно тут с такими сопляками морока! Коньков разбушевался и долго не мог успокоиться. Все ворчал, все ругался. Вот тогда-то Виктор и решил научиться всем рабочим операциям в цехе. Чтобы уметь все делать самому во что бы то ни стало! С этого дня Терехов начал ходить в ремонтные смены, помогал бригаде, всюду лазил как простой рабочий, смотрел, вникал. Однажды, когда его уже назначили начальником смены, он задержался на несколько часов, чтобы поработать как рабочий. Коньков узнал об этом, снова рассердился. Почему? Этого Виктор понять не мог. Что дурного в том, что он хотел сам отработать некоторые рабочие операции да и просто помочь сварщикам? Сил у него хватает, он не устал за свою смену. И притом он с чистой душой… Но Коньков не понял его порыва. — Вы кто — рабочий или инженер? Вы нам тут такую моду не вводите, чтобы инженерам по две смены болтаться в цехе! — выговаривал он Виктору. — То же мне… Свое, порученное дело лучше выполняйте. Виктор выслушал нагоняй, молча ушел. Странным все-таки человеком был начальник цеха. Долго и с трудом Виктор налаживал с ним сносные отношения. Да и не только с ним. Отношения с рабочими складывались тоже не просто. На первых порах Виктор допустил грубый психологический просчет. И раз, и второй выпил в компании с подчиненными. Казалось, это верный путь сближения с ними: посидеть за бутылочкой, раскрыть душу, выслушать искренние излияния, быть простым, рубахой-парнем, ничем не выделяться. Куда как лучше! Отрезвление пришло позже. Когда однажды мастер, товарищ по пьяной компании, принес прямо в цех пол-литра и, конечно, рассчитывал на безнаказанность. Виктор был поражен. Так вот какой "авторитет" заработал он среди рабочих! Отправив мастера домой отсыпаться, Виктор долго не мог найти себе места. И некому было пожаловаться, и некого было ругать, кроме себя. Как раз именно в этот период его жизни случилась с Тереховым история, едва не закончившаяся для него трагически. Сам он называл ее потом "жестоким уроком по технике безопасности". А я думаю, что смысл и значение ее для Виктора были куда глубже. Это был суровый урок на всю жизнь. Произошло все в ночную летнюю смену, на рассвете. Стан временно не работал. Виктор, не торопясь, шагал по пролету и обдумывал, как ему поскорее погрузить в вагоны уже готовые трубы. Обычно трубы грузили мостовым краном, который получал электрическое питание от троллея — протянутых высоко под потолком цеха голых проводов с током высокого напряжения. По ним, как дуга трамвая, двигались медные щетки мостовых кранов. Для того чтобы пустить нужный ему кран, Виктор подошел к распределительному щитку и включил рубильник. Он не посмотрел в эту минуту на потолок цеха, а мастер, находившийся неподалеку, не предупредил его, что там, наверху, работают электрики, ремонтируют троллей. И едва Виктор включил рубильник, как кто-то из рабочих, заметивших это, отчаянно закричал на весь цех: "Человека убило!" Похолодев, Виктор рванул на себя рубильник. Должно быть, электрик, молодой парень, родился в рубашке, ибо, как выяснилось потом, он буквально за несколько секунд до включения рубильника отошел от голого провода в сторону. Позже Миша — так звали электрика — рассказывал Виктору, что ему почудилось в ту секунду, будто бы кто-то негромко позвал его. Удивительно! Просто какая-то телепатия! А не будь этого внутреннего голоса, этого интуитивного движения в сторону от троллея, веселый электрик Миша, которого хорошо знал Виктор, уже был бы мертв. Хотя все обошлось благополучно, Виктора трясло, как в лихорадке, до конца смены. Он никак не мог успокоиться. Что могло служить ему извинением? Разве только то, что знак-оповещение не был повешен у распределительного щитка. Но существует правило: механизм нельзя включать, прежде чем не выяснишь, почему он выключен. Еще до вызова к начальнику цеха Виктор ходил по пролету, опустив голову, ему казалось, все рабочие смотрят на него с презрительным укором. Так тяжело было на сердце, что хоть бросай работу и уходи. Коньков хотел тут же сообщить о чрезвычайном происшествии директору и главному инженеру, но его отговорил заместитель — Каган. Предложил обсудить этот проступок здесь, в цехе, в своем коллективе, пригласить на обсуждение секретаря комсомольской организации, мастеров. Всем следовало серьезно поразмыслить над этим случаем. Коньков, который раздражался так же легко, как и успокаивался, подумал, вздохнул и согласился. Совещание начали после конца ночной смены. В кабинете начальника собралось человек пятнадцать. Молчали, курили, старались не смотреть на Виктора, который присел на стул около самой двери. Первое слово Коньков предоставил комсомольскому секретарю Алексею Соколову. — Этой ночью случилось в нашем цехе ЧП, — начал он. — Из-за того, что молодой инженер забыл про технику безопасности, едва не погиб человек. Мы понимаем: Тереховым руководило желание быстрее начать работу. Но ничто не может извинить беспечность! Как только комсорг начал говорить, Виктор поднялся со стула. Он стоял теперь, прислонившись спиной к стене, опустив руки, которым не находил места. Взял было в руки кепку, потом бросил ее на стул, снова зачем-то поднял и опять бросил замасленную скомканную кепку, которую носил на заводе и летом, и зимой. — Получается такая картина, — продолжал комсорг, и слова его гулко звучали в кабинете, где сейчас было как-то уж слишком не по-заводскому тихо. Виктор даже слышал, как поскрипывали чьи-то шаги за дверью, и ему казалось, что и там все слышат, как "пропесочивают" нового начальника смены, — …такая картина. Сколько бы учености молодой специалист ни захватил из института, а факт, что в цехе ему многому надо учиться. Правильно я говорю, товарищи? — возвысил голос комсорг. — Верно, надо учить, — вставил Каган. — А то ведь так бывает: теоретической физикой человек владеет, практически же какой-нибудь простой моторишко собрать не может, — добавил комсорг. Виктору было стыдно. Он и сейчас, через много лет, вспоминая то заседание, ощущает вновь липкое чувство стыда. Уже став начальником цеха, а потом и заместителем начальника производства, он, если слышит, как кто-либо из мастеров ворчит на молодого специалиста, ругает его за неопытность, всегда останавливает такого человека. Ибо вспоминает свои первые шаги на производстве. И этот проступок. И еще помнит о том, что человек, а особенно молодой, никогда не забывает унижения или пренебрежения, если даже это пренебрежение было неумышленным. Но тогда в кабинете Конькова Виктор не озлобился на товарищей, которые жестоко отчитали его. — Вот что, — сказал Коньков, — будем заключать. Терехов виноват, а то, что у него были благие намерения, сути не меняет. Электрика спасла случайность. Случайности этой мы благодарны, а товарищу Терехову — нет! Но, думаю, обойдемся без крутмер. — Каких? — переспросил кто-то. — Без крутых мер, оргвыводов то есть. Есть вещи, которые потяжелее выговора в приказе. Осуждение наше. Правильно или нет, Терехов? — Да, конечно, — ответил Виктор. Искренность его, кажется, смягчила даже Конькова. Когда Терехов вышел, наконец, на свежий воздух, был уже полдень — солнце поднялось над заводом. Яркий его свет стер теневые полоски и пятна, и труба мартена отливала веселыми бликами. На заводском дворе, как обычно в середине смены, было пустынно и тихо. Только пыхтели и посвистывали на путях маневровые паровозики, бегая с гружеными платформами от цеха к цеху. В тот час многое обдумал Виктор. Случается, сильные переживания, если и не приводят человека к состоянию длительного нравственного шока, могут ослабить волю, притупить активность. Конечно, Виктору было тяжело. Но он понял: такое состояние можно преодолеть работой, которая бы забирала всю энергию, все силы. Он как-то прочитал, что, согласно исследованиям психологов, человек использует только десять процентов своих физических и умственных способностей. "Неужели только десять процентов? Как мало!" — поразился тогда Виктор. Этот вывод психологов долго занимал его мысли. И не только применительно к себе, но и к смене, которой руководил. "Какие же у нас огромные резервы, возможности!" — думал он. Получалось, что хорошим руководителем смены, цеха, завода мог считаться тот, кто способен вдохновить своих подчиненных отдавать себя больше труду, заводу, людям. Когда же Виктор сталкивался с работниками, норовившими отдать поменьше, а получить побольше, он испытывал чувство брезгливости. Работал в те годы в смене Терехова мастер, некий Гурский. Высокий, крупнотелый мужчина в годах, с какой-то развинченной, нескладной походкой. Этот человек обладал феноменальной способностью засыпать тотчас, как только появится к тому возможность. Особенно в ночных сменах. Когда Гурский засыпал где-нибудь в укромном уголке, один из электриков, тоже любитель подремать в рабочее время, садился напротив него и мгновенно погружался в сон. Если первым просыпался Гурский, он, открывая сначала только один глаз, внимательно смотрел на электрика, спрашивал: — Николай, что ты делаешь? — Пою песни. — А почему не слышно? — Я про себя, — отвечал Николай. Это был странный диалог двух лодырей, чьи представления о рабочей чести находились, видимо, на одном уровне. Удивительнее всего, что Гурский обладал и многими хорошими качествами — был образован технически, знал английский язык, разбирался в специальной литературе. А вот стать активным помощником начальника смены не захотел. Вскоре Виктор понял, что этот человек, ходивший и зимой, и летом в костюме, застегнутом на все пуговицы, строгий, важный на вид, был в чем-то внутренне сломан, лишен крепкого нравственного начала. Будь у Терехова больше опыта, он, может, и смог бы повлиять на Гурского. Но в тот год все вышло не так, нехорошо. Виктор стал настаивать на увольнении мастера. И добился своего. Гурский исчез куда-то с завода, больше здесь о нем не слышали. Вначале Терехов был доволен, что проявил такую твердость: пусть знают в цехе — история с троллеем не сделала его бесхребетным. Но потом, спустя много месяцев, Виктор с досадой вспоминал о своей поспешности. Ведь в отношении его самого на заводе не поторопились с жесткими выводами. Да, это была ошибка. Потом сколько раз он убеждался в той простой и вечной истине, что спешить к людям надо только с добрыми делами. Только с добрыми. Науку поведения, к сожалению, еще не преподают в наших институтах. А надо бы! Потому что сама жизнь учит сурово. Вот с такими, заработанными нелегким опытом выводами Виктор Терехов начал выходить из полосы своих первых ошибок и промахов на производстве. Но никогда, он горячо говорил мне об этом, не пожалел о том, что с полной выкладкой прошел через все должности в цехе, что начал с "низовки", был рабочим, мастером, и не из книг узнал, каково работается на стане и зимой, и летом, под грохот валков и шелестение скатывающихся со стана труб…
Челябинск — Лонжюмо
Как-то в один из летних воскресных дней я вышел из гостиницы погулять по площади Ленина. Сквер, примыкавший к площади, начинался от памятника Ильичу и уплывал волнистой полосой в глубину улицы. Сама площадь была такой большой, что здесь мною всегда овладевало ощущение удивительной шири и беспредельности пространства. В уральских городах и небо-то кажется большим, чем в иных краях. Сейчас в сквере пахло теплой землей и водой. Недавно проехали поливальные машины. Желтые песчаные дорожки искрились. Солнце и утренняя свежесть — чего лучше! Неожиданно я встретил Виктора Петровича, который тоже вышел подышать свежим воздухом. — Посидим немного, поболтаем, — предложил он. Мы присели на скамейку недалеко от памятника, от которого в разные стороны расходились трибуны. Сюда, на эту площадь, в дни революционных праздничных торжеств стекаются колонны демонстрантов. Не помню уж, о чем говорили мы с Тереховым, когда неожиданно для нас дверь позади громадного десятиметрового постамента открылась и из нее вышел человек. Это был старик лет семидесяти, с седой шевелюрой, в аккуратной белой рубашке с галстуком. Терехов сразу же определил: — Сторож. Меня заинтересовал этот старик, по-хозяйски, не торопясь, обходивший памятник. Он приструнил расшалившихся школьников, убрал веточку с мраморной ступени. — Вы были когда-нибудь там, внизу, под трибунами? — Терехов показал глазами на дверь. Я отрицательно покачал головой. — И я, — сказал Терехов. — Ну, так зайдем? Сторож не возражал, наоборот, он охотно пригласил нас. Предложил: — Следуйте за мной. За дверью оказалась крутая металлическая лестница, которая вела вниз, в две комнаты. В одной размещалась радиоаппаратура, необходимая во время демонстраций. Старик рассказал нам, что он старый большевик, в партии с тысяча девятьсот семнадцатого года. Подпольная партийная кличка — товарищ Семен. Так, случается, зовут и до сих пор. Настоящая же фамилия — Селиверстов Иван Федорович. — Очень приятно, товарищ Семен, — сказал Терехов. — Я инженер с трубопрокатного завода. Коммунист молодой. — Однако известная фигура на заводе, — вставил я. — Кому я известен? — махнул рукой Терехов. — А вас, товарищ Семен, я, по-моему, видел где-то? — Здесь и видели, я всегда на посту, — с гордостью ответил старик. Не так уж часто в наши дни можно вот так случайно встретить человека, который видел Ленина, слышал его, сохранил живые воспоминания. Я видел, Терехов тоже с любопытством смотрит на старика. А тот начал рассказывать, как в дни революции он очутился в Смольном и увидел там Ленина. Владимир Ильич, закончив совещание с краснофлотцами, подошел к группе рабочих и у товарища Семена спросил, куда он теперь держит путь. — На Урал. Я коренной уралец, — ответил товарищ Семен. — Очень хорошо, — сказал тогда Ленин. — Зайдите перед отъездом ко мне, у меня будет для вас поручение. Так рассказывал товарищ Семен, и я подумал, что не так уж важно мне или Терехову, все ли в этом рассказе абсолютно точно. Старик ведь не писал мемуаров, он просто, от души беседовал с теми, кто заглядывал к нему. Лицо его оживилось, помолодели глаза. Старый уральский рабочий, он еще долго рассказывал про свою жизнь, про то, что не захотел сидеть на пенсии дома, без дела. — Просил в горкоме: дайте работу. Хоть в охране, хоть какую-либо, — сказал он. — И вот меня вызвал секретарь и сначала заявил, что, мол, неудобно: заслуженный человек и вдруг — сторож! А я ему ответил: "Ничего нет в этом плохого!" — "Тогда иди в сторожа на главную площадь, к Ленину", — сказал секретарь. И товарищ Семен с радостью согласился. Уже потом, когда мы вместе с товарищем Семеном поднялись по винтовой лестнице и вышли в сквер, Виктор Петрович вслух вспомнил о Лонжюмо, местечке близ Парижа, связанном с именем Ленина и знаменитой партийной школой для рабочих, вспомнил и о Париже, нашей туристской поездке. Этого было достаточно, чтобы мне припомнились заметки, которые я сделал в своей тетради по возвращении из Франции. "…Все города как города. Париж — это целый мир!" — так сказал наш гид в первые же минуты знакомства, встретив туристскую группу на аэродроме. Мадам Романова, Татьяна Сергеевна! У вас еще молодой и звучный голос, наполненный и энергичный, его лишь слегка портит подчеркнутая четкость артикуляции человека, много говорящего в микрофон и, может быть, опасающегося интонационных погрешностей в родном, но забываемом русском языке. Уже тридцать лет вы живете в Париже и сорок пять лет — вдали от родины, но вам хочется забыть об этом именно в те часы, когда вы становитесь нашим спутником в путешествии. Невольно, слушая вас, мы многое видели вашими глазами, проникались вашим восприятием, понимали ваш юмор, в котором нет-нет да и пробивалась горечь вашей трагической эмигрантской судьбы. Несомненно, вы успели хорошо узнать и полюбить Париж, но все же не так, как можно любить свой русский город. Все время вы давали нам это почувствовать, когда то и дело возвращались мысленно к годам своей юности в Москве и Петрограде. Это чувство непереходимого барьера и непреодоленного отчуждения, этот ваш взгляд на двухтысячелетний город из глубины тщательно оберегаемого микромира русского человека в изгнании придавал особую остроту вашему зрению и особый привкус вашим шуткам и комментариям. Вы все время беседовали с нами как русская с русскими, подчеркивая, что само это сознание роднит больше, чем то, что может разобщить, — жизнь в разных социальных мирах. И все же, мне казалось, вы понимали ложность такой посылки и лишь выдерживали однажды взятый тон, пожалуй, единственно для вас возможный. "Париж — это целый мир, — повторяли вы. — Париж — город-космополит!" Но как бы то ни было, и вы, и ваша фирма понимали, что нам в Париже дорого и интересно прежде всего то, что связано с Россией, борьбой против фашизма, и особенно — ленинские места. На второй день нашего пребывания в Париже мы поехали на улицу Мари-Роз. Поехали — это значит в автобусе, который по утрам ожидал нас у стеклянных дверей "Отель Ексельсиор опера", расположенного в центре Парижа, вблизи Гранд-опера, Больших бульваров, площадей Конкорд и Вандомской. Мы выходили к автобусу, чтобы занять наши места в удобных откидывающихся креслах. Обычно нас уже ожидала Татьяна Сергеевна и миниатюрный шофер с гладким, набриолиненным пробором, одетый в белый легкий плащ, как-то странно напоминавший о больнице, пока мы не привыкли к этой униформе водителей парижских автобусов. Тогда Татьяна Сергеевна вооружалась микрофоном, подтянув его к себе на серебристой пружине, машина трогалась, а туристы, прильнув к окнам, готовы были долгий день без устали впитывать в себя все, что придется увидеть, почувствовать, понять в этом поистине удивительном городе. Итак, Мари-Роз. Это улица в рабочем предместье Парижа, когда-то здесь была окраина, сейчас тут большие дома, и само здание, в котором в 1909 году поселился Владимир Ильич, — пятиэтажное, с красивыми продолговатыми окнами, с балконами по фасаду. Мы ехали на эту улицу минут сорок по Большим бульварам, которые тянутся от собора Мадлен, напоминающего античный храм, до площади Бастилии, где воздвигнута высокая колонна со статуей Гения Свободы. Затем автобус свернул к центру, мы проехали по мосту через Сену, носящему и до сих пор имя русского царя Александра Третьего, с русским царским гербом на одной из колонн. Левый берег — интеллектуальный, а правый — коммерческий; левобережный Париж — Париж интеллигенции, ученых, студентов, людей искусства — понравился нам своим особым обликом, характером, атмосферой жизни. Правобережный — более яркий, шумный, крикливо-рекламный. — Вы чувствуете, это совсем другое, правда? — спрашивал наш гид, и все мы, как ученики в классе, чуть ли не хором отвечали: — Чувствуем! На подступах к улице Мари-Роз мы проехали предместье Сен-Жермен — район былых аристократических особняков. Как часто здесь селили своих героев Бальзак и Золя, Стендаль и Гонкуры. Пожалуй, ни в одной европейской столице не ощущаешь в такой мере всю пленительную мощь родства славы этого города с тем, как поработали для нее многие поколения французских писателей. Мы остановились у памятника, изображавшего Бальзака. Неподалеку от него — кафе "Ротонда". Много лет назад тут сиживал за маленьким столиком Ленин, его друзья по парижской эмиграции и те русские революционеры, которые по партийным делам приезжали из России. Ах, если бы можно было выйти сейчас из автобуса и хоть полчаса посидеть здесь за столиком — по-парижски, прямо на улице, имея над головой лишь защитную тень от полотняного тента. Посидеть, глядя на улицу, на поток машин, послушать, как прибоем накатывается шумное дыхание города, попытаться зрительно восстановить то, что мог здесь видеть, слышать Владимир Ильич. Но, увы! Мы придем сюда вечером, а пока автобус лишь остановился на минуту у красного фонаря светофора, и я, торопясь, щелкнул фотоаппаратом. Вот он — этот снимок, у меня на столе. Я охватил в нем лишь край кафе и часть фонаря с огромной буквой "М": где-то рядом была станция метро. Как хорошо распределились свет и тени на балконе второго этажа, который наполовину задрапирован разноцветной полосатой тканью, на сетчатых жалюзи окон, на рекламных щитах и надписи из витых неоновых трубок. Я спрашиваю себя, зачем мне эти детали фасада типичного парижского дома с кафе на первом этаже и жилыми квартирами на верхних? Что мне от всего этого? Но тут же уличаю себя в неискренности. Я знаю, снимок будет мне дорог одним напоминанием о том, что я видел "Ротонду", в какое-то мгновение мысленно представлял себе, как за этими столиками, быть может, за чашечкой кофе, в спорах, вполголоса решались человеческие судьбы русских революционеров и определялись пути, по которым они шли потом в революцию. На улице Мари-Роз Ленин прожил три года с Надеждой Константиновной и ее матерью. Мы поднимались, топая по ступеням лестницы, по которой когда-то ходил Ильич, и очутились в квартире с двумя комнатами и кухней. Здесь многие годы после Ильича жили семьи французских рабочих, пока в 1956 году компартия Франции за свои деньги не выкупила эту квартиру и не превратила ее в музей. В музее всего лишь одна хранительница, она же экскурсовод, а нас, туристов, было так много, что когда вся группа вошла в маленький кабинет Владимира Ильича, уже негде было повернуться. Все в этой квартире дышит скромностью и строгой бедностью эмигрантского жилья. Во всем отпечаток подвижнического быта, заполненного титанической работой гения. Стенды с рукописями, экземпляры газеты "Социал-демократ", которая печаталась неподалеку в типографии "Леклер", подлинный экземпляр "Рабочей газеты" — Ленин получал ее из России, — листки из рукописей… Оставив свои записи в книге посетителей, ниже фамилий наших космонавтов, недавно здесь побывавших, мы вышли на улицу, залитую апрельским солнцем, сравнительно тихую, лишь с несколькими машинами у тротуара, с мостовой, которая подметена так же чисто, как и старенький паркет в квартире Ильича, и я, кажется, впервые заметил, как цветут, окутав себя розовым дымом, кудлатыми шапками растрепанных ветром крон, парижские весенние каштаны… Через несколько дней мы снова сели в автобус, чтобы ехать в Лонжюмо, и Татьяна Сергеевна объявила, что там группу челябинских туристов ждут в мэрии. — Это совсем близко от Парижа, живописная дорога, но, к сожалению, мы не сможем останавливаться, в мэрии уже ждут нас, и, кажется, будет угощение, — сказала она. — Очень, очень мило с их стороны. Сегодня я, кажется, отдохну от Парижа, от магазинов. Мне просто необходимо успокоиться, — заметила Ирина Чудновская. Она сидела в автобусе рядом со мной. Это прозвучало смешно, но вместе с тем было правдой. Никто, кажется, не может соревноваться с Парижем в искусстве рекламы, в изяществе и привлекательности магазинных витрин. Здесь художники, декораторы, модельеры соединяют в гармонии свое мастерство. И наши женщины немного терялись от всего этого. Мы выехали за город. — Вот корпуса завода "Рено", — сказала в микрофон Татьяна Сергеевна. "Рено"… Первые темные коробки такси в Москве, дребезжавшие по булыжникам мостовых в двадцатые годы. "Рено" — известная автомобильная фирма вместе с "Пежо" и "Ситроен" — могучая тройка национальной автомобильной промышленности Франции. Так говорила Татьяна Сергеевна. Я же тем временем разглядывал огромные серые заводские корпуса, нависшие над левым берегом Сены. — Недавно рабочие "Рено" получили некоторые льготы. Поэтому на "Рено" не бывает забастовок, — заявила Татьяна Сергеевна. Но она ошибалась. Прошло некоторое время, и уже в Москве мы узнали, что волна забастовок, прокатившаяся по Франции, захватила и заводы "Рено". А в тот день в Париже я подумал, что, казалось бы, безобидный и вполне объективный дорожный конферанс Татьяны Сергеевны служит еще одним подтверждением, что любая информация содержит в себе тенденцию, а факты сами выстраиваются в определенную цепь убеждений. Социальное благоденствие рабочих "Рено" — это миф с оболочкой некоторого внешнего правдоподобия, за которым не сразу разглядишь механизм капиталистической эксплуатации. Видеть и понимать его — именно этому учил Владимир Ильич своих товарищей в партийной школе, которая была организована для молодых революционеров много лет назад в Лонжюмо. Я зашел в мастерскую, которую снимали революционеры в те далекие годы, с чувством легкого стеснения в груди, что всегда предшествует волнению или сопровождает его. Маленькое помещение, стеклянный в стропилах потолок, станки, полки для инструментов, в углу — кузнечный горн. Пахнет окалиной, металлической стружкой, свежевымытым полом. Нас сопровождает заместитель мэра мсье Марсель Дюпа. Он все оглядывается, словно ждет кого-то. Наконец, тот, кого ждали, пришел, вернее, почти прибежал. Это худой, высокий, выдубленный временем семидесятилетний мсье Морис Дюшон — владелец мастерской, сын того Дюшона, который сдал этот сарай под школу. Мсье Дюшон тут же быстро заговорил, давая объяснения, замахал руками, как человек, в котором еще бурлят живые соки бодрости. — Вот через эту дверь Ленин входил, вот здесь стояли столы… — Где, где? — живо переспросил Виктор Терехов. Мсье Дюшон оглянулся, и когда ему перевели вопрос Терехова, не поленился прошагать в дальний угол мастерской. Он коснулся рукой верстака, на месте которого когда-то стоял другой столярный верстак или стол. Я видел, как Виктор, должно быть, непроизвольно вслед за французом погладил верстак ладонью. Мсье Дюшон это заметил. На правах старшего он улыбнулся первым и слегка, дружески похлопал Виктора по плечу. Я смотрел на оживленного мсье Дюшона. Сколько ему было лет в 1911 году? Шестнадцать… Он кое-что уже понимал, но, конечно, не так много. Бегая вокруг сарая, слышал речи, возгласы, споры. Что он думал об этих просто одетых людях, похожих на тех французских рабочих, которые жили в Лонжюмо? Поговорят и разойдутся… Но прошли годы, и скромный сарай, скромный домик неподалеку от него приобрели мировую известность. Наверное, это понимает и мадам Будон. Она живет в квартире, которую в те годы снимал здесь Владимир Ильич. На доме — мемориальная доска: "Здесь жил и работал в 1911 году В. И. Ленин — теоретик и вождь международного коммунистического движения, основатель Советского Союза". Я сделал снимок доски, стены дома, на которой местами осыпалась штукатурка, появились трещины. Вход в дом сбоку, со стороны пустыря. Скрипит под ногами деревянная лестница. И вот — дверь в квартиру из двух небольших комнат и кухни. Мадам Будон любезно приглашает нас посмотреть, как она живет, ибо увидеть то, как жил здесь Ленин, сейчас уже невозможно. Более чем за полвека в квартире сменилось множество жильцов. Сама мадам Будон живет здесь сравнительно недавно. Ее муж — подметальщик улиц. В квартире чистенько, но бедновато. — Неудобно здесь долго находиться, — прошептала Ирина. — Поймите, товарищи, она работает. Неудобно… Мадам Будон стирала. На ней был передник с мокрыми пятнами, растрепавшиеся волосы сползали на лоб. Ей лет под сорок, но трудная жизнь поставила уже печальные меты на усталом лице. Мы заторопились уйти, унося в душе облик этой квартирки и, пожалуй, даже удовлетворение от мысли, что занимает ее семья рабочего, а не лавочника или рантье… Я увидел, как Вера Терехова, на минутку задержавшись, вручила мадам Будон подарок от нашей группы — косынку с видом Кремля, Красной площади и надписью, строчкой из популярной песенки: "Пусть всегда будет солнце!" Вера немного говорит по-французски и перевела надпись. — Пусть всегда будет у вас счастье, в вашей семье! — добавила она. — Мерси, мерси, — мадам Будон прижала руки к груди. У Веры полно сувениров, захваченных из дома. Больше, чем у кого-либо из нас. Матрешки и флакончики духов, косынки, значки. Она потратила на них немало денег и сейчас с удовольствием одаривает сувенирами всех французов, с которыми имеет возможность хоть немного познакомиться. На приеме в мэрии все было, как бывает на таких приемах. Заместитель мэра мсье Дюпа с ленточкой Почетного легиона, герой Сопротивления, поднял бокал за дружбу… Мы пили шампанское в зале бракосочетаний, служившем одновременно и залом заседаний, где стены украшеныфресками на темы охоты и любви. Потом — представление гостей, тосты, сдержанное веселье, вспышки магния — фотосъемка и книга для почетных посетителей мэрии, где ставятся порой уже не слишком твердые подписи и завитушки в конце фамилий. И все же, к сожалению, мы пробыли там мало, торопились в Париж, ибо автобус должен был вернуться для каких-то иных надобностей фирмы. Что ей, фирме, до Лонжюмо! Фирма — частная. Последние пять минут у автобуса в ожидании, пока все соберутся. Мы стоим, курим, приятно разгоряченные вином, солнце уже садится, расплескав по крышам нежные блики заката, жара спала и дует легкий ветерок. — Хороший городок Лонжюмо — истинно французский, — сказал Виктор Терехов. Мы уже побывали во многих городах, и он, конечно, мог судить об особенностях Лонжюмо. Но все же я спросил, что именно он имеет в виду. — Мне кажется, Лонжюмо должен был понравиться Владимиру Ильичу. Все здесь по-рабочему, скромно, как-то тепло, — ответил Виктор. — Как-то тепло? — переспросил я, удивившись такому определению. Но потом подумал, что есть в нем что-то очень точное, если иметь в виду то своеобразное обаяние теплоты и уюта, изящества и вкуса, которые выражают во французских маленьких городках нечто всеобщее, глубоко национальное. Того, кто бывал в Европе, пожалуй, трудно удивить западным стилем, яркостью вывесок и витрин, обилием кафе, баров и магазинов. Приглядишься и увидишь свой стандарт, назойливость и уличную тиранию рекламы. Города уже кажутся туристу похожими друг на друга. Но не то во Франции. Здесь всегда ново и удивительно веками сложившееся умение внести гармонию и изящество во все, что составляет облик города или улицы, дома, фасада кинотеатра, внутреннего интерьера в каком-нибудь деревенском кабачке. Я понимаю, это трудно объяснить словами, надо увидеть и самому почувствовать. Лонжюмо… Я прощался с ним сосредоточенный и немного печальный от сознания, что мне уже, наверное, никогда не придется больше гулять по его улицам. Есть легкая грусть в таком настроении, знакомом каждому туристу, путешествующему вдали от родины. Ведь все, что ты видишь, это в первый и, скорее всего, в последний раз. Потом я заметил, что чем ближе приближался срок нашего отъезда на Родину, тем все чаще мы — и Терехов, и Вера, и Ирина Чудновская — возвращались мыслями к тому, что ожидает каждого из нас дома. Это уж закон!..".Все это мне припомнилось сейчас, когда я гулял с товарищем Семеном и Виктором Тереховым по скверу, вблизи памятника Ленину, в Челябинске. — Вот, товарищ Семен, — сказал Терехов, — во французском городке Лонжюмо живет ваш ровесник Морис Дюшон и тоже сохраняет сарай-мастерскую, где размещалась марксистская рабочая школа Ленина. — Я это слышал, сынок, — кивнул товарищ Семен. — Оба сторожа — старые пролетарии, француз и русский. Символично даже, — повернулся ко мне Терехов. Потом он пожал руку старику: — До свидания, товарищ Семен, до нового, доброго свидания, товарищ комендат нашей Ленинской площади! Мы пошли по скверу. Солнце поднялось выше, около памятника стояли ели, так живо напоминавшие кремлевские, быть может, только немного ниже ростом. Ели отбрасывали на мрамор густые тени, а в глубине их ветвей словно бы притаился голубовато-дымчатый сумрак. — Если бы я мог, объездил бы все ленинские места, — сказал вдруг Терехов. — Это волнующе. Увидеть все реликвии, связанные с этапами жизни и борьбы Ильича. — Хорошая мысль, — согласился я. — По-моему, тоже, — кивнул Терехов. — Вот я и во Франции вдруг подумал о своем заводе. Знаете, в связи с Ленинской премией, которую недавно получили наши товарищи. В Лонжюмо думал, и на улице Мари-Роз, и в Версале, даже когда разглядывал памятники пышному веку Людовика Четырнадцатого… Не смейтесь, — сказал он мне, хотя я и не смеялся. — Да, все думал. — О чем же именно? — Ну, на это трудно ответить в двух словах. Об ответственности каждого человека перед обществом, о ленинской мере всех вещей, ленинской заботе о людях труда, в общем, обо всем том, что связано с этим высоким понятием — Ленинское…
История флюсового автомата
Меня давно уже привлекала в Терехове динамичность характера, которая чаще всего основывается на запасах внутренней энергии, расходуемой щедро, без тревоги за то, что она может иссякнуть. И, должно быть, именно поэтому такая энергия вкупе с жизнелюбивым темпераментом всякий раз быстро и полно восстанавливалась для все новых дел. Вера Терехова в этом была похожа на мужа. Она часто и горячо вмешивалась в дела, в которые могла бы и по вмешиваться или хотя бы не отдавать им столько души. Когда Терехов говорил мне, что хочет всюду успевать, он, должно быть, имел в виду и себя, и Веру, соединенных, кроме уз брака, еще и общностью человеческого горения. "Такие люди по-настоящему нужны заводу, — частенько думал я, глядя на них, — ибо поэзия вечной заводской работы требует еще и каждодневной, безотказной и полной отдачи сил". Представьте себе гигант — трубоэлектросварочный цех, с его огромными пролетами, где почти не видно рабочих и царит над всем автоматика, индустриальная гармония. В этом цехе сварку производят автоматы. Но понятие "автомат" порою означает лишь ведущий принцип, параллельно с которым сохраняются еще рудименты старых, примитивно кустарных методов. Операция по удалению из трубы использованного горячего порошка — флюса долгое время производилась вручную. Подручные сварщиков вынуждены были залезать в трубу, чтобы собрать порошок и перенести его в бункер. Утомительное, малоприятное и небезопасное дело — приходилось дышать вредным дымком. Жаловались они и на то, что сосун бункера, который затягивал порошок флюса, не всегда точно копировал отклонения самого сварочного шва. А ведь труба бывает несколько овальной формы, и жесткий сосун сдирал порою кромки еще мягкого шва. Новая сварочная аппаратура должна была исправить эти недостатки. Внедрять и испытывать ее приехал сотрудник Киевского института электросварки Чвертко Анатолий Иванович, плотного сложения человек, широкоскулый, неторопливый в движениях, с красивой седой шевелюрой, чуть спадавшей на лоб прямыми прядями. Но, конечно, не красивые седые волосы заинтересовали меня, когда в цехе я впервые увидел Анатолия Ивановича. Человек, внедряющий что-либо новое на заводе, всегда немного мученик сам и мучитель для других. Но Анатолий Иванович выглядел всегда спокойным, и вскоре я понял: это не от равнодушия, не от высокомерия представителя "высокой науки", не от инертности души, а от той, видимо, железной волевой пружины, которая образует непробиваемое упорство таких людей. Одним своим видом они показывают, что обязательно дойдут до цели. По разным причинам новая аппаратура налаживалась трудно, а установлена она была на действующей сварочной линии. Второй день линия простаивала. Тогдашний начальник трубоэлектросварочного А. М. Гарагуля, недавно принявший цех и, может быть, потому так нервничавший, грозно размахивал перед лицом Чвертко бланком телеграммы. — Могу вас познакомить с телеграммой, которую мы получили, — почти кричал он. — План нам еще увеличили. Вы только вдумайтесь — надо дать за этот месяц десятки километров труб! А вы что делаете? А?! — Да разве это довод против аппаратуры? — спокойно спросил Анатолий Иванович. — Да разве это довод? — повторила вопрос Вера Терехова, которая как сотрудница центральной заводской лаборатории помогала Анатолию Ивановичу внедрять аппарат. — Сколько по вашим расчетам потребуется времени, чтобы испробовать аппаратуру? — глядя на Веру, а не на Анатолия Ивановича, уже спокойнее спросил Гарагуля. — Дней пять-шесть, — подумав, ответила Вера. — Шесть дней! Я не могу пойти на это. Потерять столько километров труб! Кто возместит нам эту потерю? — опять взвился начальник цеха. — Не забудьте, пока мы не справляемся с планом! Нельзя было отказать ему в известной логике, а главным образом, в серьезности его опасений, что эксперимент на пятой линии, действительно, сорвет выполнение плана. — Но, может быть, на остальных линиях перекроют эту задержку более высокой производительностью? — высказала надежду Вера. — Где для этого основания? Где? — обрушился на нее Гарагуля. — Мы же с вами ответственные люди. Да и не мешает сначала поговорить с рабочими. — Я надеюсь… — начала было Вера, но Гарагуля перебил ее: — "Может быть! Надеюсь!" Что за расплывчатые формулировки, когда речь идет о государственном плане? Нет, простите, не понимаю вас, товарищи. А как вы намерены изготовить еще один опытный образец? — Надеемся, помогут рабочие с той же пятой линии, — ответил Анатолий Иванович. — Например, подручные сварщиков, которых вы, между прочим, этим же автоматом лишаете работы? съязвил Гарагуля. Дело в том, что новый автомат действительно позволял сократить число подручных на линии, высвободить их для работы в других цехах. Именно это, видимо, и имел в виду Гарагуля, но в запальчивости выразился не очень точно. Наступила зловещая пауза. Как-то очень глубоко и огорчительно вздохнул Анатолий Иванович. — Вот уж не думал, товарищ Гарагуля, что вы не побрезгуете таким аргументом. Ведь для блага тех же рабочих возимся мы с этим автоматом! — Для блага, — протянул Гарагуля. — Да что вам до интересов цеха! Вере вдруг стал тесен белый воротничок ее платья. — Между прочим, сварщики и их подручные, например, Митя Арзамасцев, они другого мнения! — выкрикнула она уже вдогонку уходящему начальнику цеха. Но тот даже не обернулся.Митя Арзамасцев… Это был молодой рабочий, недавний ремесленник, узкоплечий, щупленький, с пышной шевелюрой почти всегда запрятанных под плоский синий берет волос. Я не раз видел его около станов, и о нем мне много говорила Вера Терехова. Она же рассказала один немного смешной и чем-то трогательный случай. Дело в том, что Митя работал в цехе неровно: то загораясь необыкновенным рвением, то с прохладцей, и нередко допускал брак. Митин берет и шевелюра, облюбованное цеховыми карикатуристами, частенько украшали сатирическую полосу стенной газеты под названием "Горячая прокатка". Трубы, которые сваривал Арзамасцев, тут же, метрах в двадцати от него, на участке технического контроля проверялись мастером Ниной Петровой. Она браковала все некачествейные швы, отсылая трубы с дефектом по рольгангу назад, к рабочему месту Мити. Поскольку бракованная труба катилась назад со звоном, ее, конечно, многие замечали. И это задевало Митю больше, чем выговоры в приказе и карикатуры в стенной газете. С тем и с другим он со временем даже свыкся. Но вот случилось так, что Митя и Нина встретились в клубе на вечере, начали с колкостей, а потом Нина понравилась Мите, и он начал ухаживать за девушкой. Как-то незаметно для себя Арзамасцев стал по-новому относиться к Нине, даже работал теперь старательнее. Но однажды Вера Терехова снова застала Нину расстроенной. Девушка пришла на рабочее место Арзамасцева, что-то сердито выговаривала ему. А он, что называется, ноль внимания. Не слушал да и не смотрел на нее. Но Нина не уступала. И тогда Митя зло выкрикнул: — Гулять со мной согласна, а послабить не можешь, еще пуще придираешься? Девушка ответила, что одно к другому не касается, и она не позволит, чтобы проскальзывал брак. — Нечего меня учить, — отрезал парень. — Я сам себе контроль! Они поссорились, и Вера тогда не смогла помирить их. Митя не захотел даже разговаривать с нею, полагая, должно быть, что сотрудница ЦЗЛ просто суется не в свое дело. А мастер участка снова жаловался на Арзамасцева: — Не знаю, что с ним и делать! Снимать с работы, что ли? Из-за своей несчастной любви портачит все больше. А мне на оперативках достается! Вера решила вмешаться. Поближе познакомилась с Ниной, в которой почувствовала цельный и сильный характер, потом встретилась с Митей после смены. Предложила посидеть в одной из отдаленных заводских аллей, за ремонтным цехом, где никто их не видел и не мешал спокойно, откровенно поговорить. — Нина тебя любит, она хочет, чтобы ты стал хорошим сварщиком, и это в твоих руках, — убеждала Вера парня. — За что же ты злишься на нее? — Был бы контролером кто-нибудь другой! — огорченно махнул он рукой. — А то устаю, может, оттого, что гуляю с Нинкой поздно, — в его голосе прозвучала искренняя обида, — а она… Значит, целоваться я не бракодел, а в цехе не гожусь? И это любовь?! — Да, любовь, — ответила Вера. — Если хочешь знать, большая любовь. По-твоему, Нина должна твой брак пропускать, нарушать свой служебный долг только потому, что встречается с тобой? Да где же твоя сознательность, честность, чуткость к ней, наконец? — А чего! — отбивался Митя. — Я вчера ей подарок сделал — духи и сумочку. Я внимательный… — Ну и что? — сдерживая улыбку, спросила Вера. — А то! Одним словом, змея. — Вчера ты ей сумочку, а сегодня она опять вернула бракованную трубу на стан? — догадалась Вера. — Да там и была-то чепуховина: чуть-чуть пережег шов, — признался Митя. — Я думал, Нинка — человек! — Конечно, человек! Я намного старше тебя, поверь мне, Нина тебя, дурня, любит. И такой крепкой требовательной любовью надо дорожить. Они долго проговорили тогда в этой тихой заводской аллее… Теперь Вера только издали следила за своими подопечными, Заметила: мастер стал меньше жаловаться на парня. Да и ссорились Митя и Нина реже, по слухам решили пожениться. Когда началось на пятой линии испытание флюсового автомата, именно Митя Арзамасцев, Нина, еще несколько сварщиков и механиков, Вера Терехова и конструктор Анатолий Иванович образовали своего рода бригаду внедрения. К ним в качестве добровольного помощника примкнул и Павел Игнатьевич Гречкин, заинтересовавшийся новинкой. Иногда вместе с отцом заходил в трубоэлектросварочный и Саша Гречкин. Бригада внедрения собиралась в мастерской цеха после смены и иногда допоздна засиживалась там. Дирекция дала на это согласие, хотя недовольный Гарагуля и поворчал немного. Мастерам тоже не нравился этот, как выразился один из них, "сверхплановый энтузиазм". Я сам однажды услышал такую реплику. — Вот после работы наши эдиссоны опять начнут стучать. А потом клюют носом на основной работе. Хоть спички им в глаза вставляй, чтобы не закрывались. Однако на деле члены бригады внедрения не давали повода к таким упрекам. Может быть, они и уставали, но на основной работе это не отражалось. Новый корпус автомата был собран педели за две силами энтузиастов. Я помню день, когда бригада решила устанавливать аппаратуру. Накануне ночью снова остановили для этого пятую сварочную линию. С утра начальника цеха не было в конторе, и уже одно это успокаивающе действовало на экспериментаторов. В эти напряженные часы я с удовольствием наблюдал за Верой Тереховой. Одетая в старый комбинезон, с темной косынкой на голове, плотно стягивающей волосы по манере всех женщин, работавших в цехе, Вера, помогая Мите, стучала молотком по штанге автомата. В комбинезоне она казалась плотнее и шире в плечах, напряженное ее лицо, лоб, щеки и даже губы — все было вымазано машинным маслом. Смотрел я и на Митю. Иногда мне казалось, что он слишком часто отходит от аппаратуры, слишком долго "перекуривает", задерживается у стенда, готовый поддержать здесь любой разговор. Но вот, словно высмотрев что-то в аппаратуре, Митя бросал папироску, ловко влезал на штангу и тут уж руки его двигались быстро и четко. Сборка у Мити Арзамасцева в конечном итоге продвигалась не медленнее, а даже быстрее, чем у других рабочих. Время подходило к обеду, а у монтажников был установлен лишь сдвоенный бункер, куда должен собираться использованный порошок флюса. Подогнав кран, бригада начала надевать на бункер металлический кожух. Я поглядывал на светофор-информатор. Яркий его глазок тревожно сигналил об остановке линии и неблагополучии со сменным графиком. Четыре работающие сварочные линии не могли восполнить простоя пятой. Даже Терехов, пришедший в цех, упрекнул бригаду: — Долго, товарищи. Полторы рабочих смены потеряли! Сколько можно? — Быстрее не выплясывается, товарищ начальник. Но вы не волнуйтесь, все будет в порядке, как в кино! — откликнулся Митя. — Бывает и в кино печальный конец, — пробурчал Виктор Петрович. К концу смены выяснилось, что сборку закончить не удается. Вся бригада возилась с кожухом бункера, нижние дверцы которого никак плотно не закрывались. — Кожух нам помяли люди, — объяснял всем интересующимся Павел Игнатьевич. — При установке. А теперь, значит, сжатый воздух держаться не будет. Вакуум нарушили. Вот какая морковина-чепуховина! Не любящие, не заботливые руки это делали, вот что! Бригада совещалась: что делать? Все волновались. Позвонил диспетчер и огорчил сообщением: цех "вылетел" из суточного графика. Особенно нервничала Вера. Невозмутимо спокойным оставался только Анатолий Иванович. — Как вы умудряетесь не волноваться? — удивлялась Вера. — Вот приедет Гарагуля, он нам выдаст! — Ничего, ничего, — успокаивал всех Чвертко. — Будет порядок в танковых войсках. …Исправленный кожух подали к стану только на следующий день. Опять здесь собрались все те же сварщики, что возились вчера с монтажом, но держались они теперь увереннее. С утра около линии появился Гарагуля. Сказал, обращаясь только к Анатолию Ивановичу, уже не с гневом, а как бы прося посочувствовать и понять: — Что же это такое, Анатолий Иванович? Что вы со мной делаете? Горим же мы с графиком! Кто-то премии будет получать, а нам — холку мылить! Что мог ответить ему Чвертко? Что ничего в жизни не дается легко и просто, что за всякое новшество надо платить трудом, волнениями, нервным износом? Что он и сам переживает сейчас не меньше начальника цеха? Вряд ли эти очевидные истины могли сейчас успокоить Гарагулю. С проверкой аппаратуры провозились еще несколько часов, Наконец все готово. Анатолий Иванович просит всех отойти от пульта и сам, отерев пот со лба, нажимает на щитке несколько красных и черных кнопок. Первую прогонку флюсовой аппаратуры производили вхолостую. Вот подали первую трубу для сварки. Вспыхнула электрическая дуга, голубоватый ее язычок был виден лишь одно мгновение и тут же погас под порошком флюса. Когда Анатолий Иванович спустил уже сваренную трубу на рольганг, она так же тихо и плавно, как подкатилась к стану, уплыла в глубину пролета. Все вздохнули с видимым и сладостным облегчением. Павел Игнатьевич даже почесал влажный от пота нос, подмигнул сыну. — Ну, я думаю, нас можно поздравить? — сияя провозгласила Вера. Но именно в эту минуту раздался слабый звонок — предупреждение о том, что рольганг заработал. К стану подходила труба. — Наша! Это же наша! — раздался удивленный возглас Мити. Действительно, труба подплывала с другой стороны, от контрольного пункта. — Вернули! — ахнул еще кто-то. Вера побежала к мастерам ОТК узнать, в чем дело. Оказалось: сосун бункера все-таки срезал кое-где кромки сварочного шва, к тому же остались непроверенные участки. Требовалось "переварить" чуть ли не половину трубы. Признаться, мне было больно смотреть на Веру, Митю, Нину, старика Гречкина… У Веры как-то сразу погасли глаза и на лице обозначилась тяжелая усталость. Опечалились все. Даже невозмутимый Анатолий Иванович. И Гарагуля, который в этой неудаче мог бы найти пищу для какого-то мстительного удовлетворения. Через минуту он сказал Анатолию Ивановичу: — Значит, переходим на вторые сутки? Ваше изобретение влетит нам в копеечку, товарищ Чвертко. Да вы не Чвертко — четвертователь какой-то! — и, махнув рукой, пошел к себе в контору. Начальника цеха можно было понять. Пусть есть тысяча объясняющих обстоятельств, но если цех не выполняет план — спросят с начальника. И не только руководители завода, но и рабочие, которые из-за простоя стана теряют в заработке. А вместе с тем надо внедрять новое, как же иначе! Гарагуля ушел. Вера Терехова, Анатолий Иванович и другие остались у стана, чтобы снова решать мучительный вопрос: как поступать дальше? Прошел еще один день. Пятая линия работала плохо и хотя какое-то количество труб выдавала, часть их уходила в брак. В цехе создалось очень тревожное положение. В этот день с утра Митя нервничал у стана — сварка не ладилась. Вот уже в пятый раз электрическая дуга, вместо того чтобы сваривать шов, прожигала трубу, металл плавился и стекал толстой огненной струйкой. Подручный сварщика в эту минуту бросался вперед с совком в руке, наполненным флюсом. Этой как бы зеленой подушкой из твердого порошка он пытался прикрыть пораненное место на трубе. Иногда это получалось, иногда нет. Во всяком случае, подручный сварщика, опустив голову, согнувшись, напряженными шагами шел за трубой вдоль стана, держа на весу тяжелый совок. Смотреть на это было неприятно, если не сказать, больно! Больно за мучения рабочего, больно от сознания, что эту двенадцатиметровую громадину, такую красивую на вид, потом придется признать бракованной и переваривать уже без автоматики, вручную. Конечно, прожоги случались и раньше, но теперь из-за неисправности нового флюсового устройства они участились, и всякий раз эти огненные дыры на боках труб свидетельствовали наглядно и впечатляюще о неудачах бригады внедрения. — Веришь не веришь, — сказал мне Павел Игнатьевич, — а я как увижу, что труба в брак уходит, так будто кто по сердцу ударит. И горит оно! В этот момент по рольганту вернули назад с контрольного пункта забракованную трубу. Митя похлопал по ней, еще теплой после сварки, ладонью осторожно пощупал края рваной металлической раны, глубоко вздохнул: снова прожог! Появление около стана начальника цеха тоже не предвещало ничего хорошего. — Уж если и начинать эту мучительную операцию, товарищи, то признайтесь — надо было с другого конца, — опять взялся он за свое. — Дождаться планового профилактического ремонта пятой линии и тогда экспериментировать. Сейчас же с такими делами нетрудно ей-ей, и инфаркт заработать. У каждого инфаркта есть свое имя и отчество. — Ну, зачем так мрачно? — возразил Чвертко. — Никаких инфарктов не будет. Просто це дило, как говорят украинцы, трэба спокойно розжуваты. Я заметил, что Анатолий Иванович прибегал к своим звучным украинизмам в речи, когда хотел успокоить собеседника или же успокоиться сам. — Ну, чего вы до сих пор "розжувалы"? — сердито спросил Гарагуля. — Есть, есть задумка. Будем срочно пробовать. Ко пирное небольшое устройство, чтобы сосун точно следовал за линией шва. — Мы уже изготовляем копир в мастерской, — вмешалась Вера. — Еще немного потерпите — новое-то ведь всегда рождается в муках! Что делать? Гарагуля посмотрел на Веру искоса, словно не зная, усмехнуться ему или рассердиться еще более: нашли когда "кормить" литературно-травиальными сентенциями! — Всякое терпение до поры, — сказал он. — Скажу прямо: до первой телеграммы со стройки, что мы задерживаем трассу. А тогда все — аппаратуру сниму. Одним словом, оживите мне линию, любым путем, слышите — оживите! Я был свидетелем того, как это "оживление" затянулось еще на некоторое время. Члены бригады внедрение собирались вечерами в номере гостиницы у Анатолия Ивановича или в токарной мастерской. Думали, чертили, работали. За три вечера и три ночи сделали многое. Чертежи копира отдали в мастерскую, чтобы теперь уже третью по счету модель автомата изготовить в металле.
В цеховой столовой трубоэлектросварочного — самообслуживание. Поварихи в белых халатах за окошками раздаточной, орудуя черпаками, наполняли тарелки. Взял металлический поднос, поставил на него тарелки и стаканы, положил ножи и вилки — неси на свободный столик. А за столиками над склоненными головами обедающих царит обычно сдержанный говор людей, привыкших к еде быстрой и речам коротким. Если на заводском дворе солнечно, яркий свет вливается в столовую через широкие окна, и тогда каждый металлический поднос становится зеркалом, отражающим веселые блики. Обедая за небольшим столиком рядом с Митей Арзамасцевым, Виктор Петрович Терехов спросил, как думает бригада выходить из провала с месячным планом. — Выйдем, — сказал Митя, — штыком и гранатой пробились ребята… — А если всерьез?.. — настаивал Терехов. — Нет, с шутками и с нашим горячим желанием! На чистом бензине энтузиазма, товарищ Терехов! Вы же знаете — сегодня соседнюю четвертую линию останавливают на плановый профилактический ремонт. Три дня дают по графику. А ребята говорят: уложимся за сутки, постараемся для товарищей. Улавливаете? — Улавливаю, — усмехнулся Терехов. — Двое суток работать на покрытие ваших простоев, на общецеховой план? — Все точно! Как это называется? Взаимная выручка товарищей рабочих! — Это ты придумал и с ребятами договорился? — спросил Терехов, и мне показалось, что он немного удивлён — не самой идеей, а тем, что она родилась в Митиной кудлатой голове. — Чего договариваться? Ребятам намекнул, возражений нет. Потому считаю, что за товарищество хорошее все отдам людям и еще должником останусь. Вог так стоит вопрос! — Ты, Арзамасцев, парень-то, оказывается, молоток! — все с тем же приятным удивлением произнес Терехов. — Пока молоток, еще и кувалдой стану! — озорно ответил Митя. …В последний раз бригада внедрения собралась после гудка в мастерской цеха. Не было только Нины: она работала во вторую смену и обещала прийти ночью, на смену уставшим, если таковые обнаружатся. — Товарищи, треба сегодня працуваты в темпе, а то мы и себе, и людям уже надоели. Смонтируем за ночь устройство? — спросил Анатолий Иванович. — Кровь из носу — сделаем, — заявил Митя. — Нет, пожалуйста, без кровопусканий, без всякого там производственного гусарства, — возразила Вера Терехова. — От нас ждут ювелирной и точной работы. Для этой ночной смены Вера надела старое ситцевое платье и синий халат. Виктор Петрович тоже вышел в ночную, обрядившись в старые, рабочей поры, брюки и куртку с прожогами от огня нагревательных печей. Мне не хватило терпения пробыть в цехе всю длинную ночную смену. Через два часа я ушел к себе в гостиницу — спать. Но бригада внедрения точно к сирене первой смены завершила монтаж флюсового автомата. Все испытания на этот раз прошли хорошо. Сварка на пятой линии стала проходить быстрее, чем на других. А главное, рабочие теперь были избавлены от трудной операции. Скоро флюсовые автоматы с двойным бункером и копирным устройством обосновались на всех сварочных линиях цеха…
Не повторять ошибок
С тех пор как я однажды попал на одно из оперативных совещаний и послушал Осадчего, у меня появился к ним профессиональный интерес. Было любопытно наблюдать, как здесь, порою в двух-трех репликах, в жесте, даже в красноречивом молчании, вдруг раскрывались новые черточки характеров моих героев. Осадчий сам, как это частенько бывает, в пылу своих темпераментных выступлений не замечал, что в заводском конференц-зале нередко разыгрывалась острая драматургия споров, столкновений, людских судеб. Как-то на одной из таких оперативок я впервые услышал незнакомое мне имя — Толик Тищенко. Нет, им оказался не мальчик, не юноша. Это был инженер лет двадцати пяти, в том возрасте, в каком его сверстники в гражданскую войну командовали уже дивизиями. Вначале на совещании шла речь о выполнении программы, о поступающем металле, о транспорте. Потом директор перешел к темам, так сказать, морально-этическим, заговорил о дисциплине, о нравственном облике работников завода. Почти на каждой оперативке он упорно возвращался к той бесспорной мысли, что "с людьми надо работать", что "к каждому надо быть внимательным". Пока Осадчий по своей манере постепенно разворачивал тему, начиная с общих рассуждений, я вспомнил прочитанную на днях в трубоэлектросварочном цехе стенную газету. Она была интересной, посвящена производственным делам, висела на передовом участке. И вот в этой самой газете на видном месте я увидел список тех, кто за последний месяц побывал в вытрезвителе! Список солидный. Около тридцати фамилий. Об этой разболтанности иных рабочих, о потере чувства ответственности, чести, своего достоинства как раз и говорил теперь Осадчий. Все в зале насторожились. Я давно заметил: тема эта приковывает всеобщее внимание. Не оттого ли, что есть тут житейская острая начинка, что касается она людских судеб? Заводская многотиражка редко помещала судебную хронику. А директор заговорил об этом открыто и страстно. — Есть случаи пьянства, — сказал он, — даже в передовых коллективах. Люди получили высокое звание и успокоились. Вот полюбуйтесь: сводка из милиции по нашему району. Неприглядная картинка! И представьте себе, товарищи, среди "героев" есть и люди с нашего завода. После многозначительной паузы Осадчий зачитал справку из вытрезвителя. — Я получаю ее на стол каждую неделю, — с горечью добавил он. — А цифры — их и произносить противно. Товарищ Усачев! — выкрикнул директор. — Вы здесь? Тогда объясните нам, почему, от каких таких переживаний ваш начальник ПРБ, молодой специалист Толик Тищенко за последний месяц три раза побывал в вытрезвителе?! Игорь Михайлович, как видно, был застигнут врасплох. Он медленно поднялся со своего стула, и лицо его еще не успело утратить обычного выражения благодушия. Он недоуменно пожал плечами: дескать, как такое объяснишь? Но улыбка Усачева быстро увяла под строгим взглядом Осадчего: — Так вы не слышали об этом? — Нет. — И ничего не знаете? — наступал Осадчий. — Вообще-то слышал кое-что, — уступил Усачев. И добавил: — В общих чертах. Кто-то в зале хихикнул. — В общих, значит? — укоризненно повторил Осадчий. — Да будь я не начальник цеха, а только мастер, и то разве бы не знал, кто у меня пьяница? Я бы даже знал, с кем он пьет сегодня и с кем будет пить завтра! Снова легкие смешки в зале. Однако директор не собирался сводить разговор к шутке. — Я думаю, нечего выгораживать Тищенко, его надо снять с работы! — заключил он. Грешным делом, я подумал, что суровое это решение пришло к Осадчему внезапно, как разрядка негодования. Однако и после недолгой паузы директор с новой силой повторил: — Снять, снять! Хватит церемониться с пьяницами. Отделу кадров строгое указание: случайных людей с улицы не брать. Возможно, слово "случайный", наконец, растормошило Усачева. — Какой же Тищенко случайный? — выкрикнул он с места. — Тищенко институт закончил. — Тем хуже! — отрезал Осадчий. — С высшим образованием можно найти занятие и получше! Все!.. Однако это было еще не все. На следующий день Игорь Михайлович, по доброте душевной, сделал попытку отвести от головы Толика карающий меч директорского гнева. Или хотя бы смягчить удар. Он с секретарем цехового партбюро и начальником смены явился к Осадчему с заверениями, что Тищенко в вытрезвителе не бывал и фамилии его в списке клиентов этого заведения нет. Я случайно оказался в кабинете Осадчего, когда начался этот разговор. Надо было видеть, как Осадчий посмотрел на членов "представительной" делегации. — Радетели! — произнес он с пропитанной горечью укоризной. — Чувствительные радетели! Как мы готовы всегда к снисхождению, и нет греха, который бы мы охотнее прощали, чем пьянство. — Но если человек клянется, — Игорь Михайлович от возбуждения даже замахал руками. — Вы же знаете, как это в милиции бывает, ошибутся — и будь здоров! Вы простите, Яков Павлович, но тут судьба человека.." Осадчий снова недоверчиво покачал головой: — А у меня чутье на таких людей. Как лакмусовая бумажка на всякое вранье. Все угрюмо помолчали. Я почувствовал, что лакмусовая бумажка как-то не убеждала, и в глазах присутствующих директор мог показаться черствым человеком, почему-то озлобившимся против молодого парня. Всем было неприятно. И Осадчий, конечно, увидел это. — Ну что ж, тогда выясните, был или не был. Пусть в вытрезвитель поедет комиссия от завкома. Завтра же… — решил он. Комиссия поехала. И, к удивлению многих, выяснила, что в вытрезвителе три раза побывал именно Толик Тищенко, а не кто-то другой, записавшийся под его фамилией. Более того, сам Толик приезжал к врачу вытрезвителя и очень просил, чтобы врач его фамилию в книге записей переделал на другую или же вымарал вовсе. Я был поражен такой развязкой. Толика Тищенко сняли с инженерной должности и перевели мастером на участок.Прошло немногим более недели. Толик работал в тот день в ночную смену, я позвонил Усачеву, попросил задержать мастера на полчаса после смены. Когда утром, около восьми, я пришел в контору цеха, Тищенко уже ожидал меня. Сам Игорь Михайлович куда-то ушел, любезно предоставив мне свой кабинет. Я сел за его стол, Толик — рядом, на стул, который я ему пододвинул. Короткая, под плюшевого мишку стрижка, очки придавали его круглому лицу выражение серьезности и некой общей интеллигентности. Спокойно посмотрев на меня, Толик спросил, зачем я хотел его видеть. Тихий голос и небольшой нервный тик в правом углу губ только усиливали впечатление душевной замкнутости и вместе с тем ранимости. На первый взгляд в Тищенко можно было предположить кого угодно: молодого физика, поэта, социолога, но только не завсегдатая вытрезвителя. — Мне хочется поговорить откровенно, по душам, — сказал я, ощущая неловкость в предвидении трудной беседы. Он кивнул. Если бы Толик даже хотел, он уже не мог уклониться от разговора и, видно, приготовился вытерпеть его. Я это почувствовал, и мне стало неприятно. Мы немного помолчали. — Так что же с вами стряслось? — А ничего, — он пожал плечами. — Просто попал один раз в вытрезвитель. — Случайно? — Да. — А остальное вам присочинили? Он снова охотно кивнул, поддерживая эту версию, как, наверное, поддержал бы сейчас любую другую. — Ав чем же причина? Я думал, он скажет. Может, и в самом деле неудачи в работе, семейные размолвки или чувство неудовлетворенности? — Да нет никакой особой причины, — он снова пожал плечами. — Просто выпил. В цехе совершаются, ей-ей, куда более серьезные проступки. И ничего. А тут такой гром! И Толик стал говорить, что строго юридически перевод его в мастера вообще незаконный. Он мог бы обжаловать это решение в суд. Если бы захотел. Но он не хочет. "Странно, почему же не хочет?" — подумал я. — Зарплата теперь даже выше стала, — словно почувствовав мое недоумение, пояснял Тищенко. Потом Толик добавил, что раньше в планово-распределительном бюро цеха у него под началом были две девушки, а сейчас, как у мастера, тридцать мужчин-сварщиков. Значит, как бы выросла и ответственность. В общем, по его словам, как ни верти, получалось, что он, Толик Тищенко, от перевода в мастера даже выиграл. В этом он хотел меня уверить. Я же видел, что все не так. И не в деньгах дело, и не в количестве подчиненных. А в том, что Толик отстранен от инженерной работы. И как бы в подтверждение моему выводу сам Толик через некоторое время сказал, что он, конечно, на заводе не останется, подыщет что-нибудь и уйдет. — Из-за понижения? — прямо спросил я. — Да нет, — Толик махнул рукой. И неожиданно у него вырвалось: — Не только! Вообще у меня создалось впечатление, что на заводе я человек липший. Я вам скажу — здесь истинной инженерной работы мало, больше административной. Дай трубу! Ничего другого не признают. Шесть лет я уже на заводе. Хватит! То, что его утверждение необъективно, возможно, сознавал и сам Толик. Говорил в раздражении, сгоряча. Но все же, если что меня в ту минуту и поразило, так это категорическое и злое: "Хватит!" — А почему, собственно, шесть лет и "хватит"?! — спросил я. — А Усачев? А сам Осадчий, который уже больше тридцати лет на заводах, а рабочие — Гречкины, Падалко, Крючков? Толик вяло кивнул в знак того, что он знает об этом. И все же мнения своего не изменит. — Значит, все-таки уйдете? — Наверное. Почувствовав в моем голосе неодобрение, он кисло улыбнулся, как бы выражая этим нечто от него не зависящее. Беседа наша, исчерпав основную тему, начала вянуть. Тищенко распрощался и ушел. — Побеседовали? — спросил у меня вошедший в кабинет Игорь Михайлович. Спросил с улыбкой, но без видимого интереса, и мне не показалось, что душевные переживания Толика заботили его больше, чем десятки других дел. — А как он на участке? — Втянется, втянется, — успокоил Усачев. — Все они, молодые, начинают с мастеров. Вот и вернулся к исходной позиции. — Переживает? — Наверное. Но парень толковый. Выправится. А уроки жизни надо оплачивать сполна. — Хорошо, если все закончится так…
Прошло немногим более года. В свой следующий приезд на завод я как-то шел по пролету цеха и через окошко каменного "домика", притулившегося около массивных колонн, в этой конторке мастеров заметил вдруг знакомую фигуру. Это был Тищенко. Он явно изменился. В чем эти перемены, я сразу определить не смог. Тот же ежик волос, может быть, ставших чуть длиннее, те же очки, только голос более басист и отдает легкой хрипотцой, как у заправского мастера, которому приходится кричать, преодолевая грохот цеха. И все же… Нет, не это привлекло мое внимание. А новое выражение лица Толика. Спокойствие, зеркально отражающее приобретенное человеком душевное равновесие, жест — неторопливый и уверенный, веселые искорки в глазах. Вот уж веселым никак нельзя было назвать Толика в наши прошлые встречи! А сейчас он встретил меня не настороженной, а открытой улыбкой, как старого знакомого. — Как жизнь? — спросил я. — Нормально. Но я все же поставил под сомнение полную меру его искренности. Собственно, в ту минуту я видел лишь, что Толик с завода не ушел и по-прежнему работает мастером, что, видимо, он переломил себя и жестковатый урок Осадчего пошел ему на пользу. Заработки хорошие, — Тищенко счел нужным сам пояснить, чем он доволен. — Премия идет. Шесть раз мне присуждали звание лучшего мастера цеха. — Это прозвучало уже гордо. Он это почувствовал, застенчиво улыбнулся и добавил, что работает много, но и учится, занимается английским, философией, надеется сдать кандидатский минимум в Уральском научно-исследовательском институте. Наш разговор прервал вошедший в конторку молодой сварщик — высокий, стройный, в ярко-красном свитере, плотно облегавшем его фигуру. Я буду называть его Дунаевым. Парень бегал по пролету с обходным листком, увольнялся, и меня удивила та поспешность, с какой он старался собрать подписи, и возбужденность, возможно, показная. — Почему увольняется? — спросил я у Толика, когда он поставил на листке свою подпись. — Второй раз прогулял и вот сам подал заявление. Некоторые прогульщики так делают, — пояснил он. — Боятся, что начнут "прорабатывать" на общих собраниях, а до этого — вызов к начальнику смены, цеха, директору. Особенно они опасаются проработки рабочих, товарищи "втыкают" им как следует! — Толик усмехнулся. — Вот и уходят! — Все так, но почему с такой легкостью отпускает их завод? Вот вам, мастеру, не жалко? Ведь, наверное, Дунаев — квалифицированный сварщик? — Такого не жаль, — ответил Толик. — Вот однажды у меня действительно ушел отличный мастер сварки. Долго мы его уговаривали. Поссорился с женой и уехал в Донбасс. Жена пожила, пожила одна, поехала за мужем, привезла его снова в Челябинск. Он, конечно, на завод. А мы за то, что сбежал, поставили его на "перевалку". Есть такая операция. Работа тяжелая и невысоко оплачиваемая. Так и протрубил полгода на этом участке. Наказали за легкомыслие. Да, а вот этого, Дунаева, не жаль, — повторил Толик. Я не знаю, слышал ли это рабочий, он стоял неподалеку. Но когда парень подошел ближе, я сам напрямую спросил у него, зачем покидает завод, прерывает рабочий стаж, неужели так панически боится общественного осуждения? Да ведь и справедливо оно! Дунаев выслушал меня со снисходительным вниманием. Потом почти без улыбки и таким тоном, который можно было воспринимать как угодно — и в шутку, и всерьез, сказал: — Я прогулял из-за водки, проспал. Хочу научиться пить водку. А потом вернусь на завод, через полгодика. Он поправил воротник своего красного свитера, прикрывающего шею до самого подбородка, и помчался куда-то дальше собирать подписи на своем листке. Я посмотрел на Толика. Он-то прошел через горнило общественного осуждения и только закалился в нем. Казалось, Дунаев мог вызвать у него долю сочувствия. Только я этого не заметил. Нет. Осадчий, будь он свидетелем разговора, думаю, остался бы доволен. Такой вот Дунаев в Толике умер бесповоротно… Уже уходя из конторки мастеров, я подумал, что, конечно, лучше не делать в жизни ошибок. Хотя не всем это удается. Поскользнулся на жизненной дорожке и Толик. Но теперь он, видимо, извлек из случившегося полезный урок. А дальше? Дальше не повторять своих ошибок каждый разумный человек может и должен.
Тонкий профиль
Несколько лет назад мне довелось побывать на земле древней Эллады, увидеть ее постоянно ясные небеса, прозрачную глубь Эгейского моря, памятники глубочайшей старины и услышать шумный говор, кипение толпы на веселых в ту пору, солнечных площадях беломраморных городов Греции. Знаменитый Акрополь, мраморы Парфенона — желтые, обветренные, шероховатые, а не белые и гладкие, как почему-то представлялось ранее, те самые камни, с которых, быть может, Сократ задумчиво смотрел на залив и Гераклит размышлял над тем, что все в этом мире течет и меняется. Многие начала были заложены на этой земле — в области философии, литературы, архитектуры, театрального искусства и… древнего производства труб. Да, и труб! …Мы поехали осматривать остатки Пеллы — столицы древней Македонии. О четвертом веке до нашей эры в этом дворце родился Александр Македонский. Туристские автобусы останавливаются около легкого, из тонкой проволоки забора с деревянной калиткой. За калиткой — небольшой каменный домик музея, слева — убогие служебные строения, но зато за музеем — камни, остатки колонн, ступени и плиты, нагретые солнцем, чуть желтоватые от старости, те самые плиты, по которым ходили люди две тысячи триста лет назад! Удивительно долговечен камень, мрамор и обожженная глина! Мы рассматривали уцелевшие основания древних бань и ванн из серого гранита и то, что было когда-то жилыми помещениями, дворцовыми залами, военными арсеналами. Но самоеинтересное — водопровод! Он был проложен между фундаментами древних зданий, составлен из толстых керамических труб темно-серого цвета с более светлыми, свинцовыми соединениями. Кое-где трубы обернуты прозрачной нейлоновой пленкой — это уже дар современной цивилизации, способствующий сохранению древней реликвии от губительных влияний дождя и ветра. Хотя, как видно, не столь уж губительных, ведь эти трубы на пять-шесть веков старше тех, о которых Маяковский писал:Тонким профилем как темой для исследования Терехов заинтересовался еще в первые годы своей работы на заводе. И не он один, а и Усачев, покойный Каган, сотрудники из центральной заводской лаборатории. Тонкий профиль позволял не только экономить металл. Вводя его, необходимо было увеличивать обжатие, то есть давление валков на трубу, а это значило увеличить и скорости прокатки. Так что новшество сулило двойную выгоду, столь заманчивую для производственников. Однажды Терехов пришел к директору поговорить о тонком профиле. Осадчий был занят, куда-то торопился. Как обычно, в кабинете его находились люди — секретарь принесла на подпись бумаги, в кресле сидел Чудновский, просматривал какие-то материалы. То и дело звонил телефон. — Чего тебе, Виктор Петрович? — сухо спросил Осадчий, взглянув на Терехова. — Пришел с идеей? Он обладал удивительным умением как-то интуитивно угадывать просьбу или желание, с каким приходил к нему человек. — А с какой? — в свою очередь спросил Терехов, раз уж директор угадал наполовину цель его прихода. — Какой-нибудь такой, заковыристой? Чтобы всем нам хлопот прибавить. Угадал, наверное? — Осадчий подмигнул. — С этой точки зрения — правильно, — Терехов невольно усмехнулся. — Ну, тогда — тонкий профиль. А усмехаешься ты тоже правильно, — уже без улыбки добавил Осадчий. — Если пришел просить в трубопрокатном резервную линию для опытов, то зря. Мне уже намекал Усачев и другие. Не выйдет. Алексей Алексеевич, — он повернулся к Чудновскому, — разве можем мы сейчас этим заниматься? Чудновский как-то неопределенно хмыкнул в ответ. — А почему не можем? — спросил Терехов. — Потому, — уже жестче отрезал Осадчий, — что завод не может распылять силы. Бить надо кулаком, а не растопыренными пальцами. Вы же знаете, мы там, в этом цехе, будем продолжать реконструкцию. С тем чтобы вслед за трубой "1020" дать трубу "1220". В ближайшее время. — Действительно, Виктор Петрович, не очень-то это ко времени, — поддержал Чудновский. — Мы и так в цейтноте. Сейчас не до профилей. Ссылка на первоочередность каких-то больших задач, отодвигающих в сторону все менее важное, всегда кажется сильным аргументом в споре. И Терехов как-то сник, хотя ощущения своей правоты не утерял. — А если в цехе печной сварки? — он смотрел уже на Чудновского, ожидая от него поддержки. — Да там, конечно, легче. Но, милый мой, вам ли говорить, ведь мы уже пробовали и раньше! — Чудновский вытянул руку, подсчитывая начал поочередно загибать пальцы: — Рвутся трубы — раз. Мнутся при ударах о рольганги — два. Частые трещины — три. Сминаются концы труб — четыре. Так? — Да, так, — ответил Терехов. Он это сам знал отлично. Когда на большой скорости раскаленная и еще мягкая труба мчится по рольгангам, от динамических ударов происходят разные неприятности. — Вы же знаете, при опытах на тонком профиле нам приходилось не увеличивать, а даже уменьшать скорости на стане чуть ли не вдвое, — Чудновский загнул пятый палец. — Все это правильно. Но надо искать, откуда эти неполадки, Алексей Алексеевич, как же иначе? — Естественно. Будем искать, — как-то неопределенно заверил Чудновский. — Будем, не теряя чувства реальности, — добавил он. — Вы затеяли этот разговор не вовремя, Виктор Петрович! — сказал Осадчий, и в голосе его уже слышалось легкое раздражение. Понимал ли тогда Терехов позицию директора? Да, в какой-то мере понимал. Но, с другой стороны, сколько можно оттягивать опыты с тонким профилем, ведь страна теряет металл на каждой трубе! Менее всего в ту минуту Терехов понимал Чудновского. Главный инженер — вот уж кто должен был решительно поддержать заводских экспериментаторов. И, словно бы уловив этот мысленный упрек, Чудновский произнес: — Мы тут не можем работать по многопольной системе, милый мой. И так засеваем слишком широко, только пока не везде всходит. Шуткой главный инженер явно поддержал грубоватый окрик директора. "Как странно, — подумал Терехов, — два таких разных человека, различных по своим активным побуждениям, вдруг на чем-то сходятся в своих слабостях. Разве нельзя, — рассуждал он, — совместить во времени два наступательных направления? И большую трубу, и тонкий профиль? Можно. Только нужно желание". Он хотел сказать об этом и директору, и главному инженеру. Хотел, но не сказал. Что-то дрогнуло в нем, обмякло, исчезли решимость и твердость, с которыми он вошел в кабинет. И еще эта спасительная для слабости поговорка о том, что плетью обуха не перешибешь. Она тоже пришла на ум. Потом Терехов долго не мог простить себе этой слабости и того, что промолчал, отступил, смиренно распрощавшись, ни с чем ушел из кабинета директора. Но часто то, что не могут сделать слова и доводы, делает само время. Прошло полгода. И хотя в трубоэлектро-сварочном полным ходом шли работы по реконструкции и расширению цеха, сам Осадчий подписал приказ о возобновлении опытов по тонкому профилю труб. Сразу в двух цехах — в горячем, непрерывной печной сварки труб, и в трубоэлектросварочном. "Экономичные трубы" — это ныне ходовой термин на заводе. Хотя, если подумать, в этих словах заложена некая смысловая нелепость. Как будто есть правомерность в существовании труб неэкономичных — тяжелых, громоздких, с большими допусками запаса прочности. Все трубы должны быть предельно экономичными. Как-то Усачев показал мне снимок, похожий на рентгеновский, пластического удлинения трубы. Научно это называется: удлинение труб между клетями при редуцировании с натяжением. Постепенно, под давлением валков становятся тоньше стенки непрерывно двигающейся трубы. Но вот опасный момент — слишком велико натяжение, и на трубе образовалась "шейка". Она тянется, как ириска, если позволительно такое сравнение, тянется, тянется и… бац! Обрыв! Я видел на снимке ось этого обрыва. Его изломанную линию. Всякий обрыв при экспериментировании означал для Усачева, мастеров, рабочих цеха новые опыты, новую установку контрольных приспособлений и контактных роликов измерительного прибора с подключенными к нему осциллографами. Но еще прежде, в лаборатории, проводится работа со специальным прибором, в который закладывается моделька трубы из прозрачного полиэтилена, и там, в приборе, с помощью светового фильтра можно наглядно увидеть, как распределяются по модели напряжения при сжатии трубы. Зная модуль перехода от полиэтилена к стали, нетрудно подсчитать аналогичные напряжения, возникающие в металле труб при обжатии и прокатке. Тонкостенные трубы рвались на стане. Порою часто, порою не слишком часто, и это обнадеживало. Усачеву и его товарищам обязательно надо было найти, доискаться, почему они рвутся и как в производственных условиях избежать обрывов? Горький привкус неудач Усачев многие месяцы словно бы ощущал на губах. Горечь эта примешивалась ко всему, о чем бы он ни думал. Казалось, в сердце открылась ранка и зудела, зудела! Но на стане продолжались опыты. Усачев упорно катал тонкий профиль. …Я помню конец одной ночной смены. До пересменки оставалось минут десять. Обычно стан работает непрерывно, если все идет нормально, но в то утро Усачев Дал команду на полчаса зажечь на табло красный свет остановки, пока будут менять режим главной редукционной клети. — Перевалочная бригада уже собралась, скоро начнем, — сказал он мне. Рядом с Усачевым стоял работник научно-исследовательского трубного института. Научные сотрудники тоже проводили работы по утончению стенок труб. Усачев называл сотрудника — Алик. Это с ним познакомился Александр Гречкин в больнице. Я заметил, что Усачев немного волнуется, зато Алик выглядел иронически-благодушным: шутил, рассказывал анекдоты. Он называл их "абстрактными". — Вот послушайте: летит над Лондоном стая крокодилов, вожак оборачивается и говорит: "Что за черт, вот десять часов летим, и все среда!" Усачев удивленно уставился на Алика, но чувствовалось, думает он о другом. Александр Гречкин из вежливости, видно, коротко посмеялся. — Да ну вас к шутам с этими крокодилами! Пора, начинаем. Александр, вызывайте бригаду! — распорядился Усачев. Гречкин пошел вслед за мастером, нагнал его, и потом они все вместе — Гречкин, мастер и члены бригады дежурных слесарей — взяли со склада и потащили на руках тяжелые верхние и нижние валки для редукционной клети. Мастер, красный от натуги, пыхтел и шумно дышал рядом с Гречкиным. Бригада слесарей уже завела привычную: — А ну, раз взяли! Еще раз, взяли! Не хватало только: "Эй, ухнем!" Дотащили валки до тележки, стало легче — повезли. Но около стана снова пришлось браться руками, крюк мостового крана бесполезно плавал над головами рабочих. Руками, только руками можно было точно и аккуратно вставить эти большие цилиндрические валки в оправу клети. Валки, освещенные ярким светом переносных ламп, весело поблескивали отполированной сталью. Зеркально светились ручьи калибров, места контактов с прокатываемой полосой, те самые места, где холодный и крепчайший металл с огромной силой давит на раскаленный и поэтому более податливый металл трубной заготовки. Гречкин погладил ладонью холодный еще и скользкий валок и спросил у Алика: — Ну, как вам наш механизированный ручной труд? Рабочие перевели дыхание, снова взялись за ломы и крючья. Оба валка пришлось поднимать на уровень груди. — А ну еще!.. Все вместе!.. Разом, дружно — взяли! — зычно на весь пролет командовал бригадир. Стан не работал. Привычный слоистый шум, напоминающий низвержение потока по каменистому руслу, сейчас затих. Звонко разносились голоса рабочих, и где-то там, высоко под стеклянным потолком цеха, в переплетении стальных балок, рождалось ответное эхо. Алик разговаривал с Усачевым. Я слышал, как он сказал: — Теперь, Игорь Михайлович, в ученом мире не считается вовсе доблестью, так сказать, многостатейность, обилие мелких научных публикаций. Само по себе количество работ — уже не украшение ученого. Раньше у нас водились просто чемпионы в этом смысле, а теперь, извините, выглядит как халтура. — Но есть работы и работы! — возразил Усачев. — А в целом, наверное, это правильно. Уж очень мы торопимся каждое наблюдение поскорее тиснуть на печатном станке. — Правильно или неправильно, но так. Я здорово устал за год, теперь, знаете, в ученом мире принято отдыхать два раза: летом и зимой. Хотя бы по полмесяца. Иначе не хватает нервного заряда. — Завидно. А на заводе так не выплясывается, — сказал Усачев. — То конец месяца, то квартала. План, план! Всегда напряжение. — Угу! Все ясно! — кивнул Алик. — Поэтому переходите-ка к нам в науку, пока не укатали сивку крутые горки. Усачев не ответил. Он забрался на клеть, сея там верхом на раму, чтобы еще раз осмотреть, как установлены валки. Привычный, проникающий во все угадки завода звук сирены возвестил начало утренней смены. Усачев спрыгнул на пол, отряхнул брюки и сделал рукой энергичный жест, точно стартер на беговой дорожке. Жест этот предназначался Гречкину и был понятен без слов. Я поднялся на командный мостик операторов. Гречкин уже стоял за пультом. Двумя поворотами ручки он включил конвейер рольгангов. На табло загорелась красная надпись: "Внимание! Стан работает". Гречкин работал спокойно, он мог наблюдать за станом и за Усачевым и Аликом, которые остались внизу и, кажется, о чем-то спорили. Алик размахивал руками, широко открывал рот, только теперь уже ни Гречкин, ни я не слышали их голосов и словно бы смотрели немой фильм. Должно быть, только одного боялся сейчас Гречкин — обрывов. Я был уверен, что и Усачев в эту минуту думает о том же. Прошло минут десять. Я хорошо видел с мостика, как готовые тонкостенные трубы, внешне, конечно, ничем не отличимые от обычных, скатываются с последнего рольганга по наклонной плоскости туда, где, охлаждая их, бьют в воздух сильные струи воды. От потемневшей массы металла все же продолжал излучаться жар, накалявший и балки пролета, и стропила потолка цеха, где дрожало в воздухе и плавало, как марево, серое облако испарений. Хорошо! — неожиданно вздохнул Гречкин. — Что? — не понял я. — Порядок! Катаем нормально. А тонкий профи-лек — вот он! Труба за трубой! — Выходит, не оправдывается пословица, — сказал я, — что где тонко, там и рвется? Гречкин как-то смущенно пожал плечами. Боялся, что ли, порадоваться раньше времени, чтобы не сглазить? Мол, скажи с уверенностью "да", и тут же что-нибудь стрясется. Внизу, около стана не торопясь прогуливались трое: Усачев, Алик и мастер участка. Они прошагали мимо редукционной клети, мимо маятниковой пилы, остановились в двух метрах правее, как раз над световым табло. Усачев что-то говорил, показывая рукой на пилу, Алик смотрел туда же, прикрыв глаза ладонью, ибо от пилы летели искры. В это мгновение и мелькнула в воздухе огненная полоса. Она рванулась из стана где-то рядом с маятниковой пилой, словно брошенная чьей-то сильной рукой. Стан ударил лентой о стену цеха, согнувшись лента поползла вверх, уперлась в балку, повернула назад к стану, и только тогда упала на пол. Но здесь, извиваясь змеей, образовала нечто вроде огненного круга, внутри которого очутились Усачев, Алик и мастер. А багровая лента все текла и текла, стан все мотал и мотал трубу, пока один конец ее не полез в потолок, а другой — на переходный мостик и запутался там в поручнях. При обрывах полосы Гречкин как бы терял ощущение времени. Время растягивалось. Секунды казались минутами, хотя на самом деле счет шел на доли секунды. Гречкин сразу же дернул аварийный кран. Со стоном и скрежетом все клети начали замедлять вращение, но можно ли сразу остановить полосу, летящую по рольгангам с такой скоростью! Пораженный, я наблюдал за тем, что происходит вокруг. Вначале Усачев, Алик и мастер пытались убежать от полосы, но когда Усачев понял, что это им не удастся, он схватил за руки Алика и мастера. Теперь им нельзя было двигаться, надо только спокойно стоять и ждать. Пусть сталь шипит у твоих ног, пусть даже коснется ботинка, прожжет штанину. Ни с места! Но вот я увидел, что Алик все же метнулся в сторону. Да, заметался внутри огненного кольца. Усачев страшно, должно быть, закричал на него. Алик тоже закричал, широко открывая рот. Мы не слышали слов. Что Усачев крикнул? II какое значение имели здесь слова? Алик, видимо, находился в том состоянии, когда уже слова не останавливают. Он отдался страху, и страх двигал его руками и ногами, тащил Алика прямо на раскаленную спираль ленты. Вот тогда-то Усачев и сделал то единственное и возможное, что могло уберечь Алика от ожогов. Резким ударом он сбил его с ног. И всем телом навалился на него, прижав к полу… Минут через десять все было кончено. Кружево металла на полу остыв почернело, пришли автогенщики и начали резать это кружево на части. Затем куски из ломанных, исковерканных полос, так и не успевших стать трубами, отнесли на склад лома. Мне показалось, что всем в этот момент захотелось пить. Во всяком случае, рабочие столпились у сатуратора. Спустившись вниз, я заметил на лбу Усачева большую ссадину. Мастеру насквозь прожгло брючину. Алик отделался, видимо, только испугом. Он стоял растерянный, мрачноватый, больше не шутил и не предлагал Игорю Михайловичу переходить в институт. А в общем-то, как уверял меня Усачев, ничего особенного не случилось. Обычный обрыв ленты при прокатке, рядовой эпизод при новаторской работе в цехе, где упорно, творчески, с удачами и неудачами осваивается новый, экономичный, тонкий профиль сварной грубы. После того как Саша Гречкин сбегал в медпункт и принес для всех йод и бинты, он снова вернулся к своему пульту. Усачев спокойно махнул ему рукой: — Давай! И на табло засветились ярко-красные буквы: "Внимание! Стан работает". Когда Усачев стал начальником трубоэлектросварочного, он и в этом цехе продолжал работы по тонкому профилю. Но с другими трубами. По другой технологии. И еще с большими перспективами экономии металла. Учитывая размеры этих труб и тысячекилометровые маршруты газовых магистралей. Штаб цеха, как и положено ему быть, расположился наверху, на пятом этаже пристроенного к цеху здания. Туда надо подниматься на лифте. От лифта ведет длинный коридор со множеством комнат — технические службы. В одной из них — кабинет начальника цеха. Контора, как везде, с немного замасленными стенами (люди, что приходят, прислоняются в спецовках), со скрипучими полами (должно быть, рассыхаются оттого, что в цехе жарко), с характерным запашком окалины и дымка, проникающего сюда снизу от станов. Кабинет Усачева — просторный, а стол у окна — маленький, на нем два телефона, селектор и телевизор, который может показывать пролеты цеха. Вот около этого самого телевизора Усачев и Борис Буксбаум, старший калибровщик цеха, чертили для меня на узких листках бумаги маленькие схемки, выстраивали столбики цифр, помогая этим прояснить мысль, Типично инженерная привычка у обоих. Из этих цифр и схемок вырисовывалась внушительная, объемная картина многолетней борьбы за тонкий профиль, борьбы, я бы сказал, многостадийной и многоотраслевой, ибо она вышла за пределы одного завода. В самом деле, чтобы уменьшить толщину стенок трубы, надо увеличить прочность этих стенок. Следовательно, нужен другой, более жесткий металл. Челябинские трубники сделали такой заказ сталеплавильщикам Магнитки. А те сказали ученым: "Дайте нам слиток, отвечающий этим требованиям, и необходимые легирующие присадки". Наконец, есть слиток, есть и сталь, прокатан лист, но более жесткий. Такой лист труднее формовать и сваривать самим трубопрокатчикам. Нужны новые приспособления на каждом участке, новый опыт и навыки. В 1964-м здесь катали трубу "1020" с толщиной стенки 11,2 миллиметра, в 1965-м — 11 миллиметров, в 4967-м — 10 миллиметров. Миллиметры, даже десятые доли миллиметра. Но в переводе на размеры труб и километры пути — это сотни тысяч тонн металла, ранее без нужды загоняемого в землю. Какое славное, большое и важное дело в руках энтузиастов тонкого профиля! И чем шире трансконтинентальный шаг наших голубых дорог, тем все весомее и разительней выгода, экономия. Но… Вздохнул, порвав на мелкие кусочки исписанный листик бумаги Игорь Михайлович Усачев. А вслед за ним вздохнул и Буксбаум. Было препятствие, на преодоление которого уходило больше сил, чем на исследования, прокатку труб и творческие неудачи. Новому тонкому профилю давно стоял поперек "профиль" старых нормативных представлений плановиков и экономистов. Метры мало кого интересовали. Все брали обязательства в тоннах и в тоннах отчитывались. Сотни тысяч тонн лишнего металла уходили в землю. Я случайно застал двух молодых инженеров в кабинете Терехова. Случай этот особый, в какой-то мере щепетильный, и я не буду называть фамилий. Терехов только что зашел в кабинет, который отличался от других, похожих на него, как две капли воды, лишь висящим на стене электрическим табло. На табло схематически изображались все цехи и все станы. Зеленый свет выпуклых точек означал, что работа идет нормально, остановка стана немедленно отзывалась красным сигналом. Таким образом, живая, пульсирующая огоньками картина ежеминутной жизни завода всегда была перед глазами. Терехов увидел входящих к нему инженеров, видимо, в тот момент, когда сам собирался выскользнуть из комнаты. Я сразу заметил, что вошедших людей что-то смущает и тяготит. Однако же это, видимо, был тот случай, когда смущение не убивает решимости высказать задуманное. Речь зашла о том, что инженеры задумали варьировать толщину стенок труб в зависимости от давления газа на том или ином участке газопроводов. Величина эта неодинакова, где больше, где меньше. Терехов тут же одобрил идею. Он сказал, что в ней заложено реальное, рациональное зерно и что метод этот сулит, безусловно, новую большую экономию металла. — Так что, действуйте! — сказал он. — Ваша идея работает на тонкий профиль. Тогда молодые инженеры вытащили из портфеля уже заготовленное ими письменное предложение и попросили, чтобы Терехов тоже поставил под ним свою подпись. — Как?! Зачем? — Виктор Петрович от возмущения даже покраснел. — Что вы, товарищи! Это ваша идея, зачем же мне примазываться к ней! А помогать, помогать я буду и так. Не знаю, может быть, эта сцена была задумана, как сговор без свидетелей, и я торчал тут непрошеным очевидцем, лишь усиливая общее смущение. Но меня удивило, в свою очередь, то, что инженеры пришли с открытым забралом, не скрывая своих намерений. Все некоторое время помолчали. — У меня хватает своих изобретений, — сказал после паузы Терехов, — и по тонкому профилю тоже. А вы предлагаете один из вариантов этой проблемы. Собственно, это было замечание по ходу беседы, справедливое по своей сути. Но инженеры восприняли его по-своему. Оно словно бы подхлестнуло их. — Вот видите, — начал один из них. — Совершенно верно. Одно вытекает из другого. При чем тут примазывание? Ведь вы, так сказать, разделяете… — Разделяю, ну и что же? — Видимо, Виктора Петровича уже начинала раздражать эта настойчивость. — Нет, вы прекратите, — он решительно отодвинул от себя бумагу, которую ему положили на стол. — А то ведь рассержусь! Когда инженеры вышли, он сказал мне с невесёлой усмешкой: — Вот увидите, эти ребята еще раз придут просить меня в соавторы. — Есть шутка, — сказал я. — А и Б решили написать сценарий, но дело расстроилось, ибо в их содружестве оказались два соавтора и ни одного автора. Так и в технике бывает. Может, вы и есть тот самый автор, которого им не хватает? Терехов рассмеялся: — Нет, тут другое! Ну скажите, откуда у совсем еще молодых специалистов этакая хватка? Откуда? Из каких наших грехов произрастает она? Не из тех ли, которые мы наблюдаем порой, когда дело делают одни люди, а потом к ним присоединяются другие, чье право на авторство сомнительно? — Не без этого, — заметил я. — И все-таки главное в другом, — продолжал Виктор Петрович. — В том, что эти молодые инженеры из трубоэлектросварочного думают о тонком профиле. Думают, ищут. Мы уже освоили и показали другим, что трубу "1020" можно катать толщиной в 10 миллиметров. Это утончение дает дополнительно только на одной линии станов десятки километров труб в год. Представляете? Бесплатных десятки километров трубопровода!
Летом, по утрам, Николай Падалко, рабочий трубоэлектросварочного, иногда бегает умываться к озеру. Дом его стоит на улице Машиностроителей, до озера пять минут хода, и вот она, темно-серая, как срез на металле, или зеленоватая, как бутылочное стекло, или зловеще черная, перенявшая цвет грозовых туч, озерная тихая вода. Извилистая линия берега по обе стороны уходит далеко-далеко и заканчивается зыбким узором гор. Кто купается рано утром, когда еще холодноват воздух и солнце лишь слегка пригревает кожу, кто, входя в воду, не боится первого озноба, от которого замирает сердце, тот знает, какое это удовольствие и блаженство плыть, разогревшись в воде. Падалко вылез на берег, вытерся мохнатым полотенцем, и, сделав несколько упражнений, принялся одеваться. Ему обычно хорошо думалось около озера. И, странное дело, иные вопросы, такие запутанные и сложные для уставшей к вечеру головы, здесь утром словно бы упрощались и прояснялись при свете солнца, всплывающего из озера, как на детских рисунках, громадным оранжевым пылающим шаром. Если тридцатишестилетний человек уже больше двадцати лет на заводе — токарь, сварщик в разных цехах, если его знают тут все, от мала до велика, чем он гордится, не удивительно, что он еще долго остается для заводских товарищей просто Колей, а не Николаем Михайловичем. Даже если стал уже почетным металлургом страны и избран партгрупоргом на своем участке. Падалко, приехавший в Челябинск из Днепропетровска в годы войны, прочно прижился на Урале, женился на уральской, ее зовут Людмила Петровна и работает она на флюсовом участке в одном цехе с мужем. У этого человека всегда хорошее настроение, и собеседника своего он умеет зарядить флюидами бодрости, тем неподдельным ощущением полноты жизни, которое сильнее житейских огорчений — мелких или серьезных, преходящих или постоянных. Завтракает он по утрам вместе с женой и сынишкой, который почти одновременно с родителями выходит из дома, отправляясь в школу. До завода Падалко минуты три хода. Вот и сегодня он вышел из дома перед самой сменой. Шагает одетый по-летнему, в полотняных брюках, в светлой открытой на груди рубашке, в сандалиях на толстой резиновой подметке, чтобы не скользила нога по размытым на бетоне лужам масла. На площади перед трубопрокатным Падалко попадает в шумный, многоголосый людской поток, который взбухает, как кровеносная вена, когда его пережимают металлические вертушки в двух узких коридорчиках проходной. Порою народ тут скапливается такой плотной, шумной, веселой массой, какая бывает в колоннах на демонстрации. И хоть прижмет кто-нибудь локтем или толкнет ненароком, стиснет в проходе, это не портят настроения. Кому-то протянешь руку, кому-то кивнешь, третьему лишь успеешь подмигнуть, когда знакомое лицо, мелькнув на секунду, скроется в движущейся толпе. Чувствуешь себя кровной частицей потока, важной и нужной частицей силы, дающей жизнь заводу. Тут же за проходной — шеренга портретов. На одном из них — темноволосый, темноглазый человек, с нежной, как у девушки, кожей лица, с прядью, сползающей на лоб. Знакомое лицо. Внизу подпись: "Герой Социалистического Труда". Это Николай Падалко смотрит на Николая Падалко, каждое утро они встречаются у проход-ной. И тот, что на фотографии, как бы спрашивает: "Как ты сегодня?" "Да ничего, — мысленно отвечает ему Падалко, — ничего, браток, все движется своим ходом, сегодня опять буду варить тонкий профиль трубы "820". Трудновато с ним, но интересно". Войдя в цех, Падалко отправился к своей третьей линии станов, подождал, пока по рольгангу прокатится труба, затем, резко согнувшись, нырнул под перекрытия к своей деревянной рабочей площадке, немного возвышающейся над полом. Мимо нее, как мимо маленькою полустанка, медленно двигаются эшелоны труб. Когда Падалко, устав стоять за пультом, садится на скамейку, он следит за ходом сварки, глядя в зеркало, в котором отражается внутренний шов. Шов ползет внутри трубы, а с внешней ее стороны кажется, будто движется огненная змейка с красной головкой, туловищем и темным, постепенно остывающим хвостом. Трубы с утонченной стенкой требуют от сварщиков особого внимания. Пресс, формующий жесткую сталь, порой не сводит точно кромки трубы, и тогда случаются прожоги. Если шов хорош, корка флюса сама отпадает при легком постукивании ключа, обнажая ровную серебристую дорожку. Тонкостенную "сырую трубу" перед сваркой приходится прогревать сильнее, чтобы металл просох и был чуть теплым. В общем, возникает много дополнительных забот, но зато душу Падалко и его товарищей подогревает сознание, что они своими руками сохраняют стране тысячи тонн металла. Но сегодня, едва Падалко сел за пульт и к нему подошла первая заготовка, он, к удивлению своему, узнал, что катать будет трубы с прежней, более толстой стенкой. — Почему?! — С этим вопросом Падалко бросился к мастеру. Мастер развел руками — распоряжение! Падалко — партгрупорг, позвонил в контору цеха. Ответ тот же: распоряжение! Цеховой диспетчер, уточняя сменное задание, позвонил главному диспетчеру завода. Тот сослался на плановый отдел. — Ты что, Падалко, мальчик? — с укоризной сказал ему мастер. — Вчера работать начал? Не знаешь, что ли, катать тонкий профиль не очень-то выгодно! Выполнение-то плана в основном идет в тоннах! Правда, есть поправочные коэффициенты на трудоемкость и сложность работы. Ввели недавно. А все же наши заводские плановики все больше на тонны нажимают! Падалко молча выслушал мастера, махнул рукой и пошел к своему пульту.
Рабочий человек
Завком трубопрокатного — в одном из крыльев заводоуправления: несколько комнат и большой кабинет председателя. В тот год председателем завкома был избран Валентин Ионович Крючков. Он возглавил многотысячную профсоюзную организацию, и уже одно это определило масштабы ответственности и значительности дела, которое легло на его плечи. А ведь еще, казалось, совсем недавно я видел Валентина Крючкова в трубоэлектросварочном цехе, около пульта внутренней сварки, на рабочем месте рядового сварщика. Видеть-то видел, но, признаться, не обращал особого внимания. Рабочий как рабочий. Умный, опытный, старательный. Служил в армии, потом снова вернулся в свой цех к полюбившейся электросварке. Сначала — на стан "820". Потом как отличного работника его перевели в пусковую бригаду на стан "1020". Почетное поручение. О Крючкове говорили, что он хороший, душевный товарищ, уважаемый в цехе человек. Конечно, и этого немало, но сколько таких хороших рабочих в цехе! Вот так часто за личиной душевной скромности скрываются до поры неразличимые способности человека к работе общественной, партийной, умение подойти к людям, хорошо ориентироваться в сложной области человеческих взаимоотношений. Надо уметь увидеть это в человеке и понять, с чем он может прийти к людям. Валентина Крючкова по-настоящему разглядел Игорь Михайлович Усачев. Разглядел и оценил. Во всяком случае, меня с Валентином Ионовичем, тогда уже ставшим секретарем парторганизации цеха, свел Усачев. Помнится, это было в марте 1966 года. Мы беседовали тогда в кабинете начальника цеха о проблеме столь же всеобщей, как и важной — о текучести заводских кадров. Говорили о трубопрокатном и соседних заводах. Я вспомнил, что на одном машиностроительном заводе не случайно, должно быть, собираются из фонда материального вознаграждения выплачивать дополнительно за выслугу лет. Ведь до сей поры там ежегодно менялось до 20 процентов рабочих. — Нет, у меня в цехе другое положение, — сказал Игорь Михайлович, — кадры устойчивые. Разгадка простая — средний заработок в цехе сравнительно высок. И низкооплачиваемых рабочих у нас вообще мало. — Это показатель культуры производства, — заметил я. — Но есть такие странные аномалии, — продолжал Игорь Михайлович, — очень странные. Работают у нас люди с высшим техническим образованием на рабочих должностях. Простыми сварщиками. А почему? — Да, действительно, почему? — заинтересовался я. — Причины, видимо, разные. Одни потому, что так им выгоднее: хороший сварщик и по сей день получает больше среднего инженера. Другие потому, что их не выдвигают, не обнаружили они еще своих способностей; Но и в том, и в другом случае спрашивается, — Игорь Михайлович посмотрел на меня, — зачем их учили на инженеров и во сколько это обошлось государству? Я подумал: действительно, странно! Не испытываешь уважения к людям, которые из-за лишнего рубля забросили в угол свой инженерный диплом, знания, чувство долга. Не единым же рублем жив человек! Ну, а сама система заработной платы на заводах? Нет ли в ней тоже определенных несоответствий? Человек с годами набирается опыта, мастерства, казалось бы, и его зарплата должна повышаться. Но на этой шкале есть критические точки, где линия вдруг падает вниз. — Да что там говорить, вот вам живой пример, — обернулся к двери Игорь Михайлович, — наш партийный секретарь, рабочий человек, Крючков Валентин Ионович. Я тоже повернулся к двери и увидел Крючкова, он входил в кабинет. Подошел, присел около стола. Молодой, темноволосый, крепко скроенный, с простым румяным, круглым лицом и живыми глазами. Сказал Усачеву негромко: — Игорь Михайлович, мне сегодня выступать на собрании, кое о чем хотел посоветоваться… — Подожди минутку, тут интересный разговор. Через минутку и сам Крючков оказался вовлеченным в него, загорелся и, поддакивая Усачеву, все повторял: — Да, вот видите, как получается! А получалось так, что когда Крючков был сварщиком, он получал 220 рублей. Начальник цеха, заметив его старание, стал тянуть Крючкова в мастера. Но тот не торопился. Мастер получает меньше сварщика, а отвечает за многих. — Ты же коммунист! Учили тебя! — сказал ему Усачев. — Разве вся жизнь в этих рублях? Крючков согласился. Хотя не надо быть ханжой, деньги — это деньги. Однако, став мастером, Валентин Ионович работал хорошо. Прошло немного времени, и коммунисты цеха выбрали его освобожденным партийным секретарем. Как мастер Крючков получал меньше своих подчиненных, теперь он получает еще меньше, столько, сколько получал, когда начал подручным сварщика. Кривая его зарплаты вернулась к исходной точке. Теперь возьмите не меня, а моего друга Колю Падалко, — предложил Крючков. — Четыре года назад он Стал бригадиром сварщиков, заработок его — среднее от общего заработка рабочих бригады, а следовательно, меньше, чем у лучших, и меньше того, что он зарабатывал сам, когда стоял у сварочного аппарата. Разве это дело? — закончил Крючков. Я подумал тогда, что Крючков прав. Но мог ли я Предположить, что именно ему, Валентину Ионовичу, придется в скором времени окунуться в самую гущу подобных жгучих вопросов и как профсоюзному деятелю заняться делами по урегулированию зарплаты, организации соревнования, бытовыми нуждами, жилым строительством, санаториями, туризмом, отдыхом людей, их здоровьем и самочувствием — одним словом, всем тем кругом многоликих, многоплановых, сложных проблем жизни, которыми на любом заводе всегда по горло занят профсоюзный комитет.В следующий свой приезд в Челябинск я вдруг узнал, что Игоря Михайловича Усачева уже нет на заводе. Он стал директором другого уральского завода — в Свердловской области. Это известие не столько удивило меня, сколько заинтересовало: Усачев в моем представлении так прочно был связан с Челябинским трубопрокатным, так слился с его судьбой, что мне захотелось подробнее узнать, как чувствует себя Игорь Михайлович на новом месте. Так случилось, что первым делом я пошел к Николаю Падалко. Пошел домой, часов в десять утра, через час после его ночной смены. Падалко редко ложится отдыхать сразу же после ночной, хотя смена эта самая тяжелая и в коротких ее перерывах всякого клонит в сон. Однако к утру вновь приходит состояние активной энергии, рабочего возбуждения, даже дома по энерции хочется что-то делать, найти занятие рукам. — Вот только после душа у меня почему-то краснеют глаза, — признался Николай, — и многие думают, что я устал. Тем более, что мы на участке бросили клич: "Даешь четыреста двадцать минут чистого, плодотворного труда!" Падалко пояснил мне, что это означает особую четкость, собранность, полную мобилизацию сил, каждая минута должна быть полновесно трудовой. Давно пора дать бой всякого рода развинченности, перекурам, бестолковщине в рабочее время. — Работать так работать. Что называется, с полной выкладкой! — заметил Николай Падалко. — И тебе больше пользы, и заводу. Партком цеха, членом которого являлся Падалко, одобрил это начинание. О нем Падалко рассказывал на Всесоюзном совещании металлургов в Москве, на совещании трубопрокатчиков Урала в городе Первоуральске, А оттуда, из Первоуральска, всего час езды до Северского трубного завода имени Меркулова, где тогда директорствовал Игорь Михайлович Усачев. Повидаться со старым товарищем отправилась целая группа челябинцев. Вместе с Падалко были Степан Гончарук, тоже Герой Социалистического Труда, мастер печей, сварщик Николай Волков. Игорь Михайлович обрадовался землякам, повел в кабинет, угостил, сам прошелся с ними по всем цехам. Завод старинный, стоит на Урале с демидовских времен, имеет свою историю, традиции. Конечно, не чета челябинскому гиганту, но но-своему интересный, растущий. — Наш Игорь Михайлович какой-нибудь год там или чуть больше, а люди его уже признали, уважают. Мы с рабочими говорили — хвалят, — сказал мне Падалко с чувством искренней гордости за товарища, с которым работал вместе столько лет. …Были два футболиста-погодки в заводской команде, вместе гоняли мяч, вместе спешили в заводские цехи. Один к тридцати шести годам стал директором предприятия, другой остался рабочим — известным, заслуженным, во только рабочим. Не примеривает ли Падалко свою судьбу к судьбе Усачева с ощущением некоей душевной горечи, с сознанием неисполненных надежд? Конечно, я не задавал ему таких вопросов. Я думаю, он и не прочел их в моих глазах. Но все же сам заговорил об этом, подталкиваемый, видимо, контрастностью возникшего сопоставления и потребностью выразить свое, должно быть, не раз обдуманное отношение к жизни. — Вот мой друг, Валентин Крючков, он был рабочим, сейчас у нас председатель завкома, ругает меня за то, что не пошел учиться, — признался Падалко. — Крепко ругает. Мы дружим семьями, частенько собираемся вместе. Сейчас он поступил учиться в заочный институт. И я собираюсь начать. Все правильно. Да, это правильно. Но я знаю, Падалко год от года поднимался по ступенькам мастерства, стал мастером, добрая, рабочая слава его растет, укрепляется. Жизнь сложилась хорошо.
С чем идешь к людям?
Почти на каждом заседании завкома бывали заводские врачи — Тамара Матвеевна Калиниченко, начальник медсанчасти, главврач Александра Ивановна Васева. Они представляли здесь службу здоровья. На этот раз к ним присоединилась и Ирина Чудновская. Члены завкома решили послушать ее сообщение о геронтологии применительно к возможностям и условиям трубопрокатного завода. Когда вошла Ирина, заседание уже началось. Она осмотрелась, с трудом отыскала себе место в углу кабинета, присела на стул, который принес ей из комнаты секретаря Саша Гречкин. В завкоме, как выразился однажды при Ирине Николай Падалко, "народу всегда навалом, место популярное". Первый вопрос — распределение путевок. Выступал Крючков. Слегка раскрасневшийся от возбуждения, должно быть, еще не привыкший к новой, заводского масштаба должности, он называл внушительные цифры — на год завод имеет полторы тысячи путевок на Кавказ, в свой санаторий "Голубая горка", четыреста тридцать — в другие санатории юга, восемьсот — в дома отдыха на Урале. И еще восемь тысяч однодневных путевок. Все они со скидкой за счет профсоюза. Да плюс к этому путевки на поездки за рубеж, тоже со скидкой, а то и бесплатные вовсе. Крючков говорил и о поездах здоровья. Каждое воскресенье отправляются они в район города Чебаркуль, на берег Шерстневского озера. Места здесь прекрасные. Можно плавать, охотиться. В поезде здоровья завод имеет свои три вагона. Потом председатель перешел к тому, как получше организовать работу заводского плавательного бассейна. Замечательное сооружение — Ирина любила там бывать и плавать, смотреть соревнования, игры ватерполистов. Потолок в бассейне высокий, несколько ярусов для зрителей уходят далеко вверх, и когда смотришь оттуда на прозрачную до дна воду, фигурки пловцов кажутся зеленоватыми, под цвет мрамора, легкими, ловкими. Бассейн весьма популярен, и трудность состоит в том, как распределить время между детьми и взрослыми, между цехами и службами завода. Пока Крючков говорил, к Ирине на освободившийся стул подсел Павел Игнатьевич Гречкин. Сказал сначала: "Здравствуйте, милочка!" А потом еще со стариковской ласковостью выразительно пожал Ирине руку, придержав ее в своей. — Как самочувствие, Ирина Алексеевна, как настроение? — по привычке заглядывая собеседнику прямо в глаза, тихонько спросил он. — Спасибо, — также шепотом ответила Ирина. — А как вы? — Наше дело пенсионное — не пыльное. Погуляю — посплю, на рыбалку съезжу, на дачке повожусь, в завод схожу — так дни и бегут. Куда наши дни уходят, доктор? Может, где у них склад есть, как для труб? А? Старик наклонил голову к Ирине, чтобы разобрать ответ. — Уходят далеко, — вздохнула Ирина. — А куда — не знаю. — Да, вот какая морковина-чепуховина! А вы, значит, как обещали тогда… — Что? — не поняла Ирина. Ну, там, в больнице, когда мой Александр к вам попал, помните?.. — торопился объяснить Гречкин. Ирина вспомнила тот случай и свое обещание выступить с докладом о продлении жизни здесь, на завкоме. Правда, она собралась не так уж скоро: больничные дела, диссертация — все отнимало время, силы. Но вот сегодня, наконец, сделает сообщение. — Там в цехе-то лучше стало, — продолжал старик. — Стенку разрезали, вентиляцию ставят. Завкомовцы — молодцы, настойчивые! И по проекту, говорят, обновляется многое… — А вы что, член завкома? — поинтересовалась Ирина и слегка отодвинулась в сторону, потому что Павел Игнатьевич дышал ей прямо в ухо. — Нет, я просто общественный человек. Я, Ирина Алексеевна, без завода не могу… Старик болтал бы, наверное, еще долго, переходя о шепота на свистящий негромкий говорок, если бы Ирина не погрозила ему пальцем, а председательствующий Крючков не предоставил ей слова. — Ирина Алексеевна, пожалуйста, ваш вопрос, — провозгласил он. — Ввиду познавательного интереса освобождаем от регламента, однако в пределах совести, у насеще много дел. — Я сама противница долгих словопрений, я не задержу, товарищи! Тут Валентин Ионович говорил о бассейне, так вот вам моя первая рекомендация, — Ирина улыбнулась, — прохладная вода в бассейне хорошо стимулирует нервную систему… Она подготовилась к своему сообщению дома, составила конспект. Но сейчас забыла даже вытащить его, и, может быть, к лучшему. Читающий по бумажке оратор никогда не овладеет в такой мере аудиторией, как тот, кто смотрит в глаза слушателям. А уж если доктор говорит о здоровье, тут непосредственный живой контакт с людьми совершенно необходим. Вначале Ирина сообщила немного общих сведений о своей науке, ибо вряд ли члены заводского комитета были знакомы с самой сутью и историей геронтологии. А именно им, как полагала Ирина, неплохо бы об этом знать. — Более полувека назад американцы были взволнованы высказыванием одного из выдающихся медиков того времени — В. Ослера, совершенно серьезно заявившего, что стариков, достигших возраста 60 лет, нужно… усыплять хлороформом. Эти слова Ирины вызвали веселое оживление в комнате. Не только потому, что среди завкомовцев были люди, уже разменявшие седьмой десяток лет, но еще успешно работающие на заводе. Просто всем им — и молодым, и людям среднего возраста — показалось, верно, нелепой мысль, что шестьдесят — это предел, после которого, как утверждал американец, "старики становятся в тягость себе и другим, мешают культурному и политическому прогрессу". — Вот это да! — даже присвистнул Павел Игнатьевич. — Я знаю приятеля, который в шестьдесят только еще женился, морковина-чепуховина! Так можно пробросаться стариками! — Вы правы, Павел Игнатьевич, — подхватила Ирина, — жизнь и не пошла по Ослеру. Я не говорю об Америке, даже там уделяется внимание благополучию стариков. Но в нашей стране охрана здоровья людей, в том числе и пожилых, — особо опекаемая государством отрасль здравоохранения. Потом Ирина заговорила о продолжительности жизни людей труда. Слушали ее с интересом. Чудновская чувствовала это по глазам, устремленным на нее, по тишине, воцарившейся в комнате. — Если жизнь человека построена на строгих гигиенических началах, — говорила Ирина, — когда хорошо организован режим труда, отдыха, питания, исключены табак и алкоголь, если жизнь человека протекает в радостном труде, в здоровой бытовой обстановке, когда соблюдаются моральные и этические нормы, — можно смело утверждать, что она будет длительной. Ирина передохнула немного перед тем, как перейти к конкретным рекомендациям. Собственно, этого и ждали от нее сегодня члены завкома. Многие вытащили блокноты, приготовились записывать. — Итак, товарищи, рекомендация первая, — продолжала Ирина. — Необходимо планировать свою работу на каждый день, неделю, месяц и даже год. В этом случае вырабатывается известный автоматизм и достигается наименьшая затрата энергии. Второе — свежий воздух. Не менее полутора часов надо проводить на свежем воздухе, а выходные дни — в парках, в саду, за городом. Третье. Большое значение имеет ходьба. Необходимы для людей среднего и пожилого возраста полуторачасовые ежедневные прогулки. Никакие лекарственные средства не успокаивают так быстро уставший от дневной умственной работы мозг, как вечерние пешие прогулки. Недаром существует народная поговорка: "Пешком ходить — долго жить". Ее слушали очень внимательно. В чем здесь причина? В необычности темы? Серьезности ее? А может быть, той внутренней иронии — рассказывай, мол, сказки о столетней жизни! — которую никто не решался открыто обнаружить, чтобы не смутить врача? Да, наверное, имели место и то, и другое, и третье. А вообще-то кому не хочется пожить подольше? Ирина привела в конце, может быть, и не очень кстати, замечание Альберта Эйнштейна о том, что жизнь — это возбуждающее и великолепное зрелище, которое никогда не может надоесть. Да, тема многих взяла за живое. Это почувствовалось даже тогда, когда после сообщения врача обратились к другим вопросам, в частности, к делам старого и нового цехов печной сварки труб, в которых все-таки до сих пор, как сказал Крючков, проблема высоких температур не снята с повестки дня. — Мы теперь, товарищи, обязательно добьемся изменений! — заявил Крючков. Это "теперь" прозвучало немного наивно. Но решительный энтузиазм нового председателя, подогретый сообщением Ирины, отвечал, видно, общему настроению присутствующих. — И на пилу поставим новый кожух, чтобы она по искрила, — горячо продолжал Крючков. — А еще, товарищи, есть такой проект — газорезка вместо шумной пилы. Тише станет, да и скорость прибавится, так что вдвойне хорошо. Эти технические подробности Ирина слушала вполуха. Правда, ее заинтересовал проект новой комнаты отдыха, о котором вспомнил Крючков, а затем и Гречкин-старший, но все же не сами, хотя и показательные, частности занимали ее сейчас — те общие наблюдения, которые позволило ей сделать заседание завкома. Крутой поворот делался для улучшения быта рабочего человека. Теперь уже можно всерьез ставить проблему долголетия рабочего человека как награду за разумно и хорошо прожитую жизнь. Ирина любила свою науку. Как врач и просто как человек она желала ближним и неближним, всем хорошим людям длительного добра и счастья. Она подумала об отце. Да, его упрекают в том, что в свое время он был не слишком озабочен проблемами улучшения условий труда и быта рабочих. В какой мере справедливы эти упреки, судить трудно. Что же касается ее личного мнения, то Ирина уверена: отец никогда не был злым или бессердечным человеком. Просто, наверное, все время и силы поглощали узкотехнические проблемы. И трубы, трубы прежде всего! Увы! Это беда не только его. В какой-то мере поветрие целой эпохи. А точнее говоря, вынужденная необходимость суровых предвоенных, военных, первых послевоенных лет. Но меняется время и вместе с ним общественное сознание. Неумолимо приходит пора новых оценок наших поступков и стремлений.Закономерность
По воскресеньям, не изменяя долголетней привычке вставать рано, Чудновский слушал музыкальную передачу для тружеников села — "Сельское утро", а затем краткий обзор центральных газет. Слушал, а думал о своем. Это были минуты психологической настройки, своего рода нравственная зарядка перед воскресеньем. В обычные рабочие дни на такой самокритичный душевный массаж у него просто не хватало времени. Обычно он продолжал думать о своих делах и на улице. Чудновский взял себе за правило в выходной день больше гулять, дышать свежим воздухом. Недавно один из зарубежных гостей на заводе рассказывал ему, что в Японии считают обязательной для человека ежедневную прогулку в шесть километров. Не меньше. Что ж, это правильно! Но многие ли из его заводских знакомых следуют такому правилу? По местному радио уже передавали "Дневник зрителя". Куда пойти днем в Челябинске? К сожалению, выбор пока невелик. В кино? В городе идут три фильма, и программа кинотеатров меняется лишь по понедельникам. Считается, что в воскресенье зритель, которому деваться некуда, пойдет и на старый фильм. Что еще? Открыта зоовыставка. Диктор сообщил: "Демонстрируется удав из Индии". Вот уже десять дней Чудновский слышит про этого удава. Пойти, что ли, посмотреть?.. Нет, уж лучше просто погулять, посидеть для начала в скверике, а там что-нибудь придет в голову. Чудновский отправился в городской сквер, потом решил прокатиться на трамвае, как в детстве, он тогда любил кататься по городу, и посмотреть те районы, в которых по занятости своей редко бывал. Например, район металлургического завода. Трамвай вначале бодро бежал под уклон, потом, словно преодолевая усилие, начал взбираться в гору. Через десять минут по обе стороны от трамвайных путей потянулись небольшие домики, перемежающиеся пустырями. Однако это была не окраина Челябинска, через несколько остановок на горизонте начали выдвигаться белые прямоугольники, башни, полукружья больших зданий. Скоро трамвай, весело позванивая, вбежал в этот новый район города. Он вырос вокруг крупного металлургического и нескольких машиностроительных заводов. Чудновский решил поискать здесь парк отдыха. И нашел. Традиционная арка над воротами сияла кумачом: "Добро пожаловать!" За изгородью виднелся пруд, какие-то, должно быть, увеселительные павильоны, маленький кинотеатр и заведение общественного питания с броской вывеской "Шашлыки". Чудновский зашел в этот ресторанчик, чистенький и даже уютный. Хорошо, что эстрада в углу пустовала. Было тихо, прохладно, малолюдно. И шашлык подали неплохой — сочное мясо под крепким соусом. Чудновский по своему вкусу расположил на столе тарелки, соусницы, графинчик с поблескивающим в солнечных лучах коньяком. В нем сверкала янтарная желтизна. Это на заводе, торопясь по делам, Чудновский мог быстро съесть первое и второе, даже не глядя в тарелку. Но дома или в ресторане любил, по выражению Ирины, покейфовать, становился гурманом. Дома он любил и умел сам готовить, а потом наслаждался едой. Откуда-то из глубины парка донеслась песня. Наверное, трансляция по радио. Мужской голос жаловался на любовь и тоску. Потом запела женщина, голосом низким, грудным, похожим на мужской. Она пела по-польски, наверное, о том же, не жалуясь и не грозя, а только выливая свою истомившуюся душу в мелодии, от которой хотелось плакать. Чудновский под эту музыку почему-то стал думать о том, что отношения его с директором оставляют желать много лучшего. Не вчера началась и, должно быть, но завтра закончится их многолетняя размолвка. И чем дольше он думал об этом, тем яснее ему становилось, что ни здесь, ни в каком ином тихом месте ему ни сегодня, ни завтра не удастся уйти от себя, от дурного настроения, от сознания душевной горечи и неудовлетворенности, которые в последнее время все чаще мучили его…В понедельник, в конце рабочего дня, Чудновский почувствовал себя неважно. Ныло сердце. Казалось, кто-то сжимает его в большой ладони, и от этого холодеет все в груди, а боль отзывается в лопатке и левой руке. Стенокардия. Неустойчивое кровяное давление. Он был "шестидесятником", как шутила Ирина, а кто из тех, кому перевалило за шестьдесят, не имел стенокардии в той или иной степени. Чудновский попытался не обращать внимания на сердечные боли. Но когда его вдруг сильно шатнуло по пути от письменного стола к книжному шкафу и он, изумленно остановившись, даже протянул руку к стене, ища опоры, Чудновский решил больше не бороться с этим состоянием и ехать домой. Ирина тут же прибежала из больницы, смерила давление, уложила отца на диван, отобрала книгу. — Детектив, дочка, легкое чтение, — взмолился Чудновский. — Лучше не читать, я тебе включу радио. — О, боже, какая тоска! — вздохнул он, но подчинился. На следующий день Ирина предложила отцу обследоваться у нее в больнице, что сулило Чудновскому мало радости и чего он всегда избегал по мере возможности. Ему хотелось уехать на дачу, остаться одному с радиоприемником, магнитофоном, телевизором, который он надеялся втайне от дочери время от времени включать. Покой, сосновый воздух, тишина на даче со всеми ее целебными достоинствами легли на весы сомнений Ирины и перевесили. Чудновского увезли на дачу. Пока Ирина находилась на работе, за ним ухаживала молчаливая домашняя работница Дарья Васильевна, живущая в семье уже давно и сейчас дотягивающая последние полгода перед уходом на пенсию. Дарья Васильевна или, по-домашнему, просто Даша, обожала слушать радио, уважала ученых и военных, в газетах читала главным образом некрологи. Обычно утром обменом мнениями по поводу того или иного траурного сообщения и заканчивалась беседа Чудновского с Дашей. Или еще она спросит про какого-нибудь известного человека: "Взойдет ли он в историю?" Дарья Васильевна и у "хозяина" несколько раз допытывалась об этом, на что Чудновский отвечал определенно, что в историю он не взойдет. А затем наступала на даче полная тишина, и Алексей Алексеевич мог дремать, просыпаясь, думать и вспоминать, пока им вновь не овладевала дремота. Но, странное дело, мысли не уплывали в некие философские дали, в глубины его любимой космогонической теории, а все вертелись вокруг взаимоотношений с Осадчим, злободневных пустяков, которые не должны были, казалось, задевать, однако остро и больно ранили его. Не поднимая головы от подушки, Чудновский мог видеть через открытую дверь часть своего участка. Болезнь всегда обостряла у него чувственное восприятие природы. Пожалуй, никогда Алексей Алексеевич не ощущал с такой полнотой все ее очарование. И близость бора, разогретого летним зноем, и хинную горечь сосновой коры, которой пропитался воздух, и благоухающие цветы, и сухой аромат кустов малины у соседнего забора, а когда ветер с близкой поляны, где гудел трактор, залетал на террасу, он щекотал ноздри Чудновского бензиновым холодком и сытым, плотным запахом свежевспаханной земли. Временами начинал шуметь дождь — влажное дыхание бора становилось ощутимее, усиливались все запахи, отовсюду веяло бодрящей прохладой, и капли торопливо стучали в окно, дробно бились о крышу, словно бы там работала какая-то огромная, пишущая машинка, выстукивая очень длинную депешу, ему, Чудновскому, предупреждение о болезнях, подступающей старости и немощи духа. Да, днем лежать одному на даче было тоскливо. Но к вечеру приезжала Ирина, садилась у ног отца, прикрытых пледом, развлекала его рассказами о городских новостях, о знакомых, избегая только лишь двух тем: больницы и завода. Да и сам Чудновский в эти часы старался не думать о делах. Через неделю кровяное давление удалось снизить почти до нормы. Чудновский заметно повеселел. Он вставал уже с дивана, бродил по участку, присаживался на скамейку около своего телескопа. В субботу вечером неожиданно нагрянули гости. Ирина не предупредила об этом отца, не хотела или не успела. Чудновский сидел за своим любимым маленьким столиком у телескопа, когда услышал гудок подъехавшей "Волги", потом увидел людей, входивших в его калитку. Впереди шагала Ирина, за нею Терехов, сзади него — человек, которого Чудновский узнал не сразу, а потом вспомнил — Алик Коваль, сотрудник научно-исследовательского трубного института. Пробегая мимо с продуктовой сумкой в руке, из которой торчала даже головка коньячной бутылки, Ирина быстро чмокнула отца в щеку. Пока гости, расспросив о здоровье, как всегда, "отмечались" у телескопа, Ирина и Дарья Васильевна начали собирать на стол. Потом Чудновский предложил прогуляться вокруг участка. Гости топали вслед за ним по заросшим травой тропинкам, мимо сосен, мимо чужих заборов, разглядывали грядки, яблони, вишни, сарайчики и даже душевые, спрятанные в чаще кустов, в дальних углах огороженной земли. Объяснения давал Чудновский, остальные шагали молча, но с такой деловитой сосредоточенностью, что могло показаться: все только за тем и приехали сюда, чтобы укрепить Чудновского во мнении, что участок у него отличный и каждый из них посчитал бы за счастье жить на такой даче. Чудновский же, все понимая, делал вид, что именно так и есть на самом деле. И подогретый дружными возгласами одобрения интерес гостей вызван истинными достоинствами его дачного участка, а не только желанием сделать приятное заболевшему хозяину. — Чудесно у вас здесь, — сказал Терехов, — не хочется уезжать от такой красоты. — Да, хорошо! — согласился Чудновский. — А меня все же тянет отсюда на завод. Не оттого ли, мой друг, что мне не так уж много осталось на нем работать? — Но почему же? — возразил Терехов. — Вот видите, как сказывается разница в годах. Дача-то от меня не уйдет, а завод… По-разному мы с вами считаем время, Виктор Петрович, и труда, и отдыха, — Чудновский печально улыбнулся. — Может быть, — сдержанно ответил Терехов. Развивать эту невеселую для хозяина дома мысль ему не хотелось. Дачная тема не могла, конечно, занять всех надолго, и Чудновский, уже на террасе, заговорил об ином. Вспомнил свою молодость, тридцатые годы, когда не только что о дачах, но и о хороших квартирах никто не помышлял, и когда он, Чудновский, молодой инженер, работал в Москве в Гипромезе, снимал комнатушку у какой-то тетки в Харитоньевском переулке. Сводчатый потолок комнатушки напоминал келью, и стены ее были пропитаны постоянной сыростью. Случалось, капельки воды, словно мутным потом, проступали на потолке, и, срываясь, падали вниз. Чудновский был уже женат, подрастала Ирина. Работал он по ночам, когда все засыпали, а чтобы самому не спать, опускал ноги в таз с холодной водой, писал и чертил, сидя на бывшей плите с замазанными конфорками. Эта печь-стул молчала только в спокойную погоду, а когда на улице разгуливался ветер, оживала и утробно гудела и посвистывала. Но разве он тогда жаловался кому-нибудь на свою судьбу! Да только ли он?! Тысячи, миллионы таких же, как он, были охвачены стремлением создавать грандиозное. Строились красивейшие станции метро, вступали в строй новые заводы, мощные гидростанции. Какими ничтожными, мелкими в сравнении с этими делами казались им житейские невзгоды! Чудновский был доволен, что выразил свою мысль вот таким личным примером, фактом своей биографии. Это всегда впечатляет. — Друзья, мы умели мечтать, — сказал он, — но не уподобились тем, кто мечтает ночью, а днем забывает свои сны. Мы были мечтателями наяву и готовы были пожертвовать всем, чтобы "сказку сделать былью". Получилось немного высокопарно. К тому же в эту минуту Чудновский вспомнил, что не так давно именно он как раз и просмотрел "сказку, ставшую былью", в трубоэлектросварочном цехе. Разве он мог быть уверен, что другие сейчас не подумали о том же? "Стал подозрителен, старею", — подумал Алексей Алексеевич. Гости уселись за стол, взявший на себя роль тамады Алик Коваль уже налил всем коньяку, обойдя лишь хозяина. — Предлагаю выпить за здоровье Алексея Алексеевича, — провозгласил он. — Тем более, что, чудится мне, ваша былая программа мечтаний, Алексей Алексеевич, была явно замешана на кислоте жертвоприношений. А нам это сейчас не подходит. Да, не подходит! — Послушайте, Алик, — нахмурился Чудновский, — вы меня не поняли. Или не захотели понять. Никаких жертвоприношений не было. Чепуха! Была трудная дорога у каждого из нас, людей старшего поколения. Были ошибки, неудачи. Были большие победы. И я бы не променял своей жизни на иную. Закончил Чудновский сердито. И все помолчали немного, полагая, что старик стал просто раздражительным от болезни, и каждый делал вид, что занят салатом или селедкой. Алик, наливая по новой рюмке, подносил две рюмки в поднятых руках к глазам, вымеряя уровни, словно сейчас это было самым важным. Чудновский сидел насупившись, и только положение хозяина не позволяло ему выглядеть в эту минуту еще более угрюмым. Потом заговорили о другом. На заводе получено распоряжение отправить главного инженера на месячные курсы по гражданской обороне. — Боже мой! Что век грядущий нам готовит? — вздохнула Ирина. Чудновский встрепенулся: — Что же, если надо… Я готов! Когда ехать? Настроение его неожиданно поднялось. Даже замечания этого желчно-иронического Алика перестали раздражать. Не испортила настроения и зудящая боль в сердце, которую он внезапно почувствовал. Но через некоторое время Чудновский все же поднялся, извинился и вышел в другую комнату. Он слышал смех и голос Ирины с теми заразительно веселыми раскатами, которые появлялись у нее только вместе с отличным настроением. Что-то бубнил Алик. Его пытался прервать Терехов. Гости веселились. Чудновский тихо прошел к себе в спальню. Там был запасной выход на участок. Крыльцо со ступеньками. Слава богу, сюда не доносились голоса с террасы. Чудновский присел на ступеньку. Понемногу спускались сумерки, темнело небо, бор быстро наливался чернотой. Сильный ветер гулял там, раскачивая сосны, и они тягуче поскрипывали. На поляне уже с зажженными фарами работал трактор, шаровые пучки света ползли по забору и, обнаружив щели, пробивались кинжальными полосами внутрь участка. Чудновский слушал гул трактора, и гул этот проникал не только в уши, но, казалось, и в грудь ему, где понемногу затихала боль в сердце. Почему-то вспомнилась одна любопытная встреча, происшедшая у него в дороге, когда он однажды по делам завода летал в Москву. Соседом Чудновского по креслу в самолете оказался небольшого роста, плотненький, крепкого сложения, большелобый профессор, как выяснилось вскоре, специалист по геронтологии. Звали его Яков Петрович. Шел профессору семьдесят пятый год, но, видно, Яков Петрович еще не чувствовал груза годов, много работал, ездил, жил, одним словом, не по законам старости, а зрелой поры. Вот и сейчас летел в Иркутск на конференцию медиков по проблемам долголетия. Когда немного разговорились, Чудновский откровенно заметил Якову Петровичу, что, похоже, он, профессор, совершенно не противоречит оптимистическим прогнозам своей науки. А это бывает не так уж часто. Чудновский мог ожидать ответную колкость, ибо и сам понимал вульгарность своего замечания. Нельзя же требовать от каждого врача, чтобы, исцеляя других, он прежде всего исцелил самого себя, а если уж он геронтолог, то прожил не менее девяноста лет. Однако колкости не последовало, профессор был настроен благодушно и на второй, житейски простодушный вопрос Чудновского: "В чем секрет долголетия?" — тут же кратко ответил: "Не болеть!" Алексей Алексеевич засмеялся: — Разве это от меня зависит? — Зависит, — кивнул профессор. — Меньше нервничать. Знаете, есть такое жаргонное выражение: "Все до лампочки". Между прочим, отличная панацея от преждевременного износа. — Ну, знаете!.. — Чудновский развел руками. — Это как-то несовременно. — И еще надо быть довольным своим делом и собой, — наставительно продолжал Яков Петрович. — Не завидовать никому и ничему. Не завидовать! И еще — любить свой возраст. — Всего-то? — удивился Чудновский. — Да. А потом есть лекарства. Алексей Алексеевич тогда мысленно наложил эти заповеди на свой характер и прожитую жизнь и обнаружил почти полное несоответствие. Долголетие явно не выплясывалось. Профессор, услышав об этом, улыбнулся сочувственно, хотя и без большого доверия к таким выводам, но тут же пожал плечами, как бы говоря, что помочь трудно. — А все-таки не записывайтесь в старики раньше времени, не перенастраивайте себя на стариковскую волну, — посоветовал он. — Здесь многое зависит от психологических наслоений. И вдруг Чудновскому показалось: при этих словах какая-то тень тоски мелькнула в глазах Якова Петровича. И взгляд стал жестче. О чем подумал профессор? Не о том ли, что, как ни отодвигай за дальнюю грань нечто неизбежное, оно все же неумолимо накатывается с каждым годом? Об этом ли или о другом? А может, эта перемена взгляда просто почудилась Алексею Алексеевичу. — Хорошо, — произнес он после паузы. — Тогда скажите, когда же по-вашему наступает старость? Спросил с закипающей иронией, но вместе с тем ошеломленный оптимизмом своего соседа. — В сто лет и позже. — Ну, знаете! — Чудновский рассмеялся. — Это вы хватили. Это задача не нашего поколения. Теперь, вспомнив о той встрече, Алексей Алексеевич подумал, что рано ему еще думать о покое. Нет, он еще поработает и повоюет на любимом своем трубном фронте, если уж не на заводе, то в исследовательском институте или в учебном. У него есть желание и есть силы, он не хочет уходить в отставку.
Сосед справа
Немного правое завода, в том месте бывшего пустыря, где чуть всхолмленная земля с травянистым покровом и песчаными проплешинами подбегала к пологому берегу озера Смолино, поднялись корпуса Уральского научно-исследовательского трубного института. Сокращенное его наименование — Уралнитри было похоже на название какого-то не открытого еще полимера. А по заводу бродила злая шутка, что Уралнитри и Укрнитри на Украине можно объединенно именовать, как Укралнитри! Видимо, здесь таился упрек в параллелизме некоторых исследований. Трубный институт на Урале был молод, организован всего несколько лет назад, опытный цех здесь только строился, да и состав сотрудников был пока не слишком именитым — мало докторов и кандидатов. И по сей день не так-то охотно едут ученые на Урал, в глубинку. Институт давно уже интересовал меня. Однажды я отправился туда с Тереховым. От заводоуправления мы проехали немного на трамвае, затем прошлись пешком. Пока шли, Терехов поведал мне о переменах, происшедших за время моего отсутствия: я только что приехал из Москвы. Перемены касались нового директора института. Им стал Алексей Алексеевич Чудновский. — Давно ли? — спросил я, не скрывая удивления. — Всего несколько месяцев. Открылась вакансия. Терехов рассказал, что Чудновский давно искал возможность как-то развязать туго затянувшийся узел служебных неприятностей, то и дело возникавших между ним и директором. И вот, когда такая возможность представилась, немедленно воспользовался ею. Виктор Петрович даже намекнул, что Осадчий сам-де подсказал в обкоме партии кандидатуру Чудновского на пост директора, к чему, действительно, было немало оснований. Алексеи Алексеевич тяготел к науке, консультировал дипломы студентов, даже диссертации, не единожды председательствовал на экзаменационной комиссии Политехнического института. Все так. Но мне трудно было представить, что такой человек, как Чудновский, более двадцати лет проработавший главным инженером, мог с легким сердцем уйти, пусть даже на почетное место директора института. Надо знать, сколь мощным бывает заводское притяжение, которое тем сильнее действует на людей, чем больше они привыкают к своей трудной, беспокойной, но увлекательной работе. Терехов мог судить об этом притяжении по себе. Поэтому, подумав, сказал: — Все дело в обстоятельствах. При сложившейся обстановке он мог согласиться на уход. Мы поднимались по лестнице института, и мне захотелось хотя бы мельком взглянуть на Алексея Алексеевича. Он явно обрадовался, увидев Терехова в своем кабинете. — Салют, мой друг! — произнес он со своей мягкой улыбкой и показал мне и Терехову на кресла. Внешне Алексей Алексеевич мало изменился. Только, кажется, чуть осунулся, да в красивых седых волосах его, как это бывает с возрастом, кое-где добавилась едва заметная желтизна. — Что нового? — спросил он. — Как план? Сделаем. Пока один цех не вытягивает в тоннах, — сказал Терехов. — Редуцируете трубу? Терехов ответил, что, действительно, редуцируют. Делают тонкий профиль. Трубы получаются более легкими, и план в тоннах опять не выходит. При этом слегка вздохнул. Увы! Это была все та же старая, многолетняя и тяжелая проблема: тонны — метры! — А как мартен, манессман? Терехов называл цифры. Казалось, он попал на оперативку и сейчас отчитывается перед главным инженером. Я улыбнулся, наблюдая эту сцену. Влекомый властной силой привычки, Чудновский словно бы забыл, что он уже не главный инженер. — Съели незавершенку, потом капремонт, в общем, там зашиваются, — пояснял Терехов. — Ничего, — ободрил Чудновский. — Да, конечно, придет в норму, — согласился и Терехов. Потом заговорили о делах института. Здесь сотрудники занимались все тем же кругом технических проблем, с которыми я сталкивался и на заводе: тонкий профиль, радиочастотная, электронно-лучевая сварка. Все эти новейшие методы следовало разработать, опробовать в лабораториях института, предложить производству. Чудновский посетовал на то, что плохо поступает оборудование для лабораторий. — Все никак не утвердят схему строительства, сейчас один мой сотрудник крутится в Москве по этим делам. Не можем выбить денег. И еще кадры, кадры! Голос у Чудновского тускловатый, без былой живости и огня. Я это заметил. Мне пришло на память, как Терехов по дороге сюда излагал мне свой взгляд на задачи таких, как трубный, отраслевых институтов. По его мнению, они должны сосредоточиться на большой науке, а многие мелкие, сугубо прикладного характера темы оставить заводским лабораториям. Потому и работать здесь надо людям действительно талантливым, а не случайным, не тем, кто бежит в науку от производства в поисках более легкой жизни. Чудновский вдруг спросил: — А вы, Виктор Петрович, не пойдете ли к нам? Мы вам дадим лабораторию, вы же кандидат наук. Терехов ответил не сразу. Но смысл ответа можно было прочитать на его смущенном лице. — Не созрел еще, — заключил Чудновский таким тоном, словно бы не ожидал ничего другого. — Да нет, не в том дело! Хочу иметь производственный стаж лет двадцать. Опыт, практика — это очень важно, вы знаете, Алексей Алексеевич! Предложения я получал и раньше. И на преподавательскую работу приглашали. Но пока повременю. — Производственная косточка крепка. Это держит, — по-своему резюмировал Чудновский. И добавил: — В общем-то, я вас понимаю. Ну что ж, мы всегда рады вас видеть в любом качестве и в любое время, — заключил он. Мы распрощались. Затем Терехов повел меня по лабораториям института. Он знал их, видимо, не хуже, чем цехи своего завода, ибо здесь защищал кандидатскую диссертацию, здесь начал готовить свои первые статьи в научные бюллетени, издаваемые ученым советом. В лаборатории оптических исследований мы неожиданно натолкнулись на Алика Коваля. Он не сразу заметил нас. Колдовал над каким-то обрывком трубы, разглядывая срез металла, и почти по самые плечи влез в массивный прибор, напоминающий гигантских размеров фотоаппарат. — Мужу науки — привет! — сказал Терехов. Алик не реагировал. — Дорогой товарищ, к вам гости! Обратите на нас просвещенное внимание, — снова попробовав оторвать его от прибора Терехов. Только теперь Алик заметил нас. На отрываясь от окуляра, помахал свободной рукой: — Привет! Какие новостишки? — Все как обычно. — Но я не слышу ноток бодрости и оптимизма! Старик, не унывай! — Алик наконец подошел к нам. — Все будет красиво! Главное, держи хвост трубой! — Пока труба не бьет хвостом при обрывах, — каламбуром на каламбур ответил Терехов. — А что? Нам грозят какие-то неприятности? — Тебе персонально ничего. Но вообще-то… — Старик, — иронически подсказал Терехов. — Именно, мой дорогой старче! Я, знаешь ли, преклоняюсь перед твоей трудовой самоотверженностью! Конечно, заводу нужны такие тягачи… По дурацкому своему обычаю Алик говорил так, что серьезное тонуло в иронии, а ирония сдабривала все, что могло в какой-то мере походить ня пафос. Он попенял Терехову за то, что тот тратит много времени на эксперименты и вообще напоминает ему излюбленных героев литературы первых пятилеток, эпохи рекордов и штурмов. — Сейчас это как-то не вписывается в облик современного инженера, — заявил он. — А что вписывается? — нахмурился Терехов. Не обращая внимания на его тон, Алик продолжал: — Мне жаловалась Вера, появляешься дома поздно, усталый, раздражительный, а диспетчер тебя будит ночью или рано утром: "Виктор Петрович, опять выбило полосу, стан стоит уже час, какие будут распоряжения?" Виктор Петрович отвечает: "Сейчас приеду, лично разберусь". И скачет на завод. Терехов усмехнулся. — Да, моя жена инженер, и она знает, с чем едят кашу, называемую внедрением нового. Не будем больше об этом. Давай лучше вернемся к тем неприятностям, на которые ты вроде бы намекаешь. — Останется между нами? — Конечно! — Под честное пионерское? — Я уже сказал! — И вы тоже? — Алик повернулся ко мне. Я приложил руку к сердцу и еще кивнул, подкрепляя этот жест. — Ну, так вот, старики, наш новый шеф задумал одну акцию… Он, скажем прямо, с моей помощью и еще нескольких сотрудников подбирает материал по заводу. — Какой материал? — не понял Терехов. — Не на представление к наградам, конечно, — усмехнулся Алик. — Материальчик под знаком минус. Уж кто-кто, а Алексей Алексеевич хорошо знает завод: где, как и что! Посматривая на все еще недоуменное лицо Терехова, Алик теперь уже, видимо, без особой охоты продолжал: — Есть же недостатки! Где-то низкие Показатели по сравнению с другими заводами, где-то перебор в рабочей силе, где-то не используется полностью оборудование. И так далее. В общем, такая подборка по каждому цеху. — Зачем? — этот вопрос, вырвавшийся у Терехова, выражал уже не только недоумение. Нечто большее. И Алик это почувствовал. — Зачем? — повторил еще раз Терехов. — Недостатки, конечно, есть, по… Мне показалось, что Алик уже пожалел о своей откровенности. Продолжать разговор ему явно не хотелось. Но отступать было поздно. — Зачем, зачем?! — раздраженно передразнил он Терехова. — Детские вопросы! Шефу угодно показать, что в датском королевстве не все в порядке. Привлечь к этому внимание. И поскольку он, Чудновский, и сам еще недавно отвечал на заводе за все, вызвать огонь и на себя. В этом есть что-то даже благородное, неправда ли? — спросил Алик. Терехов не ответил. Наступила неприятная пауза. Тут было о чем подумать! — И вот еще последняя информация, — добавил Алик. — Я откровенен потому, что докладная записка ужо составлена и подана Чудновским в обком партии. Рубикон перейден. Так что ничего секретного я не разболтал. Алик улыбнулся, но не мог скрыть смущения. Трудно было судить о том, как он относится к этой затее Чудновского, но вряд ли само участие в ней было ему по вкусу. — Ты исполнитель, с тобою все в порядке, — произнес Терехов. — Рядовой науки, — подхватил Алик, хотя и чувствовал иронию Терехова. — Я просто здесь служу. — Именно. Так будь здоров! Мы еще посмотрим другие лаборатории. — Категорически приветствую! — провозгласил Алик, снова оборачиваясь к прибору. Мы вышли из лаборатории оптических исследований. В соседних Терехов показывал мне электронный микроскоп, прибор для структурно-рентгеновских снимков. Но выглядел Виктор Петрович рассеянным и удрученным. И я почувствовал, что мысли его сосредоточены на другом. Видно, сообщение Алика сильно поразило Терехова. Осадчий узнал о докладной Чудновского примерно за неделю до обсуждения ее в обкоме партии. Позвонил секретарь обкома, пригласил директора и его ближайших Помощников на заседание. Узнав, в чем дело, Яков Павлович печально вздохнул в трубку: — Грустно все это! — Все так, но в докладной есть выкладки, иные любопытные, и есть факты! — Еще бы! Наверное, весь институт собирал компрометирующий материал. — Не может быть, — засомневался секретарь. — Одним словом, мощный вклад в науку, — продолжал Осадчий. — Нашли-таки тему для работы! И хотя он вроде бы мрачновато шутил, душевная боль, которую лишь скрадывала эта шутка, не могла остаться незамеченной. — Ничего, — сказал секретарь, — разберемся! Будешь готовиться, Яков Павлович, к спору? — Нет. — Почему? — Некогда! У нас план. Болтать некогда, — ответил Осадчий сердито. — Но, конечно, придем, все ценное выслушаем. Директор, действительно, отнесся к предстоящему совещанию спокойно, без нервозности и суеты. Только попросил плановый отдел подготовить ему итоговую табличку за последние полгода и предупредил нового главного инженера Товия Яковлевича Ольховича о предстоящем свидании в обкоме. — Какое уж там свидание! Будет палить из всех батарей. Впору окопы отрывать! — сказал Ольхович. — Нет, в окопы лезть не будем, встретим огонь грудью. Мы гвардейцы, — невесело пошутил Осадчий. Надо же было случиться, чтобы именно на следующий после разговора с секретарем обкома день к директору завода пришел сотрудник местного телевидения с предложением организовать телепередачу под названием "Диалог заинтересованных". Собрать за круглым столом представителей завода и трубного института. — Хорошо бы, Яков Павлович, вам самому выступить. Вас знают и ценят в городе, — попросил режиссер. — Я не артист, чего меня показывать! И о чем, собственно, пойдет речь в этом вашем… — Диалоге заинтересованных, — поспешил подсказать режиссер. Вы заинтересованы в скорейшей разработке Новых методов сварки, а институт — в заводе, на котором будет происходить внедрение этих методов. У вас, Яков Павлович, — поле для экспериментов в невиданных производственных масштабах. — Ну, поле надо сначала засеять чем-нибудь… разумным, ценным. А где эти зерна, труды, открытия, которые можно тут же внедрять, как вы говорите, в невиданных масштабах? — спросил Осадчий. — Маловато их пока. Вынуждены сами, не дожидаясь, заниматься кое-чем. — Да, я знаю, — кивнул режиссер. — Вообще, ходят слухи… — он замялся, — что у завода с институтом некая напряженность отношений… — Не знаю, ходят ли слухи, а сотрудники института ходят к нам часто, — прервал сердито Осадчий. — Ходят и работают у нас. Никаких натянутых отношений с институтом нет. Теперь о вашем предложении, — продолжал директор. — Вот вы сказали, что это интересно — такой диалог по телевидению. А у меня есть сомнения, как у телезрителя. Вы не обижайтесь, — попросил он, видя, что лицо режиссера сразу погрустнело. — Да, я слушаю, Яков Павлович, — ответил тот. — Какие же сомнения? — Мне кажется, для специалистов диалог будет примитивным, а для остальных зрителей — малопонятным. Ведь ничего серьезного на таком совещании перед телекамерой не решишь. Не правда ли? — Нет, нет! — не сдавался режиссер. — Вы неправы, Яков Павлович, мы пробовали не раз. В городе живет целая армия трубников. И молодежь — сколько у нас вузовской молодежи — она интересуется техникой. — Целый час или полтора технических разговоров, терминов? — Осадчий с сомнением покачал головой. — Телевидение это выдерживает, — поспешил заверить режиссер. — Телевидение, может, и выдерживает, но вот зритель — не уверен! Ну, да ладно. Делайте. Мы соберем вам людей. От нас выступит кто-нибудь из техотдела. — И видя, что гость все же обиделся, Осадчий поддержал его ободряющей улыбкой. Когда режиссер ушел, Яков Павлович невольно вспомнил о предстоящем другом совещании — в обкоме. Без телевизионных камер и зрителей. Но, видно, там будет не менее жарко, чем в телестудии, при ярком свете юпитеров.В день совещания с утра лил дождь. То монотонный, сеющий капельную мелочь, то, набрав силы, сердито барабанящий по крышам. Дождь вспенивал большие лужи на асфальте площади, видной из окна кабинета секретаря обкома. Казалось, эти лужи закипали. Осадчий сел у окна, в крайнем ряду стульев, стоящих вдоль стен кабинета. Отсюда он мог видеть почти всех присутствующих работников обкома, института, завода. Пока говорил Чудновский, долго, обстоятельно и скучновато, речь его, подобно лужам, пузырилась цифрами, которые трудно было сразу запомнить и оценить, Осадчий то и дело ловил себя на том, что прислушивается к пению водосточной трубы. То ли в шелесте воды было что-то успокаивающее, то ли знакомый голос каким-то странным образом гармонировал с шумом дождя и звонким боем капель о железо подоконника. Нельзя сказать, что Чудновский возводил напраслину, что критика его не стоила внимания. Нет. Глаз у Алексея Алексеевича острый. Под некоторыми его замечаниями Осадчий подписался бы сам. Но на заводе еще не до всего дошли руки, не все успели сделать. Были и спорные замечания. Такие, которые Осадчий отверг в своем выступлении как преждевременные или явно демагогические. Однако дело сводилось даже не к тому, как складывалось соотношение плюсов и минусов в этом обсуждении, даже не к самой сути спора, а к неприязненному тону, обличительным интонациям Чуднов-ского. Недаром говорят, тон делает музыку. Вот этого-то недружеского тона Осадчий не мог ни понять, ни принять. Он сказал об этом резко. Может быть, слишком резко, прямо в лицо Чудновскому. Тон делает не только зыку, но и критику. — А действительно, Алексей Алексеевич, почему вы собрались выступить с замечаниями только сейчас? Столько лет вы были главным инженером на заводе, спросил секретарь обкома. Ответ на этот вопрос сейчас интересовал всех. Чуковский не мог не почувствовать общего настроения. Но, должно быть, ничем другим нельзя было больнее задеть его. — Я на заводе, действительно, работал долго, — ответил он глухо. — Ну, и что из того? — Двадцать лет вы не замечали этих недостатков, но зато за два месяца, уйдя с завода, успели обобщить их, написали письмо. Нет, я не против таких писем, Алексей Алексеевич, по все же не отказывайте и нам в нашем удивлении. — Я не отказываю, — произнес Чудновский так же глухо. Он встал, выпрямился, выше поднял голову, словно принимал вызов. Но Осадчий видел, Чудновский нервничает, он весь как-то внутренне напрягся и волнуется. — Мои замечания, товарищи, — пояснил Чудновский, — относятся лишь к последним трем-четырем годам работы завода. Двадцать лет тут ни при чем. — Допустим, — сказал секретарь. — Но кто же был главным инженером в последние годы? Разве не Чудновский Алексей Алексеевич? Разве времени было мало, чтобы поставить открыто перед директором, парткомом завода, перед нами, наконец, весь круг таких важных и тревожных вопросов? Чего вы ждали? Осадчий поднял голову от бумаг, чуть наклонив ее, посмотрел в лицо Чудновского. Нет, он сейчас даже по влился, ему было интересно, что же ответит Алексеи Алексеевич. Хватит ли ему мужества признаться в своей неправоте? И, вместе с тем он немного даже сочувствовал своему бывшему главному инженеру. Осадчий не хотел бы сейчас быть на его месте. — Я, — Чудновский, слепка напнувшись, глубоко вздохнул, — я, товарищи, собирал материал… Это требование времени… Все же речь идет о моем заводе и моей, как говорится, боли. Но вот сейчас я решился и… сигнализирую! Ну, хорошо, — секретарь что-то пометил у себя в блокноте. — Вы сигнализируете. Но ведь, Алексей Алексеевич, дорогой мой, у вас не такая должность была, чтобы только сигнализировать — меры надо было принимать! Секретарь взглянул на Осадчего, словно привлекая его внимание к этой мысли. Тот молча, пожав плечами, как бы подтвердил: "Собственно, как же иначе?" — Не стрелочником были на заводе, а главным инженером, — негромко закончил секретарь. — Самым главным. де же ваша принципиальность? — Вот в этом и есть, — сказал Чудновский и снова повторил слово, которое уже вызвало легкий смешок у кого-то в углу кабинета. — В том, что сигнализирую. Он ничего более не добавил, но продолжал стоять и только вытер платком лоб. Всеждали, что он скажет еще что-то, но Чудновский, обычно темпераментный оратор, умеющий постоять за свои идеи, сейчас молчал. Осадчий, пока тянулась эта странная пауза, думал о том, что давно занимало и мучило его. В самом деле, как могло случиться, что Чудновский, уважаемый всеми человек, большой специалист, с его стажем, опытом, знаниями;, с его широким взглядом на вещи, оказался в числе стойких противников реконструкции завода? Какое ослепление нашло на него? Осадчий мог понять: совершен ошибочный шаг, но ведь его можно было исправить! Сколько имелось к тому возможностей? Сколько времени? Но Чудновский этого не сделал. Почему? Что помешало? Вряд ли разум. Тогда что же? Сердце? Запавшее в него озлобление, личная неприязнь, пустившая такие глубокие корни? Начал с оппозиции к одному человеку, а вышло — к самой жизни? И все потому, что озлобление — дурной советчик. Так думал Осадчий. А Чудновский? О чем он думал, все еще стоя у стола под внимательными, полными ожидания взглядами всех присутствующих? Этого никто не знал. Яков Павлович почувствовал в ту минуту, что ему неприятно и даже больно смотреть на покрывшееся розовым румянцем, ставшее вдруг жалким лицо Чудновского. Он отвернулся к окну. Над городом по-прежнему шумел дождь. Он даже прибавил в силе, словно силился заглушить голоса в кабинете. Казалось, там, в глубине темных туч, небо наращивает свой гнев. И вот он прорвался голубым, как огонь сварки, зигзагом молнии. В комнату вкатился гром. Как всегда в грозовую погоду, воздух, насыщенный электричеством, остро попахивал озоном. Ветер надувал парусом плотные шторы. Пришлось закрыть окно. — Товарищи, внимание! — секретарь постучал карандашом по столу. — Приступим к обсуждению докладной записки. Конкретно, по пунктам. …Когда совещание закончилось, уже стемнело, и дождь затих. Только тихонько пели еще водосточные трубы, отдавая лужам последние струйки воды. Осадчий перед уходом в последний раз выглянул на площадь. Там, за мокрым стеклом окна, словно бы на дне гигантского котлована, двигались люди, шныряли юркие мотоциклисты, обмытые под дождем "Волги" разрезали колесами лужи. Осадчему не хотелось уходить от окна, приятно было прислонить гудящую от усталости голову к прохладному стеклу. Внезапно на площади зажглись фонари. Теперь ее мокрый асфальт, подобно огромному черному зеркалу в каменной оправе высоких зданий, отражал световой силуэт города. Чудновский тоже подошел к окну, некоторое время они постояли рядом. Потом секретарь предложил пойти вместе, немного погулять. "Хочет поговорить", — решил Осадчий. Алексей Алексеевич, — начал секретарь, когда они втроем молча миновали ярко освещенное старинное здание драмтеатра. — Мы все устали, был полезный разговор, все прояснилось с деловой точки зрения. Но мне бы не хотелось отпускать вас с таким подавленным настроением. Отчего же подавленным? Отнюдь, — поднял голову Чудновский. — Я ведь не мальчик, знал, на что иду. Вот написал… Указал на узкие места, поскольку исправлять их сейчас уже не в моей власти. Да и раньше… — Что раньше? — быстро спросил секретарь. Чудновский махнул рукой: — Долгий разговор. Зачем старое ворошить? Если ждете моих признаний, пожалуйста. Да, я ошибался. Чего-то недоучел, не разглядел, так сказать, в дали времен. Хотя я работал много и честно. А с Яковом Павловичем спорил потому, что верил в свою правоту… — Чудновский передохнул и закончил: — В какой-то мере вину свою признаю. А виноватых, как известно, бьют. — Ну, кто же вас бьет, Алексей Алексеевич! — не выдержал Осадчий. — Побойтесь бога! Письмо-то обвинительное писали вы, а мне уж приходится защищаться. Но я никогда не держал на вас зла, старался не переносить пашей размолвки на служебные отношения. Так или нет? — Не совсем так, — возразил Чудновский. — Но это сейчас уж и неважно. Не будем, Яков Павлович, подсчитывать взаимные обиды, огорчения. Это не дело мудрых. — Вот именно, — живо подхватил секретарь, — вот именно! Зато дело мудрых понять суть, причину былой ошибки. Кто забывает прошлое, обречен на то, чтобы снова пережить его. — Хорошо сказано, — откликнулся Чудновский. — Спасибо, — поблагодарил секретарь. Он достал сигарету, и, пока прикуривал, все постояли около чугунного столба с крупными, матовыми фонарями. — Если два опытных руководителя одного возраста, одной жизненной школы расходятся во взглядах, — продолжал секретарь свою мысль, — значит, один из них утерял верное чувство перспективы. И не то, чтобы один — прирожденный новатор, а другой — консерватор. Да и есть ли такие, применительно к науке руководства особенно? Но если человек просто устал от жизни, перестал зорко смотреть вперед — он порою даже незаметно для себя выпадает из тележки, отстает… — Да, товарищи, за долгую свою жизнь я тоже понял всю правоту этой мысли, — сказал Осадчий. — Руководить — значит предвидеть. Знать, куда пойдет жизнь. Чудновский вздохнул, оглядывая площадь. Он казался каким-то потерянным. Осадчий чувствовал: на душе у Алексея Алексеевича тяжело. Они еще постояли у перекрестка, пропуская поток машин. Потом, когда на светофоре зажглась зеленая строчка: "Идите", — секретарь предложил: — Разбежимся, что ли, как говорят мальчишки? — и, повернувшись к Чудновскому, попросил: — Алексей Алексеевич, дорогой, подумайте о нашем разговоре, по-хорошему подумайте. А я скоро загляну к вам в институт. Дождь опять усилился, и они поспешили разойтись. Секретарь пошел к обкому, там его ждала машина. Чудновский свернул за угол — домой. А Осадчий, отпустив машину, пошел пешком. Не торопясь, вышагивал мимо луж с тем особым удовольствием, с каким разминаешь тело после долгого сидения, когда так приятно подышать свежим воздухом и проветрить голову.
Отъезд
Чудновский уезжал поспешно, и это немного походило на бегство. В институте хотели организовать ему торжественные проводы, но Алексей Алексеевич отказался, ссылаясь на то, что он вроде бы уезжает пока не насовсем, а только чтобы приглядеть себе домик на юге, в городе Жданове, — одним словом, на разведку. Однако эта отговорка не могла изменить общего мнения, что Алексей Алексеевич хочет уйти тихо, спрятав от лишних глаз нелегкий груз усталости и недовольства собой. Уходить так на пенсию обидно, но товарищи из института, как ни старались, не могли переломить настроения своего директора. Осадчему это тоже все было неприятно. Однако контактов с Чудновским он не искал, не видел в этом смысла и душевной потребности. Раздумывал, поехать ли ему на вокзал. Решил не ехать, ограничиться прощальным телефонным звонком. Ирина узнала о непреклонном решении отца уйти на пенсию и уехать за несколько дней до того, как он заказал билеты. Алексей Алексеевич предложил дочери ехать с ним. Она пыталась отговорить отца, убеждая, что моральный износ, о котором он говорит, есть категория субъективная, человек всегда может найти в себе душевные резервы. — Нет, нет, хватит, — не согласился Чудновский. — Надо уметь уйти вовремя, не дожидаясь, пока тебе это предложат. И снова звал дочку с собой. — Боже мой! — вырвалось у Ирины. — Есть сила в каждой слабости, отец, если эта слабость переходит в атаку. Отец помолчал, должно быть, обиделся. А что она могла противопоставить его просьбе, его одиночеству, болезням? Свои дела в больнице? Больницы есть повсюду. Диссертацию о службе здоровья? Эта проблема всеобща. Было только одно, чему не найдешь замены, только одно, на что она могла опереться в споре с отцом. Это ее привязанность к заводу, к людям, которых она знает много лет, к свой "больнице. И надежда именно здесь найти счастье. — Я не знаю, папа, может быть, я приеду потом, но пока мне сразу трудно бросить все. Я буду навещать тебя, — пообещала Ирина. Отец помолчал. Подумал, должно быть, понял и смирился. После долгой паузы сказал, что звонил директор, обещал, что сам он, лично, поможет Чудновскому устроиться в Жданове, там у него много друзей. — Я думаю, помнят еще в Жданове и Чудновского, — добавил Алексей Алексеевич. — Ну вот и хорошо, папа, — поспешно сказала Ирина. — Худой мир все-таки лучше доброй ссоры.На вокзале провожающих было немного. Ирина, сослуживцы Чудновского, соседи по дому, Терехов. Стоя у мягкого вагона, Алексей Алексеевич вымученной, вялой улыбкой приветствовал их появление на перроне, благодарил за то, что не забыли старика, почтили вниманием. Обычная томительность последних минут на перроне как-то особенно тяготила. Все слова и пожелания уже высказаны, а время еще есть, и вот сам отъезжающий нетерпеливо, а те, что стоят у вагона, украдкой поглядывают на циферблат часов, где короткими прыжками движется минутная стрелка. — Каков, товарищи, возраст настоящей человеческой жизни? — спросил вдруг у провожающих Чудновский. И вначале все подумали, что он спрашивает серьезно. Только когда Алексей Алексеевич сам ответил: — Возраст такой — семь лет до школы и два после пенсии. Итого девять, — поняли шутку и рассмеялись. — Нет, это все-таки мрачновато. Надо двадцать после пепсин по меньшей мере, — заявил, улыбаясь, Терехов. — Да, конечно! — поддержала Ирина. Она подошла к отцу и обняла его седую голову. Впервые Терехов увидел, как в расширившихся ее глазах стояли слезы. — Теперь, Алексей Алексеевич, вы уж всласть займетесь своей астрономией. Телескоп-то берете с собой? — поинтересовался он. — Как не взять, Виктор Петрович! Как не взять! Теперь мне одна дорога, — Чудновский задумался и добавил тихо, — к звездам. Ирина хотела, видно, что-то сказать, чем-то утешить отца, но вагоны дернулись, и все зашумели, задвигались. Чудновский вскочил на подножку, выпрямил спину, плечи, согнал улыбкой с лица серый налет отчужденности, помахал шляпой. Он словно бы помолодел в эти минуты. И прощался со всеми взволнованно, со стариковской своей грацией, с той особенной, всегда исходившей от него эманацией изящества. А Ирина заплакала…
Даешь юбилейную!
Приезжать на старое, знакомое место вдвойне интересно. Я никогда сразу не иду на завод, а люблю сначала побродить вокруг него по поселку, городу, посмотреть на дома, зайти сначала не в заводоуправление, а на квартиру знакомого человека, порасспросить его о новостях, почитать заводскую многотиражку. И как ни мал порою срок, отделяющий одну поездку от другой, все равно соберется куча перемен, служебных перемещений, выдвижений и падений, которые редко бывают случайными, скорее, отражают некие общие тенденции жизни. Так и на этот раз первым делом заявил о новостях видный издали большой транспарант у парадного подъезда заводоуправления. На нем — текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Челябинского трубопрокатного завода орденом Ленина. За успехи в развитии производства, за новую технику, за то, что утерли нос господину Аденауэру… Многие заводские работники получили ордена и медали, стали Героями Социалистического Труда. Отсвет большого праздника, который недавно прошумел здесь, еще можно было заметить на внешнем убранстве завода, на транспарантах, плакатах. Ну, а люди, как всегда после праздника, быстро втянулись в обычные производственные дела, в водоворот привычных забот. В трубоэлектросварочном цехе в канун двадцатипятилетия завода, которое почти совпало с пятидесятилетием Октябрьской революции, все стены и пролеты украшены плакатами, стендами с итоговыми цифрами, памятными фотографиями времен войны, текущими бюллетенями соревнования. Тут же висит большая доска с именами тех, кому присвоено звание "Лучший мастер". Я прочитал: "Июнь 1967 года — второе место Лутовинов П. П. август — первое место Падалко Н. М." Лучший мастер — это такая должность, а точнее сказать, такое звание на заводе, которое надо подтверждать усилиями и энергией каждодневно, из смены в смену, из месяца в месяц, из года в год. Это не так легко. Но зато такой труд приносит как главную награду особое чувство удовлетворения. И сознание важности своего дела. И рабочей гордости. К пятидесятилетию Октября на заводе было приурочено еще одно славное дело челябинских трубников: создание по тем временам самого большого в стране трубопрокатного стана "1220". Комсомолец Павел Лутовинов, молодой мастер, был активным участником этого события. Сосед Падалко, он работал на линии "1020", той самой знаменитой, которой по инициативе самого завода суждено было еще раз изменить свой облик, вырасти в линию "1220". С нее сходят громадные трубы, которые, ползя по рольгангам, напоминают даже не трубы, а нечто вроде движущихся тоннелей. Каждый день в четыре часа дня, когда в некоторых местах подрывали фундамент, тряслись стены, звенели стекла окон в конторе и красноватым облаком пыли от всплывшей в воздух окалины затягивало все вокруг, Павлу Лутовинову казалось, что в цехе рвутся бомбы. И долго эхо этих взрывов гуляло между пролетами, поддерживаемое слитным грохотом ста пневматических молотков. Строителей было мало, строительных работ — множество. Сварщики включались в монтаж, цех многое делал своими силами за счет дополнительного рабочего времени, в воскресные дни. В шестьдесят третьем году новая линия пристраивалась сбоку, а на этот раз и реконструкция, и обычная производственная работа протекали… одновременно. Стан работал, не снижая производительности! Удивительно? Да! Если мы еще можем удивляться тем истинно трудовым подвигам, которыми так богата наша страна. Я знал Пашу Лутовинова как мастера не первый год. Он мастер — из молодых инженеров. Завод для этого коренастого юноши с густой шевелюрой, живыми глазами и широколобым добрым лицом стал первой серьезной школой жизни. Не сразу, не просто налаживались у молодого мастера взаимоотношения с рабочими. Я сам был свидетелем, как Павка жаловался более опытному мастеру, что электрик Сидоркин с утра пришел на работу явно выпивши и когда вызвали его на линию, куда-то исчез. Прошло полчаса. Его нет и нет. Павке пришлось взять электрика с другого участка. Наконец Сидоркин появился. Спросил: "Вы меня вызывали? Я был в другом месте. Вы у нас человек новый. Зачем говорите, что я нетрезвый?!" Павел ему отвечает: "Какой же вы трезвый, посмотрите на себя! Идите!" — И отпустил? — удивился мастер. — А что было делать? — Лутовинов развел руками. — Это ошибка! Ты должен был послать рабочего в санчасть. Там бы его сразу проверили на алкоголь. — А я ему пригрозил: еще одно такое появление в цехе, напишу рапорт, — оправдывался Павел. — Вот когда ты грозил, Сидоркин и почувствовал твою слабость. Мол, молодой и рохля. В санчасти его наверняка признали бы пьяным и не допустили к работе. А это — урок. Сидоркин и других бы оповестил: "Наш новый-то — строг! Имеет характер!" Павел слушал, опустив голову, уже понимая, что оплошал. — Так я его в следующий раз!.. — А в следующий — наоборот, ты бы его великодушно простил. Помнишь, мол, друг ситный, я тебя тогда послал в санчасть, а сейчас прощаю. И Сидоркин уже целиком твой. Понял? — Не совсем, — сказал Павка. — Вообще-то понял, но лучше, мне кажется, напрямую, по-честному… И вот этот Павка, не принявший урок житейской изворотливости, но все же спасовавший перед наглостью пьяницы-электрика, в период реконструкции стана предстал перед всеми совсем уже иным человеком.На совместном заседании парткома и строительного треста обсуждалось отставание от графика строительных работ и монтажа новой линии стана "1220". Отставание тяжелое — 34 дня. Павел наклонился к Борису Телешову, старшему мастеру, шепнул на ухо: — У нас нет даже комсомольского штаба реконструкции. А ведь нужен бы! Очень нужен. — Верно. Упустили, — откликнулся Телешов. — Сейчас поправим! Он встал и внес предложение Павла на обсуждение. Партком принял решение организовать такой штаб. Начальником его стал Лутовинов. Это он с товарищами по комсомольскому штабу Сапегиным, Осипенко, Рыжковым составлял календарь стройки, выпускал стенные газеты, плакаты-"молнии" с выразительными заголовками "Позор!" или "Тревога!", разъяснял рабочим значение реконструкции — ведь вместо трех ниток газопровода из труб "1020" можно проложить только две нитки газопровода из труб "1220". Какая колоссальная экономия труда, средств на огромных по протяженности трассах! Павел был молод, напорист, и комсомольский задор для него не просто фраза, а суть характера. Он организовывал ночные рейды членов штаба с фотоаппаратом по рабочим местам, приклеивал листки "Тревоги" прямо на дверь начальника строительно-монтажного управления, диктовал машинистке областной газеты срочные заметки о ходе строительства. "Всюду бывать, все знать, всем помогать!" — таким был лозунг штаба. И Павка сидел на заседаниях у Вавилина — начальника цеха, у Ольховича, главного инженера завода, у Осадчего, у строителей. — Накал был такой, как в годы первых пятилеток! — сказал мне Павел, сам знавший о том времени только по книгам. Наивысший пик напряжения пришел на стройку стала вместе с последними двадцатью днями, когда была остановлена линия. Горячие были денечки, но работы все же закончили на двое суток раньше срока. 31 августа 1967 года в четыре часа ночи первая труба "1220" прошла испытание на гидравлическом прессе-расширителе. С утра трубы пошли потоком. Я часто поднимался на эстакаду, что над новым пролетом, полюбоваться потоком труб. На новой линии все крупно, если не сказать, монументально. Со звоном ползут по рольгангам трубы-гиганты, внутрь которых, не сгибаясь, мог бы пройти двенадцатилетний мальчик. Освещенные изнутри голубоватым светом сварки или ослепительно белым — прожекторов, они красивы и внушительны своей особой индустриальной силой. Трубы ползут медленно и спокойно, но вот в одном месте, с глухим стуком упершись о рычаг, поднимаются и, как бы встав на дыбы, прыжком продвигаются вперед, пока их не подхватывают новые тележки, чтобы катить дальше. Знаменитую ныне на Урале самую большую трубу часто приходят смотреть экскурсанты. При мне весело протопала по переходным лесенкам группа школьников. Свесив вниз головы, ребята, как с моста в реку, смотрели на важно проплывающие внизу стальные громады. Ребят сменили солдаты, препровождаемые девушкой-экскурсоводом в светлых брюках и на каблучках, которые звонко цокали по металлу. Отсветы огней играли на молодых порозовевших лицах солдат. В Челябинске на площади Ленина, где в дни Октябрьского праздника была развернута промышленная выставка, среди могучих тракторов, новых машин, блюмингов, экскаваторов и станков величественно лежала и эта черным глянцем отливающая труба с крупной белой надписью — "Юбилейная", как символ уже достигнутых и залог, новых успехов трубопрокатчиков.
Заводская жизнь в движении и переменах от месяца к месяцу, но бывает так, что вдруг резко накатываются особые события, определяющие собой новый дух времени, глубинные сдвиги. Такое веяние крутой и властной новизны пришло в Челябинск с первыми вестями об экономической реформе. Завод готовился к ней исподволь, серьезно. Чем экономически сильнее и крупнее предприятие, тем, как ни странно, сложнее подготовка, тем ответственнее этот шаг. Экономической службы как таковой до недавнего времени на заводах не существовало. Только несколько лет назад в заводоуправлениях были введены должности главных экономистов. Однако уметь анализировать производство должен каждый инженер, и в этом смысле главный экономист — прежде всего сам директор. Да Осадчего тут никто и не сможет подменить, потому что, как бы ни был инициативен и деятелен главный экономист, директор сам вникает во все детали заводской экономики, привык к этому за многие годы. Как-то в один из своих приездов в Москву, посетив нужных ему товарищей, Осадчий уже без особой нужды и дела, а просто так, поговорить, зашел в техотдел министерства, где работал старый его знакомый еще по совнархозу. Назовем его Иваном Акимовичем. Осадчий и Иван Акимович не виделись год с небольшим, но обнялись с таким жаром, словно бы один зимовал лет пять где-нибудь на Северном полюсе, а другой — на полюсе Южном. Осадчий подумал, что такие объятия в Челябинске, дома, им обоим показались бы по меньшей мере странными. Но вот в Москве — другое дело. Тут притягательная сила землячества сводила их чуть ли не в кровное родство. Возможно, и сам Иван Акимович почувствовал вскоре некий эмоциональный перехлест и остыл довольно быстро, когда вслед за расспросами, что и как там в Челябинске, они перешли к деловой части беседы. — Что новенького в столице? — спросил Осадчий, интересуясь, естественно, не тем, о чем можно прочитать в газетах, а новостями, которые, возможно, еще только вызревают. — Что сказать! Собираем людей в аппарат. Есть проект собрать по заводам опытных людей, не старше сорока пяти. Но и им потребуется несколько лет, чтобы войти в курс министерской работы. — Верно, — заметил Осадчий. — Да и новые ставятся задачи, — продолжал Иван Акимович. — Тут у нас для узкого круга выступал один ответственный товарищ. Я записал тезисно. Тебе кое-что будет интересно. Иван Акимович вытащил блокнот из ящика стола. — Вот, например, — он заглянул в блокнот, прочитал: — "Новые экономические стимулы — это не замена старых рычагов, а как бы только дополнение к ним". Важная мысль, верно? — сказал Иван Акимович. — А то ведь будут и перехлестывать. Кстати, как у вас насчет перехода? Осадчий мог спросить, куда, мол, какого перехода? Была возможность пошутить. Но он не успел ею воспользоваться, и затянувшаяся пауза сама по себе послужила ответом. Иван Акимович так это и понял, потому что сказал твердо и наставительно: — Торопиться не надо, но и затягивать не позволим. Реформа — не мероприятие, а всерьез и надолго. Вырабатываем для вас групповой норматив, для заводов одного типа. Подтянетесь к этому нормативу, разрешим переход. — Наши возможности известны, — заметил Осадчий, и горделивую нотку, которую Иван Акимович не мог не уловить, нужно было понимать в том смысле, что для Челябинского трубопрокатного групповой норматив — не проблема. Есть другие опасения. — Ждете, пока другим вставят фитиль? — бросил Иван Акимович. Не совсем уж мимо цели била эта грубоватая реплика. Осадчий посмеялся: — Когда пожар у соседа, при ярком свете хорошо видно и на твоем дворе. На это Иван Акимович возразил: — Пожаров не допустим. Все предусмотрено. В общем, скоро придется и вам переходить. Готовьтесь. — Подготовимся, — заверил Осадчий. — Вдумчиво. Вбирчиво. Чужой опыт вберем. Вот так! Кто-то позвонил Ивану Акимовичу. Пока хозяин кабинета разговаривал по телефону, Осадчий развернул газету, пробежал ее глазами. Заметил статью, как бы в тон их разговору — об искусстве управления производством, о кругозоре хозяйственника. Автор обоснованно ставил вопрос об учебе хозяйственных кадров, предлагал ввести даже ученые степени для организаторов производства, ссылался на то, что такие степени есть в некоторых странах. Верно и назрело, — невольно вслух произнес Осадчий. — Ты чего, Яков Павлович? — на секунду оторвавшись от трубки, спросил Иван Акимович. — Да так, статья верная, о науке руководить производством. Сам знаешь, Иван Акимович! Не умеешь подойти к людям — не берись директорствовать, ничего хорошего из этого не получится, — убежденно сказал Осадчий. — Ну, это так. Слушай, а как твой Чудновский? — по какому-то ходу своих мыслей неожиданно спросил Иван Акимович. — Какие вести о старике? У нас ведь как бывает: с глаз долой, из сердца вон! — Нет, Чудновского я не забыл и не забуду. Много мы с ним потопали по одной дорожке! — Осадчий непроизвольно вздохнул, вспомнив Алексея Алексеевича. — Недавно подал о себе весть. Прислал письма нашим товарищам: Терехову, Усачеву, еще кому-то. — А тебе? — спросил Иван Акимович. — Мне — нет, — усмехнулся Осадчий. — Сердится, видно. Но зря! — Признайся, Яков Павлович, ты все же немного ускорил ему выход на пенсию? — Иван Акимович лукаво сощурил глаз. — Нет, не я! Жизнь, которая быстро идет вперед. Вот это, пожалуй, верно. Сама жизнь, — еще раз повторил Осадчий.
Через пять лет
Июль семьдесят третьего в Москве, как и полагается "макушке лета", был солнечным и теплым, с выпадающими изредка короткими, но обильными и шумными дождями. Хороший, по-летнему радостный месяц был особенно приятен по контрасту с удушающей жарой 1972 года, с невероятной сушью, бедственными лесными пожарами и дымным смогом-туманом, который в июле и августе обволакивал воздух даже в центре города. Москвичи остро помнили эти грозные причуды природы и опасались их повторения. Седьмого июля регулярно курсирующий по воздушной трассе Москва — Челябинск комфортабельный лайнер ТУ-154 из-за непогоды на Южном Урале поднялся в воздух с большим опозданием и приземлился в Челябинске вместо полудня в глубокие сумерки. Все пассажиры чувствовали себя утомленными и долгим ожиданием в аэропорту, и двухчасовым полетом. Не улучшала настроения и погода. Дул резкий ветер, моросил знобящий дождик. Все напоминало времена поздней осени. Но вот к трапу самолета подошла группа встречающих. И бурные проявления душевного тепла, приветствия, улыбки, объятия — все это подняло настроение у прилетевших, как-то встряхнуло их и в конечном счете оказалось сильнее хмурого ненастья. С этой встречи на аэродроме и начала осуществляться программа Недели советской литературы в Челябинской области, для участия в которой на Южный Урал прилетели писатели из Москвы и Ленинграда, Иванова, Ярославля, из Дагестана, других областей и республик. Как член делегации я обязан был следовать разработанной обширной и насыщенной программе поездок и выступлений. Но как писателя мепя больше всего тянуло к проходной Челябинского трубопрокатного завода, к моим героям, к старым друзьям, и нетерпение, которое меня охватило, можно было объяснить и чувством некой моей вины за то, что очередная разлука с заводом затянулась так надолго. Пять лет! Много это или мало? Для истории — срок ничтожный, а для не такой уж долгой человеческой жизни — солидный. И, конечно же, — большой для нашей страны. Ибо это пятилетка. А кто не знает, как много перемен и свершений знаменуют собою наши пятилетние планы для каждой области, для каждого завода! Вот уже многие годы я слежу за судьбами моих невыдуманных героев, завод стал мне близок и дорог, и думается, что и я в какой-то мере стал близок моим заводским друзьям. Я подчеркиваю эти два слова — близок и дорог! Ибо в ряду тех многих выводов и выношенных оценок, которые мне подарило знакомство с заводом, я сделал для себя еще и маленькое открытие. Привязанность к заводчанам не только растет с годами, но и приобретает новое качество. Ты перестаешь быть просто наблюдателем, а переходишь в иной нравственный ряд и психологически уже чувствуешь себя участником и очевидцем событий, человеком, горячо и кровно во всем заинтересованным, хотя в штатных расписаниях работников завода нигде не числится твоя фамилия. Еще на аэродроме, во время торжественной встречи, я с удовлетворением подумал о том, что в этой поездке смогу увидеть не только мой трубопрокатный, но и другие гиганты промышленности Южного Урала. Ведь всегда полезно взглянуть на завод и его дела как бы со стороны, и в более масштабной перспективе, охватывая при этом мысленным взором всю металлургию Южного Урала, или, как любят говорить в Челябинске про свою область, "самый большой металлургический цех страны". …Мы остановились в новом заводском профилактории "Изумруд", а утром следующего дня поехали на трубопрокатный… И вот знакомый кабинет Осадчего. Я пристроился в конце длинного стола, как раз напротив Якова Павловича, с тем чтобы хорошо его видеть. Говорил Осадчий, как обычно, спокойно, негромко, и была в этом уверенность человека, что его всегда, независимо от силы голоса, будут слушать внимательно. Он чаще смотрел на свои руки, чем на лица собеседников, слегка наклонив крупную голову с большим лбом и обнажившимися залысинами и словно бы для прочности перенеся упор на локти, широко расставленные на столе. Все в его облике "на глаз", казалось бы, говорило о неизбывной прочности и физической, и духовной. Я иногда думаю: можно ли сказать о каком-либо человеке, что над ним не властно время? Нет, нельзя. Но есть разная мера духовной энергии, разная мера внутренней силы, увлеченности главным делом жизни, которые противостоят бегу времени, усталости, старению. Осадчий внешне мало изменился. И это уже воспринималось как своего рода высокое искусство поддерживать в себе тонуо привычных для самого и для окружающих жизнелюбия, деловитости, собранности. Я был рад увидеть Валентина Ионовича Крючкова в добром здравии и на прежней выборной должности. Сам срок его пребывания на беспокойном и горячем посту председателя завкома свидетельствовал о том, что он, в прошлом рабочий-сварщик и парторг цеха, хорошо справляется со своими нелегкими обязанностями. Яков Павлович рассказывал о строительстве заводского стадиона на четырнадцать тысяч мест, Дворца культуры с хоккейным полем, о многом таком, о чем я уже знал давно, но что было интересно моим спутникам. — Там, где нужно заботиться о людях, не может быть усталости, — произнес Осадчий. Я поманил рукой Крючкова, и он сел рядом. — Вот, кажется, хоккейное поле у вас новое, остальное ведь действует давно? — сказал я. — Точно. Возраст — два года. Теперь у нас есть все для соревнований — и летних, и зимних. А вообще-то, если вы заметили, — шепнул мне Крючков, — у нас в городе заводы стараются друг дружку обогнать в строительстве спортивных комплексов. — Это интересно, — сказал я, с добрым любопытством разглядывая Крючкова. Вот уж на его молодом лице с крупными темными бровями, в его темной и густой шевелюре, во всей его коренастой, точно из одного куска скроенной фигуре я, подлинно, не заметил никаких перемен. Яков Павлович тем временем продолжал рассказывать: — У нас плавательный бассейн — двадцатипятиметровый, а у соседей на электрометаллургическом комбинате — в два раза больше, пятидесятиметровый. Они решили доказать — знай наших! Ну, а кто из нас выгадал? В прямоте и полной искренности суждений Осадчему не откажешь. И вместе с тем трудно было не почувствовать, что это — искренность человека, уверенного в себе и давно уже не боящегося, что он может сказать не так, что слова его превратно перетолкуют. — Выгадали мы, а не соседи, — отрезал Осадчий. — У них-то пятидесятиметровый бассейн все время город забирает и область — для больших соревнований. Ну, а наш, поменьше, — только для своих. Он улыбнулся и сделал небольшую паузу, как бы предлагая всем оценить эту маленькую хитрость дальновидного человека, прежде всего думающего о благе завода. Вот, дескать, и деньги сэкономил, и заводчане — всегда хозяева своего бассейна. Рассчитано просто и точно. Он, казалось, и не стеснялся открыто обнаружить свой расчет, который можно было истолковать как угодно, ему важно было предстать в глазах слушающих его человеком крепкой хозяйской хватки, убедить, что вот только так хозяйничать и нужно. Я посмотрел на Валентина Крючкова, его довольная улыбка не вызывала сомнений, что он разделяет мысли директора. — Как мы живем? Хорошо живем, — продолжал Осадчий. — Отделы общественного питания у нас принадлежат заводу. Каждый начальник цеха отвечает за общественное питание, как за производственный план. — Это так, — подтвердил Крючков. Общественное питание и быт рабочих, естественно, входили в круг непосредственных забот завкома. Директор имел здесь полную поддержку Крючкова. Об этом можно было и не спрашивать Валентина Ионовича. — Вы завтракали у нас в "Изумруде"? — шепотом спросил у меня Крючков. — И ужинали тоже. — Ну и как? Почувствовали уровень? Уровень мы почувствовали. Меню было столь разнообразно и все было приготовлено так вкусно, что можно было предположить, будто это особое угощение для гостей. Но на столы отдыхающих рабочих подавали то же самое. Осмотрев "Изумруд", я, как обычно, во всем почувствовал не только хозяйскую руку Осадчего, но и его любовь к цветам. Помнится, было время, когда директор активно насаждал цветочные клумбы на заводской территории. Теперь цветы были всюду — в домах рабочих, домах отдыха, в профилактории. Цветы не только вокруг "Изумруда", но и внутри здания. Как символ прекрасного и категория общественного, нравственного воздействия на людей. — В "Изумруде" столько цветов и такое питание потому, что это все-таки профилакторий? — вопросительно взглянул я на Крючкова. — И в цеховых столовых примерно так же кормят, — заверил он меня. Осадчий в это время говорил, как завод широко занимается децентрализованными заготовками. Трубопрокатный свою теплицу расширил до десяти тысяч квадратных метров, и там с грядок снимают до трех тонн огурцов, до восьмисот килограммов помидоров. В цеховых буфетах люди могут покупать для дома овощи, мясо, фрукты. Есть на заводе свое фруктохранилище. — Прошу заметить, наши парники расположены на территории завода. — Яков Павлович еле заметно улыбнулся. — А построй-ка я их вне территории — смотришь, и заберут. Он не уточнил, кого именно имеет в виду. Просто еле заметно улыбнулся. Была ли это только шутка или преднамеренное преувеличение? Не знаю. Да и кто, в самом деле, мог покуситься на хозяйство Осадчего? Заводское есть заводское! — Вы же знаете, какие у нас замечательные места для отдыха рабочих, да и для всех, кто захочет, — сказал мне Валентин Ионович. — У озера Увельды — новый наш дом отдыха. Построили там заводские дачи. А озеро… Оно длиной в двадцать пять километров. И острова есть. Малину там можно собирать, раков половить. Такая красота! А Ильменский заповедник? Мировой известности, — продолжал он шептать мне на ухо, — иностранцы, приезжающие к нам, обязательно туда ездят, а вот вы, москвичи, редко заглядываете. — Да, действительно, — я вздохнул с чувством собственной вины, ибо за столько лет не побывал в знаменитом заповеднике. — А озеро Еланчик! Слышали? Там мы организовали заводской пионерский лагерь. Три летних месяца в нем отдыхают дети, а потом открываем дом отдыха для заводчан. Крючков говорил теперь с теми же интонациями, что и Осадчий. Не торопясь и негромко, с впечатляющей внушительностью. Как человек, уверенный в себе, в своих делах. В законной своей гордости тем, что делается на заводе для здоровья, отдыха людей. Я подумал, что влияние директора, его манеры говорить, и, что важнее, манеры действовать, решать вопросы, влияние это на Крючкова было несомненным. Да, конечно, это уже был не тот молодой предзавкома, только-только пришедший из цеха, каким я увидел Крючкова пять лет назад. Тогда он начинал, искал свой стиль в работе. И еще порою не мог согнать краску смущения со щек, когда выступал на завкоме или перед большой рабочей аудиторией. Теперь, я уже слышал об этом и чувствовал сам, Крючков уверился в своих силах и, если так можно сказать, возмужал на своем посту. И все же во время этой беседы не Крючков, а сам Осадчий занимал мое главное внимание. Слушая Осадчего, я отметил, что он, видимо, не случайно все больше говорит о людях, их быте, о внимании к ним, словно подчеркивает главную черту стиля руководства. Не потому ли это, что Яков Павлович стал придавать большее значение тому нравственному климату, какой создает на заводе продуманная, щедрая забота о людях? Не потому ли, что еще острее стал ощущать прямую связь организации труда и организации быта, хорошего самочувствия рабочих, отличного настроения и высокой производительности труда? Я не сомневался, что сказанное — лишь пролог к развитию основной темы: план, производительность труда, наращивание мощностей, техническая перспектива. И, действительно, Осадчий заговорил обо всем этом, имея в виду день сегодняшний и завтрашний на трубопрокатном. Еще в Москве я знакомился в газетах с некоторыми последними выступлениями Осадчего по коренным проблемам заводской жизни. Яков Павлович, как известно, часто дает интервью журналистам местных и центральных газет. Пишет и сам. Не для рекламы заводских успехов, которые сами по себе безусловно достойны широкой известности. А для того чтобы поделиться опытом, в котором много поучительного, и, как говорится, "обкатать" с помощью общественного мнения те или иные конструктивные идеи, рождающиеся на заводе. Так он делал всегда. В этот третий, решающий год девятой пятилетки главной идеей стала обширная программа дальнейшей реконструкции завода. — Уже не в первый раз в рекордно короткие сроки на заводе проводилась перестройка цехов и станов. Дважды перестраивался самый большой трубоэлектросварочный цех. Но в прошлые годы это было вызвано тем, что создавались новые виды труб, наиболее известны знаменитые уральские трубы больших диаметров для газовых магистралей. Теперь же настала пора резко увеличить производительность всего завода, и особенно выпуск больших труб, столь необходимых для новых газо- и нефтепроводов, — подчеркнул Осадчий. Но тот, кто думает, что реконструкция на заводе — понятие только сугубо техническое или технологическое, ошибается. Конечно, реконструкция самым тесным образом связана с повышением эффективности нашего производства, о котором так много говорилось на XXIV съезде партии. Это непрерывное движение вперед, к вершинам мировых достижений техники, благодатное поле для слияния науки и производства, внедрения механизации и автоматизации. Но реконструкция — это и творческий взлет, трудовой подвиг коллектива, требующий немало энергии, смелости, энтузиазма и партийной страсти. Она выражает динамичный дух нашего времени, дух поисков и дерзаний, творческого горения и упорства в достижении целей. Так примерно говорил Яков Павлович Осадчий. Заводской коллектив постепенно накапливал опыт проведения реконструкции с минимальными остановками производства. Теперь этот опыт стал приобретать черты высокого искусства обновления.Как это начиналось?
Я помнил фамилию — Телешов. Она ассоциировалась у меня с каким-то делом, интересным и важным. Но точно я бы сразу не смог ответить на вопрос — с каким же именно? Так бывает иногда: запоминается не сам факт или эпизод во всех деталях и подробностях, а то, что можно назвать исторической или психологической атмосферой вокруг него, так сказать, интуитивно угадываемый адрес события. Телешов… Я услышал эту фамилию летом семьдесят третьего и после некоторых раздумий вспомнил "адрес события". Это был шестьдесят третий год, та знаменитая весна на трубопрокатном, когда шла здесь грандиозная битва за первую большую трубу, шел спор через границы с монополистами из ФРГ, наложившими эмбарго на экспорт труб большого диаметра, и тогда заводская многотиражка печатала на своих страницах хронику горячих строительных дней. В газетной сводке за 2 марта была запись, всего две строчки: "За небывало короткие сроки смонтирован участок формовки трубы. Здесь отличился Б. Телешов". Две строки. А за ними — и месяцы работы, и поиски оптимальных решений, сложный монтаж мощного пресса, и то огромное напряжение, которое Телешов разделял со всеми своими товарищами. В то время он монтировал участок формовки труб, а через семь лет взял на себя ответственность за генеральную реконструкцию всего стана "1220". Как это начиналось на трубопрокатном? В марте шестьдесят девятого Осадчий провел необычную планерку. Меня не было тогда в Челябинске. Ну, а если бы и был, мог пропустить этот день и час или же просто не знать, что состоится такое совещание. Было оно сравнительно узким, проходило в кабинете директора, а не как обычно, в конференц-зале заводоуправления, где по понедельникам все собираются на оперативки. За длинным зеленым столом, который, как палочка в перекладинку буквы "Т", упирается в стол и кресло Осадчего, сидели начальники основных цехов и служб завода — Терехов, Вавилин, Телешов, секретарь парткома Иван Георгиевич Соболев, председатель завкома Крючков. Генеральная перестройка — дело всего коллектива. Да и как может быть иначе? Представьте себе всю махину трубопрокатного, его удельный вес, масштабы завода, производящего в год в два раза больше труб, чем вся Франция, в полтора раза больше, чем Англия, и всего лишь на одну четверть меньше, чем вся Федеративная Республика Германии. Осадчий открыл совещание, сразу взяв тему за самую сердцевину. Словоизвержения здесь вообще не в моде. Слишком дорого время! К тому же каждый знает, что любая серьезная, техническая идея не рождается мгновенно, как ослепительный разряд молнии в небе. Идеи вызревают постепенно — в умах и, я бы сказал, в сердцах. Они появляются, вызывая определенное умонастроение у тех, кто постоянно думает о будущем завода. А затем уже это умонастроение, этот творческий настрой на решение определенной задачи сам в свою очередь углубляет и расширяет идею. Таковы эти взаимосвязи и взаимовлияния людей и новых мыслей на путях современного технического поиска. И когда говорят: "Идея уже носится в воздухе", имеют в виду именно состояние увлечения новой мыслью многих инженеров, конструкторов, технологов — людей, которые составляют действенный мозговой центр любого предприятия. — Итак, берем курс на реконструкцию, — негромко произнес Осадчий и пододвинул к себе лист бумаги, чтобы записать вопросы, а возможно и чьи-то возражения. — Сначала наш цех № 2. Как известно, товарищи, он построен еще в войну. Оборудование в нем почти тридцатилетнего возраста. Для завода этот цех — старик! Никто не возразил. Действительно, старик, но с военной выправкой и стойкостью — тянул все эти годы программу и ждал, когда волны НТР, мощно бушующие в других цехах, подкатят и к его стареньким воротам. Да и номер у него был — второй, номер ветерана. Обозначения цехов цифрами привились еще со времен войны. Сколько лет прошло, а эти индексы, по сути дела лишь память о далеком прошлом, цепко держались в разговорном обиходе. Да и в самом деле, легче ведь сказать "шестой цех", чем произнести длинное, словно бы рокочущее от множества согласных, трудновыговари-ваемое "трубоэлектросварочный". — Во втором, — продолжал Осадчий, — будем менять печь, трехваловый обкатный стан, прошивной стан, девятиклетьевой калибровочный, перечислять сейчас все оборудование не буду, — остановил он сам себя. — Важно обговоритьобщие принципы. — Правильно, — одобрил кто-то. Осадчий поднял голову: он не узнал сразу голос, что случалось с ним редко. Кажется, это Калинин, начальник шестого цеха. — Общие принципы имеют особое значение для вашего цеха, Сергей Алексеевич, — сказал ему Осадчий. — Догадываетесь, почему? — Как не догадаться, — не поднимаясь, а лишь изобразив желание подняться, сказал Калинин, и почему-то слегка покраснел. — Тоннаж нашей продукции, Яков Павлович, и проблема простоев… — Вот именно, простоев, а простои надо свести к минимуму. Но об этом потом. Самое главное сейчас… Тут Осадчий сам неожиданно вздохнул. Вздохнул, закашлялся и сделал продолжительную паузу. Не так-то легко было ему произнести то, что он собирался сказать, определить ту главную отправную точку, а точнее, генеральную линию, от которой и побегут в разные стороны все остальные, пока еще пунктирные линии для расчетов, графиков, планов, все наметки предполагаемых сроков и этапов работ. Наверное, все или почти все представители "мозгового центра" знали или предполагали, в чем же состоит самое главное, но тем не менее напряжение, зазвучавшее в голосе директора, передалось и им. — Наша традиция, — наконец, твердо закончил свою мысль Осадчий, — при любых перестройках завода не просить у правительства снижения государственного плана. Вы помните, так было и в шестьдесят седьмом, так было раньше. А если бы и попросили, дорогие друзья, вряд ли нам разрешили это. Но мы не будем просить… — Безусловно, — сказал кто-то со своего места. Многие согласно закивали, кто-то не то поперхнулся, не то многозначительно покашлял, Калинин и Телешов, оба представители самого большого цеха, одновременно потянулись к графину за стаканом воды. Телешов же при этом скорее почувствовал, чем заметил, как дрогнули губы Осадчего в мимолетной улыбке. — Итак, — в твердости голоса Осадчего чувствовалась решимость пресечь и малодушие, и слабость сомнений, если они проявятся, — итак, — повторил он, — пункт первый — идем в русле государственного плана, имея в виду всю годовую программу, а если нам по обыкновению и набавят план, то выполним его все равно. Никто не возразил, хотя и одобрительных реплик никто не подал. Предложение можно было считать принятым. Конечно, вместе с молчаливым принятием первого пункта все присутствующие на совещании брали на себя серьезнейшую ответственность. Но потому, что так случалось не впервые, и оттого, что само понятие "генеральная реконструкция" и работа с удвоенным напряжением, с полной отдачей всех сил были, по сути своей, синонимы, попытка объяснять это кому-либо, а тем более самому себе, несомненно, показалась бы на подобном совещании странной, напыщенной и неуместной. — Хорошо, с этим покончили. Теперь пункт второй — относительно этапов реконструкции. Главный инженер, прошу вас, — пригласил Осадчий. Терехов поднялся. Вскоре после ухода Ольховича на пенсию Виктор Петрович стал главным инженером завода. Выдвижение его было воспринято как естественный процесс роста тех, кто в цехах и в заводоуправлении прошел по всем ступеням производственной науки и практики. Немного опережая события, можно сказать, что в семьдесят четвертом Терехов отпраздновал свое двадцатипятилетие работы на трубопрокатном. Четверть века! Это что-то да значит! Виктор Петрович в полном смысле слова мог считаться воспитанником завода. В свои сорок восемь лет он ощущал в себе полноту сил и энергии, которые необходимы всякому, а, может быть, особенно главному инженеру такого завода-гиганта. Итак, поднявшись за столом, Терехов кратко изложил план, предусматривающий три этапа работ. План этот, естественно, был согласован раньше с директором, начальниками производственного, технического, планового отделов. Кто и когда первым четко разбил программу действий на три части, сейчас уже трудно было установить. Однако направляющая идея и здесь вытекала из первого генерального решения, из формулы Осадчего: "Ни одного месяца без выполнения государственного плана". Первый этап предусматривал проведение всех работ, которые возможны без остановки линий в цехах. Не надо быть специалистом, чтобы представить себе всю трудность и сложность этой задачи. Второй этап — работы во время остановки всей линии. И третий — то, что можно сделать уже после пуска реконструированного оборудования: доделки, доводка на ходу и во время работы уже на новых режимах и с новыми скоростями. Распорядок работ, предложенный Тереховым, не вызвал возражений. Присутствующие на совещании или одобрительно кивали, или же молча записывали что-то в блокноты, что тоже было признаком согласия. Видимо, в плане все выглядело разумным и опиралось на опыт былых перестроек. Ключевым был, безусловно, вопрос о сроках второго этапа. Каждый день, каждый час простоя били по плану и в конечном счете по заработкам работающих. С другой стороны, понятно, что цеховые работники из боязни не справиться с жестким графиком заинтересованы в том, чтобы растянуть временные рамки второго этапа, руководители же завода хотят стянуть их до предела. Такая уж ситуация: задача у всех общая, а ответственность у каждого — разная. С кого что спросят? И есть еще разница между теми, кто ставит трудные задачи, и теми, кто их выполняет. Не только в мере личной озабоченности, а еще и в психологическом комплексе. Тому, перед кем ставят задачу, всегда кажется, что сказать легче, чем сделать. И одно дело на дороге стоять и дорогу указывать, а другое — самому по ней ходить. Осадчий это понимал. Он хорошо разбирался в психологии людей, чувствовал их настроение и знал, как на них влиять. И вот затем, чтобы подготовить всех к принятию важного решения, он решил прежде всего показать, что он, директор, в данном случае лично возлагает на свои плечи. — Объем предварительных работ огромен, товарищи, — сказал Осадчий, — новое оборудование придется заказывать десяткам заводов. А потом требовать, чтобы были выдержаны сроки поставок. Это я беру на себя. И определяю время, вот от сегодняшнего дня, от задумки нашей, до начала работ — полтора года. Срок этот ошеломил всех своей краткостью. Кто-то тихонько присвистнул. Кто-то от растерянности хлопнул в ладоши. И трудно было понять — с восхищением ли, с удивлением ли? Ведь обычно полтора года уходит только на оформление рабочих чертежей. А сроки строительства крупных объектов растягиваются на несколько лет. Не авантюрны ли сроки, названные Осадчим? — Яков Павлович! — секретарь парткома Соболев поднял руку, и Осадчий насторожился. Сначала все подумали, что Иван Георгиевич просит слова. Но он заговорил, не дожидаясь разрешающего кивка директора, заговорил о роли коммунистов, о том, что обком партии поддерживает идею реконструкции и обещает помочь, что именно там посоветовали завязать тесные и взаимотребовательные связи рабочих трубопрокатного с коллективами заводов-поставщиков. — Письма напишем от рабочих коллективов в те областные газеты, где находятся заводы, на сами предприятия. В Минск, в Чувашию, в Сумскую область, в Оренбург, — говорил Соболев. — Может, своих людей пошлем туда, организуем там агитационные стенды. Чтобы на заводах все хорошо знали: зачем, кому и в какие сроки нужно оборудование! Один ты не справишься, Яков Павлович, хотя, как говорят на заводе: "Осадчий все может!" — Секретарь улыбнулся. — А мы придадим всему делу нужный поворот: интернациональная дружба рабочих коллективов, взаимопомощь должны проявиться в полную силу. — Иван Георгиевич оформил идею политически — это залог успеха, — сказал Осадчий с удовлетворением. — Я думаю: намеченный срок станет реальностью, товарищи! Так же, как и второй наш срок. Я имею в виду второй этап. По стану "1220". Возьмем его вначале, — продолжал Осадчий, — полная остановка линии предусматривается только на пятьдесят суток. За это время надо сделать все возможное и невозможное. Пятьдесят суток! И для других станов — столько же. Произнеся это, Осадчий впервые на совещании напряг и повысил голос. Он и цифру эту произнес резко, чеканно, сказал, как отрезал. И вдруг многим стало заметно, что директор волнуется. Нет, он не ждал пока возражений. Не так-то просто мгновенно собраться с аргументами и оспорить Осадчего. Но Яков Павлович знал, более того, был уверен, что возражения явные или тайные, невысказанные, но тем не менее разрушающие веру в успех, эти возражения все же появятся. Внутренне он был готов к спору. Но назвав цифру — пятьдесят дней, и начав говорить, Осадчий — то ли потому, что ждал возражений, то ли по инерции напряжения, которое ощущал в себе, — добавил резче, чем того хотел бы сам: — Ни дня больше, товарищи! И только не говорите мне, что это жесткий и несправедливый, невыполнимый срок. Нет, это не волевое решение, как может показаться. Это сложный расчет. Я знаю, будет трудно, очень трудно. Знаю! И все же — пятьдесят дней! Пауза была неизбежной, и она наступила. Директор расправил плечи, которые в напряжении, когда выступал, всегда немного сутулил. Поправил папки с бумагами на столе. Пододвинул ближе горстку карандашей и разноцветных фламастеров (фламастерами он любил подписывать бумаги — получалось четко, жирно, внушительно и красиво). Одним словом, отвлекся сам и дал людям собраться с мыслями. А собственные его мысли обратились сейчас к прошлому, к тем событиям заводской жизни, когда успех дела решали не только цифровые выкладки и голые расчеты. За десятки лет своей работы руководителем он убедился в том, что, кроме сухой цифровой оболочки, у каждого дела есть живая, трепетная душа. А у людей есть воля, желание и еще то, что на казенном языке часто называют "внутренними резервами". Они, эти резервы — в силе человеческого духа, они велики у каждого и почти неиссякаемы у многотысячного коллектива. Осадчий всю жизнь проработал, веря в эти силы. Да, бывало, что его упрекали в волевых решениях. Особенно в те годы, когда ругать за волевые решения стало модно. Но Осадчий всегда говорил себе и другим: "Тут надо разобраться!" В самом деле, легко, отдавая дань моде, окрестить жестким термином сложное и внутренне противоречивое явление. Куда труднее объяснить его сущность и… часто необходимость. Да и сколько есть людей, которые, произнося одни и те же слова, порою вкладывают в них совершенно противоположное значение. Волюнтаризм, голое администрирование без базы научной организации труда вредны. Это беда, порождающая грубые изъяны в руководстве любым предприятием. Осадчий был полностью согласен с этим. Но воля руководителя, смело идущего к намеченной цели, воля партии, воля рабочего коллектива — нет, это другое. Никто не может сбросить со счетов волевые качества рабочего, мастера, инженера как залог успеха любого дела на заводе. У него, Осадчего, была своя формула, так сказать, для внутреннего употребления, для выверки собственных решений. "Хочешь получить предельно достижимое — потребуй невозможного". Он никому не навязывал этой формулы и не пропагандировал ее. Но сам так поступал и почти всегда выигрывал. Осадчий невольно увлекся своими мыслями, благо все тоже пока молчали, думали. "Кого ценят на заводах? — продолжал он размышлять. — Ценят работников, способных на многолетние, неослабевающие усилия, людей динамичных, ценят их особенно, если все это сопрягается с волей, с инициативой. А другие… Они волевых решений не принимают, но не принимают и никаких вообще, живут на заводе вяло, отрабатывают свое "от звонка до звонка", из них-то никогда не рождаются настоящие творцы, люди большого дела… Вот Чудновский. — Осадчий попытался вспомнить и представить себе черты лица своего бывшего главного инженера. — Он упрекал меня в волевых решениях, но и сам был не размазня, человеком действия. Другое дело, что воля его, Осадчего, и Чудновского часто противоборствовали! Тогда речь шла о том, делать или не делать трубы большого диаметра. Сейчас этот вопрос решила жизнь. Необходимость же резкого увеличения производительности таких труб диктуют пятилетки. И окажись сейчас Чудновский на заводе, тут уж спорить он не стал бы. Недавно пришло печальное известие — Алексей Алексеевич умер. Это известие опечалило всех на трубопрокатном, всех, кто работал с ним, кто помнил его в расцвете сил. Ну, а разногласия, споры, борьба за идеи, что хорошо, что плохо — эти споры тоже само время быстро относит к анналам истории отечественного трубостроения…" Голос Гурского — заместителя начальника проектного отдела завода, однофамильца того мастера, которого когда-то уволил с завода Терехов, внезапно вернул Осадчего к текущим делам совещания. Гурский, видимо, просил слова, но Осадчий не расслышал. Сейчас инженер перечислял количество бетона, который надо взорвать, убрать из цеха и заново залить. Цифра солидная — четыреста кубометров. И земли надо вынуть из-под рольгангов триста кубометров. По логике рассуждений Гурского получалось, что сделать все это за пятьдесят дней очень и очень трудно! — Трудно, это правильно. Но ведь ты, Аркадий Алексеевич, не утверждаешь, что невозможно? А? — спросил Осадчий. Гурский замялся. Произнести слова: "возможно" или "невозможно" было ему сейчас, видимо, одинаково трудно. — Чего это у вас поджилки вдруг затряслись? Мы-то с вами вроде бы обговорили все? — удивился Осадчий. — А я все-таки выражу свои сомнения, потому что если бы я их не выразил, перед собою поступил нечестно, — сказал Гурский, покраснев, и с видом человека чем-то обиженного сел на свое место. — Ну что ж, приплюсуем и ваши законные сомнения, — сказал Осадчий, чиркнув что-то в своем блокноте. Он подумал, что сейчас первым пробным камнем выполнения всего плана реконструкции станут работы в трубоэлектросварочном цехе, на линии "1220", и когда слова попросил начальник этого цеха Калинин, стал слушать его особенно внимательно. Главная мысль Калинина сводилась к тому, что в его цехе предстоит изготовить около ста тонн нового оборудования и еще, как он выразился по-военному, "задействовать" на реконструкции не менее восьмисот своих рабочих, превратив в монтажников и рубщиков бетона слесарей и сварщиков. — На два месяца надо изменить профессию людям, Яков Павлович! Это задачка! Были у рабочих одни навыки, должны появиться другие. И программу еще цеху выполнять, силами тех же людей. — Ты, Сергей Алексеевич, к чему клонишь? — спросил Осадчий. — Что забот будет много или же, что срок тебе не подходит? — И то, и другое. Хочу обрисовать обстановку. — Значит, цену себе набиваешь, а это уже признак того, что справишься, — усмехнулся Осадчий. Затем Телешов, до сих пор молчавший, тот самый Борис Сергеевич Телешов, о назначении которого непосредственным руководителем работ на линии "1220" ужо знали присутствующие на совещании, значит, главный ответчик за все, вынес на обсуждение идею укрупненной сборки оборудования. — Может быть, товарищи, нам сделать так: мы в седьмом пролете оборудуем специальный стенд, узлы здесь укрупним и на железнодорожной платформе сможем подвозить их к участку прессования. Получим выигрыш во времени. — Я согласен в принципе, — кивнул Яков Павлович, — подробности уточним потом. Правильное направление выбираете, Телешов! Разговор на совещании начал принимать деловой, конструктивный характер. Это успокаивало Осадчего. Если люди озабочены поисками конкретных решений, значит, они в сознании своем уже считают задачу выполнимой. Началась внутренняя мобилизация. А это очень важно. В ту минуту Осадчий с удовлетворением подумал еще в о том, что он, конечно, мог бы ожидать куда больше сомнении и даже прямого сопротивления со стороны участников совещания, когда называл сроки. Верил ли он сам в них? Не колебался ли? Да, колебался. И его мучили тревоги, тяжкие раздумья. Но никто об этом не впал, да и не мог узнать. Есть неписаное правило. Для Осадчего оно было выверено многолетним опытом директора. Можешь раздумывать, сколько тебе угодно, сомневаться, взвешивать "за" и "против", но если ты руководитель и вышел с предложением к людям, будь тверд и решителен до конца. Иначе, кто тебе поверит? Сам Осадчий, подписывая какой-либо приказ, принимая решение, почти никогда, за редкими исключениями, не отменял их. И старался не отменять решений главного инженера, хотя имел на это право. Почему? Тут была забота не о престиже, поддержании авторитета. Осадчий в этом не нуждался. А вот стиль работы надо поддерживать — стиль выверенных и решительных действий, в реальность и мудрость которых должны верить те, кому предстоит их осуществлять. — Ну что ж, пора подвести итоги, — сказал Осадчий. — Главное решено, остальное по ходу событий будет корректировать сама жизнь и мы. У меня все! — И, поднимаясь из-за стола, добавил с легкой улыбкой: — Вспомнил сейчас, как это крикнул Юрий Гагарин перед полетом: "Поехали!" Так вот и мы — трогаемся, вперед, дорогие товарищи!Курс — реконструкция
Обычно рано утром в субботу или в воскресенье от заводоуправления — на автобусах, из разных концов города — на "Волгах" и. "ВАЗах" выезжают трубопрокатчики в свои дома отдыха. Профилакторий "Изумруд" — самый близкий, дальше — озеро Еланчик, еще дальше — озеро У вельды. Но дальняя дорога совсем не смущает любителей отдыха в этом прекрасном уголке области. В любое время года у озера Увельды очень хорошо. Даже зимой, в морозец, в снегопад, когда метет поземка или завьюжит крепко, по-южноуральски. Осадчий, правда, так далеко выезжает редко. Его любимое место — "Изумруд". Ну, а те, кто помоложе, люди среднего заводского поколения, не говоря уже о молодежи, готовы отмахать сто двадцать километров в оба конца, отправиться на Увельды сразу же после смены, ради того чтобы два дня подышать удивительной чистоты воздухом, побродить по лесу, покупаться в озере — летом, попариться в финской баньке — зимой. Небольшие коттеджи вблизи озера поначалу стал строить трубоэлектросварочный цех — для своих рабочих и инженеров. Место понравилось, и со временем к этим домикам стали пристраивать свои коттеджи другие цехи, затем уже завком устроил здесь столовую, клуб — и уютный поселок приобрел общезаводское значение. …В один из субботних дней февраля семьдесят второго года Борис Сергеевич Телешов с женой приехал на Увельды. За завтраком встретились все свои: были здесь начальник производства Вавилин, супруги Тереховы, начальник цеха Калинин, мастер Николай Падалко, сварщик Гончарук. Телешовы сели за один столик с Виктором Петровичем и Верой. Знали они друг друга давно, еще с тех пор, когда Телешов только пришел на завод. Родился Телешов в Челябинске в тридцать четвертом, здесь же окончил школу и Политехнический институт, успел возмужать и облысеть на заводе. Про него можно сказать, что он был и остается однолюбом по отношению к родному городу и родному заводу и привязанности своей не изменяет. Сразу же после института очутился в конструкторском бюро трубопрокатного. И здесь ему, начинающему инженеру, поручили дело, которое впоследствии стало для него главной заводской специальностью: механизацию и автоматизацию оборудования. А говоря короче, все ту же реконструкцию, все то же непрерывное обновление, идущее в ногу с непреложными требованиями времени и технического прогресса. Обычно молодые специалисты начинают на трубопрокатном с какого-либо цеха. Там набираются навыков и опыта. Телешов же, ломая традиции, вдруг перешел из конструкторского бюро в цех, в трубоэлектросварочный. Не смущаясь тем, что уже занимал должность конструктора, отбросив всякое тщеславие, попросился к стану, в сменные мастера. Спуститься с четвертого этажа заводоуправления, где размещается конструкторский отдел, на поточную линию, в цех да еще начать с должности мастера — это поступок нелегкий для любого человека. Однако сам Телешов не преувеличивал его значения, хотя и оценивал с чувством внутреннего удовлетворения. Есть на заводах люди с тягой к вещной, реально зримой, руками осязаемой, хотя и тяжелой работе. Это люди с жаждой непосредственного действия и прямой личной ответственности за дело. Те, кто любит цеховую обстановку с ее динамичностью, физическим напряжением больше, чем спокойную обстановку комнат, заставленных кульманами. Таков и Борис Сергеевич Телешов. Цехи притягивают к себе надолго людей определенного склада. Я не ошибусь, если скажу, что тут как бы сам труд отбирает и сортирует характеры. Вступив в новую должность на стане "1220", Телешов буквально ринулся в уже знакомую ему и кипучую обстановку большой работы. В декабре семьдесят первого началась непосредственно реконструкция. Теперь уже не было никаких сомнений, что подготовительный период ее закончился успешно. В многотиражках заводчане печатали обращения к коллективам заводов-поставщиков, бригады с трубопрокатного ездили в разные города на эти предприятия. Осадчий чуть ли не ежедневно связывался по телефону с директорами, звонил в областные комитеты партии, делал все, что мог, и даже то, на что и сам не рассчитывал. И срок в полтора года, казавшийся очень многим неосуществимым, этот срок, к удивлению и самого Телешова, оказался реальным. Зимой на завод стали прибывать детали новых "ниток" рольгангов и гигантского кромкострогального станка, оборудование для новой трехдуговой сварки, части реконструируемого громадного пресса. Пришло время готовиться к сложной операции замены оборудования. Начало дела, да еще такого "мощного" и необычного, не могло не занимать всех трубопрокатчиков. Живо интересовались им и сотрудники заводской лаборатории. Поэтому Телешов не очень удивился, когда Вера стала расспрашивать о работах на линии "1220". Они вышли из столовой вместе — Телешов, Виктор Петрович и Вера, медленно двинулись в сторону озера по расчищенной дорожке. Ночью выпал обильный снег, с утра его прихватило морозцем, и теперь снежок жестко и приятно похрустывал под ногами, словно сахар на каменном полу. У берега высокие ели близко подступали к самым домикам, протягивали прямо к окнам отяжеленные снегом ветви. Светило солнце, расплывалось тысячами веселых бликов на белой скатерти озера. Дышалось легко и хорошо. Вера призналась, что ей сейчас хочется безоглядно окунуться в эту тишину, впитывать в себя красоту природы, забыть обо всех заводских делах. — Но, странное дело, хочу забыть — и не могу. И у вас так же? — повернулась она к мужу и Телешову. — Даже здесь думается о заводе. — Наша беда, что мы не умеем отключаться. А надо бы разом сбрасывать все на время отдыха, — заметил Виктор Петрович. — Я-то знаю, как ты сбрасываешь! — улыбнулась Вера. — На заводе день-деньской и еще дома сидишь за столом до глубокой ночи. — Пока могу, работаю так, — заметил сердито Терехов. — И Борис Сергеевич тоже. А ты разве не так, моя милая? — Ладно, черт с вами, живите, как можете, — Вера махнула рукой. — Я вот у Бориса Сергеевича хочу в таком случае спросить: как вы там умудряетесь менять рольганги, не останавливая потока труб? Как это вам удается? Я спрашивала у моего, — Вера кивнула в сторону мужа, — да от него ничего не добьешься! Говорит — "секрет шестого цеха"! Нет, в самом деле, как? — Ну, какой там секрет, — засмеялся Телешов. — Заглядывали бы к нам почаще сотрудники заводской лаборатории — сами все увидели! — Заглядывают, и нередко. Да только заскочишь на десять минут — не заметишь сразу, как вы там химичите, великие комбинаторы! — "Химичите"? — Виктор Петрович скорчил гримасу. — Неуважительно и вульгарно. Нет, это изобретатель ность плюс продуманный риск, и то, и другое, как функция самой жестокой необходимости. Вот такая формулировка приемлема и отвечает правде фактов. — Фу ты, как строго! Ну, извини, я неловко выразилась. Конечно, изобретательность. Вера опять вопросительно посмотрела на Телешова. — В общем-то все довольно просто, — начал Телешов с той дотошной и немного медлительной обстоятельностью, которая не покидала его в любых обстоятельствах. — Чтобы взорвать фундамент под рольгангами и уложить новый, предусматриваемый уже не для четырех, а для шести "ниток", мы первым делом решили каждый рольганг поставить на металлические стойки. Поднять его над фундаментом, который необходимо сменить… — Зрительно представляю себе, — заметила Вера. — Затем во время одною планового ремонта мы просверлили отверстия в бетоне, во время второго — бетон взорвали. Пустили рольганг, а под ним постепенно выбираем куски раздробленной бетонной массы… — Ловко! — вырвалось у Веры. — Значит, остановки в ущерб выполнению плана никакой? А вот такой вопрос. Во время взрывов осколки могут повредить оборудование. Не говоря уж об опасности для людей. Вы что, рабочих вывддите из цеха? — Нет. Просто место взрыва накрываем большими стальными листами. Там в яме громыхнет крепко и снизу ударит в листы. Знаете, такой мощный звук рождается, словно бы в громадный колокол ударили. Мощное эхо еще долго блуждает по цеху. — А что же листы? — спросила Вера. — Листам ничего не делается. Они ведь закрепляются во время взрыва и остаются на месте. — Борис Сергеевич, я видела здесь Падалку. Он теперь у вас взрывник или арматурщик? — ехидно поинтересовалась Вера. — Николай Михайлович ведь мастер на линии "820". Когда начнем и эту линию реконструировать, — вполне серьезно, словно не замечая иронии Веры, ответил Теле шов, — тогда подключится и Падалко. Но, скорее всего, на своем участке сварки. — Все-то у вас предусмотрено, ребята, все-то продумано, — улыбнулась Вера. Разговаривая они дошли до берега, потом повернули к домику Тереховых. Это был коттедж, обустроенный во вкусе Виктора Петровича — просто и удобно. Все приспособлено для отдыха и… работы. В небольшом кабинетике — стол у большого окна с видом на озеро и горбатый островок, похожий зимой на вмерзшего в лед седого верблюда, за ним на другом берегу виднеется синеватый гребень дальнего леса. Было бы у Терехова больше времени — с каким бы удовольствием он приезжал сюда поработать над материалами докторской диссертации, связанной с проблемами сварки труб. Цехи завода предоставляли ему великолепные возможности для проверки возникающих технических идей. Например, проблема так называемого топкого профиля. Она решалась неуклонно и постепенно, год за годом, и до сих пор оставалась в поле зрения заводских инженеров. Правда, жизнь вносила свои поправки. Теперь в больших газопроводах резко увеличено давление. Это дает возможность увеличить количество транспортируемого топлива. Но раз выше давление — прочнее должны быть стенки труб. А это, в свою очередь, требует определенной их толщины и, главное, производства труб из высокопрочных марок стали. Значит, слово и за сталеплавильщиками. Так везде в индустрии. Нет изолированных вопросов, полностью разрешаемых в рамках одного предприятия. Большая проблема напоминает ствол, уходящий своими разветвлениями в разные области науки и производства. Ныне завод экономит немало металла, выпуская газовые трубы с более тонкими стенками, особенно трубы, изготовляемые на станах горячей прокатки. Но проблема еще не снята, она в развитии. По-прежнему действуют поправочные коэффициенты на трудоемкость и сложность работы на тонких профилях труб, по-прежнему профиль трубы варьируется в зависимости от характера и протяженности газовой магистрали, давления на разных ее участках. Работы по изучению хотя бы одной этой проблемы — непочатый край. Но где взять время? Не раз Терехов с сожалением отмечал, что с годами все больше накапливается опыт, все богаче и содержательнее становятся замыслы, а времени для их осуществления все меньше. И все же Виктор Петрович иногда успевал поработать и здесь, в домике на озере Увельды. Поработать и отдохнуть, зимой же попариться в финской бане. В таком удовольствии и Телешовы, и Вавилин, Калинин, Митя Арзамасцев — многие друзья Виктора Петровича старались себе не отказывать. Об этом купании всегда бывало много веселых рассказов после воскресного отдыха. Вспоминали, шутили, хвастались: вот, мол, как геройски ведут себя трубопрокатчики. Распарившись в финской бане чуть ли не "до точка кипения", как любили говорить заводчане, купающиеся выскакивали на берег и прыгали в неглубокую прорубь. Кое-кто утверждал, что это, мол, вроде особой привилегии трубопрокатчиков, людей решительных во всем. И занятие, предполагающее особый, уральский характер. Трудно установить, кто первым ввел эту моду именно на Увельды, но купание в проруби после бани стало быстро распространяться среди отдыхающих. Года два назад Терехов, набравшись духу, впервые ухнул в прорубь и после минутного испуга почувствовал, что все не так страшно, как кажется, когда стоишь на берегу в шубе и в теплых ботинках и с изумлением смотришь на обнаженных купальщиков. Через полгода Виктор Петрович уговорил и жену попробовать искупаться в проруби. Вот и в этот февральский день за два часа до обеда, предвкушая не столько само погружение в ледяную воду, которое было все-таки малоприятно, а удивительное состояние легкости, окрыленности во всем теле, бурный прилив бодрости и энергии, ощущение вновь нагрянувшей молодости, которое наступает после купания, Тереховы и Борис Сергеевич направились в сторону финской бани, А когда вслед за мужем и Телешовым Вера в облаке пара, как в газовом шлейфе, окутавшем ее горячее тело, пробежала по снегу и прыгнула в прорубь, там уже громко фыркали и отплевывались другие купальщики. — Горячий привет! — крикнула Вера, с трудом переводя дыхание, которое все же перехватывало при первом погружении. Как и другие, она плескалась и крутилась в воде, словно там, на дне проруби, к ее пяткам был привинчен маленький электромоторчик. Наверное, это было смешно, когда, все так же прыгая и отфыркиваясь, Вера вдруг спросила Телешова: — При трехдуговой сварке ведь увеличится ее скорость? — Что-что? Какая скорость? — поразился Телешов. Уж очень не соответствовала обстановка такому разговору. — Ну, как? — выкрикнула Вера. — Что? — Водичка! — Хорошо! Захватывающе. — Телешов то погружался в ледяную воду, то выпрыгивал из нее. — А скорость стана? — Черт побери, увеличивается вдвое! — фыркнул Телешов. — Обычно — не более девяноста метров в час, а после реконструкции будет почти двести. То, что Телешов ей все-таки ответил, совсем развеселило Веру. — Смотрите, помнит! — закричала она. — Даже в проруби помнит! — Но больше вопросов не принимаю, — в тон ей засмеялся Телешов. — Подробности — на месте. Ждем вас в шестом цехе! — крикнул Вере уже вдогонку, а она, первой выскочив из проруби, уже бежала в теплый предбанник, на ходу завертываясь в большую мохнатую простыню. Как мне рассказывала потом Вера, она, действительно, через несколько дней побывала в "хозяйстве Телешова", да и впоследствии следила за всеми этапами реконструкции стана "1220". …Так случилось, что летом семьдесят третьего мне показывал этот цех не главный инженер и не Борис Сергеевич Телешов, а Петр Федорович Новиков, инженер, которого я раньше не знал. Выше среднего роста, стройный, худощавый, он понравился мне сразу немного застенчивой манерой держаться, простотой, неподдельной скромностью. В нем чувствовалась еще и энергия, добросовестность даже в том, как он подробно и старательно объяснял мне все, что мог объяснить и показать в трубоэлектросварочном. Двигался он легко, привычно, я бы еще сказал, с солдатской непринужденной выносливостью. Я еле поспевал за ним. Когда после пятилетнего перерыва я подходил к хорошо знакомой и внешне ничем не изменившейся огромной коробке цеха, мне как-то не верилось, что я так давно здесь не был. И заводской двор, и маленький садик, вплотную примыкавший к цеху, — все тут выглядело так же, как и прежде. Быть может, только кустов жасмина да небольших елочек стало побольше. Казалось бы, только вчера я вот так же открывал простенькую дверь с потрескавшейся краской и вступал на бетонный пол с мелкими щербинками, выбитый, вытертый тысячами грубых и крепких рабочих ботинок трубопрокатчиков. Эта дверь вела в один из темноватых коридорчиков, а он, в свою очередь, выводил к другой двери, такой же неказистой, с деревянной ручкой, замасленной рабочими ладонями. И только за этой второй дверью неожиданно открывался простор цеха. Нет, я не оговорился, именно простор, хотя слово это не вяжется с представлением о цеховых пролетах, какими бы большими они ни были. И не в длине этих пролетов, видимо, дело. Ощущение простора возникает от волнующей масштабности всего, что видишь перед собою, от самого стиля цеха — "расчета сурового гаек и стали", как сказал Маяковский, от той индустриальной мощи, которая исходит от каждого стана, автоматической линии. Я не знаю, много ли у Осадчего дизайнеров — людей, думающих о художественной выразительности конструкций. Но уверен, что главным дизайнером здесь стала побудительная сила, продиктованная самим временем, которая заставляет коллектив стремиться к индустриальной гармонии, красоте и целесообразности всего, что находится на заводе. Когда я ходил по цеху с Новиковым, мне хотелось сразу и четко отделить старое от нового и новое от новейшего, представить себе в реальной плоти зримые черты реконструкции. Я старался это сделать, но, к удивлению своему, многого не мог сразу заметить. В самом деле, как определить на глазок изменения в мощности двух гигантских формовочных прессов, которые легко, одним нажимом сгибали плоские стальные листы, придавая им овальную форму. Я стоял около них, задрав голову, и мне представлялось, что эти махины такие же, как были пять лет назад. Но когда я сказал об этом Новикову, он как будто бы даже обиделся. — Новый пресс очень отличается от старого, хотя и стоит на том же месте, — сказал Новиков, как мне показалось, с удовольствием окидывая взором агрегат. — Очень отличается, — повторил. — Тот, прежний, работал с максимальным усилием в тринадцать тысяч тоня, а теперешний — ого! — давит с силой в двадцать тысяч! Чувствуете, какая разница? — Да, конечно, — согласился я, хотя эту разницу, честно говоря, я мог почувствовать лишь умозрительно. Пресс работал быстрее на какие-то доли минуты, но и эта экономия времени на каждой заготовке давала за сутки значительный прирост производительности. Такой же скачок в производительности дала и замена четырех "ниток" рольганга на шесть. Новиков спросил меня, вижу ли я это. Я кивнул утвердительно. Мысленно же упрекнул себя в недостаточной наблюдательности. Вот уже две новые линии рольгангов должен бы заметить. Их можно сравнить с железнодорожными путями, с той лишь разницей, что по ним катятся не вагоны, а трубы. И естественно: чем больше "путей", тем выше их пропускная способность. — Линий стало больше, но длина их уменьшилась, — заметил Новиков. — Как так? — А кое-где мы нашли возможность сократить путь трубы внутри цеха. Линий больше, но они короче. Тут самое интересное, в чем же главный источник увеличения производительности? — сказал Новиков. — В чем же? — В скорости сварки. Вместо двух три вольтовых дуги теперь на станах. И скорость сварки увеличилась более чем вдвое. Я остановился с Новиковым около пульта наружной сварки труб на линии "1220". Стоял и наблюдал за ходом работы, а потом Петр Федорович предложил мне сесть на скамейку, которая стояла на этой рабочей площадке. У сварщика, находящегося за пультом, была другая скамейка для отдыха, эта же предназначалась для электриков, слесарей, ремонтных рабочих, для мастеров, начальников смены, для всех, кому по той или иной причине надо работать около стана, не мешая самому сварщику и не отвлекая его. Наблюдая за сваркой, я невольно вспомнил давний спор Осадчего с Чудновским о возможности применить телевидение для контроля за качеством сварочных швов. И спросил у Новикова, есть ли уже такие аппараты в цехе. — Будут. Пока же используем рентген. Есть специальные пульты контроля. Но рентгеновские снимки требуют времени для проявления. И это нас не устраивает, — пояснил Новиков. — Поэтому сейчас монтируется и испытывается новая установка — рентгенотелевизионная. Снимок внутреннего шва трубы будет проектироваться на маленький телеэкран. Мгновенно. Таким образом достигается максимальная оперативность контроля. "Итак, — подумал я, — Осадчий оказался прав и в этом споре. Он же говорил Чудновскому, что рано или поздно, а телеглаз начнет следить за качеством швов, станет самым точным и внимательным контролером. К этому и пришли. Значит, интуиция и на этот раз не подвела директора, Терехова, Усачева, других инженеров. И вообще, интуиция — разве это только инженерный дар? А не вернее ли будет предположить, что эта способность вписывается в более общую формулу и означает прежде всего умение предвидеть будущее?" На скамейке возле пульта в общем-то тихий уголок. Только позванивают, попрыгивая на роликах рольганга, трубы, шипит и пофыркивает сварочный агрегат, тут можно говорить, лишь слегка напрягая голос. Но Петр Федорович даже не делает и этого усилия, поэтому мне приходится наклоняться к нему, чтобы расслышать объяснение, почему значительно возросла скорость сварки. — Существует еще и такая закономерность, — говорил Новиков. — Если установить на стане особый вибратор, придающий колебательное движение электродам, то шов получается лучше. А на трехэлектродную систему, о которой я вам уже сказал, мы переделали все станы. Раз прибавилась скорость в одном звене цепи, то пришлось уж расшивать всюду, по всей длине цепочки образовавшиеся узкие места. Короче говоря, отсюда началась цепная реакция реконструкции. Он сказал — "цепная реакция". А я при этом подумал, что не столь уж важно, где же именно произошел первый толчок к началу реконструкции — на участке ли сварки, формовки, кромкострогальных станков пли плазменной резки труб. И не технология сама по себе здесь самое главное. А те, пожалуй, неодолимые и продиктованные самим временем желание и необходимость следовать за новейшими открытиями науки, которые отличают челябинских трубопрокатчиков, следовать повсюду, на каждом участке к критериям оптимальности, к высшему уровню техники. Вот тут-то и заложена главная политическая и нравственная побудительная причина к реконструкции на заводе. А этим уже определяется поведение заводчан. Ибо только тогда дело движется по-настоящему успешно, когда и общественная оценка инициативной деятельности многих в коллективе и каждого в отдельности полностью совпадает с задачами пятилетки, с подлинными интересами всего общества.Взрыв в новогоднюю ночь
Познакомившись с Новиковым, я узнал, что и он был одним из главных героев в реконструкции. Немного рассказал об этом сам Петр Федорович, его дополнили другие… Рабочая биография Пети Новикова, а его и в сорок шесть лет называют на заводе, как юношу, коротко и ласково — Петя, его рабочий послужной список начался с биографии солдатской. В сорок четвертом семнадцатилетнего парня взяли в армию, служил он в Тюменской области, учился владеть большим и тяжелым бронебойным ружьем. После года учебы молодых воинов уже собирались отправить на фронт, но в тот же день, как сказал Новиков, "Левитан объявил о конце войны". И тут вышла солдатам из роты Новикова совсем другая дорога, не к Берлину, а на Север. Новиков и его товарищи приехали в места суровые и малообжитые: "Холод. Растительности почти нет. Кислорода в воздухе не хватает, дышится трудно. Бураны. А жили в палатках. Две зимы. Такие бывали ураганы, что палатки сносило. Потом, со временем, отстроились". Подумал Новиков и добавил: "Были мы ребята семидесятой широты!" За каждым его словом вставали доступные воображению картины воинской жизни в суровых местах, на крайних форпостах страны, где надо нести трудную солдатскую службу. Я выслушал эту предельно краткую аттестацию, которую дал Новиков своей солдатской жизни на Севере, и подумал, что ничто так порою не леденит душу, как именно такая краткость, точно сказанное слово, вовремя поставленная точка. И вроде бы ничего и не нужно больше, подробности можешь домыслить сам, если бывал на Севере и даже, если не бывал. Ведь все мы и по образованию, и по опыту жизни имеем достаточное представление о том, как живут или в определенные годы могли жить люди в разных концах страны. Вспоминая о Севере, Новиков не хвастал пережитым, но и не старался выглядеть этаким бодрячком, которому все нипочем. Жила в спокойной интонации его негромкого, с легкой хрипотцой голоса уверенность, что собеседник сам оценит обстановку и прямую связь суровой службы с закалкой характера, преодоленных трудностей с вызревающим мужеством. Раз не сломался, выдержал — значит окреп и возмужал, духовно и физически. У Новикова сохранилось и письменное тому свидетельство: диплом о присвоении второго разряда по гимнастике. Был у Петра в армии дружок, который демобилизовался на год раньше, поехал в Челябинск и все звал его сюда. Увлеченный тогда своими спортивными успехами, Новиков решил было превратить увлечение в профессию. Обосновавшись в Челябинске, определился на должность председателя районного комитета физкультуры и спорта, намеревался поступать в физкультурный техникум и вдруг совершенно неожиданно для всех весной 1952 года оставил работу, пришел на трубопрокатный. Должность — самая рядовая: подкрановый рабочий. За плечами-то лишь семь классов. Немного погодя записался в школу рабочей молодежи. Было Новикову тогда двадцать пять лет. Теперь его заводской стаж равняется уже двадцати трем годам, срок немалый. По справедливости же иной год вполне можно считать за два, имея в виду то время, когда Петр Федорович работал в цехе и учился. Совмещать работу и учебу нелегко любому человеку, кем бы он ни был, заводскому человеку — особенно. Непростое это дело — отстоять смену в горячем цехе у пышущего огнем стана непрерывной прокатки труб, а потом вечером садиться за парту. Кстати, именно в школе Петр Федорович познакомился с будущей женой Майей Ивановной. А дочку свою они назвали Любочкой. Однако прибавление в семействе — Петр Федорович с улыбкой вспомнил, что жена его, когда ждала ребенка, не умещалась за школьной партой и мучилась от этого, — не охладило желания учиться ни у него самого, ни у Майи Ивановны. После школы она еще закончила техникум и стала бухгалтером в цехе, а сам Новиков, набравшись духу, в пятьдесят седьмом, ему уже было тридцать, поступил в институт. Именно в то время он и понял отчетливо, как правилен был его выбор профессии.Его увлечение спортом не принесло бы ему ощущения той полноты жизни, которую он испытывал в своих трудных, перегруженных до краев, утомительных, но очень интересных заводских буднях. Новиков работал подручным сварщика в горячем цехе. Переходя с курса на курс, постепенно поднимался и по лестнице квалификации: сварщик, бригадир, мастер, старший мастер. Свободного времени при этом становилось все меньше, ибо добавлялись новые заботы, увеличивалась ответственность, а вместе с ними — та постоянная занятость служебными делами, которая не оставляла его в мыслях — дома или в институте. И все-таки он успешно окончил институт в шестьдесят втором году, все выдержал и преодолел, как когда-то в юности на Севере. Из этого своего десятилетия почти непрерывной учебы и работы Новиков вынес чувство самоуважения к себе как к личности, уважение товарищей по заводу. Случалось теперь слышать о себе сказанные в глаза и за глаза приятные ему слова: "Вот это Петя Новиков, инженер из рабочего класса, упорный и толковый человек!" Первая реконструкция цеха в 1963 году застала Новикова в должности начальника смены. Молодой инженер и старый производственник, он соединял тогда в себе свежесть только что полученного образования с годами накопившегося опыта рабочего человека. И хотя Новиков считает, что в тех работах он принимал лишь косвенное участие, это не совсем так. Все, что происходило в цехе, совершалось на его глазах и в определенной мере осуществлялось и сварщиками его смены, им самим. Теперь, в начале семьдесят второго, на плечи Новикова легла прямая, во всем объеме и во всей полноте своей, ответственность за реконструкцию стана "820". Чем ближе подходил самый ответственный этап — остановки на пятьдесят дней, тем больше Новиков сосредоточивался на организации буровзрывных работ. Предстояло заменить фундаменты в цехе почти подо всеми крупными агрегатами. У одного кромкострогального станка, занимавшего в длину метров тридцать, надо было заменить три фундамента, из них два — в период пятидесяти дней. На очереди стояли фундаменты правильной машины, пресса окончательной формовки, экспандера… Подготавливаясь к самому главному, Новиков решил максимально использовать плановые ремонтные сутки. В это время линию останавливали, около нее бурили скважины, закладывали в них взрывчатку и с соблюдением необходимых мер безопасности производили взрывы. Работы велись быстро, с помощью опытных взрывников из специализированной организации. Все надо было закончить в течение суток. Рассчитывали дело по минутам. Пока взрывали, линия стояла. К утру раздробленный бетон убирали, все готовили к пуску линии. И трубы вновь катились по рольгангам. По той же самой системе в дни плановых ремонтов производили установку арматуры, там, где это можно было сделать, заливали бетон под новые фундаменты. Новиков всегда присутствовал при этом сам. И на такие сутки он уже заранее планировал не только график работ, но и бессонную ночь. Никто не заставлял его это делать. Просто он сам не мог уйти домой, переложив хотя бы часть своей личной ответственности на чьи-либо плечи. Я пишу об этом периоде в жизни Новикова, о боевых для него, в полном смысле этого слова, днях и ночах с некой опаской. Всякого рода авралы сейчас не в моде, во всяком случае, в литературе. Чрезвычайные обстоятельства берутся под сомнение с точки зрения их необходимости. Всякого рода жертвенность, даже в отношении потраченного времени, по преимуществу списывается на организационную неразбериху, расхлябанность, и герои производственных штурмов, которые еще случаются, чаще всего аттестуются теперь как жертвы плановых просчетов. Может, все это и верно. Применительно к основным тенденциям развития нашей индустрии. Налаженный ритм производства должен соответствовать налаженному ритму жизни рабочего, инженера, директора. Но всякая истина конкретна. И то, что гладко на бумаге, часто в жизни бывает осложнено обстоятельствами, в которые само Время закладывает особое содержание. В самом деле, кто же может оспорить высокую прогрессивность того, что происходило в трубоэлектросварочном цехе? Но можно ли было провести такую большую реконструкцию, остановив цех только на два месяца: сменить почти все оборудование, не снизить выполнение государственного плана ни на одну тонну и при этом не пойти на некоторое напряжение, на дополнительные нагрузки, которые легли на плечи трубоэлектросварщиков? Всякий реально мыслящий человек скажет, что иначе поступить было нельзя. Люди работали много, больше, чем обычно. Но работали не по принуждению, а трудились с интересом и увлечением, делали все с радостью и энтузиазмом. И это чувство удовлетворения и душевного подъема, которое они испытали в результате своего труда, с лихвой компенсировало им усталость, многие часы, проведенные в цехе. Впрочем, последнее касалось, главным образом, не рабочих, а руководителей, и больше всего самого Новикова. Он же вспоминал о миновавших напряженных днях без тени какой-либо жалобы, а наоборот, не скрывал удовлетворения. Петр Федорович по складу характера, по солдатской своей обязательности принадлежит к той категории людей, которые не любят передоверять работу и ответственность другим, стараясь побольше "переключить на себя". Вот почему он оставался по ночам в цехе, когда считал это необходимым. "Гремят мирные взрывы в цехе", — писала в те дни заводская многотиражка. Новикову надо было торопиться. Выход он видел только в одном — в еще большей интенсивности, темпах, сноровке. Главный пик работ наступил 22 декабря 1972 года. Время самых мощных взрывов, самого важного демонтажа и монтажа нового оборудования. Новиков сказал мне: — Мы остановились 22 декабря, под Новый год. А нормально поехали уже 12 февраля семьдесят третьего. Ровно пятьдесят дней! Уложились, черт побери! Скажи раньше, что так получится, сам не поверил бы! Он сказал "нормально поехали". Это значит, пустили линию в эксплуатацию. Я обратил внимание на это гагаринское "поехали". Слово стало знаменитым и общеупотребительным на заводе. Быть может, в нем таился понятный всем знак сопричастности к высшим взлетам нашей техники? Однако поздно вечером 31 декабря семьдесят второго года, в воскресенье, то есть только через одиннадцать дней после полной остановки линии, ни такого радостного настроения, ни спокойной уверенности в том, что срок завершающего этапа будет выдержан, у Новикова еще не было, да и не могло быть. На этот день планировался второй и самый мощный взрыв на котловане демонтированного пресса-гиганта. В первую смену еще не успели все подготовить, управились только во вторую, ждали взрывников, а они не приехали. Новиков решил позвонить в заводоуправление, главному инженеру, спросить, что делать. Была уже половина пятого, над заводом сгущались ранние декабрьские сумерки. Внезапно пошел густой снег. Он валил крупными, пушистыми хлопьями, и от этого сумерки словно бы еще более усилились, а снег казался подсиненным, когда легким покровом ложился на заводском дворе. В воскресный день, естественно, заводоуправление пустовало. Все отдыхали и готовились к бессонной новогодней ночи. Однако Терехов оказался у себя. — Вы на заводе? — после того, как поздравил с наступающим, спросил Новиков с несколько наигранным удивлением, ибо такой же вопрос, с тем же основанием мог ему задать и Терехов. — Причина одна, Петя, надо удостовериться, что все в порядке, а чарки мы еще успеем поднять. Как взрыв? — спросил Виктор Петрович. — Мы готовы, а взрывников нет. Воскресенье. Боюсь, не приедут вовсе, — вздохнул Новиков. — Думаешь, уже провожают старый год? — А чего же? Некоторые начали уже в субботу. — Да, я тебе скажу — новогодняя ситуация! — Терехов тоже вздохнул. Оба помолчали. Новиков подумал о том, что Виктор Петрович может дать команду перенести взрыв на вторник, второе января. Но для цеха это будет означать потерю целых двух суток. И то, что представлялось бы возможным в любое иное время, сейчас урезало и без того предельно сжатый в пятьдесят дней срок. Новиков решил, что на это, если и последует такое предложение, он не согласится. — Так как? — спросил Виктор Петрович. — Надо звонить, добиваться, пусть разыщут взрывников в любом виде. — В любом виде — не пойдет, да и что звонить, поеду сам, — принял решение Терехов. — Вы ждите, если найду хоть одну живую душу, привезу. — Ждем. Новиков звонил прямо с участка, а сейчас пошел к лифту в конце цеха, который поднимал на четвертый этаж, где располагались все цеховые управленческие службы. Поднялся, прошел по коридору, открыл дверь в кабинет начальника цеха. Сам Калинин, механик участка формовки Шаповалов, наладчик Журомский, сварщик Митя Арзамасцев и еще несколько человек находились здесь. Все ждали и решили пока не уезжать с завода. Любое вынужденное ожидание — томительно. А уж в предновогодний вечер, всегда волнующий одним сознанием того, что год нелегкий, интересный, насыщенный событиями прошел и наступает новый, тоже со своими огорчениями и радостями, с исполнением или неисполнением желаний, планов, надежд, ждать особенно трудно. Необычное это состояние, охватившее всех, кто сидел сейчас в кабинете Калинина, усиливала еще и тишина в конторе, непривычное безлюдье. Рабочие были только внизу, в пролетах действующей непрерывно линии "1220", там еще трудилась вторая смена, которая к одиннадцати вечера должна была уйти, уступив место ночной. Чтобы как-то рассеять невольно накапливающееся раздражение, Калинин включил телевизор. Большой черный ящик стоял у окна, выходившего на заводской двор. — Ага, заработал, Сергей Алексеевич, а я и не знал! — сказал Новиков, взглянув на приемник служебного и внутрицехового телевещания, который показывал только одну программу, а именно — программу выполнения производственного плана. На голубом экране обозначились очертания пролета формовки, рольганги, по которым катились трубы. Нажимая кнопки, на экран можно было вызвать любой участок трубоэлектросварочного. Конечно, красиво и удобно, особенно это впечатляло гостей цеха, но видеть — этого начальнику цеха маловато. Телевизор пока не предоставлял возможности прямого вмешательства и еще более важного непосредственного общения с людьми. Правда, иногда выручала комбинация телевизора с телефоном, когда для того чтобы лишний раз спуститься в цех, уже просто не хватало времени. Во всяком случае, по поводу неработавшего две недели телевизора в цехе не вывешивалась очередная "Тревога". А "Тревоги" — эти броские и требующие немедленного ответа сигналы-"молнии" — появлялись уже несколько раз по инициативе рабочих и штаба реконструкции. Поводов хватало: то в одном месте образовался узкий фронт работ — над каждым агрегатом висел кран, монтажникам негде было развернуться, то срывался график подводки трубопроводов к одному из прессов, то возникала проблема расширения помещения насосно-аккумуляторной станции. В одном случае расширили фронт работ, в другом — добавили на участок сварщиков, в третьем — проявили изобретательность, самих удивившую, — умудрились загнать на станцию экскаватор "Беларусь", который копал фундаменты рядом с работающими агрегатами. "Тревоги" чередовались с "молниями". "Молнии", писавшиеся большими красными буквами, объявляли благодарность тем, кто вел работу с опережением графика. "Молний" было больше. — Ну как, Петр Федорович, "Тревогу" уже вывесил насчет взрывников? — спросил Калинин, когда Новиков пододвинул к себе стул и устроился у телевизора таким образом, чтобы видеть пролеты и свободно вытянуть ноги, уставшие за день беготни по цеху. — Цель "Тревоги", чтобы ее почувствовали виноватые, а если они отсутствуют, то по кому же бить? — ответил Новиков. — Все равно спрос с нас будет. — Это уж точно. — Ждать да догонять, хуже нет, — пробурчал Шаповалов. — Что дома-то о нас подумают? — подхватил Журомский. — Спятили-де совсем мужики. Сейчас положено жен и детишек целовать, поздравлять с наступающим. — Да не скули ты, ради бога, Геннадий Марьямович, родные нас как-нибудь поймут, а вот если план сорвем годовой — поймут ли нас в министерстве? — Калинин засмеялся, по не очень весело. Потом махнул рукой, как бы говоря, что уж лучше сейчас помолчать или касаться иных тем, чтобы не портить себе настроение. Включили другой телевизор, передающий концерт из Москвы. Теперь можно было видеть и танцы на сцене Колонного зала Дома союзов, и движение труб по конвейеру сварки. Одновременно. — Если б еще увидеть главного, как он взрывников ищет, совсем было бы интересно, — опять засмеялся Калинин. — НТР в реальном виде обступает нас со всех сторон, — заметил Новиков и добавил: — Уж полночь близится, а взрывников все нет! Но на его шутку никто не ответил улыбкой. …Терехов привез взрывников только к десяти вечера. Даже и ругаться с ними уже не было времени. Тотчас все отправились на участок формовки, к прессу. Начали забуривать скважины, закладывать заряды. Все были так сердиты, что и разговаривать друг с другом не хотели. За работой в спешке не заметили, как время подкатило к двенадцати. Кто-то спохватился, крикнул: — Товарищи, через десять минут Новый год! — Эх, не догадались бутылку шампанского захватить. Сейчас бы хватили холодненького! — И покрепче можно было бы! — В цехе-то? Не полагается! — А Новый год тут на бетоне встречать полагается? Подкрановые балки обнимать? — Ну и что! Въезжаешь в Новый год за работой. Значит, весь год все хорошо будет получаться. Примета есть. — Иди ты со своими приметами. Ровно в полночь, взглянув на часы, Калинин поднял руку и дал команду всем остановиться. Не сговариваясь, как-то так уж получилось, все трубосварщики потянулись и начальнику цеха, собрались вокруг него. Калинин поднял шапку над головой и произнес, пожалуй, самую короткую свою речь в цехе: — С Новым годом, товарищи! С нашим новым цехом. Пусть все будет хорошо. И продолжим работу, ребята! Взрыв подготовили к двум часам ночи. А около трех Новиков покинул цех. Трамваи не ходили, домой он шел пешком. К утру морозец — самый жесткий, хватал за щеки, за уши, но дышалось хорошо. Новиков смотрел на освещенные окна, не каждую ночь увидишь такое: чуть ли не из каждого гремела музыка, слышались песни. До кинотеатра "Аврора", около которого он жил, ходьбы минут сорок, если не торопишься. Он и шагал, не торопясь, рассчитывая отоспаться утром, когда разойдутся гости. Впервые так случилось — встречать Новый год в цехе. А что особенного? Не один он такой, работают ночные смены, люди трудятся там, где есть непрерывное производство, — на электростанциях, у домен, у мартенов. Усталость, которая разлилась по телу, и ощущение досады, что не посидел со своими за праздничным столом, — все это ерунда. Важно другое, чтобы всегда пребывала в душе радость от труда, от сознания, что сделано нечто действительно нужное и сделано хорошо. Важно, чтобы приходило почаще то теплое, почти физически ощутимое, весомое чувство удовлетворения, с которым сейчас шагал домой Новиков по своей улице Гагарина.Чувство хозяина
Приходя в трубоэлектросварочный, я сразу ощущал там приятную атмосферу. Не только в переносном, нравственном или психологическом плане, но и в самом прямом. Здесь стало легче дышать. Я чувствовал, что воздух — свежее, чище, мало чем отличается от того, что за стенами цеха, на заводском дворе. Как-то сказал об этом Новикову. — Миллион рублей, — ответил он. — Что? Какой миллион? — не понял я. — Из двух с половиной миллионов рублей, которые были потрачены на реконструкцию нашего стана, вентиляционные работы потребовали миллион, — пояснил Петр Федорович. — Вот сколько денег да и сил потрачено на очистку воздуха в цехе. — Много! — Еще бы! Это, между прочим, иллюстрация к тому, как в наши дни проявляется подлинная забота о здоровье людей на производстве. — А с другой стороны, — сказал я, — доказательство того, что теперь заводы, государство могут тратить такие деньги на эту заботу. — Конечно, — согласился Новиков. — Цех у нас, как видите, огромный, но и сварки очень много, плавящегося флюса, едких паров. У нас и прежде была система вентиляции, но значительно примитивнее нынешней. Сейчас мы ввели мощную подачу кондиционированного воздуха почти на все участки цеха. Кондиционеры на сварочном производстве! Я подумал об этом не без удивления. А Новиков просто показал мне на кабину машиниста пресса на линии "820", мы как раз находились около нее, и, переходя на язык конкретных дел, заметил: — Мы подаем охлажденный воздух вот в эти закрытые кабины машинистов прессов. — В них оператору жарко? — Жарковато. — Даже и зимой? — В общем-то в цехе температура всегда примерно одинаковая, вы же знаете, мы и зимой ходим в цехе в костюмах. — А как с вентиляцией на рабочих местах сварщиков? — спросил я, когда вместе с Петром Федоровичем пошел к сварным стендам на линии "820". Ведь если без охлаждения воздуха жарко работать машинисту пресса, то сварщик, стоящий у пульта, в полуметре от рокочущей под флюсом и разбрасывающей искры вольтовой дуги, еще более нуждается в освежающей прохладе. — Вот на пульты сварщиков мы и обратили главное внимание, — ответил Новиков. — Правда, тут две системы. На станах наружной сварки кондиционированный воздух подается по трубам, а затем он очищает, охлаждает воздух как бы на всем этом микроучастке цеха. Иначе у нас пока не получается. А вот на пультах внутренней сварки мы наш "кондишен" можем сфокусировать более точно. Там есть, да вот они, смотрите, — показал рукой Новиков, когда мы подошли совсем близко к стану, — новые остекленные кабины. Внутри, как мы говорим, "под стеклянным колпаком", сидит и сам рабочий — хозяин аппаратуры. Петр Федорович добавил еще, что летом воздух подается в цех охлажденным, а зимой подогретым. И что в первом и во втором случае свежий воздух вытесняет загазованный и вредный. Впрочем, это было очевидно и без подробных пояснений. Я же подумал тогда, что вот эта часть реконструкции, требующая больших затрат и прямо "не работающая" на ускорение выпуска труб, безусловно в замысле своем не обошлась без вмешательства завкома. И прежде всего Валентина Крючкова. Ему-то, много лет проработавшему сварщиком и нынешнему защитнику интересов рабочих, должна быть особенно близка забота об их здоровье. Вспомнились прежние заседания заводского комитета, на которых мне приходилось бывать, выступления рабочих, старика Павла Игнатьевича Гречкина, его сына Александра, Мити Арзамасцева, Ирины Чудновской. Все они справедливо требовали, как могут требовать хозяева завода, чтобы в цехах создавался оптимальный с точки зрения медицины, самый удобный микроклимат, способствующий лучшему самочувствию рабочих. А если хорошему самочувствию, то, значит, и повышению производительности труда. Я не раз за эти годы вспоминал о Павле Игнатьевиче. Его знал и любил весь завод. Два года назад Гречкин-старший умер. Ушел с завода и его сын Александр, он по совету врачей и по семейным обстоятельствам уехал жить и работать на Украину. Митя Арзамасцев стал отличным мастером сварки и вместе со своей женой Ниной Петровной по-прежнему трудится на заводе. А вот Павел Лутовинов и Толик Тищенко перешли работать в научно-исследовательские институты. Лутовинов готовится к защите диссертации. Тищенко разрабатывает научную тему, связанную с производством труб. Оба часто бывают на заводе, часто заходят в заводоуправление — в диспетчерскую, в редакцию многотиражки. Тут быстрее всего узнаешь заводские новости. Клавдия Ильинична Егорова — на своем посту, продолжает редактировать газету "Трубопрокатчик". Ну, а в диспетчерской много новых сотрудников. В 1973 году Александра Каганова здесь уже не было: он тоже ушел на научную работу и уехал из Челябинска. Конечно же, не у каждого так складывается жизнь, что весь рабочий век проходит в одном цехе, на одном заводе. И вместе с тем, подавляющее большинство моих друзей с трубопрокатного — однолюбы, прочно и до конца своей рабочей биографии приросли к Челябинску, к заводу, безо всяких преувеличений ставшему им навсегда родным. И среди них — Николай Падалко. Бывает так: подумаешь о ком-либо, а он тут же и появится перед тобой, будто таинственные силовые линии телепатии притянули человека. Не было ничего неестественного и в том, что, находясь на пинии "820", где работает Николай Падалко, я вспомнил о нем. Вспомнил, и вдруг он сам показался в пролете. Николай Михайлович подошел к нам улыбаясь. Я давно заметил эту его привычку — улыбаться еще издали и слегка вытягивать руку вперед, как бы приготавливая ее для рукопожатия. Что проявлялось в этом жесте? Просто ли вежливость воспитанного человека или привычка выражать всякий раз особое благорасположение к собеседнику? Не знаю. Уверен лишь в том, что улыбка Николая Михайловича чаще всего — зеркальное отображение его доброжелательного отношения к людям. Я не видел Падалко пять лет, но для него, сильного, крепкого человека в расцвете сил, это не срок, чтобы измениться внешне. К тому же улыбка, так же как и человеческий голос, — это то, что очень редко меняется, что почти невозможно подделать. Мы поздоровались и с минуту молчали, глядя друг на друга. Падалко спокойно, приветливо и выжидающе, должно быть, ожидая вопросов. Я же, видимо, с тем блеском душевного расположения в глазах, с тем живым интересом и вниманием, которые свойственны человеку, много думающему о своем невыдуманном герое и чувствующему "себя даже в некоторой степени ответственным за его судьбу. Говорят, мы любим тех, кому делаем добро. Это справедливо. Падалко своим трудом давал мне возможность в добром свете представлять его читателям. И я, в свою очередь, мог рассчитывать на его естественное расположение. Наше доброжелательство было обоюдным. — Снова к нам? — спросил Николай Михайлович. — Приходится, если вы снова проделали у себя такую техническую революцию, — сказал я. — Что говорить — большое дело. Не отдельные агрегаты, а по сути дела все основные технологические линии в корне перестроили, — заметил Падалко. — И долго вы будете все перестраивать, Николай Михайлович? Падалко на мгновение задумался, усмехнулся и произнес почему-то с легким вздохом: — Да, наверное, всю жизнь. Завод — он всегда в движении. "Всегда в движении…". Это было сказано не только верно, но и с тем обобщающим смыслом, который целиком отвечает характеру происходящей ныне научно-технической революции. Я спросил, что же делал сам Падалко в период реконструкции. Знал: он работал все время мастером на линии, но мне было интересно узнать, каков его личный вклад в перестройку цеха. — Разное приходилось делать, — ответил Николай Михайлович. — А все-таки? — Он вибраторы ставил, — подсказал Новиков. — Да, правильно, Петя, — подхватил Падалко. — Интересной была работа по установке новых вибраторов на станах наружной сварки. Ну, и немного был на буровзрывных работах, вот с Петей вместе, — добавил. — Своего участка я не оставлял. Тогда прямая была заинтересованность взрывать и ничего не повредить. Наше ведь хозяйство, — заключил Падалко. Должно быть, эта мысль об ответственности за весь цех по ассоциации напомнила в ту минуту Николаю Михайловичу и о других важных заботах. — Хотите знать, что мучило нас, особенно в период пятидесяти дней? — вдруг спросил он меня. — Что же? — Поставка оборудования. Заводы-поставщики опаздывали. Мы ждали, нервничали. А сейчас беспокоит не оборудование, а перебои со снабжением металлом. Вот какая история! Обидно бывает, — продолжал Падалко, глядя на Новикова и взглядом как бы призывая Петра Федоровича подтвердить правильность его слов. — Только наладим часовой график и вдруг — бац! — нет стальных листов, остановка линии. — А нормативный запас на заводе? — Должен быть по приказу министра, но его нет. Нам металл поставляют и Урал, и Украина, Сибирь, Центр страны. А все же часто работаем буквально "с колес". Хватаем то, что только привезли. В таких условиях трудно заранее планировать производство. Я подумал тогда, что мастер Падалко говорил сейчас так, как мог бы говорить директор Осадчий или Игорь Михайлович Усачев, который со Среднего Урала теперь переехал в Азербайджан, где директорствует на крупном Сумгаитском трубопрокатном заводе имени Ленина. Но, чует мое сердце, еще вернется в Челябинск. Конечно, их отличала разная мера ответственности, в соответствии с должностями, но каждый определял ее на своем месте для себя как заводчанин, как коммунист. Я бы мог вспомнить, что мастер Падалко, Герой Социалистического Труда, не раз выступал на крупных совещаниях как раз по вопросам снабжения металлом, был полномочным представителем заводской общественности. И уж для меня во всяком случае не выглядел чем-то необычным характер его государственного мышления. — Я горжусь тем, что называюсь рабочим, — как-то сказал он мне. — Это такое чувство — особое. Отец был рабочим всю жизнь. Семья — рабочая косточка. Причем я вам скажу: не в должности дело, а в том, как ты ее себе представляешь. Да, это верно! Николая Падалко хорошо знают ученики средних школ района, примыкающего к заводу. Он для них желанный и частый гость. Встречаясь с ребятами, Падалко рассказывает о заводе, о профессии трубопрокатчиков, в которой так много интересного и романтического. Товарищи по цеху иногда шутят, что Падалко сам себя нагрузил "кадровыми вопросами". Подготавливает будущую смену еще в школе. Сам командировал себя туда, где формируются в юношеском сознании изначальные представления о добре и цели жизни. Вот и теперь я остро почувствовал в словах Падалко боль и чувство настоящего хозяина своего цеха, рачительного и требовательного, для которого его обязанности перед заводом, перед товарищами не менее, если не более, важны, чем права, которыми он, тоже с сознанием долга и ответственности, умел хорошо пользоваться. Предчувствуя, что мое замечание должно понравиться Падалко, и вместе с тем совершенно искренне я посетовал на то, что прирост продукции на полмиллиона тонн в хорошо знакомом мне трубоэлектросварочном вначале не так-то легко было определить, так сказать, в его реальных очертаниях и металлической плоти. Новое здесь как бы вдвинуто, впрессовано, органически вошло в привычные контуры старого. — Верно, — согласился Падалко, — тут глаз нужен наметанный. Но ведь это и в жизни так, и с людьми тоже. — Что именно? — Да не просто отделить новое от старого. Человек живет, меняется, что-то в нем прирастает, что-то отпадает. Но до поры до времени все переплетено, перепутано и не сразу распутывается. — Не сразу. Однако согласитесь, Николай Михайлович, ведь есть новое, которое можно рельефно выделить, прощупать его на пальцах. Вот, скажем, на заводе бурный рост рабочей инициативы, связанный с реконструкцией, несомненен. И завод в целом, если можно здесь применить спортивную терминологию, "сильно прибавил" не только в объемах производства, но и в классе работы, в качестве. — Прибавил, точно. Вы замечаете, и мы чувствуем это, как говорите, на пальцах. Наши товарищи отчитывались об этом на слете победителей соревнования. Я знал, в числе лучших людей завода Николай Михайлович должен был ехать на этот слет в Магнитогорск. — Совпало с отпуском, и я не поехал. И знаете, очень жалею, — сказал он. — Поездки, они вообще расширяют кругозор, не только писателям полезны, но и нашему брату — рабочему. Можно многое сравнить, сопоставить. Я вам так скажу: становишься умнее. А ведь нам надо далеко смотреть вперед. Вы наши планы знаете, они не на год и не на два. И эту пятилетку захватим, и всю следующую — десятую.День металлурга
Это он только так скромно называется в календаре — "день". Красное число — 15 июля, над ним силуэты горновых на фоне огненного зарева, а на первом плане — фигура сталевара в кепке с защитным козырьком. Я смотрю на листок календаря, и этот условный рису-ной перерастает для меня в иной символ, в многослойное и многокрасочное ощущение дня, который вобрал в себя целый год, дня, когда был подбит итог всего сработанного за год напряженным трудом огромной армии металлургов. Прилагательное "огромный" лишено сейчас для меня оттенка гиперболы, хотя относится не ко всей стране, а только к одной ее области, одному ее "горячему цеху". Я не очень-то люблю приводить цифры, порою они затушевывают внутреннюю сложность и противоречивость явлений, но, назвав область "горячим цехом", не могу не подкрепить этот образ точным свидетельством: заводы здесь дают тридцать процентов общесоюзного производства высоколегированного металла, более семнадцати процентов стали и проката, пятую часть стальных труб, около одной трети метизов. Выплавка стали на заводах области в семьдесят третьем году достигла уровня, заплани-рованного на конец девятой пятилетки. И в центре этой битвы за металл флагманом черной металлургии области выступает Магнитка. 12 июля вечером из Челябинска в Магнитогорск отправился специальный поезд с участниками слета. Делегаты съезжались в Магнитку, чтобы отметить здесь традиционный праздник — День металлурга. Гости-литераторы тоже были внесены в списки участников слета, но выехали из Челябинска, Златоуста, Аши на несколько дней раньше. В то теплое утро, когда наш поезд мерил километры зеленовато-желтого степного простора, когда на горизонте стали появляться первые строения славного города и постепенно поднималась в небо мощная корона домен, сплетенных толстыми венками трубопроводов, я думал о тех металлургах, трубопрокатчиках разных заводов области, которые через несколько дней будут вот так же из окон поезда смотреть на эстакады, мосты, рудные выработки и многокилометровые "коробки" мартенов с густо коптящими сигарами труб. Валентин Крючков еще в Челябинске показал мне список делегатов от трубопрокатного. Некоторых я знал, иные фамилии слышал впервые. В том же поезде должны были приехать Осадчий и еще два директора крупнейших металлургических предприятий Челябинска — Владимир Николаевич Гусаров и Николай Алексеевич Тулин. Кто-то из наших товарищей очень метко заметил однажды, что Осадчий, Гусаров и Тулин — маршалы промышленности. Руководители могучих предприятий не только по масштабам своего "горячего цеха", но и всей страны, они призваны быть людьми подлинно стратегического мышления, с обостренным чувством глубокой перспективы в развитии своих заводов. Большая программа слета начала осуществляться еще в пятницу утром, когда поезд с делегатами подошел к перрону вокзала. В потоке впечатлений трудно было выделить самое яркое, решить, чему же отдать предпочтение. Все было значительно и интересно. Осмотр ли доменного цеха комбината — этих печей, стоящих в одной внушительной и поражающей мощью шеренге, которую при некоторой доле воображения можно рассматривать как своего рода гигантскую диаграмму развития доменного дела в стране. Печи тут с паспортами всех девяти пятилеток и свидетельствуют о различных технических уровнях, объемах, наконец, об индустриальном росте страны. Почти каждые полчаса то на одной, то на другой печи происходит выпуск чугуна, и сравнение с непрерывным огненным потоком лишено здесь какого-либо образного преувеличения. Запомнилось большое театрализованное представление на городском стадионе, посвященное слету и празднику металлургов. Было довольно сумрачно, дело шло к вечеру, время от времени накрапывал дождь, но непогоду, как кто-то заметил, разрядили торжественность обстановки, звуки фанфар, взлетающие в воздух шары, ракеты, да и приподнятое настроение тех, кто пришел на стадион, чтобы посмотреть на парад победителей социалистического соревнования, волнующую церемонию сдачи трудовых рапортов и посвящения парней и девушек, воспитанников ремесленных училищ, в рабочий класс. Но кульминационным моментом праздника стало само торжественное заседание в помещении городского театра. Здесь подводили итоги, давали оценку не только месяцам труда на всех заводах, но и горячим часам этих дней на самой Магнитке. Ибо в канун заседания делегаты слета провели в ее цехах немало времени: доменщики — у доменщиков, мартеновцы — у мартеновцев, прокатчики у прокатчиков. Шел наглядный обмен опытом. Наибольшее внимание привлекла мартеновская печь № 13 и ее хозяин Юрий Степанович Карташев — инициатор Всесоюзного соревнования металлургов за максимальное производство стали на каждом агрегате и победитель этого соревнования. Он составил бригаду из гостей, победителей соревнования на своих заводах, куда вошли два челябинских сталевара Владимир Абдаладзе и Мусса Рафиков с трубопрокатного, златоустовец Иван Исаев, уфалеец Николай Фокин, ашинский сталевар Азарий Шатунов. Плавка дружбы, как венец соревнования, проходила во втором мартеновском цехе на огромной девятисоттонной двухванной печи. Эта плавка подтвердила давно созревшее у меня убеждение, что обмен профессиональными открытиями, которые приходят к рабочему человеку вместе с опытом и годами, — одна из драгоценных черт соревнования. То, что рабочие делятся ими открыто, искренне, от души, само это стремление поделиться всем, чтобы возвысить товарища в профессиональном мастерстве и тем самым нравственно возвыситься самому, — великодушие этого дара принадлежит, мне думается, к одним из самых значительных нравственных и социальных достижений в среде советского рабочего класса. …В большом вестибюле театра собрались те, кто представлял собою гвардию металлургов. Все делегаты празднично одеты, с орденами, медалями. То там, то здесь блеснет на лацкане пиджака Золотая Звезда Героя. Теперь, когда в начале четвертого, определяющего года пятилетки учреждены ордена Трудовой славы, так живо напоминающие боевые ордена Славы, которыми награждались солдаты в Великую Отечественную войну, становятся еще более осязаемыми общие нравственные истоки героизма военного и трудового, то значение, которое придает страна каждодневному, упорному и ныне поистине боевому труду советского рабочего класса. Я увидел в вестибюле театра Осадчего, Гусарова, Тулина… Помнится, к Гусарову на Челябинский электрометаллургический мы поехали сразу от Осадчего. Едва машина миновала ворота проходной, где образовалась пробка от самосвалов, едва справа и слева от главной заводской магистрали появились большие цехи, на нас повеяло ощущением индустриальной мощи. Оно охватывает всякого на трубопрокатном и еще более усиливается в "хозяйстве" Тулина, площадь которого так велика, что тут уж исчезает даже представление об обычной замкнутости внутризаводского пространства. От цеха к цеху ходить пешком далеко. Едешь в автобусе по заводу, как по городу, у которого широкие улицы, серые громады зданий, обширные площади. Укрупнение заводов мне представляется своего рода знамением времени. Не серия мелких или средних предприятий в разных местах, а тенденция к созданию базовых заводов с определенной специализацией, с концентрацией больших мощностей… Мы говорили тогда с Владимиром Николаевичем Гусаровым, главным инженером Степаном Евгеньевичем Пигасовым о путях развития завода, о зарождении именно здесь, в Челябинске, всей ферросплавной промышленности страны. Гусаров производил приятное впечатление. Обаяние его духовной силы, казалось, нашло свой отпечаток и в крупной его фигуре, и в очертаниях большой, наголо обритой головы. Он излучал радушие, улыбка почти не гасла на его лице. Конечно, это были впечатления самые первые. Но и они прочно вписывались в тот образ сильного и умного человека, много поработавшего и повидавшего на своем веку, который проглядывался за главами его скромной и деловой книги — "Родина советских ферросплавов". Гусаров такой же высокоуважаемый человек в городе, как и Осадчий. Оба они Герои Социалистического Труда, лауреаты Ленинской премии, почетные граждане Челябинска. Много общего в их судьбах, даже в общих встречах с Калининым, Орджоникидзе, Тевосяном, и встречи эти уже сами по себе как бы соотносят их с людьми одного поколения. Влюбленность же в свои заводы, хозяйственная взыскательность и активный заводской патриотизм, о котором, как и Осадчий, много говорил Гусаров, — все это, если еще не схожие черты стиля их работы, то питательная основа для его формирования. Активная роль и Осадчего, и Гусарова в решении проблем научно-технической революции, Ленинские премии, полученные ими, говорили мне еще и о том, что творческая динамичность — понятие, отнюдь не возрастное. Наблюдение это подтвердилось знакомством с самым молодым из трех директоров — Николаем Алексеевичем Тулиным. Если и существует некая незримая психологическая преграда, которая встает между людьми разных поколений, то она, безусловно, снимается, когда ты встречаешься со своим сверстником, человеком твоего, военного поколения, если даже он директор завода, выплавляющего едва ли не половину всей нержавеющей стали в стране. Высокий, статный, с большими руками рабочего и спокойным лицом человека, которому всегда есть о чем подумать, но который старается при этом не казаться слишком озабоченным и погруженным в себя, Тулин, как и Гусаров, Осадчий, принимал нас в своем кабинете. Часто поправляя очки, слегка и приятно заикаясь, рассказывал о заводе, который может гордиться своими мощностями, своей высококачественной сталью, получающей самое разнообразное применение в промышленности страны. Ему около пятидесяти, воевал, был офицером, с гордостью носит свои орденские планки. Он кандидат наук и к руководству заводом пришел от науки, уже одно это придает его облику нечто очень современное, перспективное. В вестибюле театра в Магнитогорске они все трое стояли рядом, беседуя с новым директором Магнитки — Дмитрием Прохоровичем Галкиным. В прошлом главный инженер комбината, Галкин заменил недавно умершего директора Андрея Дмитриевича Филатова, еще раз подтвердив ту закономерность, что человек, приобретший большой опыт в техническом руководстве заводом, определяющий глубокие перспективы развития предприятия, как правило, оказывается на посту, где проблемы научно-технической революции надо сочетать с умением хозяйничать по-государственному и по-партийному. Директора Магнитки. Я уже видел большой ряд портретов в зале Магнитогорского Дворца культуры, славную когорту крупнейших командиров черной металлургии. Почти все они были удостоены самых высоких отличий и званий, а имя Григория Ивановича Носова в среде металлургов стало легендарным. И невольно думалось: их судьбы, особенности каждого, преломленно отражающие особенности разных периодов развития нашей промышленности, их высокое деловое горение, их победы и поражения — какой это интересный материал для серьезного исследователя истории нашей ныне уже без преувеличения можно сказать великой индустрии. …Я ходил по вестибюлю, разыскивая знакомых, и, как ожидал, увидел трубопрокатчиков, нос к носу столкнувшись с Валентином Ионовичем Крючковым. Утром в местной газете был помещен групповой снимок — встреча трубопрокатчиков на вокзале. Рядом со сталеваром Рафиковым и вальцовщиком Дружининым, Героем Социалистического Труда, стоял широко улыбающийся Валентин Крючков. И не только знакомая мне, заражающая жизнерадостностью улыбка, но и энергичное его воодушевление, заметное даже на фото, как бы говорили о том, что председатель завкома трубопрокатного не только руководитель, но и душа делегации. В шумном вестибюле перед началом слета и затем в затихшем зале театра, слушая вместе с делегатами доклад первого секретаря обкома М. Г. Воропаева, я не мог отделаться от волновавшего меня ощущения не только своей сопричастности к важному и большому делу, но и к давней славной, реально проявившей себя в литературе традиции. Я имею в виду писателей, которые начиная с тридцатых годов бывали здесь и много, ярко, талантливо писали о Магнитке. Я ощущал как бы незримое присутствие в этом зале тех, кто в разные периоды неравнодушными глазами смотрел на людей Магнитогорска, как художник и очевидец замечательных событий. Здесь их не забыли. Я привез с собой книгу "Магнитка" — краткий очерк истории завода и города, и примечательно, что в этой исторической хронике, в ряду важных событий то и дело появляются упоминания о писателях, чье перо послужило славе Магнитогорска. Когда утром 13 июля мы приехали в Магнитку, большое солнце, встающее над степью, отражалось бликами в стеклах вагонов, в окнах вокзала. Нас встречали на перроне друзья с букетами цветов, с фотоаппаратами в руках. А затем в местной газете появился большой снимок. Среди гостей и хозяев, партийных работников, местных писателей стоял Борис Александрович Ручьев, Почетный гражданин Магнитогорска, чьи стихи и поэмы стали памятником истории завода и города, их патетической и лирической летописью. Очевидец и участник давних дней строительства, он не только запечатлел героическое время в своих книгах, но и оставил нетленными строки, высеченные на гранитных, бетонных обелисках и постаментах.Люди и трубы
После окончания слета я снова приехал в Челябинск. Захотелось еще некоторое время побыть на заводе одному, никуда не торопясь, походить по любимому трубоэлектросварочному, и, как я любил в былое время, послушать ровное и мощное дыхание цеха, постоять в раздумье где-нибудь на одном из "капитанских мостиков", перекинутых над станами. Я ходил в те дни по цеху, с огорчением наблюдая, как останавливались станы из-за перебоев с поставкой металла, и думал о своей точке зрения на эту проблему, совпадающую с той, что высказывали на заводе почти все — и мастер Падалко, и инженеры Новиков, Телешов, и директор Осадчий. Яков Павлович написал в связи с этой и другими трудными проблемами развития завода и реконструкции статью в "Правду". Она называлась "Реконструкция: с каждого спрос особый" и была опубликована несколькими месяцами позже, в ноябре семьдесят третьего. Читая статью уже в Москве, я обратил внимание, что многие замечания Осадчего не текстуально, конечно, а по сути своей живо перекликались с тем, что на своем участке с искренней досадой и горечью говорил мне Николай Михайлович Падалко. Осадчий писал в "Правде", имея в виду вторую половину семьдесят третьего года: "Перебои с поставками металла стали хроническими. Коллектив гордится тем, что удалось добиться высокой ритмичности производства, что в цехах действуют часовые графики, а теперь эти завоевания оказались под угрозой. Внеплановые переходы с одного размера труб на другой, частые остановки крупнейших станов — "1220" и "820" привели к тому, что с начала года потеряно более тридцати тысяч тонн продукции. Мы считаем такое положение совершенно недопустимым. Возможно, следовало бы увеличить размер санкций за срыв кооперированных поставок до такой степени, чтобы они покрывали все убытки потребителей. Повышение взаимной ответственности поможет поднять дисциплину, обеспечить более четкую работу всех звеньев хозяйственного механизма…" Мне думается, это совершенно справедливые требования, и их вправе предъявить такой завод, как Челябинский трубопрокатный, который уже давно и успешно работает по новой экономической системе. Ведь за восемь лет трубопрокатчики увеличили производство почти на миллион тонн, а это равносильно сооружению нового крупного трубного завода. Миллион тонн! Увеличение производительности более чем в полтора раза. И без нового капитального строительства, без увеличения числа рабочих, на тех же площадях. Разве это не удивительно и замечательно, разве это не относится к лучшим и зримым чертам технического и социального облика девятой пятилетки? Реконструкция всех цехов стоила немногим более 25 миллионов рублей. Строительство же нового завода с производительностью в 1 миллион тонн труб в год обошлось бы в шесть — восемь раз дороже. При этом на завод пришлось бы принять не одну тысячу рабочих, построить для них жилье, детские, медицинские учреждения, спортивные комплексы. Вот реальная цена инициативы челябинских трубопрокатчиков! Мы часто говорим о себе, что некоторые наши недостатки являются продолжением наших достоинств. И то, что верно в отношении людей, иногда становится реальностью и для заводов. Недостатки, трудные ситуации, возникающие здесь, часто по справедливости объясняются трудностями роста. Перебои с металлом не были ни для кого новостью на трубопрокатном. Такое случалось и раньше. И подобное положение самым отрицательным образом сказывалось на ритмичной работе. Но все особенно остро познается в сравнении. Конфликт между недостатками промышленной кооперации и высоким техническим уровнем передовых заводов стал в наши дни особенно резок и нагляден. Есть вещи несовместимые и взаимно исключающие друг друга. И именно потому, что они несовместимые, а таких заводов, как Челябинский трубный, становится все больше, повышенные требования к порядку и ритмичности работы постепенно ликвидируют изъяны снабженческой неразберихи. Да, новые требования должны подтянуть и обязательно со временем подтянут весь механизм кооперации в промышленности и снабжении на новый уровень. Я слышал выступление Осадчего на партийно-хозяйственном активе завода. Он говорил о перспективах ближайших и дальних, больших и увлекательных. Яков Павлович не заглядывал в бумажку, выступая, смотрел в зал, в лица слушавших его людей. То, что волнует оратора, может взволновать и аудиторию. По содержанию начало речи Якова Павловича походило немного на лекцию, однако члены актива слушали ее внимательно, следуя за оратором в его мысленном броске вперед. — …Трубопровод! Многие ли знают, что себестоимость его в три раза ниже, чем перевозки по железной дороге, в два раза дешевле, чем перевозки по воде. По трубам уже перекачивают воду, горючие сланцы, спирт, патоку, расплавленную серу, жидкие удобрения, даже живую рыбу и молоко. И мелкоизмельченный уголь и озерный ил в пульпе тоже идет по трубопроводам. Мы не имели бы без них гигантских плотин наших электростанций. Оратор вдруг вспомнил историю — сравнительно недавнюю, а вместе с тем уже такую далекую. Вспомнил Д. И. Менделеева, который в 1907 году был инициатором строительства первого керосинопровода между Баку и Батуми. Тогда самого мощного в мире. А ныне, через шестьдесят семь лет, сеть трубопроводов опоясала земной шар. Любому очевидны их удивительные преимущества — ни вагонов, ни цистерн, ни простоев, ни порожних рейсов. Поток грузов в трубе движется, как бы "толкая" сам себя. Создайте лишь небольшой уклон или перепад давления при входе и выходе — и все! Это сегодняшний день. А завтрашний? Дайте трубу очень большого диаметра, и ее можно рассматривать как судоходную артерию. А суда — это капсулы из синтетических пленок или алюминия, заполненные зерном или химикалиями. Они смогут плавать в потоке нефти или любой другой жидкости даже быстрее самого несущего их потока. — А пассажиры? — выкрикнул кто-то из зала. — И пассажиры, — ответил Осадчий. — Вагон в трубопроводе сможет перемещаться с помощью электромагнита или за счет отсасывания воздуха из пространства перед вагоном и нагнетания его в пространство за вагоном. Такие дороги совершенно безопасны в любое время года, в любую погоду. Исключаются крушения, столкновения поездов. Станет обыденным трубопроводное метро, международные, межконтинентальные трубопроводные дороги. …Ну вот, на этом, казалось бы, и можно поставить точку в документальном повествовании о людях Челябинского трубопрокатного. Но точку мне ставить не хочется. Скорее всего, здесь уместно многоточие. Когда в пятьдесят шестом я впервые попал на завод, мог ли я тогда предположить, что дружба моя с заводом продлится столько лет, и в моих блокнотах начнет откладываться такая история человеческих судеб, характеров, конфликтов и свершений, которую трудно оборвать на каком-либо эпизоде или факте, а захочется продолжать и продолжать с нарастающим интересом ко все новым этапам напряженной летописи дней и дел. Я как-то сидел в комнате у старшего диспетчера поздно вечером, когда здание заводоуправления уже опустело. Диспетчер в тишине готовил сводку по заводу за день, чтобы ночью передать ее в Москву. Прямо перед ним загорались красные точки селектора, слева мерцало светящееся табло, справа постукивал телетайп. — К утру у министра, — сказал мне диспетчер, — должна лежать на столе сводка, как сработала вся металлургия страны за сутки. Как обычно готовилась шифровка для телетайпа — колонка условных обозначений, которые пойдут на вычислительную машину. Но прежде мой собеседник несколько раз звонил в Москву, сообщая о себе коротко: "Челябинск, трубопрокатный!" Я давно уже собираю газетные вырезки, имеющие отношение к заводу и к тем трассам трубопроводов, которые составлялись и составляются из труб Челябинского завода. Утром этого дня я как раз перечитал напечатанный в "Правде" несколько лет назад репортаж со строительства газопровода, прокладывавшегося от Надыма в Тюменской области до города Торжка в промышленном центре России. Длина новой голубой дороги — 2460 километров. Я напомнил об этой трассе диспетчеру. — Там укладывались трубы диаметром в 1220 милли-метров. Наши! — не скрывая гордости, произнес он. — Этот трубопровод, в свое время поэтически названный "Сияние Севера", мы считаем целиком своим, — и улыбнулся мне, должно быть, от полноты чувств. — И правильно считаете, — сказал я. — Но "Сияние Севера" — это ведь только начало, — заметил диспетчер. — Вы, конечно, знаете, что сейчас заканчивается другое грандиозное строительство — магистрали, названной "Сибирь — Москва". — Тоже ваша? — Вот именно, — подтвердил диспетчер. Новая магистраль длиной в 3000 километров, сообщение о которой появилось в "Правде" летом четвертого, определяющего года пятилетки, начинается с месторождения Медвежье на том же севере Тюменской области. Недавно я побывал там и видел истоки газовой реки, начало грандиозного газопровода. При полном развитии этой магистрали производительность трубопроводов будет эквивалентна электростанциям общей мощностью в семь миллионов киловатт. А Красноярская ГЭС имеет мощность шесть миллионов киловатт. Сравнение, думается, весьма красноречиво. Уже в этом году к тюменским потокам подключится действующая магистраль "Сияние Севера" и таким образом в центре страны потекут две мощные реки голубого топлива. Мне снова вспомнился доклад Осадчего на партийнохозяйственном активе. То, о чем в полете своей мечты говорил Яков Павлович, реально и уже близко. Трубная индустрия растет с каждым годом, становясь все нужнее стране, все важнее для народного хозяйства. Она — в восхождении. Кто в наши дни может переоценить значение топлива, нефти и газа? Помня об этом, не преувеличим, если скажем, что в трубах, изготовленных на Челябинском трубопрокатном, поистине бьется в наши дни пульс мировой истории. Пока диспетчер работал у телетайпа, я еще раз перечитал статью "Правды" об одной из самых важных пусковых строек газовой индустрии в девятой пятилетке. Мне казалось, что отсветы "Сияния Севера" и рабочий гул на трассе магистрали "Сибирь — Москва" я как бы слышу здесь, в комнате диспетчерской. Они пришли оттуда, с необозримых просторов Севера, из глубин тюменского края, где сейчас сама жизнь ставит перед трубопрокатчиками страны новые задачи. Отойдя от телетайпа, диспетчер облегченно вздохнул, распрямляя уставшие плечи, и открыл окно. В комнату ворвался воздух — свежий, приятный, и, как всегда здесь, вблизи цехов, остро пахнущий дымком. Теперь стало явственнее слышно, как в ночи спокойно дышит завод. Чувствовалось что-то удивительно сильное, мощное и уверенное в его глубоком дыхании, в ритме его работы. Лишь иногда сквозь ровный гул прорывались резкие свистки маневровых паровозиков или шумел прорвавшийся поток стали, переливающейся в ковши мартеновского цеха. Тогда резкими багряными всполохами празднично озарялся весь небосклон, кромка дальнего леса и темный, пологий берег озера. Редактор Д. М. Хвостова Художник Л. Е. Безрученков Художественный редактор А. П. Ерасов Технический редактор Г. Г. Гаврилова Сдано в набор 25/Х1 1974 г. Подп. в печать 20/У 1975 г. А03421. Формат 70Х108 1/32. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 12,60. Уч. — изд. л. 13,42. Тираж 65 000 экз. Заказ 816. Цена 57 коп. Издательство ВЦСПС Профиздат, Москва, ул. Кирова, 13. 1-я типография Профиздата, Москва, Крутицкий вал, 18.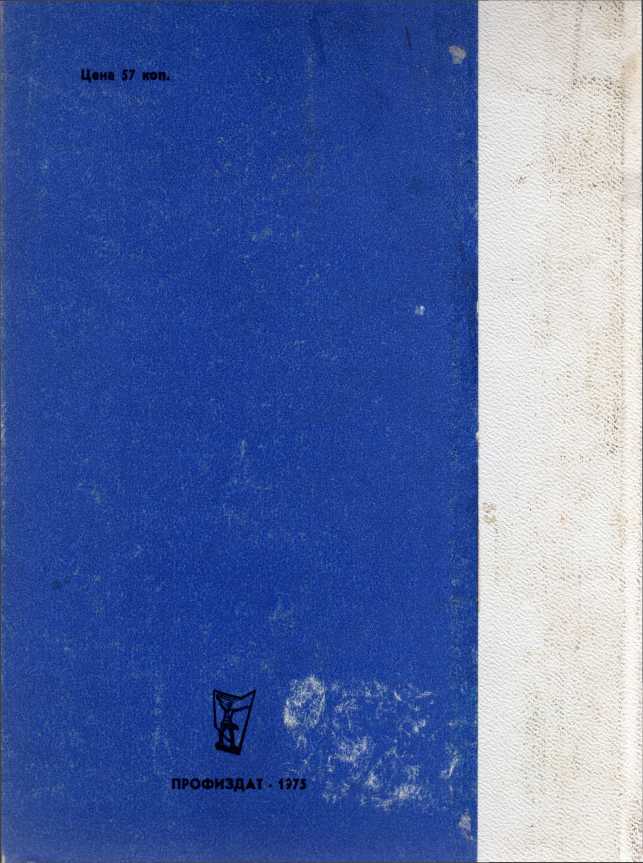
Последние комментарии
2 часов 39 минут назад
2 часов 42 минут назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 16 часов назад