Морские ворота [Буало-Нарсежак] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
БУАЛО-НАРСЕЖАК



Морские ворота
Глава 1
— Остановись здесь, — сказал Севр, — иначе я не смогу выйти. Шквальный ветер раскачивал старенький «ситроен». Фары освещали желтоватым светом фасад дома, который казался сотканным из движущихся теней и водяной пыли. Мари-Лора схватила Севра за руку. — Пожалуйста, Жорж. Ну поехали со мной!.. Севр приподнял за ручки сумку с продуктами, стоявшую у него между ног. — Они тебя тут же отпустят, — продолжала она. — Подумай, как ты станешь жить дальше? Голос Мари-Лоры дрожал. Когда Севр открыл дверцу, ветер чуть было не вырвал ее из его рук. Косой дождь ударил по лицу крупной дробью и застучал по куртке. Вода уже стекала с носа, слепила глаза. Он схватил сумку, забившуюся в руках, как кролик, которого схватили за уши, и захлопнул дверцу машины. Его сестра, согнувшись на сиденье, что-то кричала, но он уже ничего не слышал. Она опустила стекло и вытянула руку. Он узнал электрический фонарик, который забыл в «бардачке». Мари-Лора пристально смотрела на него, но ветровое стекло запотело и скрывало ее облик за серой пеленой. Мари-Лора что-то шептала. Ее губы медленно шевелились, будто она обращалась к глухому. Он различил: «До четверга!» — кивнул в знак того, что понял ее, и, чтобы наконец распрощаться, махнул свободной рукой. Так прогоняют верного пса, который никак не отстает. Машина тронулась и сразу, словно корабль, попала в водоворот бури, зарылась носом, закачалась из стороны в сторону. Севр сделал пару шагов. Может, еще не поздно... Она отвезет его в жандармерию, он скажет правду... Красные габаритные огни то исчезали, заслоненные дождевыми вихрями, то возникали вновь... Он вдруг подумал, что Мари-Лора остановилась... Но нет... В темноте еще раз вспыхнули две яркие точки, похожие на глаза кошки, высматривающей добычу, и он остался один. Темень была такая, что и вытянутой руки не разглядеть. Он обернулся, и струи дождя ударили ему прямо в лицо. Казалось, само пространство пришло в движение, оно со свистом проносилось мимо, сгибало его как деревце, рылось своими ветряными пальцами в плотных складках одежды, добираясь до самого нутра. Морские волны беспрерывно накатывались на берег и разбивались у его ног. Задыхаясь, согнувшись пополам, он повернул налево к едва различимому крытому входу, походившему на спасительный ковчег, заполненный звуками и отголосками. Луч фонаря выхватывал из темноты носки сапог, иглы дождя и, наконец, бетонную дорожку. Вскоре он достиг укрытия и в изнеможении оперся рукой о камень. Здесь был слышен лишь шепот ручьев да мягкий шелест воды, стекающей по кровле. Еще оглушенный шумом бури, он расстегнул куртку окоченевшими пальцами, нашел ключи, медленно двинулся вперед, прокладывая себе дорогу фонарем, как слепой — тростью, повернул направо, прошел вдоль гаражей, добрался до двери, но ему никак не удавалось вставить плоский ключ в сложный замок. Его охватила злость на самого себя, на Мерибеля, лежащего там, рядом с креслом, на все, что обрушилось на него за эти несколько часов... Столько бед, а тут еще этот ключ, когда силы и так на исходе. Наконец ключ повиновался. За дверью оказался роскошный холл. Луч фонаря осветил мраморную отделку, лифт, украшенный позолотой. Севр закрыл дверь и запер ее, чтобы наверняка отгородиться от угрозы, таившейся в ночи. Завтра... завтра он включит рубильник. Он сможет пользоваться лифтом, шуметь. Он начнет обустраивать свою новую жизнь. А сейчас нужно спать. Он замер в нерешительности перед лестницей, на которой блестел, как новый, красный ковер. С мокрой одежды падали капли, он наследит повсюду. Ну и пусть! Он один, здесь долго никто не появится. Он прислушался. Сквозь тишину доносился гул бури, но она осталась далеко, очень далеко, как та неизвестная страна, по которой он бродил во сне. Здесь же его ожидал благоговейный прием: вещи словно наблюдали за ним, не узнавая. Он начал подниматься по лестнице, нежно поглаживая перила; он сам здесь все рассчитал, продумал, выстроил: ограду, сад, бассейн, солнечное освещение, весь этот дом с видом с одной стороны на равнину и на море — с другой. Он был хозяином этого огромного здания, которое внимательно наблюдало, как его грязные сапоги шагали от одной лестничной площадки к другой. Когда он вошел в квартиру, отделанную декоратором, приглашенным из Парижа, а теперь ставшую немым свидетелем его состояния, ему стало стыдно, и он не решился освещать большое зеркало в передней, чтобы не видеть человека, одетого в костюм для охоты на болотах — куртка на меху, черная от дождя и жесткая, как толь, брезентовые брюки, заправленные в высокие порыжевшие сапоги; на левом сапоге у лодыжки виднелась круглая заплата, наподобие той, что ставят на прохудившуюся шину. Он прошел на кухню, пристроил фонарь на столе, прислонив его к стене. Он чувствовал себя неловко в этой образцовой, сверкающей чистотой, чуть ли не фантастической кухне, как бы сошедшей со страниц рекламного проспекта. Он осторожно сел на стул с резной спинкой, принялся снимать сапоги, безуспешно пытаясь отогнать мысль о том, что в этих комнатах, обставленных с таким изяществом, все было не практично, не удобно. Он ошибся, задумав проект этого дома, ошибся, закончив его строительство, пренебрегая мнением друзей, ошибся, ошибся... Он все время совершал ошибки. И вот теперь... Босиком он подошел к крану, чтобы попить, но воды не было. Его окружал враждебный мир. Он начал замерзать. Что сказала Мари-Лора? «Ты сумасшедший!» Он и впрямь сумасшедший. Только сумасшедший мог убежать в такую неистовую ночь, чтобы укрыться... от кого?.. от чего?.. Он не знал, но ему еще слышался ружейный выстрел, от которого задрожали стены. Мерибель обрел покой. Он же теперь беглец. За ним будут гнаться, как за преступником. Он пошел в гостиную. Луч фонаря скользил по мебели, сделанной из светлого дерева, и он вспомнил слова составленного им же самим буклета: «Красивейший ансамбль на Берегу Любви в 500 метрах от Пириака. Вы покупаете простор и радость. Вы вкладываете капитал в счастье». Тогда он и не подозревал, что жульничал; впрочем, он и сейчас не до конца понимал это. Завтра... послезавтра у него будет время найти причины катастрофы. Но сначала спать. Он стащил с себя куртку, машинально вытащил все из карманов. Он настолько устал, что с трудом соображал, разглядывая трубку, кисет, зажигалку, бумажник — все эти предметы, к которым его пальцы не привыкли прикасаться. Они принадлежали Мерибелю. Обручальное кольцо... Ему пришлось снять обручальное кольцо Мерибеля и надеть ему свое. На его руке были часы Мерибеля. Труп Мерибеля стал его трупом. Кто назвал его сумасшедшим? Он мертвец. Если бы еще и заснуть мертвым сном! Он принялся искать спальню. Он забыл расположение комнат. Он снова очутился в передней и стал продвигаться на ощупь. Кажется, спальня выходила окнами на море. Он пошел, ориентируясь на шум волн. С этой стороны завывания ветра достигали такой высокой ноты, что он остановился у кровати, наклонив голову. Ему не привыкать к бурям на равнинах Лабриера, но такого он еще не видел. Разбушевавшаяся стихия как бы перекликалась с его собственной драмой, казалось, он сам и вызвал эту бурю каким-то таинственным способом. На широкой кровати с роскошным покрывалом не было ни белья, ни одеял. Почти призрачное ложе для соблазна посетителей, переходящих из комнаты в комнату, как в музее, ослепленных светом, яркой гармонией красок и мечтающих: «Вот бы здесь пожить!» Севр снял брюки и бросил их на кресло, обитое пушистым мягким бархатом, похожим на дорогой мех. Было довольно прохладно. Через плотно закрытые окна проникало дыхание моря, пахло тиной, мертвыми водорослями. Сырость оказалась хуже холода. Из-за нее ткань стала липкой, матрас — влажным. Покрывало липло к телу. Севр вытянулся на кровати, потушил фонарь, потер одну о другую заледеневшие ноги. Стояла непроглядная тьма. Тем не менее он закрыл глаза, чтобы остаться наедине со своей болью, понимая, что уснуть ему не удастся. Наверное, сейчас Мари-Лора звонит в жандармерию. Завтра разразится скандал. Все с удивлением узнают, что Жорж Севр покончил с собой, выстрелив из ружья в голову, а его зять, Филипп Мерибель, скрылся. Так ли это? Все гораздо сложнее... На самом деле совершил самоубийство Мерибель, а Севр, то есть он сам, быстро запутал следы, чтобы все подумали, что покойник... Разумеется, в это трудно поверить! А следователи неизбежно докопались бы до истины, и тогда его обвинили бы в убийстве Мерибеля. К счастью, он смог бы показать письмо, но... Ему не хотелось больше думать. Он слишком устал. Свернувшись калачиком под покрывалом, он пытался сохранить тепло, выжить, вопреки всему, поскольку надежда еще не покинула его. Его сковало оцепенение, он провалился в небытие. Шквал ветра обрушился на стену дома, капли дождя застучали по ставням, словно кто-то бросил горсть камешков. Он со стоном перевернулся... Дениза!.. В первый раз с тех пор, как надел траур, он не подумал перед сном о Денизе. Если бы она находилась рядом... Он снова задремал. И вдруг его сознание прояснилось, как это случается только ночью, словно озаренное неверным лунным светом. Он понял, что погиб: заболей он, и никто не придет на помощь, ведь все жители округи тщательно закрылись, забаррикадировались на зиму. В декабре владельцы домов не утруждали себя заботой о помещениях, даже тетушка Жосс не станет проветривать опустевшие до Пасхи квартиры. Он чувствовал себя более одиноко, чем потерпевший кораблекрушение и очутившийся на необитаемом острове, и еще более обездоленным! Мари-Лора сказала: «Четверг!» Но удастся ли ей ускользнуть от тех, кто станет задавать бесконечные вопросы? Какая находка для газетчиков эта женщина, плачущая по умершему брату, у которой муж скрывается от правосудия! А если бы полиции удалось разузнать правду, было бы еще хуже. Она стала бы вдовой человека, убитого ее собственным братом! Если же она не станет говорить, то ее примут за сообщницу. А если... Севр зажег фонарь, прислонился к стене. Нет! Это невозможно! Если бы у него хватило времени предвидеть последствия, он ко всему приготовился бы. Еще не поздно, стоит только снять телефонную трубку; он поднялся, вернулся в гостиную. Телефон стоял там, на низком столике, белый, как кости, которые находят на пляже, и такой же мертвый. Аппарат еще не подключили к сети. По сути, он был украшением, всего лишь одним из штрихов роскоши в элегантной комнате. Между Севром и остальным миром простирались бесконечные затопленные поля да ночь, исковерканная бедой. Он посмотрел на часы — до утра еще оставалось далеко, так далеко, что его охватила дрожь. А ведь ему нужно выдержать пять дней и пять ночей! Он устроился в кресле, прикрыв ноги курткой. А почему бы не написать прокурору? Ведь именно к нему обращаются в подобных случаях? Но где найти бумагу, карандаш, марки? Если бы он мог высказаться сейчас, пока еще не померкли мучающие его образы и мельчайшие подробности словно запечатлелись на пленке!.. Домик, например... справа камыши. Ветер, гуляя, раздвигал их, а на поверхности воды появилась рябь. «Ну и мерзкая погода, — ворчал Мерибель, — никогда такого не видывал!» Тогда все и началось. Вспомнить, что происходило раньше, невозможно. В противном случае придется без конца перебирать встречи, какими полна жизнь, события, которые напоминают железнодорожный узел — пути то разбегаются, то сплетаются в клубок. Какая стрелка на этих путях направила к нему Денизу? А Мерибеля? Почему Севр женился на Денизе? Почему Мари-Лора вышла замуж за Мерибеля? Нет, прокурору нужно знать лишь то, что началось после того, как Мерибель произнес: «Ну что, уходим?» Они одновременно посмотрели на серое небо, затем Мерибель, придерживая переломленный ствол ружья, наклонился, чтобы выбраться из болота, и они пошлепали по грязи. В это время вестник несчастья уже направился к небольшой старой ферме, но они этого не знали. Все случилось вчера вечером. Темнело. Время? Прокурор спросит точное время. Возможно, половина пятого. «Завтра поднимется этот чертов юго-западный ветер», — сказал еще Мерибель, когда они ступили на более твердую почву. Они были одни на всем болоте. Ферма находилась у дороги, ведущей в Ларош-Бернар, до нее оставалось еще с полчаса ходьбы. Нужно ли будет объяснять, почему Мерибель купил эту полуразвалившуюся хибару? Если прокурор не любит ни охоты, ни рыбалки, он никогда не поймет Мерибеля. Возможно, это и погубило беднягу Филиппа? Он не был ни высоким, ни сильным. То же самое можно сказать и о Севре. Но Филипп обладал какой-то чудовищной жизненной энергией. Он никогда не сидел на месте, его всегда обуревали новые идеи. Он отличался изысканным вкусом, свойственным состоятельным людям; эту хибару он преобразил собственными руками, так как умел делать все! Она превратилась в его крепость. Квартира в Нанте годилась для Мари-Лоры или для случайных клиентов, впрочем, он предпочитал принимать их в кафе. По возвращении из командировки его всегда ждал этот домик, ружья, удочки. Еще он обожал готовить. Он был гурманом и отыскивал разные необычные рецепты. Всем приходилось подстраиваться под его образ жизни. Даже Дениза и та ему уступала... Севр вытянул онемевшие ноги, устроился поудобнее. Со двора донесся какой-то грохот. Придется наверняка делать ремонт. Ну и пусть! Севра уже ничего не волновало. Не его вина, в конечном счете, что ветер ломал крышу. Не его вина, что Мерибель пустил себе пулю в лоб. Но в чем же его вина? В том, что он вовремя не раскрыл глаза пошире. Но и Дениза, такая рассудительная, тоже ни о чем не догадывалась. Еще одна деталь — возможно, не понятная прокурору. При разговоре с Севром он обязательно спросит: — Почему вы не присматривали за зятем? — Он был моим компаньоном. — Вот именно! Время от времени вам следовало вникать в суть дела. Вы допустили ошибку, предоставив полную свободу действий такому авантюристу. Дениза, наоборот, думала, что не следовало излишне ограничивать свободу Мерибеля. Севр привык не спорить с Денизой. И что потом? Его попросят рассказать о Денизе. Судьям, адвокатам захочется узнать, почему он на ней женился? Из-за денег? Из-за ее положения в обществе? Если он скажет, что любил ее, это вызовет улыбку. Когда вдовец говорит о любви, это звучит несерьезно! Севр встал. Куда он положил сумку с провизией? Мари-Лора, конечно, забыла положить аспирин. Она страшно торопилась. Он зажег фонарь и вернулся на кухню. Сумка стояла под столом. Он помнил, как они с Мари-Лорой собирали ее в спешке в последний момент, перед самым отъездом. Он выложил содержимое, выстроил банки с консервами, крабы, зеленый горошек... Что он будет делать с этим горошком без кастрюли, без огня? Сосиски, грибы, пачка печенья, конфитюр, бутылочка кетчупа... Они оба несомненно потеряли голову... Никаких лекарств. На самом дне лежала его электробритва. С этой провизией, которую невозможно использовать, ему предстояло продержаться пять дней. Смешно! У него разболелась голова. Возможно, что он простудился. Закурить бы! Есть, конечно, трубка покойника, но пока до этого он еще не дошел. По крайней мере, в данный момент. Было чуть больше пяти часов. Ветер не стихал. Севр выключил фонарь — надо беречь батарейки, продержаться будет не просто. До спальни он добирался на ощупь. Дождь хлестал по стенам, а с моря доносился непрерывный гул, напоминающий басы органа, от которого временами звенели стекла. Он снова лег, набросил на себя покрывало и куртку. Итак, на чем он остановился? А, он писал прокурору... Конечно, это бессмысленно, как и все остальное, но зато голова занята. Следовательно, все началось на обратном пути. Во дворе домика перед гаражом, где они ставили машины, красовалась машина красного цвета — «мустанг». — Не знаешь, чья это? — подозрительно спросил Мерибель: он не любил, когда к нему приезжали сюда и докучали делами. Подойдя ближе, они увидели номерной знак с арабской вязью и латинские буквы: «МА». — Машина из Марокко? Здесь? Мари-Лора покорно поджидала их, как всегда, с виноватым видом. — Он настоял, — прошептала она. — Я провела его в курительную комнату. — Что бы это могло значить? — проворчал Мерибель. — В такой час? Но ни тот, ни другой не испытывали никакого беспокойства. Севр даже вспомнил, что провел рукой по лицу и сказал: «Может, стоит побриться?» В его свидетельском показании все было важно. И, черт возьми, отчего скрывать желание выглядеть чистым, ухоженным, чтобы соответствовать тому образу, который люди заранее создают себе, готовясь к встрече с директором крупной фирмы, финансирующей местное строительство? Мерибель посмеивался над ним. «Ты похож на заведующего отделом в магазине». Но дело не в том. Дело в Денизе, он хотел ей нравиться. Ее уже не было в живых, но ему все равно хотелось ей нравиться. Говорить о ней спокойно невозможно. Он никогда не сможет им рассказать... Он и Дениза — все так не просто! Итак! Они вошли на кухню, прислонили ружья к высоким стенным часам. Мерибель не спеша приподнял крышку кастрюли, вдохнул пар: — Не забудь хорошенько посолить! Мари-Лора посмотрела на них — так похожих друг на друга в одинаковых охотничьих костюмах, в складках которых еще виднелись следы дождя. — Вам бы следовало переодеться, — заметила она. — Сразу видно, что не вы занимаетесь уборкой. Мерибель пожал плечами и толкнул дверь в курительную комнату. Они узнали его с первого взгляда — он не изменился, но стал элегантным, появилась какая-то уверенность в себе. — Здравствуйте, Севр. Раньше он говорил «мсье Севр». — Здравствуйте, Мерибель. В сером костюме, который делал его стройнее, он казался немного выше Мерибеля, хотя это была только видимость. Впрочем, он выглядел так, словно это он принимает своих арендаторов. — Сейчас не время отпусков, — ринулся в атаку Мерибель. Как ни странно, но Севру запомнилась каждая фраза, каждая реплика, сохранился в памяти каждый образ. В камине весело потрескивали поленья, от охотничьих курток шел пар, в комнате запахло влагой. — Я не в отпуске. Я специально приехал повидаться с вами... После того как вы меня... — У него чуть не вырвалось «выставили за дверь», но он вовремя спохватился. — После того как мы расстались, я провернул дельце в Марокко... Оно на мази. Там на месте можно проворачивать дела... естественно, при условии, что будешь соблюдать правила игры... Но ведь вы все знаете не хуже меня. Правда, Мерибель? Он произнес эти слова таким тоном, что они оба тотчас насторожились. — На что вы намекаете, Мопре? — спросил Мерибель. Мопре бросил взгляд на часы, взял папку для бумаг, лежавшую возле его ног, которую они еще не заметили, и продолжал, теребя застежку: — Некоторые из моих клиентов помещают капиталы в Испании, и как раз в том районе, который вас интересует... Между тем ходят довольно любопытные слухи... И если я говорю «слухи»... Мерибель поднялся, чтобы подбросить в огонь поленьев. Со стороны казалось, что они мирно болтали, но истина уже начинала вырисовываться. Она неминуемо должна была привести к взрыву. Так оно и вышло. — Продажа квартир — дело выгодное. Но продавать одни и те же квартиры по нескольку раз — еще выгоднее. Не говоря уже о взятках, о... сделках с предпринимателями... Здесь у меня целое досье. — Он постучал по папке и мило улыбнулся. — Когда я работал у вас коммивояжером, между нами происходили размолвки по менее серьезным поводам. Резким движением он расстегнул «молнию» и извлек документы... планы... записи... — Разумеется, это копии, — уточнил он, все с той же несколько натянутой улыбкой. — Большинство клиентов не въезжают в квартиры. Они доверяют фирме. Разумеется, «Компания Севра» вне подозрений... С этого момента и началась драма. Мерибель, положив локти на колени, сжав кулаки и опустив голову, разглядывал свои сапоги. Ему следовало бы... но нет! Он казался подавленным. Севр заново переживал эту минуту, и сердце его учащенно забилось. Никто, и тем более судьи, не поверит, что он, Севр, ничего не знал о махинациях зятя. Мопре даже не обращал внимания на Мерибеля. Он говорил со своим бывшим патроном. Он не угрожал. Угрожать ему было незачем. Документы, которые он собрал, таили в себе гораздо большую опасность, чем наставленный револьвер. — Я оставлю вам досье, — закончил он. — То, что я обнаружил, никому не известно. Пока это только оплошность... возможно, поправимая... При условии, что вы не станете терять время! Заплатите мне комиссионные, и я возвращаюсь в Касабланку. Я только оказываю вам небольшую услугу, которая стоит, скажем... двести тысяч франков. Из рук в руки. Вы согласны, не так ли? Довольный собой, он закурил.Глава 2
Когда же он заснул? По-прежнему стояла непроглядная темень. Ветер изменил направление, и теперь его шквал обрушивался на южную стену. Сильные порывы, накатываясь, как морские волны, сотрясали оконные рамы. Севр долго искал фонарь, который закатился под кровать, посветил на часы — четверть восьмого. Значит, уже утро? Во рту он ощущал странный привкус, какой бывает, когда кровоточат десны. Он весь окоченел, словно его только что вынули из морозильной камеры. Он сел и принялся массировать ноги заледеневшими пальцами. Начала работать и мысль, направляясь по старой колее: ферма... труп... Пришлет ли прокуратура кого-нибудь на место происшествия? Странное слово — прокуратура, ведь она состоит из людей, с которыми он часто встречался. Одну квартиру он продал Гранжуану, прокурору, раз в месяц Севр ужинал с председателем суда — как и он сам, членом Ротари-клуба[1]. Впрочем, он не знал, как ведется расследование. Жандармы, следователь... Значит, туда приедет Кулондр. Случалось, они играли в бридж. Дело постараются замять. Все станут его жалеть. Поворчат, скажут, что он слишком высоко метил, что в то время, как в Ла-Боле многие начали распродавать гостиницы, его проект оборудовать новый пляж, построить роскошный гостиничный комплекс выглядел как чистейшее безумие, ведь о махинациях Мерибеля станет известно не сразу. Что удручало Севра больше всего и казалось вопиющей несправедливостью, так это упреки в его адрес как руководителя. Ведь он вел честную игру, несмотря на некоторые трудности! Конечно, он смотрел вперед, загадывая слишком далеко. Возможно! Но если бы Мерибель в конечном счете его не предал, он одержал бы верх. Ему не следовало слушать Денизу и Мерибеля — вот в чем заключалась его ошибка. У них с языка не сходила Испания, выгоднейшая стройка в Коста-Браво... И он уступил. Кто объяснит это Гранжуану? Как ничтожный чиновник, получающий раз в месяц свое жалованье, сможет разобраться в делах, требующих многомиллионных затрат и подключения все новых и новых структур? Ему следовало бы создать акционерное общество. Время семейных предприятий прошло — вот чего он не понял. Доверив Мерибелю стройки в Испании, он допустил трагическую оплошность. Но мог ли он предвидеть, что его зять займется мошенничеством? Кому пришло бы в голову, что этот деятельный, оборотистый, ловкий парень окажется слабаком? Более того — трусом, который сдался при первой же угрозе... Ведь с Мопре еще можно было договориться. Севр пытался вспомнить, что же произошло потом, но вспыхнувшая ссора затмила собой воспоминания... Все случилось очень быстро... слова звучали как выстрелы... в одном он был совершенно уверен: Мерибель не отрицал своей вины. Он говорил о небольших «промахах», оспаривал величину суммы, в краже которой его обвинял Мопре. Мерзкая, жестокая ссора, которая чуть не переросла в драку. Мерибель уже было протянул руку к ружьям на стойке. Ружья — его гордость. С десяток их стояло в ряд, готовых к бою. Когда они вновь сели, все трое побледнели и тяжело дышали. Мопре, прекрасно владеющий собой, старался разрядить обстановку. Если бы ему самому не пришлось столкнуться с трудностями, он бы не пошел на этот шаг. Но он имел право надеяться на компенсацию, вознаграждение — в обмен на молчание... Двести тысяч франков! Это очень умеренная сумма. Мерибель тем временем, повернувшись спиной, ворошил угли, пытаясь раздуть огонь в камине, дым от которого ветер временами заносил в комнату. — Я вернусь через три дня, — уточнил Мопре, — у вас будет время изучить досье, собрать деньги... Мне нужно отдохнуть. Я ехал без остановок от самой границы и валюсь с ног от усталости. Он едва не подал им руку. — До скорого. Не сомневаюсь, мы придем к согласию... И вы еще мне скажете спасибо.Севр поднялся, он готов был отдать все, лишь бы не думать. Особенно теперь, когда это ничего не изменит. Но воспоминания кишели в нем, как черви в мертвечине. Он натянул брюки, накинул еще непросохшую куртку, решив немного пройтись, чтобы согреться. Он вернулся на кухню и нерешительно посмотрел на сапоги. Выйти на улицу? Но куда идти? Сквозь ставни просачивался серый, словно идущий из погреба, свет, но со стороны сада ветер дул уже не так сильно. Он не без труда открыл окно, ведь рамы разбухли. Видимо, подрядчик использовал низкокачественную древесину. Или, возможно, в этом ужасном климате со временем все разрушалось: краска, цемент, металл. Он приоткрыл ставни и с опаской выглянул наружу. Сквозь пелену свинцового утра проступали здания другого крыла, сад, где блестели мокрые аллеи, бассейн, полный опавших листьев. У крыльца бесновались скатавшиеся в шарики колючки и листья. У Севра мелькнула мысль о Денизе. Дождь перестал, облака, похожие на стелящийся дым, плыли, едва не задевая крыши. Севр тщательно закрыл дверь, устало вздохнул. Ненастье установилось надолго, возможно, не на одну неделю! Нужно было срочно обустраивать свой быт. Севр еще раз перебрал в уме свои припасы: конфитюр и печенье можно съесть, но вот остальное... Где найти консервный нож? Как глупо подохнуть от голода, когда рядом магазин! Он погрыз печенье, снял бумажку с банки конфитюра. Ложки нет, не пальцем же его доставать! До этого он пока еще не дошел. Но до чего тогда он дошел? Ни денег, ни приличной одежды нет, полная зависимость от Мари-Лоры. Что же с ним случится, если по какой-нибудь причине она не приедет через пять дней? Печенье неприятно хрустело, вызывая жажду. Пора уже включить рубильники, чтобы можно было пользоваться электричеством... Да, что с ним будет? Даже если он покажет полиции записку, которую написал Мерибель перед тем, как покончить с собой, и которая не оставляла сомнений в самоубийстве, даже если эксперты признают ее подлинность, придется объяснять все остальное. Но кто этим займется, если он сам не в состоянии ни в чем разобраться? Зачем он здесь, в этой блистающей чистотой кухне, со своим печеньем и конфитюром, грязными руками и бородой бродяги? Что мешало ему признать поражение, пойти на скандал и разорение? Он долго искал ответа на эти вопросы. По правде сказать, в глубине души он знал, что не выдаст себя. Он катился вниз, может быть, в наказание за то, что совершил когда-то? Трудно сказать. Впервые он спрашивал себя об этом. Впереди пять дней! За это время можно закончить расследование! Выйдя из квартиры, он запер дверь. Это было так же глупо, как и все остальное: он один в доме, в квартале, в округе. Но именно это одиночество, наполненное эхом, пустота лестницы ему и не нравились. Он раздвоился, и теперь другой Севр шел рядом с ним, внушая ему страх. Рубильники находились у входа в подвал, в стенном шкафу. Он включил их все сразу. Теперь можно пользоваться лифтом. Но когда он нажал на кнопку третьего этажа, лифт не двинулся с места. Буря, несомненно, повредила провода! Такое повреждение за час не исправят. Везет же ему! Может, он ошибся с рубильниками? Он вернул рычаги в прежнее положение и включил коммутатор подвала. Вспыхнули лампочки, освещая лестницу, цементные стены, проход, ведущий в темноту, словно в подземелье. Он потушил свет, вновь зажег. Еще один промах тетушки Жосс: она забыла выключить рубильники. Севр решил ее уволить, но тотчас вспомнил, что он теперь стал никем, что решения теперь будет принимать тот, кто сумеет избежать банкротства. Тогда не все ли равно? Лифт бесшумно поднял его наверх, и Севр закрылся в квартире. Он думал, что свет скрасит его одиночество, но свет оказался еще более невыносим, чем темнота. Он медленно обошел комнаты, внимательно рассматривая кресла, обитые кожей медового цвета, книжный шкаф, в котором стояли не книги, а корешки от них, золоченые бра, обои, светлые настолько, что, казалось, декоратор хотел поймать солнце и навсегда сохранить его отблески на стене. Но за закрытыми ставнями опять барабанил дождь, море обрушивало свои волны на песчаный пляж. Севр не находил себе места. Он съел еще одно печенье, кончиком пальца зацепил конфитюр и с отвращением слизал комочек. Кухня была отлично оборудована, там стояла даже жаровня. Но полочки с раздвижными дверцами, кухонные шкафы с изображением парусника на стеклах пустовали. Севру ничего не оставалось, как напиться из ладоней. Он вытер лицо платком, принадлежавшим Мерибелю. Нет! Он не сможет здесь оставаться. Он проверил связку ключей, которую взял с собой. Там висел ключ от конторы. Он сходит и посмотрит, можно ли устроиться где-нибудь еще. Половина десятого! Мари-Лора, наверное, все еще на ферме, ее допрашивает один следователь, другой. Сможет ли она лгать до конца? По сути, это не ложь, а сокрытие того, что и должно было произойти! Что касается Мопре, то он, вероятно, остерегался подавать признаки жизни... Севр размотал провод от электробритвы... Только Мопре мог дать полицейским полную информацию, ведь Мари-Лора многого не знала. Она понятия не имела о той сцене, что разыгралась после отъезда Мопре. Мерибель, охваченный бешенством и злобой, во всем сознался. Да, он вел двойную жизнь, да, он пустился в махинации... Он понимал, что однажды все откроется, но ничего не мог с собой поделать. «Тебе не понять!» Он все повторял: «Тебе не понять!» Боже мой! Каким же тупицей нужно быть! Севр в сердцах воткнул вилку от бритвы в штепсель. Раздался треск, замигали лампочки. Бритва отключилась. Севр забыл, что местное напряжение было 220, и мотор сгорел. Запахло паленым. Решительно все против него. Когда Мари-Лора придет, она увидит перед собой бродягу. Он выбросил бритву в мусорный ящик, провел тыльной стороной руки по щекам, отросшая щетина неприятно покалывала. Бедняга Филипп стал корчить из себя несчастную жертву, он, видите ли, не сумел устоять перед искушением. Да любой нормальный человек поймет его! Ведь работа часто бывает однообразной. К тому же Мари-Лора не очень-то привлекательна как женщина! И деньги там заработать легче, чем здесь. Однако имелись и другие причины, о которых Мерибель не упомянул. Но, по сути, кто такой Мерибель? Глядя на этого пышущего злобой незнакомца, говорящего невесть что: «Я подыхаю во Франции... хочу уехать, жить в другом месте... я бы продал этот домишко... нет, меня тут ничто не держит...» — Севр действительно почуял надвигающуюся катастрофу. Но толком так и не смог ничего добиться. — И все-таки сколько миллионов ты украл? Назови цифру. Мерибель передернул плечами. — Понятия не имею... все получилось как-то само собой! — Шестьдесят... восемьдесят... сто? — Наверное. — Или больше? Мерибель открыл окно, вытер пот со лба. Плохо пригнанные ставни стучали под напором ветра — в этом доме все было сделано кое-как. Огонь в камине наконец разгорелся. — Ты, однако, не все потратил? — Нет. — Деньги лежат в банке? — Я что, псих? Он злобно бросал слова, как если бы Севр вдруг стал его заклятым врагом. — А Мари-Лора? Ты подумал о ней? — О! Мари-Лора! — Ты полагаешь, что она поехала бы с тобой? — Она не имеет привычки спорить. — Ну, а я? Они пристально посмотрели в глаза друг другу. Затем, почти шепотом, Мерибель сказал: — Выходит, ты не знал, что я подлец? У Севра еще звучала в ушах интонация зятя, где смешались и жалость, и ирония... и насмешка. Надо было вцепиться ему в глотку. Но он ограничился тем, что спросил: — Ты, разумеется, ведешь свою бухгалтерию? — Да, но предупреждаю, ты в ней не разберешься. — Это книга ведения счетов? — Ты уже вообразил, что у меня целые тома! Это красная записная книжка. Она лежит в ящике моего стола. Севр на минуту задумался, затем прошептал: — Двести тысяч франков!.. Двадцать миллионов!.. Но где я их возьму? Мерибель резко передернул плечами: — Если бы еще мы могли быть уверены, что он станет молчать! — Ведь он обещал, что... — Видно, ты его плохо знаешь. Выходит, он никого не знал: ни Мерибеля, ни тем более Мопре. Он честно вел дела с честными людьми. Обязательство есть обязательство, подпись — подпись. Его отец был нотариусом и сыном нотариуса. «Контора Севра» — это серьезно, солидно, как банк. Во всяком случае, так продолжалось довольно долго, до начала строительного бума, который, подобно эпидемии, поразил всех несколько лет назад. Люди захватывали земельные участки, раскупали побережье. Того, кто попытался бы плыть против течения, просто смели бы с дороги. Все спекулировали, но в авантюры не пускались. Клиент был превыше всего. Доказательство? Мопре вышвырнули за дверь, как только он свернул в сторону. Тогда глаза своему шурину открыл именно Мерибель. Почему? Занимался ли Мерибель махинациями уже тогда? Шла ли речь о сведении счетов между сообщниками? Какие козни готовились за его спиной? А эта жуткая поездка в Ла-Боль, когда «дворники» не справлялись с потоками дождя! Офис Севра находился в новом корпусе, занятом под конторы. Можно было не опасаться непредвиденной встречи. Красная книжка лежала, к счастью, в указанном месте. Как и говорил Мерибель, разобраться в ней было невозможно. Цифры, адреса, инициалы, даты... Время поджимало, но Севр сел и терпеливо перелистал записную книжку. Он привык читать отчеты. Глядя же на эти странички, он чувствовал себя обезоруженным, сбитым с толку, осмеянным. Тем не менее не мог же Мерибель слопать целое состояние!.. Даже если бы он глотал не прожевывая! Как можно растратить состояние? Что можно купить? Что вообще означает слово «растратить»? Листая книжку, он не переставал задавать себе эти вопросы, охваченный непонятным страхом. Его учили относиться к деньгам так же почтительно, как и к хлебу. Каждый день через его руки проходили значительные суммы, но он жил очень скромно: довольствовался дешевым автомобилем, в то время как Мерибель раскатывал на шикарном «шевроле». По сути, что такое деньги? Бастион! Стена, за которой можно жить спокойно! Она защищает от... от всего, что движется, меняется, подрывает, взрывает. Это дамба, противостоящая морю. Существуют люди, которые строят, и люди, которые разрушают. Мерибель относился ко второй категории. Эта красная записная книжка с шифрованными записями походила на судовой журнал пиратского корабля. Где же спрятано сокровище? Какова его стоимость? Севр швырнул книжку в глубь ящика. В тот же миг взорвался телефон, и у него замерло сердце. Он снял трубку и машинально сказал, настолько велико было его смятение: — Севр слушает. Звонила Мари-Лора. Она проговорила сильно встревоженным, задыхающимся, как после длительного бега, голосом: — Приезжай быстрей! Он хочет покончить с собой. — Что? — Да. Он закрылся в курительной комнате и не отвечает. Что вы с ним сделали?.. После твоего отъезда он мне такого понарассказал!.. Я ничего не поняла. — Если хочешь знать, он совершил кражу. — Он?! Но это невозможно... Боже мой!.. Быстрее возвращайся! Я здесь одна в полной растерянности... — Еду. Естественно, о том, что он уехал и сразу же вернулся, Мари-Лора умолчит. Это решено, о Мопре тоже ни слова. По сути, ее показания будут сведены к минимуму: возвращение с охоты, ссора между шурином и зятем... начавшаяся, вероятно, еще на пути к дому... бегство мужа и самоубийство Севра в курительной комнате. Все. Об остальном — о причинах ссоры, о возможных денежных затруднениях — она в слезах скажет, что не в курсе. И это воистину так! Поскольку она ничего не смыслила в деле, в ее присутствии лишь намекали на какие-то проекты, но никогда не призывали в свидетели, не спрашивали ее мнения. В секретариате счета в полном порядке, но из них дополнительной информации почерпнуть невозможно. Потребуется время, чтобы выяснить, кто покупал участки и квартиры, правосудие еще не скоро соберет все данные. Ну что ж! Немного везения — и глядишь... Но лучше не думать о том, что будет! Предстоящее даже не достойно того, чтобы называться будущим... Севр везде погасил свет и спустился, предаваясь отчаянным раздумьям, подобно шахматисту во время сеанса одновременной игры на нескольких досках. У него еще нашлось время подумать о консьержке, так плохо справлявшейся со своими обязанностями и слишком много себе позволявшей, поскольку хозяева находились далеко, а между праздником Всех Святых и Пасхой посетителей не ожидалось. Тут мог поселиться любой бродяга!.. Он прошел через сад, который в буклетах именовался частным парком. Шум моря раздавался, казалось, со всех сторон одновременно. Чуть заметно, как палуба плывущего корабля, подрагивала земля. В воздухе стоял запах залитого водой костра. Водосточные трубы буквально истекали дождевой водой. Это Денизе захотелось окрестить комплекс «Морскими воротами». Бедняжка Дениза! Сколько глупостей он совершил по ее воле, да и по своей собственной тоже! Подняв воротник, засунув руки в карманы куртки, где он теребил трубку Мерибеля, Севр дошел до черного хода агентства. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы открыть дверь. Замок поддавался с трудом. Неужели уже заржавел? Или он неисправен? Наконец дверь со скрипом отворилась. Севр не стал ее закрывать, чтобы было лучше видно. В полумраке помещение казалось мрачноватым: американский письменный стол, вращающееся кресло, металлическая картотека, развешанные на стенах схемы, планы местности, которые из-за сырости начинали скручиваться. Все казалось претенциозным и жалким. Обычно все купчие на квартиры оформлялись в офисе. А это агентство предназначалось специально для туристов, приезжавших в период отпусков. Время от времени кто-нибудь из туристов останавливался тут, просил показать квартиру... Все обещали приехать снова... Севр провел пальцами по столу, тот тоже был липким. Любой предмет становился влажным, словно покрывался соленым потом. Но нельзя же не отключать отопление на всю зиму только ради того, чтобы избавить от сырости пустующее здание! В ящиках стола Севр ничего не обнаружил. Он заглянул в картотеку. Каждой квартире был отведен отдельный ящичек. В конечном счете, он нашел то, что искал: карточки с именами владельцев. Шестеро за два года!.. Нет! Следователи не удивились бы!.. Он вышел на порог, чтобы прочитать эти фамилии: Ван дер Нот... Клостерман... Ольсен... Фрек... Фондакаро... Блази... Этими делами занимался его торговый агент, быть может, сам Мопре. Из шести владельцев он встречался только с Фондакаро, жителем Пьемонта, который работал в автомобильной промышленности. Тетушка Жосс своим корявым почерком нацарапала на карточках: «К июлю найти экономку», «В мае вставить стекла», «Водосток расположен над кухней», «Найти студента для преподавания французского в августе»... Люди приезжали сюда лишь с мая по сентябрь. Никто не потревожит Севра. Ему остается только выбрать. Связки ключей висели на деревянной доске. Севр взвесил все «за» и «против». Где бы ему обосноваться? За пять дней он ничего не испортит. Но минутку... Мари-Лора придет в показательную квартиру. Следовательно, нужно держаться поближе к ней. Значит, остается выбирать между квартирами Фрека и Блази. Он взял две связки ключей, а все остальные положил на место. То, что он собирался делать, стоило ему немалых усилий. Это было хуже, чем просто непорядочность. Почти что кража со взломом, но он так озяб! Дверь никак не закрывалась. Ключ тоже застрял, невозможно вытащить. Он довольствовался тем, что просто прикрыл дверь, затем осмотрелся. Квартира Блази располагалась на пятом этаже. Вместо того чтобы возвращаться напрямик, как и пришел, Севр стал пробираться вдоль стен. Его никто не мог видеть. Но, к сожалению, он видел себя — как он воровато пробирался: грязный, косматый, дрожащий от страха. Он ненавидел себя.
Глава 3
Северный корпус носил имя Кассара. Западное крыло — Дюге-Труена, южное — Жана Бара, восточное — дю Геклена[2]. Он тщетно протестовал, ссылаясь на то, что дю Геклен не был корсаром, как все остальные. Дениза настояла на своем, полагая, что будущие покупатели вряд ли окажутся большими эрудитами, и это имя обязательно должно им понравиться, хотя бы потому, что оно вызывает ассоциации с именами легендарных героев. Дверь в квартиру Блази открылась без труда. Севр не посмел повернуть выключатель и невольно прислушался. Он видел подобные сцены по телевизору: настороженный силуэт, перебегающий с одного предмета на другой луч фонаря. Но он-то явился не за драгоценностями. Ему бы только как-нибудь перебиться! Он сразу направился на кухню, не заходя в расположенную слева от кухни гостиную, нашел только пустые бутылки, тарелки, пластмассовые стаканчики — один он засунул в карман. В ящике — вилки, ложки, ножи из какого-то белого металла; песочные часы, штопор, но консервного ножа не было. Он заглянул в стенные шкафы, там висели лишь пустые плечики для одежды. Отдыхающие, разумеется, к концу сезона увезли всю утварь. Спальня, напротив, казалась жилой. Все постельные принадлежности лежали на месте — он убедился в этом с первого взгляда и подумал, что если квартира Фрека ему не понравится, то он вернется сюда. Но пока самой насущной оставалась проблема с едой. Кроме того, ему нужна одежда, но Мари-Лора, конечно, об этом подумает, и если дом в Ла-Боле взят под наблюдение, то в Нанте у нее достаточно богатый выбор, поскольку шурин и зять, к счастью, одного роста. Севр тщательно закрыл за собой дверь. Он ожидал большего от своего визита. Квартира Фрека располагалась как раз над показательной квартирой, поэтому и стоит перебраться туда. Спуститься этажом ниже — и ты у себя дома. Если бы этому Фреку еще пришла в голову мысль не увозить с собой все... Кстати, интересно, где он живет? Севр вернулся в агентство. Ему пришлось вновь сражаться с дверью, которую заклинило еще больше. Он повесил на место, может, только временно, ключи от квартиры Блази и поискал карточку Фрека: «Фрек Доминик. Валенсия, улица Сан-Висенте, 44». Замечательно! Ехать из такой дали сюда за солнцем! Или все же нет. Этому, очевидно, напротив, требовался ветер, соленый дождь, серый горизонт. Француз, возможно бретонец?.. В таком случае следует вести себя осторожнее... Впрочем, всего пять дней!..Чем он рискует? Снова полил дождь, окутав сад дымкой. Севр побежал, шлепая по лужам, задыхаясь, вбежал в холл, где уже успел наследить. Вот тоска! Нужно будет протереть полы, чтобы не вызвать подозрения у тетушки Жосс. Квартира Фрека понравилась ему с первого взгляда. Трудно сказать почему, но, наверное, потому, что она казалась жилой, может, из-за еле уловимого запаха духов... не понятно, духи ли это?.. Кухня выглядела богато. Именно это слово первым пришло на ум... хотя точнее было бы сказать «хорошо обставлена», продуктов здесь тоже не было, но в ящиках столов нашлось все необходимое, в том числе перочинный ножик со всеми приспособлениями, включая консервный нож. Какая удача! Севр разложил свои находки: столовая посуда, приборы, три коробка спичек, кое-какие инструменты: молоток, клещи, разводной ключ, отвертка... Начатая пачка сигарет «Честерфилд» — он сразу же закурил и почувствовал себя уверенней, — запасные лампочки, электрическая плитка и в глубине стенного шкафа — полбутылки коньяка. Имея все это, он продержится. В гардеробе лежало белье: салфетки, резиновые перчатки, простыни, голубые и розовые. Это навело его на мысль, что Фрек был женат... отсюда и запах духов, который усилился, как только он из кухни прошел в спальню. Севр потушил сигарету и принюхался. Он в этом не очень-то разбирался. Дениза предпочитала душистую туалетную воду. Мари-Лора пользовалась духами, он никогда не спрашивал какими, но они казались ему довольно заурядными... Эти же имели такой изысканный аромат, что он растерялся. Севр шел по запаху, как по следу, обошел стоящую посредине большую кровать, затем направился в ванную. Он повернул выключатель. С этой стороны нельзя было заметить свет, поскольку все окна закрыты ставнями и забиты крест-накрест досками на всю зиму. Если смотреть со стороны моря, жилище должно походить на форт, на блокгауз. И все же ветер проникал внутрь. Пресный запах водорослей боролся с запахами жилья. Севр пробежал взглядом по флаконам, стоящим на полочке над умывальником, они были пусты, но этикетки говорили сами за себя: бальзамы, лосьоны для снятия макияжа, кремы... Да, Фрек женат. Старый халат висел на вешалке. Рядом с ванной лежали два куска мыла. Севр с удовольствием бы принял сейчас душ, чтобы смыть всю грязь, но вспомнил, что забыл включить нагреватель. Он это сделает потом... Главное — поесть. Он еще раз обыскал все шкафы. Ему ужасно хотелось выпить кофе, что ж, тем хуже, придется опять есть конфитюр, но зато он приготовит себе грог, правда, без сахара... Он спустился вниз за своими консервами. Сомнения отпали. Располагаться так располагаться! И лучше всего ему будет у Фрека. Он принялся за дело: включил рубильник, нагрел воды в кастрюле, долго тер руки и лицо, наконец завернулся в халат. Он безобразно зарос, но, может, это лучшая мера предосторожности. Когда отрастет борода, его никто не узнает. Он заставил себя накрыть стол на кухне, борясь с искушением перекусить на ходу, и принялся не спеша за еду, он отвык от этого с тех пор, как Денизы не стало... Денизы больше нет!.. Почему же не дрожат руки? Почему он сейчас принимал то, чему всеми силами отказывался верить раньше? Может, у него нервное истощение? Или, поменявшись местами с Мерибелем, он стал другим, человеком без прошлого, и ему, подобно людям с провалами памяти, следует всему учиться заново? Дениза... Имя звучало как заклятие, которое потеряло силу. Как ни в чем не бывало, он неторопливо ел, сидя в нелепом одеянии — халате и сапогах, а где-то там лежало изуродованное тело, которое его друзья проводят в последний путь и захоронят в его фамильном склепе. И он произнес: «Дениза», и ждал, когда появится ставшая привычной боль. Возможно ли это? Ему больше не удавалось заставить себя страдать, воскресить связанные с ней другие образы, он почувствовал, что они ушли навсегда, помимо его желания... Все, что он пережил накануне, хотя и было испытанием на пределе возможного, по сути, оказалось мимолетным потрясением. Что-то ускользало, оставалось в тени, он — обвиняемый и одновременно судья. Возможно, ему приходилось играть роль священника, потерявшего веру в Бога или никогда ее не имевшего... Дениза... Когда он вернулся на ферму, ему пришлось пережить тысячу смертей, и каких! Ему такое и присниться не могло. Мари-Лора ждала его в слезах. — Послушай! — прошептала она. Они подошли к двери курительной комнаты. Мерибель ходил взад-вперед. Его резиновые подошвы скрипели на плиточном полу, когда он поворачивался. — Филипп! — позвала она. — Убирайтесь! Оставьте меня! — заорал Мерибель. — Филипп! Послушай меня! — Если не отстанешь — стреляю через дверь! — Видишь... Он совсем спятил! Мари-Лора не переставала рыдать. Севр встряхнул ее, тоже впадая в отчаяние. — Расскажи, наконец, что произошло? Когда я уходил, он не выглядел человеком, доведенным до крайности... Ты его в чем-нибудь упрекнула? — Да. — Что?.. В чем? — Не знаю. Я сказала ему, что он страшный эгоист... Что из-за него я несчастна. Идиотская ссора! — Ну и? — Тогда он закрылся на ключ. — Ах! Пожалуйста, перестань реветь. Мари-Лора разрыдалась еще сильнее. Он снова подошел к двери. — Филипп!.. Открой... Давай поговорим... — Убирайся! — Бог мой! Образумься! Вдруг Севру показалось, что он догадался... Но в присутствии Мари-Лоры объясниться было невозможно. — Подожди меня здесь. Я посмотрю, нельзя ли забраться через окно. Он отправился в обход через сад, дождь и ветер уже тогда застилали ему глаза. Он постучался кулаком в тяжелый ставень. — Филипп!.. Я один!.. Ты слышишь, Филипп? Буря завывала так, что ему пришлось приложить ухо к мокрому ставню. — Филипп! Отвечай!.. Я понял... Филипп... Это из-за женщины, да? Он был уверен, что Филипп открыл окно и стоял за ставнями. — Все это можно уладить. Наконец совсем близко послышался дрожащий голос Мерибеля: — Я хочу с этим покончить. Нет больше сил. — А я тебе говорю, что все еще можно уладить. — Нет. — Мы вернем долг. — Нет. Казалось, он никогда не забудет происходившего. Однако сейчас эти сцены почти не вызывали у него прежних эмоций. Он превратился в стороннего наблюдателя. В ветвях груши, росшей поблизости от него, свистел ветер; ведро, висевшее у колодца, билось о его край. Внезапно сильный грохот прервал бессмысленный диалог. — Убирайся! — закричал Мерибель. — Прикоснешься к двери — стреляю. Он обращался к Мари-Лоре. Идиотка! Она все испортила. Он вернулся бегом. Мари-Лора пыталась разбить замок топором. — Брось! Она не послушалась, и Севр вырвал топор из ее рук. — Я вас предупреждал!.. Это был голос Мерибеля, искаженный от страха, гнева, охватившей его паники. И тут раздался выстрел — такой близкий, такой мощный, на какое-то мгновение он их оглушил, и они не поняли, выстрелил Мерибель в них или в себя. С потолка упал кусок штукатурки. Запахло порохом. Мари-Лора застонала. Тогда Севр схватил топор и начал изо всех сил рубить дверь. Наконец она треснула. Еще несколько ударов, и он просунул руку в щель, нащупал ключ изнутри. Дверь открылась, и Севр увидел тело. Нет! Вначале он увидел кровь. — Не входи! — крикнул он Мари-Лоре. Кровь была повсюду. Заряд крупной дроби, выпущенный в упор, почти обезглавил Мерибеля. По крайней мере, так показалось Севру. Он сразу отвел глаза, к горлу подступила тошнота, он почти терял сознание. И все-таки он вошел в комнату, обошел лужу крови. Он задыхался. Хоть немного воздуха! Но тут он вспомнил, что ни к чему нельзя прикасаться. Мерибель оставил окно открытым, но Севр был вынужден подавить желание распахнуть ставни, взять лист бумаги, лежавший на столе... Ружье тоже следует оставить там, где оно упало... Не стоило также подходить к трупу, рискуя оставить кровавые следы в доме. Что происходило потом, он помнил очень смутно. Плакал ли он? Или впал в оцепенение? Он вновь увидел Мари-Лору, вытиравшую ему лицо влажным полотенцем. Он сидел в кресле у камина в курительной комнате... В памяти всплыли первые слова, которые он произнес: «Во всем обвинят меня!» Почему ему пришла тогда в голову мысль тоже уйти из жизни? Даже не мысль, а порыв! Рука сама потянулась к ружью. Он ни о чем не думал, испытывая лишь усталость и отвращение: ружье было ему необходимо, как больному — снотворное. Но он не сопротивлялся, когда Мари-Лора оттолкнула его. Все смешалось на фоне воющего ветра, мерцающих звезд и стенаний Мари-Лоры. Бедняжка Мари-Лора! Он никогда с ней не считался. Если бы кто-нибудь сказал Севру: «Она оплакивает мужа!» — он бы, конечно, спросил: «Какого мужа?» Потому что в тот момент Мерибель стал для него чужаком, незнакомцем, явившимся нарочно, чтобы умереть и свести на нет двадцать лет усилий, борьбы с собственной совестью, размышлений, расчетов, удач. То, что он покончил с собой, — это его дело. Но одновременно он убил их всех! Возможно, именно эти рассуждения и навели Севра на мысль, что он тоже больше не существует. Он стал думать о себе в третьем лице, словно о ком-то другом. И это раздвоение, вызванное постигшим его несчастьем, как ни странно, вернуло ему хладнокровие. Он стал смотреть на происходящее со стороны. С какого момента он перестал быть только Севром, работающим по двенадцать часов в сутки, позабывшим, что такое театр, корпя над бумагами даже по воскресеньям? Так вот, именно этот Севр, потерпевший крах, обанкротился. Ему осталось только исчезнуть с лица земли. Исчезнуть, но не умереть. Это было бы слишком легко — перестать жить. «Ты разве не понимаешь, что Севра больше не существует?» Мари-Лора смотрела на него глазами, полными ужаса. «С Севром покончено... Его больше нет! Вот он — Севр!» И он показал на распростертое тело. Вначале это была как бы зловещая игра, страшная из-за своей безыскусности, хуже нервного срыва! Но вдруг эта невероятная идея увлекла его. На Мерибеле еще был охотничий костюм. Рост у них одинаковый, костюмы тоже. Лицо обезображено выстрелом. Замена уже произошла? А раз Мерибель — негодяй, то пусть Мерибель и скрывается. Севр же должен покончить с собой, если его честь задета. Все это поймут. Таков закон, таков порядок вещей, более того, именно так и должно было произойти. Мерибель спутал карты в последний раз. Оставалось лишь придать подобающий вид внешней стороне дела. Чем больше Мари-Лора его умоляла, тем сильнее он упорствовал, руководствуясь каким-то странным понятием чести; на губах блуждала безумная улыбка. Что бы он сделал, если бы у него не было свидетеля?.. Возможно, довольствовался бы тем, что вызвал полицию? Честно ответить на этот вопрос невозможно. Ему пришлось теперь признаться, что его отчаяние было... как бы сказать?.. условным, словно он давно уже ждал подобного случая. И вот доказательство: все сразу образовалось само собой. Одна деталь подсказывала другую, та сочеталась с третьей... Все было взаимосвязано, абсурдное происшествие превращалось в хорошо продуманный план. Жилье? Единственный выход — показательная квартира. Только этот выход! Это и есть настоящий выход! Добраться до ближайшей границы? Об этом и речи быть не может, прежде всего, из-за охотничьего костюма — в таком одеянии он сразу обратит на себя внимание. К тому же, превратившись в самоубийцу, он не мог переодеться. Полиция найдет на ферме его черный костюм, в котором он приехал. По этой же причине он не мог уехать на своем автомобиле, равно как и на машине Мерибеля: он никогда не водил эту марку, малейшая случайность в пути — и ему крышка... Мари-Лора сидела напротив, неодобрительно качая головой, но остановить его уже не могла. Он завелся. Слова действовали на него, как наркотик. По мере того как он развивал перед сестрой свою идею, он сам все больше верил в нее. Он отвергал возражения, в том числе и те, которые Мари-Лоре даже и не приходили в голову: «Знаешь, почему я не могу вернуться домой в Ла-Боль?.. Мария услышит мои шаги. У нее чуткий сон. Она обязательно принесет мне липовый отвар... Я знаю. У нее сегодня выходной, но по вечерам она никогда не выходит... Следовательно, выбора нет! На несколько дней придется задержаться, тут уж одно из двух...» Другой Севр, его второе «я», никогда не смевший подать голос, с удивлением слушал. — Одно из двух: или следствие подтвердит мою смерть — что наиболее вероятно, — и тогда, чуть позже, без особого риска, я отправлюсь за границу, или полиция обнаружит подлог, и тогда у меня не возникнет трудностей, чтобы оправдаться благодаря вот этому. Он встал, взял со стола лист бумаги, который заметил с самого начала, и прочитал:«Я решил уйти из жизни. Прошу никого не винить в моей смерти. Прошу прощения у всех, кому нанес ущерб, и у моих родных.— Видишь... благодаря этой записке я неподсуден. Невольно он употреблял слова из своего прежнего лексикона. Но он и от этого излечится. Он влезет в другую шкуру. — Бедный мой малыш! — прошептала Мари-Лора. В ярости он стал выкладывать все из карманов на стол: носовой платок, множество патронов, перочинный нож, пачку «Голуаз», ключи от машины, водительские права, бумажник с несколькими сотнями франков, записную книжку, две фотографии Денизы. Он чуть было не оставил их себе, но решил идти до конца и поэтому снял часы и свое обручальное кольцо. Тело должны опознать сразу, без малейших колебаний. — Нет! Нет! Жорж, пожалуйста! Отступать поздно. Теперь его поддерживало не мужество, а внутреннее возбуждение, похожее на состояние опьянения, непонятная спешка сжечь мосты, отрезать себе все пути к отступлению. Почти без отвращения он обыскал труп. Он поменялся бы с покойным одеждой, если бы в этом возникла необходимость. Больше его уже ничего не смущало. Обручальное кольцо легко соскользнуло с пальца Мерибеля. Мари-Лора тихо повторяла: — Ты не имеешь права!.. Ты не имеешь права!.. Он поднялся, чувствуя слабость в ногах, но почти довольный собой... Документы, принесенные Мопре, он бросил в огонь, затем пошел на кухню смыть кровь. Намыливая руки, он продолжал объяснять Мари-Лоре: — Через несколько дней ты мне привезешь одежду и деньги... Лучше немного подождать. Если ты поедешь домой сейчас, работник заправочной станции безусловно увидит тебя. И потом, ваша служанка... Нет... Переждем несколько дней. — Ты считаешь, что полиция не станет за мной следить, полагая, что Филипп где-то скрывается? Возражение оказалось весомым, но, поразмыслив немного, он решил, что в корне ничего не меняется. — Тебя слишком хорошо знают, — ответил он. — Никому и в голову не придет, что ты в курсе махинаций своего мужа. Не забывай, что именно из-за него я и покончил с собой. Согласись, ты никогда не была его сообщницей, действовавшей против меня! Это очевидно! Нет, тебе нечего бояться. И он продолжил, не отдавая себе отчета в том, что своими словами ранит сестру: — Несомненно, они установят слежку на границе. Но тобой никто не станет заниматься. Если ты придешь в четверг, ближе к вечеру... скажем, часов в пять... уверяю, никаких осложнений не возникнет. Он застегнул на запястье часы Мерибеля — золотой хронометр престижной фирмы. — Пожалуйста, не ходи туда! Вновь начались слезы и жалобы. Он положил руки на плечи Мари-Лоры. — Послушай!.. Твой муж оказался прохвостом, ты осознаешь это? Он нас разорил, понимаешь или нет? Хорошо! Тогда что, по-твоему, делать? Ждать, пока меня вываляют в грязи? Если ты этого хочешь, скажи. Я же предпочитаю попытать счастья в другом месте. — Где же? — Не имею понятия; у меня будет время об этом подумать до четверга. Давай возьми сумку, сетку, что угодно и сложи туда еду. Отделавшись от сестры, он вернулся в курительную комнату, быстро переписал записку Мерибеля, поставил подпись «Жорж Севр» и сунул ее под табакерку. Время поджимало. Бросил последний взгляд на покойника. Осталось только вернуться в кабинет, взять ключи от «Морских ворот» и от показательной квартиры. Он помог Мари-Лоре наполнить сетку, хватая все, что попадало под руку, и отнес ее в гараж. Его автомобиль придется оставить здесь. Мари-Лора поедет за ним на своем «ситроене». Ну, а ему, несмотря на все опасения, придется рискнуть и поехать на «шевроле» Мерибеля. — Я брошу его у вокзала в Сен-Назере. Не завтра, так послезавтра машину обнаружат и подумают, что Филипп уехал ночным поездом... Затем ты отвезешь меня в Ла-Боль, потом в комплекс. Идет? — Ты не прав, — повторила Мари-Лора. — Лучше было бы... — Я знаю, знаю. Делай то, что я тебе говорю... Затем ты вернешься на ферму и позвонишь в полицию. И будь внимательна! Не противоречь сама себе. Мы с Филиппом поссорились. Твой муж ушел. Я закрылся на ключ. Ты услышала ружейный выстрел, старалась открыть дверь, тебе потребовалось много времени, чтобы ее выбить... Все это звучит правдоподобно... Если тебя упрекнут в том, что ты не позвонила сразу, скажешь, что не сообразила от отчаяния, потеряла голову. Я могу на тебя рассчитывать, Мари-Лора? — Я постараюсь. В этом была вся она... Всю жизнь она смиренно старалась, проявляя при этом такое горячее участие, что становилась невыносимой. В четверг она опять постарается. И позже... когда они будут вдвоем... Ее придется увезти с собой... Но это та часть плана, которую нужно еще продумать. А Севру так хотелось пожить одному!Филипп Мерибель».
Глава 4
Жить одному — мысль, возникшая в глубине сознания и которая, разумеется, ничего не значила... Севр тщательно собрал крошки и высыпал их в мусорное ведро, стоящее под мойкой. Еще одна деталь — нельзя ничего бросать в мусоропровод, тетушка Жосс наверняка заметит это. Вот что значит жить одному: постоянно заниматься всевозможными скучными мелочами и вести бесконечный монолог, вновь пережевывая одно и то же, прятаться ото всех, как насекомое... Он посмотрел на часы — десять минут седьмого. Он удивился и поднес часы к уху — часы стояли. Привыкнув к своим автоматическим часам, он не подумал, что хронометр Мерибеля следовало завести. Конечно, знать точное время ему не обязательно. Но, по крайней мере, он мог бы представить себе, чем заняты сейчас другие: что делает Мари-Лора, что творится в полиции, как живут люди... Теперь он заблудился во времени... Он вспомнил, как читал про шахтера, замурованного в штольне при взрыве рудничного газа, и понял, что если не займётся конкретным делом, то, как параноик, потеряет связь с реальностью. Со вчерашнего дня он отрезан от мира, выброшен на обочину жизни. Он сам наказал себя, и, если он хотел выйти из этого положения, ему следовало создать хоть какие-то удобства. Кисловатый на вкус грог немного согрел Севра. Он решил тщательно обследовать квартиру. Расставив продукты, он повесил тряпку на мойку и вернулся в комнату, выбрал пару голубых простынь и постелил постель. Он наверняка замерзнет под тонким шерстяным пледом, которым хорошо укрываться летом... В квартире Блази постельных принадлежностей гораздо больше, может, взять оттуда одеяла? Там будет видно... Пройдя коридор, он вошел в гостиную. Здесь сразу заметил бледный экран телевизора, зажег люстру. Да, перед ним стоял «Филипс» с большим экраном. Первый подарок случая, судьбы, удачи — всего того, от чего зависит гибель или спасение. Благодаря телевизору он мог наблюдать за всеми, кто говорил о нем, о Мерибеле, о банкротстве. Он включил вилку в розетку. Старый телевизор долго нагревался. Он покрутил ручки, сначала услышал голос: «Господь заботится обо всех нас, братья мои! После Светлого Воскресения каждый становится его плотью и кровью...» Появилось изображение: спины верующих, виднеющийся вдали алтарь, перед которым возвышалась фигура в белом. Севр тут же понял, что это воскресная месса, значит, сейчас примерно четверть двенадцатого. Он сел на диван, завел часы, поставил стрелки и удовлетворенно вздохнул. Слова священника оставляли его равнодушным. Он только что обрел время, и это было дороже, чем святая истина. В определенном смысле время и есть истина. Оно поместило его в это воскресенье среди непроглядной тьмы. Он, как сбившийся с курса корабль, узнал наконец координаты. Иногда, видимо, когда ветер уж слишком яростно трепал антенну, изображение на экране пропадало, и появлялись серые полосы. Севр выключил телевизор, словно желая поберечь его и не утомлять непосильной работой. Он вернется к нему позже, чтобы растянуть удовольствие. Гостиная состояла из двух комнат, сообщающихся через арку. С одной стороны салон, с другой — столовая. Мебель роскошная и дорогая, но картины не представляли большой ценности. Фрек не был знатоком живописи. В шкафу со стеклянными дверцами стояли дешевые книги карманного формата, большей частью купленные в универмаге на первом этаже. Севр не подумал об универмаге только потому, что находился в другом корпусе. В сентябре все из универмага, конечно, убрали. Однако не мешало бы туда заглянуть. Наверняка там есть продуктовый отдел. Хотя на самом деле это был крохотный магазинчик, устроенный на старинный манер, как ему однажды рассказывала Дениза. Точно он не помнит, но у них с Денизой разгорелся спор. Из-за названия... Она называла его по-американски «драгстор», а ему не нравились эти американские словечки, которыми она щеголяла. Севр заглянул в пустой гардероб и обнаружил в картонной коробке небольшой электрообогреватель — ценность не меньшая, чем телевизор. Он отнес его в спальню и поставил рядом с кроватью. Обогреватель работал великолепно и очень быстро раскалился докрасна. Севр сел на ковер и протянул руки к теплу. Ветер все неистовствовал, но в комнате постепенно становилось тепло и почти уютно. Севр услышал, как тикают часы. Раздавались медленные, размеренные удары. Севр вскочил как ужаленный где-то шли комнатные часы. Невозможно! В квартире никто не жил после сезона отпусков. Он прислушался. Этот звук, как и запах духов, доносится отовсюду и ниоткуда, его то не было слышно совсем, то он был едва различим. Севр двигался бесшумно, как тень, по пушистому ковру. Он осмотрел все вокруг, обшарил глазами все места, где обычно стоят часы. Здесь кто-то был. Этот звук от кого-то исходит... Инстинктивно Севр присел на корточки и заглянул под кровать. Будильник лежал там. Небольшой дорожный будильник в кожаном футляре, состоящем из двух половинок. Он взял его и поднялся. Будильник показывал десять минут пятого. Севр, очевидно, его уронил, когда вошел в комнату в первый раз. Будильник, должно быть, стоял на столике рядом с кроватью. От падения механизм пришел в движение. Но когда Севр попытался его завести, то обнаружил, что пружина взведена до отказа. Теперь Севра бросило в жар. Только не стоит делать поспешных выводов! Если кто-то завел будильник, он должен был правильно поставить и время. Ну и что?.. Нужно найти объяснение, или вся квартира станет подозрительной, ядовитой... непригодной для жилья. Он заметил, что часто дышит, у него дрожат руки. Тогда он сел на кровать, прислушался, повернув голову к двери... Все те же завывания ветра. Нечего выдумывать разные глупости. Все можно объяснить. Первое и самое простое, что пришло на ум, — будильник неисправен. По какой-нибудь причине, как только его завели несколько месяцев назад, он остановился, а после удара стрелки пошли вновь. Когда-то у Севра были дорожные часы, и они вот так часто капризничали. Через час или два будильник остановится вновь, и вопрос отпадет сам собой... Разумеется, если будильник остановится... то и вопрос исчерпан. Но, даже если он будет продолжать идти, следует придерживаться этой же версии, ведь очевидно, что квартиру покинули давно. И все-таки Севр с неприязнью смотрел на этот будильник, который стоял на столе и громко тикал. Его циферблат, полузакрытый футляром, походил на зверька, выглядывавшего из норы. Севр тихонько закрыл футляр и увидел на верхней крышке позолоченные буквы: «ДФ» — Доминик Фрек... Севр не удержался от ребяческого жеста и повернул будильник к стене. Его тяготили более серьезные проблемы. Впрочем, возможно, виновницей была тетушка Жосс. Она же забыла отключить рубильники! Почему, забавы ради, ей не завести и будильник? Он устроился перед обогревателем и постарался привести в порядок свои мысли. Что бы произошло, если бы он подождал полицию, вместо того чтобы устраивать инсценировку? Пришлось бы возвращать долг. Но как? Брать взаймы? Сколько? Если Мерибель предпочел покончить с собой, то это означало, что он вел крупную игру. Во всяком случае, пришлось бы принимать срочные меры. Неизбежное разорение — и с «Компанией Севра» было бы покончено! Да, он разорен! Но, поскольку его считают покойником, руки у него развязаны. Итак, разве он не прав? И если Мерибель за несколько месяцев провернул свои делишки, то что же мешало Севру обосноваться за границей и благодаря накопленному опыту в торговле недвижимостью создать там солидное предприятие?.. Для начала не обязательно обладать большим капиталом. Мари-Лора владела небольшим состоянием. К счастью, брачный контракт спасает ее имущество от ареста. Квартира в Нанте записана на ее имя. Она могла бы ее легко продать. Все это уже давало приличные средства. Кроме того, Мари-Лора была единственной наследницей Севра. Даже заплатив налог на наследство, она, несомненно, получит несколько миллионов. Наконец, почему бы ей не попросить развода? Идея на первый взгляд не казалась привлекательной, но логика вещей этому не противоречила. Все подумают, что Мерибель скрывается от правосудия. Разве может столь уважаемая женщина, как Мари-Лора, оставаться супругой негодяя? А если она за границей откроет свое дело под девичьей фамилией, кто этому удивится? Будущее потихоньку обретало смысл, потому что, оставаясь в тени, руководить всем будет, конечно, он. В одиночку ему не справиться, а с Мари-Лорой, прикрываясь ее именем, он сможет начать все сначала, при условии, конечно, что его никто не узнает. Особенно надо опасаться Мопре. Но не стоило заглядывать так далеко! Пока партия разыгрывается на ферме. Если следствие примет хороший оборот, при небольшом везении можно выкрутиться... А благодаря телевидению он будет в курсе событий. Будильник исправно тикал в своем кожаном футляре. Севр встал. Терзаниям следует положить конец. После стольких часов совершенного отчаяния к нему вернулось желание бороться. Он открыл кран с горячей водой, но нагреватель слишком долго был отключен, так что ванну придется принять попозже. Он приготовил себе обед: зеленый горошек с шампиньонами, закурил сигарету. В пачке оставалось шестнадцать штук. На этом далеко не уедешь. Чтобы чем-то заняться, он разделил продукты на четыре части: понедельник, вторник, среда и четверг. Если Мари-Лора задержится, положение сразу станет критическим. Он быстро пообедал, мыть посуду ему не хотелось. Часы показывали без нескольких минут час дня, наступало время новостей. В гостиной он включил телевизор, стащил сапоги, которых стыдился. На толстом ковре сидеть было удобно, словно на мягкой траве. Вскоре появилось изображение... Биафра... Вьетнам... наконец основные новости... непогода в Европе... грузовое судно дрейфует в Северном море... на вершине Эйфелевой башни сила ветра достигает ста шестидесяти километров в час. Он ждал, взволнованный и напряженный, как актер перед выходом на сцену. Вот наконец и его выход... «Из Нанта нам сообщили о самоубийстве известного предпринимателя Жоржа Севра. Он выстрелил себе в голову из ружья. Предполагается, что причиной трагедии послужили финансовые затруднения». Все. Затем последовал перечень дорожных происшествий. Севр выключил телевизор. Все, но это означает, что версию его смерти приняли. Если бы возникли сомнения, то сообщение не звучало бы столь конкретно, ведь полиция вела расследование со вчерашнего вечера и за это время у нее сложилось определенное мнение. Значит, для Мари-Лоры самое страшное осталось позади. Севр растянулся на диване, закурил. Теперь можно и отдохнуть. Он был доволен тем, что ему удалось обернуть ситуацию в свою пользу, несмотря на охватившую его панику. Уж если он сумел инсценировать самоубийство и обмануть полицию, то тем более сумеет осуществить свой план бегства за границу. Глаза закрывались сами собой, но спать ему не хотелось, нужно еще многое обдумать... Давно уже он не оставался наедине с собой, и ему вдруг показалось очень важным пересмотреть свои взгляды на многие истины... Например, его обращение с Мари-Лорой... Он распоряжался ею, как счетом в банке. Даже не в этом дело. Главное заключалось в том, что он и раньше ловил себя на мысли, что хочет внезапно исчезнуть. Он воспользовался случаем не колеблясь, как злоумышленник, стремящийся обмануть своих преследователей. Он никогда не делал ничего плохого. Хороший сын, хороший брат, хороший муж. Безупречный. Исполнительный, скрупулезный, может быть, только немного слабовольный, особенно по сравнению с Денизой... Несмотря на все это, он ни секунды не колебался, когда возник соблазн. Ему хотелось поставить себя на место Мерибеля. В таком случае не стоит судить его слишком строго, надо быть к нему снисходительным. Мерибель поддался власти денег. Он тоже уступил. Только вот чему? Он никак не мог понять, и это раздражало его еще и потому, что если бы удалось устроиться в ином месте, то жизнь вновь бы потекла ровно, без всяких неожиданностей. Это странное, необъяснимое происшествие останется в прошлом! На этой мысли он и заснул. Во сне он слышал, что стонет, ему хотелось пить; повернувшись на бок, он чуть не свалился с постели и с трудом пришел в себя. Опять пробуждался незнакомец, который вновь начнет задавать вопросы. Было чуть больше семи, выходит, он проспал весь день. Еще одна ночь — и останется четыре дня... На столе тикали часы.... Нет, в самом деле! Хватит вопросов! С вопросами покончено! Он наполнил ванну и погрузился в нее с уже забытым наслаждением. Если бы он обратился к врачу, тот, несомненно, пояснил бы, что Севр испытал нервное потрясение и что в таком случае странное поведение представляет собой обычное явление. И не нужно ничего выдумывать, нужно только лежать в теплой воде, лениво слушая шум дождя. Обогреватель нагрел комнату. В общем, жизнь налаживалась. Не таким уж неприятным было это уединение, которое так походило на тюремное заключение. В свое время Дениза возила его в Анжер, в монастырь Святой Анны. Время от времени в ней пробуждались религиозные чувства, и она уединялась в каком-нибудь монастыре, потом с друзьями обсуждала достоинства монахов, монашеские кельи, проповеди. Он же жутко скучал. А теперь, в этой затерянной квартире, без друзей, без документов, почти без еды, он наслаждался покоем, вручив свою судьбу провидению. Он долго растирался полотенцем, и только отсутствие чистого белья мешало ему почувствовать себя по-настоящему комфортно. Завтра он устроит стирку. Прежде чем открыть банку крабов, он включил телевизор, чтобы не пропустить выпуск новостей, затем сел ужинать на кухне. Из гостиной доносились голоса, затем зазвучала музыка. К нему возвращались забытые воспоминания. Часто, когда еще была жива Дениза, он включал телевизор, направляясь к ней на кухню. На чтение газет не всегда хватало времени, и он довольствовался тем, что издали слушал новости, пока она что-нибудь рассказывала. — Ты слышишь, что я говорю? — Разумеется... Ты пригласила мадам Лувель на чай. Он избегал этих чаепитий, там слишком много болтали о политике. Дениза была яростной клерикалкой и упрекала его в безразличии к религии. Он представил, что она сидит напротив и тоже ест крабов. Это было столь нелепо, что он мысленно попросил у нее прощения. Она осудила бы все, что он делал последнее время. Прежде он никогда не вышел бы в гостиную с тарелкой в руке, под предлогом, что должны передавать новости. Он никогда не стал бы вытирать рот носовым платком... Общий рынок... Да ну его! Он им больше не интересуется, а ведь раньше он в него верил... ядерное разоружение... все происходит в другом мире. Торжественное построение перед Домом инвалидов... Он чуть не улыбнулся... Денизе так хотелось, чтобы он получил какую-нибудь награду... Наконец перешли к происшествиям. Он поставил тарелку на подлокотник дивана. Опять буря... Сорваны крыши в Морбигане. Затонул траулер «Мари-Элен» из Конкарно... Так, так... дальше!.. Ах! Ну вот и о нем. «...Следствие по делу Севра продолжается. Наши корреспонденты в Нанте сообщают...» На экране появилась ферма, полицейские машины во дворе. По полученным данным, Севр серьезно поссорился со своим зятем, Филиппом Мерибелем, после чего покончил самоубийством, выстрелив себе в голову из ружья. Филипп Мерибель исчез, но его машина «шевроле-импала» найдена на стоянке вокзала в Сен-Назере. Камера двинулась вокруг «шевроле». Возле машины стоял полицейский. Он смотрел прямо в объектив, заложив пальцы за пояс. Потом вновь показали ферму, залитую дождем, и вдруг крупным планом лицо Мари-Лоры. В сером свете дня она походила на нищенку. «Мадам Мерибель не смогла ничего разъяснить следствию. Ее брат и муж хорошо ладили друг с другом. Их дела, несмотря на кризис, казалось, процветали... Комиссар Шантавуан отказался от каких-либо комментариев. Это самоубийство повергло в уныние весь район, где у покойного осталось много друзей». Камера показала его фотографию, и он невольно отпрянул. Его портрет был в траурной рамке, таковым он появится в завтрашних газетах, таковым его увидят миллионы людей. Эта фотография сделана три года назад. Тогда завершалось строительство комплекса «Морские ворота». Он выглядел важным, уверенным в себе. «После смерти мадам Севр, безвременно ушедшей из жизни вследствие неизлечимой болезни, покойный жил уединенной жизнью. Траур, в котором он пребывал, возможно, частично объясняет его отчаянный поступок...» Начались спортивные новости. Севр выключил телевизор. Это уже победа. Он взял тарелку и разделался с крабами, не присаживаясь, смутно испытывая недовольство. Нет, траур здесь ни при чем. Если же комиссару этого достаточно, тем лучше! Но он-то знал, что причина кроется в... Нет сомнений, первое время смерть Денизы казалась ему кошмарным сном. Да и теперь ему не следовало слишком много об этом думать. Однако... Он вымыл тарелку, приборы, замел крошки в угол комнаты. Чем ему заняться вечером? Может, заглянуть в магазин, заодно и воздухом подышать? Он оделся, сунул фонарик в карман и вышел. Шторм утих. Дождь перестал, и он рискнул пойти по тропинке. Ночь была темной, но время от времени небо вдруг освещалось, и Севр вспомнил, что наступило полнолуние. Хотелось курить, но он решил пока воздержаться. Со стороны поселка его не увидят. Первые дома находились примерно в полукилометре по другую сторону пустыря. Несмотря на темень, он легко представил себе участки, с уже намеченными улицами, вдоль которых стояли фонари, которые, возможно, никогда не зажгутся, панно, где крупными буквами значилось: «Компания Севра». Ла-Боль. Улица Ласточек». Буря, конечно, повалила это панно. Вот и еще одно предупреждение. Пляж простирался слева, волны свободно накатывались на берег, в ночи слышался лишь шум прибоя. Никому не придет в голову сунуть сюда нос. Севр неторопливо направился к своему агентству. Это агентство, где хранились ключи, доверенные тетушке Жосс, — просто подарок судьбы. Под напором ветра дверь открылась. Севр вошел, снова пересмотрел содержимое бюро и картотеку. Он обнаружил три ключа на одном кольце с этикетками: «Железная раздвижная дверь», «Дверь во двор», «Гараж». Если и были какие-то съестные припасы, то они хранились в гараже. Но в каком? Под каждым корпусом находился паркинг, разделенный на боксы. В каждом подъезде стоило лишь повернуть направо, как сразу начинался плавный спуск в подвал. Севр сбежал вниз. В луче фонаря двигались тени, шаги пробудили эхо. Он подошел к первым двум ближайшим боксам, но ключ не поворачивался. Он прошелся по обширной стоянке и с удовольствием отметил, что пол и стены сухие. Четвертый бокс открылся без труда. Он был забит ящиками, пакетами, тарой для бутылок. Прямо корабельный камбуз! Луч фонаря упал на консервные банки, часть из них валялась в беспорядке. Даже странно. Севр посветил повыше, чтобы охватить подвал целиком. Складывалось впечатление, что товары просто свалили в кучу или в них рылись и все перевернули. Но кто мог здесь хозяйничать? Скорее всего, владелец гаража поручил навести порядок какому-нибудь небрежному служащему, а тот принялся за работу в последний момент, как раз перед отъездом. Севр быстро прикинул, что можно захватить с собой: опять крабы, уже тошнит от них. Мясные консервы, солонина, сардины в масле, говяжья тушенка — словом, все то, что продается обычно в бакалейной лавке; на этом можно продержаться несколько месяцев и подохнуть от цинги. Фруктовые соки — в изобилии. Бутылки с минеральной водой. Вина нет, кофе тоже. Он спотыкался о детские ведерки, мячи, шезлонги. Потом увидел коробки с разобранными бумажными змеями, с пляжными играми. Под руку попалась пустая упаковка с оторванной крышкой... Но действительно ли она была оторвана?.. Не становился ли он подозрительным, как преследуемый зверь?.. В самой глубине, в углу, где стояла куча банок, он обнаружил разные мелочи: помазки, зубные щетки, но бритвы не было. Лезвия, разумеется, проржавели бы. Он сунул в карман несколько банок сардин, пачку аспирина. Нет смысла нагружаться: он будет приходить сюда по мере надобности. На три с половиной дня всего хватит. Он с облегчением закрыл дверь. Раз уж он отправился на поиски, стоило вернуться сразу в квартиру Блази и взять красный плед, который он заметил, заодно и размяться немного. Завтра он постарается отремонтировать дверь агентства. Он не был мастером на все руки, но эта дверь, которая не закрывалась, его раздражала. Любой мог войти в помещение. Если вдруг тетушка Жосс надумает делать обход, чтобы посмотреть, не сильно ли пострадал комплекс от бури, то заметит, что кто-то проник в агентство, и может его обнаружить. Надо принять все меры предосторожности. Небо прояснялось. Блестящие, прозрачные, как пар, облака, почти касаясь крыш, проносились так стремительно, что оставалось только удивляться, почему они движутся беззвучно. Гул моря, казалось, усилился, но теперь можно было различить плеск и шелест каждой волны. Если бы он решился, то отправился бы гулять по бесконечному пляжу. В конце концов, он свободен, свободен, как никогда. Может, из-за этого так тревожно на душе? В квартире Блази он осмотрел каждый закуток, но красного пледа на обнаружил. Скорее всего, его и не было. Севр ошибся... И все же...Глава 5
На следующий день шторм возобновился с прежней силой. Севр приоткрыл в гостиной окно, выходящее на эспланаду. Отсюда можно было разглядеть крайние домики поселка. Они едва просматривались сквозь водяную завесу и казались покинутыми. Это напоминало военный пейзаж, когда от свинцовых снарядов темнел горизонт. Для Севра наступили томительные часы безделья, и он вновь прилег. Лишь телевизор кое-как скрашивал его затворничество. В промежутках между нечастыми передачами понедельника он слонялся из комнаты в комнату, кашлял и пытался без особой надежды предотвратить надвигающуюся простуду, глотая аспирин и грог. Чтобы убить время, он придумывал себе разную работу и делал ее не торопясь. Например, он принялся изучать бумажник Мерибеля. Но его зять был осторожен — в бумажнике лежала лишь небольшая сумма денег и несколько цветных фотографий с образцами домов и интерьеров — «квартиры под ключ», которые он продавал по нескольку раз. Хоть Севр досконально знал свое дело, он никак не мог подсчитать сумму мошеннической сделки. Несомненно, Мерибель знал, что однажды попадется. Видимо, он все рассчитал, определил тот период, в течение которого мог действовать безнаказанно. Между тем этот период оказался фатально коротким. Следовательно, хищение не должно было принять особо крупные размеры. Возможно, речь шла о пятидесяти, шестидесяти миллионах? Севр спрашивал себя: не поддался ли он панике? Пятьдесят миллионов еще можно компенсировать и уладить дело полюбовно. Не драматизировал ли он все с самого начала? Да. Но обстоятельства оказались сильнее его. Он сразу же примирился с мыслью, что Мерибель виновен, и это его, похоже, устраивало. По крайней мере, ему следовало бы серьезно изучить документы Мопре. Нет, сразу же последовали высокопарные слова, благородное возмущение... У Мерибеля не осталось времени защищаться. Не совершил ли он самоубийство потому, что Севр задел его самолюбие? Если хорошенько поразмыслить, все не так-то просто. Мерибель пошел на это преступление по какой-то конкретной причине. Все происходило так, как если бы он назначил себе срок... Шесть месяцев? Год?.. После чего, вполне вероятно, он намеревался исчезнуть. Следовательно, заключая мошеннические сделки, он готовил себе путь к отступлению. Неужели он собирался удариться в бега из-за пятидесяти миллионов? Стоила ли игра свеч? Севр пересел в другое кресло. Теперь он задыхался в этих трех комнатах с закрытыми окнами, где работал обогреватель. Он выкурил уже почти все сигареты, и в воздухе стоял запах табака и плесени, как в зале ожидания на вокзале. Размышляя, он постоянно возвращался на то перепутье, где его обуревали сомнения. По сути, что ему известно о Мерибеле? Друг детства, которого якобы знаешь, потому что росли вместе и делили скуку провинциальной жизни. Даже трудно себе представить, что с теми, с кем на «ты», можно поддерживать только деловые связи. Они всегда рядом. В один прекрасный день им говорят: «А не жениться ли тебе на моей сестре?» И не удивляются, что те соглашаются! Никогда не задаются вопросами: счастливы ли они? любят ли их? Нет времени. А может быть, они давным-давно уже стали нашими врагами? Доказательство тому — испанское дело. Кто заговорил в первый раз об Испании? Все произошло как-то само по себе... Дениза не отвергла проект — даже наоборот. А когда Мерибель сказал: «Я съезжу туда, осмотрюсь на месте», он, Севр, с удовольствием отпустил своего зятя. Только Севр привык скрывать свои эмоции. Жизнь напоминает море — никогда не знаешь, что происходит там, в глубине.Севр бросил бумажник в ящик книжного шкафа, он заберет его, когда будет уходить. Вещи, которые носил Мерибель, которые принадлежали Мерибелю, теперь внушали ему отвращение. Внушали отвращение и часы, и обручальное кольцо. Он оставил в кармане только записку, написанную Мерибелем перед смертью. Местный телевизионный канал почти весь вечер посвятил разыгравшейся трагедии. Ферма крупным планом. Ружье крупным планом. Крупным планом лицо Мерибеля, лицо, от которого ничего не осталось после выстрела, но никто об этом не знал, за исключением Севра и Мари-Лоры. Потом появилась и она, одетая в траур, совершенно другая женщина; горе придавало благородства ее чертам, что поразило Севра. Чья-то рука налаживаламикрофон. Чей-то голос сказал: — Мадам Мерибель желает сделать заявление. И Мари-Лора неловко, страшно стесняясь, прошептала тем же тоном, каким читала когда-то катехизис: — Филипп... Если ты меня слышишь... пожалуйста, возвращайся. Я уверена, что ты невиновен, что ты сможешь объяснить, почему мой брат покончил с собой... Восхитительная Мари-Лора! Она придумала эту хитрость, чтобы развеять сомнения, чтобы спасти его, и она играла эту роль так утонченно и с такой самоотверженностью, на которую только она была способна, продолжая настойчиво и жалобно: — Возвращайся, Филипп... Я одна и не могу ответить на вопросы, которые мне задают... Говорят, что вы занимались мошенничеством, я не могу в это поверить... Она не смогла сдержать слезы, и у нее забрали микрофон. — Вы слышали патетический призыв мадам Мерибель, — продолжал ведущий. — Увы, кажется, подтверждается тот факт, что для фирмы Севра наступил трудный период... Нам удалось связаться с комиссаром Шантавуаном, который захотел сказать несколько слов... Комиссар крупным планом. Внешне похож на Клемансо, говорит басом, при этом шевелятся пышные усы. — Да, согласно полученным данным, мы уже сейчас можем сообщить некоторые подробности дела, остающегося загадочным... Покойный разработал смелую программу застройки побережья, куда и вложил все имеющиеся у него наличные средства. Вследствие разразившегося кризиса он, как и другие руководители строительных компаний, испытывал денежные затруднения, хотя и не очень серьезные. В то же время у нас есть основания предполагать, что Мерибель, отвечавший, если так можно выразиться, за внешние сношения, занялся за спиной своего шурина, мягко говоря, опрометчивыми спекуляциями. Следствие только начинается... Но бегство Мерибеля вызывает всевозможные подозрения... Разумеется, выдан ордер на его арест. Затем показали торжественное открытие моста в Вандее. Севр не выключил телевизор, но уже не следил за программой. Он боялся тишины и заснул лишь после того, как закончились все ночные передачи, когда экран стал напоминать бельмо на глазу слепого. «Если меня арестуют и осудят, — думал он иногда, — вот во что превратится моя жизнь». Тогда он ощущал в груди ту же трепетную боль, какую испытал, когда закрыли крышкой гроб с телом Денизы. А почему он думает, что его обязательно осудят? Разве записка Мерибеля не свидетельствует о его невиновности? Севр давно уже заметил, что всегда, при любых обстоятельствах, он опасается худшего. Если бы его не понукали, он не рискнул бы строить эти роскошные квартиры, в одной из которых он теперь изнывал. Даже свою профессию он не любил. По сути, он никогда не делал того, что хотел бы делать. А что он хотел делать? Он не знал. Природа не наделила его большими талантами. Докуривая последние сигареты, он мысленно анализировал свои скромные способности. Он много работал, но скорее по привычке и потому, что был славным малым, склонным к абстрактному мышлению. Он-то понимал, что имел в виду. Он ощущал потребность все определить, свести к простой схеме, исключить из жизни неожиданное, избыточное, необычное, зачеркнуть готовые формулы, и это придавало ему уверенности. И вот он попадает в непредвиденную ситуацию с ее страстями, вожделениями, слабостями, насилием и кровью... и он сломлен! Сломлен, потому что оказался не прав. Вот так!.. Севр обдумывал эти горькие истины и определял время по будильнику, который тоже ошибался. Его окружала сплошная ложь. К счастью, была Мари-Лора. Вторник тянулся бесконечно долго. Дни стали плотными, как порывы ветра. Слышно было, как они скользят вдоль стен, внушая своим бессвязным лепетом больные мысли. Севр похудел. Из-за лихорадочно блестящих глаз, бороды, которая, казалось, делала впалыми щеки, и халата, напоминающего монашескую рясу, он походил на фанатика, которого в учебниках по истории изображали с кинжалом, занесенным над каким-нибудь государем. Во вторник вечером он присутствовал на собственных похоронах. Местный канал посвятил этому событию специальную передачу. Все происходящее засняли с бессознательной жестокостью. В голосе диктора звучал торжественный пафос. Севр зачарованно смотрел на черную обивку с буквой «С», на катафалк с венками... Крупным планом показали ленточку с надписью: «Моему брату...» Несколько друзей, не желая привлекать к себе внимание, укрылись под навесом... Их губы шевелились. Говорили много, и Севр припал к телевизору, будто ему было достаточно напрячь слух, чтобы услышать то, что говорят эти движущиеся тени, и наконец узнать правду. Потом показали гроб, который, согнувшись, почти бегом несли служащие похоронного бюро, все время отворачиваясь от дождя. Они быстро затолкали его в катафалк. Из-за бури у него украли похороны. Все делалось на скорую руку. Изображение было расплывчатым. Картинка то появлялась, то исчезала. Вдоль бульвара поднималась водяная пыль, и все кипарисы, росшие на кладбище, наклонились в одну сторону и походили на черные парусники. Был открыт фамильный склеп, склеп, где покоились два поколения Севров. Там найдет вечный покой Мерибель! Трагедия и фарс слились в одно целое. Хотя хоронили самоубийцу, все-таки удалось пригласить священника. Одежду присутствующих ветер развевал, как белье на веревке. Все старались пригладить метавшиеся на ветру волосы, и поэтому казалось, что они как бы отдают честь, а мальчик из церковного хора крепко держался за крест, стоя на краю могилы, в которой исчез гроб. Это все?.. Нет. Еще короткий кадр — Мари-Лора принимает соболезнования. Лучшие друзья спасались от ливня, прыгая через лужи. Позже они обязательно скажут: «Да, вы помните... Это произошло в середине декабря... в тот день, когда хоронили Севра». Севр только что прошел мимо собственной смерти и с удивлением отметил, что ему все равно. Он спал лучше, чем обычно, и вот наступило утро среды. Еще около тридцати часов! Затем он исчезнет навсегда. Теперь он понимал, что отныне ему стало просто невозможно вернуться назад. Ему, вероятно, простили бы многое, но только не комедию с похоронами. Он посмел глумиться над своим кланом. Он никогда не убежит далеко. Эта мысль заботила его все утро. Куда бежать? И что делать? В сорок лет трудно менять профессию. Он наскоро перекусил, стоя, как путешественник, который боится опоздать на поезд. Он постоянно держался настороже и все же не услышал, как это случилось. Дыхание бури смешалось с шумом скользящего лифта. Он не осознал, что ключ поворачивается с замочной скважине, но уронил консервную банку, когда дверь закрылась. Он прислонился к косяку, не в состоянии двинуться с места. Кто-то пришел! Он всегда знал, что кто-то прячется рядом с ним. Рубильники... будильник... Держа руку на сердце, словно удерживая добычу, которая кусается и царапается, он напряженно думал. Погибнуть тогда, когда он почти дошел до цели... Кто это?.. Бродяга, как и он?.. Нужно будет драться? Бешенство ослепило его. Он бросился в вестибюль и увидел женщину, стоящую спиной к двери. Она открыла рот, чтобы закричать, но крик застрял в горле. Она поднесла к лицу руку с растопыренными пальцами, как в скверном фильме ужасов. Он остановился. Их разделял большой чемодан из свиной кожи. — Не прикасайтесь ко мне, — сказала путешественница. Она задыхалась, готовая вот-вот потерять сознание. Он сделал еще один шаг. — Нет... Нет... Пожалуйста... Деньги здесь. Она протянула ему сумочку с инициалами «Д. Ф», теми же, что и на будильнике. — Я не вор, — сказал Севр. К ней постепенно возвращалось хладнокровие, но от потрясения ее руки повисли вдоль тела, словно плети. Она уронила связку с ключами и не пошевелилась, чтобы ее поднять. Через мгновение она прошептала: — Я могу сесть? Они сидели, оба сбитые с толку, и наблюдали друг за другом с напряженным вниманием, опасаясь неловким движением вызвать самое ужасное. Но она приходила в себя быстрее, чем он. Севр имел опыт и «чувствовал» клиента. Он сразу отнес незнакомку к категории женщин, с которыми невозможно договориться, потому что они спорят, критикуют, грубят только для того, чтобы за ними осталось последнее слово. Он наклонился, поднял связку ключей и вставил ключ в замок. Она вновь потеряла самообладание, когда увидела, что он повернул ключ на один оборот и сунул ключи в карман. — Дайте мне уйти... Прошу вас дать мне уйти... сейчас же! — Я не собираюсь причинять вам зла. Новая стычка. Она, очевидно, спрашивала себя, не с психом ли имеет дело. Он осознавал, что она ощупывает его взглядом, пытается увидеть его истинную сущность, не принимая во внимание бороду, морщины, возникшие от усталости, бледность лица. К Севру вернулась уверенность. Он взял чемодан и отнес в гостиную. Она последовала за ним, и он сразу же узнал запах духов, который тревожил его с первого дня. Она отгородилась от него столом. — Верните мои ключи. Теперь ее губы дрожали от гнева. — Мне нужны ключи. Я здесь у себя дома. — Где мсье Фрек? Теперь счет стал один ноль в пользу Севра. Он угадал, что это лучшая тактика — интриговать, пугать, постоянно вызывать любопытство. — Вы его знаете? — Где он? — В Валенсии, разумеется. — Как вы сюда добрались? — Самолетом. — А затем? — На автобусе. — Он знает, что вы здесь? — И что из этого? Первый признак вульгарности. Он столкнулся с тем, что позволило бы Денизе назвать ее «простолюдинкой». Он стал отмечать про себя те ее черты, которые показались ему подозрительными: слишком высокая прическа, избыток косметики, слишком большая грудь, ярко-красные ногти, слишком толстые кольца. Не лишена элегантности. Довольно красивая. Кожу покрывал темный загар. Но и это стесняло Севра, как и глаза — слегка навыкате, светло-карие, говорящие скорее о вспыльчивости, чем о злобе. — Ну?.. Теперь вы меня выпустите? — Нет. — Это уже слишком! Вы полагаете, что это вам пройдет даром? — Подождите! Когда вы приехали? — Но... только что... Я только что сошла с автобуса. — Скажите правду. Вы здесь уже несколько дней. Не лгите, ведь я знаю. — Вы совершенный... Она сдержалась, пожала плечами. — Мои ключи! — Вы заходили к тетушке Жосс? — Нет... Говорю вам, нет. Я только что приехала... А вы! Скажите сначала, кто вы такой? Что за манеры? Если кто и должен объясняться, так это именно вы, скажете нет? — Я беглец. На ее лице живо, как у актрисы, отражались малейшие чувства. Она подняла брови, они были выщипаны, подведены карандашом и доходили почти до висков. Она улыбнулась краешком рта. — Беглец? Придумайте что-нибудь получше... Но ее уже охватило беспокойство, она ждала продолжения. — Я не могу вам объяснить. Но вы же видите, что у меня нет дурных намерений. Извините, что навязываюсь вам. Просто я вынужден скрываться. — Полиция? — Да и нет. Будьте спокойны. Я не грабил, не убивал... Скажем так: я вынужден исчезнуть. Завтра вечером я уеду. Даю вам честное слово. Она наклонила голову, как животное, которое старается понять смысл слов. Ее удивлял голос Севра, спокойный голос образованного человека, привыкшего отдавать приказы. — Могли бы спрятаться где-нибудь в другом месте, — сказала она. — Здесь или в другом месте, какая разница?! Но что вас привело сюда в такое время года? — Я могла бы ответить, что это не ваше дело. Я была в Нанте проездом, узнала, что буря разрушила многочисленные строения на побережье, тогда и решила заехать, посмотреть... Я дорожу этой квартирой. Так что верните ключи! — Но я же объяснил... — А мне наплевать. Убирайтесь! На этот раз любопытство сменил гнев. Она, видимо, не привыкла, чтобы ей перечили. — Сожалею, — сказал Севр. — Но мне необходимо здесь остаться. Это вопрос жизни и смерти. — Идите в другую квартиру. Их здесь хватает. — У меня здесь свидание. Она презрительно усмехнулась. — В таком случае уйду я. Не хочу вас стеснять. Откройте дверь. — Нет. Никто не должен знать, что я здесь. Вы все расскажете, не так ли? — Можете не сомневаться. Она осмотрелась вокруг. Севр понял, что она искала что-нибудь, чем могла бы швырнуть ему в лицо. — Да вы считаете, что сможете держать меня в плену! Предупреждаю, я буду кричать. — Думаете, в деревне вас услышат?.. Успокойтесь. Поверьте, я прошу вас подождать только сутки. — А если я пообещаю вам, что стану молчать, вы меня отпустите? — Нет. — Вы мне не доверяете? — Нет. Они еще раз смерили друг друга взглядами. Затем она медленно сняла меховое пальто, под ним был темный костюм, скинула пиджак и осталась в белой блузке. Легкая блузка облегала ее настолько, что просвечивался, как сквозь мокрую ткань, рисунок бюстгальтера. — Как вы выносите такую жару? — спросила она почти что любезным голосом. Она пересекла комнату и протянула руку к ближайшему окну. — Нет. — Ах! — сказала она наигранным тоном, но в голосе зазвучали гневные нотки. — Если я правильно понимаю, мне все запрещено. Она обернулась, подняла руку и прищелкнула пальцами, как делает ученик, который хочет задать вопрос учителю. — Мсье! Мсье!.. Могу я осмотреть квартиру? В ее глазах светилось лукавство, и она провоцировала, лихорадочно ища иной способ убежать, чувствуя, что этого странного человека, который бдительно и с тревогой смотрел на нее, можно одолеть издевками. Севр не ответил, поэтому она прошла коридор, вошла в комнату. — Что за манера! Вы могли бы спать в другом месте. Она остановилась на пороге ванной. — Да, ну никакого стеснения! Можно было хотя бы вымыть ванну! Она пошла назад, и он поспешно уступил дорогу. Он и не предполагал, что она так быстро одержит над ним верх. Ему стало стыдно за кухню, за консервные банки, за халат на спинке стула. — Ну и дела! — сказала она, состроив презрительную гримаску. — Вы что, в лесу живете?.. И потом, неужели нельзя одеться как-нибудь по-другому?.. Ко мне в гости в сапогах ходить не принято. — У меня ничего другого нет. — Тогда... Я схожу куплю вам одежду. Она это сказала совершенно естественным тоном. — Нет, — ответил Севр. — Ах да! Я забыла! Она порылась в сумочке, вытащила пачку сигарет и зажигалку. Севр был не в состоянии оторвать глаз от сигарет. — Раз вы все время твердите «нет», то я вам не предлагаю. Она закурила сигарету, выпустила струйку дыма в сторону Севра и вернулась в гостиную, где уселась, обнажив под юбкой восхитительные ноги. Она рассматривала Севра, глядя снизу вверх, словно она разглядывала манекенщика на показе мод. — Дезертир? — Я вышел из этого возраста. — Контрабандист?.. Нет, это не в вашем характере... Вы из здешних мест, раз знаете тетушку Жосс... И у вас здесь назначено свидание!.. Разумеется, вы ждете женщину!.. И боитесь ее мужа... Так!.. Забавно. Она от души рассмеялась, обхватив руками колено и слегка покачиваясь. — Глядя на вас, подумаешь, что вы муж, а не любовник... Вы не очень-то разговорчивы, господин Нет... Обожаю, когда меня развлекают разговором. Она прошептала это таким вызывающим тоном, что Севр отвернулся. Еще сутки! Придется нелегко!
Глава 6
На долю Севра выпало наихудшее испытание — ощущать, как на тебя непрестанно смотрят искушающим взглядом. Она готова воспользоваться его малейшей слабостью. Севр понимал, начнись между ними схватка, он вряд ли окажется победителем. Через минуту она раздавила сигарету в пепельнице и вздохнула. — Предположим, — сказала она, — завтра вы встречаетесь с особой, с которой у вас назначено свидание... Что будет со мной? — Что ж... Вам придется побыть в вашей спальне. — Вы меня там закроете? — Боюсь, что так. — Хочу я того или нет? Она угадывала все его мысли и, конечно, подумала о возможной потасовке, очевидно, она взвешивала свои шансы. — Хотите или нет, — ответил Севр, неожиданно для себя самого вспылив. Ему захотелось, чтобы она потеряла над собой контроль, чтобы согласилась пойти на уступки. Но все происходило как раз наоборот: она его больше не боялась, она хотела заставить его спорить, чтобы ослабить, подорвать его силы, заставить сдаться. Осторожно! Он и так сказал слишком много. — А дальше? — допытывалась она. — После того как свидание состоится, что станет со мной? Молчание. — Вы же не хотите сказать, что... В ее голосе вновь появились тревожные нотки. Севр опять едва не поддался на уловку. Он пожал плечами и принялся ходить по гостиной. — Вы не похожи на злодея! — Ну нет, я не злодей, — проворчал Севр. Это оказалось выше его сил, он не мог не ответить. — Ну?.. Дальше! Я смогу уйти?.. Через час?.. Правда?.. Через два часа? Он остановился перед ней. — Послушайте! Я... Она пыталась разжалобить его. Он сжал кулаки в карманах и вновь принялся ходить. — Так что вы мне скажете? — вновь заговорила она. — Или у вас есть другое предложение? Хотите, я вам кое-что предложу. Когда уйдете, вы меня заприте... Видите, я приняла вашу игру. Потаскуха! Точно рассчитывает удары. Еще немного, и он станет ее слушать и, возможно, вступит в разговор. — Времени, чтобы скрыться, у вас будет предостаточно. Затем вы позвоните какому-нибудь местному жителю, скажете, что я здесь заперта. Таким образом, меня освободят только тогда, когда вы захотите. Вы дадите сигнал... Согласны? А может, она действительно боялась? Тем более следует придерживаться избранной тактики. Он сел подальше от нее на подлокотник кресла. Она вновь закурила сигарету и наблюдала за ним, слегка прищурившись, поскольку дым попадал ей в глаза. Она курила как мужчина, не выпуская сигарету изо рта, даже когда разговаривала. — Весьма разумно, не так ли? Каждый свободен в своих действиях. Обещания выполняются. Договор. Я — за договоры... А вы?.. Ну! Скажите что-нибудь... Хорошо! Как хотите! Она встала, потянулась, зевнула и, не обращая на него внимания, присела на корточки перед своим чемоданом, который принялась расстегивать. — Почему вы не оставили чемодан в камере хранения? Слова сами соскользнули с его уст. С досады он готов был поколотить себя и все же терпеливо и недоверчиво ждал ответа. Зачем таскаться с чемоданом, если в какой-то затерянной деревне надо провести всего лишь несколько часов? Она неторопливо, ласково, с какой-то чувственной мечтательностью провела по коже рукой. — Я слишком дорожу своими вещами, — прошептала она. — Ценный багаж не оставляют в камере хранения. Она открыла чемодан. Он чувствовал себя страшно назойливым. Интересно, что бы она подумала, если бы он извинился? Впрочем, она нарочно демонстрировала у него перед носом свои комбинации, чулки, нижнее белье, которое бережно складывала на ковер. Она разворачивала блузки, шерстяные костюмы, раскладывала их на диване, чтобы они разгладились. — Это все такое нежное, — объясняла она. — Вы должны знать, поскольку вы женаты. — Я... я... — Вы сняли обручальное кольцо, но на пальце остался след... Такие вещи сразу бросаются в глаза. — Что же еще вы заметили? — Уж не думаете ли вы, что мне очень интересно разузнавать о вас? Разговор вновь оживился. И она сразу же этим воспользовалась. — Положите эту стопку в шкаф... направо... в нижний ящик. Он не смог найти причину, чтобы отказаться, и теперь как челнок сновал между спальней и гостиной. Со злостью и отвращением он перетаскивал носовые платки, трусики, мочалки в виде перчатки, надеваемые на руку. От всех этих вещей пахло духами, и ему хотелось расшвырять их по комнате, но что поделаешь! Он вынужден выступать в роли тюремного надзирателя, но не обязан становиться слугой. Он протянул руку к шкатулке, но она живо схватила ее. — Мои сережки! — воскликнула она. Потом дружелюбно, обезоруживающе засмеялась. — О! Они ценности не представляют, а вы уж и размечтались! Она открыла шкатулку. Та была битком набита сережками всех форм и размеров, одни в форме цветка, другие — плодов, третьи походили на драгоценные камни. Она выбрала пару, они напоминали розовые раковинки. — Красивые, вы согласны?.. Я купила их в Нанте, ожидая машину. Интересно, сколько ей лет? Не меньше тридцати пяти... а замашки маленькой девочки. Она сидела на ковре, поджав под себя ноги, и рассматривала сережки. — Голубые мне тоже нравятся. Но голубой не мой цвет! Она сняла свои сережки, надела новые и повернулась к Севру. — Как вы их находите? Новая хитрость? Он уже и не знал. Дениза вела себя совершенно иначе. Если он примерял новый костюм, то сам спрашивал совета у жены, и она указывала, где что подогнать. Он с некоторым отвращением наблюдал за незнакомкой, которая, виляя бедрами, встала и подошла к ближайшему зеркалу. — Волосы совсем растрепались, — прошептала она. И кончиками пальцев, которые проворно забегали, как пауки в своей паутине, она вернула прическе прежний затейливый вид. Она держалась совершенно непринужденно: ни боязни, ни стеснения, ни дерзости, ни жеманности. Как рыба в воде. Как раз именно это и пугало Севра. И в то же время зачаровывало его. Он смотрел на нее с неким сдержанным ужасом. Так в детстве он наблюдал в цирке за клоунами, наездниками, эквилибристами, таинственными существами из другого мира, которые делали немыслимые вещи с застывшей улыбкой и не замечали никого вокруг. — Как вас зовут? — спросил он. — Фрек. Вы отлично знаете. — Это фамилия, а имя? — Доминик. Он опасался, что ее тоже зовут Дениза. Она подошла к нему, слегка покачиваясь и держа руки на бедрах. — Любопытствуете? — спросила она насмешливо, но без злобы. — Доминик... И что... А вас как зовут? — Ну! Это не важно. Дюбуа, Дюран, Дюпон, называйте, как хотите. — Понимаю... мсье Никто! По-прежнему секрет... и по-прежнему вы полны решимости остаться? — У меня нет выбора... Но я устроюсь здесь, смотрите, на краю дивана и больше не сдвинусь с места. И спать буду здесь. — Ха! Вы и ночь здесь провести собираетесь? — Но я же вам объяснил, что... — Ну, разумеется... Я все никак не свыкнусь с этой мыслью. Вновь наступила тишина, но уже другого рода. Они почувствовали себя сообщниками, появилась некоторая двусмысленность после того, как она произнесла «проводить ночь». — Вы мне дозволите запереться в спальне? — спросила она вновь с насмешкой. — Уверяю вас, не стоит меня бояться. — Она симпатичней, чем я? — Кто?.. — Ваша подружка... Ну, та, которую вы ждете. Она не сложила оружие и продолжала отыскивать брешь в его обороне. Севр забился в угол дивана, полный решимости молчать. — Я ее увижу в любом случае, так что выкладывайте. Эту сторону проблемы Севр еще не обдумал. Он не сможет разговаривать с Мари-Лорой в присутствии этой женщины, даже если он запрет ее в спальне... Значит, показательная квартира? Да, но тогда придется оставить Доминик одну... По его лицу было видно, что он озадачен, и Доминик продолжала: — Предупреждаю вас, здесь не дом свиданий... Я без комплексов, однако... — Я жду сестру! — воскликнул Севр, потеряв терпение. — Ах вот как!.. Сестру! Теперь она ничего не понимала и не сводила глаз с Севра, стараясь разгадать, не водит ли он ее за нос. — Может, все же в ваших интересах сказать мне правду?.. Раз вы не вор, не преступник, то можете открыться любому, если только речь идет не о семейной тайне. — Вот именно. О семейной тайне. — Ну что ж, как хотите! Она повернулась на каблуках, как испанская танцовщица, ее платье раздулось, обнажив подвязки, и направилась в спальню. Тогда Севр окликнул ее: — Мадам Фрек, клянусь, что это правда... Я жду сестру... Так что мне хотелось бы... поступить так, как вы предложили, ну, иначе говоря, я вас запру и позже поставлю в известность жандармерию... Конечно, это наилучший выход. Когда я увижу, что сестра пришла, то закрою дверь на ключ и уйду... Теперь желательно, чтобы вы молчали. Вы меня очень обяжете... — Это настолько важно? — Да. Никому не следует знать, что я жду сестру. И, видите ли, вы не могли бы описать меня несколько иначе, понимаете, о чем я говорю? — Короче, вы не только держите меня взаперти в собственном доме, но и считаете нормальным сделать своей сообщницей в деле, о котором мне ничего не известно... Вам не кажется, что вы перегибаете палку, мсье Дюран? Она несколько повысила голос, но, казалось, не очень рассердилась. Она делала вид, что возмущена, чтобы вызвать его на откровенность. Он развел руками. — Весьма сожалею. Она тут же передразнила его: — И я сожалею... Она прошла к себе в спальню и закрыла дверь. Севр понял, что все его планы рушатся. Если она сообщит его приметы и уточнит, что он ждал сестру, то у полицейских возникнут подозрения. Как избежать такой опасности?.. Как обезвредить женщину, которая думает лишь о мести? И к тому же, чем дольше он будет держать ее взаперти, тем больше навлечет подозрений. Придется все объяснить Мари-Лоре, а она от этого может совсем потерять голову. Что тогда? Он же не мог задушить Доминик, чтобы ей помешать... Сдавить руками ее шею... там, где кожа нежнее всего, где бьется жизнь... Сдавить бы хоть слегка, чтобы увидеть... Дверь в спальню снова открылась. Доминик надела прозрачный пеньюар, слегка перетянутый поясом. На ногах у нее были марокканские туфли без задников. Пеньюар лишь слегка прикрывал ее тело. Она чувствовала себя превосходно. В руках Доминик держала небольшой флакончик и кисточку. — Если вы меня задержите слишком надолго, — сказала она все с той же игривостью и непринужденной естественностью, — то забеспокоится мой муж. Тем хуже для вас. — Он далеко, — проворчал Севр. Она открыла флакончик и стала наносить лак на ногти левой руки. — Три часа лета! — Он ревнив? — Да, хотя в то же время равнодушен... потому что теперь он стар. Это довольно сложно объяснить. Он не раз смотрел смерти в глаза, так что каждый новый день для него словно подарок Всевышнего. — Смотрел смерти в глаза? — Да... он жил в Оране[3], а ведь там разгорелись самые ожесточенные бои. От лака для ногтей исходил сильный запах. Севр наблюдал за легким движением кисточки, женщина водила ею сосредоточенно, приоткрыв рот и нахмурив брови. Не отрывая взгляда от ногтей, она попятилась наугад к креслу, стоящему напротив Севра, и, когда почувствовала бедром подлокотник, медленно села, балансируя на одной ноге. Пеньюар распахнулся, обнажив черный чулок, пристегнутый треугольной подвязкой. — Я до сих пор удивляюсь, как нам удалось выкрутиться, — продолжала она. — В то время я еще не была его женой. Он женился на мне позже, когда мы переехали в Испанию. В этом отношении с испанцами шутки плохи... Будьте любезны, подержите этот пузырек. У меня плохо получается левой рукой... Она протянула ему флакончик, окунула кисточку и, вытаскивая, испачкала ему лаком пальцы. — Ох, простите!.. Его легко стереть, знаете... Ваша жена красит ногти? — Она умерла, — проворчал Севр. Она подняла на него глаза, заметила, что у нее распахнут пеньюар, и не спеша поправила его. — Искренне сожалею... — сказала она. — Давно? — Вот уже два года. — Это тоже часть... семейной тайны? Севр вдавил затылок в спинку дивана, вытянул ноги в изнеможении. — Вы считаете, — прошептал он, — что я не понимаю, куда вы клоните? Вы крутитесь около меня... откровенничаете... чтобы и я, в свою очередь, уступил и рассказал... Ведь так, да? Вам не терпится узнать, почему я здесь!.. — О, конечно нет! Если я, по-вашему, откровенничаю, то только для того, чтобы вы поняли, что мне тоже досталось в жизни. Мне довелось пережить такое, что вам и не снилось... И потом, у меня впечатление, что вы принадлежите к категории людей, склонных делать из мухи слона. — Из мухи слона! — съязвил он. — Скажете тоже! Он вдруг вскочил и наклонился к ней, с гневным блеском в глазах. — Я мертвец! — крикнул он. — Вы понимаете?.. У меня нет больше семьи, гражданских прав, денег — ничего... Такое вам доводилось пережить? Вам, все повидавшей на своем веку?.. Если хотите знать правду, то меня похоронили. И букеты с венками нагромоздили на могилу. Только вот речей не читали. Времени на хватило. Она перестала водить кисточкой по ногтям и жадно уставилась на него с выражением полного восхищения. Он хлопнул об пол пузырек с лаком и встал, заметался по комнате от стены к стене. — Больше никто не должен услышать обо мне, — продолжал он. — А... ваша сестра? — Только она одна и знает... Она должна принести сюда деньги и одежду... Но, разумеется, если вы меня предадите... — Я в жизни никого не предавала, — сказала она страстно. — Но я предпочла бы, чтобы меня не впутывали в эту историю. У меня тоже есть личная жизнь. Полагаю, что вы догадались. — О чем? О том, что вы приехали сюда убедиться, что квартира не пострадала? — Это я так сказала. — Есть иная причина? — Вас это не касается... Но, будь я мужчиной... хорошо воспитанным мужчиной... я бы выложила карты на стол... все карты... или ушла бы. Они задирали друг друга, вновь став врагами. Севр капитулировал. — Вас шокировало слово «предавать»? Оно сорвалось нечаянно. Если откровенно, то я считаю вас на это не способной. Но в моем положении я вынужден оставить вас здесь до... Подняв руки, она шевелила пальцами, чтобы просох лак. — Меня никто против воли не удерживал, — сказала она. — Вы были бы первым. На что поспорим? Проявление неуважения всегда причиняло Севру страдания. — Пожалуйста, — сказал он. — Постарайтесь меня понять. — Я что, совершенная дура? Кто угодно, только не такое ничтожество, как вы, сумеет... Потеряв терпение, он отвернулся и тут же получил в спину мягкий удар, она бросила в него подушку с кресла. — Прекратите! — крикнул он. — Это смешно! Она схватила тяжелую хрустальную пепельницу, и он только-только успел пригнуться. Пепельница с грохотом ударилась в стену, отчего окурки разлетелись по ковру. — Хватит!.. Доминик... Он обхватил ее в тот момент, когда она попыталась поднять медную лампу у изголовья дивана. Она стала изворачиваться, он увидел, что она может поцарапать его накрашенными ногтями, грубо заломил назад одну руку, но не успел справиться со второй. Наконец отпустил ее, испытывая боль в щеке. Доминик, запыхавшись, поправляла на груди пеньюар. — У вас кровь, вытрите. Она удалилась в спальню. Он сложил носовой платок и промокнул щеку, испытывая желание наброситься на нее и ударить так, как никогда не бил. — Я вам советую запереться, — сказал он голосом, который сам не узнал. Она толкнула дверь, и он услышал, как заскрежетал засов. — Мразь! — произнес он так, как если бы на болоте раздавил какую-то рептилию. Он плюхнулся на диван, возмущенный до глубины души этой дуэлью, в которой страсти разыгрались с такой силой, что он и не мог припомнить, с чего все началось... Прикосновение к этому крепкому телу, к этим бедрам, скользящим в его руках... к чему-то порочному, такому, что хочется разметать, уничтожить... Потаскуха! И этой женщине еще минуту назад он собирался довериться!.. А потом, очевидно без причины, из-за одного оскорбительного слова... Ладно! Больше врасплох она его не застанет... Севр с трудом поднялся, пошел посмотреть на свое отражение в стеклянной дверце книжного шкафа. Под щетиной проглядывали две красноватые полосы, две легкие царапины, они подсохнут и не будут привлекать внимания. Он глубоко вздохнул, чтобы избавиться от комка, давившего грудь, прислушался. Она наполняла ванну. Севр слышал, как струилась вода. Слышалось что-то еще... да... она что-то напевала, мурлыкала... с такой беззаботностью, что он удивился. Чтобы окончательно убедиться, он прижал ухо к двери и услышал, что так оно и было. Он выпрямился, пристыженный. Севр чувствовал, что изменился. С ее появлением в квартире он перестал себя узнавать. Он заболел ею. Он уже и не вспоминал о том, что его пугало накануне. Мерибель... ферма... они остались не просто далеко, они привиделись... возникли из небытия... Кожаный чемодан стоял все там же. Она не успела распаковать его. Там еще лежали шерстяные вещи, которые следовало разложить по полкам, но он отпрянул, потому что Доминик отпирала дверь. Она появилась на пороге совершенно обнаженная, прошла с таким видом, как будто и не подозревала о его присутствии, захлопнула чемодан и отнесла его в комнату. Ее образ запечатлелся в глазах Севра подобно резко и ярко освещенному предмету, который долго не исчезает, а потом многократно экспонируется на все, что попадает в поле зрения. Он смотрел на диван, книжный шкаф, а видел ее... Позже, и он уже знал это, он будет созерцать ее во всей красе и гореть желанием. А пока он лишь ошеломленный наблюдатель. Она вошла оттуда... Мысленно он повторил путь, который проделала она... пять или шесть шагов... Она наклонилась... затем выпрямилась, отчего у нее напряглась грудь. Ее бедра были того же цвета, что и чемодан. Тело покрывал ровный загар. Она, очевидно, принимала солнечные ванны совершенно обнаженной. Распущенные волосы покрывали бедра. Ни единого взгляда в его сторону! Его просто не существовало. Она находилась у себя дома и могла прогуливаться в любом одеянии... Кому не нравится, может убираться. Она выбрала новую тактику. Даже не закрыла за собой дверь. И не переставала напевать. Из ванной доносился плеск воды, удар плюхнувшегося в воду мыла... Уйти? Перебраться в показательную квартиру? Такого удовольствия он ей никогда не доставит. Но, если он станет навязываться, она будет продолжать его всячески провоцировать. Он почувствовал, что не сможет долго сопротивляться, и это оказалось еще более невыносимо, чем ружейный выстрел, кровь, бегство... Щеку жгло. Он ее сильно потер. Как вырвать из себя эту женщину? «Я, Севр, многие годы жил в мире с самим собой. Я обладал женщиной. Я любил ее. Да, это была настоящая любовь... И вот из-за какой-то первой попавшейся бабенки... у меня уже возникло желание...» Он стал опять мерить шагами комнату, нанося ногами удары по невидимым препятствиям. Слышался шум воды. Она, наверное, стоит в ванной и вытирается. Он вновь увидел ее всю, с головы до ног, она смотрелась лучше античной статуи... Женщина, которой он никогда не обладал... и которой никогда не сможет обладать. Его охватила паника. Если она сейчас войдет в гостиную, то с первого взгляда поймет, что одержала победу. Придется притвориться, что он не видит ее, или скорее ему надлежит вести себя так, как если бы она была одета. Он не уступит. Четыре часа! Еще один вечер, одна ночь, один день... Он поклялся, что не уступит. Теперь, обретя некоторую уверенность, он позволил себе поддаться искушению и вызвал в памяти образ ее тела. Его глаза остановились на воскрешенном образе, скользнули на ее широко расставленные груди, прошлись по блестящей смуглой коже, опустились к животу. Он перестал ходить. Теперь он видел и себя, стоящего посредине гостиной, с лицом, искаженным от неведомой боли, и пожалел, что не покончил с собой в тот вечер выстрелом из ружья.Глава 7
Через приоткрытую дверь Севру удавалось заглянуть в спальню. Прохаживаясь по гостиной взад и вперед, он подошел к стене и заметил картину. На ней была изображена серая полоска воды, а вдали, на горизонте, силуэты каких-то металлических конструкций... Возможно, устье Луары?.. Каждый раз, подходя к картине, он машинально задавал себе этот вопрос. Но когда он поворачивался, его глаза невольно обращались в сторону спальни. Доминик находилась там, по-прежнему напевала, то исчезая в одной половине, то на секунду появляясь в другой: она снимала с кровати простыни... Через мгновение она их складывала... потом исчезала... и появлялась снова, теперь она стелила розовые простыни... Она ни разу не повернула голову в сторону гостиной, отлично зная, что он за ней подсматривает, но и ни единым жестом не выдала, что подозревает о присутствии в квартире постороннего. Она твердо решила игнорировать его. Наступил решающий момент битвы. Как ни в чем не бывало, она вновь надела пеньюар, но под ним легко угадывалось обнаженное тело. И она тоже, очевидно, за ним следила, возможно спрашивая себя, сколько времени он продержится и как она завладеет ключами, когда он окончательно сдастся. Эти мысли вдруг появлялись в его вялом мозгу, затем терялись, неосознанные, в сером тумане. Видеть ее! Видеть ее! Все остальное отступало на задний план. Что бы она ни делала, она постоянно стояла к нему спиной, и он в конце концов обнаружил, что по другую сторону кровати висело зеркало и что от нее не ускользало ни одно его движение. Они следили друг за другом, наблюдая отраженные в зеркале силуэты. Она задержалась около кровати, уверенная в своей власти, и, возможно, уже посмеивалась над ним. Чтобы доказать Доминик, что он сильнее, Севр замер в самом отдаленном углу гостиной. Она перестала напевать, потом вновь продолжила, как только услышала, что он стал прохаживаться по ковру. Это напоминало странную игру, таинственный ритуал, похожий на ухаживания животных, которым никак не удается соблазнить друг друга. Она вышла из спальни, неся голубые простыни, те, на которых он спал, и с отвращением бросила их в глубь платяного шкафа. Затем она прошла мимо него, слегка задев, при этом даже не моргнула. Ни на секунду в ее взгляде не появлялось даже намека на усилие, по которому можно было бы определить, что на вас не хотят смотреть. Она просто его вычеркнула из своей жизни. Он стал менее осязаемым и менее реальным, чем сигаретный дым. Она включила телевизор. Про телевизор он забыл. Из новостей, передаваемых в половине восьмого, она узнает правду. Он подождал, пока она отойдет, и повернул ручку. Она, казалось, удивилась и посмотрела на телевизор с недовольным видом, как бы сердясь на того, кто его продал. Затем спокойно включила вновь и села. Появилось изображение... Школьная передача. Чья-то рука чертила на доске геометрические фигуры, писала уравнения... Она слегка наклонилась, как бы плененная происходящим на экране. Неубранные волосы упали ей на плечо. Он увидел ее шею, почувствовал, что тает, сделал несколько неуверенных шагов и остановился за ее спиной. Цифры исполняли бессмысленную сарабанду... мел писал сам по себе... Тряпка, возникшая из небытия, вытирала доску, расчищая место для иксов и игреков, квадратных корней... Шея, живая, золотистая, с нежной бороздкой, в которой подрагивали темные волосинки, была совсем рядом. Наклониться чуть-чуть... еще чуть... испить из этого источника, к которому стремились все лучи... пить и пить так, чтобы превратиться в ничто... Она оставалась неподвижной, ожидая прикосновения этого лица, которое медленно приближалось сверху, как хищная птица. Резкий порыв ветра ударил в ставни. Севр выпрямился, но его глаза оставались полузакрытыми, а сам он еще не стряхнул с себя оцепенения. Чей-то голос произнес: «На следующей неделе мы рассмотрим проектирование плоскости на...» Но они не слышали. Они ощущали только напряженную пульсацию крови в жилах. Севр отступил. Она сейчас наверняка обернется. Если она совершит эту ошибку, он найдет силы улыбаться, противостоять ей... Она не обернулась. Из кармана пеньюара она вытащила расческу и с томной медлительностью стала расчесывать волосы, пока на экране мелькали стены какого-то замка. Зубья расчески скрипели в копне распущенных волос. Севру казалось, что он чувствует, как живо, вдохновенно колышутся эти полные сладострастия пряди. Но его минутная слабость прошла. Она обо всем догадалась и встала. Расческа замелькала быстрее. Она быстро разделила волосы на части, чтобы заплести косу, и направилась к зеркалу, на ходу продолжая причесываться. Теперь он видел ее в профиль, с поднятыми руками. Под мышками у нее оказались рыжеватые завитушки. Ему и не нужно было к ней прикасаться. Она ему принадлежала целиком... даже в большей мере, чем Дениза! Теперь это имя казалось незнакомым, странным, неуместным... Мимолетно он подумал о Мерибеле, совершившем кражу ради женщины, и одобрил его поступок. С появлением Доминик его озлобленность угасла. Теперь он сердился только на самого себя, нет, не за то, что натворил раньше, а за то, что его гордость мешала ему — сколько же это может продолжаться?! — сказать Доминик: «Я проиграл». В зеркале он видел половину лица молодой женщины, часть лба, один глаз, необыкновенно живой уголок рта, а вокруг — закружились завитками чернильно-черные волосы. Все это выглядело как внезапно ожившее на полотне художника-футуриста. Он любовался каждым движением, любовался новой прической, открывающей шею, уши. Совсем маленькие, точеные, если так можно сказать, с нежными очертаниями, от них падала изящная тень. Он чуть не выразил одобрения, когда она опустила наконец руки и несколько раз покрутила головой, оценивая работу. А затем в каком-то порыве, с необыкновенной живостью, которая его так волновала, она изогнула руку над головой и прищелкнула пальцами, затем подбоченилась, подперев кулаком бедро, и что-то сказала, но вполголоса, для себя самой, поскольку, само собой разумеется, рядом не было ни единого человека, и направилась к нему, причем столь неожиданно, что он отпрянул в сторону. — Посмей только сказать, что я хуже, чем она! Потому что басни про сестру можешь рассказывать кому угодно, только не мне!.. Лжец! Она засмеялась, увидев, как он растерялся, и прошла на кухню. Наступило время ужина. Уже!.. Никогда еще подобная мысль не приходила ему в голову. Ему больше не удавалось рассуждать логично, и он уже не помышлял о том, чтобы дать отпор. В ее глазах он выглядел презренным и смешным. Услышав, как гремят кастрюли и столовые приборы, он вышел в коридор. В этой очень небольшой квартире он был просто обречен на то, чтобы наблюдать за ней исподтишка, забиваясь в угол. Она постоянно находилась на расстоянии вытянутой руки и, однако, казалась недосягаемой. Он видел электроплитку, на которой грелась кастрюля. Время от времени в его поле зрения попадала рука, помешивающая в ней деревянной ложкой. Может, она готовила ужин на двоих и посмеется над ним, если он не сядет рядом? Он сделал вид, что все это ему безразлично, и оперся плечом о дверной наличник — так надзиратель, делая обход, рассеянно задерживается возле одного из заключенных. На столе стояли только одна тарелка и только один стакан, лежала только одна салфетка. Но, возможно, она спросит: «Вы проголодались? Не хотите ли перекусить со мной?..» Она суетилась между столом и электроплиткой... разогревала говяжью тушенку, от которой исходил божественный запах, но ни разу не посмотрела в сторону двери. Его опять вычеркнули из списка живых. Она положила еду себе на тарелку, села и спокойно принялась есть, не обращая внимания на того, кто заглядывал ей в рот, жадно провожая глазами каждый кусочек, как собака, лежащая у ног своего хозяина. Происходившее выглядело настолько глупо, настолько неестественно, а молчаниеказалось таким невыносимым, что и тот и другой ждали, когда произойдет взрыв, закипят страсти. И все же они держались до последнего. Она встала, помыла посуду, прибрала в кухне. Он посторонился, чтобы дать ей пройти, затем вновь поставил кастрюлю на электроплитку и открыл банку мясных консервов. Нелепо, но ведь и у него тоже есть право поужинать! Пока она ела, он ощущал острое чувство голода. Теперь же он силился проглотить эту жирную массу, которую так и не сумел вкусно приготовить. Где она? О чем думает? Он глотал не прожевывая, торопясь вновь увидеть ее. Если бы он перестал слышать ее шаги, то ринулся бы в гостиную. Он следил за ней, прислушиваясь к каждому движению, и вдруг замер, приоткрыв рот, сверкнув глазами, как одержимый. Что она там открывала? Нет... не окно. Да, шкаф в спальне, он определил это по скрипу дверцы. Почему она открывала шкаф? Да, он не прав, такая слежка просто чудовищна, это гнусно с его стороны... но он уже терял самообладание при мысли, что завтра ему придется расстаться с ней. Он на скорую руку вымыл посуду и вернулся не торопясь в гостиную с видом хорошо подкрепившегося человека. Она смотрела телевизор. Было почти семь часов. Уже! Он уселся в кресло. Она погасила люстру и включила торшер, стоящий в углу, отчего комната погрузилась в полумрак. Ветер! Все время ветер! Она забилась в угол дивана, поджав под себя ноги и спрятав руки в рукава пеньюара. Она походила на серьезную, послушную школьницу. Дениза всегда оставалась одинаковой, что в постели, что в церкви. Эта же... Он вновь принялся пристально вглядываться в каждую черточку. У нее был красивый профиль. Анфас ее лица казался немного широким, профиль же был тонким-тонким и страстным... Он подскочил, когда диктор стал говорить о местных новостях. Тем хуже!.. В глубине души ему уже не было досадно, что все так складывалось... Если пришло время сказать правду, то он не будет молчать. Но дело Севра потеряло злободневность. Пожар уничтожил аптеку и перекинулся из-за сильного ветра на жилой квартал. Брандспойты, каски, дым. «По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в пять миллионов...» Опять студия, комментатор заглядывает в свои записи. Удалось ли Филиппу Мерибелю, предпринимателю, скрывающемуся от полиции, перебраться в Швейцарию?.. В Швейцарии его мог бы узнать кто-нибудь из бывших клиентов... Следствие активно продолжается... Потом показали новый мост через Луару. Доминик не шелохнулась. Все это ее не очень-то интересовало. Она зевнула, прикрыв рот рукой, вспомнив, безусловно, что ей надо разыгрывать комедию одинокой женщины. Она сладко потянулась и услужливо выпятила грудь, затем выключила телевизор, как только началась передача «Телевизионный вечер», открыла книжный шкаф, взяла первую попавшуюся книгу и ушла в спальню, оставив дверь приоткрытой. Севр вновь включил телевизор, но, чтобы не мешать ей спать, убрал звук. Он не мог с собой совладать и начал прохаживаться взад и вперед. Она, сидя на краю кровати, надевала сиреневые пижамные брюки. Он вышел из гостиной, а когда вернулся, то она лежала и читала, или делала вид, что читает, при свете ночника, поставленного у изголовья. А он, как он проведет ночь? На диване? Так близко от нее?.. На экране кто-то двигался, шевелил губами. Это не имело никакого смысла. Но давно все происходящее потеряло всякий смысл. Она читала. Он прохаживался. Мелькали кадры. Он ходил от стены к стене, бросал беглый взгляд на картину. Она читала, но расстегнула пижамную кофточку. Заложив руки за спину, сгорбившись, он удалился. Проходя мимо телевизора, увидел танцовщика, крутящегося на кончиках пальцев одной ноги. Что его ждет, когда он пойдет обратно? Ничего. Она спокойно переворачивала страницы. Иногда кровать скрипела. Наконец раздался слабый стук. Книга упала на ковер, запрокинув голову на подушку, она, казалось, уснула. Севр немного пришел в себя, выключил телевизор, разложил на ночь диван и вытянулся, не раздеваясь. Он чувствовал себя неважно, он весь горел и ощущал тяжесть в животе. Достаточно было прислушаться — и можно уловить между двумя порывами ветра ровное дыхание его соседки. В полосе света, падавшего от ночника, ковер казался более светлым, чем на самом деле, а он мучил себя вопросами, охваченный сомнениями, переполняющими обычно душу того, кто погрузился в темноту. Спала ли она на самом деле? Возможно ли такое? Не храбрилась ли, не разыгрывала комедию? Не умирает ли она в эту самую минуту от страха! Она назвала его лжецом. Почему? На что она намекала? «Да, — подумал он, — к себе домой приезжает ничего не подозревающая женщина и сталкивается со странным типом, немного не в себе, и, оправившись после первых страхов, обретает хладнокровие и начинает его соблазнять...» Так или иначе, но это единственно возможное объяснение! Неплохо бы в этом убедиться. Одно из двух: или она спит, и это означает, что она ничего не боится... Значит, она уверена, что ей придут на помощь... значит, кого-то в Нанте или в ином месте встревожит ее отсутствие, и этот кто-то поспешит на помощь... Или она все же не спит... и тогда она просто-напросто несчастная испуганная женщина, пытающаяся его перехитрить. Но это неправда! Нет! Она попала в точку, обозвав его лжецом! А правда заключалась в том, что ему ужасно хотелось встать и, подкравшись на цыпочках, взглянуть на нее, постоять рядом, помечтать в эти томительные часы о другой жизни. И если она спит, разбудить ее, именно сейчас у него возникло желание все рассказать ей. Он просто должен... немедленно... она поверила бы, они перестали бы быть врагами... он бы ей рассказал... все... о ферме... о самоубийстве Мерибеля и о своем внезапном желании порвать со всем тем, чем так дорожил прежде... Он бы ей объяснил, что начал понимать с ее появлением в квартире... что он уже сыт по горло, как и Мерибель... Трудно подобрать верные слова... этим бездушным покоем, комфортабельной пустотой и особенно Денизой... Он всегда пытался избавиться от нее! Сколько раз он готовил свой побег... Нет... Безусловно, дело обстояло не так, но Доминик поймет, потому что она именно та женщина, которая только и может понять... Теперь он должен говорить... говорить... говорить... Он бесшумно поднялся. От волнения у него перехватило дыхание. Он замер на пороге спальни. Она лежала с закрытыми глазами, от ее дыхания равномерно вздымалась простыня, но, когда он сделал шаг вперед, она прошептала: — Не приближайтесь. — Доминик... — Что вам еще от меня надо? Он заранее все продумал, подобрал слова, тон. Но события стали разворачиваться не так, как он предвидел, и от негодования кровь бросилась ему в лицо. — Не подумайте, — сказал он, — что я намереваюсь... — Я знаю. Вы уже сказали... Я не в вашем вкусе. Она открыла глаза, и они блеснули так, что он почувствовал: она даже и не дремала. Он присел на кровать, она не двинулась, чтобы ему помешать. — Что вы думаете обо мне? — спросил он. — Полагаете, что настал час откровений? — Ответьте все же. — Думаю, что вы опасны, мсье Дюпон-Дюран! — Я? — На вид вы порядочный человек и от этого кажетесь столь несчастным и искренним! — Так оно и есть. Я и искренен, и чувствую себя несчастным. — Да, все мужчины так говорят в присутствии женщин. — Вы так хорошо знаете мужчин? — О! Не пытайтесь язвить... Я и в самом деле их знаю достаточно. Во всяком случае, знаю, чего вы от меня ждете. — Вы хотите, чтобы я ушел из этой квартиры? — Вы жаждете меня удивить?.. Я не так уж ошиблась, когда сказала, что вы опасны! Он вытащил из кармана ключи и показал их ей. — Они вам нужны? — Я сама их заберу... когда они мне понадобятся... Я у себя дома, мсье Дюбуа, и не желаю принимать от вас подарки. Севр вновь положил ключи в карман. — Я пришел как друг. У нее вырвался смешок, и она скрестила руки над головой. — Несомненно! — произнесла она. — И глядите вы на меня по-дружески! Он повернул голову, в висках тяжело стучало. — Я хотел бы вам объяснить... — Вы о семейном секрете? Вы его так долго вынашивали, обсасывали... Я выслушаю с умилением. — Вы все же считаете, что я вру? — Уверена. — В таком случае... — Нам больше нечего сказать друг другу. Он посмотрел на нее столь свирепо, что она приподнялась на локтях, готовая защищаться, но глаз не отвела. — Идите спать, мсье Дюпон, — прошептала она. — И, уходя, закройте за собой дверь... спасибо... Он не сдержался и хлопнул дверью. Никогда его так не унижали. Он выпил целый стакан воды и проглотил две таблетки аспирина, чтобы прошла начавшаяся головная боль, затем вновь принялся ходить, как зверь в клетке. Он прилег только тогда, когда почувствовал, что силы на исходе, и все же до утра не сомкнул глаз, прислушиваясь, когда она шевелилась. Раз она не сложила оружия, ему оставалось только перейти в наступление, причем незамедлительно, поскольку час свидания с Мари-Лорой приближался. Но что она могла предпринять? Открыть окно? Закричать? Кто ее услышит?.. И потом, Доминик была не из тех, кто зовет на помощь. Она хотела одержать победу. Станет ли она ждать, пока он уснет, чтобы попытаться забрать ключи из его кармана? Но она обязательно разбудит его. Тогда что ж? Нападет на спящего? Ударит? Ранит его? На нее это совсем не похоже. Дождется ли она, пока он пойдет открывать дверь Мари-Лоре? Попытается резко толкнуть его, воспользоваться тем, что Мари-Лора не ожидает никакого подвоха? Ничего у нее не выйдет, он не будет ждать сестру. Он пойдет ей навстречу. Следовательно, никакой борьбы у двери. Так что ее внешняя самоуверенность оборачивалась совершенной беспомощностью. Отсюда сдержанный гнев, подстрекательство... Размышляя, он не заметил, как впал в забытье. Его вдруг разбудил знакомый шум, на кухне гремела посуда. Итак, ей удалось увидеть его спящим и понять, что он не опасен, сломленный усталостью, которую она же и спровоцировала. Сейчас она постарается завлечь его на кухню, предстать перед ним свежей, подкрашенной, готовой к решительной схватке. Он оставит ее в этой квартире непокоренной!.. Она до конца сохранит свое презрительное отношение к нему и не перестанет обращаться с ним, как с мальчишкой... Она все рассчитала заранее... умело... шлюха! Ладно! Она сильнее. Но он мог принять решение больше о ней не думать, вести себя так, как будто ее здесь нет! Было девять, через семь или восемь часов он уедет с Мари-Лорой... Как болит живот... Никогда раньше так не болел... Он уедет... Выбора нет!.. В дверь гостиной постучали. Он поднял голову. Это она, улыбается, осторожно держит чашку. — Как спалось? Выпейте, пока горячий. Выспавшаяся, накрашенная, одетая, как на светский раут. — Это чай, — объяснила она. — У меня всегда небольшой запас заварки. — Я, знаете ли, искал... — Плохо искали. Пейте смело, он не отравлен. Он понюхал: может, это верх хитрости? — Или вы предпочитаете налить себе из чайника? Он выпил, подталкиваемый потребностью не сводить глаз с лица, из-за которого он совершил столько ошибок. Она по-прежнему улыбалась и никогда еще не была такой желанной. — Отдохните, — сказала она, — а я слегка приберусь... Можно немного проветрить?.. Пахнет, как в свинарнике... Что подумает ваша сестра? И ни тени иронии. — Она придет вовремя, — сказал Севр сухо. — Я и не сомневалась. Вы можете ее описать? Задетый за живое, Севр начал: — Не очень высокая... держится как уроженка Вандеи... скорее брюнетка. — Короче говоря, похожа на всех остальных женщин. Вы готовили ответ заранее, мсье Дюбуа... А когда время истечет, когда мы оба будем уверены, что никто не придет, что вы придумаете тогда? На вашем месте я бы незамедлительно принялась работать над этим вопросом. Ложитесь! Вам так будет удобней размышлять. Она унесла чашку, он слышал, как она наводит порядок на кухне. Звякнула крышка от мусорного ведра. Она вернулась, чтобы спросить: — Я имею право открыть окно? Несколько секунд он колебался. Чем он рисковал, если предположить, что кто-то заметит Доминик? Он пожал плечами. — Вот то?... Вы издалека увидите вашу сестру. Она говорила весело, задорно, не выпуская коготков. Через распахнутые ставни в гостиную ворвался свежий воздух вместе с гулом моря. Капельки дождя брызнули на ковер. — Ну и погодка! — сказала она. — Собаку на улицу не выгонишь, не то что сестру. — Хватит! — крикнул он. — Довольно! Но ей понравилось это новое развлечение, и она все утро непрерывно подходила к окну, объявляя то, что видела вдалеке: «Вижу почтальона... Нет, он не сюда... он в бистро... Смотри-ка, мясник, пересел из своего грузовичка в... А ваша сестра приедет на автобусе или на машине?..» Он не отвечал, не хотел подавать виду, что обижается, но и не мог одернуть ее. Он ее ненавидел, но как только она исчезала в спальне, ждал ее возвращения, прижимая руку к груди, сдерживая свое негодование. В полдень она отправилась готовить обед, и он воспользовался этим, чтобы устроиться у окна. Пустырь был залит водой, пузырившейся под частым дождем. Временами над ним низко пролетала чайка. Поселок, спрятавшийся от непогоды, дымил трубами. Ни души... Почтальон. Мясник... Она все это выдумала, чтобы его подразнить. Ему не хватило мужества встать и поесть. Телевизор она не включала, наслаждаясь его нарастающей нервозностью. С двух часов она уже то и дело смотрела на часы. — Она едет издалека?.. Тогда ей следует поспешить отправиться в путь. У него не было сил умолять ее замолчать. Чтобы приободриться, он начал собирать вещи, проверил содержимое карманов. — Глядя на вас, подумаешь, что вы и впрямь собираетесь уйти. Вы прекрасный актер, мсье Дюпон... Но договор есть договор, сами сказали, что в пять часов вы покинете квартиру. Я поставила будильник. Он не очень хорошо ходит, но в пять зазвонит... Согласны? В половине четвертого он занял свое место у окна. Она тоже, почувствовав, что его нервы натянуты до предела, смолкла. Теперь лишь шумел ветер да стучал дождь. С темного неба спускалась ночь. У входа в поселок зажегся фонарь. Она придет, повторял себе Севр. Он тихо подбадривал ее. Приходи! Мари-Лора! Я больше не могу!.. Темень окутала гостиную. Доминик превратилась в смутный силуэт. Резко зазвонил звонок. — Ну, что я говорила? — прошептала Доминик.Глава 8
— Она могла опоздать из-за плохой погоды, — сказал Севр. — Откуда она едет... по-вашему? — Из Нанта. Доминик включила торшер. — Ключи, — потребовала она. — Теперь они мне понадобятся. Я долго терпела. Вы же не станете это отрицать? Но существует предел... Мои ключи! — Еще немного... может, она приедет. — Нет. Вы меня кормили баснями с самого начала. Севр посмотрел в последний раз на дома в поселке, потом тщательно закрыл окно. Не нужно, чтобы кто-то увидел свет в этом здании. Он повернулся лицом к Доминик. — Хорошо, — сказал он, — я все объясню. — Сначала ключи. — Поймите, она наверняка приедет завтра, она знает, что без нее я пропаду. — Вы, стало быть, вообразили себе, что я буду ждать, пока эта особа, если она вообще существует, соизволит явиться. Пошутили и хватит! — Доминик! — Не смейте называть меня Доминик. Хватит! С меня довольно! Она не хитрила, от прежнего кокетства не осталось и следа. Она требовала свое, по праву. Перед Севром стояла взбунтовавшаяся женщина, готовая обвинить всех мужчин в двуличии. От напряжения и гнева у нее побелела кожа вокруг рта. — Могу вас заверить, — сказал Севр, — что это и мой дом тоже. Весь этот комплекс принадлежит мне. Я его построил. Именно поэтому я и спрятался в этом здании. Показательная квартира находится этажом ниже, но, к сожалению, она нежилая. — Я вам не верю. — Меня зовут Севр... Жорж Севр. Я живу в Ла-Боле. По выражению его лица она старалась определить, правду ли он говорит. Когда он сделал вид, что хочет присесть на другой край дивана, она поспешно отодвинулась. — Оставьте меня... Не приближайтесь! — Я хочу только, чтобы вы знали, в каком я оказался положении... Мой зять покончил с собой... Мы возвращались с охоты на уток... По мере своего рассказа он все лучше понимал абсурдность своих слов. Она сразу уловила растерянность в голосе Севра и прервала его: — Тогда вы должны показать мне свои документы... Иначе как я могу поверить, что вы тот, за кого себя выдаете? — Нет, как раз... все документы, все личные вещи я подложил зятю, пытаясь выдать его за себя... Подождите... Я знаю, это похоже на бред, но вы сейчас поймете... Я руковожу... в общем, я руководил компанией, строил дома... продавал квартиры... со своим компаньоном... Мерибелем... мужем моей сестры. Сейчас она слушала и следила за каждым словом рассказчика, словно ребенок, завороженный сказкой. — Так вот, — продолжал Севр, — одним словом... По вине Мерибеля мы попали в тяжелейшее финансовое положение... — Почему? Он с удовлетворением отметил проявление интереса. Ему следовало бы с самого начала рассказать правду. Это избавило бы его от стольких страданий! — Мой зять, которого я считал порядочным человеком, оказался прохвостом. Он продавал одни и те же квартиры по нескольку раз... Классический прием... Но один человек вывел его на чистую воду... некий Мопре... и решил шантажировать нас, и меня, и его... Мерибель выстрелил себе в голову из ружья... Не знаю, в состоянии ли вы понять, что такое выстрел из ружья в голову... — Замолчите! — пролепетала Доминик, пряча лицо в ладонях. — Это меня и побудило пойти на подлог. Я был разорен, уничтожен. Мне оставалось только одно — исчезнуть... Но обстоятельства вынудили меня спрятаться там, где меня никто не увидит, где никого нет в это время года. Поэтому я и приехал сюда, поэтому и выбрал эту квартиру, ведь она прекрасно расположена и наиболее приспособлена для житья... Сестра должна привезти мне все необходимое, чтобы я смог бежать... одежду... немного денег... Только существует одна деталь, о которой я должным образом не подумал. Очевидно, полиция следит за ней. Со мной-то порядок... по телевизору объявили... моя смерть сомнений не вызывает... Но Мерибеля ищут, и, очевидно, они предполагают, что моя сестра знает, где он скрывается, и надеются, что через нее можно будет выйти на него... Она приедет, нет сомнений... Но, возможно, не раньше, чем завтра или послезавтра... как только сочтет обстановку благоприятной... Вы мне верите теперь? Она уронила руки и посмотрела на него с тревогой, смутившей его. — Вы можете рассказывать все что угодно, — сказала она. — Клянусь, это правда. Подумайте, ведь вас так удивил этот охотничий наряд... вот ему объяснение... консервы... перед уходом я хватал все, что под руку попадалось... еще одна деталь, смотрите... моя бритва! Я забыл, что здесь напряжение 220. Очевидно, мотор перегорел. Пришлось отпустить бороду... Хотите взглянуть на бритву? Она в мусорном ящике. Я могу спуститься, поискать. Она все же сомневалась и медленно направилась в гостиную. — Спрашивайте меня о чем угодно! — воскликнул он. — Самоубийство? — спросила она не без колебаний. — Люди так легко не расстаются с жизнью. Тем более он предвидел, что однажды все всплывет наружу. — Конечно! Но вы совершенно не учитываете фактора неожиданности. Мы возвращались с охоты. Он даже не мог и предполагать... И потом, там находилась его жена... Там был я... Ему предъявили обвинение в нашем присутствии. Он сломался. — Удивительно!.. Он похитил много денег? — Понятия не имею. Несколько десятков миллионов, полагаю. — Он ни в чем не сознался? Вы опираетесь только на слова вымогателя? — Ну уж извините... А его собственные заявления? Мерибель признал себя виновным, но не назвал суммы. — Если вам доведется отвечать на вопросы полиции, вы скажете то же самое? — Разумеется. — Вы предполагаете, что вам поверят? Сомневаюсь. Наморщив лоб, машинально теребя пальцами кисточку от подушки, она старалась выразиться точнее. — Полиция, — продолжила она, — в отличие от меня, будет иметь возможность проверить, что я не... И вы этим пользуетесь... Может быть, вы выдумали про это самоубийство, чтобы произвести на меня впечатление, выгородить себя. — Значит, я лгу? — Не знаю... — сказала она утомленно. — Хватит с меня всего этого... вас... ваших бед... Дайте мне уйти!.. Обманутый в своих надеждах, Севр искал способ убедить ее. — У меня есть и другие доказательства, — сказал он вдруг. Он вспомнил про бумажник и обручальное кольцо, лежащие в ящике стола. Он побежал, схватил их и положил на диван между ней и собой. — Ну, — сказала она, — это бумажник, вижу... и обручальное кольцо. — Это его вещи. На кольце выгравированы его инициалы. Он взял кольцо, зажег люстру и подошел ближе к свету, чтобы лучше разглядеть. — От М-Л тире Ф... От Мари-Лоры — Филиппу... и дальше дата свадьбы... Разве это моя выдумка? Он посмотрел на нее и наткнулся на ненавидящий взгляд, делавший ее лицо похожим на гипсовую маску. — Бумажник и кольцо можно украсть... Она резко встала и подошла к нему вплотную, как бы намереваясь его ударить. — Вы могли его убить... Это было бы для меня понятней. Она вдруг рухнула на диван и разрыдалась. А он, исчерпав все доводы, безуспешно искал, как ее убедить и успокоить. Он присел на колени и потянул к ней руку. — Доминик... Послушайте... Вы же знаете, что меня не следует бояться. Она вскочила как ошпаренная, грубо оттолкнула его, убежала на кухню и закрылась. Севр в полном смятении вдруг увидел свое отражение в зеркале гостиной. Он походил на привидение. В изнеможении он опирался о стены. — Доминик! Пожалуйста! Теперь он увещевал ее, почти вплотную прильнув к замочной скважине. — Если бы я вынашивал какой-либо злой умысел, то не ждал бы столько времени. — Убирайтесь! Он потеребил ручку, нажал на дверь плечом. Изнутри дверь не запиралась на ключ. Доминик, очевидно, прижала ее стулом или гладильной доской. Он толкнул сильнее, и дверь подалась на несколько сантиметров. Он слышал, как прерывисто дышит Доминик. — Доминик... Будьте благоразумны... Я, наверное, не так выразился... Мне не хотелось бы, чтобы между нами возникло хоть малейшее недоразумение... Вы мне очень дороги, Доминик... Бог мой! Что он нес! Но слова лились, как кровь из раны. — Я люблю вас, Доминик... Вот... Нужно, чтобы вы знали... Человек, который вас любит, не мог убить... Вы понимаете это? Он прислушался. Она замерла, как испуганный зверек. Нужно было говорить, говорить, не важно что, успокоить ее, заворожить звуком голоса. — Вы думаете, я все придумал? Но если вы знаете людей, как утверждали, то должны чувствовать, что я говорю правду. Да, это правда, я люблю вас! Это глупо, наверное, смешно... Ну, что вы хотите, чтобы я сделал? Я ничего не требую взамен, только хочу, чтобы ваши сомнения рассеялись. Клянусь, Доминик, я ни в чем не виноват... На первый взгляд все оборачивается против меня, согласен. А вам разве не приходилось быть искренней, но наталкиваться на подозрение?.. Вы же знаете, что значит страдать! Ничего не может быть хуже! Вот это и происходит сейчас со мной... Хотя, впрочем... да, у меня есть еще один способ убедить вас... Я в таком смятении... что обо всем забыл. Он стал рыться по карманам и извлек записку, оставленную Мерибелем. У него так дрожали пальцы, что он выронил письмо, потом никак не мог развернуть. — Смотрите! С него и надо было начинать... с записки, которую Мерибель написал как раз перед тем, как покончил с собой. Доминик недоверчиво взглянула в приоткрытую дверь. — Читаю, — сказал Севр. — «Я решил уйти из жизни. Прошу никого не винить в моей смерти. Прошу прощения у всех, кому нанес ущерб. И у моих родных». Подписано. «Филипп Мерибель», полная подпись. — Покажите! Она еще не сдавалась, но вновь пошла на общение... Севр взял записку за уголок и поднес ее ближе к приоткрытой двери. — Я ничего не вижу, — сказала Доминик. — Дайте мне. — Тогда откройте. — До чего же вы жестоки! Идете на все, лишь бы лишить меня возможности защищаться. — Вам не придется защищаться, Доминик, уверяю вас... Откройте мне! — Сначала письмо. Он немного поколебался, потом просунул руку в щель, крепко держа записку за верхний краешек. Она потянула так сильно, что бумага разорвалась. У Севра в руках остался только небольшой клочок. Он изо всех сил дернул за ручку двери. — Доминик! Умоляю вас... Это письмо может спасти меня... Я больше никак не могу доказать, что Мерибель покончил с собой. — Ключи! — Что? — Верните мне ключи! Он бросился на дверь, и она приоткрылась чуть пошире. — Если вы войдете, я его разорву. Задыхаясь, он стал растирать плечо. Он с такой силой толкнул дверь, что сердце чуть не выскочило из груди и, казалось, застряло где-то между ребрами. Он услышал, как она чиркнула спичкой. — Боже мой! Доминик... Вы не сделаете этого! Он вновь разбежался и бросился на дверь. За створкой что-то треснуло. На этот раз он почти мог проскользнуть. Она приблизила спичку к уголку записки. Она тоже перестала владеть собой. Пламя коснулось бумаги, но записка не загорелась. У Доминик дрожали руки. Севр протиснулся между дверью и стеной. Его куртка зацепилась за ручку. — Остановитесь... Доминик. Чем отчаяннее он пытался высвободиться, тем более упругой становилась ткань. Пламя охватило край бумаги и устремилось к руке, держащей письмо. У Севра на шее вздулись вены от напряжения. Он видел, как увеличивается черный круг, пожиравший в нижней части пламени строчки, написанные Мерибелем. Теперь поздно! Его мышцы ослабли, он отпрянул назад, куртка освободилась, и он очутился по ту сторону, весь в поту, в полном изнеможении. От письма остался только обгоревший клочок, он упал из рук Доминик, разлетелся на кусочки, которые свернулись, как мертвая кожица, и упали на плиточный пол. Севр прислонился к стене. — Ну, — выговорил наконец он, — можете радоваться! Она медленно опустила руку, державшую письмо. Ярость, исказившая ее лицо, постепенно проходила. Она закрыла глаза, чтобы вновь открыть их, как бы пробуждаясь от глубокого сна. — Вам не следовало меня провоцировать. Он уцепился за спинку стула и подтащил его к себе. Ноги у него подкосились. — Если меня арестуют, — прошептал он, — я пропал. Вы только что вынесли мне приговор... Но я никого не убивал! С горькой улыбкой он добавил: — Я на это просто не способен. Если бы я был тем, кем вы меня считаете, я вас задушил бы здесь, сразу, не колеблясь. Он опустил голову, посмотрел на свои руки, лежащие на коленях, и продолжил хриплым голосом: — Но это — вы, и поэтому я не сержусь на вас. Вы по-прежнему хотите уйти? Она села на табуретку. Силы покинули и ее тоже. — Наверное, я ошиблась, — созналась она. — Поставьте себя на мое место. Вы даете мне честное слово, что ваша сестра придет? — Что за вопрос? Разве я могу кривить душой в таком положении? — Тогда я подожду. Она посмотрела на него испытующе, как судья на подследственного. — Вот видите... — продолжала она. — Мне сдается, что вы потеряли уверенность... Хотелось бы, чтобы вы в ее присутствии повторили все, что изложили мне. Если это правда, я попробую вам помочь. — Прежде всего вы попытаетесь сбежать. Вы только об этом и думаете! — Вы не верите? Он кивком показал на пепел от записки. — После этого трудно верить! Удрученные, они смолкли, прислушиваясь к шуму ветра и дождя. — В жизни я совершила немало такого, чем вряд ли стоит гордиться, — сказала она. — Хотя я не злая. Если вы заслуживаете того, чтобы получить шанс на спасение, я помогу вам. Но меня столько раз обманывали! Разрешите мне поговорить с вашей сестрой. Что ж, почему бы и нет? Севр задумался. Не это ли лучшее решение? Доминик могла бы стать куда более ценной союзницей, чем Мари-Лора. Она-то могла ехать куда угодно. У кого она вызовет подозрение? Оправдываться за свое пребывание в комплексе ей не нужно. И главное, он не потеряет ее... во всяком случае, не сразу... — Войдите в мое положение, — сказал он. — Официально меня нет в живых... Меня никто не должен узнать. — Я понимаю, — сказала она. — Для вас самое трудное — уехать отсюда. — Если вы мне поможете, то вас будут считать моей сообщницей. — Как сказать! Можно разработать такой план... Но стоит ли ломать копья именно сейчас?.. Подождем вашу сестру. Напряжение как-то само собой спало. Между ними установилась даже какая-то симпатия. Может, потому, что у него пропал интерес к борьбе, а может, потому, что она не испытывала больше чувства враждебности. Совершенно неожиданно сожженное письмо их сблизило. Оба пребывали в растерянности, но именно это и сплачивало их. В молчании теперь не таилось угрозы. Она встала, взяла щетку, стоящую в стенном шкафу, неторопливо, осторожно, как будто речь шла о мертвой птичке или о чем-то очень хрупком и дорогом, собрала пепел. Подобный жест служил лучшим доказательством тому, что она приняла его версию, а ее сдержанность была только последним проявлением гордости. Затем она наскоро приготовила ужин и поставила два прибора. — Нам будет не хватать всего этого, — заметила она. И это впервые прозвучавшее «нам» тоже свидетельствовало об определенных переменах. — Завтра вы будете свободны, — сказал он. И, вторя ей, тут же поправился: — Мы будем свободны! Они быстро поели. Тем не менее она казалась очень озабоченной. Их соглашение было столь хрупким, что Севр предпочитал молчать. Он хотел помочь ей вымыть посуду, но она его отстранила, не сказав ни слова. Тогда, чтобы доказать свои добрые намерения, он включил телевизор. Когда начали передавать местные новости, она бесшумно проскользнула в гостиную, но осталась стоять около двери. Было ясно, что она не сдалась и пока временно заняла нейтральную позицию. Но в сводке о ферме ничего не сказали. Севр выключил. Она еще секунду не шевелилась, как бы не замечая, что телевизор уже не работает. Она выглядела растерянной и, казалось, не замечала ничего вокруг, словно ее застигла врасплох какая-то недобрая новость. Раскаивалась ли она в том, что сожгла записку? Севр чувствовал, что она вовсе и не мечтает обрести свободу. Все усложнялось. Он перестал быть для нее преградой, проблемой — одним словом, ничего из себя не представлял! После сцены на кухне он ее уже интересовал гораздо меньше. А может, после всего, что он наговорил, она его просто презирала? Он не смел задать вопрос, отдавая себе отчет в том, что они стали друг друга стесняться. Она удалилась в спальню, а он сожалел о тех часах, когда они чувствовали себя врагами. Ветер ослабел. Так глупо терять вечер, тем более что это, без сомнения, их последний вечер. Ему столько еще нужно объяснить! Он прошел через гостиную, остановился в коридоре. — Доминик! — позвал он. — Доминик... Я бы хотел... — Завтра, — сказала она. Он не настаивал. Он не решился прохаживаться взад и вперед, как накануне, и украдкой заглядывать в спальню. Он улегся на диване. Ночничок опять прочертил на ковре светлую дорожку, но у него больше не возникало желания пройтись по ней. Он безнадежно старался заснуть и не заметил, как уснул. Наступило утро. Начинался новый день, который все поставит на свои места. Буря стихала. Было слышно, как вода стекает с крыш. Шум моря стал приглушеннее. Севр сел среди смятых подушек и неожиданно увидел ее. Она расположилась в кресле, рядом с телевизором, одетая, плащ лежал на коленях, как у пассажира, ожидающего первого поезда. — Здравствуйте, — сказал Севр. — Я больше не могу, — прошептала она. — Побыстрее бы все закончилось. В ее голосе опять зазвучала озлобленность. — О! У нас есть еще много времени, — сказал Севр и тут же пожалел о своих словах. Чтобы разрядить обстановку, он открыл окно. Теперь они могли наблюдать за дорогой. Моросил теплый дождик. Очертания домов едва просматривались, а на пустыре образовались огромные лужи. Ветер совсем стих. — И не увидишь, как она подъедет, — сказал Севр. — Скорей бы уж, — вздохнула Доминик. Потянулось утро. Севр заварил чай, предложил чашку Доминик, та отказалась. Она с трудом сдерживала нетерпение, то и дело вставала, подходила к окну и нервно ходила по гостиной. Она навела полный порядок в спальне. Ее чемодан, уже собранный, стоял у двери в прихожую. В полдень они слегка перекусили, и Доминик прибралась на кухне. Квартира опять приобрела нежилой вид. По мере того как шло время, в них росло отчуждение друг от друга. Дождик превратился в густой туман. Обогреватель они выключили, и в квартире становилось холодновато. — Мы услышим шум машины? — спросила Доминик. — Не думаю, что она рискнет остановиться перед жилым массивом. Она скорее доедет до грунтовой дороги, а оттуда придет пешком. — С чемоданом? Она хотела дать понять, что Мари-Лора глупа, что все выглядит идиотски и что если она ждала, то только из чувства порядочности. Она уже, конечно, сожалела, что на какое-то мгновение усомнилась в виновности Севра. Севр прекрасно понимал, что если Мари-Лора не появится, то больше он не сможет удерживать Доминик. Он сидел на диване, когда она сказала, стоя у окна, неуверенным голосом: — Полагаю, что это она! Севр ринулся к Доминик. Он увидел, как из тумана возник серый силуэт, согнувшийся под тяжестью чемодана. Да, это Мари-Лора. — Подождите меня здесь! — крикнул Севр. — Я ей помогу. Он вышел, поискал рубильник, включил его, протянул руку к лифту, затем передумал, быстро вернулся назад и закрыл на ключ дверь в квартиру. Когда он вновь подошел к лифту, кабина шла вниз. Мари-Лора, не зная, что он находится на четвертом этаже, поднимется на третий, где расположена показательная квартира. Спуститься к ней он уже не успевал. Он подождал. Его сердце неистово билось. Наконец он услышал мягкий щелчок остановившейся на первом этаже кабины. Тогда он нажал на кнопку вызова. Однако лифт продолжал стоять на первом этаже. Быть может, Мари-Лора никак не могла втащить чемодан, ведь автоматические двери закрывались слишком быстро. Наконец кабина тронулась, и он увидел мигающую красную лампочку. Не остановит ли Мари-Лора лифт, решив, что что-то неладно? Но кабина тихонько двигалась вверх и остановилась перед ним. — Ну наконец-то, — сказал он, открывая дверь. Кабина была пуста.Глава 9
Посмотрев вниз, Севр увидел чемодан, один чемодан, стоящий у стены, ведь Мари-Лора была очень щепетильна, даже в мелочах, но эта черта и делала ее отсутствие необъяснимым. Может, он вызвал лифт слишком рано? Такое иногда случается. Едва в кабину ставят вещи, как двери уже закрываются, поскольку один из жильцов преждевременно приводит механизм в действие. В таком случае Мари-Лора уже, наверное, поняла, что он увидел ее и ждет наверху. Ему оставалось только к ней спуститься. Севр вошел в лифт и нажал на кнопку первого этажа. Он рассматривал незнакомый ему чемодан. По бокам его перетягивали два ремня. Он поднял его и подумал, что для женщины такой чемодан слишком тяжеловат. Мари-Лоре, видно, досталось, пока она донесла его до комплекса. Кабина остановилась, и Севр толкнул дверь. В холле никого не было. Он прошелся, поднял голову, в потемках увидел перила винтовой лестницы — никого! Он быстро пересек холл. Слева виднелась дорога, на которую ложился густой туман. Справа за застывшей конструкцией из легких материалов сквозь сетку дождя просматривался сад. Он прислушался, но услышал лишь, как капли дождя стучат по мокрой земле да шум воды, льющейся из водосточных труб. Он вышел на крыльцо. Наверное, Мари-Лора вернулась к машине, чтобы взять другой чемодан. Туман делал ее невидимой. Или же... Он бегом вернулся к лифту и поднялся на третий этаж. Но у Мари-Лоры не было ключей от показательной квартиры. На лестничной клетке ни души. В большом смятении, Севр опять спустился. Это смешно, конечно! Мари-Лора появится, само собой разумеется. Надо потерпеть только пять минут. Он не решился позвать ее, тем более выйти к эспланаде. Шло время. Мари-Лора не возвращалась. Может, она заметила за собой слежку? Она, видимо, смогла оторваться от полицейски, но успела только поставить чемодан и убежать. Это выглядит правдоподобно. Даже вероятно... Наверняка она не замедлит сделать еще одну попытку. И тогда? Ждать, опять надо ждать. Но согласится ли Доминик?.. К счастью, он держал в руках чемодан, и этот чемодан свидетельствовал, что у него нет плохих намерений. Продрогнув от холода, Севр вернулся в лифт и поднялся на четвертый. Доминик, вся в напряжении, полная тревоги, стояла за дверью. — Я уже, грешным делом, подумала, что вы оба удрали, — сказала она. Севр поставил чемодан в прихожей. Доминик продолжала стоять перед открытой дверью. — Ее нет? — спросила она. Севр закрыл дверь на ключ. — Нет. Я искал повсюду. Полагаю, что-то вызвало у нее подозрение. Она успела только поставить чемодан в лифт. — Это еще что за россказни? — Это не россказни. Вы видели, что она шла, так же, как и я. — Да, я видела, как шла женщина. — Женщина, которая несла мне белье, одежду... Это могла быть только Мари-Лора... Сами подумайте! Он взял чемодан за ручку и поставил его на стол в гостиной. Чемодан был совершенно новым и пах кожей. Севр принялся расстегивать ремни. — Если за ней следят, у нее не было выбора... и потом, она такая трусиха, бедняжка! Он нажал на замки, металлические защелки с треском отлетели. — Одному Богу известно, что ей вздумалось мне принести! Ей иногда в голову приходят нелепые идеи... Он поднял крышку. Доминик, стоявшая позади него, подошла с недовольным видом, все еще не избавившись от подозрений. Ни тот, ни другой сначала ничего не поняли. Чемодан был битком набит небольшими пачками, перетянутыми резинкой... Бесконечно повторялось изображение лица одного и того же человека в парике... — Бог мой! — пробормотал Севр. — Банкноты в пятьсот франков! — прошептала Доминик. Севр, держась за края чемодана, смотрел на его содержимое так, как смотрят на кишащих змей. Потом, внезапно охваченный порывом бешенства, столкнул чемодан на ковер и сильно тряхнул, чтобы очистить его до дна. Образовалась куча из пачек банкнотов, некоторые пачки упали под кресла. — А где же... — сказала Доминик, — одежда? Одежды не было. Только банкноты. Доминик нерешительно подняла пачку... посчитала... В пачке десять штук. Но сколько пачек?.. Если прикинуть на глаз, то несколько сотен... — Не понимаю, — повторял Севр, присев на корточки. — Это совершенно бессмысленно! Кончиком туфли Доминик пододвинула к нему несколько пачек, упавших дальше других. — Не прикидывайтесь простаком. Эти деньги вы украли у ваших клиентов. — Я? — А я-то, наивная, вам поверила. Да! Ловко придумано! Эта Мари-Лора — ваша сообщница, не так ли?.. И вы ее предупредили, что я здесь. Теперь вы, конечно, притворяетесь изумленным. Вы что, оба принимаете меня за дуру?! — Ну что вы, Доминик, что вы! Я понятия не имею, откуда взялись эти деньги. Я даже не знаю, сколько их! — Лжец! Лжец! Вы убили его вместе с вашей сестрой — вот единственная правда, я в этом уверена. Записку, которую я сожгла, вы подделали. О, как я была права! Она встала за креслом, чтобы он не смог дотронуться до нее. — Вам не удастся заставить меня замолчать... Клянусь, я за него отомщу....В ваши лапы я не попадусь! Севр, опершись на одно колено, как боксер, исчерпавший силы, был не в состоянии подняться. В руке он еще держал пачку банкнотов, тупо на нее уставившись. — Ради чего я столько преодолел? — сказал он. — Я мог бы просто-напросто исчезнуть. Вы говорите глупости. Доминик вдруг уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. Севр тяжело поднялся, бросил пачку в чемодан и подошел к Доминик. Она отступила назад, они так и ходили вокруг кресла. — Пожалуйста, — сказал Севр. — Сейчас не время ссориться. — Возможно... Но не старайтесь меня убедить, что, сколотив такое состояние, можно покончить с собой. И вновь они вместе уставились на гору банкнотов. Но она тут же перевела взгляд на него, готовая, если он попытается приблизиться, дать отпор. Севр, пораженный замечанием Доминик, задумался. — Он потерял голову, — предположил Севр. — Иного объяснения у меня нет... Даю честное слово, что я удивлен не меньше, чем вы. Здесь... я не знаю... нужно посчитать... возможно, четыреста или пятьсот миллионов... Я и представить себе не мог, что он похитил такую сумму... Нет сомнения, он собирался удрать, разорив меня и Мари-Лору... Скорее всего, так оно и должно было произойти. Теперь, когда я знаю, сколько он хапнул... Появление Мопре перевернуло все его планы. — За пятьсот миллионов можно пойти и на убийство! — Вы считаете меня, его шурина, и Мари-Лору... не забывайте, что она его жена... способными совершить подобное преступление! Неужели я стал бы жертвовать своим положением, идти на такой риск только ради того, чтобы завладеть этими миллионами, которые я не в состоянии перевезти через границу?! Вот он — другое дело, ему как раз терять было нечего! — Допустим, — сказала она. — В таком случае эти миллионы... Вы их вернете? Севр понизил голос. — Я мог бы их вернуть... если бы вы не сожгли записку Мерибеля. Но теперь... у меня нет доказательств, что я не убийца... по вашей вине. Уязвив ее, он перешел в наступление. — И я тоже, — продолжил он, — потерял голову... По моей вине все так осложнилось! Но если вы, человек, которому я спокойно объясняю, что произошло, мне не верите, то кто же поверит вообще? — Вы можете поклясться, что не разговаривали со своей сестрой? — Повторяю, что этот чемодан я обнаружил в лифте. Все. Она его поставила и тотчас ушла. — Любой бы его смог взять. — Кроме нас, здесь никого нет. — И все же странно. Ведь она должна была попытаться встретиться с вами, пусть на мгновение. Кто же принесет пятьсот миллионов, чтобы просто оставить их в лифте? — Разумеется. Это странно, но мы, по сути, не знаем, что же произошло. Она нам расскажет, и все прояснится. — А если она не вернется? — Ну как можно, это же глупо! — Вы допускаете, что несколько минут назад ей грозила какая-то опасность. Ей могут грозить и другие опасности, она будет все время откладывать встречу с вами. И что тогда?.. Сколько еще вы собираетесь меня здесь держать? Севр, показывая, что у него нет дурных намерений и что он озадачен так же, как она, опустился на диван. — Вчера, — сказал он, — вы предложили еще свою помощь. — Это было вчера. — Со вчерашнего дня ничего не изменилось, и я прошу вас подождать еще сутки. — И что же тогда? Вы, честный мсье Севр, удираете с деньгами. У вас просто нет иного выхода. Или сдаваться в полицию, или бежать. Попадаться в руки полиции вам не хочется. Остается бегство, если я правильно поняла. Поскольку вам нужны деньги... — Вы не совсем правы, — сказал Севр. — Мне нужно, чтобы сестра объяснила вам, что онавидела и слышала на ферме. Что же буду делать я и что со мной станет, пока я даже и не думаю об этом. Но я не желаю в ваших глазах выглядеть злодеем... негодяем... Вчера я сказал вам, Доминик, то, что не следовало бы говорить. Однако это правда. Я дорожу вашим мнением обо мне. Все так глупо... И потом, что значат одни сутки? — А что мы будем есть? Она соглашалась. Несмотря на свои сомнения, она все же продолжала доверять ему. Он минуту помолчал, чтобы не дать ей повода испугаться. — Я схожу за продуктами, — сказал он. — Кладовые универмага заполнены до отказа. — Тогда идите немедленно, если не хотите остаться без ужина. Она все еще не выходила из-за кресла. — Вы боитесь? — Проявляю осторожность, — ответила она. — Где моя сумка? — В шкафу на кухне. Он пошел на кухню, на обратном пути не преминул заглянуть в гостиную. Она не тронулась с места. Он вышел, закрыл дверь, сел в лифт. Альтернатива, высказанная Доминик, не переставала его тревожить. Сдаться властям или уехать?.. Очевидно, тюрьма грозила ему и в том, и в другом случае. Сумма была весьма значительной. Столь значительной, что он даже не мог твердо сказать, не появится ли у него желание оставить ее у себя! Им овладевало чувство вины. Пятьсот миллионов! Наступила ночь. Он зажег фонарик и пошел напрямик к агентству, где взял связку ключей, затем спустился к гаражам. Севр очень удивился, что наделал такой беспорядок в кладовой. Он аккуратно сложил разбросанные консервные банки. С первого же взгляда можно было определить, что кто-то здесь побывал, и он упрекнул себя в небрежности. Севр взял говяжью тушенку, зеленую фасоль, добавил банку супа. Нет смысла много набирать на один день... Он пока не представлял себе, что будет делать, если Мари-Лора не приедет, но так дальше продолжаться просто не может. Он посмотрел, что бы взять еще, и вдруг обнаружил большую коробку, которую не заметил в первый раз. Коробка была раскрыта, в ней лежали три банки с растворимым кофе. Кофе! Севр тут же их сунул в сумку, но, может, тут есть и другие банки?.. Он напрасно светил по всем углам, больше он ничего не нашел. Он так любил кофе! Как же, черт возьми, эти банки ускользнули от него в прошлый раз? Наверное, он очень нервничал. Правда, сейчас он нервничает еще больше! Но перед глазами уже стояли две дымящиеся чашки... Доминик была находчивой женщиной, может, она подскажет какое-нибудь решение?.. Пятьсот миллионов!.. Как Мерибелю только удалось провернуть такое?.. Севр отнес ключи в агентство и направился в квартиру. Он спешил. Ему не следовало оставлять Доминик наедине с этими банкнотами. Он-то привык иметь дело с крупными суммами, поэтому эти деньги не вскружили ему голову. А вот она... Но нет... Пачки лежали нетронутыми. Доминик, когда он вошел, на них даже не смотрела. Она открыла свой чемодан и укладывала туда кое-что из одежды. — Я принес кофе, — гордо объявил Севр. — Предлагаю выпить его сейчас же. Поужинаем после. Он протянул сумку Доминик. Она хотела уже поднять руку, чтобы взять ее, но передумала. — Положите ее на кухне, я ее потом разберу. Может, это и смешно, но я, однако, предпочитаю держаться от вас подальше... Я знаю. Да, вы невиновны. Временами я просто в этом уверена... и все же... так лучше... трудно объяснить почему. Севру казалось, что их отношения дошли до абсурда, дальше некуда. Но он ошибался. Она приготовила кофе, выпила свою чашку, он тем временем ждал в гостиной. Затем он пошел и выпил безо всякого удовольствия свой кофе, настолько его задело сказанное. А еще через какое-то время они поужинали, держась на значительном расстоянии друг от друга. Она ни на мгновение не сводила с него глаз — так смотрят на хищника, от которого можно ожидать чего угодно. — Что-то подобное я видел в цирке, — усмехнулся он. — Я тоже, — сказала она. — Вы совершенно правы! Она вымыла посуду. Он крутился, покусывая ногти, вокруг банкнотов. Что делать? Как добиться ее расположения? Ничего не придумав, он принялся укладывать пачки в чемодан, заодно их пересчитывая. Всего четыреста восемьдесят. — Сколько? — спросила она. Он поднял голову. Она стояла на пороге спальни. Она задала вопрос только из вежливого любопытства или же у нее были силы, о которых он и не догадывался? — Немного недостает до пятисот миллионов, — сказал он. — На его месте я сделал бы несколько вкладов. Возможности, судя по всему, у него были. Глупо держать такую сумму наличными! — Каждый по-своему демонстрирует свою любовь к деньгам, — сказала она. — Спокойной ночи. Она закрыла дверь, и Севр на этот раз не рассердился. Он уже и не знал, любит ли ее или ненавидит, хочется ли ему ее поколотить или стиснуть в объятиях, возникнет ли у него желание предложить ей миллионы или же удрать одному, словно вор, преследуемый жандармами. Он прочно затянул ремни. После кофе и консервов он испытывал жажду. Он пошел и выпил один за другим два стакана воды. Когда он вернулся, то увидел, что дверь ее комнаты тихонько закрывалась. Она следила за ним, опасаясь, что он уедет, оставив ее взаперти. На цыпочках он подошел к ее двери и остановился в нескольких сантиметрах. Ему показалось, что он слышит ее дыхание. Ни он, ни она не спали, пытаясь найти ответы на одни и те же вопросы. На следующий день, как только рассвело, Севр открыл окно. Утро было серым и скучным. Теперь Мари-Лора могла вернуться в любую минуту. Он приготовил кофе и крикнул, подойдя к двери спальни: — Я приготовил завтрак. Можете выходить. — Отойдите подальше, — ответила она. Повторялась глупая комедия вчерашнего дня. Он замер у окна и не оборачивался, пока она шла через гостиную. Видимо, начинался прилив, потому что море, казалось, плещется рядом с домом. Каждая волна с силой обрушивалась на берег, затем, не торопясь, долго скользила назад, мягко шелестя, как подъемник в шахте. Поселок спал. — Я готова, — сказала Доминик, стоя за его спиной. Опять потянулись часы ожидания. Молчаливого ожидания. Чемоданы стояли рядом. Они избегали смотреть друг на друга. Но их мысли неотступно возвращались к этой огромной сумме денег. Она сказала, что можно за пятьсот миллионов пойти на убийство. На что бы решилась она сама ради пятисот миллионов? Они жадно ловили каждый звук. Вокруг было так тихо, и они нисколько не сомневались, что услышат шум мотора старого «ситроена», если Мари-Лора остановит его на эспланаде. Временами вдалеке проезжали какие-то машины. Десятичасовой автобус? Привезли хлеб? К полудню Доминик потеряла терпение. — Она не вернется, вот увидите! Он не ответил. Зачем? Они прекрасно знали, что теперь уже им нельзя расставаться, что друг без друга им не обойтись, если они хотели спасти капитал. Один он попадет в руки полиции. Оставшись одна, она его выдаст. При всем недоверии, которое они питали друг к другу, у них оставался единственный шанс на двоих. Дождаться ночи, а там будет видно... Они придумают что-нибудь. Но если Мари-Лора не появится... нет, это немыслимо! Неплохо было бы перекусить, не важно чего, не важно как. Это не имело значения. В час, чтобы отвлечься от тревожных мыслей, поскольку обстановка становилась невыносимой, Севр включил телевизор. Новость прозвучала как гром среди ясного неба: «Снова о деле Севра: ночью в двух километрах от населенного пункта Пириак в опрокинувшейся в кювет машине марки «Ситроен» найден труп Мари-Лоры Мерибель, сестры покончившего с собой несколько дней назад предпринимателя. Один из водителей сообщил в полицию. Существует предположение, что несчастная женщина не вписалась в поворот. Ведется расследование...» Севр как бы спускался по ступенькам черной лестницы. Какой ужас его ждал в самом низу? Потрясенный, он хотел спросить: «Это все? Мне больше нечего терять, я переступил последнюю черту». Если бы он был один, он лег бы здесь же, где и стоял, и ждал, когда горе навалится на него со всей силой. Но рядом находилась Доминик. — Вот видите! — сказал он. Доминик нащупала рукой спинку кресла и не столько села в него, сколько свалилась. — Я ни разу вам не солгал, — добавил он. — Совершенно не понимаю, как она не вписалась в поворот. Она же знает дорогу как свои пять пальцев. Доминик была шокирована еще больше, чем он. Ей бы следовало немедленно потребовать ключи. К каким только ухищрениям она не прибегала, чтобы их заполучить! А теперь до свободы рукой подать, и она ничего не просит, ничего не говорит. Ее поведение так удивило Севра, что он забыл про свое горе, но он слишком устал, чтобы поддерживать разговор. Раз она оставалась рядом с ним, значит, принимала близко к сердцу его страдания, стала союзницей, и, возможно, он мог на нее рассчитывать. Чуть позже она приготовила кофе и принесла ему чашку. — Вы любили свою сестру? — спросила она. — Наверное, да... Иначе я бы не испытывал такой боли... Я ей посоветовал выйти замуж за Мерибеля... и вот что получилось... если бы не этот чемодан, она бы осталась в живых... и здесь моя вина. — Нет! Нет! — сказала она. — Не смешивайте одно с другим. Вина лежит на вашем зяте. Но что произошло, то произошло. Мы уедем вместе... Я найду выход, мне не привыкать. Не волнуйтесь. Они ждали выпуска новостей на местном канале. Мало-помалу Севр обретал дар речи. Сейчас он испытывал потребность рассказать Доминик о Мари-Лоре. Бедняга, она никогда не была счастлива! Ее супружеская жизнь сложилась неудачно. Мерибель обращался с ней как со служанкой. Она никогда не жаловалась. Она безгранично любила его. Доминик внимательно слушала. По ее лицу было видно, что она страдала. — Она когда-нибудь думала о разводе? — Нет. Она принимала жизнь такой, как есть. Она обожала мужа — в нем чувствовалась какая-то неимоверная внутренняя сила, животная жажда жизни, которая сносила все преграды. Я понимаю, почему столько людей стали жертвами его обмана! Если бы вы его знали, то увлеклись бы им, как и все мы. Он ни в чем не знал удержу. Именно поэтому он не сумел остановиться, чтобы подумать. — А вы? Я вижу, как вас мучает совесть, но вы, извините меня, ведете себя несколько странно... Что вас побудило принять такое решение? Ведь ваш поступок настолько необычен... — Не знаю. Бывают мгновения, когда один довод перебивает другой! Не оказал ли Мерибель и на меня какое-то воздействие? Возможно, я завидовал ему, сам того не осознавая. И мне, наверное, захотелось... как бы сказать?.. получить некое наслаждение, уйти... хоть не надолго, от бремени забот, одних и тех же забот. Вы понимаете меня? — О! Конечно, понимаю! — Поэтому... когда вы приехали... — Да. Не волнуйтесь. Я сама найду выход из создавшегося положения. Она закрыла окно. Им некого больше ждать. Затем она вымыла и расставила посуду. Севр впал в оцепенение, и грусть принесла ему облегчение. Худшее осталось позади. В программе новостей, которая вот-вот должна начаться, уже ничего неожиданного не скажут, только прокомментируют происшедшее. Поэтому он и не встал, когда Доминик включила телевизор. Но вскоре он приподнялся на локте, затем вскочил. «Неожиданная развязка в деле Севра... Мари-Лора Мерибель была убита...» Диктор, уверенный, что произвел огромное впечатление, поправил лежащие перед ним листы бумаги и скрестил руки. Он, казалось, не сводил глаз с Севра и говорил только ему одному: «Расследование, быстро проведенное комиссаром Шантавуаном, позволило прийти к заключению: жертву убили и затем перенесли к месту, где и была обнаружена машина. Состояние «ситроена» не оставляет никаких сомнений, в канаву его столкнули руками. Если бы машина ехала с нормальной скоростью, то корпус был бы поврежден гораздо сильнее. Кроме того, мадам Мерибель скончалась от удара, нанесенного в правый висок, иначе говоря, в то место, которое не пострадало в момент, когда тело бросило вперед и голова стукнулась о лобовое стекло. К несчастью, на дорожном полотне не осталось никаких следов. Откуда ехала машина? Вероятно, из Нанта. Но убийца мог приехать из Пириака и, прежде чем столкнуть машину, развернул ее, чтобы сбить следователей с толку...» На экране появился «ситроен». Перед машины почти утопал в канаве, наполненной водой, вокруг него простирались бесконечные поля. Печальный пейзаж Лабриера под мертвенно-бледным небом. «Это преступление таит в себе много загадок, — продолжал диктор. — В данный момент мы не уполномочены сообщать подробности, но уже сейчас мы можем заявить, что прокуратурой вынесено решение провести эксгумацию трупа Жоржа Севра. Повторное вскрытие состоится завтра утром...» — Это должно было произойти, — прошептал Севр. «Возникает законный вопрос: не был ли несчастный предприниматель тоже убит? Нужно ли говорить, как накалены страсти!» Севр выключил телевизор. — На этот раз, — сказал он, — мне конец. Они обнаружат, что труп не мой, и все свалят на меня! Он посмотрел на Доминик. Ее лицо исказилось от ужаса. — Вашу сестру убили здесь, — выдохнула она. — Здесь... Вы понимаете?Глава 10
Здесь... Всю ночь это слово не сходило у них с языка. Не могло быть и речи о том, чтобы немедленно уехать. Осторожность требовала подождать дальнейшего развития событий. Следовало принять все необходимые меры предосторожности. Они уже нисколько не сомневались, что на территории комплекса кто-то прятался. Эта мысль и раньше появлялась у Севра, наверняка уже два или три раза. Рубильники не отключены. Забывчивость тетушки Жосс или... А исчезнувший из квартиры Блази плед? И особенно — кладовая универмага, беспорядок, бросившийся в глаза... возможно также, будильник, хотя это и не столь очевидно. Какой тогда напрашивается вывод? Незнакомец тоже имел доступ в агентство, доступ к ключам. Он тоже ходил, где ему вздумается. И Севр при мысли об этой тени, наблюдающей за ними, следующей за ними по пятам, бродившей сейчас по лестницам и коридорам, покрылся холодным потом. Сколько раз он и Доминик повторяли одно и то же, понизив голос, ведь, возможно, кто-то сейчас их подслушивал. — Бродяги, — повторял Севр. — Их всегда можно встретить на любой стройке. — Но здесь уже не стройка. — Весной начнут строить новый дом. Строительные блоки уже завезли. Отсюда их не видно. — Откуда они сюда приходят? — Вы слишком много от меня хотите... думаю, из Сен-Назера. Но обычно это безобидные существа, страдающие алкоголизмом. Зимой они прячутся в норы. Как крысы. Нет ничего удивительного, что кто-то из них, чуть посмышленей, чем остальные, понял, что ему будет удобней разместиться в этом здании, куда в это время года никто не придет. Ничего удивительного нет, но оба отдавали себе отчет, что это объяснение ломаного гроша не стоит. — Зачем же ему убивать? Они поочередно задавали себе этот вопрос. Зачем? Захватила ли его Мари-Лора врасплох? Но Севр, вышедший на площадку четвертого этажа в тот самый момент, когда Мари-Лора остановилась на площадке первого этажа перед лифтом, ничего не услышал. Если бы на Мари-Лору кто-то напал или просто произошла бы потасовка, он бы непременно услышал какой-нибудь шум, например топот ног, ведь в холле эхом отзывался малейший звук. А чемодан? Нападавший бы завладел им. — Как сказать, — возразила Доминик. — Предположим, некто появляется в тот момент, когда ваша сестра ставит чемодан в лифт. У него просто нет времени схватить чемодан. Ваша сестра толкает дверь лифта, а вы нажимаете на кнопку вызова... Это еще как-то можно понять. — Мари-Лора позвала бы на помощь. — Но он ее убил! Потом он относит тело и прячет его. Вы затем спустились и просто ждали внизу. Вы ему никак не мешали. — Да, но машина?.. Ни один бродяга не смог бы так все логично продумать. Проехать через поселок, даже глубокой ночью, на «ситроене», найти место, где могла бы произойти автокатастрофа, сообразить развернуть автомобиль в том направлении, откуда он ехал. Нет, все было слишком ловко подстроено. И потом — что больше всего смущало Севра, — смерть Мари-Лоры представила дело в новом свете. Не следовало питать иллюзий. Повторное вскрытие покажет, что труп с фермы был трупом Мерибеля. Какие выводы сделает полиция, нетрудно догадаться. Кто больше всех заинтересован в том, чтобы его считали умершим, как не убийца обоих супругов? И подтасовка фактов послужит неопровержимым тому доказательством. — Возможно, — говорила Доминик, стараясь его успокоить. — Но вы уверены, что эксгумация может что-то изменить? — Совершенно уверен, — настаивал Севр. — Я был уверен в этом еще раньше! И тут я совершенно бессилен. Он расхаживал взад и вперед, упрямо объясняя Доминик причины своего поражения, не оставляя молодой женщине ни малейшей надежды. — Изуродованное тело, — продолжал он, — всегда вызывает подозрения. Рано или поздно тайное становится явным... Если бы не эта история с «ситроеном», то произошло бы еще что-нибудь. Только, видите ли... одного я не могу понять... одну деталь. Держу пари, что Мари-Лору убили, чтобы вновь навести полицию на след. — Это совершенно нелогично! — Да, знаю. Они вновь принялись обсуждать вариант с бродягой. Но все время возникали новые вопросы, остававшиеся без ответа. Это не мог быть бродяга! И это мог быть только бродяга!.. Севр приводил многочисленные доводы. Утомленная Доминик устало закрыла глаза. — Вы сами видите, в какое положение я попал, — настаивал Севр. — Если бы я убил, то, уж конечно, поспешил бы уехать отсюда. Можно легко догадаться, что Шантавуан, обнаружив машину, перекроет проезд, установит наблюдение на дорогах, на вокзалах. Вы согласны со мной? Она кивком показала, что еще слушает, что не спит. — Самоубийство, — продолжил Севр, — еще куда ни шло, комиссар может это понять. Но два преступления? Да он поднимет на ноги всю жандармерию. Мне не выбраться отсюда. А оставаться здесь с... с этим человеком, теперь готовым на все... Невозможно. Я даже не могу пойти за продуктами. — Хватит, не терзайте себя. — Я рассуждаю, и только. — Вы слишком много рассуждаете. Ваши близкие, очевидно, изрядно намучились с вами. Я не удивлюсь, если... — Если что?.. Хотя вы правы. Я всегда просчитывал все «за» и «против». Помню, однажды... И тут на него нахлынули воспоминания о прошлом. Он говорил помимо своей воли, как на приеме у психиатра. Наконец он заметил, что она уснула. У него даже сложилось впечатление, что он разговаривал сам с собой во сне. Больше он не выдержит. Он бесшумно проскользнул на кухню, припал к воде и долго пил, безуспешно стараясь погасить сжигавший его после смерти Мари-Лоры огонь. Потом он вновь сел рядом с Доминик и смотрел, как она спит. Итак, она прекратила сопротивление, она уже знала, что он невиновен. Ему удалось ее убедить... Может, теперь стоило ее отпустить? Если их застанут вместе, то она будет напрасно скомпрометирована. Кто поверит в сожженное письмо? А если выяснится, что он держал эту женщину взаперти столько дней... он уже не помнил сколько... это только отягчит его вину. Он напрасно искал выхода... его не существовало! Более того, ему припишут самые гнусные мотивы преступления: его обвинят в убийстве зятя и сестры с целью завладеть всеми деньгами. Из него сделают монстра. Они даже не удосужатся обыскать комплекс и окрестности, опросить здешних бродяг... Голова Доминик все больше и больше запрокидывалась на подушках, ее руки медленно раскрывались, подобно причудливым цветам. Она была далеко от него. Может, ей снились другие мужчины? Только с ней он мог чувствовать себя в безопасности... — Доминик! — прошептал он, поскольку тишина становилась невыносимой. — Доминик! Я сказал, что люблю тебя... Возможно, это неправда... потому что я еще никого не любил... по крайней мере, хоть это я понял здесь... Но я не хочу причинять тебе беспокойство... Ты уйдешь... оставив мне свой гнев, свое презрение и, наконец, свою жалость... Это много! После этой ночи последует сотня других, которые я проведу в тюрьме. У меня останутся только воспоминания. Я смотрю на тебя... твоя щека дрожит, и я вновь сотни раз увижу, как она дрожит. Ночь за ночью я буду видеть блики света на твоих, зубах. Я охраняю твой покой, Доминик... Я, который уже мертв. Он бы многое отдал, чтобы продлить это мгновение, запомнить истины, идущие из самых глубин, которые, возможно, потом обретут форму, но все смешалось у него в голове. Он устал, страшно устал и чувствовал, что его сознание куда-то ускользает. Когда он вновь открыл глаза, то увидел, что она склонилась над ним и, казалось, пыталась что-то прочесть на его застывшем лице. Быть может, у нее еще не было полной уверенности?.. Вдруг он обрел ясность ума. — Несомненно, — сказал он, — я мог бы с кем-нибудь договориться, чтобы мою сестру убили... Кто знает, может, мой сообщник тут, рядом?.. Вы об этом подумали, признайтесь! Она смутилась, потом пожала плечами. — Я много думал, — продолжил он. — Если они установят, что это труп Мерибеля, а об этом я скоро узнаю, то я сдамся властям. В поселке есть отделение жандармерии. И снова она пожала плечами. — Или еще проще, — вновь заговорил он. — Вы ее предупредите перед отъездом. Вам достаточно позвонить, не называя себя. Вы скажете, где я нахожусь. За мной придут. Это для вас лучшее решение, единственный способ избежать неприятностей. — За кого вы меня принимаете? — спросила она. — Когда вашу сестру убили, я находилась здесь. Вам необходимы мои свидетельские показания. Вы полагаете, что я сяду в самолет и брошу вас? — Мне не хочется впутывать вас в это дело. — Вы меня в него уже впутали. Тем хуже для вас. — Посмотрим. — И так все ясно. Севр встал. У него слегка кружилась голова. Он прошел через гостиную и прихожую, вытащил связку ключей из кармана и вставил ключ в замочную скважину. — Вы свободны, — сказал он. — Я оставляю ключ в двери. — Спасибо. Я не тороплюсь... Немного кофе? Неужели они так и остались врагами? Ночное примирение вновь исчезло. Севр чуть было не схватил чемодан и не ушел. А вдруг вскрытие из-за какого-то невероятного стечения обстоятельств не даст никакого результата? Доминик протянула ему дымящуюся чашку. Он, скрепя сердце, взял. И вновь началось ожидание. Доминик устроилась на диване, показывая всем видом, что не собирается уходить. Но он совершенно не испытывал чувства признательности за ее отказ. Он представил жандармов, пишущую машинку, отстукивающую свидетельские показания, взгляды, украдкой брошенные на Доминик. Он догадывался о последствиях, о слухах и уже читал статьи в местных газетах. Чем тверже Доминик будет защищать его, тем большее возмущение она вызовет у его друзей, клиентов. Как это объяснить женщине, жившей, пренебрегая общественным мнением? Он включил телевизор задолго до начала передачи. К горлу подступила тошнота. Доминик оставалась спокойной, как бы заранее зная, что ставки сделаны. Она едва повернула голову, когда диктор сказал: «Дело Севра приобрело новую окраску. Нам сообщают из Нанта, что был предан земле вовсе не труп предпринимателя. Полиция хранит полное молчание, но напрашивается логический вывод: если покойный не является Жоржем Севром, то, по всей вероятности, это Филипп Мерибель, объявленный к розыску. Очевидно, Севр убил зятя, который работал в его фирме, а затем избавился от сестры. Следствие продолжается. Оно неизбежно завершится арестом преступника...» — Ну что ж, — сказал Севр, — так даже лучше... А вам, Доминик, нужно уходить. Вы слышите? Меня разыскивают. Всем известны мои приметы. Бороться совершенно бесполезно... Я найму хорошего адвоката, он сошлется на нервную депрессию... Вы мне больше не нужны. Я... Доминик расплакалась. Это случилось так быстро, так неожиданно, что озадаченный Севр замолчал на полуслове. Крупные слезинки одна за другой медленно катились по лицу. Так капельки воды после дождя стекают по свисающим проводам. Слезы, вызванные настоящей болью. — Будет вам, Доминик, не из-за меня же... — Он умер. — Кто? — Филипп. — Филипп?.. Мерибель?.. Мой зять... Ну и? — Я была его любовницей. Севр резко выключил телевизор. — Филипп... Филипп и вы? — Да. — А! Понимаю. Он храбрился, стараясь хладнокровно отнестись к такому признанию, как человек, который уже ничему не удивляется. Только не проронить ни слова, оставаться спокойным. Она была его любовницей... Вот так!.. Не предаваться ни отчаянию, ни гневу... Унять небрежным жестом волнение крови... Похоже на перерезанную артерию... Чувствуешь, что жизнь уходит... Мерибель... получил все... деньги... любовь. Его и в самом деле следовало убить... Приставить ружье к сердцу... чтобы свершилось правосудие... Настоящее правосудие... — Простите меня. — Что? Она просила прощения. Он подавил короткий смешок. Прощения? Ну да! А чего с ним церемониться?.. Его можно обмануть, над ним можно глумиться, и у него можно попросить прощения. Но так ли это на самом деле? — Подойдите ко мне. Я вам все расскажу... Он умер, я в этом убедилась, и скрывать мне больше нечего. — Слушаю вас. Он ответил суховато, как адвокат, как юрист, у которого время ограничено, и это было смешно. Он вполне отдавал себе в этом отчет. По его вине теперь все станет фальшивым, неестественным. Она это почувствовала, поскольку тут же сдержанно спросила: — Я разговариваю с другом или с судьей? Он подсел к ней, не сказав ни слова. — Вы уже поняли, — продолжила она, — что я сюда приехала не случайно... не из-за бури. Она вытащила из сумочки кружевной платочек, вытерла глаза, промокнула щеки. — Я, наверное, ужасно выгляжу... Мне не хотелось бы, чтобы вы страдали из-за меня. Жорж... Я плачу, но не из-за него, а из-за всего того, что я думала о нем. Я не знала, что он негодяй. — Вы думали, что негодяй — я? — Да, думала. Поставьте себя на мое место. Или скорее вначале я вообще ни о чем не думала. Мною владела только одна мысль: заполучить ключи... убежать. — Любым путем? Она отступила назад, чтобы было удобней на него смотреть. — У женщины есть только одно средство... Надеюсь, у вас хватит тактичности меня в этом не упрекать. — Скажите «Жорж» еще раз. Она провела тыльной стороной ладони по его виску. — До чего же вы странный! — прошептала она чуть слышно. — Такой восприимчивый, такой нежный... такой неопытный!.. Вы совершенно ничего не понимаете в женщинах, не так ли, Жорж? — Да! Неприязнь прошла. Может быть, они наконец смогут все рассказать друг другу? Севр почувствовал, что до правды рукой подать. Слова наконец станут средством общения, а не преградой между ними... Ничего не утаивать... Но говорить мягко, доверчиво... Он схватил руку Доминик и с силой сжал ее. — Вы все мне расскажете... абсолютно все... сначала. — Не думайте Бог весть что! — сказала она. — И принимайте меня, пожалуйста, такой, какая я есть... Деньги много значили в моей жизни... Я согласилась выйти за моего мужа только потому, что за ним я чувствовала себя как за каменной стеной... Так поступают, знаете ли, многие женщины!.. Я не любила его, но неприязни не испытывала. Как я уже говорила, мы были вынуждены покинуть Алжир и уехать в Валенсию. Здесь я встретила Филиппа... Она почувствовала, как Севр стиснул ей руку. — Будет вам, Жорж! Проявите благоразумие! Все уже в прошлом. И вы сами признали, что ваш зять обладал такой энергией, что почти никто не мог ему противостоять. Вы, возможно, и не замечали, но у него были замашки диктатора. Я так скучала!.. А скучающую женщину, Жорж, покорить легко. И потом, он строил столько планов! А женщину легко прельстить, разглагольствуя перед ней о своих намерениях. Я поехала бы за ним на край света. Он мне говорил, что богат, но что ради меня хотел стать еще богаче и что он вскоре таковым и станет. А тем временем, чтобы я была рядом с ним, он посоветовал мне купить эту квартиру... Точнее, мой муж купил ее на мое имя, он охотно помещает деньги за границей. — Вы проводили здесь все свое свободное время? — прервал ее Севр. — Я приезжала сюда, летом два раза. — И здесь вы встречались с Мерибелем? Он хотел встать, она удержала его подле себя. — Зачем ревновать?.. Его больше нет... Вы как ребенок... Успокойтесь, этот диван не хранит никаких тайн... раз вы хотите все знать. В сентябре этого года Филипп... — она тут же спохватилась, — Мерибель сообщил мне, что готовит наш отъезд... Мы должны были изменить фамилии, чтобы ни его, ни мои родственники не смогли нас найти, и уехать в Бразилию. — А... документы? — У него были многочисленные связи в самых разных кругах. Для него это не представляло никакого труда. Мы решили, что встретимся в Швейцарии, в Лозанне, как только все будет готово. Он мне пошлет телеграмму. Я как раз ждала телеграмму... и из французской газеты узнала, что он исчез после самоубийства своего шурина. Можете представить мое беспокойство. Я подождала день, другой, затем вскочила в самолет. Я даже не продумала конкретный план действий, просто я хотела все выяснить. Я говорила себе, что он должен прятаться в этой квартире. Поэтому, как только самолет приземлился, я бросилась сюда. — Вы, наверное, натерпелись страху? — В тот момент, да. Но в Алжире я и не такое испытала! Я привыкла находить выход сама... а вы мне показались не таким уж злым. — Но вы мне не поверили? — Нет. Я полагала, что Мерибель просто не способен совершить самоубийство. Не знаю, как это вам объяснить. Я тут же заподозрила, что произошло что-то еще... другая трагедия, которую вы хотели от меня утаить... Поэтому я сожгла записку, будучи уверенной, что это фальшивка... а когда меня пытаются водить за нос, то я уже не ведаю, что творю... И потом, сколько ожиданий... надежд... мне казалось, что все потеряно... Я надломилась. — Я ни о чем не догадывался! — О! Я умею сдерживаться, но не прощу себе, что уничтожила записку. Это ужасно. Я вас погубила, мой бедный друг. Если бы вы сохранили эту записку, то смогли бы доказать, что не убивали Мерибеля... и вернуть деньги... — Никто не поймет, почему я решил выдать себя за покойника, — отрезал Севр. — С их точки зрения, это, по сути, непростительное преступление. Нечто похожее на предательство... Я сам толком не знаю, что на меня нашло... Знаю только, что пощады мне ждать не приходится. И в этом я убежден. — Тогда, Жорж, нужно без колебаний бежать... Знаете, о чем я думаю?.. Только не сердитесь... План Мерибеля мог бы сгодиться и для вас. — Нет. Я не сержусь... Только Мерибель рассчитывал исчезнуть прежде, чем начнется следствие. Вы сами видите разницу. — Вы предпочитаете, чтобы вас схватили здесь? Я понятия не имею, как рассуждают полицейские, но рано или поздно кто-то из них вспомнит о комплексе. Они придут с обыском. На мой взгляд, это может случиться в самое ближайшее время. Нужно найти другое место. Разве я не права? — Но куда идти? — Сначала выберемся отсюда. Один, разумеется, вы далеко на уйдете. Но если я отправлюсь в Сен-Назер купить вам одежду, то меня никто не заметит. Если затем я возьму два билета до Лиона, например, никто не обратит внимания. Полиция ищет мужчину. Супружеская пара подозрений не вызовет, это очевидно, тем более что вы теперь с бородой. Я куплю вдобавок очки, шляпу, которая скроет верхнюю половину лица. Поверьте, вы ничем не рискуете. Лион я предложила так, случайно. Но от Лиона можно поехать южнее, в Марсель, в Ментону, отыскать спокойный уголок, как делают те, кто нуждается в отдыхе. — Мне придется, однако, показывать документы, — возразил Севр. — Нет же. Я сама заполню карточку в гостинице. Мы просто-напросто станем мсье и мадам Фрек, затем я достану другие документы. Я знаю, к кому Мерибель хотел обратиться. У меня в сумочке лежит перечень фамилий. Это обойдется недешево, но деньги у нас есть... С этими деньгами вы вольны делать все что хотите, но пока будет смешно... если вы ими не воспользуетесь, чтобы найти убежище... Или нет? Что-то еще вас беспокоит? — Да, комната. — Какая комната? — Ну, мы... в гостинице, вы и я. — А-а! Она улыбнулась мило, без кокетства. — Я привыкла платить долги... — сказала она. — Что-то не так? Вы не удовлетворены? — Речь не идет о долгах, — прошептал он. — Я совсем не это имел в виду. — Но, Жорж, и я не это имею в виду. Только вы все несколько усложняете. Другой не стал бы спорить, уверяю вас. Он обнял рукой Доминик за шею и притянул к себе. — Доминик, — шепнул он, — я говорю так, потому что это серьезно! Вы и представить себе не можете... Но потом вы согласились бы остаться со мной?.. Если вы уедете... то я, скорее всего... поймите... жизнь для меня потеряет всякий смысл. Она наклонилась к нему, приоткрыв рот. — Нет, — сказал он. — Сначала ответьте... Вы остаетесь? — Я остаюсь. Он припал к ее губам и забыл, что он собирался рассказать ей так много, объяснить столько вещей, но это желание отступило, сменившись незнакомой, нарастающей, почти нечеловеческой радостью. Он уже не чуял под собой ног. Он вновь обрел жизнь, нечто огромное и светлое. В то же время он чувствовал, как трепещет, словно дикий зверь, его сердце. Чей-то голос совсем рядом шептал: — Не надо плакать. В голове непрерывно стучала возникшая из прошлого полузабытая фраза: «Воскрешение плоти». Он вырвался из объятий смерти. Он стал свободным, безгрешным, обновленным, невинным, как ребенок, и уже не испытывал угрызений совести. Он хотел поблагодарить, но не знал кого. Он сказал: — Доминик!Глава 11
Доминик уснула. Севр лежал с открытыми глазами, смотрел в темноту и ни о чем не думал. Рукой он медленно поглаживал бок Доминик. Ее кровь, казалось, перетекала в его вены, неся радость и умиротворение. Она, и это правда, находилась рядом, но теперь уже не как добыча, а как подруга, как продолжение его самого. Он мог ее потрогать рукой, он ощущал, что и во сне это тело, вспотевшее от усталости, еще тянулось к нему и наконец доверилось ему. В нем рождалась уверенность, такая новая, такая волнующая, что он продолжал, все еще не до конца поборов неуверенность, ласкать ее пальцами так, как может ласкать слепой, стремясь не только прикоснуться, но и увидеть. Он восхищался округлостью ее живота, затем его рука скользнула ей на грудь, где затаилось самое интимное тепло, где билась, жизнь, слившаяся теперь с его жизнью. Их приняло в свое лоно шумящее море, волны скользили по песку и, казалось, перекатывались через них. Это, наверное, и есть счастье... эта крайняя усталость... это существование за гранью счастья... душевная пустота... остановившееся чудесное мгновение, сплетение рук на вершине ночи, уже готовой устремиться навстречу зарождающемуся утру, утру перед бегством, перед подстерегающей опасностью. Но страх не мог омрачить радости. Севр наклонился к плечу Доминик, приложил губы к коже, ближе к подмышке. Ему захотелось испить из этой кожи. Кончиком языка он попробовал ее на вкус, потом отвернулся, чтобы подавить пробудившееся желание, становившееся мучительным. Он медленно опустил онемевшую руку. На какое-то мгновение они стали похожи на две пустые скорлупки грецкого ореха, которые уносят куда-то волны уходящей ночи. Бессознательно он продолжал ощущать свое счастье, напоминающее негаснущий огонь. И теперь, собрав все свои силы, он боролся со сном, чтобы не дать вот так уйти этой необыкновенной ночи, и его рука искала опору. Доминик, его берег, его пристанище, была рядом. Она вздрогнула от его прикосновения и тоже потянулась к нему, их дыхание смешалось. Но он задержал вдох, чтобы ощутить дуновение, легкое, как от веера, исходившее от её щек... ее чуть заметный сладкий детский выдох. До этой ночи он и не знал, что спящая женщина — это волнующая чувства маленькая девочка. Как многого он еще... Но если бы он принялся считать, то, несомненно, вышел из этого оцепенения, охватившего его. Не торопись, жизнь, подожди!.. Но она уже тут как тут. Он узнал ее по бледному свету, лившемуся из окон. Несмотря на тепло постели, он догадался, что задули холодные ветры. Пора, если Доминик хочет успеть на автобус. Он стал тихонько ее будить, получая новое наслаждение. Тело Доминик освобождалось ото сна постепенно. Так островок возникает из морской пучины при отливе. Ее руки первыми пришли в движение и лениво потянулись к нему в объятия, ноги ощупью принялись искать забытого ночного спутника. Но глаза оставались закрытыми, они еще досматривали последний сон, чуть дрогнули увлажненные губы. И вдруг ладони резко упали на грудь Севра. — Доминик! — позвал он вполголоса. — Доминик! Проснитесь! Ну же! Голова Доминик медленно запрокинулась на подушке, она счастливо вздохнула, ресницы вздрогнули, веки чуть приоткрылись. Ее затуманенные глаза излучали тихую радость и переполнялись любовью, но взор был еще обращен внутрь. Теперь чуть скривились губы, обретая память, они округлились, чтобы произнести: «Жорж», но это им не вполне удалось. Потом Доминик неожиданно завладела им, сжала его изо всех сил, обвилась вокруг ног, бедер с такой силой, что он задохнулся. Он улыбался, переводя дух. — Доминик... ты мне делаешь больно, моя крошка. — Который час? — спросила она. Он освободился из ее объятий, включил лампу и показал будильник. — Половина восьмого. Она вскочила, стаскивая на ходу одежду со спинки стула. — Я опоздаю на автобус. Приготовь побыстрее кофе. Но он смотрел, как она одевается, как ловко застегивает одной рукой лифчик, как натягивает корсет. Вот так он будет смотреть на нее каждое утро, и каждое утро он будет открывать для себя что-нибудь новое, каждое утро... — Поторопись, Жорж. У нас мало времени! — звонко прозвучал ее голос. Она привычным жестом натягивала чулки, и эти быстрые движения внушали Севру какое-то чувство безопасности. Благодаря ей, у него появилось впечатление, что он уже спасен. Он приготовил кофе. Когда он принес чашки в гостиную, Доминик была уже готова. Надев перчатки, она составляла перечень вещей, которые следовало купить. — Какой у тебя размер обуви? — 42-й, я думаю. — А рубашки? — 38 или 39. Купи 39. Пока она писала, он расстегнул чемодан и взял два банкнота из пачки. Он понял, что только что переступил черту, что теперь они оба загнаны в угол. Они проглотили обжигающий кофе, стоя друг перед другом, и их глаза говорили, что все складывается хорошо, что они сделали правильный выбор. — Я вернусь на одиннадцатичасовом автобусе, значит, буду здесь около полудня... Вечером мы уедем в Нант. Автобус отправляется в шесть. Он всегда пустой. Она улыбнулась ему, уверенная в себе. — Я провожу тебя до двери, — сказал он. — Помни о Мари-Лоре. Охваченные единым порывом, они прислушались. Они ведь уже успели забыть, что кто-то прятался неподалеку от них. Она пожала плечами: — Бродяги еще спят. Но обещай мне не выходить из квартиры до моего возвращения. Я буду беспокоиться. Их губы слились в долгом поцелуе, затем Севр открыл дверь на лестничную клетку, потом запер ее за собой на ключ. Доминик тем временем вошла в лифт. Лифт начал спускаться. Они вдруг стали серьезными и немного смущенными. Она вновь превратилась в путешественницу, обрела свободу, а он... В холле они обнялись на прощание. — Не волнуйся, — сказала она. — Все будет хорошо. Севр шел за ней до начала улицы, провожая ее глазами. Он видел, как она пересекла эспланаду. Мало-помалу расстояние, разделяющее их, увеличивалось. Воздух бодрил, еще мерцали крупные звезды, и прибой мягко бился о берег, предвещая хорошую погоду. Подойдя к поселку, Доминик обернулась, с опаской помахала ему рукой и исчезла. Севр вернулся назад, у него сжалось сердце. Он ощущал себя покинутым, беспомощным, как никогда. У входа в сад он остановился, опять прислушался. Тишина, ни единого звука. Верхняя часть фасадов домов ярко блестела, за закрытыми окнами, их вдруг стало несметное множество, расположились бесконечные тайники и ловушки. Где затаился этот человек? Возможно, в двух шагах... Охваченный страхом, Севр побежал к лифту, с облегчением закрыл на ключ дверь квартиры. Оставалось убить несколько часов. Он прошел в спальню, убрал постель, привел все в порядок. Несмотря на смерть Мари-Лоры, он чувствовал себя очень счастливым, ему пришлось сделать усилие, чтобы не начать насвистывать какую-нибудь мелодию, чтобы не разговаривать с самим собой. Теперь его переполняли образы, идеи, он ощущал потребность действовать, показать Доминик, на что он способен. Поскольку Мерибель общался с людьми, изготавливающими поддельные документы, то он сумеет разыскать их. Чего проще. Доминик знала адреса, имела необходимые рекомендации. Потом они уедут в Италию, остальное уже детская забава. Они доберутся до какой-нибудь латиноамериканской страны, где можно не бояться, что их вышлют как преступников. Там прячется немало людей, оказавшихся в таком же положении, как и они. Затем... Проще простого заставить работать этот огромный капитал и постепенно вернуть долг... В этих недавно возникших странах, где все еще только создавалось, богатый решительный человек, умеющий обращаться с деньгами, не мог не преуспеть. К тому же с ним будет Доминик! Любить, строить планы, творить — это одно и то же. Перед ним открывалась еще одна истина. Вынужденный идти по стопам Мерибеля, он не замедлит перенять чудесным образом энергию, устремленность, успех, свойственные его зятю... Он даже невольно почувствовал, что перенимает безразличие, пренебрежение, с которым Мерибель относился к людской молве. Когда на другом конце света он завоюет высокое положение в обществе, а за этим дело не станет, то без зазрения совести вновь встретится со старыми верными друзьями, объяснит им тайну своего исчезновения, и, кто знает, может быть, примет меры, чтобы вернуться во Францию! Но эту проблему он еще до конца не продумал. Безусловно, Францию лучше забыть навсегда... Раз у него есть Доминик... О чем бы он ни думал, все мысли непрестанно возвращались к ней. По сути, она его родина, его дом. Он опять вспомнил прошедшую ночь и принялся ходить по гостиной. Насколько все выглядело странным, почти невероятным! Решив укрыться здесь, он спровоцировал столько удивительных событий и, помимо своей воли, становился то их свидетелем, то жертвой, и наконец они подарили ему счастье. В один прекрасный вечер он уподобился игроку, стал проигрывать и выигрывать, опять проигрывать и снова выигрывать. Может, стоит так играть всю жизнь? Вместо того, чтобы копить деньги... Он открыл окно, его охватило нетерпение. Как только он увидит Доминик, то сразу же пойдет ей навстречу, чтобы избавить ее от любой неприятной встречи. Но средь бела дня она не очень-то рисковала. Если бы Мари-Лора приехала пораньше, то, возможно, не встретилась бы с человеком, напавшим на нее, чтобы ее ограбить. Эта мысль поразила Севра... Конечно, чтобы ее ограбить. В ее «ситроене» должен был находиться другой чемодан, с одеждой и бельем. Однако полиция ничего о нем не сообщила. Следовательно, чемодан исчез. Это как раз подтвердило то, что преступление совершил бродяга. Иопять-таки потеря обернулась выигрышем. Исчезновение Мари-Лоры значительно облегчало осуществление его новых планов. Любопытное совпадение! Севр взглянул на часы. Доминик вот-вот должна появиться. Он встал у окна. В первый раз за столько дней... А за сколько дней?.. Небо было голубым... нежно голубым и излучало счастье, а крыши домов там, вдали, слегка золотились. Из труб совершенно прямо поднимался дым. Чайки резвились на солнце. Над лужами клубился легкий пар. Кошмар закончился. Воздух был таким чистым, а звук разносился так далеко, что Севр услышал, как просигналил автобус. Пассажиров в это время года немного. Доминик вот-вот должна появиться... Вдруг в душу закралась тревога... А если ее выследили, арестовали? Если он сейчас увидит жандармов? Ну-ну! Как игроку, ему не хватало самоуверенности. И почему ему на ум все время приходит это слово — «жандармы»? Слово, услышанное в детстве от взрослых людей, соблюдающих законы и традиции! Слово, которое следовало бы нацарапать как непристойность. А! Вот и она... Она шла по эспланаде. Она немного согнулась под тяжестью чемодана, и он увидел вновь Мари-Лору. Тот же силуэт, та же походка. Все повторялось. Но на этот раз он первым спустится вниз... Он бегом пересек квартиру, схватил ключ, попытался вставить его в замочную скважину. Почему этот сволочной ключ отказывался входить? Им овладела паника. Он изо всех сил нажимал на дверь и тряс ее, хотя знал, что она закрыта, ведь он сам закрыл ее на два оборота. Но почему же она не открывалась? И он вдруг понял, что в замочной скважине торчал другой ключ. Его вставили с наружной стороны двери, и именно он блокировал замок. Теперь Севр заметил, как он блестит. Нужны были клещи, другой слесарный инструмент, чтобы повернуть ключ, вытолкнуть его из замочной скважины. Он подбежал к окну. — Доминик! Она пропала. Сейчас она уже в холле, садится в лифт. Он чувствовал дрожь в коленях, голова гудела. Он вернулся в переднюю, ощупал дверь пальцами, как бы надеясь, что она распахнется под действием скрытой пружины. Его заперли. Кто? На этот раз не бродяга. Кто-то хотел помешать ему выйти, пойти навстречу Доминик. Следовательно... Он бросился на дверь и только ушиб плечо. Силой ее не откроешь. Тогда как... как?.. Он ощущал, как течет время. Доминик уже должна подняться... Если она еще не приехала, то это означало только одно... Боже мой, нет, нет! Только не это... Шурупы! Нужно отвинтить шурупы. Может, на кухне есть инструменты? Он спешил. Пот заливал глаза. В ящике стола он нашел довольно тяжелый молоток, но отвертка была слишком маленькой. Он принялся за дело. Краска прилипла к шурупам. Он никогда не отличался ловкостью. Инструменты то и дело падали из рук. Наконец Севр очистил шуруп от краски. Ему пришлось изо всех сил надавить на отвертку, поворачивая ей то вправо, то влево. Замок и он сцепились в молчаливой схватке, металл противостоял воле человека. Кто уступит? Потом он два или три раза одержал верх и лихорадочно вывинчивал шурупы. Прошло более пяти минут с того момента, как он начал работать. Что произошло с Доминик за это время? Пока он ожесточенно бился с замком, с кем пришлось бороться ей? Куда ее увели? Ее отличали ясность ума, самообладание, хладнокровие. Она так легко не сдастся, как Мари-Лора. Но каждая минута промедления давала преимущество нападавшему. Замок теперь шатался в гнезде. Молотком он расшатал его еще больше, но язычок по-прежнему прочно держался в замочной личине. Оставалось преодолеть последнее препятствие — два шурупа: Доминик, наверное, уже мертва... К чему все время выдумывать всякие глупости!.. Отставив одну ногу назад, опершись о наличник, закрыв глаза, приоткрыв рот, он навалился на отвертку, словно взломщик, и личина поддалась. Она с треском вылетела из наличника. Последний удар молотком — и замок сломан. Дверь открыта. Севр выбежал на лестничную клетку, открыл лифт. Кабина стояла здесь. Никто ее не вызывал. Он лихорадочно соображал. Возможно, Доминик где-то задержали, чтобы заставить его, именно его, выйти, оставив чемодан в квартире? Может, это отвлекающий маневр?.. Не выпуская из рук молоток, который мог превратиться в грозное оружие, он пошел за чемоданом. Чемодан не слишком его обременял, а противник, захваченный врасплох, не замедлит себя обнаружить. По правде говоря, Севр чувствовал, что все его предположения выеденного яйца не стоят. Мари-Лоры нет в живых. Больше никто не мог знать о существовании чемодана, кроме Доминик и его самого. Он вошел в лифт и спустился. Это все же не Доминик вернулась назад и вставила ключ в замочную скважину. У нее не хватило бы времени... Да, но ключ был только у нее... Лифт остановился, и Севр с чемоданом в руке вышел, прошел через холл и остановился перед садом, залитым солнцем. Что же теперь?.. Фасады стояли молчаливо, как бы храня тайну. Что делать? С чего начать? Он сделал еще несколько шагов. Он выглядел смешным, растерзанным с этим чемоданом, как жалкий торговец, ищущий закоулок, где бы наспех продать сомнительный товар. Он не решался звать Доминик, чтобы не давать знать противнику, что он вырвался на волю. После напряженной работы у него горели руки. Все мышцы болели, и навалившаяся усталость постепенно выливалась в жуткое чувство катастрофы. Легкая металлическая конструкция, напоминавшая ребус, колыхалась со скрипом под действием ветерка. На цементе виднелись отпечатки шин, столь же четкие, как слепок. Они начинали подсыхать. Севр безразлично, подавленно отмечал эти детали. Где искать?.. Сколько часов займут поиски?.. Это следы «ситроена»? Нет. Машина не проезжала через крытый вход. Тогда? Какая машина приезжала сюда во время бури? Следы, прямые, как рельсы, вели в сторону сада, но... Севр прошел еще несколько метров... они продолжались на крытом пандусе, ведущем к гаражам комплекса. Сюда он раньше не заходил, поэтому и не заметил их. Он пошел по следам, спустился вниз, в подвал, и включил свет. Следы потеряли четкость и казались старыми. Они вели к одному из боксов. Он прочитал на двери: «3». Три! Номер выгравированный на одном из ключей от квартиры Фрека. Значит, Доминик приехала на машине? Она солгала? Она не садилась ни в самолет, ни в автобус?.. Но чтобы добраться сюда из Валенсии ей потребовалось бы по меньшей мере два дня, если не три. Севр поставил чемодан на землю и вытащил связку с ключами. Маленький ключ повернулся в скважине. Дверь состояла из нескольких створок, закрепленных на рельсе. Она двигалась вдоль стены. Ему оставалось теперь только толкнуть ее. Дверь заскользила. В боксе виднелась темная масса машины. Он поискал выключатель, но уже почувствовал, что где-то видел эту машину. Однако, когда вспыхнула лампочка, он вздрогнул. Этот красный удлиненный кузов, эти очертания, которые создавали иллюзию движения, даже когда машина стояла! Он отпрянул назад, увидев арабскую вязь, две буквы: «МА». «Мустанг» Мопре!.. Схватившись за сердце, он старался осмыслить происшедшее. Образы вспыхивали перед глазами, как яркий свет... Мопре... Испания... Доминик приезжает из Валенсии... Она его любовница... Его сообщница... Они приехали вместе... Чтобы шантажировать Мерибеля. Никогда несчастный Мерибель не был ее любовником... Боже, это ужаснее всего! Сколько лжи... Севр чувствовал, что погибает. Он вышел из гаража, сел на чемодан с миллионами и положил на цементный пол молоток, который до сих пор не выпускал из рук. Как она водила его за нос, шлюха!.. Человек, прятавшийся где-то в комплексе, это Мопре! Все наконец становилось понятным! С фермы они прямиком отправились в квартиру Доминик. Он поставил машину и ждал. Ждал чего? Севр пока не знал... Постепенно все выяснится... Но правда находилась где-то здесь, рядом. А вот и доказательства, детали, которые раньше не поддавались объяснению, теперь выстраивались в логическую цепочку, обретая смысл: будильник, который Мопре завел перед тем, как в спешке покинул квартиру... пропавший плед... консервы, украденные в кладовой универмага... все... все... получало объяснение. Когда Мари-Лора наткнулась на Мопре, он ее убил. Вполне естественно. У него не было выбора... Когда сейчас Доминик ушла, Мопре заклинил замок... Но зачем? Зачем? Потому что деньги по-прежнему лежат в чемодане... Просто теперь ему нужно договориться с Доминик. Теперь они его убьют. Это неизбежно! Севр поднялся, посмотрел в глубь прохода, туда, где сгущалась тень. Они придут оттуда? Постараются его окружить? Они, конечно, знали, что он спустился в подвал. Они с него глаз не спускали из какой-нибудь соседней квартиры. Куда бежать? А стоило ли бежать?.. Он поднял молоток, взял чемодан и пошел вверх по пандусу. Сад был по-прежнему пуст. Вокруг только окна. Ему казалось, что все эти окна наблюдают за ним. Исподтишка. Он сделал шаг к крытому входу, затем еще один... Они видели его. Они не позволят ему уйти. Он добрался до входа. У него сложилось впечатление, что он идет по болоту, буквально вытаскивая ноги из пористой почвы. Сумеет ли он защититься? Зачем теперь ему деньги? Он продолжал брести к залитой солнцем эспланаде. Теперь она уже совсем рядом. Потом он очутился на дороге, ведущей к комплексам. Никто не появился. Он свободен. Оставалось только добежать до поселка, позвать на помощь... Он колебался. Может, он ошибся? Но почему? «Мустанг» здесь. Мопре тоже. Тогда? Следовало бы все обдумать, проанализировать. Он слишком устал. Еще минуту назад он считал, что во всем разобрался. Теперь он уже и не знал. Мопре! Да, разумеется, он... Только это Севр и мог утверждать. Но почему Мопре сразу направился в комплекс? У него же не было никаких причин прятаться. О том, что произошло на ферме, он узнал из газет после своего отъезда. Тогда он сделал то, что следовало бы сделать полиции. Он следил за передвижениями Мари-Лоры, надеясь не без оснований, что она его выведет на беглеца. Он вновь шантажировал, имея более веские аргументы... Это не лишено оснований. Тогда Доминик? Доминик, которая была его любовницей? Что ж, Доминик, возможно, не солгала хотя бы в том, что она пришла в квартиру, чтобы встретиться там с любовником, а нарвалась на другого мужчину, которого, несомненно, сразу узнала. Мопре ей, должно быть, не раз говорил о своем патроне. После того как прошел первый страх, она все испробовала, чтобы выйти на свободу и предупредить сообщника... Все сходится, да не совсем. Севр чувствовал, что нечто от него ускользнуло. Действия Мопре он мог объяснить. Например, смерть Мари-Лоры уже не таила никакой загадки. Мопре преследовал Мари-Лору, будучи вполне уверен, что в чемодане спрятано целое состояние. Он опоздал на несколько секунд. Когда он на нее напал, то чемодан уже стоял в лифте. В остальном... Инсценировать автомобильную катастрофу совершенно не сложно... ключи... здесь тем более не возникает никаких вопросов. Мопре тоже занимался продажей квартир. Вполне возможно, что именно он и заключил сделку с Доминик и ее мужем. Естественно, что он мог сохранить дубликат ключей. По сути, все, что говорила Доминик о своих отношениях с Мерибелем, было правдой. Однако она имела в виду Мопре. Но поведение самой Доминик приводило Севра в смятение. Он не мог понять саму Доминик. Все то, что она говорила, все то, что она делала в течение этого последнего дня!.. Севр превратился в сплошную боль... и эта самая боль ему повторяла, что Доминик искренне сжимала его в своих объятиях. Мопре был не кем иным, как мелким жуликом. Мопре и Доминик действуют заодно. Вот это и невероятно. И все же... Оставалась иная гипотеза. Доминик — не сообщница Мопре, а пленница. Мопре схватил ее, увел куда-то, чтобы допросить. Теперь, разузнав все детали, он предложит обмен: Доминик на миллионы. Поэтому он и не показывался или пока не показывался. Он ждал. Но почему? Чего он ждал? Севр еще раз посмотрел на поселок, раскинувшийся позади него... потом посмотрел на комплекс, белеющий перед ним как отвесная скала, вернулся назад и остановился на секунду перед крытым входом, он внутренне сжался, он чувствовал, что голова ушла в плечи, как будто его держали под прицелом. Быть может, Мопре вооружен? Вполне вероятно. Он прошел через крытый вход, обошел металлическую конструкцию, которая медленно вращалась как гроздья курительных трубок, служивших мишенью на ярмарках. Так что же? Пора. Севр бросил молоток подальше, как бы показывая, что сдается, что заранее принимает условия противника. Он поставил чемодан на землю, отошел от него на несколько шагов. Вот! Можно брать. Он отказывается. Подняв голову, он пристально разглядывал безмолвные фасады. Теперь он походил на нищего певца, ожидающего милостыни. Никогда еще он не попадал в столь жалкое, отчаянное положение.Глава 12
Ни единого шороха. Но знал ли Мопре, с кем имеет дело, если Доминик отказалась говорить? Если по необычайному стечению обстоятельств Мопре не читал газет и не слушал новостей, то он по-прежнему считал, что его противник — Мерибель. Вот поэтому он так и осторожничает. Севр подошел совсем близко к бассейну, сложил руки рупором и завопил: — Мопре! Его голос отразился от стен, и краткое эхо повторило: «...пре... пре...» Севр медленно шарил глазами по окнам, пытаясь угадать, какое же сейчас откроется. Он попробовал крикнуть еще сильнее и подольше потянуть звук: — Мопре-е-е-е! Он закашлялся, глаза наполнились слезами, отчего фасады раздвоились. Он больше ничего не видел, потом протер глаза, поднял голову. Над ним сиял обширный прямоугольник голубого неба, по которому пробегали почти прозрачные облачка, слепившие его глаза. Непроницаемые стены, на которые падала тень, резко контрастировали с ними. Севр встал так, чтобы лучше видеть эти стены, и крикнул изо всех сил: — Mo-пре! Его должны были слышать везде. Но почему никто не отзывался? — Mo-пре! Я оставляю вам деньги! Выкрикнуть имя было довольно легко. Чего никак нельзя сказать о целой фразе. Слова падали, словно тяжелые камни. Севр поднял чемодан и ушел из сада, еще раз внимательно осмотрев его напоследок. Он направился к южным воротам, набрал воздух в легкие и выкрикнул: — Mo-пре! Свод ворот создавал прекрасную акустику, и на этот раз раздался душераздирающий крик. Севр ждал. Вот-вот должен прозвучать ответ. Неизбежно! Но вокруг шумел только резкий ветер, который стал усиливаться. — Mo-пре!.. Го-во-ри-те!.. Почему он молчал? Это глупо. Он не мог не догадываться, что его обнаружили. Может, он услышит, если крикнуть ему от следующих ворот? И Севр с неподъемным чемоданом вновь тронулся в путь и остановился в том месте, которое посчитал наиболее удачно расположенным. — Mo-пре! Выходите!.. Он теперь и сам толком не знал, в какой части комплекса находился. Те же слегка будоражащие воображение и разбегающиеся перспективы фасадов. Одни бесконечные окна сменялись другими окнами. Он видел только окна, они образовывали гигантские правильные ряды по горизонтали, по вертикали и походили на чудовищный кроссворд. — Mo-пре!.. Mo-пре!.. Встревоженный зов метался, как в клетке. Ясно. Мопре не хотел отвечать. Он изматывал противника. И действительно, после каждого выкрика Севр слабел. Но он не уходил с поля боя. Он, возможно, рухнет совершенно обессиленным, бездыханным, но заставит Мопре обнаружить себя и вырвет у него признание. — Mo-пре! Голос ослаб. Иногда он едва долетал до конца сада, потом эхом отзывался в холле — но в каком? который не был закрыт? — затем звук устремлялся по лестничной клетке, повторяя на каждом лестничном марше: «Mo-пре!.. Mo-пре!..» — перед тем как исчезнуть во тьме этажей. Силы окончательно покинули Севра. Он сел, прислонившись к стене. Грудь горела. Он прерывисто дышал. Он увидел себя в своей конторе: важный, с властными жестами, окруженный телефонами, магнитофонами, пишущими машинками. Он пощупал свою бороду потерпевшего кораблекрушение, которая покалывала пальцы. В этом чемодане есть все, чтобы купить целый мир!!! Мир без Доминик!.. Он поднялся. Привычным жестом он поднял чемодан и вышел. Сколько раз он входил, выходил? Сколько раз он звал? Он поднял голову, как затравленный зверь, и завопил: — Доминик! Она ему досталась не для того, чтобы тотчас ее потерять! Всему есть предел, даже абсурду. Он едва волочил ноги, таща свои миллионы, но все же медленно шел вперед и время от времени, как когда-то стекольщик или точильщик, издавал крик: «Доминик!» Хриплый крик, подобострастное предложение никого не интересующей услуги. Наконец он прошептал про себя: «Доминик!..» — и этот зов отозвался в нем самом. Он едва шевелил губами и все же это эхо со всей своей мощью оглушило его. Он говорил «Доминик!» уже не языком, не горлом, а венами и костями. Он весь обратился во внимание, словно кудесник, собирающийся сотворить чудо. И чудо произошло. Он наткнулся на тело. Доминик лежала здесь, распростершись на плиточном полу комнаты, которую он не узнавал. Неподвижная. С растрепанными волосами. Еще теплая, но уже не по-настоящему теплая. Встав на колени, Севр протянул к ней руку. Долгое путешествие закончилось. Он уже не испытывал страданий. Она жертва, и он, в некотором роде, тоже... Он вообразил, что можно влезть в другую шкуру. Смешно!.. Он гладил ее по руке, у него сложилось впечатление, что он находился и здесь, и где-то еще. Этот стол, эта картотека. Это было агентство, оно осталось так далеко, это агентство «Морские ворота». В голове гудит, словно в туннеле. Он преодолевал огромные пространства. Может, для того, чтобы встретиться с ней! Он отпустил ее руку, она скользнула на меховую подкладку плаща. Так отдергивает лапку испугавшийся зверек. Потом он наклонился, приложил губы к ее лбу. Лоб был холодным. Он не осмелился закрыть полураскрытые глаза, потому что никогда не закрывал глаза мертвецам. Он просто не умел. Странно, но он успокоился. То, что ему нужно было делать, следовало делать немедленно. Плакать он будет позже, если у него останутся слезы. Он увидел, как встает на ноги, как выходит и как тщательно закрывает дверь. Подлинный Севр теперь шел сзади, словно призрак другого Севра. И этот другой направился в гараж. В первый раз он оставил чемодан. Миллионы! Слово, имеющее значение для живого. А для того человека, который сейчас удалялся, сгорбившись, прижав к животу руку, это слово обозначало лишь смешную кучу бумаги. Он шел из последних сил. Больше он не думал даже о Мопре, который, возможно, сбежал. Машина! Пригнать машину, погрузить тело и тут же поехать в жандармерию. Затем... Сначала машина, если только Мопре не уехал на ней. Нет. Она стояла на месте, блестящая, искрящаяся в отблесках света. Когда Севр открывал дверцу, то увидел свое отражение на поверхности кузова — огромное расплющенное лицо, походившее на водосточный желоб, и большие руки, как у палача. Он словно смотрел в кривое зеркало. «Бардачок» был открыт. Промасленная тряпка валялась на полу. Пахло оружейной смазкой. В тряпке был завернут пистолет. Безусловно, именно из этого оружия Мопре убил Мари-Лору и отправил на тот свет Доминик. Севр нерешительно посмотрел на сложную приборную доску. Он включил зажигание, нажал на стартер. Мотор завелся сразу, наполнив грохотом подземелье. У Севра никогда не было машины с автоматической коробкой передач. Две педали его стесняли. Он не знал, куда деть левую ногу. Он резко дал задний ход, сильно затормозил. Едва он прикоснулся к педали газа, как «мустанг» преодолел подъем и вихрем вылетел в сад. В последнюю секунду он вывернул руль, едва не задев ворота. Наверняка он попадет в аварию, так и не добравшись до жандармерии. Подошва сапог была слишком толстой, и он не чувствовал педали. Он снял ногу с педали, и машина остановилась. При дневном свете он получше рассмотрел указатель скоростей. Он включил первую, медленно доехал до агентства и аккуратно подвел машину к входной двери. Он старался ради Доминик. Он опустил спинку правого переднего кресла, сделав нечто вроде шезлонга. Тело будет полулежать в достойной позе. Он снял два стопора, удерживающие капот, откинул его назад и широко раскрыл дверцы. Теперь он сможет бережно положить Доминик на сиденье. Затем он вошел в агентство. И вдруг заметил другой чемодан, тот, что Доминик привезла из Сен-Назера. Там, конечно, лежала только что купленная одежда. С одной стороны, деньги, с другой — костюм, чтобы совершить побег... Он не сдержал слез, которые внезапно брызнули из глаз. Сейчас он один, он мог вдоволь плакать. Он поднял голову Доминик, чтобы обхватить ее за плечи. Кровь прилипла к волосам. Раны не было видно. Скорее всего, смерть наступила не от пули, а от удара рукояткой пистолета. Он просунул правую руку под ее ноги. Тело налилось свинцовой тяжестью. Он поднялся и, покачиваясь, направился к красной машине... Словно ожившая рекламная афиша, которую он сам некогда рассылал. Большая спортивная машина стоит перед комплексом, о котором можно только мечтать. «Вы покупаете счастье!..» Он положил Доминик, тщательно поправил плащ, осторожно, чуть придержав тело, бесшумно захлопнул дверцу. Она казалась уснувшей. На ветру шевелились волосы. Но глаза, эти ужасные глаза! Севр повернулся и отправился за чемоданами. Он поставил их на заднее сиденье. Бросил последний взгляд, чтобы запечатлеть в памяти картину, которую больше уже не увидит. Он завел мотор, повернул, доехал до входа. Вдруг перед ним возник силуэт, поднялась рука, держащая пистолет. Севр даже не успел принять никакого решения. Он просто слишком резко утопил педаль. Машина прыгнула. В тот же момент вдребезги разлетелось лобовое стекло, усыпав колени Севра битым стеклом. Он увидел человека, согнувшегося пополам. «Мустанг» вздрогнул, как бы преодолевая препятствие. Он искал ногой тормоз, опять ошибся и дал газ, наконец остановился и пешком двинулся к Мопре. Тот лежал на животе, все еще сжимая пистолет. Струйка крови, извиваясь, стекала в канаву. Его левая рука сжималась и разжималась, словно пульсирующее сердце. Скончается ли он тоже? Севр перевернул его и резко отпрянул. Умирающий прошептал: — Твоя взяла! Это был не Мопре, это был Мерибель.Эпилог
— Вы поняли уже, — сказал Севр, — что на ферме остался труп Мопре. Молодой атташе посольства пробежал глазами наспех сделанные записи. — Какая необыкновенная история, — прошептал он. — И все же, господин Блен... — Простите, Жорж Севр, запомните хорошенько, что меня зовут Жорж Севр. — Да... да... разумеется! Однако дайте мне привыкнуть... Вы также и Шарль Блен с момента вашего приезда в эту страну. Сколько времени с тех пор прошло? — Вот уже четыре года. Молодой человек поднялся и прошел на террасу, за ним последовал и Севр. Атташе показал рукой на здания со смелыми конструктивными решениями, напоминающие башни, которые возвышались над крышами других строений. — И вы сумели все это построить... — Здесь иная ситуация, чем во Франции, — сказал Севр. — Как зернышко, брошенное в здешнюю землю, превращается в дерево за несколько недель, так и один доллар приносит целое состояние в считанные дни. А если долларов много, то и говорить не приходится. Разумно использовать капитал. Но это моя профессия. — Что навело вас на мысль приехать именно сюда? Севр пожал плечами. — У обломка кораблекрушения не спрашивают, почему его прибило именно к этому берегу, а не к тому. Так сложились обстоятельства. — Какие обстоятельства? Севр вернулся назад и сел за просторный стол красного дерева, пододвинул своему гостю шкатулку с сигарами. — Не важно, — сказал он устало. — У меня были деньги, одежда, адреса... Один раз и мне в жизни немного повезло... Я смог покинуть Францию и выбрал страну, которая не выдала бы меня французским властям, если случайно меня разыскали бы здесь. — И все же почему вы сообщили в посольство, кто вы есть в действительности?.. Заверяю вас, ваше заявление произвело громадный эффект. — Хотя прошло уже столько лет? — Видите ли, «дело Севра» осталось чем-то вроде загадки истории. Я тогда жил во Франции. Прошло много месяцев, но разговоры не прекращались... Подумайте сами: три смерти. Мерибель, его жена и таинственный труп, не ваш, не вашего зятя... Похищено пятьсот миллионов. И единственный человек, который мог пролить свет, исчез. — Все меня считали убийцей. — О нет. Выдвигались самые экстравагантные предположения. Полиция же хранила молчание. — Я тоже читал газеты, — не без горечи сказал Севр. — С двухнедельным опозданием, но они ко мне приходили... И возможно, это опоздание и делало для меня содержание статей еще более жестоким. Предполагалось в основном, что я бежал, уничтожив всех своих близких. Не так ли? — Истина заключается в том, что никто так и не понял, что произошло на ферме. — Но теперь вы, — сказал Севр, — прекрасно видите, что Мерибель убил Мопре, а потом подстроил так, чтобы его самого приняли за убитого. Эта мистификация ввела меня в заблуждение. Что произошло на самом деле, я не знаю. В это время я листал записную книжку Мерибеля в Ла-Боле. Но представить не трудно. Мопре по неизвестным мне причинам вернулся. Мой зять, отличавшийся жестокостью, выстрелил ему в голову из ружья. Затем... он придумал, как инсценировать самоубийство. Ему нужен был свидетель, человек, который в некотором роде будет присутствовать при его самоубийстве, и он вынуждает Мари-Лору позвонить мне. Я приезжаю, охваченный страшной тревогой. Ведь я не сомневался, что он покончит с собой... Да, он ловко все придумал. Как могли у меня возникнуть подозрения? Мопре и Мерибель были примерно одинакового роста. Мерибелю только оставалось надеть на Мопре охотничий костюм. Добавьте обручальное кольцо, часы, бумажник... добавьте прощальное письмо на письменном столе. Великолепная маскировка. Моя бедная сестра была совершенно убита горем... Мое поведение тоже можно понять, ведь я знал о его махинациях. — Да, я понимаю... — Когда я подошел к двери, Мерибель толкнул ставни, разрядил ружье в воздух, затем положил оружие рядом с трупом, вновь открыл ставни, выскочил в окно и скрылся на «мустанге». Должно быть, он спрятал его достаточно далеко, чтобы не вызвать у меня подозрений. Вот так он и провернул дело! Только он ни секунды не задумался, что кто-то еще мог иметь не меньше оснований, чем он, поступить так же. — Из боязни скандала? От отчаяния?.. — Да... и по другим, более интимным причинам. — Все предельно ясно, — сказал молодой человек, — по меньшей мере то, что касается вас... но ваш зять... Вы полагаете, что он прямиком отправился в комплекс? — Нет сомнений: ключи от квартиры Фрека у него были. Трудно найти более безопасное место. Никто не знал, что Мопре приехал во Францию. Таким образом, он не слишком рисковал. — Вы говорили, что после его смерти при нем обнаружили два фальшивых паспорта, на одном из них была приклеена фотография Доминик Фрек. — Совершенно верно! Полагаю, что из-за этих паспортов и погибла Мари-Лора. — Минутку! Здесь я теряю нить. — Ну как же, — продолжал Севр, — Мерибель не имел возможности вернуться домой и взять чемодан, в котором лежали не только миллионы, но и эти два паспорта. Обстоятельства вынудили его дать соответствующие указания Мари-Лоре, вы согласны? У него не было выбора. Итак, что же он ей сказал? «Ты мне принесешь туда-то чемодан, который возьмешь там-то». То есть он попросил Мари-Лору сделать примерно то же самое, что и я. — И не проходит и часа, как приезжаете вы? — Скажем, он услышал, как приехал некто. Он вынужден покинуть квартиру Фрека и спрятаться в другом здании. Где именно, я не знаю. Также понятия не имею, как он жил. Хотя это не важно... Далее, полиция начинает следствие. Мари-Лора отвечает на разнообразные вопросы и, возможно, начинает догадываться о скрытой жизни мужа. Она была скромной, застенчивой, но не глупой. Что же спрятано в чемодане? Ей хочется знать. И она открывает его. Она находит там миллионы и паспорта, что доказывает намерения Мерибеля уехать с другой женщиной... — Понимаю. Ревность! — Но это еще не все. Будете пересказывать наш разговор, обязательно подчеркните этот момент. Мари-Лора думала не только о мести. Приехав в комплекс, она хотела объясниться с мужем и отнести мне деньги. Иначе зачем она привезла этот чемодан? Достаточно было сдать его в полицию. Ей, однако, нужно спасти меня, потому что теперь она уверена, что Мерибель — негодяй. В этот момент и происходит встреча у лифта, в который она только что поставила чемодан. Видите ли... Куда он ее завлек? Что ей сказал?.. Мари-Лора — простая женщина, цельная натура. Она наверняка бросила ему в лицо оба паспорта. Он понял, что разоблачен, и убил ее. — То же самое случилось и с мадам Фрек? — Думаю, да, — печально сказал Севр. — Он следил за нами. И перехватил Доминик, когда она возвращалась... Вы помните подробности? Севр взял сигару, вдохнул ее аромат, задумался, глядя на нее. — Я никогда не переставал думать о случившемся, — продолжал он. — Чтобы покончить с наваждением, есть только одно средство: рассказать правду, всю, ничего не утаивая. Вот почему я и позвонил вчера в дипломатическую миссию. Мне следовало прийти туда лично. Но тогда все решили бы, что я пришел с повинной. Никогда! Не важно, кто я, Севр или Блен, здесь я чувствую себя сильным. И я таковым намерен остаться. — Вы хотите, чтобы с вами разговаривали на равных, — сказал атташе. — Вот именно. Я намереваюсь сторицей возвратить долг жертвам Мерибеля. Вам предстоит найти способ, как это сделать законным путем. Я также хочу приезжать иногда во Францию на несколько дней. Но мне должна быть предоставлена свобода действий, я не собираюсь отчитываться перед кем бы то ни было. Вы об этом позаботитесь? — Боюсь, что это не так просто. — У моей страны здесь немалые интересы. Ей требуются такие люди, как я. Нужно строить плотины, стадионы. А я прошу так мало. — У вас во Франции остался кто-то из близких вам людей? Это из-за них? Севр медленно положил сигару в шкатулку, сложил руки и закрыл глаза. — Доминик! — прошептал он. — Я ее похоронил там... в дюнах. Она принадлежит мне. Я построил город и заслужил право подарить ей могилу.Послесловие
Послесловие... А для чего? Чтобы ответить тем читателям — а их не так уж мало, — кто, перевернув последнюю страницу, задается вопросом, не ввели ли мы их в заблуждение. С одной стороны, они ждут, надеются, требуют такой концовки, которая полностью бы изменила смысл истории, рассказанной нами. С другой — они хотят, чтобы эта концовка, несмотря на свою неординарность и необычность, оказалась правдоподобной, почти будничной. Иными словами, они хотят, чтобы после того, как тайна оказалась раскрытой, роман сохранил некую поэтическую ауру, возникшую именно благодаря этой тайне. Короче говоря, они требуют, чтобы все менялось, оставаясь неизменным. Мы прощаем фокуснику его трюки, потому что он не раскрывает их секреты. Автору детективных романов мы не верим никогда. Он должен показать руки и вывернуть карманы. У него выигрыш оборачивается проигрышем. Его упрекают в том, что он нашел чересчур банальное решение! Банальное... Когда иллюзионист манипулирует со своими аксессуарами, он знает, какой произведет эффект, когда же писатель обрисовывает изначальную ситуацию, то он и сам не представляет, как будет развиваться его идея, куда она его приведет и чем все это закончится. Его упрекают в том, что он прибегает к трюкам. Согласны! Но опять-таки следует понимать, что «трюки» придумываются по ходу действия, оттачиваются, уточняются по мере того, как развивается фабула. Их досконально понимаешь только тогда, когда опускается занавес. Вот чего читатель не успевает заметить. Он не без наивности полагает, что все уже сказано с самого начала и что автор вволю водит его за нос. Ему даже не приходит в голову, что автор движется на ощупь, испытывает нерешительность, сворачивает с дороги и в результате в поиске истины опережает читателя всего лишь на один шаг. Нужны доказательства? Пожалуйста! В процессе написания «Морских ворот» мы задавались вопросом: кого же «мустанг» должен сбить — Мерибеля или Мопре? И в том, и в другом случае фабула не могла измениться коренным образом, просто повествование велось бы «с лица» или «с изнанки». «С лица» — если Мерибель действительно покончил с собой, «с изнанки» — если он только сделал вид, что покончил с собой. Живой Мерибель — какая неожиданная развязка! Читатель не преминул бы нас упрекнуть за такой поворот событий, но и не хотел бы, чтобы все произошло иначе. Нам следовало идти на риск. Не без некоторого сожаления!.. А не интересней было бы вести рассказ не от имени Севра, а от имени Мерибеля? Тогда бы читатель присутствовал при втором визите Мопре, когда Севр ненадолго уехал с фермы. Читатель сопереживал бы Мерибелю, участвовал бы в разработке плана действий при невольном сообщничестве жены Мерибеля, наблюдал бы за комедией, разыгрываемой Мерибелем в курительной комнате, закрытой на засов, увидел бы, как тот убегает на «мустанге». С ним бы мы приехали в комплекс, вошли бы в квартиру Доминик, квартиру, которую мы в спешке покинули при неожиданном приезде Севра. А потом мы проследили бы за Мари-Лорой, затем... Стоит ли продолжать? Мы переживали бы сомнения и надежды убийцы, а не невиновного. Но и другие версии имеют право на существование. Предположим, что историю начинает рассказывать Мари-Лора... И тогда очевидно, что именно она становится главным действующим лицом в сцене, когда Севр, потрясенный кажущимся самоубийством Мерибеля, решает занять место покойника... Затем Мари-Лора отвечает на вопросы полицейских. Мари-Лора обнаруживает в чемодане два фальшивых паспорта и направляется за разъяснениями к мужу... Разве такой поворот событий не заслуживает внимания? Увы! Мари-Лора умирает слишком рано! А Доминик появляется слишком поздно. Разве не интересно было бы выслушать любопытную и волнующую историю этой молодой женщины, которая в поисках возлюбленного попадает во власть таинственного незнакомца?.. Итак, мы сделали свой выбор. Мопре стал первой жертвой, хотя кое-кто напрасно называет наш выбор «трюком», а Севра — главным действующим лицом. Найденное решение представляется наиболее удачным. Мы считаем, что именно при таком раскладе читатель получает наибольшее удовольствие от книги. Ведь в конечном счете детективный жанр подчиняется только этому закону. Но судьба Севра не должна затмевать три другие. Они как бы накладываются на его судьбу. Их присутствие, поверьте нам на слово, не делало повествование легче и до самого конца несчастный иллюзионист рисковал оступиться, что-то забыть, где-то перегнуть палку. Каждый трюк не придавал автору уверенности. Напротив, он таил опасность, потому что ученик волшебника — а именно им является автор каждого романа — может знать преимущества своего изобретения и не подозревать о скрытых подвохах. Не нам судить, выиграли ли мы предложенную партию. Точно так же мы не рассматриваем это послесловие как свою защитительную речь. Просто мы уже не раз замечали, что сегодняшний читатель уже не тот, что в былые времена. Он не такой хитрый, но более недоверчивый. Он хочет пасть жертвой обмана, но тут же обвиняет автора, что тот его обманул. Он ставит под сомнение детективный роман, упрекая его в том, что он написан так, а не иначе. Но именно в детективе находит свое отражение наша многообразная жизнь. Вот почему хороший читатель не будет его «глотать», а станет читать небольшими кусочками, стараясь «расшифровать», потому что истина заключается не в том, что написано, а в том, что осталось за рамками повествования. Зритель соглашается смотреть фильмы, смысл которых от него ускользает, он по-своему «домысливает» фильм. Читатель охотно читает романы, где происходят правдоподобные события. Почему же именно детективному роману отказывают в праве изображать действительность, следуя законам жанра? Для того чтобы создать ощущение двусмысленности, детективный роман описывает исключительную ситуацию, но вовсе не прибегает к трюкам. Это известно. Если ситуации банальны или совершенно неправдоподобны, вполне справедливо ставить их под сомнение, но когда автору отказывают в праве придумывать неординарные события, то тем самым наносят удар по жанру, который якобы любят.
Белая горячка
Постукивая молоточком по моим коленным чашечкам, Клавьер повторял: — Неважно!.. Неважно!.. Я смотрел на его лоснящийся череп. В тридцать пять лет у него начисто отсутствовала шевелюра, что делало его похожим на постаревшего младенца. Он неторопливо меня осматривал — так знаток ходит вокруг машины, потерпевшей аварию. — Пьешь много? — Когда как. — В среднем? — Ну... утром чуточку виски, чтобы запустить мотор. Иногда, если устану, около десяти часов... Само собой разумеется, после обеда... Но главным образом — ближе к вечеру... — Насколько я помню, студентом ты не пил. — Да, я начал пить после того, как связался с Марселиной. Два года назад. — Вытяни руку, держи ладонь прямо. Зря я старался — пальцы тряслись. — Понятно... Отдохни... Расслабься. — Но в том-то и дело, старина, что я не в состоянии расслабиться... поэтому я и пришел к тебе. — Ложись. Он обернул манжетку вокруг левой руки, заработал резиновой грушей. — Давление сильно пониженное. Будешь продолжать в том же духе — беды не миновать. Сейчас у тебя работы много? — Хватает. — А я думал, что строительство дышит на ладан. — Так оно и есть. Но я сопротивляюсь. — Нужно все бросить... на пару недель. И даже... Он присел на краешек стола и закурил сигарету. — Ты должен поехать отдохнуть. Я постарался изобразить улыбку. — Однако... я еще не дошел до чертиков, я еще не допился. — Конечно. Но и такое может случиться. Ну вот... Тебе даже не удается застегнуть пуговицу на манжете рубашки... Садись в кресло... Скажи... неужели ты так сильно ее любишь? Я боялся этого вопроса, потому что сам задавал его себе уже не первый месяц. Клавьер сел за стол, и я почувствовал себя, как на скамье подсудимых. — Я хорошо помню ее, — продолжал он. — Марселина Лефевр!.. Когда я уехал в Париж, она училась на втором курсе юридического факультета, не так ли?.. Вы вроде даже были помолвлены? — Да. — Ну и?.. Что же произошло?.. Вы поссорились? — Она вышла замуж, за Сен-Тьерри. — Сен-Тьерри?.. Подожди... Что-то не припомню... Высокий, сухощавый такой. Большой сноб, он еще собирался поступать в Центральную[4]? Сын промышленника? — Да... У него завод шарикоподшипников в Тьере. У отца огромные владения недалеко отсюда... Впрочем, ты же знаешь... Сразу после Руая — налево... Дорога тянется вдоль парка, километра два, даже больше. — Приходится заново привыкать, — сказал Клавьер. — Двенадцать лет в Париже — это много. Я уже не узнаю Клермон. А почему она вышла за Сен-Тьерри?.. Деньги?.. Меня томила жажда. — Да, возможно... Но здесь все не так просто. Не знаю, помнишь ли ты... у нее есть брат... — Я не знал его. — Ничего из себя не представляет... он старше и жил за ее счет. Он и толкнул сестру на это замужество после того, как Сен-Тьерри взял Марселину к себе секретаршей. Теперь у меня появилось желание высказаться. — Я хочу, чтобы ты понял, это не тривиальная связь. Я тебе объясню... Ты не мог бы дать мне воды? — Сейчас. Он вышел. Когда-то Клавьер мне нравился. Мы часто встречались в Доме кино. Марселина тоже безумно любила кино! Но нам не удалось достойно постареть... Чего не скажешь о Клавьере. Он-то стал невропатологом, как и хотел. А что же я?.. Я, который возомнил себя архитектором, этаким Ле Корбюзье! А Марселина, она тоже с легким сердцем забросила науку! Клавьер принес стакан воды. — Сначала, — сказал я, — тебе следует разобраться в наших отношениях. Старик Сен-Тьерри больше не выходит из замка. Он очень болен... вероятно, рак печени, хотя он и не догадывается об этом. Поэтому его сын вынужден мотаться из Парижа, где расположены его офис и квартира, в Руая. Естественно, Марселина ездит с ним. Но довольно часто она остается со свекром. Так мы с ней и встретились. Ведь в замке всегда найдется что подреставрировать, и поэтому Сен-Тьерри обратился ко мне. — Так-так... Он мог бы выбрать другого архитектора. — Он знал, что я возьму недорого... Ты даже не представляешь, до чего все в этой семье прижимисты! — Но я не понимаю, как Марселина и ты... Я залпом осушил стакан, не утолив жажды. — Она ненавидит Сен-Тьерри, — сказал я. — И сожалеет о содеянном, это несомненно... Ее настоящий муж, в какой-то мере, я. — Но ты же знаешь, что это неправда... это только так говорится — муж! Прости меня за грубость. Но это входит в лечение. Все-таки признай: ты пьешь потому, что ситуация тупиковая? — Ты полагаешь? — Это по всему видно. Как ты представляешь себе будущее? — Не знаю. Я посмотрел на свой стакан. За несколько капель спиртного я бы отдал все на свете. — В каких ты отношениях с Сен-Тьерри? — спросил Клавьер. — Когда я собрался открыть свое дело, он одолжил мне деньги. Клавьер поднял руки. — И разумеется, ты их не вернул? — Нет. — Смею надеяться, что это произошло до того! Вы с Марселиной еще не... — Я же тебе объяснил. Мы не любовники. Если кто и любовник, так это — он, а не я. Я упорно стоял на своем, глупо, как пьяница. Марселина — моя жена... пусть неверная, но жена! И к черту Клавьера с его лечением! — Вы часто встречаетесь? — Что? — Я тебя спрашиваю, часто ли вы встречаетесь. Не из простого же любопытства, сам подумай! — Да, довольно часто. Сен-Тьерри много ездит. Он хочет объединиться с одной итальянской фирмой. Его отец не одобряет эту идею. Надо сказать, что старик поотстал от жизни. Но все принадлежит ему, и решающее слово — за ним. Сен-Тьерри спит и видит, когда папаша отправится на тот свет, но ждать осталось не долго. — Чудно! И ты приезжаешь в Париж, когда его нет? — Да. — Это значительно усложняет твою жизнь. — У меня есть секретарша, и я выхожу из положения. Я никогда там долго не задерживаюсь. — Кто-нибудь подозревает, что... — Не думаю. Мы всегда принимали все необходимые меры предосторожности. — А когда вы встречаетесь здесь? Я покраснел, поднес стакан к губам, но он был пуст. — Мы никогда не встречаемся в Клермоне, только в пригородах... В Риоме, в Виши.. — Роковая страсть, — задумчиво сказал Клавьер. — Да нет же!.. — вырвалось у меня. — Не совсем так... Постараюсь быть как можно более искренним, чтобы ты хорошенько уяснил себе... Мы учились с Марселиной в одном лицее. Нас связывает старая дружба... понимаешь, что я хочу сказать? Что нас объединяет, так это своего рода невзгоды; у нас общая беда. Она мне рассказывает о своей жизни без меня, а я — о моей жизни без нее. — И таким образом, когда вы встречаетесь, то еще большетерзаете себя. — И да, и нет. Несмотря ни на что, мы счастливы. Если хочешь знать, мы не смогли бы отказаться от встреч. — Все это — абсурд, — сказал Клавьер. — Она знает, что ты пьешь? — Догадывается. — Но она же видит, в каком ты состоянии. И она мирится с этим! — Мы не можем смириться с тем, что происходит с нами: ни она, ни я. Но мы вынуждены терпеть. Что нам остается делать? — Нет, нет! — воскликнул Клавьер. — Нет, старина. Не говори, что ничего нельзя сделать. — Ты намекаешь на развод? Мы тоже об этом думали. Но с Сен-Тьерри об этом нечего и мечтать. Клавьер встал передо мной. — Послушай, Ален... это и есть моя работа: помогать решать проблемы, подобные твоим... Здесь кроется что-то еще, признайся!.. Скажи как мужчина мужчине... ты уверен... что Марселина согласилась бы выйти за тебя замуж, будь она свободна?.. Ну! Это причиняет боль, но у тебя осталось же хоть немного мужества... Ответь! Я отвернулся, не в силах говорить. — Вот видишь, — произнес Клавьер. — Ты не уверен. — Ты не понимаешь, — прошептал я. — Она... да, она выйдет за меня. Но я... Видишь ли, я с трудом свожу концы с концами, я тебе говорил, что у меня дела идут кое-как. Я выхожу из положения, разумеется, но и только. У меня жалкая колымага, а она ездит на «мерседесе». В этом — вся суть! — Ты рассуждаешь как обыватель, — сказал Клавьер. — И все же опиши мне Сен-Тьерри, ты ведь упомянул о нем вскользь... Если бы ты был женщиной, что бы тебя в нем заинтересовало? — Дурацкий вопрос! — Давай, не стесняйся. — Ну... его умение держаться... обходительность. Он элегантный, светский... с привычками состоятельного человека... Это сразу бросается в глаза... — Например? — То, как он произносит: «Дорогой друг»... Его высокомерное безразличие, какие он выбирает бары, рестораны... манера подзывать метрдотеля, разговаривать с барменом... он чувствует себя в своей тарелке, что там говорить! Более того, он обращается с тобой так, что ты рядом с ним чувствуешь себя деревенщиной. Симон, брат Марселины, все это воспринимает как должное... Марселина и та смирилась. — А ты? — Я?.. Я же тебе сказал, я ему должен. — Ты ему, часом, не завидуешь? — Можно еще воды? Клавьер улыбнулся. — Все говорит о том, что я прав. Даже жажда, — сказал он. Он взял стакан и исчез. У меня разболелась голова. Все эти вопросы... да еще те, что я задавал себе сам... Боже, до чего все надоело! Никто не сможет мне помочь. Клавьер выпишет успокоительное, выразит надежду и отправит восвояси. И все вернется на круги своя. Не следовало мне приходить. — На, выпей. Он протянул запотевший стакан. Я чувствовал, как ледяная вода проходит по пищеводу, и потихоньку массировал живот. Он сел за стол и взял записную книжку. — Это может продлиться долго, — сказал он. — Ты принадлежишь к тем больным, которые любят свою болезнь. Я могу помочь тебе. Вылечить тебя — это другой вопрос. Все зависит от тебя. В первую очередь мне бы хотелось, чтобы ты вернул долг этому Сен-Тьерри. Сколько ты ему должен? — Два миллиона старыми франками. — Не Бог весть какая сумма. Займи. Я думаю, что ты легко получишь кредит на семь лет. Тебе придется выплачивать тридцать пять тысяч в месяц. Самое главное — вернуть долг. Хотелось бы также, чтобы ты перестал на него работать. Ты говорил о реставрационных работах в замке. Там большой объем? — Нет. Обвалилось около двадцати метров стены вокруг парка. Ее просто нужно поднять. Надо также переоборудовать старые конюшни. Они стали слишком тесными. У Сен-Тьерри есть свой собственный «мерседес», а у Марселины — 204-я модель. Мне предстоит построить современный гараж. Заказ я получил от отца. — Откажись. — Это мне позволит видеться с Марселиной, если она приедет в замок. Клавьер заглянул мне в глаза. — Увидитесь где-нибудь в другом месте!.. Да отделайся же ты от них! Во-вторых, ты должен бросить пить. Но если не принять радикальных мер, то ничего не получится. Тебя нужно вылечить от алкоголизма, старина, ни больше ни меньше. Повторяю — две недели в клинике. Согласен? Я кивнул головой. — Завтра и начнем, — сказал Клавьер. — Дай мне время привести в порядок дела, уладить кое-что. — Ты ведь хочешь ей позвонить, спросить совета? Я угадал? Где она сейчас? — В Париже. Мне хотелось бы с ней увидеться, прежде... — Ален, старина, ты хоть понимаешь, что причиняешь мне беспокойство?.. Тогда сам назначь день. — Что ж. Сейчас март... Скажем, в начале апреля? — Идет. Вот адрес. Он быстро записал в блокноте, вырвал листок. — Предупредишь меня накануне... Обещаю тебе, что почувствуешь себя родившимся заново. Когда ты станешь, как все, ты найдешь выход, черт возьми! Если нужно порвать, порвешь с ней, а не превратишься в какого-нибудь горемыку! Согласен? Он проводил меня до двери, похлопал по плечу, открыл лифт. — Пока же постарайся избегать бистро, если можно. До скорого! Я спускался вниз, несколько успокоенный. Порвать! Я думал об этом уже давно. Несколько раз случалось, что я принимался за письмо. Но я никогда не шел до конца. Можно порвать, если озлобишься на кого-нибудь. А я ничуть не сердился на Марселину. Напротив, для меня она — роскошь, праздник, радость жизни... Площадь Жода находилась в двух шагах. Опускалась ночь, с гор дул холодный ветер. Совершенно машинально я зашел в «Люнивер». — Виски! Она — мой свет! В памяти всплывали слова Клавьера. Он раскрыл мне правду, как в воду с головой окунул, дыхание аж перехватило, и правильно сделал. Мне следовало наконец признать, что я охвачен не страстью, не исступлением. Сильные страсти, крайние меры — не для меня. Тем более не для Марселины. Мы оба страдали от смутной неудовлетворенности, необъяснимой печали. И когда мы встречались, нам становилось не так зябко. Между нами как бы вспыхивал огонек, к которому мы протягивали руки, поворачивались лицом. Кроме того, нас объединял общий враг! Виски обожгло горло. Я долго кашлял и, заказав рюмку коньяку, дал себе слово не пить залпом... Да, мы много говорили о нем. Нам нравилось бунтовать. Едва встретившись, например, в гостиничном номере, едва обменявшись быстрыми поцелуями, она начинала: — Знаешь последнюю новость? Она раздевалась так, как если бы перед ней стоял Клавьер, кипела злобой, появлялась обнаженной из ванной, держа в руке зубную щетку, губы в розовой пасте. — И тогда я ему ответила... А я закуривал сигарету, машинально кивал в знак согласия, вешал пиджак на спинку стула. Несколько минут назад я не лгал... мы действительно представляли собой старую супружескую чету, для которой ласки значили гораздо меньше, нежели сплетни. Закончив заниматься любовью, мы сразу возвращались к нашей навязчивой идее. Вот что по-настоящему доставляло нам наслаждение. Прижавшись друг к другу, мы ему мстили; мы питали иллюзию, что сильнее его; мы назначали новые свидания, наши сердца таяли от охватившей нас меланхолии. — Какое счастье, что ты рядом, дорогой! Если бы я осталась одна, то, наверное, сошла бы с ума. На следующий день мы безропотно расставались. Она возвращалась в свои богатые апартаменты, я же поздно вечером садился в поезд, наполненный резкими ночными запахами. И вновь Клермон, мрачные горы, извилистые улицы, резкий ветер, ожидание. В этом городе я превращался в человека ниоткуда. Мне, наверное, следовало бы признаться Клавьеру, что отвращения ко всему этому я не питал. Я пил, чтобы держаться в стороне. В стороне от чего? Он-то, возможно, сумел бы мне ответить. Если он мне вернет здоровье и душевное равновесие, то избавит от горестной отрешенности, которую я так старательно взлелеял и которая заменила мне талант. Коньяк имел сладковатый, маслянистый привкус и отдавал лаком. Я снова принялся за виски. Последняя рюмка. Я обещал... Значит, вопрос о разрыве отпадает. Эта мысль вывела меня из оцепенения. Подобные мысли приходят в голову по утрам, когда новый день вступает в свои права. Клавьер полагал, что все понимает, но он ничего не понял. С Марселиной я никогда не расстанусь. Потому что в ней воплотилась какая-то часть меня самого, непостижимая, неуловимая, самая ценная. Я пригубил виски и почувствовал себя лучше. Я много раз замечал: первая рюмка всегда пробуждала мои обиды. Я пил как бы собственную желчь. Вторая навевала поэтическое настроение. Я вылезал из собственной шкуры, образы принимали почти болезненную ясность, они сопровождали меня в моих раздумьях. И сейчас, когда я думал о Клавьере, то вновь видел его блестящий череп, отливающий синевой по бокам, там, где он тщательно сбривал свои редкие волосы, родничковую впадинку, морщины на лбу... Эти образы столь явственно возникали перед моими глазами, что мне приходилось замахиваться на них, чтобы прогнать, развеять, как сигаретный дым. Но наибольший эффект оказывала третья рюмка. «Как ты представляешь себе будущее?» — спросил меня Клавьер. Вот теперь я его видел. О! Ничего определенного. Но, в конце концов, Сен-Тьерри много ездил... он всегда мчался во весь опор, независимо от погоды, летом и зимой... И тогда одно неверное движение, камень в лобовое стекло, обледеневшая дорога... крошечная надежда, которая исчезнет с наступлением ночи и которую мне снова придется воскрешать, возбуждать, все больше и больше разрушая при этом свое здоровье. Я заплатил и вышел. Хмель бродил во мне и вызывал почти радостное возбуждение. Огни города казались особенно роскошными. Я решил вернуться домой. Может быть, пришла почта? Кто знает? Например, меня ждет сногсшибательный заказ — строительство школьных зданий, один из тех проектов, которые приносят сотни и сотни миллионов! Я стану богаче и могущественнее Сен-Тьерри! Ко мне станут обращаться «мсье Шармон». Он будет принимать меня в гостиной замка, а не в холле. Я засмеялся. Очевидно, я несколько перебрал. Я жил недалеко от собора в просторной квартире, две комнаты которой я превратил в свой офис. Из окон виднелись крыши, облака, вершины Домской горы. Элиана, моя секретарша, оставила записку на моем бюваре:«Фирма «Дюрюи» сообщила, что привезли шифер... Звонил Эммануэль Сен-Тьерри. Он просил, чтобы вы связались с ним как можно скорее...»Я и не знал, что он заедет в Руая. Марселина не говорила мне об этой поездке. Я посмотрел на настольные часы. Почти восемь. Но... если Эммануэль находится в Руая... тогда, наверное, и Марселина здесь? Возможно, старик Сен-Тьерри вот-вот отправится в мир иной? Плохо! У Марселины не будет времени вырваться. Я сел. Я устал от этой игры в прятки. А если я не сдвинусь с места? Если пошлю его хотя бы разок?.. Но я прекрасно знал, что бесполезно прислушиваться к своей совести. Я протянул руку к телефону. Повинуйся, старина, и торопись. Раз Сен-Тьерри оказывает тебе честь и звонит, то торопись! Он ненавидит ждать! Он тебе уже говорил об этом. Я открыл вмонтированный в стену сейф. За несколькими досье стояла бутылка «Катти Сарк». Я еще стыдился собственного порока. Я изрядно отхлебнул прямо из горлышка, хорошенько прокашлялся и, как бы из детской шалости, набрал номер Сен-Тьерри, держа в руке бутылку. Он, наверное, ужинает. Старый Фермен, ведь там все из другого века, подходит церемонно шепнуть ему на ухо, что кто-то позволил себе его побеспокоить. Я отхлебнул еще. Может, и меня не будут беспокоить! Но нет. На этот раз я ошибся. Голос Сен-Тьерри звучал любезно. — Это ты, Шармон?.. Решительно у тебя дел больше, чем у министра. Я могу тебя увидеть? — Завтра. — Нет, сейчас... Это срочно! Через два часа я уезжаю в Милан с Симоном. Так что, сам понимаешь... Сможешь? Ну конечно, сможешь! Я буду тебя ждать у ворот. Это пятиминутное дело, но мне хотелось бы все решить до отъезда... Да! Еще одно... Никому не говори об этой встрече... Когда выйдешь из дому, ты рискуешь наткнуться на кого-нибудь из наших общих знакомых... в разговоре смотри нечаянно не сболтни, знаешь, как бывает: «Сен-Тьерри? Надо же, я как раз к нему еду...» Прошу тебя, будь внимательней... Ни слова. Согласен?.. Хорошо! До скорого. Он повесил трубку. Я заметил, что у меня влажные руки и на лбу выступил пот. Я медленно сел. Неужели он знал?.. Эта таинственность, что она означала?.. Я еще выпил. Он любил скрытничать. Марселина не раз жаловалась на это. Но сейчас я почуял западню. Напрасно мы с Марселиной принимали всяческие меры предосторожности, все равно мы оставались во власти злого рока. А потом?.. Да, потом!.. Я не решался об этом и думать... Я сказал Клавьеру не всю правду. Но что меня тревожило днем и ночью, внушало тайный ужас, так это именно то... что Сен-Тьерри узнает правду. Я не очень боялся, что он вспылит. И даже если бы он бросился на меня, с каким наслаждением я бы его ударил! Нет, я не боялся его. Я боялся только его презрения. Мне хватало и своего. В течение нескольких часов в этом городе, где вся жизнь зиждется на именитых гражданах, на их ссорах, на небольших скандалах, мне вынесут приговор и приведут его в исполнение. И мне останется только уехать далеко, как можно дальше. А я на это был не способен. Не потому, что у меня не хватит сил все начинать заново, скорее потому, что любое переселение окажется для меня фатальным. Я чувствовал себя зверем, привязанным к своему логову всем нутром, впитавшим в плоть и кровь его запахи, привыкшим к его тропинкам, распознающим его шумы, знакомым со всеми укромными местечками. Даже если когда-нибудь мне придется расстаться с Марселиной, у меня останется тихая радость бродить по этим улочкам, сидеть в этих кафе, возвращаться туда, где недавно проходил. Клавьер хотел меня «подновить». Не очень-то я к этому стремился. Мне сомнительны люди без прошлого. Тогда вставай! Если он на меня набросится, я стану защищаться. Я поставил бутылку на место, разорвал записку Элианы. Защищаться чем? Оружия у меня не было. Я развязал галстук. Голова слегка кружилась. Что же придумать? Я увидел пресс-папье, небольшой кусок кварца с вкрапленными фиолетовыми кристалликами, выступающими, как зубы из челюсти животного. Ей-богу, если придется защищаться, из него получится неплохой кастет. Я немного поколебался, затем сунул его в карман плаща и вышел. Я потерял много времени, разыскивая свою машину. Если я ею не пользовался два-три дня, то уже не мог найти. В конце концов я натолкнулся на нее за собором. Свежий воздух не развеял пары алкоголя, наоборот, я окончательно опьянел. Вцепившись в руль, внимательно следя за сигналами светофора, я свернул на дорогу в Руая. Я больше ни о чем не думал, тихонько ехал, придерживаясь правой стороны. Вскоре я очутился за городом, затем поехал вдоль стены парка. Я поставил «симку» на обочину, предпочитая прийти на встречу пешком. Я не стеснялся своей машины, хоть и не каждый месяц мыл ее. Мне просто хотелось немного пройтись. Может, после короткой прогулки я приду в себя. Еще никогда Сен-Тьерри не видел меня захмелевшим. Без пяти десять. Я приехал раньше назначенного часа. Я остановился у ворот. В глубине аллеи для верховой езды виднелся замок. На первом этаже горел свет. У крыльца я разглядел белый «мерседес». Как узнать, там ли Марселина? Не знаю почему, я вспомнил вдруг о табличках, висящих в холле дорогих гостиниц: «Просить милостыню запрещено». Я отступил назад и на дороге справа от себя увидел в темноте красную точку сигареты. — Шармон? Мне навстречу направлялся Сен-Тьерри. Он бросил сигарету и протянул мне руку. — Сожалею, что побеспокоил тебя, — сказал он. — Но если я хочу быть в Милане завтра утром, нужно ехать прямо сейчас. Мне казалось, что его голос доносился издалека, и я старался изо всех сил идти прямо, изображая из себя несговорчивого, вечно чем-то недовольного, раздраженного человека. — Отцу ничуть не лучше. Врач только что ушел. У него нет никаких сомнений, что конец близок. Но ты же знаешь моего отца. Он болел всю свою жизнь, но сила воли поддерживала его. Так вот, он считает, что это очередной приступ болезни, который он одолеет своей энергией. Он и не думает, что умирает. Естественно, никто ему не перечит. Он посмотрел на замок. Свет, горевший в правом крыле, погас. — Наверное, уснул, — сказал Сен-Тьерри. — Ему колют морфий. К сожалению, я не могу отложить поездку, но завтра приедет Марселина. Она всем и займется. Мои страхи потихоньку развеивались. Судьба старого владельца замка оставляла меня равнодушным. После того как Сен-Тьерри уедет, я смогу без всяких хлопот увидеть Марселину. — Пройдемся немного, — предложил Сен-Тьерри. — С тех пор как я приехал сюда, я дышу только запахами лекарств. Он протянул мне свой портсигар, и я совершил ошибку, согласившись взять сигарету. Пальцы дрожали, я уронил ее, поискал на ощупь. Сен-Тьерри посветил на землю фонариком. — Спасибо. Он направил луч мне в лицо. — Честное слово, ты пил! — Только одну рюмку перед тем, как приехал. Вы мне не дали поужинать. Я всегда считал делом чести говорить ему «вы». Мы даже чуть не поссорились по этому поводу однажды. «Пожалуйста, если это тебе доставляет удовольствие, — отрезал он. — Но я остаюсь на «ты» со всеми бывшими однокурсниками и не изменю себе». Он остановился на дороге, подождал меня. Я различал его длинную тощую фигуру. — Напрасно ты это делаешь, — продолжал он. — К подобным вещам быстро привыкаешь, и к тому же это плохая реклама. — В Клермоне есть другие архитекторы. Вы можете обратиться к ним! Мне не удавалось взять себя в руки. Я и не догадывался, что ненавидел его до такой степени. — Ну, если ты так ставишь вопрос! — сказал он. — Очень жаль. Я надеялся сделать тебе крупный заказ. Теперь же я спрашиваю себя... Он сделал несколько шагов, я последовал за ним, стараясь обуздать свое раздражение, вызванное действием алкоголя. — О чем идет речь? — прошептал я. — Это конфиденциально. Я должен быть уверен, что мой отец ничего не узнает. Слухи у нас здесь быстро распространяются. Он поклялся вывести меня из себя. — Я умею держать язык за зубами, — сказал я. Он немного помолчал, как бы обдумывая мой ответ. Мы шли вдоль парка. Стал накрапывать мелкий холодный дождь. — Можно подумать, что я из всего делаю тайну, — наконец сказал он. — Но на самом деле очень важно, чтобы мой отец не знал о моих планах... Вот и сейчас между нами произошла стычка. Он стал невыносим. Его послушать, так нужно сидеть сложа руки, ничем не рисковать, положиться на провидение. Он не отдает себе отчета, что над заводом нависла опасность, что замок вот-вот рухнет ему на голову! Больше нет моих сил! Здесь можно встретить только кюре, монахинь, попрошаек. Я хочу поговорить с ним о деле, а он бормочет о вечном блаженстве. Если я выскажусь напрямик, он разорит меня не колеблясь... — Мне кажется, это не так просто. — Не так просто! Ничто не мешает ему делать подарки всем подряд. Вот почему, когда я уезжаю, я стараюсь устроить так, чтобы Марселина жила здесь. Не то чтобы она его любила, но она, конечно, заботится о нем, посредничает между ним и ходатаями. Мне хотелось недоуменно пожать плечами. Я не представлял Марселину в этой роли. Я-то лучше знал ее, нежели он! — Он тебя попросил, — продолжал он, — отремонтировать ограду. Впрочем, мы уже пришли. Метров двадцать ограды, обветшав от времени, рухнуло. Через проем был виден полуразвалившийся особнячок, где когда-то жили привратники или конюхи. Сен-Тьерри взобрался на груду камней. Я не без труда последовал за ним. — Бог мой! — заворчал он. — Ты же не стоишь на ногах. — У меня резиновые подошвы, — сказал я. — Они скользят. Но он, поглощенный своими заботами, уже не обращал на меня внимания. — Эта стена, — объяснил он, — в сущности, ограждала его частную жизнь. Теперь же любой может войти в парк: мальчишки, животные или бродяги. Такое чувство, словно они заглядывают в его постель. Кончится тем, что состояние будет растрачено впустую... Совершенно впустую... в то время как мне так нужны наличные... Абсурд! — Однако... — Нет. Никакого «однако». Конечно, ты в этом разбираешься. Ты заново отстроишь всю ограду. Но я хочу все смести, понимаешь? Все. Не только эту стену. Но и этот домишко, эти деревья — все, что валится от старости. И все продать. Муниципалитет ищет место, чтобы разбить парк. Вот оно! Ну посмотри, старина... Этот домишко — такой же ветхий, как замок. Он разваливается на глазах... Ты в него когда-нибудь входил?.. Не стесняйся. Он пнул ногой дверь, она широко распахнулась. — Входи! Я посвечу. Он пошарил фонарем по пыльному полу, осветил стоящую с незапамятных времен мебель. С нашей одежды капало. Сен-Тьерри пристукнул каблуком. — Все сгнило! Если постучать сильней, мы провалимся в подвал. Ну скажи, стоит ли это восстанавливать? Он погасил фонарь, и я перестал его видеть. Я слышал только, как трещит деревянный каркас, шумит ветер, качая деревья. — Так вот, — продолжил он, — я предлагаю следующее... Когда ты встретишься с моим отцом, обещай ему все, чего он захочет, но не торопи событий... Это будет не трудно... Разумеется, врач не сказал мне: «Он умрет тогда-то». Но он долго не протянет. Затем наступит мой черед. Никто не знает о моих планах. Даже Марселина. — А Симон? — Симон тем более. Я не обязан отчитываться перед шурином. Симон — служащий. Сен-Тьерри теперь отдавал распоряжения, как, хозяин. Но я не желал проявлять покорность. — В общем и целом, — сказал я, — вы готовитесь окончательно покинуть Руая? — Да. Я намереваюсь купить что-нибудь в Италии... Я еще не знаю, в каком уголке... возможно, на берегу озера Маджоре. — А ваша жена согласна? — Марселина? Надо думать! Негодяй! Он распоряжался нашими жизнями... Если он хотел нас разлучить, Марселину и меня, то ничего лучшего не мог и придумать. Быть может, он узнал правду? Но нет, он бы не стал посвящать меня в свои планы. Правда, я мало что для него значил. — Остается обсудить один вопрос, — сказал он. — Мне не хотелось бы, чтобы ты меня обобрал. Снос строений не такая уж дорогая работа. Тут преимущество перешло на мою сторону. — Заблуждаетесь, — сказал я ему сухо. — Прежде всего, это займет уйму времени. Транспортные расходы весьма высоки, затем придется приводить территорию в порядок. Просто выкорчевать деревья недостаточно. Иначе усадьба станет похожа на полигон. — Сколько? — Я затрудняюсь сказать так сразу... — Приблизительно? — Несколько миллионов. — Два?.. Три?.. — Больше. — В таком случае мне выгоднее иметь дело непосредственно с городскими властями! Он вышел на крыльцо. Я услышал, как он пробурчал: — Что за мерзкая погода! Затем он повернулся ко мне. — Не думаю, что это твое последнее слово. Или ты нарочно стараешься казаться неприятным? — Не верите, наведите справки. Но на вашем месте я не стал бы искать другого специалиста... потому что у вас нет выбора. Я еще и сам толком не знал, чего добивался, но какая-то дикая радость обуяла меня, как если бы я схватил его за горло. Я подошел поближе. — Разве вы мне не сказали, — прошептал я, — что не следует перечить вашему отцу? Если он узнает... Сен-Тьерри направился к проему в ограде, резко остановился. — Что? Он сделал шаг в мою сторону. — Повтори. Я сжимал в кармане острый камень. — Он смог бы... догадаться, — продолжал я. — В отличие от вас, я не привык лгать... Свет электрического фонаря ударил мне в лицо. — Ты пьян! Совершенно пьян! — Выключите эту штуку! — закричал я. Разумеется, я был пьян. Я чувствовал себя голым, с обнаженной душой, как больной на операционном столе. — Боже мой! Да выключите же! Левой рукой я схватил его за запястье. Фонарь упал, освещая нас снизу. Мне показалось, что он поднял кулак. Моя правая рука, вооруженная камнем, нанесла удар сама, клянусь, без моего ведома, вырвавшись на свободу, словно хищник. Она инстинктивно выбрала место, куда ударить. Я почувствовал удар в плечо. Я видел только распростертую тень, луч света выхватывал из темноты лишь покрытое мхом крыльцо, ствол дуба, по которому стекала вода, и черточки дождя. Мое сердце билось с какой-то торжественной медлительностью. Я весь горел, несмотря, на мокрые от дождя руки и лицо. Сен-Тьерри не шевелился. В затуманенный мозг стала просачиваться смутная правда. Я еще держал в руке фиолетовый камень, затем положил его в карман и поднял фонарь. — Сен-Тьерри! — сказал я. — Давайте поднимайтесь! Но я уже понял, что он никогда не поднимется. Я присел возле него на корточки. На виске у него расплывался огромный кровоподтек, при ярком свете фонаря он казался еще более ужасным! Две широких красных струйки застыли у его ноздрей, как плохо приклеенные усы. Все это походило на гротескную жуткую маску смерти. Никакого сомнения... Я погасил свет и тяжело поднялся. Я его убил. Допустим, я его убил! Не я, но что-то, существовавшее во мне, отдельно от меня, его убило. Я не чувствовал себя виновным. Внезапно я резко протрезвел, но в то же время ощущал себя отрешенным от всего. Марселина, наши страдания, наши надежды... все оставалось в прошлой жизни. Теперь я тоже труп. Не пройдет и часа, и Симон примется повсюду искать Сен-Тьерри. Пусть! Меня арестуют. Тут я бессилен. Правда, на меня, вероятно, не подумают. О нашей встрече Сен-Тьерри никому не рассказывал. Поэтому можно допустить, что на него напал бродяга, проникший через проем. Мне достаточно взять у него бумажник, портсигар, зажигалку, чтобы инсценировать ограбление... Я принялся осторожно обыскивать Сен-Тьерри, словно опасался разбудить его. В карманах у него не осталось ничего существенного, только золотой портсигар, зажигалка, так хорошо мне знакомая... Ее ему подарила Марселина... пузырек с таблетками, бумажник, платок. Жалкая добыча! Этот грабеж выгоды не принесет, ведь я ничего не сохраню, придется все уничтожить. Я искал оправданий, бессознательно стремился выиграть время. Впрочем, ради, чего? У меня же не возникало желания бежать. Но эти противоречия смущали меня. Что меня тревожило, так это необходимость оставить тело под дождем. Я раздумывал: а не дотащить ли его до входа в особнячок? Если бы у меня оставались силы, думаю, я так бы и поступил. Но я страшно устал, начал мерзнуть. Я вылез через проем. К счастью, машину я припарковал вдалеке от ворот и мог безбоязненно включить фары. Я быстро развернулся и помчался в Клермон. Огибая площадь Жода, я подумал о Клавьере. Если Клавьер заговорит — мне конец. Меня охватило столь сильное волнение, что пришлось остановиться у тротуара. Клавьер, разумеется... Он знал, что я ненавидел Сен-Тьерри, что я задолжал ему, что я — любовник его жены... Когда он узнает о смерти Сен-Тьерри, то ни на минуту не усомнится. Что же делать?.. Пойти и сказать ему правду немедленно?.. Он жил в двух шагах отсюда. Я ухватился за ручку дверцы. Но я действительно слишком устал. Мне нужно лечь, поспать... Об остальном, о следствии, о Клавьере, я не хотел больше думать. Я вновь тронулся с места и поехал к собору. Прежде всего, Клавьер обязан хранить профессиональную тайну. И потом, если бы я намеревался убить Сен-Тьерри, разве пошел бы я исповедоваться к врачу? Довод весомый. Нет. Клавьер, как и другие, не смог бы сделать соответствующих выводов. Я нашел свободное место, поставил машину и пересек площадь, еле волоча ноги, дрожавшие от усталости. Дождь и ветер хлестали меня. В холле я глянул на часы: пять минут одиннадцатого. Мне казалось, что ночь длится целое столетие, а она только-только наступила. Я сразу же схватил бутылку и, чтобы согреться, сделал хороший глоток спиртного, снял мокрый плащ. От пресс-папье избавиться не удастся. Домработница или секретарша заметили бы его исчезновение. Я вынул его из кармана, положил в раковину и открыл горячую воду, из другого вытащил все предметы, которые нашел у трупа, свалил их в ящик секретера и запер на два оборота. А ключ повесил на связку вместе с другими ключами. Завтра я продумаю каждую мелочь. Я слышал, как течет вода. Она уносила с собой кровь, стирала следы преступления, очищала мне сердце. Я разделся и принял обжигающий душ. Надел пижаму и халат, раскурил трубку. На пресс-папье не осталось никаких следов. Я его тщательно вытер и положил на стол. Каждый день теперь оно будет на глазах! Каждый день!.. Значит, я надеялся? Но я не хотел питать надежд, потому что убийство не должно оставаться безнаказанным, потому что я гнусный мерзавец, потому что очень уж все просто... Кто-то вам мешает пройти. Удар по голове — и никаких проблем. Я опустился в кресло. Но обязательно отыщется какой-нибудь след, который приведет ко мне. Посмотрим! Со стороны Сен-Тьерри — ничего. Он принял меры предосторожности, чтобы наша встреча осталась в тайне. Что даст осмотр трупа?.. Тоже ничего. Со стороны Клавьера? Я не волновался. Элиана? Сен-Тьерри ей звонил, но звонили и многие другие. Если меня спросят об этом, я скажу, что Сен-Тьерри попросил меня составить смету ремонтных работ, которые хотел провести его отец. Невероятно! Я сидел и убеждал себя, что ничем не рискую. Более того! Марселина овдовела, она свободна! Сумею ли я солгать ей?.. Мои глаза слипались, а дойти до кровати у меня не хватало сил. Мысль по инерции продолжала работать. Марселина придет в ужас, если однажды... Вот где таилась опасность. Ибо и она знала, что я ненавидел ее мужа, что задолжал ему... Но она меня любила, верила в меня. Так как же у нее может зародиться малейшее подозрение?.. Когда она узнает о смерти мужа, то будет настолько потрясена, что не обратит внимания на мое поведение, на мою реакцию. Впрочем, мы с ней свидимся в тот момент, когда в замке будет царить растерянность от этой жуткой смерти... Что уж говорить о старике, на этот раз он не выдержит. Отец после сына... Я появлюсь лишь на одно мгновение, чтобы выразить свои соболезнования. Марселина умела ко всему приспосабливаться, и поэтому она наденет строгий траур. Я ее слишком хорошо знал и заранее мог сказать, что пройдет не одна неделя, прежде чем она согласится встретиться со мной в Париже или в пригородах Клермона. Мне вполне хватит времени, чтобы влезть в новую шкуру, обрести спокойствие, зализать свои раны. Сен-Тьерри, по сути, был негодяем. Несомненно, я виноват, но я мог сослаться на множество смягчающих обстоятельств! Наконец я обрел свободу! Это он душил меня, заставлял пить! С пьянством покончено! Почему бы не лечь в клинику на несколько дней, как мне предложил Клавьер? Это послужит лучшим доказательством моей невиновности, если у него и возникнут подозрения. Я выйду оттуда совсем другим человеком, со свежей головой, готовым к новой жизни. Я женюсь на Марселине, продам свой офис, перееду в другое место, возможно в Париж. Сбудутся юношеские мечты. Марселина не откажется мне помочь. Благодаря состоянию Сен-Тьерри я смогу... Эта мысль вывела меня из оцепенения, в котором я пребывал. Однако неужели это возможно? Их планы... теперь превращались в мои. Ограда становилась моей оградой. Замок... сносить или реставрировать... это — мой замок. Не снится ли мне или... Скоро двенадцать. Труп наверняка уже обнаружили. Вызвали врача, сообщили в полицейский участок, следователи выехали на место происшествия. Но дождь, конечно, стер все следы. Марселину предупредили, и она бросилась к своему автомобилю. Нет, она предпочла ехать ночным поездом. Она мне позвонит рано утром, не опасаясь, что кто-нибудь услышит ее. Оставалось только ждать. Я проглотил две таблетки и лег. Мне потребуется много сил. Я плохо спал, несколько раз просыпался, и когда встал, то чувствовал себя разбитым, как больной, делающий первые шаги после выздоровления. Половина восьмого. Марселина ищет попутную машину. Я принял душ, сварил кофе, проглотил его в кабинете, чтобы, когда зазвонит телефон, сразу снять трубку. Вчерашние мысли путались, голова была пуста. Поэтому в четверть девятого я вынул из сейфа бутылку и основательно полил ее содержимым кусочки сахара. Затем машинально открыл папку с текущими делами, стал перелистывать страницы, поглядывая на настольные часы. Элиана пришла без четверти девять. Я вошел в ее кабинет, который сообщался с моим через обитую кожей дверь. Я купил обстановку офиса у старого архитектора, вкусами напоминавшего провинциального нотариуса. Но через несколько месяцев, когда я устроюсь основательно, отделаю контору в современном стиле, он станет просторнее и светлее. Я уже строил планы!.. Элиана снимала чехол с пишущей машинки. — Вы видели мою записку, мсье? Настал момент впервые солгать. — Да, спасибо. Я позвонил Сен-Тьерри. Ничего существенного, впрочем... Что новенького? — Не знаю. Я даже не разворачивала газету. Если хотите взглянуть, она в кармане моего плаща. Я не торопясь взял «Ла-Монтань». Может, что-то сообщалось в рубрике «Последний час»? Нет. Ничего. Новость не подоспела вовремя. Я оставил газету на краю стола и вернулся к себе. Девять часов. Может, у старика начался приступ. Может, он сейчас умирает. Переживания! Марселина, разумеется, не могла мне позвонить. Неведение превращалось в пытку. Я попытался немного поработать, но случилось то, чего я опасался. Мои глаза непрестанно искали пресс-папье. Этот шероховатый брусок, который я сотни раз держал в руках, теперь гипнотизировал меня. Аметистовые клыки ярко-сиреневого цвета угрожающе сверкали. Камень, казалось, раскрыл свою пасть и напоминал мне чучела голов хищных животных, которые, зевая, показывают острые зубы. Совершенно бессознательно я выбрал самое грозное оружие. Однако я ударил не сильно. Я старался вспомнить, но все окутал туман, как будто бы моя память посредством некого таинственного механизма за ночь опустила ширму, отгородив меня от меня же самого. Я вновь видел дождь, слышал его, он сопровождал мои воспоминания. Я взял бумаги, перенес их на небольшой столик позади меня, а сверху положил пресс-папье. Зазвонил телефон. — Спрашивают из замка. А, на этот раз нашли! — Шармон слушает. Это вы, Фермен? — Да, мсье. — Мсье Сен-Тьерри хуже? — Совсем нет, мсье. Ему даже лучше сегодня утром. Он хотел бы вас увидеть. Вы не могли бы подъехать к одиннадцати часам? Я ничего не понимал. — К одиннадцати часам?.. Подождите! Я хотел выиграть время, придумывая подходящий вопрос, но не сумел. Наугад спросил: — Кто сейчас в замке? — Никого, мсье... Мадам Сен-Тьерри предупредила, что приедет поездом, потому что немного устала. Поезд прибывает в двенадцать десять. А господа уехали вчера вечером на машине. Я скажу мсье, что он может рассчитывать на вас. — Да-да, разумеется. — До скорого свидания, мсье. Он повесил трубку. Новость меня сразила. Господа уехали вчера вечером на машине! Что это могло означать? Только одно — Сен-Тьерри жив. — Элиана, мне нужно ехать. Отмечайте все звонки, как всегда... и говорите, что я занят до шестнадцати часов. В холле я схватил еще непросохший плащ. Мне нужно было пройтись, убедиться, что я не сплю, что это не сон. Если Сен-Тьерри не умер, он должен сейчас лежать в постели, а не мчаться в своей машине. И уж конечно он не преминул бы донести на меня. Здесь концы с концами не сходились. Я знал, мое тело знало, что он мертв. В кармане я теребил его фонарь, которым осветил рану. Фонарь не обманывал! Этот старый Фермен нес вздор. Накануне, перед тем как лечь спать, он видел «мерседес». Проснувшись, убедился, что он уехал... Но именно это и казалось невероятным. Симон не уехал бы один, он обязательно стал бы разыскивать своего зятя. Если бы он его не нашел, то до сих пор оставался бы в замке, впрочем, как и машина. А если бы Симон обнаружил труп Сен-Тьерри, он поднял бы тревогу. Значит, и он и машина должны находиться в замке. Я зашел в «Кафе дю Сикль» и заказал грог. В замке меня поджидала западня. Фермен получил приказ вызвать меня, и «они» меня там поджидали. Они! Другие! Все сговорились! Все готовы меня убить! Я увидел, как над бутылками кружатся цветные круги, словно беспечные воздушные шарики. Я выпил свой грог. Осторожно, Шармон! Клавьер тебя предупредил. Как бы не началась белая горячка! Я сделал крюк, чтобы пройти перед рухнувшей оградой и осмотреть особнячок, прежде чем направиться в замок. Я отдал бы все на свете, лишь бы увидеть полицейского и отбросить сомнения. Но дорога была пустынной. Я поехал медленней. Подозрение нарастало. Затем я подумал, что безусловно не только я имел право осматривать этот уголок парка. Я остановился перед проемом в ограде и вышел из машины, держа в руках карандаш и записную книжку. Если меня заметят, то увидят лишь инженера, занятого своими расчетами. Я перешагнул через груду щебня, заставляя себя насвистывать. Труп исчез. Я хотел уж повернуть назад. От жуткого страха душа ушла в пятки. Труп исчез. Кровь впиталась в землю. Дождь смыл все следы. Ничего! Я притворился, что делаю записи. Я должен хорошенько подумать. Но я уже столько думал, что голова шла кругом. Я, как крыса в крысоловке, зациклился на своих мыслях. Труп исчез! Значит, Сен-Тьерри не умер... Следовательно, он в замке... Что же делать?.. Я направился к деревьям. Может, он ранен и куда-нибудь отполз? Насколько хватало глаз, я видел только унылую, редкую поросль, показавшуюся в конце зимы. У меня не оставалось выбора. Я должен идти в замок и узнать правду, какой бы она ни была. Дело сделано. С каким облегчением я скажу им: «Да, это я»! Я вернулся к машине и поехал к воротам. Перед крыльцом «мерседес» не стоял, но он наверняка убран в гараж. Замок выглядел как обычно. Я пошел по аллее, остановился, огляделся вокруг, затем медленно поднялся по каменным ступенькам и потянул колокольчик за цепочку. Этот колокольчик всегда напоминал мне школу, детство, молчаливые ряды учеников, страх, что я не приготовил уроки. Если бы я только мог начать сначала, повернуть время вспять!.. Дверь приоткрылась, и Фермен высунул голову. — А! Это вы, мсье Шармон. И он тоже точно такой же, как и всегда. Я проскользнул в вестибюль, всматриваясь в лестницу, которая вела в комнаты второго этажа. Эммануэль спал наверху. — Мсье, будьте так любезны дать мне ваш плащ. — Спасибо, Фермен. Я долго не задержусь... Как поживает мсье Сен-Тьерри? — Ему лучше... значительно лучше. Он подошел ближе и понизил голос: — Он держится на одной лишь силе воли. Но, боюсь, долго не протянет... По правде говоря, я предпочел бы, чтобы господа остались в замке... Это тяжелая ответственность для меня. — Они надолго уехали? Фермен сокрушенно развел руками. — Мсье Эммануэль не посвящает меня в свои дела... Вчера вечером я хотел замолвить ему словечко. Но он такой же упрямый, как его отец. Жаль, что даже сейчас они живут как кошка с собакой. — В котором часу они уехали? — Не знаю, мсье. На службе так устаешь, что мы ложимся спать очень рано. Все это очень печально, мсье, поверьте мне. Не знаешь, кто же здесь хозяин... Мсье, будьте любезны следовать за мной.. Семеня, Фермен продолжал свой грустный монолог: — К счастью, мадам должна скоро приехать. Когда она здесь, нам спокойней. Что бы мы без нее делали? Я его едва слушал. С трудом, но я смирился с этой реальностью. Фермен ничего не знал. Это невозможно, невероятно, неправдоподобно, но действительно так. Тогда где же Сен-Тьерри? Фермен поскреб в дверь комнаты и впустил меня. Больной был один, под спину подложены подушки, исхудавшие руки плашмя лежали на простыне. — Здравствуйте, Шармон... Берите стул. Голос оставался энергичным, глаза — живыми. Я подошел, держа стул в руке. — Как вы себя чувствуете, мсье? — Оставим это... А если встретите доктора Марузо, не слушайте его. Между нами, это старый хрыч, но я привык к нему... Вы видели моего сына? Внезапно появилась опасность. Старик подозрительно смотрел на меня, приготовившись уловить малейшую неуверенность, колебание, сомнение. — Он мне звонил вчера вечером... — А! Не сомневаюсь... По поводу ограды, не так ли? — Да. — Конечно, он хочет ее разрушить... Что он вам сказал? — Э-э... — Ничего не скрывайте, Шармон. — Он сказал оставить все, как есть, до его возвращения. Затем будет видно. Старик приподнялся на локте. — Потом ничего не будет видно... Подвиньтесь ближе, Шармон... Ответьте мне откровенно... Он вам говорил только об ограде? Я импровизировал наугад, чувствуя себя все более неловко. — Он намекал о других проектах, но ничего не уточнял. — О! Ну да. Я знаю эти проекты. Он прилег на спину и сказал прерывающимся голосом: — Он все хочет переделать. Ему не нравится этот дом, Шармон. Он здесь несчастлив. У современного поколения только одно на устах: они хотят быть счастливыми! Я же приверженец старой школы. Я за то, что непреходяще... Так послушайте меня внимательно... Вы мне заново отстроите эту ограду... Немедленно! Я просил вас составить смету расходов. Вы ее сделали? — Нет еще. — Не тяните! Я хочу, чтобы работы начались до возвращения моего сына! Возвращение его сына! Я чувствовал себя еще хуже, чем он. — Когда он вернется, мы раз и навсегда поставим точки над «i». А если он не согласится, то я оговорю условие в моем завещании. Пока еще я хозяин в своем доме. Все ясно, Шармон?.. Вы работаете на меня, на меня одного... Ознакомьтесь с местом работ. Сделайте то, что необходимо, и возвращайтесь, введите меня в курс... Без лишних фантазий. Восстановите ограду, и ничего более. Спасибо. Он протянул мне пожелтевшую руку, столь сухонькую, что она походила на птичью лапку, и позвонил в колокольчик. Фермен проводил меня обратно. — Как мсье нашел состояние мсье? — Дела идут не так уж плохо. — Доктор, однако, весьма встревожен. Он шел за мной до самого крыльца. Я сел в машину. Дело, однако, не сдвинулось с мертвой точки. Что случилось с Сен-Тьерри? Трудно поверить, чтобы ему настолько не терпелось уехать, и он, будучи раненным, отправился бы в путь... Нет. Концы с концами не сходятся! Так или иначе, надо мной все же висела угроза, правда, уже другого рода. Теперь следовало опасаться не полиции. Тогда кого?.. Я тронулся и поехал напрямик через парк. По крайней мере, я был уверен, что ни один любопытный меня не побеспокоит. Не знаю, как мне в голову пришла эта мысль, но она всецело завладела мной. Сен-Тьерри пришел в себя и, сам того не сознавая, ища убежища, пополз к особнячку... Он там... Он еще там. Он не мог быть нигде в другом месте. Я выскочил из машины и побежал к особнячку. Дверь закрыта. Он захлопнул ее за собой. Может, он еще жив? В таком случае... что ж, тем хуже для меня... я подниму тревогу... Я не оставлю его агонизировать. Вот где таилась угроза. Я всегда знал, что выдам себя. Во мне нет задатков убийцы. Во мне вообще нет никаких задатков. Я открыл дверь и включил фонарь. Его фонарь. В помещении никого не было. Я посветил во все стороны. Никого!.. Никаких тайников или потаенных уголков... Он ни за что бы не смог подняться на второй этаж. И все же нужно проверить... Я стал подниматься по узкой лестнице, вздувшиеся от сырости ступеньки ужасно громко скрипели. И на втором этаже — никого. Я осмотрел заброшенные две комнаты. Сен-Тьерри говорил правду. Все прогнило и грозило рухнуть. Теперь?.. Может быть, в подвале? Я спустился вниз, заранеезная результат. Раненый не станет искать убежища в подвале. Дверь находилась под лестницей. Свод был столь низким, что мне пришлось согнуться и идти очень осторожно. Наконец я выпрямился и посветил. Он лежал здесь. Я замер. Внимательно осмотрелся... мертв, вне всякого сомнения. Он лежал на спине, руки аккуратно вытянуты вдоль тела. Он не сам спустился и не сам принял такую позу. Кто-то его нашел и спрятал... Симон!.. Ну конечно Симон!.. Я перебрал все возможные варианты, кроме этого... И из всех этот самый бредовый. Колени дрожали. Меня внезапно охватил страх, словно, я заново убил Сен-Тьерри. Я повернулся и быстро поднялся наверх, закрыл дверь. Где же теперь находился Симон?.. Почему он уехал на «мерседесе» один, никого не предупредив?.. Может, он прикончил Сен-Тьерри?.. И что делать мне? Я вышел из особнячка и побежал к машине. И только там, сложив руки на руле и опустив на них голову, я позволил себе передохнуть, чтобы постараться понять. Не оставалось никаких сомнений. В подвал его упрятал Симон! Какая-то необходимость вынуждала этих двоих отправиться в Италию. Ключ от тайны, возможно, находился там, в Турине или в Милане. Вероятно, достаточно было показать «мерседес», создать иллюзию, что Сен-Тьерри совершил эту поездку... Если обнаружат труп, если дело получит огласку в печати, то не состоятся некие секретные переговоры. Я не понимал значения всего происходящего, но, скорее всего, был недалек от истины. Если Симон быстро, не теряя ни секунды, сообразил, как поступить, то, надо думать, он не располагал временем... Возможно, ему предстояло там предъявить документы... передать подписанный контракт... сделать то, что входило в обязанности Симона. Впрочем, это неплохая идея — спрятать труп в подвале этого строения, куда уже никто давно не заглядывает... В любом случае мне обеспечена безопасность. Симон не знал, что Сен-Тьерри назначил мне встречу. Когда он нашел труп и обнаружил, что, помимо всего прочего, пропал бумажник, то просто-напросто подумал, что преступление совершил какой-то бродяга. Это отправная точка. Я вне подозрений. Если начнется следствие, то ниточка потянется прежде всего к нему. Самый большой риск он взял на себя... Огромный риск, если как следует подумать. Что Симон ответит, когда у него спросят, почему он уехал один?.. Быть может, он скажет, что Сен-Тьерри внезапно бросил его по ту сторону границы? А возможно, он был крайне заинтересован подстроить исчезновение Сен-Тьерри в Италии? Напрашивалось столько предположений, что всякий раз я рисковал запутаться. Но чем больше я обдумывал проблему, тем яснее видел, что мои интересы и интересы Симона противоположны. Раз Симон в некотором роде предстал виновником исчезновения Сен-Тьерри, то пусть и выкручивается. Если обнаружат труп, то я окажусь только в выигрыше. Марселина — вдова, вдова официально, а это в корне изменит всю мою жизнь. Сен-Тьерри при жизни представлял собой непреодолимое препятствие. И мертвый он мог все еще разлучить нас, Марселину и меня, если его не найдут... Тогда что же, найти его, вытащить из подвала и положить там, где он упал в первый раз? Нет. Не я же должен бить тревогу в замке и вызывать полицию. Пусть кто-то другой, посторонний, на которого не падает ни малейшего подозрения, займется этим делом вместо меня. Я предложу старику восстановить особнячок, а не только одну ограду и предложу столь умеренную цену, что он ни за что не упустит подобный случай, обращусь к подрядчику, который, прежде чем приступить к работам, посчитает своим долгом осмотреть особнячок снизу доверху. Ко мне возвращалась надежда. Я напоминал севшую на мель лодку, которая благодаря приливу вновь закачалась на волнах. Воздух свободно поступал в мои легкие. Я закурил сигарету. Хотелось немного выпить. После стольких кошмарных часов я наконец увидел свет в конце туннеля. Спасение!.. Разумеется, оставался еще Симон... брат Марселины! Но прежде всего Симон должен обеспечить себе алиби. Он способный тип. Даже слишком!.. Я всегда его опасался. Он без зазрения совести использовал сестру в своих интересах. Какую работу он делал для Сен-Тьерри? Мальчик на побегушках, темная лошадка. Но он достаточно хитер, чтобы все взвалить на себя. Я посмотрел на часы. Почти полдень. Марселина скоро приедет. Я снова направился в замок. — Ну как? — спросил старик. — Что касается ограды, то никаких проблем. Расходы невелики. Можно использовать тот же камень. — Очень хорошо. Я об этом думал, но рад, что предложение исходит от вас. — К сожалению, надо чинить не только ограду, но и особнячок. — Что? Ну и что с ним, с особнячком? — Да он разваливается на части. Какой смысл восстанавливать ограду, если он на нее вскоре рухнет. Старый Сен-Тьерри напряженно следил за мной, нахмурив брови, как бы чувствуя подвох. — Вы уверены, Шармон? Может, вы преувеличиваете?.. Последний раз, когда я туда ходил, я ничего не заметил. — Как давно? Он закрыл глаза, устало вздохнул. — Верно, — прошептал он, — очень давно!.. — Крыша прохудилась. Я не заходил внутрь, но даю голову на отсечение, что стропила сгнили. Если произойдет несчастный случай, вам придется отвечать. — Туда больше никто не ходит. — Тем не менее! Нужно быть осмотрительным. Безусловно, речь идет не о том, чтобы его реконструировать, а о том, чтобы отремонтировать главное. — Это дорого? Вновь жесткий взгляд из-за полузакрытых век. — Нет, в целом можно уложиться в полтора миллиона. В замке я всегда называл цены в старых франках, только так старик понимал. — Посмотрим, — сказал он. — Мне хотелось бы все решить до возвращения вашего сына. Подобные обороты теперь меня не пугали. Непонятно почему, но я стал смотреть на Симона как на единственного преступника. — А если ограничиться тем, что поставить опоры? — В глубине парка очень сыро. Сгниет любое дерево. Рано или поздно зло придется искоренить, а чем дольше вы будете тянуть, тем дороже обойдется ваш ремонт. — Кто у вас может выполнить работу? — Мейньель. — Он дорого берет. Раздраженный, я сжал кулаки. Из-за глупого упрямства он все провалит. В дверь поскреблись. — Откройте, — сказал он мне. — Может, это Марселина. Я так торопился закончить с ним разговор, что сделал вид, что не расслышал. — Он примет наши условия, — продолжал я. — Сейчас немало безработных. — Может, это Марселина, — повторил он. Я поднялся и продолжал разглагольствовать, пересекая огромную комнату: — Все же лучше пригласить Мейньеля... Он посмотрит, и мы вместе договоримся о цене... — Не надо горячиться! Уже взявшись за ручку двери, я бросил ему: — И если ваш сын уже общался с Мейньелем... Он ведь думал о нем, я знаю. Я открыл. На пороге стояла Марселина, элегантная в своем просторном дорожном плаще. Она вытянула губы, изображая поцелуй, и шепнула: — Как он? — Такой же упрямый, как и раньше. Она вошла и, уже надев маску, вежливо обратилась ко мне: — Мсье Шармон, ну, как чувствует себя наш больной? Но старик так же быстро напустил на себя трагический вид, слабо пошевелил рукой и умирающим голосом произнес: — Мое бедное дитя, я думаю, что пришел конец. А тем не менее твой муж все же уехал... Со мной здесь никто... не считается. Она наклонилась, чтобы поцеловать его. — Не нужно так, отец... Я ведь специально приехала, чтобы не оставлять вас одного. Я с трудом сдерживал свою ярость. Все пропало! Если бы только Марселина приехала минут через десять!.. Радость свидания с ней исчезла. Теперь я должен уходить. Здесь на меня смотрели как на простого служащего. Но, возможно, сначала разыгрываемая комедия и завораживала меня. Обреченный старик изображал агонию. Эта женщина обращалась к нему «отец», хотя называла его «слабоумным старикашкой», когда мы встречались. И я, убийца сына... и мужа. Нет! Невозможно. Это просто сон! И все же я подошел к кровати. — Что решим с Мейньелем? Марселина сгорала от желания увидеть меня наедине. Она погрозила мне пальцем: — Мсье Шармон, не могли бы вы отложить свои дела? Я догадываюсь, что речь идет об этой проклятой ограде. Так пусть она подождет! Отец сообщит мне свое решение, а я передам вам его ответ... я как раз собиралась съездить в Клермон во второй половине дня. Я заеду к вам. Договорились? Если бы она только знала, глупенькая! Но настаивать опасно. А отложить на какое-то время, как предлагала она... значит упустить единственную возможность с этим покончить. Нелепая идея мне пришла на ум. Но с некоторых пор у меня появлялись только нелепые идеи. Сколько дней может пролежать труп?.. Я унес все предметы, позволяющие его опознать. Не обернется ли против меня эта мера предосторожности?.. Сколько дней?.. Клавьер прав. Мне просто необходимо лечиться от алкоголизма. — Договорились? — повторила Марселина. — Разумеется, разумеется, — сказал я, несколько невпопад, поскольку чувствовал, что проиграл. — Но я предупредил мсье Сен-Тьерри: убытки быстро начнут расти. В соседней комнате зазвонил телефон. Марселина хотела выйти. — Останьтесь, — сказал старик. — Фермен подойдет, наверняка кто-нибудь хочет справиться о моем здоровье. Уже неделя, как все время звонит телефон. Если бы даже я и питал какие-нибудь надежды, они быстро бы их развеяли. Раздались шаркающие шаги Фермена. Трубку сняли. — Алло... А! Здравствуйте, мсье... Мсье удачно доехал?.. Хорошо, мсье. Мы услышали, как Фермен направляется к комнате, затем слуга слегка постучал. — Да! — крикнула Марселина. Фермен просунул голову в приоткрытую дверь, как он всегда делал. — Звонит мсье. Мсье спрашивает мадам. — Извините, — сказала Марселина. Она вышла, не закрывая за собой дверь. Я застыл на месте. Старик жестом подозвал меня к себе. Ноги стали похожи на костыли, такие же несгибающиеся и одеревенелые. Я изо всех сил прислушивался к разговору. — Алло... Алло... Марселина говорила громко, и до меня отчетливо доносились ее слова. — Я очень плохо тебя слышу... Уже в Милане?.. Да вы оба с ума сошли, разве можно ехать всю ночь! Попадете в аварию, запомни, что я тебе говорю. Старик потянул меня за рукав. — Шармон, если Эммануэль вам позвонит... а от него вполне можно это ожидать... помните, вы работаете на меня. — Алло... Я тебя плохо слышу... Да, я только что приехала... Что?.. Отец, конечно, чувствует себя неважно, но состояние не ухудшилось... Скажи, куда тебе писать... При этих словах во мне вспыхнула болезненная ревность, хотя теперь для нее не существовало никаких причин. Рассердившись, я обернулся к старику: — Проще всего вызвать Мейньеля и поручить ему строительство. Вопрос будет решен. — Алло... Не слышу, дорогой... Алло... — Не больше полутора миллиона, Шармон. Вы дали мне слово. И потом, я хочу получить подробную смету... Эти расходы могут не облагаться налогами. Эти трое сведут меня с ума... Нет, двое, поскольку третий... А! Клавьер! Помоги! Я сейчас свихнусь. Я собирался уходить, когда вошла Марселина. — Вы нас уже покидаете, мсье Шармон? Пустая улыбка светской дамы. Вот притвора! Ну еще одно усилие, чтобы она ничего не заподозрила. — Да... Мсье Сен-Тьерри в конце концов согласился пригласить Мейньеля. Завтра я его приведу. — Так, значит, мы будем иметь удовольствие часто видеть вас здесь? Она продолжала играть, и это доставляло ей удовольствие, глупышка! — Я провожу мсье Шармона, — сказала она свекру. Она закрыла дверь и прислонилась к ней. — Уф! — прошептала она. — Представляешь, если бы они нас застукали! К счастью, этот в Милане. Можно не волноваться! — Не волноваться! — ухмыльнулся я. — Что с тобой?.. Ты кажешься усталым, выглядишь просто ужасно. Я сразу заметила. — Так, ничего... Несколько переутомился... Давай выйдем. Мы прошли через столовую — темная мебель, серые обои и тусклый свет, падавший из высоких окон, придавали ей мрачный вид, — затем через вестибюль, облицованный черно-белой плиткой, блестевшей так, что наши силуэты отражались в ней, как в воде пруда. На улице я вздохнул свободней. — Твой муж... что он, собственно, тебе говорил? — Я его еле-еле слышала... Ему хотелось знать, приехала ли я, что с отцом, все ли в порядке в замке. Очевидно, звонил Симон, приглушив голос. Труп в подвале, несмотря ни на что, должен был его серьезно волновать. Мы спустились по ступенькам крыльца. — С ним бесполезно говорить о Мейньеле и ремонтных работах, — сказал я. — Это только вызовет у него раздражение... Тем более что из-за этого он и поссорился со стариком. — Ясное дело, что там говорить... Я приеду к тебе в офис. — Нет. Теперь в этом нет необходимости, раз «добро» получено. Я сам приеду в замок. — Но когда мы увидимся... без посторонних? — Все зависит от обстоятельств... Я дам тебе знать. Разумеется, все будет зависеть от подрядчика! Мы пожали друг другу руки, ведь нас могли увидеть из окна. Я вернулся в Клермон, где пообедал в небольшом ресторанчике, здесь я был постоянным посетителем. Выпил две чашки кофе, рюмку коньяку, закурил сигарету. Мои мысли витали вокруг Симона, словно мухи вокруг куска сахара. Симон стремился выиграть время, но, по сути, его положение было безнадежным. Пока пусть считает, что находится в безопасности. Любой убийца вряд ли выдаст себя, обрадовавшись, что преступление никто не заметил. В течение еще нескольких дней Симон, оставаясь в Италии, сможет создавать впечатление, что Сен-Тьерри находится вместе с ним, благодаря телефонным звонкам, даже письмам. А затем?.. Их поездка не могла длиться слишком долго. Итак?.. Что-то от меня по-прежнему ускользало, и я злился, потому что не мог понять. Симон был слишком умен, чтобы пуститься на такую авантюру, не имея на то веского основания. Я выпил еще рюмку. Рука тряслась — настоящая рука алкоголика, дошедшего до точки. И все же я не столь уж плох. Разве я виноват, если все, что я ни делаю, оборачивается против меня? Я узнавал эту глупую жалость к самому себе. Она возвещала об опьянении. Самое время уносить ноги. Но где найти силы? Как заставить себя встать? Я так отяжелел! Каждое движение давалось с трудом. Опереться о стол, встать, отодвинуть стул, ничего не опрокинув, пересечь зал и затем жить, жить назло всем... Сен-Тьерри хорошо лежать в своем подвале, ведь это он, как всегда, одержал верх! Все еще шел дождь. Я ехал, смутно различая, скорее угадывая между двумя движениями «дворников» то, что творилось вокруг. Я видел, как люди входили в собор. Они там находили убежище и, возможно, решение всех своих проблем. Я же искал, где поставить машину. Каждый день я объезжал эти старые камни... Я слышал таинственное пение. Иногда вечерами горел свет, освещавший витражи изнутри. Может, мне надо только войти... не через паперть, слишком величественную... а через одну из небольших дверей... Я не смел... Пока не смел! Я поднялся в свой кабинет и позвонил Мейньелю. Мейньель только этого и ждал, но для проформы не согласился с такой ценой. Что же, мне платить из собственного кармана, чтобы вытащить Сен-Тьерри на свет Божий? Договорились встретиться завтра утром. Мейньель не хотел браться за дело. Деньги! Деньги! Они водились у всех, кроме меня. Вот почему на мне лежало проклятие!
Мейньель представлял из себя типичного уроженца провинции Овернь. Мохнатые брови придавали ему свирепый вид, а волосы были настолько густыми, что дождь на них ложился, словно роса. Порывистый и в то же время осмотрительный, он ходил от ограды к особнячку, нагибался время от времени, чтобы пощупать камень, качал головой с недовольным видом. Я же стоял в стороне и ждал, охваченный тревогой, но полный решимости не торопить его. Он расстегнул кожаное пальто, потому что ему сделалось слишком жарко, отряхнулся, вытер руки. — Во всяком случае, — сказал он, — при такой погоде не может быть и речи о том, чтобы начать... — Но это выполнимо? — Все всегда выполнимо. Но вы сами понимаете, что это за работа! Он вытащил из внутреннего кармана складную деревянную рулетку, подошел к двери особнячка и поводил по ней медным уголком. — Чуть нажми — и проткнешь насквозь... Вся прогнила... На мой взгляд, восстановить ее нельзя... по крайней мере, за ту цену, которую вы предложили... Будьте благоразумны, Шармон. Не мне вас учить! — Может, договоримся? Возможно, нам удастся уточнить цену. — Хотелось бы надеяться. Внутри строение в таком же плачевном состоянии, как и снаружи, полагаю. — Не знаю. У меня не было времени его осматривать. Он вошел. Я последовал за ним. Все должно произойти так, как я задумал. Он зажег фонарь и начал прощупывать стены, ходил вокруг окон. — Но посмотрите сами, Шармон. Он что, ненормальный, ваш заказчик?.. Восстанавливать такую развалюху! — Он ею очень дорожит! Я чувствовал, что Мейньель сейчас начнет возмущаться и силком потащит меня наверх, потом вниз, чтобы доказать, что я ничего в этом не смыслю. Моя репутация от этого только пострадает, но речь шла о Марселине, о моей жизни, о... Он схватил меня за руку. — Поднимемся! Несущие конструкции еле-еле держатся. Я не понимаю, как вы могли назвать такую цену! Вы поступили легкомысленно! Во всяком случае, я вас не одобряю... Прежде всего нужно отремонтировать лестницу, вы согласны?.. А пол! Он стукнул каблуком. Эхо отозвалось по всему зданию, затем он кулаком ударил по перегородке. — Все очень просто, — сказал он. — Нужно заменить все, что сделано из дерева. Абсолютно все. Произвести расчеты. Я не могу поручиться даже за стены. — Камень прочный. — Но цемент никуда не годится. В те времена возводили просто толстые стены и не ломали себе голову. Я видел, как работал мой дед, должен вам сказать! Здесь всюду скалистый грунт, поэтому чуть копнут, и подвал готов. Затем нагромождали один на другой крупные камни... Строили прочные на вид развалины. Пример такой развалины у вас перед глазами! — Однако все же признайте, кое-что хорошо сохранилось. — Да, — сказал он, смеясь. — Подвал, разумеется, подвал! Я спускался первым. Он ступал за мной. Под его тяжестью ступеньки прогибались. — Во всяком случае, — продолжал он, — глубиной старинные подвалы не отличались. Ничего существенного там не поставишь. — Этот, кажется, довольно просторный. — Такой же, как остальные! Я-то их перевидел! — Лестница здесь, — сказал я, направляясь в глубь помещения. — Не стоит! Я заранее знаю, что он из себя представляет. — Как?.. Вы не хотите осмотреть? — Я и так достаточно выпачкался. Как бы отряхивая снег с одежды, он размашисто похлопал по бокам кожаного пальто, погасил фонарь. — Подведем итог, — произнес он. — Я готов приняться за дело, но при условии, что старик мне станет доверять. Он, черт возьми, меня знает. Я никогда не драл с него три шкуры... Если он согласен, вы мне позвоните. Я растерялся. Настаивать бесполезно. Мейньель торопился. Сейчас он уйдет. Я побежал за ним. — Если я улажу этот вопрос, когда бы вы смогли приступить? — Как только кончится дождь. Обещают сухую погоду... Завтра, самое позднее послезавтра... Но только чтобы сделать вам приятное. Клянусь, он специально подбирал слова, чтобы вызвать у меня еще большую панику. Лишние день-два... для него это не имело значения. Для меня же... Он перепрыгнул через проем в ограде и открыл дверцу своего грузовичка. — Не позволяйте ему водить себя за нос! — крикнул он. — Когда приступим, он должен вас слушаться. Я остался один среди обвалившихся камней. Все складывалось ужасным образом. А если старик решит повременить?.. У меня оставалась еще одна возможность — отказаться от Мейньеля и обратиться к другому подрядчику. Но я привык работать с Мейньелем... Он бы не понял... Лучше вернуться к разговору и постараться настоять на окончательном решении. Я обернулся к особнячку и чуть было не крикнул: «Мы еще не уходим!» Как если бы труп бросал мне вызов. Неужели так трудно привести кого-нибудь в этот подвал? Почему кого-нибудь? Почему не действовать самостоятельно? Что мне мешало отважиться? Я заявлю, что после отъезда Мейньеля я спустился в подвал именно потому, что он не захотел его осмотреть... Что тут противоестественного?.. Но, с другой стороны, два дня... только два дня... Если все тщательно взвесить, то я все еще остаюсь хозяином положения. И потом, Мейньель прав: главное — начать. Если старик сочтет, что его втянули в лишние расходы что ж, работы прекратятся. Но к тому времени уже обнаружат труп. Я зашагал более уверенно. Это только временная помеха. Над Домской горой небо прояснилось. За несколько дней я стал суеверней простого крестьянина. Меня не покидало чувство, что я окружен сплошными символами. Голубой просвет на небе означал, что удача мне улыбнется, что старик уступит. Я сел в машину и вновь направился в замок. — Мсье очень плохо спал ночью, — объявил мне Фермен. — Утром приходил доктор. — Мы договорились встретиться... — Доктор настоятельно рекомендовал не тревожить мсье. — Тогда прошу вас поставить в известность мадам Сен-Тьерри. — Хорошо, мсье. Я не уйду, пока не получу окончательный ответ. В конце концов, надо мной что, издеваются? Я стоял посредине вестибюля, как ходатай, которого собираются выпроводить, а между тем и замок и парк были почти у меня в руках! Я устал ломать комедию! — О! Мсье Шармон! — издалека воскликнула Марселина. — Что же вы не прошли в гостиную? Когда она подошла поближе, то искренне встревожилась: — Что произошло? — Мне необходимо видеть твоего свекра. Все напоминало бездарный спектакль с репликами в сторону и театральным шепотом на авансцене. Марселина почувствовала, что я раздражен, и постаралась меня успокоить. — Я скажу ему, что ты пришел, но, поверь мне, он не в состоянии вести беседу... Около четырех с ним случилось что-то похожее на обморок... Мы не сомкнули глаз... Ты по поводу строительных работ? — Разумеется. — Тебе не кажется, что с этим можно подождать?.. Пошли в гостиную. Гостиная, как и все остальное, походила на музей старинных вещей, наводящих тоску. Здесь царила прохлада. — Хоть поцелуй меня! — жалобно простонала Марселина. Я быстро ее чмокнул. — Если хочешь, я напишу Эммануэлю, — продолжила она. — Он мог бы тебе сообщить о... — Только не это. Эммануэль! Что за идиотизм! Просто нет слов. Живой он нас сближал. Теперь, когда я не мог ни сообщить правду, ни подавить гнев, он делал из нас с Марселиной врагов. — Однако, дорогой, эта история с оградой становится просто смешной. — Возможно... Но я-то должен работать. — О! Ладно... Тогда пошли со мной. Я прошел с ней до двери спальни. Она бесшумно вошла, а я встал у одного из окон. Оттуда был виден уголок парка. Дождь перестал. Черная птичка прыгала среди опавших листьев. Меня мучила жажда. Я слишком много курил. Марселина вернулась, осторожно прикрыла дверь. — Он сказал, — шепнула она, — что вы пришли к согласию и что тебе следует приступить к ремонтным работам. — Отнюдь нет! — Он никого не хочет видеть. — Послушай, Марселина... Это важно, черт возьми!.. Иди и скажи ему, что я разговаривал с Мейньелем. Расходы окажутся большими, чем мы предполагали. Нужно посчитать... вдвое. Скажи ему просто: вдвое. Это далеко не окончательная сумма расходов, но с 30 000 франков Мейньель согласится начать работы. А там посмотрим. Марселина проскользнула в спальню. Если возникнет конфликт с Мейньелем, она выступит в качестве свидетеля. Я совершил ошибку. Мне не следовало бы разводить все эти разговоры, нужно было решительно попросить Мейньеля начать работы и не создавать самому себе трудности из-за цен, что меня ставило в невыносимое положение. Но старик тоже хорош! Марселина выскользнула наружу. — Он отказывается! Согласен на два миллиона, только чтобы его оставили в покое, но не больше. — Вот видишь, — сказал я, — если бы он был так болен, как говорят, да плевать он хотел бы и на ограду, и на все остальное. Это его очередной трюк. Ты ему ответь... — Ну уж нет! Это становится омерзительно!.. Я к нему не питаю никаких симпатий, ты же знаешь... но мы не имеем права его так мучить! — Но это в его духе, — ответил я со злостью. — Пока можно торговаться, он будет дрожать над каждым су и ни за что не уступит. — Какой ты безжалостный! — прошептала Марселина. — Я тебя не узнаю. Оставалось только одно средство. Оно внушало мне отвращение, но выбора не было. — Хорошо, — сказал я. — Объяви ему, что разумней всего написать твоему мужу... Представь все так, как если бы инициатива исходила от тебя, разумеется... Предложить мудрый вариант — не значит его мучить. Она посмотрела на меня с некоторой враждебностью, поскольку чувствовала, что я скрываю от нее правду. — Обещаю, что после этого отстану... Иди! На этот раз отсутствовала она недолго. Когда она вернулась, то выглядела возмущенной и оскорбленной. — Я же говорила тебе! — выдавила она. — Он очень плох. А тут еще это! — Что такое? — Он принимает ваши условия, но хочет, чтобы Мейньель принялся за работу немедленно. Ему нужно, чтобы вы составили раздутый счёт... из-за налогов. Раздутый, он так и сказал. Ты-то его знаешь лучше, чем я. Он еле ворочает языком, а туда же, силится считать. Честное слово, я поражаюсь. Ну и семейка! Я вздохнул с облегчением. — Ты позволишь мне воспользоваться телефоном? И, не дожидаясь ответа, я позвонил Мейньелю. — Говорит Шармон. Все улажено. Можете приглашать ваших рабочих. Я звоню из замка... На первую очередь работ вам выделяется тридцать тысяч... — Хорошо, — сказал Мейньель. — Но мне нужно письменное подтверждение. — Завтра принесу на стройку. Когда обнаружат Сен-Тьерри, работы вряд ли продолжатся! Я ничем не рисковал, давая подобное обещание. — Алло... Когда вы собираетесь начать? — Завтра утром, — сказал Мейньель, — если погода улучшится. Мы приедем к восьми часам. Я повесил трубку. Марселина стояла за спиной. — Эммануэль придет в ярость, — заметила она. — Эммануэль ни о чем не узнает. Я тут же постарался поправиться, не хватало сейчас совершить оплошность. — Он ни о чем не узнает, — продолжал я, — потому что ты ни о чем ему не расскажешь. — Разумеется. Но он скоро вернется. К тому же, если умрет отец, он тебе никогда не простит пустую трату денег... Ты его знаешь. Вы поругаетесь, и нам от этого не станет легче. Подумай, дорогой, и о нас... Я бы на твоем месте не торопилась... Предположим, отец скончается завтра, послезавтра... ты же будешь вынужден все остановить... — Старик не так уж плох. — Если бы ты провел эту ночь здесь, то ты бы придерживался другого мнения. Доктор считает, что он безнадежен. Он говорит, что, возможно, уже сегодня нужно звать священника... Впрочем, я предупрежу Эммануэля. Как бы он ни ненавидел отца, его место здесь. Я пожал плечами. Да, она стала членом семьи Сен-Тьерри! — А ведь еще вчера ты спрашивала меня, когда мы сможем увидеться наедине, — сказал я со злобой. — Теперь же ты думаешь об уведомительном письме, о траурном платье. — Я прошу тебя... Войди в мое положение. — Мы уже не встречались больше месяца. Она, не отрывая взгляда от двери позади нас, погладила мне волосы. — Как только смогу, поверь мне. — Держи меня в курсе, я у себя в офисе. Но я не сразу возвратился в офис. По дороге я заглянул в небольшое бистро, расположенное рядом с собором. Я был его завсегдатаем. Бистро облюбовали служащие похоронного бюро, которые забегали сюда пропустить стаканчик белого вина, пока шло отпевание. Я заказал рюмку арманьяка и попробовал предугадать дальнейший ход событий. Первым делом Мейньель примется за особнячок, но ему потребуется какое-то время, чтобы выгрузить стройматериалы из грузовика. Затем рабочие приступят к возведению лесов, а он вновь станет осматривать здание. Мне следует появиться попозже. Я не горел желанием присутствовать при обнаружении трупа. Поэтому я не должен приезжать раньше девяти часов. До тех пор они могут еще не забить тревогу. Иначе мне придется сообщить это известие Марселине. В этом и заключалась вся трудность. Как себя вести? — Гарсон... еще одну. Оставаться естественным. Безусловно, это событие меня потрясет. Сколько времени он уже лежал в подвале?.. Не так уж и долго!.. И все же меня охватывал ужас при мысли, что я должен буду вновь его увидеть. Мне его покажет Мейньель. Мне придется выслушать его разглагольствования, предположения... Предстоит пережить кошмарный день. А еще эта полиция, эти журналисты... В Италию пошлют телеграмму... чтобы предупредить Симона... О дальнейшем я не мог догадываться. Судмедэксперт даст заключение, что смерть наступила три дня назад. Марселина скажет: «Позавчера он мне звонил». Симон: «Мы вместе уехали...» А я? Что же скажу я? Я выпил рюмку пастиса и купил пачку сигарет «Руаяль». А я выхожу из игры. Я не хочу больше в этом участвовать. Если понадобится, то я заболею, лягу в клинику, наконец. Они у меня еще попляшут!.. В голове — туман. Хватит! Я вышел. Перед входом в собор стоял катафалк. Еще одно предзнаменование. Вот уже три дня, как смерть бродит за мной по пятам. С меня довольно, довольно, довольно! Перевалило уже далеко за полдень, когда я вернулся к себе в офис; там меня ждала записка от Элианы.
«Звонила мадам Сен-Тьерри, просила Вас с ней связаться. Срочно. Я пошла на почту. Буду через час».Неужели опять все сначала?.. Я сел, подавленный. Да нет же! Марселина просто нашла способ вырваться. Зачем все время думать о худшем? Я набрал номер. Сразу же узнал голос Марселины, голос светской женщины. Таким тоном она разговаривала, когда кто-то находился рядом. — Мадам Сен-Тьерри у телефона... А, это вы, мсье Шармон... У свекра снова был приступ... Он в коматозном состоянии... На этот раз все кончено... По словам доктора, он сможет протянуть еще несколько часов... Да, все это очень печально... Я вынуждена сообщить вам, чтобы вы не приступали к работам... Когда муж вернется, он даст вам о себе знать... Рядом слонялся Фермен или другой слуга. Во всяком случае, сказать мне было нечего. Я перестал разбирать звуки, исходящие из наушника, походившего на плохо отрегулированный приемник. Я опустил трубку. Все! Больше никто не вытащит Сен-Тьерри из его могилы. Марселина никогда не станет вдовой. А ты, глупый пень, так и останешься тем, кем и был до сих пор — неудачником, ничтожеством, примитивным преступником. Я открыл сейф, сделал наспех большой глоток спиртного, поперхнулся, закашлялся, никак не мог остановиться, слезы выступили на глазах, и я надеялся, что задохнусь окончательно. Наконец я успокоился. Теперь настал черед предаться всяким досужим домыслам, в чем я уже весьма преуспел. Итак! Старик отправляется к праотцам. Что же дальше?.. Кто вернется из Милана, а? Симон. Симон один. Симону придется давать объяснения... Но как только я подумал о Симоне, то ощутил, что попал как бы в полосу тумана. Что же дальше? Старик после того, как у него началась агония, все еще не сказал своего последнего слова!.. Есть столько примеров, когда, впадая в кому, больной черпает в этом состоянии новые силы и тянет, и тянет еще не один день. Труп в подвале скоро превратится в вещь, в безымянный предмет, станет никем. Даже если случайно его обнаружат, ничто не позволит утверждать, что это — Сен-Тьерри, а не какой-нибудь бродяга. И на сей раз моя судьба целиком зависела от старика. Все равно что биться головой о стену. Нужно ли предупредить Мейньеля? Да. Если он узнает, что старик при смерти, то он все равно прекратит работы, опасаясь, что ему не заплатят. А узнает он об этом, как только приедет в замок. Лучше уж опередить события. Поэтому я ему позвонил и поставил в известность. — Мне это больше по душе, — сказал он. — Работенка не из приятных. Если бы он только знал!.. Будучи не в состоянии ничем заняться, возбужденный, я отправился бродить по городу, чтобы убить время. Конечно, мне нужно было изучить кое-какие планы, рассмотреть заявки клиентов, но я совершенно не мог сосредоточиться на конкретном предмете. Я шатался, рассматривая витрины, и искал какую-нибудь уловку, придумывал малейший повод, изобретал способ, который бы мне позволил привести свидетеля в особнячок. Но лишь двое были способны профинансировать работы, только один из них уже умер, а другой вот-вот умрет... Обычно убийцы пускаются на всякие ухищрения, чтобы спрятать тела своих жертв. Я же ломал себе голову над тем, как сообщить, что совершено преступление, и не находил никакого решения. Если только Марселина... Я вошел в кафе, чтобы ей позвонить, и наткнулся на Фермена. — Мадам не сможет прийти, — сказал он мне заговорщицким голосом, — мсье соборуют. — Он, значит, пришел в себя?.. — Нет, мсье. Он все в том же состоянии. Больше нет никакой надежды. — Предупредите мадам Сен-Тьерри, что я позвоню через час. Я извиняюсь за назойливость. Но речь идет о срочных работах, вы понимаете? Я совершенно не представляю, что должен предпринять. Невероятно, сколько абсурдных идей, химерных надежд могут пронестись в голове за какой-то час! Я не удержался, выпил еще несколько рюмок. Мысли путались. Тротуар поплыл под ногами. Фонари тускло горели в сумерках. В этот час тени от них были лишь бледными очертаниями, сгустятся и почернеют они позже. Я шел, не разбирая дороги. Дыхание клубами пара вырывалось изо рта, они принимали форму шара, словно в комиксах, и в середине этого шара я радостно писал: «Сен-Тьерри умер...», «Ищите Сен-Тьерри...», «Сен-Тьерри — ку-ку...». Хорошенький комикс, черт возьми! Потом я зашел в незнакомый бар, попросил телефонный жетон и рюмку коньяку. Марселина сразу сняла трубку. — Марселина?.. Извините, я хотел сказать мадам Эммануэль Сен-Тьерри? Я чувствовал, что она беспокоится, нервничает. Она, очевидно, спрашивала себя, не заболел ли я. Ну да, заболел. Конечно! — Фермен передал вам мою просьбу?.. Хорошо, я хочу твердо знать, что же делать — ремонтировать или сносить? Я знаю, что ваш муж хотел все стереть с лица земли... Полагаю, что он остался при своем мнении. Вы ведь в курсе, не так ли? — Мсье Шармон, неужели нельзя дождаться его возвращения? — О! Его возвращения! Возможно, он не собирается возвращаться. — Я ему написала. Через два-три дня все станет ясно. — Но вам, дорогая мадам, ничто не мешает дать мне заказ. Ему останется только его подтвердить. От слов «дорогая мадам» у нее перехватило дыхание. Меня это рассмешило. Ее брату, этому славному малому, будет совсем не просто отразить удар, нанесенный ниже пояса. Разумеется, он позаботился, чтобы наложить руку на переписку Сен-Тьерри. Но у него не хватит смелости ответить, что особнячок следует разрушить. Однако, раз он залез в шкуру Сен-Тьерри, он не сможет отказаться от обещания! — Алло... — Она говорила тихо, так что я с трудом ее слышал. — Алло... Что происходит, Ален? — Просто я спешу, я взял на себя определенные обязательства. Так я начинаю или нет? — Лучше не надо, до тех пор пока здесь не произойдет... что-либо конкретное. — А «конкретное» произойдет скоро? — Неизвестно. Сердце у него здоровое... Если что-нибудь случится, я поставлю вас в известность, мсье Шармон. Связь оборвалась. Вероятно, из-за преданного слуги, который повсюду совал свой нос. Что ж, мой славный Шармон, выбора нет. Придется самому браться за работу, как говорил Мейньель. За неприятную работу. Я залпом выпил рюмку коньяку и заказал еще одну — лишь для того, чтобы набраться сил и обдумать одну мысль, которая только что меня осенила. Раз от меня все отворачиваются, то я возьму дело в свои руки как можно скорее — а именно сегодня вечером. Я, Ален Шармон, вытащу труп сам и положу на дорогу у всех на виду. А тот идиот из Милана пришлет письмо, подписанное «Сен-Тьерри». Полиция долго будет разбираться!.. Нет, если подумать, здесь что-то не так. Если Симон находился в Милане, то он не мог в то же самое время быть здесь и заниматься трупом. Я только отводил от него подозрения. Нужно положить труп в самой удаленной части парка, чтобы... Нет! Это ничего не меняло. — Официант!.. Прошу прощения. Я ошибся. Напротив, если полиция завтра обнаружит труп, то судмедэксперт легко установит, что смерть наступила несколько дней назад, то есть до отъезда Симона. Всем станет ясно, что Симон спрятал свою жертву в кустах, чтобы затем занять его место... Мои рассуждения казались логичными. Оставалось вытащить Сен-Тьерри из подвала! Меня бросало в жар. Сен-Тьерри был не очень тяжелым, однако существовало препятствие — дюжина ступенек, которые надо преодолеть. Взвалить его на спину? Озноб прошел по телу от отвращения. Взять его под мышки и вытащить?.. Тоже омерзительно. Может, использовать трос?.. Главное — избегать любого прикосновения... по крайней мере, продолжительного соприкосновения. Да, канат, но где я возьму его? Что за увертки! А канат, который я всегда вожу в багажнике на случай аварии? Он длинный, прочный. У меня все есть под рукой, все, кроме мужества. Я мысленно делал скользящую петлю... А как ее потом накинуть?.. Поднять голову... продеть через плечи... но еще нужно поднять руки... Я вцепился в стойку бара. — Официант... Чего-нибудь покрепче! — Вы не думаете, мсье, что... На вашем месте я бы остановился. Он прав. Мне нужна воля, а не алкоголь. Я заплатил и очутился на улице. Ноги тряслись. Если честно, то меня всего трясло. Но я должен... Я должен... Не знаю почему... но должен. Иначе я действительно стану последним подонком. Я расхлебываю... потому что заварил... или скорее я заварил и теперь должен расхлебывать. Наконец я себя понимал, и все звезды, светившие над крышами, понимали меня, обещали мне чудесную ночь, без дождя. Ночь, которая не оставит следов от тела, когда его поволокут по земле. На самом деле ночь такая, о которой можно только мечтать. Ночная тишина и морозец, они отпугнут любопытных. Твоя ночь, Шармон, если ты мужчина! Я напрасно старался двигаться осторожно, земля трещала так, как будто я ступал по битому стеклу. Давно минула полночь. Городские шумы смолкли. Когда я проходил мимо замка, то заметил слабый свет в комнате старика. Остальные окна оставались темными. Я был совершенно уверен, что никто меня не побеспокоит. Единственная опасность таилась во мне самом. Алкоголь догорал в моей крови, как затухающая трава, которая сильно дымит. Встав на четвереньки, я перелез через проем, слегка запутавшись в канате. Я надел брюки для верховой езды и куртку на меху, чтобы чувствовать себя не столь стесненным в движениях, но канат, слишком долго пролежавший в багажнике, немного испачкался в масле и все время разматывался. Я остановился на пороге особнячка. Дверь оставалась открытой. Момент настал... Я расстегнул ворот куртки. Я вновь стал задыхаться. Куда я положу труп?.. Может, сначала было бы разумней осмотреть кустарник, росший недалеко от особнячка... Я знал, что старался выиграть время, что хитрил сам с собой, и все же гордился своей прозорливостью, аккуратностью, тщательной аккуратностью! Ни в чем не полагаться на случай. Я пошел в сторону парка. Звезды мерцали на голых ветвях, как весенние бутоны. Я считал шаги: 40... 50... Достаточно. Даже слишком. Дорога осталась далеко позади. Потом вдруг мне стало стыдно. Все это уловка, повод избежать испытания. Нужно только вытащить тело и оставить снаружи. Потом... что ж потом?.. События сами определят продолжение истории. Я вернулся к особнячку и решительно вошел внутрь, закрыв за собой дверь. Отступать больше некуда. Я снял перчатки, зажег фонарь и поставил его на пол. Он хорошо освещал потолок, но бледно отсвечивал на стены. Я достаточно хорошо видел, чтобы сделать скользящую петлю. Я просунул в петлю ногу и сильно потянул, чтобы испытать канат на прочность. От усилия кровь ударила в голову, запульсировала на шее. Я закрыл глаза, и под веками светящийся диск фонаря распался на зеленые сверкающие пятна. У меня никогда не хватит сил... Я медленно тер виски. Спокойно... теперь лучше. Не может быть и речи, чтобы поднять труп одним махом, только преодолевая ступеньку за ступенькой. Я открыл глаза... Под лестницей что-то шевелилось. Я схватил фонарь и направил его на дверь, ведущую в подвал, но выступающий угол мешал мне как следует разглядеть. Я замер. Мне что-то послышалось... Но в пустом доме всегда что-то может послышаться... Я вытащил ногу из петли, не выпуская фонарь из рук. Он проложил передо мной дорогу, по которой теперь я должен идти. Я сделал шаг, и пол протяжно затрещал. Я резко остановился... Что-то быстро проскользнуло... нечто живое... или почудилось? Может, это перегретая кровь стучит в выжженных алкоголем мозгах? Если бы я не закрыл дверь, то ночь успокоила бы меня. Я чувствовал себя ужасно одиноким, ощущая под ногами реальное присутствие трупа, для которого дом стал союзником. Я глубоко вдохнул воздух, словно собирался нырнуть в пропасть, затем сделал еще один шаг в сторону, чтобы разогнать темноту, скопившуюся под лестницей. Я чуть не завопил. Крыса!.. Она смотрела на меня... потом крысы не стало... Потом появилась другая... вот еще одна уцепилась лапками за ступеньку лестницы... Их глаза двигались, как крошечные головешки... Клавьер, на помощь! Я вижу крыс!.. Пот заливал глаза. Толстая серая крыса, как бы привлеченная светом, двинулась на меня... все эти хвосты шевелились, извивались... звери, пресмыкающиеся. Веревка, лежащая у моих ног, ожила, петля раздулась, как шея кобры... Я бросил фонарь, наткнулся на стену. Я никак не мог найти дверь. Я умолял Сен-Тьерри выпустить меня... Потом ночной холод осушил мое лицо. Я очутился на улице. Я побежал. Я бросился в машину. Я полагаю, что потерял сознание. Я ничего не соображал, когда взялся за руль, ничего не соображал, когда вошел в дом. Я рухнул на кровать. Я их еще видел, но все более и более смутно. Толстая крыса исчезла последней. Я совершенно забыл про Сен-Тьерри. Я превратился в человека, которому напомнили, что он смертельно болен. Его тело ему больше не принадлежало. Его рассудок измышлял крыс. А вскоре, возможно, заставит их бегать по комнате, карабкаться по занавескам. Я машинально прижал колени к животу. Клавьер недаром меня предупреждал, но я бы никогда не подумал, что можно так явственно представлять себе подлинных крыс, так подробно, во всех деталях, видеть их шерсть, лапки, коготки. Я на самом деле болен... Собрав остаток сил, я все же поднялся, чтобы утолить жажду. Я выпил два полных стакана воды, прежде чем лечь, зажег в квартире все лампы. При свете я чувствовал себя в некоторой степени в безопасности, но все же боролся со сном. Лежа на боку, я смотрел на пол, заглядывал под мебель. Соборные часы отбивали время. Мимо проезжали грузовики. Я наконец заснул, и когда вернулся из небытия, когда увидел, что везде горит свет, то выпрыгнул из кровати с криком: «Кто здесь?..» Потом вспомнил... Мне нужно лечиться. К счастью, это первый приступ. Я сварил кофе. Больше в рот не возьму ни капли спиртного. По мере того как я обретал душевное равновесие, я судил себя все строже. Фонарь, канат, перчатки осталисьтам. Необходимо за ними сходить! И потом, все-таки я должен вытащить труп. Через два-три дня... когда пройдет алкогольное отравление. Пока я не в состоянии сделать ни малейшего усилия. О крысах я больше не думал, но они не оставили меня в покое. Они там, они затаились в моих жилах, в моих нервах... В душе царил страх, он мешал мне серьезно, не спеша обдумать создавшееся положение. Я только знал, что перчатки меня выдадут, что я совершил страшную ошибку. Как только я сосредоточивался на этом факте, то где-то в самой глубине своей души испытывал некую напряженность, заторможенность... Движение перекрыто! Спина покрылась холодным потом. В начале я без особого труда смирился с мыслью, что Сен-Тьерри умер по моей вине. Я не учел, что эта мысль пробьет себе дорогу. И теперь она меня постепенно уничтожала. Она закрывала мне доступ в особнячок. Она давала о себе знать, когда алкоголь во мне неистовствовал и принимал форму тех зверей, которые появлялись, чтобы загородить мне проход... Я видел не фурий, я видел крыс, это — гораздо хуже. Я предупредил секретаршу, что плохо себя чувствую, и попросил ни в коем случае меня не беспокоить. В книжном шкафу стоял медицинский словарь. Статья «Белая горячка», к сожалению, была слишком короткой. Но в ней говорилось о галлюцинациях на почве алкоголизма: крысы, змеи, летучие мыши... все, что обитает в царстве теней и символизирует смерть. Не колеблясь ни секунды, я заперся в кабинете и позвонил Клавьеру. — А, это ты! — сказал Клавьер. — Говори быстрее, мне нужно бежать в больницу... Так как, решился? — Я видел крыс. — Что? — Крыс, ты понимаешь? — Ты хочешь сказать, что у тебя был приступ? Он вдруг стал внимательно слушать. Я его представлял слегка склонившимся надо мной, с чуть повернутой головой, прислушивающимся, подобно настройщику пианино. — Не знаю, приступ ли это... Думаю... да. — Послушай... Где это с тобой случилось? — На стройке. — Ты тогда выпил много? — Изрядно... да... прикладывался в течение всего дня. — Что с тобой произошло? — А... ну, это — просто... Они выбежали из темного угла. — Ты был один? — В этот момент — да. — Потерял сознание? — Потом да. — Как потом? — Я сначала убежал и потом от потрясения упал в обморок. Клавьер засмеялся, я чуть было не рассердился. — Это правда, уверяю тебя. Я их видел. — Согласен. Ты их видел. Наверняка ты видел настоящих крыс, старина. Если бы с тобой случился действительно припадок, то ты бы сам разобрался... Если хочешь, могу показать настоящих больных, ты сразу успокоишься... Это психи, понимаешь. Они катаются по земле, вопят... А! Я уверяю тебя, что, случись с тобой припадок, ты бы всполошил всех соседей... Нет, слава Богу, до такого состояния ты пока не дошел... я совершил ошибку, когда в тот раз позволил себе пошутить по этому поводу. — Однако... — Поверь, Шармон... ты видел настоящих крыс, реально существующих. Их можно встретить на любой стройке. Только ты находился не в своей тарелке... Поэтому-то ты и подумал, что у тебя крыша поехала. Вот так!.. Все очень просто. Приходи все же ко мне в кабинет. Нам следует принять меры. Я тебе говорил и повторяю: у тебя что-то неладно. Когда такие люди, как ты, начинают пить, значит, что-то в жизни их раздражает. Главное — устранить причину этой мании. Пока же, черт возьми, если ты не можешь не напиваться, то добавляй воды в ту пакость, которую глотаешь... И потом, забудь о них, о крысах, или же купи хорошую крысоловку и поставь ее у себя на стройке. Позже сообщишь новости... Ну, до скорого! Он повесил трубку. Он считал, несчастный Клавьер, что успокоил мою душу. Я смертельно устал. Если эти крысы были настоящими крысами, как он утверждал, то в особнячок их привлек... Я слышал скрежет их зубов, сотен зубов, орудующих, словно тоненькие скальпели. Изо дня в день их число росло, они грызли... грызли... Если я не вмешаюсь, они ничего не оставят. Они быстро сожрут мое преступление и мои надежды. Марселина даже не станет вдовой. Брошенная жена, вот и все... Она примется искать мужа. Симон заявит, что в одно прекрасное утро Сен-Тьерри уехал... Следствие затянется. Дело закроют. Но до тех пор я умру! Нет, Боже мой, нет. Невозможно, чтобы меня настигла подобная кара! Ведь с крысами можно бороться, ведь можно каким-то образом их прогнать. Пусть их целые полчища, но все равно за один присест они не уничтожат... Время от времени, насытившись, они обязательно делают перерыв... Я отыскал в своей библиотеке одну старую книжку по естествознанию. Детская наивность, но что поделаешь! Я был совсем один и имел право валять дурака... А мне любой ценой нужно получить полное представление о крысах. И я узнал, что их зубы беспрестанно растут и что они вынуждены есть, есть без передышки, даже когда не голодны, чтобы не дать зубам вырасти до чудовищных размеров. Возможно, они ели от страха, что могут умереть, если у них во рту вырастут кошмарные клыки. Они поедали все подряд, мягкое, твердое, охваченные навязчивой идеей — двигать челюстями. Кровожадными их делало отчаяние. Как и меня. Они стремились уничтожить. Я стремился сохранить. Я закрыл книгу. Война объявлена. Но как ее вести? Я позволил себе отхлебнуть немного водки, поскольку это меня успокаивало. Алкоголь меня приободрил. И, бросившись из одной крайности в другую, я сказал себе, что если все тщательно взвесить, то положение не выглядело столь катастрофическим. Я увидел одну или двух крыс. Все остальное — плод моего болезненного воображения. Не существовало никакой причины для того, чтобы подвал кишел крысами. Я вооружусь палкой, вот и все. На ногах сапоги, руки в перчатках, мощный фонарь, прикрепленный к куртке. Чем же я, в конце концов, рискую? Моя ошибка заключалась в том, что я не приготовил должным образом эту вылазку, ничего не предусмотрел... Я наполнил ванну, долго, тщательно мылся, старательно убеждая себя, что таким образом очищаюсь от суеверных страхов. Как-нибудь мне следует рассказать об этом Клавьеру. Может, во мне сохранились детские воспоминания, отравлявшие мое существование еще больше, чем алкоголь. Я вспомнил, какой ужас я испытал, когда юношей читал в иллюстрированных журналах рассказы об охотниках, окруженных волками. А какое отвращение питал к змеям! До сих пор оно настолько сильное, что летом я не ходил в лес. Мальчишка! Настоящий Шармон — мальчишка. Он совершил преступление, словно мальчишка, которого наказали. И теперь готов на все, лишь бы не смотреть на содеянное. Зазвонил телефон. Десять часов. Это Марселина. — Алло... Я беспокоилась, Ален... Да, могу говорить. Фермен и служанка убирают комнаты наверху. Ты не заболел? — Почему? Вовсе нет. — Вчера ты мне показался странным! — Да нет же... Как старик? — Без изменений... Это может долго продолжаться. Так вот, раз у нас теперь есть сиделка, я подумала, что и я имею право отлучиться... В конце концов, Эммануэль просто обязан приехать! Я сделала достаточно... Как ты смотришь на то, чтобы... завтра? — Где? — Не знаю. Может, в Виши. — Во сколько? — После трех. Я вынуждена пообедать здесь. — Договорились. — Точно? Ты не болен? — Нет. Заботы одолели. Потом объясню. — До завтра, дорогой. Я очень рада. Завтра все уладится. Я поискал в шкафу сапоги. Я надевал их, когда дороги становились грязными, но часто забывал их чистить. Я ко всему относился небрежно. Заботы повседневной жизни меня удручали. Естественно, гуталин засох. Я просто почистил их щеткой. Перчатки я отыщу на месте. Что касается палки... Пока я искал, пришла в голову идея. Иногда я ловил рыбу спиннингом. Он был в хорошем состоянии. Само удилище, прочное и гибкое, напоминало шпагу. Хлесткий удар — и крысы нет. Забавы ради я со свистом рубанул воздух. Прекрасно. Днем я купил фонарь с мощным отражателем и со скобой и стал дожидаться ночи. Время тянулось бесконечно однообразно. Я даже страдал, потому что старался пить понемногу, ровно столько, чтобы не дрожали руки. Они все равно дрожали. Они дрожали также, если я превышал допустимую норму. Но существовало некое промежуточное состояние, когда я чувствовал себя уверенным, ведя машину, был способен на любые подвиги. Я съел легкий ужин, выпил слабенького бургундского, затем пошел в кино, где немного вздремнул. Ночь вступила в свои права. Я тщательно снаряжался. Голова ясная, я вполне владел собой. И все же в глубине души таилась тревога. Задача передо мной стояла не из легких. Я ехал не торопясь, заметил уснувший замок, остановил машину в перелеске. Держа в руке удилище, пролез, даже не споткнувшись, через проем в ограде и одним махом очутился у двери. Здесь остановился. Сердце сильно стучало. Успокоить невозможно. Я включил фонарь. Помещение выглядело как обычно. Никакого шума. Никакого подозрительного движения. Я поднял перчатки и надел их. Они были ледяные. Я сунул в карман фонарь, брошенный накануне, затем перекинул на плечо канат, больше он меня не пугал. Такая победа придала мне смелости, и я сделал несколько шагов, чтобы осветить лестницу снизу. Она сидела там... Она самая, смею сказать, и дожидалась меня. Луч света заиграл на ее шкуре, пробежал по извилистому хвосту, напоминающему медяницу. Я направил фонарь прямо ей в глаза, и они засверкали. Переведя дух, я стал внимательно ее разглядывать. Да, это настоящая крыса, и ее можно убить. Страх перерос в жестокость. Я сделал шаг, и видение исчезло. Ее нигде не было, она растаяла на месте. Я приблизился, держа удилище наготове. Дверь, ведущая в подвал, приоткрыта, она ускользнула в узкую щель. Я пнул ногой дверь и открыл ее настежь. От грохота они должны были разбежаться. Я разглядел первые ступеньки винтовой лестницы. Черт, не прыгнут же они на меня сверху! Это же не волки! Еще один шаг. Еще один. Стиснув зубы, я стал спускаться. Лестница была свободна от врагов. Теперь я ее видел вплоть до самого низа. Я мог бы избавиться от стольких глупых страхов. Я встал на предпоследнюю ступеньку. Сводчатый потолок взмыл над моей головой. Я выпрямился. Свет от фонаря скользнул вверх и залил светом подвал... А!.. Все головы поднялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Глаза блестели, как осколки стекла, как будто они устилали весь пол подвала. Ни одна крыса не собиралась удирать. Я услышал нечто похожее на рыдание. Рыдал я. Я отступил, держась за стену. Они на меня нападут. Это — неизбежно. В этом замкнутом пространстве я не смогу защититься. Пятясь, я медленно поднимался по ступенькам. Но они казались слишком узкими и тесными. Теперь, когда свет фонаря не беспокоил их, я слышал писк, тонкий, словно иголки, которые вонзались мне в кожу. Изо всех сил я захлопнул за собой дверь. Я их запер. Больше они, наверное, не смогут выйти. Тем хуже. Я дышал столь учащенно, что фонарь дрожал и его яркий свет метался по двери. Но позади все еще слышался писк. Мои ноги подкашивались. Спотыкаясь, я прошел через зал. Их слишком много. Ничего не поделаешь. Невозможно подойти до тех пор, пока... Тогда что же остается? Об этом мне даже не хотелось думать. Я положил канат в багажник и вырулил на пустынную дорогу. По мере того как я удалялся, я испытывал облегчение, которое у меня вызывало отвращение, и отчаяние, леденящее сердце. Я чувствовал себя одновременно спасенным и пропавшим. Сен-Тьерри больше не существовал! Кончился! Исчез! Развеялся! Его можно искать годами. Да и мне самому осталось только забыть его. Но пока я буду его забывать, Марселина мало-помалу тоже отдалится от меня. Он нас связывал. Никогда раньше я не осознавал этого так отчетливо. Отныне она станет жить, испытывая страх перед его возвращением. Впрочем, по закону, ей придется долго ждать, прежде чем она сможет выйти замуж повторно... Я наведу справки, но уже сейчас был в этом уверен... Я поставил машину у собора. В этот час все бары закрыты. Присутствие человека, кого угодно, принесло бы мне облегчение. Но по улице шел я один. Я вошел в дом, положил удилище и фонари. Больше я туда не вернусь. Выпил немного коньяку и проглотил таблетку снотворного. Я по опыту знал, что эта смесь оказывала сокрушительное воздействие, а у меня появилось острое желание забыться! Что-то во мне думало, думало... У меня внутри тоже сидели крысы! Я выплыл из небытия, когда уже давно наступило утро. Телефон. Я побежал в кабинет. Это Марселина? Да. — Ален?.. Только два слова... все остается в силе, как мы договорились? Почувствовав, что я колеблюсь, она продолжила очень быстро: — У тебя же нет никаких встреч: сегодня суббота. — Решено. Я тебя жду на вокзале в три часа. Итак, сегодня суббота. Все началось... Я схватил блокнот, чтобы посчитать дни... все началось... во вторник. Позади неделя. Она зияла за моей спиной, как дыра во времени. Я чувствовал вялость, пустоту и не испытывал ни малейшего желания ехать в Виши. Но потом, побрившись, приняв душ, выпив чашку крепкого кофе, вдруг заспешил ехать. В этой квартире стало невыносимо. Я задыхался. Быстрее на свежий воздух. Дорога. Жизнь. Увы, над Виши висело мрачное, серое небо. Я обошел парк, прошелся вдоль рядов пустых стульев. Некоторые стояли в кружок, как если бы невидимые существа вели беседу среди опавших листьев. Крупные гостиницы закрыты. Город еще не отошел от зимнего оцепенения. Я уединился в привокзальном буфете, где и пообедал. Плохо. Но существовало хоть какое-то движение: люди несли на плечах лыжи, иногда приходили поезда, можно было хоть о чем-то думать, не вникая в сущность. Наконец я направился к выходу на платформу. Я испытал какое-то легкое волнение, которое в былые времена сжимало мое сердце, когда я поджидал Марселину и представлял, что уже стискиваю ее в объятиях. Но с тех пор... Я заметил ее. С пустыми руками. Значит, ничего не получится. Она уедет первым же поездом. В противном случае она захватила бы небольшой чемоданчик, набитый всякой всячиной: чулками, флакончиками, кремами. Она брала ночную рубашку и даже вечернее платье, на котором, когда она его вынимала, не было ни единой складки. Она по-дружески мило чмокнула меня в щеку. — Извини меня, Ален... Я ненадолго. Он при смерти. — Он умирает столько же времени, сколько прожил! — На этот раз все кончено. Мне удалось удрать. Они думают, что я в Клермоне. У меня только час... Я ведь расстроена не меньше, чем ты! На другой стороне площади расположились многочисленные кафе. Мы выбрали одно наугад. Я заказал грог. — Я тебе не говорила... Я совершенно замоталась... Там живешь как ненормальная. Он заболел. — Кто? — Эммануэль, разумеется. — Что? — Да что с тобой? Ты словно витаешь в облаках. Эммануэль в Милане заболел, похоже, бронхит. Брат звонил вчера вечером. Ничего серьезного, но на улицу выходить нельзя. Врач запретил... Если отец умрет, то на похороны он не приедет. Весело, ничего не скажешь! О последствиях можешь догадываться... Я его предупреждала, но он ничего не хочет слушать. Это должно было случиться, а все его манера ездить по ночам... Ее болтовня позволила мне прийти в себя, но я с трудом скрывал свои чувства. Машинально она поправила узел галстука. — Ты по-прежнему одеваешься кое-как. Неужели ты не можешь купить себе другой галстук? Из этого уже нитки торчат. Я тебе подарю красивый галстук, который я видела в Клермоне в последний раз. — Ты с Симоном говорила о проведении работ? — Разумеется. Но он сказал, что решать не ему и что до возвращения Эммануэля ничего не надо предпринимать. — А Эммануэль скоро вернется? — О! Как только будет в состоянии выдержать поездку. Возможно, в конце следующей недели... На этот раз хорошо, если бы он задержался подольше. Столько всего надо уладить! И прежде всего этот замок. Он не собирается его восстанавливать. У него возникла идея купить недвижимость в Италии, возможно, на берегу озера Маджоре. Рядом с Миланом. Я была бы очень довольна. Она и не догадывалась, как своими словами раздирала мне душу. — Купим яхту, всю из красного дерева. Как-нибудь я на ней отправлюсь к тебе на свидание. — Послушай, Марселина, ты даже не представляешь, что это за расстояния! — О! Расстояния! В наше время!.. Между Парижем и Миланом ходит прямой поезд. У меня чуть было не вырвалось: «А расходы? А потерянное время?» Но зачем еще больше унижаться? Правильно я все же сделал, что убрал Сен-Тьерри! Понемногу своими коварными планами, заманчивыми перспективами он у меня отнимал ее, похищал с каждым днем все больше и больше. Он оставался там, живой, энергичный, а она продолжила свой восторженный монолог: — Если мы начнем строительство, то тебе придется разрабатывать проекты и ты будешь часто туда приезжать. Эта поездка в Италию... ореол таинственности... мне все ясно. Он что-то наметил... земельный участок... недвижимость... Я допускаю, что он заболел. Но здесь кроется что-то еще. Я знаю его! — Марселина... скажи откровенно... ты можешь твердо утверждать, что он так и не узнал правды... в отношении нас?.. Да, мы уже это обсуждали. Но я опять задаю себе этот вопрос. — Что ты выдумываешь? Конечно, он не знает. — Но как ему пришла в голову идея переехать в Италию? — Может, ему подсказал Симон. Симон и я, мы иногда болтали. Симон часто говорил, что хватит с него Франции, что это страна скупердяев и низкооплачиваемых трудяг. — Твой брат может быть в курсе нашей связи? — Я ему не рассказываю о своих делах. — Можно не рассказывать... а как-то намекнуть... разве нет? У нее закралось сомнение. — Нет, — прошептала она. — Не думаю... Даже если он что-то подозревает... что мне кажется невероятным... Не в его интересах посвящать Эммануэля! Пройдемся немного? После Парижа я ни разу не выходила на воздух. Мрачная прогулка по пустынным улицам. Марселина говорила о замке, об умирающем старике с каким-то неистовым увлечением, задевавшим меня за живое, как если бы я имел право из-за этого переживать. Хотя именно я задал этот циничный тон. Мне-то нужно было сорвать свою злость. А что касается ее, то я знал, что она испытывала... радость скорого освобождения от зависимости и перспективы стать богатой. От мужа она переняла этот жуткий вкус к деньгам. Она заразилась им, как вирусом. Даже мертвый Сен-Тьерри оставался заразным. Влияние убить нельзя! Призрак на тот свет не отправишь!
Старик умер на следующий день. Меня не было в офисе, когда позвонил Фермен. Эту новость мне сообщила секретарша. — Можно подумать, что это доставило вам удовольствие, — заметила она. О да! Это доставило мне удовольствие. Из-за Симона. Кончена комедия! Ему придется открывать карты. После Виши я думал о нем, но так и не смог ничего разгадать. На что он надеется? Может, в Италии он хотел выдать себя за Сен-Тьерри, провести вместо него переговоры? Почему бы нет, если ему приходилось иметь дело с людьми, не знавшими Сен-Тьерри в лицо? Я даже подумывал, не намеревался ли он избавиться от своего зятя раньше? На первый взгляд это казалось экстравагантным. Но все же!.. Он досконально знал положение дел. Неотступно следуя за Сен-Тьерри, он, несомненно, мог научиться писать, как он, говорить, как он. Он, конечно, прикарманил паспорт убитого и теперь останавливается в гостиницах под фамилией Сен-Тьерри и получает на его имя корреспонденцию, по крайней мере, на почте, в отделе до востребования. Одним словом, он мог совершенно спокойно превратиться в Сен-Тьерри. Они не похожи друг на друга, но кто же разглядывает фотографию в паспорте, если нет причин для подозрений? Может, Симон даже обрадовался, когда увидел, что кто-то другой сделал за него работу! А возможно... пряча труп в подвал, он знал, что крысы завершат столь успешно начатое дело. И тогда его поведение вполне объяснимо. Болезнь Сен-Тьерри — хороший повод. Можно не приехать на похороны, но продолжать давать о себе знать, присылая письма. Вполне правдоподобно. Каждый посыльный, каждая горничная согласится за приличные чаевые относить на почту письма в определенные дни. Приедет Симон, озабоченный, расстроенный. «Нет, Эммануэль плох... Но он хотел приехать. Его с огромным трудом заставили соблюдать постельный режим. За ним хорошо ухаживают. Но он такой неосторожный!..» Я понимал Симона. Марселина получит все. Но затем?.. Затем?.. Симон все же не мог вести двойную жизнь, жить во Франции под своим собственным именем, а в Италии — под именем Сен-Тьерри!.. Тогда? Неужели исчезнет и Симон? Чтобы провернуть в Милане крупную операцию за наличные? Затем самолет в Южную Америку, а когда правда пробьет себе дорогу, будет слишком поздно... Пикантно? Но подлинное мошенничество всегда имеет свою пикантную сторону. И все же существовала одна помеха. Труп. В худшем случае, скелет... Симон недаром, говоря от имени Сен-Тьерри, остерегался возобновлять строительные работы. В этом-то заключалась вся соль. Не ведутся ремонтные работы, не находится и труп. Силен мужик!.. Все прояснилось. Даже слишком! Может, я все напридумывал. Но одно из двух: или Симон — пройдоха, и я не далек от истины, или Симон — глупец и не замедлит запутаться в собственной лжи. На похоронах ему придется сбросить маску.
Я позвонил Марселине и выразил свои соболезнования. Она держалась очень достойно, с чуть наигранным волнением. Похороны должны были состояться на следующий день. Она направила телеграмму мужу и ждала от него ответа. — Поставь меня в известность, — сказал я. — Мне нужно с ним поговорить. Два дня назад у меня язык не повернулся бы такое выговорить. Сейчас я даже не испытывал ни малейшего стеснения. Не то чтобы я ожесточился, просто я мысленно следил за Симоном, как шахматист, который заблаговременно обдумывает ответную комбинацию. Я забыл про особнячок и про то, что там видел. Крысы!.. Они превратились во что-то абстрактное... Иногда я отрывался от работы, отодвигал от себя бумаги, наваленные на столе, закуривал сигарету. Крысы!.. Мне хотелось им сказать: «Поосторожней... Не торопитесь!» Ближе к вечеру мне позвонила Марселина: — Звонил Симон. У Эммануэля состояние неважное. Ему колют пенициллин. Помимо всего прочего, у него пропал голос. — Мысленно я поздравил Симона. Ловко придумано! — Он не приедет. Что поделаешь! Симон передаст его извинения. — Когда приедет Симон? — Чтобы добраться быстрее, он рассчитывает завтра вылететь в Париж, там пересядет на самолет компании «Висконт». Для него, возможно, так проще, но мне это очень неудобно. Аэродром у черта на куличках, а у меня столько дел здесь! — Я могу тебя отвезти. — Правда? — Во сколько он приземляется? — По расписанию — в пятнадцать двадцать. — Хорошо. Минут за сорок я за тобой заеду. Я буду рад увидеть Симона и привезу вас. Но не покажется ему это странным? — Нет. Конечно нет. И потом, разве сейчас до приличий!.. Старина Симон! Он не посмел взять «мерседес». Он всего еще лишь верный секретарь. Стеснит ли его мое присутствие? А мои вопросы смутят ли его? Я ведь тоже спрошу его о болезни Сен-Тьерри. И уж конечно заговорю о ремонтных работах. Я заранее знал его ответ. Но эксперимент стоило провести. Я торопил завтрашний день. И каждый раз, когда становилось тревожно на душе, я позволял себе пить чересчур много. Но я твердо решил лечь в клинику, как только дело прояснится. Сейчас мне необходимо очистить душу. После смерти Сен-Тьерри я стал слишком часто приписывать людям низменные чувства. Скоро я начну думать, что пал жертвой всемирного заговора. И об этом нужно рассказать Клавьеру. Это — самое верное доказательство того, что в моей измученной голове что-то медленно выходит из строя. На мою долю выпало слишком трудное испытание. Днем этот кошмар. Ночью снотворное, успокоительные таблетки, которые утром выбрасывали меня из объятий сна, словно корабль, потерявший управление. И вот я дожил до следующего дня. Еще шел дождь, и я обрадовался, ведь в такую погоду невозможно найти такси. Симон, следовательно, не удивится, увидев меня на аэровокзале. Фермен был одет во все черное. Зеркала задрапировали. Замок выглядел, словно церковь в страстную пятницу. Марселина вышла ко мне на цыпочках. Она тоже надела траурное платье. Мы осторожно прошли в комнату, где находился покойник. Старый владелец замка в торжественных черных одеяниях лежал между свечами, с недоверчивым видом сжимая в руках четки. Вокруг него я заметил силуэты молящихся и сам замер у изножья кровати. Отец и сын теперь где-то встретились наедине, если это «где-то» существует после смерти, и, возможно, ругались по поводу ремонтных работ. Почему мертвые должны быть менее суетными, чем живые? Я поджидал Марселину в вестибюле. Я бы дорого заплатил, если бы мне позволили закурить. Фермен стоял на посту у двери, впускал посетителей, принимал соболезнования, чуть склонившись, шевеля губами, напуская на себя отсутствующий вид, но тем не менее замечал все происходящее. С ним надо вести себя поосмотрительней. Вот почему Марселина сочла своим долгом разыграть комедию, непрерывно повторяя, что не хочет никого беспокоить, что она могла бы в крайнем случае вызвать такси, что стесняется принять мое предложение. В машине она облегченно вздохнула: — Как мне все осточертело!.. Скорей бы наступило завтра, тогда можно будет передохнуть! Как видишь, я не огорчена, что Эммануэль не приехал. Он такой же заносчивый, как и этот старый хрыч. Иначе бы визиты, знаки вежливости... все это длилось бы целую неделю. — Может, он дал указания Симону? — О! Несомненно. Но Симон обычно слушает, кивает и делает по-своему. С ним мне спокойно. Он быстро все уладит. Город был запружен машинами, и мы приехали как раз тогда, когда самолет вынырнул из облаков и делал круг над аэродромом. Стали выходить немногочисленные пассажиры. Симон шел первым. В пальто из верблюжьей шерсти, на шее — серый шейный платок, на голове — фетровая шляпа с загнутыми полями. В руках он нес чемодан из свиной кожи. Ни дать ни взять — патрон. Очень довольный, улыбка во весь рот. — Шармон, какая встреча!.. Очень рад видеть тебя здесь, старина! Он поцеловал Марселину, обернулся ко мне. — Ты получил письмо от Сен-Тьерри? — Нет. — Тогда скоро получишь... Он мне сказал, что собирается написать тебе. — Как он себя чувствует? — спросила Марселина. — Так себе. Он не хочет лежать, но врач запретил ему выходить. Не очень-то удобный больной. Я не знал, смеяться мне или скрипеть зубами, поскольку все происходило именно так, как я и предполагал. — Смерть отца не очень потрясла его? — продолжила Марселина. — Он ожидал этого печального события, в конце концов, возраст есть возраст! Он ловко забрался на заднее сиденье «симки», а Марселина села рядом. — Старина Шармон! Надо же, при каких обстоятельствах мы снова встретились... А ты помнишь те времена, когда мы вместе ходили в Дом кино? Ни одной фальшивой ноты. Предельная искренность с толикой снисходительности. Но Марселина думала сейчас вовсе не о Доме кино. — Что у него с горлом? — продолжала она. — Он мог бы мне и позвонить! — Обязательно позвонит. Он мне обещал. А пока он в состоянии только брюзжать. И при этом весьма раздражителен! К счастью, у меня покладистый характер. — Как идут дела? — Думаю, неплохо. Ты знаешь его. С другой стороны, итальянцы играют свою игру. Молчат и он, и они. Но впечатление, что все складывается удачно. — Он оставался все время в Милане?.. Не ездил за город? — Нет... Он почти сразу заболел. — Тогда он не сумел пообщаться с теми, с кем хотел. — Он звонил им по телефону. — А вот мне он не звонит! Славная Марселина! В мгновение ока, только потому, что ее самолюбие пострадало, она заставила брата перейти к обороне. Я наблюдал за Симоном в зеркало заднего вида. — Дела прежде всего, — сказал он. — Разумеется! — прошептала Марселина. — С какой стати он должен измениться? Симон предпочел поговорить со мной. — Ты никогда не ездил в Италию? — Один раз, — сказал я. — Когда был в Ницце, то решил прокатиться в Сан-Ремо. — Это не считается. Тебе нужно поехать посмотреть, как они строят. Вот все говорят — американцы! Но эти-то гораздо изобретательнее! Поверь мне, там архитектор запросто может разбогатеть! Я его слушал так внимательно, что проехал знак остановки. По всей видимости, этот человек не испытывал ни малейшего беспокойства. А ведь он знал, где находится Сен-Тьерри. Он не мог не отдавать себе отчета, что риск все же существует, хоть и минимальный. Когда я объезжал площадь Жода, в голову мне пришла новая мысль, но настолько безумная, что я тотчас ее отбросил. Нет, Симон не подозревал, что Марселина была моей любовницей, по крайней мере, по его виду об этом не скажешь. А если предположить, что он знал об этом, считал ли он меня убийцей Сен-Тьерри? Одну деталь я упустил. Мне никогда в голову не приходила мысль, что Симон мог видеть меня рядом с трупом в тот самый вечер... Если он торопился ехать... если он считал, что Сен-Тьерри опаздывает... в конечном счете, ничто не мешало ему пройтись по парку... и тогда он мог издалека наблюдать за нашей потасовкой. А если у него есть улика против меня, то он вообще действует наверняка... Но какая улика?.. Марселина теперь рассказывала брату, как умирал старик. Симон делал вид, что внимательно слушает, но на самом деле ему-то было решительно наплевать. Я бесстрастно, насколько мог, наблюдал за ним, но его любезное, приветливое лицо человека, всегда готового оказать услугу, ничего не выражало. Вдали показался замок. — Мы могли бы, например завтра, немного побеседовать? — спросил я. — Конечно, старина. — Похороны назначены на одиннадцать, — сказала Марселина. — Тогда, скажем, в десять часов. А о чем пойдет речь? — О планах Сен-Тьерри. Я составил смету. Или, точнее, сделал кое-какие расчеты. Это обойдется очень дорого. Мне хотелось бы немного обсудить... — Охотно... конечно, я в этом совсем не разбираюсь. Но твои предложения я ему передам. Конечно, если все будет подтверждено расчетами. Он обожает цифры. Симон любезно улыбнулся, показывая, что весьма снисходительно относится к причудам патрона. Что ж, это не сон!.. Ведь именно он пустился в гнусные махинации, а не я. Его спокойствие начинало меня пугать. Я остановился у крыльца. Он пожал мне руку. — Спасибо, старина. Ну, до завтра. Фермен уже бежал с зонтиком, укрыл под ним Марселину. Симон помахал рукой. — Чао! Невероятно! В большом смятении я вернулся в офис. Я дал себе слово, что задам ему несколько коварных вопросов, но он уже ускользал, словно песок сквозь пальцы. Да и о чем его спрашивать? С самого начала он занял очень выгодную позицию: «Я ничего не знаю... Обращайтесь к Сен-Тьерри... Подождите его возвращения... Он сам принимает решения». Я ничего не добьюсь, показав ему эту более или менее правдоподобную смету, напрасно стану объяснять те или иные детали, он на все ответит благожелательной улыбкой. «Если бы это зависело от меня, старина... Но патрон... ты же его знаешь... чуть что ему не нравится — и страсти начинают бушевать!» Только, наверное, Марселина может его смутить, как это едва и не произошло в машине, но не мне пробуждать ее подозрения... Я вновь кусал губы от отчаяния. До чего же глупо! Он здесь, рядом и почти у меня в руках. Казалось, стоит немного слукавить... но я ничего не мог придумать... Я напрасно часами ломал себе голову. День прошел. Ложась спать, я еще придумывал невероятные уловки, но неизбежно приходил к одному и тому же выводу: работы никогда не начнутся. Еще одна бессонная ночь. На следующий день, разбирая почту, я обнаружил письмо. Вот оно лежит на бюваре. Почтовый штемпель Милана. Я его вскрыл. Напрасно я надеялся, что узнаю правду. Меня ждало очередное потрясение. Естественно, оно напечатано на машинке. Я бросил взгляд на подпись. Невероятно, но подпись... несомненно, подлинная... подпись Сен-Тьерри... «С» выписано размашисто, верхняя черточка буквы «Т» — длинная... все... все превосходно воспроизведено. Прекрасная подделка. Не кто иной, как Сен-Тьерри, пишет мне из больничной палаты.
«Дорогой Ален! Я несколько приболел, но не хочу больше заставлять тебя ждать. Марселина мне сообщила, что ты попал в трудное положение. Теперь, когда отец умер, я хотел бы попросить тебя о следующем: я вовсе не собираюсь жить в замке. Но в целом усадьба нуждается в обновлении. После моего возвращения мы вместе посмотрим, как обновить сам замок. Пока же ты можешь снести наиболее ветхие строения, а именно: старую конюшню, приспособленную под гараж, пришедшую в упадок оранжерею, особнячок в глубине парка, который вот-вот рухнет, только ткни в него пальцем, а также заделай проем в ограде. Я сообщаю тебе о первоочередных работах, но я не требую начинать их незамедлительно. Мне важно соблюсти приличия. Пока же можешь располагать собой. Пусть пройдет несколько дней. Впрочем, как только я почувствую себя лучше, сразу же вернусь. Мне хотелось перечислить работы, которые ты можещь обдумать уже сейчас. Это позволит тебе подсчитать расходы, и, я настаиваю, подсчитать как можно точнее. Я планирую провести только самые необходимые работы. До скорого. С дружеским приветомЯ перечитал письмо. Никакого сомнения! Написано черным по белому: «Можешь снести особнячок...» Иными словами, Симон просил меня сделать работу, о которой я даже не смел и мечтать. Иными словами, его не волновало, если труп обнаружат. Иными словами... я мысленно перебирал последствия этого решения, и каждое новое поражало меня сильнее, чем предыдущее... Как Симон решился пойти на такой риск?.. Я еще раз перечитал письмо. «Пусть пройдет несколько дней...» Вот она, ключевая фраза... Когда он перенес труп в подвал, то, вероятно, увидел первую крысу. Симон моментально понял, что его лучшие союзники уже прибыли на место. Теперь это только вопрос времени, черт возьми! Как и я, он сделал вывод, что вскоре никто не сможет его опознать. Но на всякий случай принял меры предосторожности и просил меня подождать немного. Немного — означало минимум десять — пятнадцать дней. Гораздо больше, чем достаточно!.. Силен, ничего не скажешь. Он сделал лишь одну ошибку... но я единственный, кто мог ее заметить, и единственный, кто вынужден молчать... это — его фраза: «Я планирую провести только самые необходимые работы...» Он не знал, что Сен-Тьерри поделился со мной множеством проектов. А если подумать, то вряд ли он ошибся. Он мог узнать об этих проектах из откровений Сен-Тьерри. Но теперь, когда Сен-Тьерри нет в живых, почему же, черт возьми, он решался на столь масштабное мероприятие? Я выучил письмо наизусть. Я его декламировал. Придраться не к чему. Если я покажу его Марселине — а Симон предугадал такой вариант, — она не удивится. Она узнает и тон, и манеру своего мужа. Она ничего не возразит. И я приступлю к работе в намеченные сроки... Рабочие обнаружат останки, начнется следствие, и оно неизбежно зайдет в тупик. Для меня все вернется на круги своя. Как расстроить замысел Симона?.. Время шло... Я должен ехать в замок. Следует ли мне говорить им об этом письме?.. Я был поставлен в такое положение... По идее — да, следует... С другой стороны, покажи я письмо, разговор с Симоном не принесет никакой пользы. Он мне скажет: «Тебе теперь все известно, так что действуй». Моя настойчивость ни к чему не приведет. Можно бесконечно задаваться вопросом: не сделал ли он это специально, не подстроил ли он так, чтобы я получил письмо именно сегодня? Это давало ему еще одно преимущество. Все говорило о том, что Сен-Тьерри в Милане и не забывает о своих интересах. Доказательство налицо. Я пошел искать машину. Где же я ее оставил?.. Я обнаружил ее в конце улицы, под «дворниками» лежало уведомление о штрафе за нарушение парковки. Настроение совсем испортилось. Ну и денек! Вот так денек!.. Симон побеждал на всех направлениях. Я сунул бумажку в бумажник... и вдруг меня осенило. Бумажник! Портсигар! Зажигалка!.. Я ведь мог сделать так, чтобы скелет в подвале опознали. Вот уж поистине балбес, каких поискать! Я тратил время, ища способ, как вывести Симона на чистую воду, а ведь такая возможность всегда была у меня под рукой. Произошло столько событий, что я напрочь забыл об этих вещах. Я чуть было не вернулся, чтобы убедиться, что они по-прежнему заперты в ящике, но я уже опаздывал. Я поехал. Что это? Радость, удовлетворенная ненависть, облегчение?.. Меня переполняло какое-то сильное чувство, бешеное возбуждение, оно играло в жилах, ударяло в виски, пробегало по пальцам... На этот раз он попался, теперь пробил мой час. Мысли проносились одна за другой... Поставить в известность Мейньеля... Пусть принимается за дело на следующей же неделе... Нет, лучше привести его на стройку сразу же, как только он освободится, чтобы окончательно уточнить детали. Решено! Сегодня вечером я снова приду в особнячок... брошу в подвале бумажник, портсигар, зажигалку... Крысы их не тронут, а следователи получат пищу для размышлений. Письма из Милана, телефонные звонки — весь этот блеф лопнет, как мыльный пузырь. Полицейским понадобится живой Сен-Тьерри. Иначе они сделают вывод, что в подвале спрятан труп Сен-Тьерри, и Симону придется пережить неприятные минуты. Бедняга! Он все предусмотрел, кроме этого. Он не учел, что «бродяга» может вернуть свой трофей... Опасно, старина, бросать вызов Шармону! Не так уж и плохо, Шармон!.. В замок я приехал немного раньше назначенного времени и увидел, что Симон и его сестра беседуют, уединившись в одной из аллей. Симон говорил, жестикулируя, как темпераментный итальянец. Марселина слушала, опустив голову. В руках она держала скомканный платочек и время от времени вытирала глаза. Значит, она жалела старика? Что-то новое. Может, такое поведение объяснялось усталостью? Или воспоминанием о перенесенных обидах... Конечно, нелегко нести на своих плечах траур в одиночку, принимать соболезнования, в которых сквозили недоброжелательные намеки. Я проехал через ворота и направился к крыльцу. Они услышали шум двигателя. Симон сказал сестре еще несколько слов, затем пошел мне навстречу, она же вернулась в замок. Он порывисто пожал мне руку. — Поставь машину на обочину, — сказал он. — Сейчас понаедет столько драндулетов, что всем не хватит места. Он подсказал, как поставить машину. Выглядел он не очень хорошо. Хоть он и бодрился, но чувствовалось, что заботы одолели его. И это только начало. — Я получил письмо от Сен-Тьерри, — сказал я. — Вот оно, кстати... Можешь прочитать. У меня нет секретов. Я обращался к нему на «ты» без особых усилий. Теперь мы ведем игру на равных. Пока он просматривал письмо, я незаметно подошел к нему ближе. Честное слово, от него разило спиртным. И он нуждался в допинге, чтобы довести до конца эту чреватую опасностями партию. Может, я переоценил его мужество... Он сложил письмо, протянул его мне. — Что ж, — произнес он, — теперь тебе все ясно... Эти планы мне представляются разумными. Ты можешь сказать, во что это обойдется? — Приблизительно. Он надеялся, что я назову конкретную сумму. Несмотря на внешнее равнодушие, он напряженно ждал ответа. Ему нужно было знать ее, чтобы действовать в соответствии с обстоятельствами и, уж конечно, присылать другие письма из Милана. Как это приятно — играть с ним в кошки-мышки! — Я должен проконсультироваться с подрядчиком, затем я напишу Сен-Тьерри. — Сколько... грубо говоря? — Несколько миллионов... я имею в виду только первую очередь работ. — С ума сойти! — Разумеется! Возьми, например, особнячок. Ты же динамит туда не подложишь, правда?.. Рядом дорога. Да ты сам понимаешь... Возможно, он рассчитывал, что особнячок разрушат тараном и что подвал будет погребен под обломками, когда здание рухнет. Скорее всего, он так и подумал. Хороший способ похоронить останки. Затем бульдозер разгребает завалы. И все шито-крыто! — Снести, — объяснил я, — означает почти демонтировать. Разбирается крыша, перекрытия, затем приходит черед каменных стен... Я намеренно преувеличивал. Но он ничуть не смутился, только пожал плечами. — Тебе лучше знать, — пробормотал он. — Расходы не из моего кармана. На дороге появилась первая машина. Он взял меня под руку, и мы вошли в вестибюль. — Извини меня, Шармон. Придется приступить к неприятным обязанностям, а Марселина не в своей тарелке. Обезоруживающая улыбка. Он исчез в комнате покойника. А я и в церкви, и на кладбище чувствовал себя легко и спокойно. Я стоял далеко от Марселины и плохо видел ее лицо, закрытое вуалью. Церемония носила торжественный характер, играл орган, присутствовало много народу. Старик хотел, чтобы его похоронили по старинному обычаю, чтобы за роскошным катафалком шли все духовные чины. У края могилы один старичок дрожащим голосом произнес слова, которые никто не разобрал. С Домской горы сердито задувал ветер, но я не проявлял ни малейшего нетерпения. Я даже не замерз. И мне совершенно не было стыдно вспоминать — что совсем уж некстати — гостиничные номера, где мы с Марселиной проводили время. Может, из-за этой темной вуали я представлял ее обнаженной. Правда, ее страсть никогда не отличалась пылкостью, но оставалась приятной, покорной, а иногда в ней даже пробуждалось воображение... Наступила моя очередь склониться перед фамильным склепом. Здесь покоились все члены семьи Сен-Тьерри, ряд могил походил на книги, аккуратно стоящие в книжном шкафу. Все, кроме одного!.. На некотором расстоянии держались Фермен, горничные, кухарки... Я долго жал руку Марселины. Мне показалось, что глаза у нее покраснели. Она уж чересчур добросовестно играла свою роль!.. Теперь я свободен. Свободен тщательно обдумать свой план. Я вернулся домой так быстро, как позволяло уличное движение. Скорее в лифт... ключ в замочную скважину... ящик стола... Все на месте. Я вынул содержимое бумажника. В нем оказалось лишь несколько купюр. Первым делом я собрался их сжечь, но, подумав, решил, что они наверняка выведут следствие на Симона. Когда будет отброшена версия о бродяге... Деньги лучше оставить. Я закрыл ящик. Нет необходимости в особой одежде... Крысы едва ли успеют среагировать, застигнутые врасплох. Я налил себе полную рюмку коньяку. Его-то я не украл! Наступила ночь, ничем не отличающаяся от других. И мне снился тот же сон. Я стоял перед дверью особнячка, прислушивался. Ни звука. Я вошел как вор. Я думал о преступниках из древних сказаний, которые изо дня в день, из ночи в ночь, и так целую вечность вновь переживали совершенные злодеяния. Я осторожно продвигался вперед. Все время прислушивался. Теперь, как только я включу фонарь, то увижу сидящую под лестницей крысу, огромную серую крысу, посланную мне в наказание. Я зажег фонарь, никакой крысы не было. Я весь обратился в слух. Ни единого шороха. Меня охватил страх, потому что все происходило не так, как я представлял себе. Эти крысы, которых я так боялся, служили, несмотря ни на что, заслоном между мной и... Они мешали мне спуститься вниз, приблизиться... Я собирался не глядя бросить зажигалку, портсигар, бумажник. И затем удрать. Я нуждался в них. Куда же они делись? Неужели они оставят меня одного с...тем, что еще более чудовищно, чем они! Я напрасно светил по всем углам. Никакого движения. Я шаг за шагом продвигался к двери, ведущей в подвал. Она по-прежнему была закрыта. Я прислонился ухом к створке двери. Я помнил живой клубок, из которого исходил писк... Может, насытившись, они отправились на поиски другой добычи? Я толкнул дверь, просунул руку и посветил фонарем... Давай, нужно идти! Нужно увидеть то, что увидит Мейньель... Я должен посмотреть на все его глазами. Я переступал с ноги на ногу, высматривая на ступеньках сверкание их зрачков Но видел только почерневшие камни. Они покинули дом, как, по преданию, покидают корабли, обреченные на гибель. Я обогнул угол и осветил сразу весь подвал Он был пуст, совершенно пуст. Ни единой крысы. Ни останков, ни костей. Я присел на последнюю ступеньку, почувствовал себя плохо. Совершенно пустой подвал. Может, там еще и витал затхлый запах крыс, их шерсти... какой-то резкий и в то же время пресный запах. Но трупный смрад, наверное исходил от меня. Отдать борьбе столько сил и ничего не добиться... Мне следовало бы решительнее действовать раньше. Я слишком долго ждал... Я с трудом поднялся. Будто на мои плечи давил весь этот дом. Я обошел подвал, тщетно ища хоть след, хоть намек... ботинки, например, они-то прочные — ботинки... А пряжка от ремня! Крысы же не могли... И вдруг я отчетливо увидел правду. Или скорее я увидел образ, возникший внезапно, как призрак. Симон!.. Накануне пришел Симон... И очистил помещение. У меня не хватило мужества все довести до конца, а он попытался и преуспел. И теперь останки Сен-Тьерри покоились в каком-нибудь укромном уголке парка, в стороне, вне досягаемости. Я понял, почему перед похоронами Симон показался мне уставшим и почему он написал мне, чтобы я приступил к строительным работам. Он действовал по тщательно разработанному плану. Этот план развязывал ему руки. Из Милана он будет вести двойную игру столько времени, сколько сочтет необходимым. Затем Сен-Тьерри должен исчезнуть окончательно. А я больше ничего не смогу сделать. Ничего!.. Я поднимался наверх, размышляя над случившимся. Если я открою рот, то тем самым признаю, что убил Сен-Тьерри. От этого никуда не денешься. Я оставил двери открытыми. Не было смысла принимать меры предосторожности. Особнячок больше ничего не значил. Безусловно, если я приду с повинной, то дело получит новый импульс, но Симон лишь слегка встревожится, ведь он не убивал. Мне оставалось только молчать. И пить, чтобы забыться! Я выехал на дорогу, ведущую в Клермон, переживая обиду. До чего же все несправедливо! А если я заговорю с Симоном?.. Если я ему скажу: «Убил его я, но ты — негодяй, и я даю тебе двадцать четыре часа, чтобы исчезнуть, убраться куда угодно»? Вновь начинается. Безумные мысли!.. Абсурдные проекты!.. Хотя, в конце концов, не такие уж и абсурдные. Я вполне мог заставить Симона выложить все начистоту, сказать наконец, чего он хочет добиться. Но он предложит мне деньги, как какому-нибудь шантажисту. Мы не сможем донести друг на друга, ни тот ни другой, но передо мной у него есть преимущество: он оповестит Марселину, скажет ей, кто я есть на самом деле... Я пил до дна чашу унижений и отвращения. Это преступление, которое я совершил... Вдруг я захотел рассказать о нем кому угодно потому, что оно слишком хорошо удалось, потому, что последняя ниточка, связывавшая меня с ним, только что оборвалась, наконец, потому, что в него уже нельзя было поверить... Настоящий рассказ пьяницы о крысах, о таинственно исчезнувшем трупе... О ничьем трупе! Я плакал в одиночестве, ведя машину по пустынному шоссе. То, что со мной сделал Симон, было хуже всего. Я предпочел бы, чтобы мне нанесли оскорбление, предпочел бы получить пощечину. Мне хотелось его убить. Я припарковал машину во второй ряд, наверное, нарочно, для того чтобы бросить вызов полиции, и поднялся к себе. Коньяку оставалось на донышке. Я выпил залпом. Так больше не может продолжаться. Если я позволю Симону уехать, все будет кончено. Больше я его не увижу. Пока же он здесь, нужно этим воспользоваться. Предположим, скажу ему: «Я видел тебя позавчера вечером в парке... Я пришел уточнить некоторые замеры (пришел за этим, за тем или просто так, незачем оправдываться). Ты что-то нес... а по дороге кое-что потерял, а я подобрал...» И я покажу ему портсигар, зажигалку... Что он ответит? Здесь-то он и влипнет. Попробует отрицать, разумеется, обвинит меня, но доказательств у него никаких. Я выступлю как свидетель. Ситуация изменится в мою пользу. И тогда я буду вправе требовать: «Если ты не хочешь, чтобы я рассказал все Марселине, то объясни, что ты замышляешь... немедленно!..» Денег не возьму. И даже на правду мне наплевать, в конце концов. Но он дрогнет, сознается. Я чувствовал, что потом обрету душевный покой. Я заснул, наглотавшись снотворного. Когда проснулся, то гнев вспыхнул с новой силой, внутри все накалилось, запылало. Я позвонил в замок. — Это вы, Фермен?.. Говорит мсье Шармон... Я хотел бы поговорить с мсье Лефевром. — Сожалею, мсье. Он уехал. — Уже? — Да, вечерним поездом, он спешил вернуться к мсье. — А мадам Сен-Тьерри? — Она приболела, мсье. Мне велено не беспокоить ее. Хотите что-то передать, мсье? — Нет, спасибо. В ярости я бросил трубку на рычаг. Я все больше и больше выходил из себя. Я опаздывал в погоне за истиной, упускал инициативу. Он ускользнул от меня. Пока я метался по особнячку, он уже мчался в Милан. И сейчас, пока я ходил кругами, он успеет ободрать как липку патрона, разорить сестру. А затем?.. Ведь он способен на все. Человек, который прошлой ночью осмелился вытащить то, что находилось в подвале, не остановится ни перед чем. Не исключено, что, покончив с Сен-Тьерри, он возьмется и за Марселину, чтобы завладеть ее состоянием. Сомнений нет, Симон — крупный авантюрист, которому все по плечу. А если я встану на его пути?.. Я вытащил из кармана зажигалку и бумажник. На бумажнике в уголке переплетались инициалы «Э. С». И на портсигаре был выгравирован его вензель, поэтому никакого удостоверения личности и не потребуется. Я положил эти предметы в ящик стола, закрыл его на ключ, затем из нижней полки книжного шкафа вытащил карты и путеводители. Самая короткая дорога на Милан лежала через Лион, Шамбери и перевал Мон-Сени. Оттуда я попаду на автостраду, ведущую в Турин... Дорога предстояла тяжелая, но горы не пугали меня. Впрочем, с некоторых пор все перевалы стали доступны для проезда. Я уселся за стол и стал подсчитывать расстояние, но вскоре послал это занятие к черту. Опять мечтания вместо конкретных действий. Я намеревался ехать в Милан? Прекрасно. Нужно ехать... немедленно... или, по крайней мере, как можно раньше. Да. А что я буду делать в Милане?.. Во Франции я мог пригрозить Симону полицией, а в Италии?.. Все не так просто, как кажется. Я схватился за бутылку. Она оказалась пуста. Вечно все против меня. И все же нужно шевелиться. Я должен почувствовать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Я вышел на улицу. Машина стояла на прежнем месте, мешая движению, но под «дворниками» я не увидел никакого уведомления о штрафе, лишнее доказательство того, что нахальство — второе счастье. Это подбодрило меня. Я отправился в гараж, чтобы смазать детали машины и заменить масло в двигателе. Затем заскочил выпить немного разбавленного коньяка. Облокотившись о стойку бара, я раздумывал, как бы заманить Симона во Францию, но в голову мне так ничего и не пришло. Одной рюмки оказалось мало, я выпил еще, уже неразбавленного, чтобы заставить заработать воображение. После третьей рюмки я набросал в общих чертах кое-какой план. Возможно, мне удастся это сделать с помощью Марселины... Она плохо себя чувствует. Со стороны Сен-Тьерри — Симона будет жестоко оставаться в Милане слишком долго. Значит, надо увидеться с Марселиной и уговорить ее написать мужу, чтобы он возвращался. Гордый собой, уже ради собственного удовольствия, я выпил виски. Этот идиот Клавьер хотел лишить меня спиртного! Спиртное — это мой талант, мои мысли, это искры моего воображения. Я подождал, пока наступит день, пошел в гараж и отправился в замок. Мне пришлось долго уговаривать Фермена. Он согласился доложить Марселине, которая наконец меня приняла в гостиной. Ее вид меня встревожил. — Что с тобой? — спросил я чуть слышно. — Простудилась на кладбище... Наверное, грипп. — Почему же ты не возвращаешься в Париж? — Меня здесь удерживают дела. В любом случае мне придется вернуться сюда... Нотариус назначил встречу на конец следующей недели. — Твой муж в курсе? — Я ему только что написала. Мы оба хороши. Он начинает выздоравливать после бронхита, а я только что подхватила его. — Ты вызывала врача? — О! В этом нет необходимости. — И все же!.. Береги себя, дорогая. Она грустно улыбнулась, и слезы выступили у нее на глазах. — Ну... ну... Успокойся, Марселина! — Не обращай внимания. Я очень устала... Это пройдет. Я внимательно смотрел на нее. Может, такой вид ей придавал слишком просторный халат? Она мне казалась похудевшей, осунувшейся, еще сильнее больной, чем думала сама. — Когда мы увидимся? — прошептал я. — Наедине! — Не сейчас. Через некоторое время. В Париже. — Обещаешь? — Обещаю. Я пойду лягу. Я правда очень плохо себя чувствую. Она протянула мне руку. Сухую, горячую руку. Мы простились у входа в вестибюль, и я услышал, как она кашляет на лестнице. Подумаешь! Грипп. Не так уж и опасно. Главное, чтобы Симон вернулся. Но до чего я глуп! Симон не мог вернуться и отправиться к нотариусу вместо Сен-Тьерри. Это ни в какие ворота не лезет. Симон просто-напросто объяснит, что Сен-Тьерри уехал в Рим или в какой-нибудь другой город, а затем, чуть позже, заявит о его исчезновении. И снова я бродил в потемках, метался между «за» и «против». Чтобы не сидеть сложа руки, я сделал вид, что готовлюсь к поездке. Вытащил из шкафа теплый свитер — на перевале Мон-Сени, несомненно, будет морозно, пошел купить бутылку арманьяка. На всякий случай приготовил цепи на колеса, если придется ехать по снегу или в гололед, положил карты и путеводители в «бардачок». Словно готовился участвовать в ралли. И в то же время я испытывал жалость к самому себе. Комедиант! Петрушка! Но небольшой стаканчик, наполненный до краев, заставил замолчать этот голос. Я отправлюсь в путь на рассвете. Если очень устану, остановлюсь на границе. В любом случае завтра я приеду в Милан. Проснувшись, я передумал. Во-первых, густая пелена тумана накрыла весь город. А во-вторых, что, если позвонит Марселина?.. Разве я мог уехать, не предупредив ее?.. Что я скажу в свое оправдание, когда вернусь? А уж мои немногочисленные клиенты наверняка разорутся, узнав о моем отъезде. А если я пошлю Симону письмо? «Продолжать бесполезно. Я обо всем знаю. Мне понадобилось осмотреть особнячок, прежде чем приступить к строительным работам. Если я и молчал, то только для того, чтобы избежать скандала, жертвой которого могла бы стать ваша сестра...» Фразы выстраивались в голове. На словах я никого не боялся. К несчастью, все сводилось к дрянной мелодраме, к туманным угрозам. Истина постепенно открывалась предо мной. Хочу я того или нет, но в конце концов я буду вынужден заключить нечто вроде соглашения с Симоном. Я ему пообещаю свое молчание в обмен на его. Я ничего не предприму против него, а он ничего не предпримет против Марселины и меня. Хорошенько все взвесив, я остановился на этом решении. Никакого насилия. Откровенный разговор. Еще минуту назад я решил никуда не ехать. Теперь я снова спрашивал себя: может, это лучший выход из положения? Лучшее средство доказать Симону, что я пришел с мирными намерениями? Так я пребывал в нерешительности два-три дня. За это время, уже и сам точно не знаю почему, я не смог выбрать ни одного варианта, не смог составить никакого плана. Кончилось тем, что у меня голова пошла кругом. Я старался не смотреть на свое отражение в зеркале, опустился до животного состояния, даже хуже, потому что животные наделены по крайней мере инстинктом самосохранения. Они твердо знают, в чем заключается их спасение, где они обретут спокойствие. Наконец позвонила Марселина. У нее грипп, но у меня нет повода для беспокойства. Что касается Сен-Тьерри... он возвращается. Симон звонил, чтобы предупредить ее. Сен-Тьерри поставили на ноги. На совещании с промышленниками он поручил Симону кое-что сделать. Ближе к полудню он рассчитывал отправиться на «мерседесе». Он переночует в Шамбери и завтра приедет в замок, ближе к обеду... Эти подробности я уже слушал вполуха. Шамбери! Вот что меня заинтересовало. Я перехвачу Симона в Шамбери! Я не дам ему опомниться, и он расколется. Марселине я сказал, что отлучусь, пока она болеет. У меня как раз есть дело в Пюи. Так что не падай духом и до скорого... На этот раз я загорелся. На ходу поставив в известность секретаршу — она привыкла к моим причудам, — я прыгнул в машину. Пока прогревался мотор, я пробежал глазами статью из путеводителя Мишлена. Гостиниц много, но я знал, что Симон выберет лучшую, а именно Гранд-отель герцогов Савойских. Когда я выехал, стоял сильный туман. Однако небо стало проясняться. И все же я ехал не слишком быстро: дороги были мокрыми. Утомившись, я слишком долго задержался в придорожной гостинице, где подавали вкусные блюда. В пригороде Лиона возникли пробки. Когда я добрался до Шамбери, пробило почти десять. Чтобы не путаться на дорогах с односторонним движением, я поставил машину на стоянке у вокзала. Впрочем, отель герцогов Савойских возвышался в двух шагах. — Мсье Эммануэль Сен-Тьерри?.. Нет. Он здесь не останавливался... — У него «мерседес» с откидным верхом. — Мы его не видели, мсье... Очень сожалеем. — А мсье Симон Лефевр? — Сомневаюсь, мсье. Администратор справился по регистрационной книге. — Нет. Он здесь не останавливался. Вот так номер! Надо непременно пропустить рюмочку в привокзальном буфете. Я поступил, конечно, глупо. С какой стати Симон будет останавливаться в городе, где Сен-Тьерри знали в лицо?! Что за чушь! Сен-Тьерри приезжал сюда не раз, вот почему Симон и говорил Марселине о Шамбери. И все же не стоит уезжать, не попытавшись все разузнать. Я поискал улицу Соммейе, где находилась гостиница «Турин». Никакого Сен-Тьерри. Никакого Лефевра. Никакого «мерседеса». Я отправился в «Отель князей». Никого. Я чувствовал, как росла усталость. Заглянул еще в «Золотой лев» и в «Савояр». Разумеется, безрезультатно. Все стало ясно. Осторожный Симон выбрал другое место для ночевки. Отчаявшись, я решил было снять номер в «Савояре», но испугался, что бессонной ночью все новые и новые версии будут лезть мне в голову, ведь я мог вообразить все что угодно. Кто знает, а может, Симон все еще находится в Милане! Лучше вернуться назад. Что делать! Когда ведешь машину, то ни о чем не думаешь. Я дал маху — вот и все. На выезде из Шамбери я остановился, чтобы заправиться. Я машинально выбрал самую симпатичную заправочную станцию, самую освещенную. А вдруг... Я спросил заправщика: — Вы не видели белый «мерседес» с откидным верхом... с номером департамента Пюи-де-Дом? — «Мерседесы» часто подъезжают. А какой номер у департамента? — 63. — Нет. Не замечал. Я вновь тронулся в путь. Я вполне мог упустить Симона в Шамбери, пока метался от гостиницы к гостинице! В таком случае я ехал по его следам. Но его машина намного мощнее моей, и у меня нет никаких шансов догнать его. До Лиона я так ничего и не придумал. Но когда увидел первые бензоколонки, то вышел из оцепенения. Почему не повторить попытку? Я обращался в «Тоталь» и в «БП», в «Эссо» и «Эльф». Безуспешно. Потом поехал в «Антар». — Постойте-ка... Белый «мерседес»... Кажется, я видел. И не так давно. Внутри сидели двое... да, точно. — Тогда это не тот. Мой друг путешествует один. Я вновь выехал на трассу, и потекли мрачные, однообразные ночные часы, фары выхватывали из темноты те же самые деревья, те же самые дома, те же самые перекрестки. Время от времени, когда мои веки вот-вот готовы были сомкнуться, я останавливался, чтобы немного покурить, немного пройтись. Я взял курс на Фер, поскольку хотел попасть в Тьер. Симон вполне мог ехать через Тьер. Сквозь тучки, зацепившиеся за склоны гор, проглядывало утро. Я навел справки еще на двух бензоколонках, чтобы довести до конца начатое дело... дело чести. В Тьере я осмотрел стоянку около гостиницы «Золотой орел». Но что Симону делать в городе, где Сен-Тьерри знают как облупленного? Еще одно усилие — и я смогу отоспаться всласть. К черту Симона!.. Я с облегчением увидел впереди пригороды Клермона, посмотрел на часы и понял, что несся как сумасшедший, но абсолютно не помнил, давил ли я изо всех сил на газ. Силы совершенно оставили меня, я пребывал в состоянии отрешенности, у которого тоже есть своя прелесть. Как лунатик, я поставил машину рядом с собором и устремился прямо в постель. Я умирал, так хотелось спать. Провалиться... С трудом сняв обувь, я канул в небытие.Эммануэль Сен-Тьерри».
...Мне снилось, что звонил телефон. Я метался из стороны в сторону, чтобы заглушить этот звук. А потом я открыл глаза. Действительно, звонил телефон. Половина десятого. Ничего не соображая, я снял трубку, узнал голос Фермена. — Прошу прощения, мсье... я по просьбе мадам. — Да... слушаю. — Не может ли мсье приехать... произошло несчастье. — Несчастье? — Большое несчастье... Мсье Сен-Тьерри погиб. — Что? — Мсье Сен-Тьерри погиб. — Как?.. Что случилось? Это событие застало меня врасплох, и я попеременно испытывал то облегчение, то крайнее изумление. — Авария, мсье, нам сообщили из жандармерии сегодня утром. — Сейчас приеду. Я повесил трубку и стал одеваться. Вне всякого сомнения, что-то перепутали. Симон ехал в машине Сен-Тьерри, с документами на имя Сен-Тьерри... Теперь я окончательно проснулся, и радость пронизывала каждое мое движение. Наконец-то забрезжил свет в конце туннеля. Все-таки справедливость существует. И нет больше никаких препятствий между мной и Марселиной. Только без спешки. Я всего лишь сострадательный и преданный друг. Я постарался войти в роль, как только Фермен открыл мне дверь. — Какая страшная трагедия! — сказал я. — Только что умер отец, и вот на тебе. Это ужасно! Марселина уже спускалась по лестнице. Она была смертельно бледной. Я церемонно пожал ей руку. — Поверьте, я разделяю ваше горе. Даю вам слово! Мы с вашим мужем — старые друзья. — Спасибо, — прошептала она. — Я знаю, что могу рассчитывать на вас. Она отпустила Фермена и провела меня в гостиную. Мы вдруг почувствовали себя стесненно. Даже оставшись одни, мы не могли себе позволить обрадоваться встрече. — Он умер мучительной смертью, — сказала она. — Машина загорелась... Именно это меня и потрясло. Он был тем, кем был, но такого конца не заслуживал. — Где произошла авария? — Совсем недалеко отсюда. Около Республиканского перевала, немного не доезжая до Сент-Этьена. — Почему, черт возьми, он ехал этой дорогой? Так намного дальше. — И почему не ночевал в Шамбери, как говорил? Авария произошла рано утром... Он поступает так, как взбредет ему в голову, тебе хорошо это известно... Судьба... Он не вписался в поворот. Машина упала в овраг и загорелась. Как сообщили жандармы, осталась груда металла, и он... Она поднесла ладонь ко рту. — Марселина... Не нужно представлять себе всю эту картину... Зачем? — Ты прав, — произнесла она и схватилась за платок. — Мне нужно идти. — Куда его отвезли? — В морг... ты можешь поехать со мной? — Конечно, о чем речь! — Спасибо. Я боялась, что ты не успеешь вернуться. — Я приехал вечером. — Ты выглядишь измученным, мой бедный Ален. А у меня подкашиваются ноги, к тому же лихорадит. — Когда ты собираешься ехать? — Как можно быстрее... ты думаешь... мне придется опознавать тело? — Не знаю. — Я думаю, что мне никогда не хватит мужества... Она уткнулась мне в плечо и расплакалась. Я прижал ее к груди. Мне было жалко нас обоих. Теперь, избавившись от Симона, я ощутил в себе чудесный запах нежности. — Поехали, Марселина... Это последнее испытание. Слышишь? Последнее... Я вытер ей глаза, быстро чмокнул ее в губы. — Иди собирайся. Я тебя подожду здесь. Я рухнул в кресло. У меня не было времени отдохнуть, и теперь я чувствовал ломоту, тяжесть во всем теле. Малейшее движение причиняло мне боль, но душой я отдыхал. Марселина отказалась обедать в Сент-Этьене. Я проглотил два бутерброда и позвонил в жандармерию. Мне ответили, что кто-то там отправился в морг, чтобы нас встретить. Нам представился лейтенант. Он объяснил, что начато следствие. Может, кто-нибудь из проезжавших мимо автомобилистов что-то и видел, хотя маловероятно. Авария произошла около пяти часов. Шофер грузовой машины заметил вдалеке зарево... но поскольку он ехал очень медленно, то прибыл на место трагедии минут через двадцать. Он не остановился, хотел как можно скорее предупредить жандармов, поэтому те сразу выехали на место происшествия. Предварительный осмотр показал, что машина не тормозила и ее не занесло. Она переехала через небольшое заграждение и рухнула в пустоту. Вполне вероятно, что водитель заснул. — Мсье Сен-Тьерри, — сказал я, — ехал из Милана. — Это все объясняет, — сделал вывод лейтенант. Он открыл ящик и выложил на стол то, что осталось от паспорта, авторучку, запонки, обуглившуюся папку, но огонь не уничтожил инициалы «Э. С». — Этот автомобиль с жестким верхом, — сказал он. — Мсье Сен-Тьерри зажало, как в клетке. Последствия пожара ужасны... Приношу извинения, мадам, за подробности, но вы должны быть готовы к суровому испытанию... чрезвычайно суровому... Труп, сказать по правде, находится в кошмарном состоянии. Я поддерживал Марселину. Я понимал, что она вот-вот упадет в обморок. — Будьте добры, следуйте за мной, — сказал лейтенант.
— Я не могу, — пролепетала Марселина, — пожалуйста... Простыня, прикрывавшая останки, казалось, была натянута на тело ребенка. Лейтенант повернулся ко мне: — Вы выдержите? Он откинул простыню, и меня словно оттолкнули назад. То, что я увидел, было не просто ужасным... Это... было нечто иное. Когда он положил саван на место, я дрожал с головы до ног. — Все это бесполезно, — заметил он, — но показать нужно. Вы были другом мсье Сен-Тьерри? — Да. Школьным товарищем. — Понимаю. — В отношении похорон... Что нам следует делать? — Когда следствие будет закончено, вы сможете забрать труп. Оно продлится недолго. Мадам Сен-Тьерри сможет также забрать вещи, которые я вам показал. Формальности простые. Лейтенант повернулся к Марселине. — Сожалею, мадам, что пришлось подвергнуть вас такому испытанию. Теперь все кончено. Еще раз примите мои соболезнования. Он пожал мне руку. — Ведите машину поосторожнее, мсье Шармон. Вы видите, к чему приводит скорость! Дневной свет нас ослепил. Марселина повисла у меня на руке. — Ален, я никогда не смогу забыть. Бедняга, ей предстояло свыкнуться еще и с исчезновением брата. И я напрасно старался что-то придумать. Как ее к этому подготовить?.. Но... Ее брат мог и не погибнуть в «мерседесе»! То, что я увидел под простыней, эти жуткие обуглившиеся останки... никогда мне их не забыть... представляли собой безымянную вещь... Как я мог подумать хоть на минуту, что Симон погиб?.. Ему нужно было заставить других поверить, что Сен-Тьерри находился за рулем собственного автомобиля где-нибудь... Возможно, подобрал одного из тех, кто ездит автостопом... или, скорее всего, итальянского рабочего, ищущего работу. Он вез его оттуда... Кого угодно, лишь бы заполучить обуглившиеся останки... Ну конечно же, Симон не из тех, кто по глупости прозевает поворот. И, напротив, ему ничего не стоит отправить на тот свет невиновного человека и тем самым окончательно избавиться от Сен-Тьерри, когда тот начал создавать ему трудности!.. Я понимал истинное положение. Сейчас Симон был живее и опаснее, чем когда-либо. Он возьмет меня измором, и у меня сдадут нервы. Я схватился за руль и заглушил двигатель. — Бедный Ален, — сказала Марселина, — ты доведен до крайности. Я тоже... Может, остановимся и что-нибудь выпьем? — Нет. Только не это. Тогда я не смогу вести машину. А ведь мы должны вернуться! Хорошо, что дорога мне знакома. Я снова стал думать о Симоне. Он выбрал самый трудный маршрут, чтобы лучше замаскировать преступление под аварию. Он прикончил своего попутчика во время остановки. Затем, используя автоматическую коробку передач, включил первую скорость и выкатил машину на обочину. Проще простого! А что касается пожара, то вполне вероятно, что он его и устроил. Вряд ли разбившийся «мерседес» загорелся. Но Симону ничего не стоило спуститься в овраг и спокойно довершить начатое дело. Марселина дремала. Я ей завидовал. Все эти бесконечные тайны в конце концов меня доконают. Я больше никогда не осмелюсь провести с ней ночь, потому что боюсь проговориться во сне. Что же делать? Я по-прежнему обладал оружием против Симона, но официально констатированная смерть Сен-Тьерри делала его неэффективным. Волей-неволей, покрывая Симона, я становился его сообщником. Но как разоблачить его, не разоблачая самого себя? Так с самого начала я добросовестно и ловко создавал по частям ловушку, в которую теперь и угодил, ловушку, из которой не было выхода. Бесполезно что-либо придумывать. Я рассчитывал загнать туда Симона, а попался сам. Я уже давно попал в ловушку, словно крыса! Картина вдруг предстала перед моими глазами с такой жестокой очевидностью, что пришлось затормозить. Голова Марселины скользнула мне на плечо. Как крыса!.. Как крыса!.. Левой рукой я вытер лицо, протер глаза... Я так и предполагал! Так и предполагал! Дьявол! А если Симон действительно умер? А я его обвинял, не имея ни малейшего доказательства. Я просто знал, что он подлец и что подлецам легко живется. Другой на моем месте, наоборот, обрадовался бы. Сен-Тьерри устранен, Симон погиб. Остался один победитель — я. И никто никогда не заставит меня отчитываться. Ах! Если бы это было так! Подъезжая к Клермону, я разбудил Марселину, отвез ее в замок. Она затащила меня всеми правдами и неправдами на чашку кофе. Мы оказались в столовой вдвоем. Через полгода, через год, возможно, мы будем здесь обедать. Никогда! Симон, сам того не предполагая, показал мне дорогу. Я уеду в Италию. Там наживу себе состояние. В конце-то концов прошлое должно забыться! Раздался телефонный звонок. Я подошел, снял трубку. Звонил Симон. Я сел, голова пошла кругом. — Шармон?.. Ну и ну! И что ты поделываешь в замке? Радостный голос человека с чистой совестью. Откуда он звонит? Может, из Сент-Этьена. Почему бы и нет? — Ты все еще в Милане? — спросил я. — Конечно. Решу пару-тройку вопросов и возвращаюсь. Передай, пожалуйста, трубку патрону, мне нужно ему кое-что сказать. — Патрону? — Да, Эммануэлю... Он доехал благополучно? — Как?.. Ты хочешь поговорить с Сен-Тьерри? Значит, к тому же мне предстояло... ему сообщить? Какой-то жуткий смех застрял у меня в горле. Я прокашлялся. — Алло... Шармон? — Я нахожусь в замке, потому что, возвращаясь, Сен-Тьерри попал в аварию. Он погиб. — Что? — Он погиб. Мы только что вернулись из морга в Сент-Этьене, твоя сестра и я. Машина свалилась с обрыва в верхней точке Республиканского перевала. Она сгорела. Подошла Марселина, протянула руку, я дал ей трубку. — Симон! — сказала она. — Ну да. Он разбился насмерть, сгорел. Из-за всего этого я совершенно больна. Что?.. О нет! Я не захотела смотреть... Шармон все взял на себя... Когда похороны, еще не знаю... После следствия. Как будто в этом есть какая-то необходимость!.. Итак все ясно. Эммануэль поступил необдуманно... Послушай, какие доказательства! Если бы он еще немного полежал, если бы подождал до полного выздоровления... Вот так, Симон. Не будешь же ты утверждать, что он поступил благоразумно, решив ехать без остановок?! Если бы он переночевал в Шамбери, как обещал... Я хотела бы, чтобы ты присутствовал здесь... Да, благодарю тебя. Это очень мило с твоей стороны... Да, передаю ему. Она протянула мне трубку. — Я просто убит, — сказал Симон. — Когда мы расстались, уверяю, он был в полном порядке. Иначе, подумай сам, разве я позволил бы ему уехать... Должно быть, он уснул за рулем. А какой искренний тон! Как может он сохранять такое хладнокровие? Он продолжал тепло, по-дружески: — Ты очень великодушен, Шармон, знаешь, я никогда этого не забуду. Потеряв терпение, я сухо прервал его: — Куда тебе можно позвонить в случае необходимости? — Не волнуйся. Я собираю свой чемодан и возвращаюсь... поездом или самолетом. Смотря, что прибывает раньше. Я сейчас выясню... Ни о чем не беспокойся. Тебе и так досталось, старина... Еще раз спасибо. До скорого! Да он смеется! — Иди перекуси, выпей кофе, — сказала Марселина. — А то он остынет. Кофе был теплым, противным. И масло было противным. И хлеб. И воздух, которым я дышал. Я схватил плащ, перчатки. — Извини меня, Марселина. Не могу больше задерживаться. Но я остаюсь в твоем распоряжении. Звони... не стесняйся. — Как подумаешь, что все начинается сначала, — прошептала она. — Уведомления, соболезнования, вереница людей... Покоя, Боже мой, как хочется покоя! Я то же самое повторял себе в машине: «Покоя!». Быть похожим на тех, кто бродит по улицам, разглядывая витрины, кто шатается без дела, кто беззаботно гуляет. Быть похожим на этих мужчин и женщин, которые безбоязненно думают о завтрашнем дне. Я чувствовал, что внутри у меня что-то сломалось. Я направился прямо к себе в комнату. Постель смята еще с прошлой ночи. Я даже не разделся, словно какой-то бездомный бродяга. Я с тем же успехом мог спокойно переночевать где-нибудь под мостом. Я заснул сразу, как убитый. Затем?.. Затем я куда-то провалился... и, уж конечно, не на один день. Все вновь началось с повестки, которую принес полицейский. В ней сообщалось, что я должен проследовать за ним в уголовную полицию по касающемуся меня делу. Безусловно, требовались мои свидетельские показания. Однако сказать мне больше нечего. Я отправился в уголовную полицию, где меня ждали. Меня сразу провели в довольно уютный кабинет. За столом сидел молодой человек. — Старший комиссар Базей... Садитесь, пожалуйста... Итак, мсье Шармон, мне хотелось бы уточнить некоторые не совсем ясные детали того, что я называю «делом Сен-Тьерри». Он изучал меня, скрестив руки. У него были голубые глаза, волосы подстрижены бобриком. Он не произвел на меня приятного впечатления. Уж слишком уверен в себе. — Мы внимательно изучили следы, оставленные автомобилем на обочине. Мсье Сен-Тьерри обычно ездил быстро? — Очень быстро, — сказал я. — По крайней мере, он хвастался этим. Он любил мощные машины. — Само собой разумеется, что определить скорость на момент аварии невозможно. Но дорога была свободна... возможно, немного мокрая... Как вы думаете, на какой скорости вы могли бы спускаться с перевала, при условии, что колеса не скользили бы? - 70... 80... — И я придерживаюсь того же мнения. Машина съехала на обочину по диагонали. След очень хорошо виден. Но если бы она ехала даже со скоростью 60 километров, то земля была бы сильно вдавлена. Понимаете?.. Колеса проделали бы настоящую колею. Между тем что вы видите на фотографиях? Посмотрите! Он протянул мне увеличенные снимки. Я с любопытством стал разглядывать. Шины оставили такие четкие отпечатки, что они походили на слепки. — Земля, — продолжал он, — просто продавлена под тяжестью автомобиля. Когда машина полетела под откос, ее скорость не превышала скорость идущего человека. Симон все предусмотрел, кроме этой детали. И эта деталь его погубит. — Действительно, — сказал я. — В этом нет сомнения. — Вот видите... Вывод напрашивается сам. Машину столкнули. Вы несомненно также знаете, что машина снабжена автоматической коробкой передач. Поэтому для того, чтобы направить ее под откос, достаточно было включить первую скорость и крутить рулем, идя рядом с машиной. Требовалось лишь опустить стекло. — Но тогда? — Вот именно. Что тогда? — Сен-Тьерри! — воскликнул я. — Что тогда в это время делал Сен-Тьерри? — Ничего. Потому что его уже не было в живых. — Как это? — Вот заключение судмедэксперта. Сен-Тьерри умер потому, что ему проломили череп. Его ударили спереди тупым предметом. Пресс-папье!.. Я вдруг увидел фиолетовый камень, его бесчисленные резцы... Но это произошло гораздо раньше! У меня все перепуталось... Этот человек, говоря со мной о Сен-Тьерри, вызвал у меня приступ безумия. Он по-прежнему не сводил с меня глаз, точно так же наблюдал за мной, как и Клавьер. — Кто-то, — медленно произнес он, — поджидал Сен-Тьерри... Несчастный остановился. Вы догадываетесь почему? — Нет. — Потому что он знал того, кто делал ему знаки... Предлагаю вам найти другое объяснение... Произошло убийство... Умышленное убийство. Это написано на земле... И возможно, сам убийца затем поджег автомобиль, чтобы окончательно скрыть следы преступления... Мы провели замеры. «Мерседес» упал с высоты семнадцати метров. Машина ударилась о выступ, который смял багажник, и перевернулась на крышу. При ударе Сен-Тьерри сильно стукнулся затылком. Затылком. А не лбом! Если бы автомобиль не загорелся, преступление стало бы еще более очевидным. Я чуть было не крикнул: «Нет же, идиот! Если машина сгорела, то только для того, чтобы никто не смог опознать труп... ведь погиб неизвестно кто». Но мне следовало молчать, любой ценой. Симон допустил ошибку. Симон и заплатит. Комиссар перебирал бумаги. Вдруг он пристально посмотрел мне в глаза. — Где вы находились, мсье Шармон, в ночь преступления? Если бы он всадил мне в живот нож, я бы и то не почувствовал столь острой боли. — Я? — вскрикнул я. — Я? Почему я? — Отвечайте. — Я спал. Я ничего не знаю. — Вы были дома?.. Вы в этом уверены? — Да... да... Я в этом уверен. — Я задаю вам этот вопрос, потому что имею довольно любопытное сообщение. Даже несколько сообщений... Между нами говоря, должен признать, что, если бы не эти заявления, которые открыли нам глаза, мы бы и не догадались, что речь идет о преступлении. Наша служба даже не была бы задействована. Расследование, проведенное жандармерией, выглядело убедительным. Но представьте себе, что некто, прочитав в газете о дорожно-транспортном происшествии, вспомнил, что около десяти вечера неизвестный искал в Шамбери именно мсье Сен-Тьерри... Он нам позвонил. С нами связались, и мы начали поиски... Мы установили, что действительно неизвестный обошел несколько гостиниц. Мы располагаем его точным словесным портретом. Он выглядел чрезвычайно нервозным, обеспокоенным... Мы расширили круг поисков, опросили служащих заправочных станций. Этот человек появлялся на нескольких из них. Он сидел за рулем «Симки-1500» темно-синего цвета. Заправщик даже вспомнил, что номер машины заканчивался цифрой 63... 63 — номер департамента Пюи-де-Дом... У вас машина какой марки? — «Симка». — Какого она цвета? — Темно-синего. Воцарилось молчание. Затем комиссар продолжил: — Мне остается только устроить вам очную ставку со служащими гостиниц в Шамбери или с... — Ни к чему, — сказал я. — Вы правы. Я ездил в Шамбери. Я не мог больше отрицать. У меня пропало желание защищаться. Мне казалось, что Сен-Тьерри издевается надо мной. С самого начала. Он не переставал вести свою игру. Он использовал своего отца, свою жену, Симона... чтобы добить меня... меня одного. А сейчас он использует комиссара: он подсказывает ему вопросы. Он шепнул ему на ухо: «Спросите у Шармона, не он ли убил меня?.. Вы увидите... Он не посмеет отпираться, потому что это правда. Меня убил он». — Вы убили Сен-Тьерри, — сказал комиссар. Весь в поту, я расстегнул воротничок, вцепился в стол. — Клянусь, я не имею никакого отношения к этому делу с машиной... мне только нужно было увидеться с Сен-Тьерри... — Почему? — Потому что он поручил мне выполнить некоторые работы в парке замка. — Когда он поручил? — Несколько дней назад... — И неожиданно возникла такая срочная потребность его видеть, что вы ночью отправились к нему навстречу?.. Давайте, мсье Шармон... говорите серьезно. Почему вы его убили? Я молчал. Отвечать больше не буду. Никогда Сен-Тьерри не заставит меня сознаться, что его убил я... Это слишком несправедливо... Я, конечно, убил его, но не сейчас, а гораздо раньше! — Вы неважно себя чувствуете? — сказал комиссар. — Мне... мне не хватает воздуха. — Что ж, мы сейчас выйдем. Я даже отвезу вас домой... У меня есть ордер на обыск. Дальше я не слышал. Опять начался этот кошмар. Сопротивляться бесполезно. Я пропал. Хотелось пить. Так хотелось пить! Они усадили меня в машину. Комиссар сел рядом. Следователь занял место с шофером. Затем... они потребовали у меня ключи. Они командовали, могли делать все, что хотели. Сен-Тьерри подсказывал им, направлял их... иначе они не устремились бы сразу к ящику стола... К ящику стола! Я-то про него забыл! Но не Сен-Тьерри!.. Комиссар вытащил из него бумажник, зажигалку, портсигар и с кровожадным вожделением посмотрел на них. Затем положил их рядышком на мой письменный стол, словно иллюзионист, готовящий свой фокус... Я рухнул как подкошенный.
...Все немного растерялись. — Держите его! — крикнул Базей. — Здоровый, дьявол! — сопел следователь. — Постарайтесь схватить его за ноги. — Осторожно! — завопил Шармон. — Крысы... Крысы... Они сейчас прыгнут на меня... В углу, там, в углу... — Нужно вызвать «скорую», — задыхался следователь. — Жирная! — рыдал Шармон. — Жирная, вся серая... Она меня душит... Ко мне, Сен-Тьерри... Ко мне... Помоги мне, Сен-Тьерри, прогони их... Тебя-то они послушают! Следователю пришлось его оглушить. Он вытер лоб, вконец измотанный. Комиссар показал ему бутылку, которую он только что обнаружил в стенном сейфе. — А вот и разгадка, — произнес он.
Нотариус закончил читать завещание. Размеренным жестом убрал его в большой конверт, поправил манжеты, скрестил руки. — Из этого следует, — бормотал он, — что вы наследуете все, дорогая мадам. Небольшие пожертвования, которые я перечислил, весьма ничтожны... Позвольте мне сказать вам, что, несмотря на постигшее вас горе, вам повезло. Если бы ваш муж умер раньше своего отца — а ведь еще немного, и это бы могло произойти, — все состояние семьи Сен-Тьерри перешло бы дальним родственникам и, фактически, государству. Симон уронил шляпу, подобрал ее, погладил кончиками пальцев. Нотариус встал и проводил посетителей до двери.
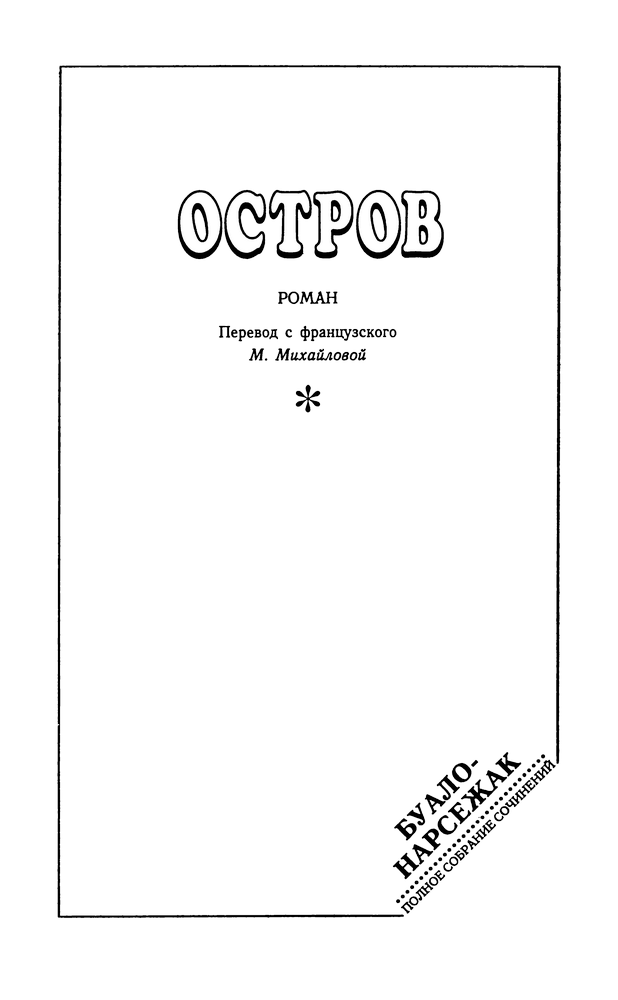
Остров
В рубке тихо разговаривали две женщины, а у лебедки стоял таможенник и сворачивал самокрутку. Мэнги разглядывал свой исцарапанный бесформенный чемодан и саксофон, выглядевший так нелепо и странно в футляре. Ему было стыдно. Чувство стыда пришло не сразу, хотя он и не отдавал себе в этом отчета. Огромная радость, охватившая Мэнги во время отъезда, понемногу оставляла его, пока они ехали по Франции. Потом пришла усталость. Но не только путешествие утомило Мэнги. Это была застарелая усталость, давившая на плечи, навсегда оставившая печать на лице. Его часто спрашивали, особенно Хильда: «Да что с тобой творится?» Ничего! И это правда. С ним все в порядке. Просто он последний из рода Мэнги. Возможно, это кровь предков заставляла его так мучиться. А вот теперь Мэнги испытывал стыд. Он чувствовал себя лишним на этом корабле, плавно качавшемся на волнах. В такт качке женщины наклонялись друг к другу, таможенник раскачивался, а он все время пытался за что-нибудь ухватиться. Мэнги забыл море. Он превратился в обитателя суши. И даже не столько в обитателя суши, сколько в шута горохового. Однако он все-таки родился там, на крошечном острове, который еще скрывался за горизонтом. Но, может, ему следовало бы остаться в Гамбурге? Что он, собственно, ждет от своего побега? Он сойдет с корабля. Хорошо! Поселится у Миньо, если, конечно, гостиница еще существует. И что дальше? Он станет гулять? Но стоит ли вообще говорить о каких-то прогулках, если весь остров можно охватить одним взглядом, а вокруг него простирается только море. Ну и?.. Он, словно паломник, посетит свой дом, родные могилы? Вполне вероятно, что его дядюшки еще живы. Сколько же им должно быть лет? Мэнги напряг память. Так... его отец родился в 1912-м. Он был младше братьев, но не намного. Фердинанду, самому старшему из них, должно быть около шестидесяти, а Гийому — около пятидесяти восьми. В сущности, они не так уж стары. Но они пережили войну, оккупацию... Его отец и Фердинанд бежали вдвоем на лодке в Англию. Они уже заранее походили на потерпевших кораблекрушение. Мэнги плохо помнил и дядю Фердинанда, и своего отца. В те времена он был еще совсем маленький! Но он не забыл их отъезда. И его воображение рисовало невероятно четкие образы, подобные галлюцинациям. Почему, например, ему снова виделось, как рассек воду якорь, когда лодка отходила от мола? Его мать плакала... Мэнги блуждал по своим воспоминаниям. Вероятно, именно из-за них он все бросил там, в Гамбурге. Дядюшки, и живые, и покойные, его совершенно не волновали. Но он отдал бы все на свете, чтобы обрести в себе именно того самого малыша Мэнги — очень серьезного, чистого и необыкновенно одаренного мальчика. Монахиня, которая вела у них занятия, не уставала повторять: «Этот мальчик, мадам Мэнги, я уверена, далеко пойдет...» Ах, если бы вернуться назад, если бы забыть эти годы мрачной богемной жизни, если бы все начать сначала, именно на острове. Но не на том острове, куда устремлялись любители водного спорта, а на его собственном острове, где правили и творили свои чудеса ветра, волны да одиночество. Не раз Хильда подшучивала над ним: «Эй, шуан[5], все мечтаешь?» А порой она, уже по-немецки, говорила своим клиентам: «Можно подумать, что этих бретонцев только что изгнали из рая». И тогда он приходил в себя и оглядывался. Он жил только по ночам и видел лишь причудливо освещенные лица и головы, украшенные бумажными безделушками. Сам он носил узкие черные брюки и зеленую блузку с широкими рукавами. Часами он играл между неистовым трубачом и беспечным контрабасистом, в то время как ударник за его спиной выбивал ритмы из своих тамтамов. Саксофон — это было самое дорогое, чем он владел, в чем мог полнее всего себя выразить, благодаря хрипловатому звуку, так похожему на плач. Он забрал саксофон с собой, чтобы не оставлять его в недостойных руках. Но сейчас при свете заходящего солнца, на этом корабле, похожем на буксир, его инструмент внезапно показался ему неуместным. Если бы у Мэнги спросили: «Эта штука ваша?» — он, наверное, ответил бы: «Нет». Так на чем же он остановился? Миньо... Гостиница... В ближайшее время на жизнь ему хватит. Его должны хорошо встретить. Один из Мэнги возвращается в родные края после столь долгогоотсутствия — это наверняка вызовет одобрение. Кроме того, у него все еще есть свой дом. Вероятно, он совсем разрушился. Мэнги не мог точно вспомнить, где он находится. Должно быть, где-то в конце главной улицы поселка. Но можно ли все это называть «поселком», «главной улицей»? Ведь там обитала всего-навсего горстка жителей, зацепившихся за склон холма, словно моллюски, облепившие обломок корабля. В этом уж он, по крайней мере, был уверен, потому что вычитал эти сведения в каком-то путеводителе. 300 жителей. Все мужчины — рыбаки. Путеводитель также сообщал, что там обнаружены мегалиты[6]. В его памяти остров был голым, плоским, без единого деревца. Там царствовал ветер. Он никогда не забудет этот ветер. Не только его шум, но и его осязаемую мощь. Мэнги находился внутри этого ветра, в его чреве, как ядро ореха в скорлупе. Ветер никогда не стихал. Когда люди ложились спать, он свистел сквозь оконные рамы. Когда они просыпались посреди ночи, то слышали, как он струился, словно вода, стекавшая по сливному желобу. И днем он находился по-прежнему рядом, неутомимый, внезапно обвивая ноги или толкая в спину. Мэнги оставалось только прикрыть глаза. И он обретал в себе того прежнего малыша, который, лежа в расщелине скалы, слушал, как ветер, то стремительный, то резкий, то пронырливый, пролетает над ним, словно влажными руками, пробегает по его щекам и обвивается вокруг ушей... Мэнги сел на ящик. Ну вот! Наконец-то к нему вернулись утраченные ощущения, необходимые для его выздоровления. Он очень хотел выздороветь. Работа для него найдется и в Ване, и в Лорьяне. Он устроится работать на материке и постарается как можно чаще приезжать на остров. Он отремонтирует дом, он его перестроит. Каменные дома подвластны разрушениям. Он вернется наконец к себе домой, в свою нору. И тогда он сможет вычеркнуть из памяти Гамбург. Он больше не будет рабом Хильды. Женщины по-прежнему болтали, близко склонив друг к другу головы, а таможенник свертывал уже следующую самокрутку. Мотор равномерно гудел, и Мэнги, в свою очередь, отбивал ногой ритм — он машинально импровизировал соло на саксофоне. То, что Мэнги не мог выразить словами, он умел, по крайней мере, сыграть. Так он и играл, сжав губы, лишь для себя одного меланхолическую мелодию возвращения домой, пока не увидел остров, похожий на корабль, стоящий на якоре. Сначала это были всего лишь неясные очертания. Затем начали вырисовываться дома, прижавшиеся к колокольне, напоминавшей главную башню замка. Вдоль берега белела морская пена. Мэнги поднялся. Он пошел на нос корабля и оперся локтями о борт, прислонив ладонь к глазам, чтобы защититься от ослепительного солнца, совсем низко висевшего над горизонтом. Он различил короткий мол и несколько привязанных к причалу лодок. Меньше чем через час зажгутся огни буев и маяков. Он снова увидел маяки, и у него что-то сжалось внутри. С наступлением темноты они поведут над морем свой собственный разговор. Если выйти из дома и углубиться в садик, возвышавшийся над пляжем, можно увидеть целое созвездие огней, слева от шоссе Кардиналов. Одни походили на прожекторы, находившиеся на уровне воды, другие, более таинственные, вспыхивали лишь на мгновение, затем гасли, и когда снова зажигались, то их огни сверкали не там, где ты ожидал их увидеть. С них нельзя было спускать глаз. Может быть, они перемещались, пока на них никто не смотрел? Мэнги охватила тревога. Он знал, что едва доберется до места, сразу же побежит на берег. Это было как свидание, которое должно состояться при любых обстоятельствах. И сколько у него еще будет таких свиданий! Эти встречи с маяками и конечно же с его пещерой заполнят все его время. Это было, вероятно, всего лишь крошечное углубление в скале, но тогда оно ему казалось настоящей пещерой. Почва там состояла из мелкого, как пыль, песка. Во время прилива потоки морской воды устремлялись в пещеру, и от их тонких прозрачных лезвий темнел песок. А когда вода спадала, от каждой маленькой волны оставался след. Отовсюду в пещеру проникали морские дафнии, бесчисленные, как саранча. Сумеет ли он найти свою пещеру? Корабль протяжно загудел. Только у кораблей бывают такие голоса — голоса давно исчезнувших животных. Фигуры на молу засуетились. С саксофоном под мышкой, Мэнги пошел за чемоданом. Причаливание — это особый ритуал, который необходимо тщательно соблюдать. Рулевой, стоя на узком мостике, не спешил... Задний ход... малый ход... вперед... один конец брошен с носа... Поверхность воды вокруг корабля вспенилась, он приближался к молу... Другой полетел с кормы... Корабль остановился. Долгое путешествие Мэнги окончилось. Он прошел по мостику и вступил на свой остров. Удаляясь от корабля, Мэнги ощущал, что все взгляды направлены на него. Ничто не изменилось. Ничто, и тем не менее все выглядело не так. У него появилось горькое чувство, будто он разглядывает выцветшие фотографии. Общее расположение домов осталось, пожалуй, прежним. Как пройдешь бакалейную лавку, попадешь на маленькую площадь. Какая же она крошечная! Когда-то там стояли две каменные скамьи. Но там ли они стояли? Мэнги с трудом продвигался по своим воспоминаниям. Перед ним выросла церковь, ее портал скрывали леса. Вот и гостиницу подновили. Да, конечно, это она, нет никакого сомнения. Интересно, стояли ли раньше там на окнах горшки с геранью? Этого Мэнги не помнил. Но зато он был уверен, что памятник, который он заметил на перекрестке, установлен недавно. Эта бронзовая статуя выглядела так нелепо, что Мэнги подошел поближе. Остров дал немало смелых моряков, умелых рыбаков и даже морских волков, которые в один прекрасный день уезжали, чтобы никогда не вернуться, но ни один из них не стал незаурядной личностью. Со своего постамента из черного гранита неизвестный, указывая пальцем в сторону материка, казалось, прогонял кого-то с острова. Скульптор изобразил его в городском костюме, воротничке и галстуке, с непокрытой головой. Усы как у Клемансо[7], нахмуренные брови, мясистый нос... Кто бы это мог быть? Мэнги наклонился, чтобы прочитать надпись, и тут же отступил с бьющимся сердцем.Мэнги обошел церковь и двинулся вдоль кладбища. Он хорошо его помнил. В их семье мужчины не отличались особой религиозностью, женщины же, напротив, были очень набожны. И поэтому после мессы его мать шла помолиться на могилы усопших, близких и чужих. Умершие принадлежали всей общине. В памяти Мэнги размытые черты материнского лица проступали как будто сквозь дымку. Зато он очень четко видел, как она преклоняет колени перед могильными плитами или ухаживает за цветниками на могилах, выдергивая сорняки. Мать вручала ему крошечную лейку, и он наугад окроплял могилы Маэ, Гурлауэнов, Тузе. Лейка была красного цвета, и у нее едва держалась ручка. Дед закрепил ее с помощью проволоки. Эта подробность внезапно пришла Мэнги на память и глубоко взволновала его. Значит, в его душе сохранились, вопреки всему, нетронутые, неповрежденные уголки. Он все яснее сознавал, что же все-таки привело его на остров. Он вернулся сюда в поисках утраченных восхитительных образов прошлого. Мэнги шел по тропинкам своего детства. Под ногами скрипела галька, которой были посыпаны дорожки. Мама каждый раз повторяла ему: «Не шуми так». Мэнги не нуждался ни в каких ориентирах. Инстинкт привел его к семейной могиле. Только теперь на могильной плите за именем его бабушки следовали еще три имени: деда, расстрелянного патриота, Ивонны Мэнги и Гийома Мэнги. Его мать. Его дядя. Что касается Жан-Мари Мэнги, его отца, паршивой овцы в семейном стаде, то его имя никогда не будет высечено на этом камне. Отца погребли в Антверпене. Мэнги застыл перед могильной плитой. В отдалении он заметил склонившуюся пожилую женщину и услышал стук кирки и лопаты. Здесь всегда у покойников будет свой садовник. Вероятно, благодаря именно этой женщине плита такая чистая, а камень у изголовья выглядит абсолютно новым. Бронзовая оправа медальона сверкала, и на ней Мэнги не увидел ни единого зеленого пятнышка. Медальон занимал особое место в воспоминаниях Мэнги. На нем была изображена женщина: голова повернута в профиль и окружена нимбом, руки молитвенно сложены. Дева Мария, как утверждала его мать. Нимб завораживал Мэнги. Он думал, что это головной убор, но только более красивый, более элегантный, чем тот, что обычно носили островитянки — небольшая белая лента, прикрепленная к шиньону. Ему так хотелось, чтобы и у его матери был нимб! Она сердилась, когда он просил ее купить себе такой же: «Глупый мальчишка!» Он ставил красную лейку на край аллеи и любовался прекрасной молодой женщиной, чуть склонившей голову. Она смотрела налево, на могилу Танги. Мэнги сделал шаг вперед, чтобы получше разглядеть медальон. Нет, она смотрела направо. И тем не менее он мог поклясться... Мэнги закрыл глаза и мысленно стал повторять свои действия... Лейка стоит на краю аллеи, тени облаков скользят по плите, он опускается на колени рядом с матерью... камни впиваются ему в кожу... он поднимает голову... Дева Мария смотрит налево... Он в этом так же уверен, как в том, что его зовут Мэнги. Он открывает глаза. Голова Девы Марии повернута направо. Все это было так давно! Возможно, могила Танги расположена справа? Нет, справа могила семьи Козик. В сущности, какая разница?.. Он прошел быстрым шагом несколько аллей, пытаясь оживить воспоминания. Он расстроился. Казалось, малыш Мэнги сыграл с ним злую шутку. Он вернулся к могиле. Налево или направо? Конечно же, направо, он ошибся. После стольких лет это вполне простительно. Вероятно, тьма, куда погружаются наши воспоминания, искажает их. Может быть, детство — это только сказка, которую мы сочиняем сами для себя, когда нам грустно. Да нет же! Зачем подправлять столь незначительные подробности? Почему налево лучше, чем направо? Но тогда, возможно, и лейка была зеленой? Или ее не существовало вообще? Да и Мэнги был совсем не Мэнги. «Мама права, — подумал он. — Каким же я могу быть глупым!» Мэнги вышел с кладбища на маленькую улочку и в конце ее увидел ланды. Он зайдет к дяде позже. А сейчас ему хотелось побыть одному. Ему не пришлось долго идти, чтобы добраться до середины острова. На узком скалистом плато вздымались два менгира, напоминающие пастухов в накидках. Мэнги обрадовался, когда увидел их. Они возвышались там же, на прежнем месте, как и раньше. И ветер все так же водил хоровод вокруг них. «Пусть, — сказал себе Мэнги, — Дева Мария смотрит направо. Забудем об этом. Все прекрасно, как и прежде». Мэнги окружало море, уходившее за горизонт. Перед ним белели скалы, возвышающиеся вдоль дороги, ведущей на Лошадиный остров. С юга надвигался ливень, и там, подобно темному утесу, громоздились тучи, заслоняя горизонт. Но на северо-западе небо еще отливало сверкающей голубизной, которая лилась Мэнги в самое сердце. Он раскинул руки, глубоко вдохнул и вновь ощутил радость возвращения домой, безраздельного обладания этим клочком земли, покрытым песком и обломками скал. Мэнги не мог толком понять, что же он на самом деле испытывал. Он слишком много пережил, и ему не хватало времени для самоанализа. Но Мэнги чувствовал, что уже начинает менять кожу и что в конце концов прошлое искупит настоящее, если только он сумеет построить его, не совершив новых ошибок. Теперь он отправится к своей пещере. Она находится где-то на западе, ведь там ветер дул целыми днями, не утихая ни на мгновение. Мэнги пересек ланды и пошел вдоль берега. В детстве он вряд ли уж чересчур далеко уходил от поселка. Мэнги помнил, что он шел довольно долго, возможно, целый час. Значит, пещера находилась километров в двух от его дома. Он прикинул расстояние и спустился к пляжу. Начинался прилив, но море было еще далеко. У него хватит времени вернуться берегом в порт. И в то же мгновение Мэнги осознал, что он ничего не найдёт. Гроты, расщелины, углубления, пещеры — они раскинулись повсюду. Но какая же из них его? Мэнги забирался то в одну, то в другую, усаживался в самой глубине и слушал звуки прошлого. Вот та самая скала, возвышающаяся возле входа и рассекающая в прилив волны! Но точно такая же скала стоит перед соседней пещерой. Мэнги вырос, и все пропорции и размеры стали восприниматься по-иному. Мог ли он, как прежде, свернуться калачиком? Или лежать, уставившись вверх? Мэнги колебался, возвращался назад и снова, согнувшись в три погибели, пытался влезть в очередную щель. Время от времени он кричал: «Эге-гей! Эге-гей!» — и, напрягая слух, внимал эху, пытаясь уловить вибрацию стен. Ему хотелось завопить: «Это я, Жоэль... Я здесь! Отзовись!» Он продвигался все дальше и дальше. Морские дафнии облепили его икры. Но ведь не могла его пещера испариться, где-то она существует? Не приснилась же она ему? Мэнги присел на каменный выступ, обхватил голову руками и закрыл глаза. И тут же увидел свою пещеру. Она была совсем рядом. Он ощущал ее прохладу, видел ручейки, пересекавшие пещеру, следы своих босых ног, песок, прилипший к лодыжкам, словно крупинки золота. И морской прилив, оставлявший на камнях грязные брызги. Он почувствовал себя тем малышом Мэнги, чистым и подававшим такие большие надежды. Но пещера и мальчик исчезли. Стоит ли продолжать поиски? Мэнги поднялся, еще раз огляделся. Ему вспомнились картинки-загадки из старого журнала. Там были нарисованы поля, деревья, где-то среди них прятался жандарм, его-то и следовало обнаружить. Обычно его профиль бывал замаскирован в ветвях. Так и пещера находилась совсем рядом, затерянная среди обломков скал. «Может, сам остров не хочет принять меня», — подумал Мэнги. Его хлестнули по щеке первые капли косого дождя. Море почернело. Мэнги натянул дождевик и бросился под дождь, ища у него защиты. Он побежал к поселку и остановился только у гостиницы. Хромой хозяин читал газету. — Ну и погодка! — заметил он. — Кружечку сидра? Он явно не упускал случая выпить. — Не сейчас, — бросил Мэнги. Он поднялся в свою комнату, уселся в колченогое кресло. Вся мебель в доме хромала, подобно своему хозяину. Там, далеко, Хильда, наверное, сбилась с ног, разыскивая его. Но она, должно быть, уже поняла, что он больше не вернется. В гневе она становилась бешеной. Она, верно, думает, что он сбежал с другой. Бедняжка Хильда! Она решила бы, что он сошел с ума, если бы только узнала, где он. Мэнги протянул руку — он слишком устал, чтобы встать, — и взял саксофон. Вынул из чехла, поднес инструмент к губам и исполнил в быстром темпе гамму. Дойдя до последней ноты, сыграл нежное тремоло[9]. Мэнги нравился скорбный голос саксофона, как будто созданный для выражения всех чувств и мыслей, которые Хильда называла «манией». Он привык импровизировать, и у него тут же сложилась тягучая печальная мелодия, рассказывающая о его потерянном острове. Возможно, он хотел с ее помощью приручить остров, очаровать его. Дождь струился по оконному стеклу. Мэнги захлебывался тоской и отчаянием. Возможно, он заблуждается насчет острова. Его собственный остров уже давно поглотила морская пучина, как Ис[10]. Одно лишь страстное заклинание может его вернуть. Надо только вложить в игру всю страсть, и тогда остров поймет, что маленький Жоэль возвратился и пришел к нему на свидание. Мэнги швырнул саксофон на кровать. Какая чепуха! Он превращается в идиота, впадает в детство. Мэнги схватил плащ и быстро спустился. — Вы красиво играли, — сказал хозяин. — Что это было? — Моцарт, — прорычал Мэнги и снова устремился под дождь. Их дом стоял в конце улицы. Сад, скрытый невысокой каменной стеной, раскинулся позади дома. Его легко было узнать. И к тому же это был его дом, он мог там жить. Мэнги нашел его без труда. Дом сохранился, как ему показалось, в хорошем состоянии. Дверь была закрыта, но ключ, безусловно, хранился у дядюшки. Мэнги обошел его кругом и обнаружил, что за садом ухаживают, и довольно тщательно, совсем как в те времена, когда еще была жива его мать. Мэнги так поразил этот сад, как бы бросивший вызов времени, что он, потрясенный, застыл на месте. Аккуратные, четко обозначенные грядки. Свежевыкрашенный сарай весело сверкал зеленым глянцем. Он дотронулся до стены. То здесь, то там поблескивали зерна гранита, как будто стена инкрустирована драгоценными камнями. То, что он видел перед собой, было абсолютно материальным, реальным. Остров впервые улыбнулся ему. «И все это благодаря моей музыке», — подумал Мэнги. Теперь ему нравилась роль волшебника. И раз уж сад сохранил свой прежний облик, то, конечно, и внутри дома ничего не должно перемениться. Ему внезапно захотелось как можно скорее попасть в дом и обосноваться там. Надо побыстрее заполучить ключи. Несмотря на объяснение священника, Мэнги пребывал в нерешительности. Окрестные дома походили друг на друга: оштукатуренные стены, узкие окна, закругленные сверху двери. Мэнги вспомнил, что, когда был маленьким, он переходил улицу, чтобы попасть к одному из дядюшек. Только вот к кому из них? К Фердинанду или Гийому? Шел ли он прямо или наискосок? Ну, кончено же, он может у кого-нибудь спросить. Но ему почему-то не хотелось этого делать. Он пока оставался чужаком. К тому же это было глупо, ведь ответ хранился в его пока еще неразбуженной памяти. Дождь прекратился, внезапно выглянуло солнце, и на каменистую дорожку легла его длинная тень. Один из дядюшек жил напротив или почти напротив, а другой — немного дальше. Дверь отворилась. Голос произнес: — Иди поиграй и постарайся не извозиться! На пороге дома напротив появилась маленькая девочка. Мэнги боялся пошевелиться. О Господи! Эта малышка!.. Она чудесным образом явилась из его прошлого. Ей было пять или шесть лет, блондиночка. Светлые кудряшки, спускающиеся на лоб... черные шерстяные чулки... маленькие сабо... Да это же Мари! И как в свое время малыш Жоэль, взрослый Жоэль был очарован. Он любил эту девочку, как любят в этом возрасте, всем сердцем. Необыкновенно дороживший всеми своими игрушками, он готов был отдать ей все. И если Мэнги плакал, когда отец увозил его с собой, так это только из-за нее. Как же он мог ее позабыть? Он стал слишком развращенным. Девчушка что-то напевала, Мэнги узнал мелодию: «Мой милый жаворонок...» И все-таки, все-таки... Совершенно очевидно, что это не та Мари. Той девочке Мари должно быть сейчас лет тридцать. Священник сказал: «За ним ухаживает Мари». Значит, это и есть дом его дядюшки. Настоящая Мари, девочка из его детства, ведет у него хозяйство. Мэнги ощутил острое разочарование. Он чувствовал себя обманутым, одураченным. Его дед, застывший в бронзе, малышка, появившаяся подобно видению из прошлого, — все это не то. Только небо да океан не обманывали его. Мэнги тихо окликнул девочку: — Мари. Она подошла, подпрыгивая на одной ножке. Мэнги увидел светлые глаза, воспоминание о которых так ранило его, и, не удержавшись, коснулся кудрявой головки. — Я бы хотел поговорить с твоей мамой, — пробормотал он. Девочка боязливо смотрела на него. Возможно, она спрашивала себя, почему этот господин так странно разговаривает с ней. Она побежала назад в дом. Сходство все-таки было необыкновенным. Но теперь уже множество иных образов, наплывая, теснилось в его голове. Стоя перед полуоткрытой дверью, он узнавал запахи: запах дров, горящих в большом камине, где обычно готовили еду, запахи рыбы... На столе всегда лежали или лобан, или окунь, или огромный краб, шевеливший в пустоте клешнями. Мэнги пытался раздразнить краба, дотрагиваясь до его клешней то обгоревшей спичкой, то клочком бумаги. Дверь налево вела в комнату, которой никогда не пользовались. Мэнги представил себе деревенскую мебель, отполированную до такой степени, что она сверкала, будто была сделана из какого-то ценного дерева. Из общей комнаты можно было пройти прямо в сад. В глубине его находился колодец. — Что вам угодно? Он не слышал, как она подошла, и от неожиданности невнятно забормотал, как человек, едва очнувшийся ото сна. — Я Жоэль Мэнги... Я пришел навестить дядюшку... Перед ним стояла грузная простоволосая женщина. Она вытерла руки уголком грязного передника. Его Мари... Ему хотелось плакать. Но и Мари, в свою очередь, не отрываясь, смотрела на его исхудалое лицо бегающими глазами. — Жоэль... Жоэль Мэнги... — Входите... Входи. Она не знала, как себя держать с ним, что говорить. — Я пойду его предупрежу, — произнесла Мари. — Он очень болен. Она направилась к лестнице, а Мэнги прошелся по комнате, сопровождаемый внимательным взглядом неподвижно стоящей белокурой девчушки. Камин не топили, на столе не было никакой рыбы. А вот сувениры из Канады по-прежнему висели на стенах: топоры, снегоступы, фотографии, запечатлевшие реки, озера, громадные деревья, деревянные домики и на их фоне людей, закутанных в шубы, в шапках, надвинутых до бровей, и поэтому смахивавших на неведомых зверей. Возвратившись на родину, дядя многое изменил в старом доме, и это вполне естественно. Так почему же он упрямо готов объявить все, что изменилось, неверным и фальшивым? Мэнги обернулся, услышав скрип ступенек. Это чувство оказалось сильнее его. Спускавшаяся по лестнице женщина просто не могла быть маленькой белокурой девочкой из его детства. Он не хочет этого. Он не может ей этого позволить. — Дядя ждет вас, — произнесла она. — Для него было потрясением узнать о вашем приезде. Помолчав, она заговорила снова: — Я не узнала бы тебя. Ты бы хоть сначала написал, а то свалился вот так, как снег на голову. Нескладная, взволнованная, она ждала. Возможно, ему следовало ее поцеловать. — Это твоя дочка? — спросил он. — Да... Ее зовут Мари... Иди поиграй. Малышка убежала, и волшебство исчезло. — Я хотел бы заодно забрать ключ, — почти со злостью произнес Мэнги. Она взяла связку ключей с полки над камином и, сняв один из них, протянула ему. — С тех пор как умер мой муж, — объяснила она, — я помогаю по хозяйству, убираю церковь — в общем, кручусь. А что поделаешь! Твой дядя разрешил мне ухаживать за садом. Ты не против, если я и дальше буду поддерживать там порядок? — Ну, конечно нет. И в моем доме тоже. Он поднялся по узкой лесенке. Толстую веревку, служившей перилами, хорошо знали его руки. Дядя Фердинанд лежал на широкой кровати орехового дерева. У Мэнги сжалось сердце, он как будто увидел своего отца за несколько недель до смерти. Дядя протянул ему руку, похожую на куриную лапку. Мэнги пожал ее. — Вот видишь, — сказал Фердинанд, — и ты вернулся. Все в конце концов возвращаются. Кроме твоего несчастного отца. Я узнал о его смерти от одного местного парня, механика с «Капитана Пливье». Говорят, вы жили как бродяги. — В общем-то, нет, — ответил Мэнги. — Но когда у моего отца появлялись деньги, он их тут же проматывал, что верно, то верно! — А ты? — Я? Что ж, я стал музыкантом, играю в оркестре. — Бедный малыш! — пробормотал старик. — Разве это жизнь? — Да, это не жизнь. — Так что же ты собираешься делать? Не рассчитывай найти здесь работу. Да ты и сам это хорошо понимаешь. — Я еще не думал об этом, — сказал Мэнги. — Даже если ты продашь дом, много за него не выручишь. А я, к несчастью, ничего тебе не могу оставить. — Можно найти себе занятие и на материке. — При условии, что ты поедешь далеко. — В Рен, Брест? — Бесполезно. Бретань умерла. Ты что, газет не читаешь? Обессилев, Фердинанд прикрыл глаза. Мэнги быстро огляделся, заметил часы, стоящие рядом с окном, и сразу узнал их. Высокий, узкий футляр напоминал гроб, поставленный на попа. Когда он был маленьким, эти часы наводили на него страх. К тому же ему не нравился их слишком мрачный бой, который, казалось, никогда не кончится. Из своей постели старик мог видеть движение стрелок, отсчитывавших его последние часы. — Никому из нас не выпала удача, — произнес Фердинанд с закрытыми глазами. — И твоему отцу, который надеялся разбогатеть... И мне, оставившему на материке свое здоровье... Гийому, который умер от удара... Ему еще, можно сказать, повезло. Он увяз по уши в долгах. И в общем, всем, кто имел несчастье здесь родиться. Их удел — убожество и нищета. Мари отдала тебе ключ? Это хорошо, что она здесь. Мари — воплощенная преданность. Но Мэнги уже не слушал его. То, что привлекло его внимание, оказалось для него совершенно неожиданным и выглядело чрезвычайно странно. Собачий хвост. Он виднелся из-под занавески, отгородившей угол комнаты, оборудованный под туалет. Фердинанд открыл глаза и понял, чем вызвано удивление его племянника. — А, это... это Финет... Когда Мари метет пол, она убирает Финет, чтобы не пылить на нее. Будь добр, верни ее на обычное место: на подушку рядом с постелью. Мэнги отодвинул занавеску и увидел собачку, лежавшую на подушке. — Не бойся, не укусит, — сказал Фердинанд. — Она набита соломой. Финет... Ну конечно! Вот и еще одно воспоминание, вернувшееся из тьмы забвения. Как же он ее когда-то дразнил! Тому, кто сделал это чучело, удалось создать видимость жизни. Песик лежал, вытянувшись и положив морду на лапы, но в его стеклянных глазах не отражалось ни малейшей искры дружелюбия. Мэнги почти с отвращением взялся за подушку. Это набитое соломой чучело немного пугало его. Или скорее... Нет, все это слишком сложно... Это похоже на какую-то жестокую игру, правила которой ему неизвестны. Существуют две Финет: одна — в его воспоминаниях, другая — у него перед глазами. Два несовпадающих образа. И это еще не все. Есть нечто неуловимое, трудно определимое, что ему никак не удается выразить. Он положил подушку у постели. Рука дяди нащупала голову собаки, потрепала ее и замерла. — Я тебя скверно принимаю, — сказал дядя. — Но вино мне противопоказано. Так считает священник. Не курю и почти ничего не ем. Я здорово поизносился, пора мне на свалку. В той стороне, где стояли часы, раздался звук, напоминавший икоту, затем послышалось шипение, и часы начали медленно отбивать одиннадцать часов. Мэнги слушал. Тренированное ухо музыканта не могло его подвести. Теперь это был совсем иной звук. Отрывистый, резкий, лишенный вибрации, он не плыл медленно вдоль стен, как это было прежде. Мэнги отворил дверь, выходившую на лестницу. — Ты уже уходишь? — спросил Фердинанд. — Нет, мне послышался чей-то голос. Мэнги вернулся и снова сел, ожидая второго удара. Вот он раздался и зазвучал уже более торжественно, а его тембр стал ниже. Благодаря открытой двери, звук обрел свободу движения. И все-таки он так и не достиг прежней широты. Создавалось впечатление, что звук утратил то пространство, по которому он некогда свободно разливался. Почему Мэнги постоянно ощущает пропасть между его воспоминаниями и настоящим, как будто оно не является естественным продолжением прошлого? Он блуждает между двумя островами. Тот, что Мэнги когда-то покинул, был живым, а этот, который он обрел, — мертв. — Мари может для тебя готовить, — сказал дядя. — Нет. Я буду столоваться в гостинице. — Что ж, пожалуй, так веселей. Одинокий человек повсюду таскает за собой свои беды. — Я еще зайду, — вяло произнес Мэнги. — Устроюсь только, огляжусь... Он пожал дяде руку. — Осторожнее, — сказал тот. — Не наступи на Финет. Мэнги быстро спустился. Он спешил выбраться на волю, как будто спасался бегством... Ему казалось, что с тех пор, как он приехал на остров, прошло уже несколько недель, и ему захотелось броситься в порт и там дождаться ближайшего корабля. Он пересек улицу, открыл дверь своего дома и остановился на пороге. Стоит ли входить? Что его там ждет? Но ему тут же попался на глаза трехмачтовый корабль, который сделал еще его дед. Мэнги провел немало часов, рассматривая этот чудесный парусник. В нерешительности Мэнги сделал несколько шагов, подобно пугливому зверю, который понемногу начинает приручаться. Так, от одной неожиданности к другой он продвигался по своему прошлому, будто прыгал на одной ноге.
Это была уменьшенная модель корабля, выполненная с потрясающей тщательностью. Изящные линии корпуса, гордо устремленные вверх мачты создавали впечатление, что корабль действительно плывет, а не застыл неподвижно на спусковых салазках из красного дерева. Мэнги не осмелился прикоснуться к нему. Он мысленно поднялся на корабль, прошелся по палубе, переходя от одного борта к другому, склонился над форштевнем, украшенным бюстом женщины с обнаженной грудью, затем вернулся вместе с вахтенным на правый борт, чтобы спустить паруса. Мэнги быстро отдавал приказы в рупор. Штормило и время от времени волной накрывало палубу. «Убрать фок! Поднять грот-брамсель!» Господи! Эти забытые слова переносили его в другой мир, открывая перед ним бескрайние океанские дали. Комната исчезла. Мэнги снова было пять лет. Он только что поднялся на борт трехмачтового черно-белого судна. Он уже отправился в Австралию. Он был одновременно и юнгой, и капитаном. Он карабкался по вантам, и он же отдавал команды. Слезы выступили у него на глазах. Что ж, это был всего-навсего маленький кораблик, покрытый слоем пыли, игрушка, которая могла поместиться у него на ладонях. На клипере Мэнги с трудом различил название: «Мари-Галант». Мэнги присел рядом. Одна «Мари-Галант» уже с лихвой оправдывала его поездку. И тут он совершил то, что не осмеливался сделать раньше, когда был жив дед. Мэнги взял парусник и поставил его себе на колени. Он слегка подул на реи, тонкие, словно птичьи косточки, на хрупкие, похожие на паутинки, снасти. Кончиком платка он протер корпус, штурвал и фигурку на носу корабля. И все это время Мэнги словно слышал голос матери: «Не трогай корабль! Если бы твой дедушка это увидел!..» Все они мертвы и не могут ему ничего запретить. Парусник теперь принадлежал только ему, но это случилось слишком поздно. Он поставил «Мари-Галант» на прежнее место — на толстый альбом, обтянутый бархатом, потертым во многих местах. От всего исходил запах плесени. Печально вздохнув, он пошел открывать окна, чтобы изгнать из домапризраки прошлого. Священник сказал правду. Дом имел жилой вид. Мэнги неторопливо, обошел весь дом, стараясь не пропустить ни единой мелочи, которая могла бы напомнить ему детство. Мебель не вызвала у него никаких эмоций, она не много для него значила. Это была старинная бретонская мебель, почти без украшений, но в хорошем состоянии. Если бы возникла такая необходимость, она могла бы, вероятно, заинтересовать антиквара. Лестница, ведущая в спальни, гораздо больше напоминала Мэнги. Он очень часто там играл. Было забавно бросать сверху шарики и слушать, как они с громким стуком скатываются со ступеньки на ступеньку. Картины же вызвали у Мэнги прилив воспоминаний. Они принадлежали кисти его отца. На них наивно и неумело были нарисованы лодка, лежавшая на боку, соцветия утесника, слишком голубая макрель на чересчур белой скатерти. Художник попробовал себя и в портрете. На одном из них маленький Мэнги, одетый в черную блузу, держал руку на голове Финет. Его отец с большим вниманием относился к мельчайшим деталям. Можно было даже сосчитать цветочки на башмачках и черные пятнышки на морде пса. Мэнги шутки ради подсчитал, что там было три больших и пять маленьких пятнышек. Поскольку его бедный отец умел держать кисть в руках, он считал себя художником. К тому же он сочинял сентиментальные, патриотические песенки и, когда напивался, величал себя бардом. Мэнги всегда стыдился отца. Поначалу потому, что был его сыном, а потом — потому, что стал подозревать, что ничем не отличается от отца. Мэнги часто называли странным. Но в чем же его странность? Случалось, Хильда, постучав ему кончиком пальца по лбу, говорила: «Вот откуда все твои беды, мой миленький!» Мэнги бродил по собственному дому, вдыхал аромат печали, смешавшийся с запахом затхлости. Где же все-таки ему поселиться? В гостинице? Здесь? Где ему будет лучше? Не жалеет ли он о Гамбурге, о клиентах в бумажных колпаках, чудовищной усталости, наваливавшейся на него по утрам. Наверное, именно в этом и состояло сходство между ним и отцом. Им всегда хотелось туда, где их нет. Он даже не стал закрывать дверь. Что, собственно, ему там прятать или беречь? С юга налетел сильный ветер. Он принес с собой на остров нежное тепло Испании. Мэнги, сделав крюк, снова зашел на кладбище и опять оказался у той самой могилы. Голова Девы Марии была повернута направо. Ладно, пусть так! Мэнги направился в гостиницу, но не удержался, чтобы не взглянуть еще раз на своего деда. И тот снова повторил ему: «Убирайся!..» Что же, он уедет. Но, в конце концов, он имеет право на отпуск. Никто не смеет ему приказывать. Он всегда подчинялся чужой воле, постоянно уступал. С этим покончено. Возможно, он и уедет, но только тогда, когда сочтет нужным. Все замолчали, когда вошел Мэнги. Там сидели несколько рыбаков, показавшиеся необъятными в своих желтых клеенчатых плащах, и священник — маленький, морщинистый. Священник представил его: — Жоэль Мэнги. Да, это его внук... Он хочет пожить какое-то время на острове. Рукопожатия, кружки, сидр. Нужно крепко выпить, чтобы влиться в компанию. Но, несмотря на горячее желание, Мэнги не мог почувствовать себя одним из них. Его не интересовали ни цены на рыбу, ни проекты благоустройства небольшого порта, ни способы добиться процветания острова. Когда говорил священник, остальные его слушали, как будто он произносил проповедь во время мессы. Мэнги кивал, делал вид, что согласен с ним. Он уже выпил целую кружку и чувствовал себя не в своей тарелке, Мэнги испытал облегчение, когда рыбаки ушли. Остался только один. Он сел напротив Мэнги. — Еще по кружке! — крикнул он. Он облокотился о стол. Вся его поза выражала сердечное радушие. У него было обветренное лицо, напоминающее фигурку, что вырезают на головке трубки. — Так, значит, это был ваш дед, — произнес он. — Святой человек. Он испил свою чашу до дна и не дрогнул. Я был его заместителем, когда все случилось. Священник, присоединившись к ним, пояснил: — Сейчас Пирио — наш мэр. — Хотелось бы мне, чтобы это было не так, — продолжал Пирио. — С этими новыми законами работать стало невозможно. К счастью, наш священник всегда готов прийти на помощь. Вы уже видели дядю? — Я только что от него. Он совсем плох. — Ему крышка, — сказал Пирио. — Его просто нельзя теперь узнать. Для вас это большая потеря. Ведь с его смертью у вас не останется никого из родни. — Вы правы. — Да, вам здесь будет невесело. Ваше здоровье! Он выпил залпом свою кружку. Мэнги лишь слегка смочил губы. — Вы, конечно, рассчитываете продать дом? — снова заговорил Пирио. — Что ж, это наилучший выход. Нам нужно будет расселить инженеров. Ваш дом требует ремонта, но за него в том виде, каков он есть, вы сможете получить изрядный куш. — Мэнги только что приехал, — вмешался священник. — Дайте ему отдышаться. — Да, — сказал Мэнги, — я должен передохнуть. У меня пока нет никаких планов. Мне нужно немного оглядеться. Пирио протянул ему руку и поднялся. — Если я не отлучился по делу, то меня всегда можно найти в мэрии. Заходите, если возникнет желание. — Пирио — грубоватый малый, но человек он честный, — сказал священник, когда мэр ушел. — И вам не стоит пренебрегать его предложением. — Как я посмотрю, здесь чересчур много говорят о моих делах, — ответил Мэнги. — Пока что я не намерен ничего продавать. Он выпил совсем немного, но пришел в крайне злобное состояние. Он предпочел оборвать разговор на полуслове и тоже поднялся. — Когда я приму решение, — произнес он, — вы узнаете об этом первым. Если я правильно понял, Пирио здесь — не хозяин. Мэнги в бешенстве поднялся к себе. Он не позволит выставить себя. Оказывается, за его спиной плетутся заговоры. Продать дом! Об этой не может быть и речи. Он сохранит его им назло. Остров принадлежит не только Пирио, не только всем прочим, но и Мэнги тоже. «Я даже не могу выпить кружку сидра», — с грустью подумал Мэнги. Он сел на кровать. У него слегка кружилась голова. Он дорого платит за пьянство отца. Надо бы спуститься и принести извинения священнику, но он слишком устал. Мэнги растянулся на кровати и непонятно, по какой причине, вдруг вспомнил о Финет. Он внезапно понял, почему так встревожился. Это была совсем не та собака. Иначе он сразу узнал бы ее. Алкоголь обострил его чувства. С невероятной четкостью он представил себе прежнюю Финет. Что он только с ней не вытворял! Однажды Мэнги держал ее за лапы над колодцем. Бедное животное извивалось и скулило, обезумев от страха. Вдруг кто-то подошел... Мэнги даже не помнит кто... но зато он никогда не забудет тех пощечин, которые тот ему влепил. Безусловно, это не Финет. В конце концов, ведь все нетрудно проверить. Но даже если это и Финет... Мысли его путались. Не в силах сформулировать причины своего беспокойства, он словно шел на ощупь. Например, могила явно была той самой, и все-таки... А часы? Почему у него создалось впечатление, что это совсем другие часы, хотя он безошибочно узнал их высокий футляр из темного дуба и маятник, чей бесцветный диск качался из стороны в сторону, словно мертвое солнце. Ему впервые пришла в голову мысль, что он, вероятно, страдает одним из тех странных недугов, которые нельзя излечить, задавая бесконечные вопросы о детстве, навязчивых идеях, сексуальных фантазиях. Живя с отцом, он вел странную жизнь, и это, возможно, объясняло все. Он ходил вместе с отцом на причал, когда тот помогал разгружать огромные корабли. Он сидел рядом с ним в те убогие вечера, когда несчастный отец играл куплеты Ботреля на аккордеоне, одолженном у друга, чтобы заработать на ужин... Следуя маленькой тенью по пятам за большой, спотыкающейся тенью, он видел темные и грязные улицы разных городов, девок, пьяных матросов, облавы. Стоит ли удивляться тому, что в его бедной голове что-то разладилось? Можно ли считать нормальным внезапное дикое, неутолимое желание вернуться? Как будто через четверть века могло сохраниться нетронутым все то, что он успел позабыть, о чем сохранились лишь разрозненные впечатления, а часть воспоминаний, подобно обломкам кораблекрушения, поглотило забвение. И некому довериться. Гийом умер, Фердинанд на смертном одре. Да и он превратился почти в иностранца, прожив двадцать пять лет в Канаде. Свидетелей не осталось. С врачами же он погодит. Священник станет ему толковать о Боге. Но он не нуждается в Боге! Он хочет знать только одно: настоящая ли это Финет... Забавно! Он все-таки решил поесть и проглотил без всякого аппетита несколько сардин и кусок трески. Затем отнес в дом чемодан и саксофон. Переезд не занял много времени. Он захватил с собой лишь немного белья и концертный костюм. Он не мог толком понять, почему в последний момент сунул его в чемодан. Мари постелила ему постель, наполнила бак и кувшин водой. И вот он наконец дома. Но радости он не испытал. Он надеялся, что дом поведает ему тысячи интимных подробностей. Но дом безмолвствовал. Он затопил камин, дрова Мари приготовила заранее. Может быть, огонь?.. Нет. Огонь потрескивал, мерцал, но был бессилен осветить тропинки, ведущие в его прошлое. Один только кораблик, устремивший в сторону окна свой острый нос, угрюмо жил, словно птица в клетке, мечтающая о свободе. Мэнги захотелось сказать ему: «А вот я, как видишь, свободен...» Он вышел. Белокурая малышка играла в классики. Она подошла к нему и, поднявшись на цыпочки, подставила лоб. Но с ней дело обстояло так же, как и с Финет. Это была другая Мари. Мэнги на ходу потрепал ее по щеке. Он решил отправиться на долгую прогулку в надежде, что она принесет ту здоровую усталость, что способна уничтожить миражи. Через заросли утесника Мэнги двинулся на север. С этой стороны тянулись защищенные от ветра пляжи, где можно было сладко подремать в каком-нибудь углублении в скале. Увы, эта часть острова была обнесена проволочной оградой. Под навесом, покрытым гофрированным железом, хранились различные строительные материалы, детали башенного крана, там же стоял грузовик, принадлежащий одному из предприятий Кемпера. Это была строительная площадка. Летом здесь закипит работа. Остров перестал быть прежним. И вот тому доказательство... Вероятно, через два-три года здесь возведут виллы, построят причалы для яхт. Его детство умрет во второй раз. Пирио прав. И священник прав. Они все правы. Ему остается только продать дом, вернуться в Гамбург, смириться и жениться на Хильде. Он станет хозяином заведения. И когда шум, крики и споры с Хильдой утомят его, то будет ходить в порт, чтобы проводить в дальний путь нефтяные танкеры, похожие на плавучий остров. Он повернул назад. Южный ветер хлестал его по лицу, обжигал горло. На глазах у Мэнги выступали слезы. Когда-то именно этот ветер так волновал его. А теперь он опустошил Мэнги. Вернуться домой? Чтобы бродить по комнатам в бесполезных поисках? Уж лучше отправиться к дяде. И порасспросить его, сохраняя равнодушный вид. Фердинанд, казалось, очень обрадовался, когда снова увидел племянника. — Уже? — спросил дядя. — Ну что, немного прогулялся? Финет лежала на подушке. Мэнги посчитал пятнышки: три больших и пять маленьких... Точно, как на картине. Это была та самая собака... И снова возникла неотвязная мысль: та, да не та... Может, это все из-за подушки, из-за ужасающей неподвижности стеклянных глаз... Мэнги заговорил о Канаде. И дядю уже нельзя было остановить, а Мэнги оставалось только слушать его, размышляя о своем. Когда-то Финет вот так же дремала у ног хозяина... на старом коврике с красными цветами... Но были то цветы или... скорее красные пятна? Собака время от времени приоткрывала глаза, наблюдая за движениями малыша... И комната отражалась в ее выпуклых зрачках. Можно было различить во всех подробностях крошечное, но аккуратное окно, узкие стекла, занавески, все, и даже обои по обеим сторонам от окна. И там, около окна, не было часов... «Я грежу, — подумал Мэнги. — Это просто фантазия. Как я могу все это помнить?» — Только воспоминания и помогают мне выжить, — сказал дядя. — Кстати, о воспоминаниях, — начал Мэнги. — Мне припоминается, здесь, у кровати, лежал коврик с красными пятнами. — Совершенно верно! Вот это память!.. Коврик побила моль, и пришлось его выбросить. Они еще поболтали. Фердинанд поинтересовался, как Мэнги устроился, хорошо ли Мари ведет его хозяйство. Он узнал от священника о предложении, которое Мэнги сделал мэр, и похвалил племянника за то, что тот не уступил сразу. — Тебе уже все известно? — удивился Мэнги. — Священник часто заходит ко мне на чашечку кофе. Он прекрасный человек. Прямой и честный. — Я не очень-то люблю, когда лезут в мои дела. — Это потому, что ты городской. Здесь люди так бедны, что все здесь у нас общее: и море, и земля. Мари сочла вполне естественным, что я разрешил ей ухаживать за садом. Случись так, что ты вернулся бы уже после моей смерти, твой дом был бы уже занят. Здесь не могут себе позволить, чтобы добро пропадало. Дядя покачал головой, подыскивая слова. — Видишь ли, — продолжал он. — Я должен кое-что тебе сказать... Если бы вдруг ты решил остаться здесь, не имея никакого занятия... стал жить как рантье... ты, один из Мэнги... в то время как остальные трудятся в поте лица... ну... все тогда отвернулись бы от тебя. — Не волнуйся, — сказал Мэнги, — я все понял. Спасибо за совет. Он чувствовал это с самого начала: остров не хочет его принять. Он его отторгает, о чем ни Пирио, ни дядюшка, ни священник, никто даже не подозревают. Он попрощался с Фердинандом и еще раз взглянул на собаку. На лестнице Мэнги чуть было не сел на ступеньки, чтобы снова попытаться все для себя понять. Возможно, что он сам неосознанно создал из обрывков воспоминаний и картин детства волшебный образ острова, бережно и тайно хранимое сокровище, которое помогало ему сносить тяготы неудавшейся жизни. Ему достаточно было вспомнить о его пещере, о играх с маленькой Мари... Но все это оказалось мечтой, игрой воображения, дуновением ветра. И все-таки еще оставался трехмачтовый корабль... отцовские картины, Финет... Случай с колодцем. Все это не выдумано... По крайней мере, существовало когда-то... Он прошел через гостиную, бесшумно отворил дверь и вышел в сад. Колодец находился на месте, сверху донизу оплетенный плющом и окруженный разросшимися кустами жимолости. Мэнги поднял плоский камешек. Он знал заранее, что именно услышит... Он успеет досчитать до девяти или даже до десяти... а затем шумное эхо откликнется на всплеск от упавшего в воду камня. Он не осмелился перегнуться Через край колодца, настолько живы были в его памяти прежние запреты. Отступив назад, он бросил камень. Ударившись два-три раза о стенки колодца, камень вошел в воду. Он едва успел сосчитать до трех. Он стремительно подошел к колодцу, наклонился... Вода находилась совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. В ней отразилось его взволнованное лицо, облака. И все-таки это тот самый колодец. Может быть, он спутал его с каким-то другим? Этот колодец не единственный. Точно такой же есть и у дядюшки Гийома. Рядом с каждым домом есть колодец. Может быть, следовало бы обойти весь поселок и, спросив разрешения, осмотреть все колодцы? Но если он зло подшутил над Финет не здесь, то где же это могло случиться? Задумавшись, он присел на край колодца. Может, играя, он слишком быстро считал до десяти?.. Но Мэнги хорошо помнил, как, затаив дыхание, долго ждал... А если камень не достигал дна? Если колодец, несмотря на свой внушающий доверие вид, на самом деле был пропастью? Мэнги испытывал невероятное облегчение, когда слышал глухое, как в пещере, эхо. Это-то он не придумал! А пощечины?.. Ни один лжец не станет сочинять столь неприятные для себя воспоминания. Каков же вывод? Лжет колодец, также как и часы, и могила... Есть ли хоть какой смысл в этих бредовых рассуждениях? Мэнги перешел улицу и оказался у себя дома. По крайней мере, он мог в это верить. Но Мэнги уже больше ни в чем не был уверен. Он растянулся на кровати. Едва затянувшаяся рана еще давала о себе знать. Он принялся размышлять о Гамбурге. А что, если его воспоминания об этом городе тоже целиком и полностью плод его фантазии? Существует ли на самом деле «Тампико»? Он представил себе Хильду в черном шелковом платье, ее ожерелья, украшения, ярко накрашенные губы, зеленые веки, серьги, которые слегка покачивались. Существовала ли она в реальности? А тот матрос-датчанин, который готов был все разнести только потому, что шампанское оказалось слишком дорогим? Однако нож, который матрос выхватил из кармана, был все-таки настоящий. Им стоило неимоверных усилий вышвырнуть матроса за дверь. Мэнги хорошо помнил, как Хильда завопила: «Кровь! Ты ранен!» Но если он вернется назад в Гамбург, то, возможно, напрасно станет искать «Тампико»! Такими же безрезультатными оказались поиски его пещеры. С тягостным чувством он взял саксофон. За окнами сгущались сумерки. Но он не нуждался в свете, чтобы играть. Как бы бросая вызов, он сыграл мелодии, которые обычно исполняют в кабаках. Он бросил вызов всем: мэру и священнику, дядюшке Фердинанду и его собаке, и колодцу, и старику на постаменте, упорно указывающему ему дорогу назад. У Мэнги горело лицо. Он ощутил лезвие ножа, пронзившее его бок. Он тяжело дышал, словно каторжник. Его ноги отбивали ритм, будто какой-то невидимый танцор вторил ему. Да так оно и было. Музыка не лгала. Где-то внутри его маленький серьезный мальчик со страхом смотрел на Мэнги. Наконец, обессилев, он перестал играть: что подумают соседи? В доме, погруженном в полную тьму, человек играет на таком громогласном инструменте, да еще столь сомнительные мелодии... Ну конечно, он совсем свихнулся! «Если бы я только мог сойти с ума! — подумал Мэнги. — Какое это было бы облегчение!» Высокое белое здание посреди деревьев. Сестры, врачи — все в белом. Он страстно жаждал этой белизны. Ему надо пройти курс лечения этой белизной, чтобы душа насытилась ею. Он возродится! Он отправится в Киброн. Мэнги узнает адрес этого старого доктора, о котором ему рассказывали... Оффрэ... У него есть кое-какие деньги. Не так много. Около пятидесяти тысяч франков. Он купит себе на эти пятьдесят тысяч покой и одиночество. Он будет в безопасности за высокими стенами. Пока Хильда его разыскивает — она, вероятно, уже весь Гамбург перевернула вверх дном, обзвонила всех, кого только можно, — он, вдали от мира, станет ясным и светлым. Грязь отступит вглубь. Тогда его пропустят через фильтр, и он, очистившись, возвратится к жизни свободным и честным. И если он вернется на остров — но вернется ли он? — он сразу же найдет свою пещеру, могила окажется прежней, и колодец, и все остальное. Вот... Он наконец все понял. И завтра... Мэнги заснул и проснулся на рассвете, потому что забыл закрыть ставни. Он вскочил, готовый защищаться, но в комнате никого не было. Ничего, кроме хмурого утра, осветившего окружавшую его обстановку, которую он теперь совершенно не узнавал. Он еле ворочал языком, как будто накануне перебрал лишнего. Мэнги выпил залпом большой стакан воды и убрал саксофон в футляр. Безделье постепенно начинало его тяготить. Он спустился, толкнул дверь, ведущую в сад. Ветер стих, на небе еще кое-где виднелись звезды. Из порта отчаливал корабль. Воздух облеплял лицо, словно влажное полотно. Он продрог и вернулся в дом. В это время он обычно ложился спать и теперь не знал, что ему делать с наступившим днем, который для него начался так рано. Помыться, побриться? Для кого? Для чего? Ему захотелось выпить чашку кофе. Но чтобы сварить здесь чашку кофе, надо переставить столько вещей... Сначала найти мельницу, если она еще существует... Позаботилась ли Мари о сахаре? Проще отправиться в гостиницу. Мэнги зевнул, потянулся и застонал. Эту чертову рану по-прежнему дергало, как нарыв. Он взглянул на свой портрет с собакой. Три больших пятнышка и пять маленьких. Вновь заработали орудия пыток. Повернувшись спиной к картине, он увидел трехмачтовый корабль... Но что это! Вместо того чтобы плыть в сторону окна, парусник, казалось, направлялся к стене. Что это значит? Кто трогал корабль? На этот раз речь шла не о воспоминаниях детства, но о совсем свежих впечатлениях. Или «Мари-Галант» сдалась, как он, и изменила курс, поскольку путеводный свет маяка по-прежнему ускользал от нее? Мэнги собрал все силы, подобно игроку, который пытается сосредоточиться. Он мысленно повторял жест за жестом. Он видел, как осторожно поднимает корабль, ставит его к себе на колени, чтобы стереть пыль. До того момента вся цепочка последовательных событий прекрасно выстраивалась. А потом? Потом, когда он поставил корабль на место? Его жест был настолько естественным, спонтанным, что он совершенно не зафиксировал на нем внимание. Может быть, именно в этот момент он изменил положение корабля? Но это такая незначительная подробность! Извините! Для него, напротив, это имело колоссальное значение. Этот корабль создан для полета, чтобы слиться воедино с пространством, ветром и небом. И хотя он был совсем маленьким, Мэнги уже тогда глубоко прочувствовал это. Когда он играл с «Мари-Галант» — это случалось всегда, если он оставался один, — он осторожно ставил корабль, развернув его носом к окну, потому что знал, что тот живет и ждет своего часа. Иногда в хорошую погоду, прежде чем лечь спать, он открывал окно, чтобы помочь кораблю вырваться на свободу. Куда устремлялся он ночью? Утром его верный корабль вновь возвращался на свое место, быть может, слегка опьяневший от открывшихся ему горизонтов. Это стало их секретом, Мэнги и парусника. Дед, всегда такой суровый, проходил мимо, ни о чем не догадываясь. Никто из окружающих, казалось, даже не подозревал о таинственной жизни вещей. Все они были слишком стары, погружены в свои внутренние проблемы. Только Мэнги был посвящен в эту тайну. Вот почему он никогда не поставил бы парусник в угол носом к стене. Он мог быть рассеянным, но руки его знали свое дело. Они всегда действовали так, как нужно. Значит, кто-то приходил. Вероятно, вчера этот «кто-то» не поленился проследить за ним, когда он долго гулял. Некто проник в дом подобно вору... Но для чего? Чтобы взять парусник и перевернуть его. Вот к чему ведут подобные рассуждения. «Мэнги, старина, признайся, что ты болен. В течение двадцати лет в этот дом мог войти кто угодно. Ничего не взято. Никто ни к чему не прикасался. Здесь слишком боятся Бога! Стоило ждать твоего возвращения, чтобы переставить корабль, который только тебе одному и дорог». Полный абсурд! Он сам, не отдавая себе в этом отчета, повернул парусник. Другого объяснения просто быть не может. Врач объяснил бы ему, что он совершил символический жест: он наказал корабль, желая покарать самого себя. А бронзовый медальон на могильной плите — это тоже, чтобы наказать себя? Да, именно так. Все эти провалы памяти свидетельствуют о его жажде понести наказание. А если взглянуть шире, его ностальгия, неистребимая потребность вернуться на остров имеют ту же причину. «Необходимо уничтожить в себе отца, вырвав из памяти сами корни воспоминаний». Вот как объяснил бы ему врач. Мэнги не был невеждой. У него находилось время для чтения, несмотря на все его терзания. А сейчас у него появилось время для размышлений. Возможно, он просто день за днем медленно убивает себя, чтобы стереть в своем прошлом все то, что считает постыдным. Можно было принять это объяснение, но оно его не удовлетворяло. Никто, ни один врач, не сможет понять, что он просто был не способен пожелать зла паруснику. Но выбирать поневоле проходится только из двух возможных вариантов. Или он сам повернул парусник, или кто-то побывал у него в доме... Маленькая Мари!.. Ну конечно! Она, вероятно, привыкла везде ходить вместе с матерью. Она не могла не обратить внимания на этот чудесный корабль. И вот, пока мать не видит, Мари берет корабль. Она ведь даже и не подозревает, что сделает корабль несчастным, если повернет его к окну кормой. Наконец все разъяснилось. Тем не менее Мэнги с нетерпением ждал, когда Мари придет делать уборку, чтобы расспросить ее. В ожидании Мари он внимательно обошел дом, как если бы сам был покупателем, ведь предложение мэра его заинтересовало гораздо больше, чем он сам себе в этом признавался. Несмотря на то что он абсолютно в этом не разбирался, Мэнги не мог не заметить, что многое в доме требовало немедленного ремонта. Ставни на окнах, обращенных к морю, находились в плачевном состоянии. Крыша доброго слова не стоила. В двух комнатах протекал потолок. Снаружи начала отслаиваться штукатурка на стенах. Поскольку средств на ремонт у него не было, ему придется продать дом по очень низкой цене, если все-таки он когда-нибудь на это решится. Пусть так! Он всегда был нищим, им и останется. Это предназначение всех Мэнги! Какое-то время он надеялся, что поселится неподалеку от острова и сохранит этот дом. Он дал себе слово приезжать сюда как можно чаще. Он без конца строил фантастические проекты, совсем как его отец. Сколько раз он слышал от отца, что они вот-вот разбогатеют. А на другой день им приходилось занимать деньги. Он прошел через сад, на ходу прикинув его размеры. Участок был не слишком велик. В целом речь могла идти приблизительно о миллионе старых франков. В лучшем случае о двух миллионах. Неплохо выручить и такую сумму. В конце сада он увидел калитку. Дерево разбухло от сырости, и, открыв калитку, Мэнги уже не смог ее затворить. От нее вела тропинка, которая обрывалась у скал. Еще одно воспоминание. Мэнги пошел по этой узенькой тропке. Море было совсем рядом. Сад раскинулся на высоте двенадцати метров над морем. Начался прилив. Волны разбивались о нагромождение каменных глыб. Это место могло бы привлечь парижан, если бы остров был приспособлен для туризма. Похоже, Пирио в это верит. В этом случае Мэнги смог бы выручить еще больше... миллиона три. «За три миллиона, — подумал Мэнги, — я продам». Его привело в возбуждение само слово «миллион». Он попытался перевести эту сумму в марки, чтобы лучше понять ее значительность. Он не привык иметь дело с франками. И когда он подсчитал, то понял, что сможет купить «мерседес», телевизор, несколько костюмов... Он вернулся в дом. У него разыгралось воображение. Мари подметала гостиную. — А малышку ты не взяла с собой? — Нет, — ответила Мари. — У нее небольшое недомогание. Она слишком быстро растет. — Послушай... ведь вчера... Она приходила сюда... Я ее видел вчера утром. — Да. Я уложила Мари перед обедом. Священник сказал, что нет ничего серьезного. — Но когда ты возвратилась, ее с тобой не было? — Нет. Она уже легла. А что? — Да нет, ничего. А ты не трогала корабль, когда стирала пыль с мебели? — Корабль?.. Ты думаешь, у меня есть время на такие пустяки? Но тогда, тогда... Он готов был биться головой о стену. — Тебе приготовить что-нибудь поесть? — Нет, не беспокойся. — Мне это совсем не сложно. — Никто сюда не входил вчера, кроме тебя?.. Ты в этом уверена? — Никто. Зачем сюда кому-то приходить?.. Ты действительно очень странный. — Я странный? И кто же это так говорит? — Твой дядя... священник... все. Кажется, ты играл вчера вечером? — А что, я не имею права играть, если мне этого хочется? — Да нет, но... — Но что? — Не сердись, Жоэль. Говорят, ты играл, как на танцах в Киброне. Рокоэ, твои соседи, даже вышли тебя послушать. — За мной уже шпионят? — Да нет же... Только все удивлены. И потом, я думаю, лучше, если это больше не повторится. Ты понимаешь, людям утром на работу. И как только стемнеет, все быстро ложатся спать. — А на тебя возложили миссию мне это передать! — воскликнул Мэнги. — Так передай им, что я у себя дома и буду играть тогда, когда захочу, и не собираюсь ни у кого спрашивать на это разрешение. Он схватил свой плащ и выскочил из дому. Покоя! Покоя! Куда пойти, где спрятаться, чтобы обрести покой? Как будто у него и без этого мало проблем! Пройдя через весь поселок, он оказался у причала. Корабль, который привез его сюда, стоял там. На него грузили пустые ящики. Он поднялся по сходням. Двигатель работал на малых оборотах. В каюте сидели три женщины, и Мэнги инстинктивно понял, что они говорят о нем. Он прислонился спиной к перегородке, она вибрировала в такт работающему мотору. Что он станет делать в Киброне? Сначала он окунется в толпу, в городской шум. Затем поговорит с доктором, попросит у него совета и получит какое-нибудь чудодейственное средство, которое наконец избавит его от навязчивых идей. Со своего места он видел памятник деду, который указывал на материк. Да, он всегда был мальчишкой, готовым тут же подчиниться. В сущности, его дед не так уж не прав. Он так и остался мальчишкой. «Если о тебе не позаботиться, во что ты превратишься?» — говорила Хильда, которая знала его лучше, чем кто-либо. Настоящий мужчина занялся бы серьезным делом, хорошо бы зарабатывал, обзавелся бы домом, стал бы хозяином своего будущего. Он таких перевидал немало, людей, преуспевших в жизни, когда они заходили в их заведение, чтобы провести ночь с девочками... Взревела сирена, берег медленно удалялся. Остров был таким маленьким, что очень скоро совсем скрылся из виду. К Мэнги подошел матрос, убиравший швартовы, с сумкой на ремне и с пачкой билетов в руке. — В котором часу мы прибываем? — спросил Мэнги, ища мелочь. — В шесть часов, если не испортится погода. Однако я опасаюсь, как бы мы не застряли. Полнолуние, да еще прилив. Поживем, увидим. — Вы знаете доктора Оффрэ? — Еще бы мне его не знать! Его все знают. — Где он живет? — Рядом с вокзалом. Но я слышал, что он болен. Семьдесят пять лет, сами понимаете. Семьдесят пять лет! Безусловно, этот доктор в разное время лечил всех Мэнги. Он, должно быть, лучше любого другого поймет недуг последнего из них. Надо будет все ему рассказать, как другу, перед которым не стыдно унизиться. Мэнги провожал взглядом рыбацкие лодки, мимо которых они проплывали. Время от времени кто-нибудь из рыбаков махал рукой или же корабль давал короткие приветственные гудки. Если бы у него существовал хоть один близкий друг, которому можно все рассказать, он, без сомнения, сумел бы не наделать многих глупостей. Но он жил в окружении врагов, людей, в любой момент готовых поиздеваться над ним. Когда он напивался, то становился для них козлом отпущения из-за внезапных приступов дурного настроения, неврастении, вспышек гнева. И ни минуты передышки. А вот старый доктор, тот даже не улыбнется. Может быть, он не слишком учен, но Мэнги вовсе не стремится попасть в руки талантливого медика. Он нуждался прежде всего в человеческой теплоте. Если бы священник не оказался на стороне его врагов, он пошел бы сначала к нему. К несчастью, священник был совестью острова. В сущности, он воплощал собой остров, суровый, враждебный к чужакам, ожесточенный, своей яростной верой. Бессмысленно даже и пытаться открыть ему душу, можно только сдаться, просить прощения... прощения за то, что он не такой, как все остальные. Лучше сдохнуть!.. Показалась земля. Мэнги вдруг заметил, что уехал, даже не побрившись. Подбородок был колючим. Он произведет на доктора плохое впечатление. Мэнги встал у того борта, где должны были установить сходни. Он торопился поскорее сойти. Длинный мол становился все ближе, позади него виднелись сверкающие на солнце крыши, шпиль колокольни. Пахло городом, и Мэнги с немного мучительным наслаждением вдыхал его ядовитые ароматы. Ему никогда не излечиться от этой болезни: он отравлен раз и навсегда. Сойдя с корабля, Мэнги сразу же отправился в бистро и заказал кофе. Внезапно он почувствовал себя лучше. Он смотрел на проезжающие мимо грузовики, прислушивался к знакомым звукам. В бистро стоял запах вина и перегара. В глубине зала виднелась небольшая эстрада. Летом там, вероятно, танцевали под аккордеон. Остров остался далеко. Мэнги заказал еще кофе. Он походил на птицу, которая расправляет взъерошенные после дождя перья. Когда он вышел, то уже не так сильно хотел увидеть доктора Оффрэ. Но, в конце концов, нужно идти до конца. Вокзальная площадь находилась в двух шагах. Перейдя через нее, Мэнги справился у прохожего. Тот ответил: — Вот тот угловой дом, рядом с которым стоит черная машина. Это была машина похоронного бюро. Рабочие драпировали дверь черной тканью. — Кто-то умер? — спросил Мэнги. Собеседник с любопытством взглянул на него: — Но... Доктор Оффрэ... позавчера... от сердечного приступа. Первый друг. Последний друг. Теперь Мэнги должен выпутываться сам. Он вынужден был прислониться к стене. Затем медленно пошел обратно. С чего это он вбил себе в голову, что кто-то может ему помочь? Все его оттолкнули. Доктор Оффрэ нарочно умер в самый важный момент. Есть нечто предумышленное в его смерти. Все подстроено нарочно. И с парусником, и с колодцем, и... К счастью, Мэнги знал путь к спасению. Он вернулся на набережную, нашел бистро, столь гостеприимно принявшее его, и заказал коньяк. Он предпочел бы что-нибудь покрепче, например одну из тех северных водок, что прошибают до слез. Коньяк показался ему сладковатым, чересчур густым, но действие его не замедлило сказаться. У Мэнги возникло ощущение, что свет стал менее резким. Солнце побледнело, как во время солнечного затмения. Каждый звук воспринимался отдельно, не смешиваясь с остальными, он свободно перемещался, приобретая рельефность и необыкновенную выразительность. Чайки кричали еще пронзительнее. Еще резче скрежетали металлические блоки. Корабли, качаясь на волнах, сталкивались бортами, и звуки ударов казались еще глуше. Значит, доктор Оффрэ отправился на тот свет. Вот так-то! И все потому, что он догадался, что Мэнги придет к нему посоветоваться. Значит, есть такие вопросы, на которые доктор не хотел отвечать. Кому теперь Мэнги мог бы их задать? Кому, ради всего святого?! Да и о чем он стал бы спрашивать? Мэнги щелкнул пальцами: — Повторить! Если он вернется пьяным, определенно произойдет скандал. Хозяин гостиницы отправится за мэром. Мэр позовет кюре. Кюре соберет весь приход. И все вместе, выстроившись в процессию, пойдут и сбросят его в море. А его дед опустит наконец руку, указывающую на материк. Он везде не ко двору, повсюду лишний... Вот несчастье! Ну конечно же, он сможет вернуться в Гамбург. Забиться в свою конуру. Но тогда ему сроду не избавиться от Хильды. Она станет с утра до вечера терзать его вопросами: «С кем это ты сбежал? Где ты ее спрятал, эту девку?.. Сказала бы я ей пару ласковых... Как ее зовут? Где ты ее встретил? Чем это она лучше меня?» Мэнги ударил кулаком по столу. Подбежала официантка. — Желаете еще? — Нет... Счет! Он заплатил, пока еще у него были силы остановиться. У него дрожали и руки и ноги. Он весь обливался потом и начал мерзнуть. Надо немного пройтись, и ему станет лучше. Главное сейчас для него — это уйти подальше от соблазнов, иначе все плохо кончится. Отчаяние отступило, и жизнь уже казалась Мэнги вполне сносной, словно боль, притупленная морфием. Ему было знакомо до мельчайших подробностей это состояние превращения в бесформенную массу, наподобие медузы, когда не осознаешь, где начинается и кончается твоя плоть. Он слонялся по улицам, на мгновение остановился у рынка, привлеченный запахом рыбы. Там стоял оглушающий шум. Наступило время торгов. Кололи лед. Повсюду виднелись следы крови. Мужчины в высоких сапогах, клеенчатых плащах размахивали ножами, крючьями. Они выкрикивали цифры, словно ругательства. Запах рыбы был таким сильным, что Мэнги чуть не стошнило. Он проскользнул между двумя грузовиками. И тут увидел ее. Да, это была она. Ее белый плащ, перетянутый в талии, на голове зеленый шарф. Это она. — Осторожно! — крикнул ему кто-то и чертыхнулся. Мэнги попятился. Хильда здесь! Он осторожно вытянул шею, но ничего не увидел. Должно быть, в последнее время он слишком много о ней думал. И теперь уже готов видеть ее повсюду. Когда Мэнги заметил светлый силуэт, он словно получил удар в живот. Напрасно он пытался связать концы с концами. Но он должен немедленно получить доказательства того, что Хильды просто не может быть в Киброне. Во-первых, как она могла догадаться, что он уехал навсегда? Он не взял с собой почти никаких вещей. — Осторожнее! Выйдите отсюда! Он пошел по проходу между рядами ящиков с тунцом. Черные блестящие рыбины были уложены в них вертикально и напоминали снаряды... Почти ничего с собой не взял... Ну конечно, ничего не взял. Первое, что ей должно было прийти в голову, что он не мог уехать далеко, и она, наверное, потратила целый день, чтобы обзвонить всех, кого только можно... Но как только в ней проснется ревность, она догадается обо всем. Вот где таится опасность. Она сказала что-нибудь вроде: «Он думает, что чересчур хитер. Мне совершенно ясно, что он увез эту шлюху на свой остров...» Напряженный, подозрительный взгляд Мэнги метался по толпе, толкавшей его со всех сторон. Белый плащ. К счастью, его легко заметить. Что она еще сказала? Что он смеется над ней вместе со своей потаскухой. Она никому не позволит морочить себе голову... и выцарапает ей глаза... Все это он уже слышал сотни раз. Господи, сколько же они ссорились! Как только наступало пять часов, у нее начиналось нечто, столь похожее на приступ малярии. И ничто не могло этому помешать. Несколько раз она распахивала настежь входную дверь. «Давай уходи, проваливай отсюда... Убирайся на свой остров, ты ведь так по нему скучаешь. Бездельник!» Однажды он дал ей пощечину. Он вспомнил, как потом в гардеробной взглянул на себя в зеркало. У него был совершенно озверевший взгляд. «Оставь в покое остров... Ты этого не поймешь никогда!» В тот раз они находились на волосок от трагедии. Мэнги понемногу успокаивался. Всего-навсего еще одна галлюцинация. Хильда никогда не смогла бы так быстро принять решение. «Тампико» приносил ей немалый доход, и чем больше она зарабатывала, тем сильнее это разжигало ее аппетиты. Она сто раз подумала бы, прежде чем закрыть свое заведение хоть на пару дней. Мэнги вышел с рынка и вернулся в центр города. Нет! Хильда не может быть в Киброне. Он зашел в кафе, чтобы выпить кружку пива. Его мучила жажда. Хильды здесь нет, и тем не менее она здесь. Надо искать ее, обшарить, перевернуть весь город. Мэнги не сможет вернуться на остров, пока не убедится. Есть такое место, где он непременно найдет ее: на той самой улице, на которой было полно лавочек, универсальных магазинов, торгующих летом сувенирами. Он начал обходить магазины по обеим сторонам улицы, поднимался на цыпочки, стараясь поверх уложенных товаров разглядеть находившихся внутри покупателей. Затем он отправился на вокзал, прошелся несколько раз мимо окна справочного бюро. Приближался час обеда, Мэнги бродил вокруг отелей, ресторанов. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилась его уверенность. Он торопливо проглотил какую-то еду в закусочной, затем, чтобы согреться, заказал у стойки один за другим два кофе. Погода портилась. Ветер был таким влажным, что лицо становилось мокрым. Мэнги сделал еще один, на этот раз последний круг по городу. Дождь застал его на улице Верден. Он укрылся в магазине, торговавшем дешевыми товарами. И вот тут он ее и увидел. Напрасно Мэнги все время был настороже, он даже не узнал ее поначалу, поскольку в это время года все женщины носили плащи. Его насторожила манера покачивать бедрами. Мэнги выскочил на порог. Где же она?.. Он добежал до перекрестка, но только потерял время, отыскивая взглядом зеленую чалму. Прохожие надели на головы пластиковые капюшоны. Они торопливо шли, прижимаясь к стенам и заслоняя друг друга. Он остановился посреди перекрестка, и какой-то шофер обругал его. Но на этот раз он уже был уверен, что ему не привиделось. Он слишком хорошо знал фигуру Хильды. Теперь сама его плоть вопила: «Это она!» — словно пес, рвавшийся вдогонку своему хозяину. Но дождь уже смыл все следы Хильды. Мэнги снова ее потерял. Он слишком устал, чтобы продолжать преследование. Если она оказалась здесь, то только для того, чтобы переправиться на остров. Значит, она сядет на корабль. Почему самые простые мысли приходят в последнюю очередь? И конечно же, он ее там встретит. Они начнут ссориться прямо на корабле. Что подумает священник о девице с ярко накрашенным ртом и слишком дерзким взглядом? Мэнги необходимо собрать все свое мужество. Он укрылся в том самом бистро, где был утром, и проглотил две рюмки коньяку. Понемногу мысли его затуманились, но одно было очевидно: он сопротивлялся, сопротивлялся изо всех сил. Хильда не должна и шагу ступить на его остров. Иначе все, чем он так дорожит, будет осквернено. Мэнги вспомнил деда и чуть было не попросил его о помощи, он, который готов был дать себя убить, лишь бы избежать этого. «Я ничтожный человек, — повторял себе Мэнги, — но я честен, честен так же, как и они». Но тут же называл себя лжецом, потому что чувствовал, как все больше пьянеет, как пьяный дурман накрывает его черной волной. У острова есть все основания отречься от него. Но если ему удастся помешать Хильде сойти на берег, может быть, все станет как прежде. Он найдет наконец свою пещеру. И тогда прошлое воссоединится с настоящим, чтобы изменить его. Надо оторвать от себя Хильду. Швырнуть в море. И увидеть затем, как она уйдет на дно, подобно мертвому спруту. Со стороны порта до него донесся длинный гудок. — Если вы хотите успеть на корабль, — сказала официантка, — вам следует поторопиться. Ну вот уже пора! Мэнги поднялся. Несмотря на неуверенные движения, его переполняли силы и неистовство. Он бросил мелочь на стол и побрел в порт, подставив лицо дождю. Отличная погода для моряка. Все Мэнги были моряками. На набережной тротуар покачивался, словно корабельная палуба. В добрый час! Поднять фок! Поднять все паруса! И никаких женщин! Сирена взревела во второй раз. «Ну вот я и добрался, — сказал себе Мэнги. — Напрасно она станет прятаться, ей не ускользнуть от меня». Слегка покачиваясь, он поднялся по трапу и огляделся. Никого! Как будто он единственный пассажир. Каюта была пуста. На палубе стояли ящики, лежали тюки — все, как обычно. Последний гудок раздался так близко, что Мэнги даже споткнулся и ухватился за лебедку. «Хильда!.. Где ты?..» Крик так и не сорвался с его губ, а застрял где-то внутри. Мэнги пристал к человеку, продававшему билеты: — Где она?.. Женщина в белом плаще... Ну, вы же знаете... Хильда... Где она? — Послушай, старина, — сказал мужчина. — Что ты несешь?.. И не стоит здесь оставаться. Сейчас начнется качка. Он помог Мэнги спуститься в каюту. После первого толчка море впереди вспенилось, веером разлетелись брызги. Мэнги приник к иллюминаторам. Брызги летели во все стороны и, странно завихряясь, напоминали неведомые светлые силуэты. Может быть, это Хильда? Она бродит вокруг него. Она способна на все. Он чувствовал себя все хуже. С трудом справившись с дверью, он выбрался на палубу. Его стошнило. Худшее миновало. Голова прояснилась. Раз Хильды нет на корабле, значит, он попросту ошибся. Он все придумал. Хильда в Гамбурге. Он больше ничего не значил для нее. Но из-за этого он плакатьне станет. Он смеется над всем этим, над своей любовью. Он вытянулся на банкетке, хотя из-за качки рисковал каждую минуту свалиться на пол, и наконец заснул. Иногда сознание возвращалось к нему... «Никто меня не любит... Никто... Что я такого сделал?..» Кто-то потряс его за плечо. — Эй, морячок... мы прибыли. Мэнги, оглушенный, с блуждающим взглядом, вышел на палубу. Его тошнило. Белая полная луна освещала порт. В лунном свете поблескивал памятник его деду.
Вместо того чтобы пересечь поселок напрямик, Мэнги сделал крюк через пляж. Он не хотел, чтобы его видели. Он сам себе был противен. Даже лунный свет казался ему слишком резким. Вокруг него простирался остров, сохранивший первозданную дикость и чистоту, дарованную ему Господом при сотворении мира. Ему нечего здесь делать. И нет ему здесь места. Он уедет ближайшим пароходом. Но куда?.. Не важно, главное — уехать! Иначе он не сможет никому посмотреть в глаза. Обойдя сад Рокоэ, он увидел свой дом. Это из-за Хильды он должен бросить его. Когда он ее увидел, он уже знал, что встретился с бедой. Теперь никакие заклинания священника не изгонят из него бесов. Она держит его в своей власти, преследует даже в воспоминаниях. Если он останется, вместе с ним поселятся на острове его неудачи. Рыба перестанет ловиться, а люди начнут болеть. Малышка Мари уже слегла. Самое время паковать вещички... И куда это запропастился ключ? Наконец Мэнги вошел, долго искал выключатель. Он так и не приручил свой дом. Первым делом Мэнги взглянул на парусник. Он стоял на прежнем месте и все так же был повернут носом к окну. Придется и с парусником распрощаться. Надо расстаться абсолютно со всем, с самой жизнью. Мэнги распахнул дверь в сад, чтобы впустить свежий воздух. Он чувствовал себя отвратительно и поднялся, чтобы умыться. Затем он небрежно побросал белье в чемодан. Когда придет Мари, она обнаружит, что дом снова опустел. И все разговоры о нем скоро прекратятся. Он услышал стук в дверь, ведущую на улицу. Несмотря на все предосторожности, кто-то все-таки его видел, что весьма некстати, и зашел узнать новости. Он спустился. Снова раздался стук... — Кто там? Никакого ответа. Рассвирепев, Мэнги распахнул дверь и попятился. Она стояла на пороге, язвительно улыбающаяся, самоуверенная. — Не ждал?.. Можно войти? Хильда закрыла за собой двери. — Я могу посмотреть дом? Она медленно прошлась по комнате, открывая шкафы, качая головой. — Для гнездышка влюбленных могло быть и получше. Хильда начала подниматься по лестнице. — Она прячется наверху, не правда ли? Мэнги застыл на месте и не произносил ни слова. Он не понимал: то ли это рокот моря, то ли ярость клокочет у него в груди. На первом этаже скрипел паркет. Она заглянула в каждый угол. Может быть, она вооружена? Хильда снова появилась перед ним. Она улыбалась. — Я вижу, твой чемодан уже собран. Хотел удрать... Тем хуже. Ты вернешься вместе со мной... Да ты не рад мне, Жоэль! Твоя малышка Хильда совершила такое долгое путешествие, чтобы тебя найти! Она села на стул. Мэнги заметил у нее в глазах опасный блеск, который так хорошо знал. — Ты ничего мне не предложишь? Я очень устала... Еще бы — примчаться на рыбацкой лодке с идиотским названием «Верую в Господа»... Мне сказали, что парохода больше не будет. У Мэнги так пересохло в горле, что ему пришлось откашляться, прежде чем заговорить. — Ты пошла в гостиницу? — У меня не было выбора... Но вряд ли это можно назвать гостиницей... — Ты им сказала, кто ты такая? — Конечно. Что мне скрывать?.. Этот отвратительный хромой с трудом записал мое имя... Как будто он впервые видит приезжего. — Ты говорила с ним обо мне? — Тебя это смущает, да?.. Я у него спросила, где ты живешь... А потом подождала, пока кончится дождь. Ну и местечко!.. Если ты любезно позволишь, я переночую здесь, а завтра мы оба уедем. — Нет. — Ах вот как!.. Мсье не желает покидать свою милашку... А ведь в саду-то я и не посмотрела. Хильда встала и подошла к двери, ведущей в сад. — Она, верно, там и подслушивает нас. Встав на пороге, Хильда закричала: — Ого-го!.. Это я, Хильда... Иди сюда, моя цыпочка, мы с тобой потолкуем. Мэнги схватил ее за руку. — Да замолчишь ты, наконец, или нет? — Если захочу! Мэнги отшвырнул ее на середину комнаты. — Ну и ну! — сказала Хильда. — Я не имею права пойти в твой сад. Надо будет там поискать. Мэнги попытался преградить ей дорогу. Но она ловко ускользнула от него и устремилась к двери. — Иди сюда, шлюха подзаборная! — заорала она. Мэнги обхватил Хильду сзади и закрыл ей рот рукой. — Да заткнись же ты, Господи! Там соседи! Она укусила его. Он отпустил ее, и она побежала в глубь сада. — Покажись, шлюха! Мэнги, обезумев, окинул взглядом комнату и, заметив кочергу, схватил ее. Это должно было случиться!.. Это должно было случиться!.. С поднятой рукой он кубарем спустился по ступенькам. Хильда поняла, что он хочет убить ее. Она искала выход и, увидев в конце сада открытую калитку, побежала по тропинке, затем повернула налево. Запыхавшись, Мэнги так и не сумел ее догнать. Он выпустил из рук кочергу. И все время повторял: «Только не туда... Только не туда...» Но Хильда уже не слышала его. Она бежала изо всех сил. А когда заметила у самых ног пропасть, было слишком поздно. Охваченный порывом, Мэнги остановился лишь в самый последний момент. Внизу шумело море, между скалами поднимались фонтаны брызг. Наконец ему удалось различить что-то белое, лежавшее в расщелине. Это была Хильда, мертвая. Она разбилась. Он почти лег на землю. Он сам боялся упасть. У него колотилось сердце, и каждый выдох со стоном вырывался из его груди. Зачем она приехала? Она, глупая, думала, что остров — такое же место, как любое другое. Она даже и не ощущала страха. Теперь Мэнги мог видеть лучше. Тело Хильды застряло между двумя обломками скал. Прилив никогда не доходил до этого места. Какой-нибудь ловец крабов, привлеченный криками чаек, обнаружит ее. Наживка на месте, теперь ловушке осталось только захлопнуться. Все неминуемо решат, что он ее убил. Рыбак, который ее привез на своей лодке «Верую в Господа», будет свидетелем. Хозяин гостиницы тоже. И соседи, которые наверняка слышали крики, также подтвердят. Ситуация выглядела слишком скверной, чтобы он мог надеяться выпутаться из нее. Мэнги прижался щекой к камню. А если ему самому броситься в пропасть? Не наступил ли для этого подходящий момент? Но он чувствовал себя абсолютно опустошенным и был не способен совершить еще одно усилие. Да Хильда и не заслуживала того, чтобы он из-за нее разбился. Мэнги встал на колени. Никогда еще он не становился свидетелем подобной феерии. Луна освещала море, прочерчивала на воде дорожку, которая терялась, едва достигнув пляжа. Лунные блики мелькали то здесь, то там на скалах, их отсвет ложился на белый плащ, призывая в свидетели саму природу. — Прости, — сказал Мэнги, — прости! Он поднялся на ноги, и ему захотелось спрятаться. Он укроется в доме. И там подождет жандармов. Он медленно пошел назад. Его тень ползла за ним, она была не больше того Мэнги, бросавшего камни в волшебный колодец и укрывавшегося в пещере, которая сегодня исчезла. В невысокой траве Мэнги обнаружил кочергу и подобрал ее. С ее помощью он закрыл садовую калитку. Войдя в дом, он запер все замки. Он пытался заслониться от света, от глаз острова. Оставшись один, он лег. Если бы он догнал ее, то ударил бы? Нет. Он мог поклясться, что нет. Он бросил кочергу и кричал, пытаясь предупредить Хильду. В душе он был невиновен. Но на самом деле им и нужен невинный человек. В древние времена, когда островитяне собирались вокруг своего капища, они всегда приносили в жертву невинного. Он, вероятно, как раз из породы жертв. Мэнги увидел себя в наручниках, вот он проходит между двумя шеренгами рыбаков, которые кричат: «Смерть чужаку!» Он начал бредить, пытаясь больше не думать о Хильде. Под утро, сам не зная почему, Мэнги решился пойти и во всем признаться, чтобы доказать, что не боится их. Он расскажет им все: о Гамбурге, о «Тампико»... Ну нет! Зачем бесполезно унижаться? Он скажет им правду, даже не пытаясь оправдываться. Это существенно для приговора. Но, в конце концов, что это может изменить? В шесть часов Мэнги встал, вымылся, тщательно побрился. Он открыл ставни, и руки сразу стали влажными от холодного моросящего дождя. Погода изменилась. Но на этот раз она полностью соответствовала его мыслям. Он накинул плащ и отправился в мэрию. Пирио следует предупредить первым. Мэр еще не вставал. Когда он появился, волосы у него торчали в разные стороны, а из-под закатанных рукавов виднелась голубая татуировка. — Произошла ужасная история, — сказал Мэнги. Мэр пригласил его пройти в класс, и Мэнги узнал старые настенные карты, глобус, медные гири. Здесь ему будет труднее признаться. И тем не менее он начал рассказывать. Пирио тер себе бока, разглаживал щеки, проводил рукой по шее. Он слушал Мэнги с интересом, но к рассказу его отнесся скептически. — Вы уже говорили со священником? — спросил он. — Нет! Я хотел сначала предупредить вас. — Тогда идемте! Он взял толстый свитер и натянул его в присутствии Мэнги. — Я хотел бы верить вам, — начал он, — но все это так необычно... Они пересекли безлюдную площадь. У священника горел свет. Пирио вошел без стука. Священник завтракал в кухне, на коленях у него сидела кошка. — Извините, — произнес Пирио. — Но Мэнги рассказал мне такие вещи... Вы разберетесь в этом лучше меня... Давайте, Мэнги. Священник слушал, не переставая гладить кошку. Время от времени он обмакивал губы в кофе. Пирио взял стул и уселся на него верхом. Кухня с распятием над камином и белыми занавесками на окнах выглядела такой мирной и скромной, что рассказ Мэнги казался сказкой, и он начал путаться, излагая подробности. — Она, должно быть, испугалась... я не знаю... если бы она не побежала налево, с ней бы ничего не случилось... И вот теперь... она мертва. — Вы не спускались? — спросил священник. — Нет... Было недостаточно светло. — Мой бедный друг! — произнес священник. Он постарался сохранить хладнокровие, но так волновался, что посадил кошку на стол, рядом с чашкой. Он взял длинную накидку, висевшую за дверью. — Мы пойдем вместе с вами. Мэнги ожидал вопросов, упреков, бурной сцены. И был почти разочарован, не встретив враждебности, а наоборот — сочувствие, хотя и с примесью некоторого сомнения. Он собирался настаивать, клясться, что сказал правду, что ничего не придумал. Все вместе они вошли в дом. — Она была там, — объяснил Мэнги. — Она вообразила, что я прячу где-то женщину... Я не хотел, чтобы она кричала. Тогда она выскочила в сад. Они пересекли сад. Дождь приглушал все звуки, и Мэнги пришлось говорить громче. Накидка священника была покрыта каплями дождя, которые дрожали, когда он шел. — Задняя калитка была открыта... Она не колебалась. И повернула налево... Она бежала очень быстро. Они пошли по тропинке. Мэнги впереди, за ним священник, последним шел Пирио. Они остановились в метре от пропасти. — Она там, — прошептал Мэнги. Мэр наклонился. — Вы видите ее? — спросил священник. — Нет... Я ничего не вижу. Теперь подошел взглянуть и священник. После долгого молчания он обернулся. — Вы уверены, что это случилось здесь? — Абсолютно уверен. — Посмотрите сами. Мэнги вытянул шею. Он хорошо запомнил то место и сразу его узнал. Два обломка скалы, расщелина, но там никого не было. Ни там, ни вокруг... Ниже Мэнги увидел только чистую белую гальку... Ни единого подозрительного следа. Пляж, умытый приливом, был словно чистая страница. — Может, ты спустишься? — спросил священник Пирио. Мэр оказался проворным и ловким. В одно мгновение он достиг подножия скалы. — Нашел что-нибудь? — крикнул священник. — Ничего! Эхо повторило это слово несколько раз, и Мэнги вздрогнул. Священник взял его под руку и заставил отойти от края. — Послушайте, Мэнги... поймите меня правильно, не истолкуйте мои слова неверно. Вчера вечером, видите ли... откровенно говоря... все ли с вами было в порядке? Мне сказали, что вы плохо себя почувствовали на корабле... В конце концов, вы выпили... Я не упрекаю вас... Но иногда, если человек выпьет, он может вообразить себе невесть что. — Хотел бы я, чтобы это было так, — сказал Мэнги, — но другие ее тоже видели... Например, хозяин гостиницы. Он-то не был пьян. Пирио поднялся на тропинку. Он обвязал платком левую руку, оцарапанную о скалы. — Абсолютно ничего, — произнес он. — А что касается вашей женушки... Она случайно не приснилась вам? — Ничего не понимаю, — произнес Мэнги. — Она разбилась здесь, именно здесь. — Хорошо, только не сердитесь. Она упала здесь, но внизу ее нет. Можете быть в этом уверены. Мэнги пытался поверить в то, что ему все привиделось. Нет тела, нет доказательств. Но хозяин гостиницы может подтвердить. В любом случае с этим надо покончить немедленно. — Она сняла в гостинице комнату, — сказал он. — Там остался ее чемодан. — Что ж, — произнес Пирио, — это идея. Они отправились в гостиницу, на этот раз священник и мэр шли впереди. Они о чем-то тихо говорили. Чуть поодаль за ними следовал Мэнги. Единственно возможное объяснение выглядело чистейшим абсурдом. Упав с высоты десяти — пятнадцати метров, Хильда осталась невредима. Стараясь не двигаться, она немного подождала, затем, убедившись, что за ней никто больше не гонится, она отправилась в гостиницу... Или же, получив только легкие повреждения, она прячется где-то неподалеку. Возможно, Пирио был совсем рядом с ней. Опасаясь за свою жизнь, она не стала звать на помощь. В конце концов, это абсурдное объяснение — своего рода опора, перила, за которые можно ухватиться, когда мутится в голове. Если он сойдет с ума, этот кошмар кончится. Хозяин гостиницы открывал ставни. Он остановился, увидев троих мужчин. — Войдем, — предложил священник. — Что вам подать? — Мы пришли не для того, чтобы выпить. Вчера во второй половине дня к тебе заходила приезжая, одетая в белый плащ... Она приехала из Гамбурга... как и Мэнги... Да или нет? — Приезжая... ко мне?.. Вы шутите, господин кюре. — Она зарегистрировалась под именем... Хильды Бёш, — вмешался Мэнги. — Это очень легко проверить, — сказал строго священник. — Пойди и посмотри в своей регистрационной книге. — В моей книге... Вот так история! Он заковылял к стойке, вернулся с черной книгой и протянул ее священнику. Тот выбрал чистый стол и открыл книгу. Тотчас он ткнул пальцем в последнюю запись: — Мэнги... Взгляните сами. Мэнги встал и прочитал: — «Мэнги Жоэль, родился в...» Все трое посмотрели на Мэнги, и взгляд их был полон жалости. Можно позволить себе выпить, и даже сильно напиться, но только потом надо обрести человеческий облик. — Никто не приезжал, — сказал хозяин гостиницы. Мэнги сел и провел рукой по лицу. — Извините меня, — пробормотал он. — Я, вероятно... Я ничего не понимаю. Послушайте... Она приехала не на пароходе, ее привез рыбак. — Какой рыбак? — спросил Пирио. — Я не знаю, но мне известно название лодки: «Верую в Господа». Существует такая лодка? — Да, — ответил священник. — Она принадлежит Ланглуа. — Тогда, — сказал Мэнги, — мы могли бы его расспросить? К нему вернулась надежда. Если Ланглуа все подтвердит, он погиб. Но теперь он предпочитал, чтобы его обвинили, арестовали и осудили. Все лучше, чем этот сон наяву, эта нескончаемая душевная мука, от которой хочется утопиться. — Мы пойдем с вами, — сказал Пирио. Они отправились к Ланглуа. Лил дождь. На этот раз священник шел справа, а мэр слева от Мэнги, словно сестры милосердия, сопровождающие тяжелобольного. — Послушайте, господин кюре, — умоляюще произнес Мэнги. — Подумайте сами... Как я мог придумать такое название, как «Верую в Господа»?.. Если оно мне известно, так это потому, что мне об этом рассказали. Она мне об этом рассказала. — Обычно, — заметил мэр, — наши парни без особого желания берут на борт пассажиров. Только в случае крайней необходимости, и стоит это недешево. — Она, должно быть, предложила ему кучу денег. У нее их предостаточно. Ланглуа жили у порта. Там стояло несколько хибар. Священник позвал: — Аннет! В первой из них распахнулись ставни. Они увидели женщину, которая придерживала на груди полы халата. — Мы хотим переговорить с твоим мужем. — Его нет дома. — Где же он? — Да... где-то неподалеку от Бель-Иля, думаю. — И давно он уехал? — Два дня назад. Сегодня должен вернуться... Я могла бы передать ему ваше поручение. — Не надо. Спасибо. Ставни затворились. — Так я и думал, — произнес священник. — Ну, теперь вы убедились? Ланглуа не мог рыбачить около Бель-Иля и одновременно оказаться в порту Киброна. Пойдемте... Вам следует выпить чего-нибудь крепкого. На сей раз это вам пойдет на пользу. Мэнги был настолько ошеломлен, что позволил себя увести. Напиток был терпким и обжег ему все внутренности. Мэнги видел, как шевелят губами священник и мэр, но не слышал ничего, кроме неясных голосов. Священник положил ему руку на плечо и встряхнул его. — Мэнги!.. Очнитесь, Мэнги... Не следует принимать все так близко к сердцу... Наоборот, вы должны радоваться... Никто не умер. Вам следует лечь в постель, принять снотворное — у меня найдется в аптечке лекарство на этот случай, — а завтра мы все обдумаем... Возможно, я смогу вам кое-что предложить. Мэнги кивнул. Он не возражал. Он был на грани обморока. Он наблюдал за всем происходящим, и за собой в том числе, как бы со стороны, словно душа его отделилась от своей телесной оболочки. Его вели, поддерживали под руки, раздели, уложили в постель. Все происходило как на другом свете. Затем он впал в бесчувственное состояние, но каким-то таинственным образом знал, что он не один, что за ним наблюдают, время от времени ему щупают лоб, руки. Когда он открыл глаза, Пирио сидел рядом с ним. — Ну что, старина? По тому, как вы спали, можно было бы сказать, что вы здорово вкалываете. Вам лучше? — Думаю, что да. — Отлично. И никаких кошмаров? Мэнги взглянул на честное лицо Пирио. И этот наивный человек говорит о кошмарах? Что толку обсуждать это с ним? — Нет, — ответил он. — Значит, вы выздоровели. — И долго я спал? — Еще бы! Двое суток. Мэнги сел, спустил ноги на пол. — Вам помочь? — Нет, спасибо... Все в порядке. Вы можете оставить меня одного. Я справлюсь. Ему хотелось поскорее остаться одному, чтобы подумать. Он начал понимать, что произошло... Хильда не приезжала, это доказано. Но она приедет. Возможно, она уже в пути... И если он здесь останется, то убьет ее... Этот сон должен стать предупреждением ему. С ним это уже случалось два-три раза за последние годы, когда он получал предупреждения о грядущих ужасных событиях. Он пережил их во всех подробностях, прежде чем они произошли. Хильда приедет. Он убьет ее и сбросит ее тело к подножию скалы. В пережитом кошмаре его вина была скрыта. Имя исчезло из регистрационной книги, лодка Ланглуа находилась в открытом море. Все именно так, как должно быть! Он узнавал все эти бессознательные хитрости, обманы, порожденные слабой волей, которая не уставала создавать миражи. Внезапно Мэнги осознал простую истину: он хотел смерти Хильды. Тогда ему надо бежать, пока не стало слишком поздно, не важно куда, главное — как можно дальше. В любом другом месте ему не будет грозить опасность, исходящая от него самого, он сможет безболезненно мечтать. По крайней мере, на острове он понял, что можно творить реальность по собственному выбору. Пирио по-прежнему находился в комнате. Мэнги оделся. — Вы следите за мной или что? — спросил он. — Я? — сказал Пирио. — Отнюдь... Я только хотел сделать вам одно предложение, но не знаю, с чего начать... Муниципалитет намеревается оборудовать в вашем доме настоящую почту. Администрация выделила кредиты... Ну и... Мы купили бы у вас дом, немедленно... За десять миллионов. — Что? — Мы можем поднять цену до двенадцати. — Вы издеваетесь надо мной? — Этого мало? — Послушайте, Пирио... Я всего-навсего несчастный бродяга... Согласен... Но я ни от кого не приму подачки... ни от кого! Он пошел на мэра, и тот был вынужден отступить на лестницу. — Вы хотите избавиться от меня, не так ли?.. И не только вы. Все. Я вас стесняю... Всех вас... Вы боитесь меня... Вы сговорились между собой... Надо ему заплатить... Он не откажется от денег... Он не сможет себе этого позволить... И вы являетесь ко мне и предлагаете двенадцать миллионов за хибарку, которая вот-вот развалится. Вы считаете меня идиотом... — Мэнги, — начал Пирио, — я прошу вас... — Уходите, возвращайтесь в свою шайку. И скажите вашему священнику, что я уеду тогда, когда захочу. Я не из тех, кого можно выставить за дверь, откупившись, если их присутствие нежелательно. — Но... — Вон... Когда я уеду, вы можете забрать себе этот дом. Ноги моей здесь больше не будет. Мэнги с треском захлопнул дверь своей комнаты. Охваченный гневом, он продолжал говорить сам с собой. Он сейчас заплачет от умиления. Двенадцать миллионов! Почему не двадцать! Почему не тридцать! Если они решили оскорбить его, зачем останавливаться на полпути? Каждый миллион — это как камень, брошенный в сумасшедшего. Они побили его этими миллионами, словно камнями. Мэнги понял, что конец его кошмару еще не наступил.
Священник только дважды был у епископа. Он осторожно продвигался по паркетному полу просторных залов, тайком разглядывая суровые лица на портретах в золоченых рамах. Пахло ладаном. Царившая там тишина все больше подавляла его. Его страдания уступили место тоске, пока он, неловко ступая, следовал за юным аббатом. У аббата были тонкие черты лица и изящные жесты. У священника выступил пот на лбу, когда он входил в кабинет епископа. Епископ поднялся ему навстречу, протянув руки. — Господин кюре, ваш визит для меня неожиданность, но я рад вас видеть. — Монсеньор, — пробормотал священник. Он упал на колени, подобно кающемуся грешнику. — Ну-ну, мой друг... Садитесь в это кресло рядом со мной. Вы так взволнованы! Епископ был немного старше священника. Руки у него были словно восковые, а глаза поблекли от трудов и молитв. — Итак, что же вас ко мне привело? — О, монсеньор, это длинная история!.. Наш остров — это затерянный мир. — Я знаю, — сказал прелат. — И я часто упрекаю себя, что недостаточно помогаю вам. Вы предоставлены сами себе... — Я делаю все возможное, монсеньор. Но бывают моменты, когда я не знаю, правильно ли поступаю. — Я слушаю вас. — Так вот. Вы слышали о Жильдасе Мэнги, нашем прежнем мэре? Том самом, которого расстреляли в 44-м. Достойнейший человек. У него было трое сыновей: Фердинанд, Гийом и младший — Жан-Мари, который в семье считался «паршивой овцой»... Он женился. Жена его умерла в конце войны. Сам он уехал вместе с Фердинандом в Лондон, а потом вернулся за сыном. Жоэлю было тогда, вероятно, лет шесть-семь. Отец увез его с собой. Жан-Мари был неудачником. Его носило по белу свету, и умер он в нищете. Я даже не знаю, где именно. Что касается Жоэля, он пошел по стопам отца. Известно, что он сожительствовал с одной немкой в Гамбурге. В общем, ничтожный субъект. Епископ усмехнулся. Священник протестующе поднял руки. — Я не осуждаю, монсеньор. Что касается старших братьев... Гийом, не отличавшийся крепким здоровьем, никогда не покидал острова. Он зарабатывал на жизнь, так же как и все мы: ловил рыбу, выращивал овощи... Хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. Фердинанд долго мотался по миру, пока не осел в Канаде. Он был трудолюбив и умен... Короче, он сумел составить себе состояние... Подчеркиваю, монсеньор, я сказал: состояние. Сотни миллионов... которыми ему не удалось воспользоваться. У него сдало сердце, и врачи не скрывали от него положение вещей. Фердинанд решил умереть на острове. Он все продал и пол года назад вернулся к нам, имея в банке приличный счет, а жить ему при этом оставалось несколько недель. Я подхожу к важному моменту своего рассказа, монсеньор. Я забыл упомянуть, что, возвратившись, Фердинанд обнаружил, что его брат Гийом тоже тяжко болен. Рак... Гийом также был приговорен, с той лишь разницей, что ему оставалось жить чуть дольше. Итак, Фердинанд решил написать завещание. Он очень колебался, советовался с нами, с мэром и мною. Конечно, у него имелся наследник — Жоэль... Но что стал бы делать Жоэль с таким количеством денег? Без всякого сомнения, промотал бы. Это было тяжело сознавать, монсеньор. — Действительно! — Вы должны нас понять, монсеньор. Остров понемногу вымирает. Мы изолированы от всего мира. Пароход стоит дорого. Наши парни, которые ездят в Киброн продавать рыбу, выполняют разные поручения. Я принимаю роды, если врач не может приехать. Мы живем как дикари, это сущая правда. Он посмотрел на свои руки, изуродованные тяжелой работой, и показал их прелату. — Я даже не могу скрестить пальцы, чтобы помолиться! — Мой бедный друг, — сказал епископ, — может быть... — Никто этого не видит, — продолжал священник. — Никто... Кроме Господа... Так вот, я подсказал Фердинанду завещать все его огромное состояние острову. Гийом уже был не в счет... Что касается Жоэля, мы даже не знали, где его искать... А мы так нуждались в поддержке. С помощью этих денег мы могли построить на острове климатический курорт, так, кажется, это называется... привлечь людей и заставить власти заняться нами... Фердинанд разделял нашу точку зрения. На мне лежала ответственность за судьбы стольких людей, монсеньор! Я считал, что Господь захотел помочь нам выбраться из нужды. — И Фердинанд оставил завещание, — продолжил епископ. — Увы, монсеньор. Он умер прежде, чем подписал его. Это тоже было знамением, но я не понял его. Я написал нотариусу, попросив заехать к нам, так как Фердинанд никуда не выезжал. Ночью Фердинанд скончался. Но воля его была выражена совершенно определенно. Когда Фердинанд умирал, он повторил, как раз перед соборованием: «Я отдаю вам все... все...» Он очень настаивал. А воля покойного священна. — И как же вы собирались ее выполнить? — Вы сейчас узнаете, монсеньор. Мы с мэром пошли к Гийому и сказали ему: «Ты долго не протянешь. Не согласишься ли ты занять место своего брата? Ты совсем не выходишь, ни с кем не встречаешься. Нотариус не знает ни тебя, ни Фердинанда. Ты подпишешь завещание. Мари... девушка, которая ведет у тебя хозяйство... Мари абсолютно нам верна. Уж она-то нас не предаст. Никто нас не выдаст!» — Господин кюре!.. Возможно ли это? — Разумеется, монсеньор!.. Ведь Фердинанд сказал: «Я отдаю вам все!..» Итак, мы поместили Гийома в доме Фердинанда... Надо было только перейти улицу... а покойного перенесли к Гийому. Папаша Оффрэ, врач из Киброна, выдавал справки при оформлении актов гражданского состояния. Он хорошо знал Гийома, но ему было известно, как мы бедны, и к тому же он хорошо к нам относился. Оффрэ дал разрешение на погребение в соответствии с нашей договоренностью. И Фердинанда похоронили под именем Гийома... У нас хоронят без особых церемоний. Мы сами несем на плечах покойного до кладбища. Оставалась одна трудность: имя на могильной плите. Этим у нас занимается некий Пако, когда у него есть время, ведь он тоже должен рыбачить. Так вот, когда он узнавал, что кто-то долго не протянет... дело обычное... Пако заранее гравировал имя на могильной плите, чтобы не быть захваченным врасплох. Естественно, что он начал вырезать имя Фердинанда. Пришлось привезти из Киброна новый камень для изголовья, похожий на прежний. Пако сослался на разрушения после бури. Он снова вырезал имена дедушки и бабушки, Ивонны Мэнги и добавил имя Гийома. — Невероятно! — У нас не было выбора. Гийому нравилось у Фердинанда. Там были сувениры, привезенные его братом из Канады. Поначалу он чувствовал себя неловко в чужой обстановке. Он хотел, чтобы перевезли его мебель. Но это было невозможно, не так ли? В конце концов, мы перенесли кое-что из вещей Гийома... чучело его собаки Финет, которая прожила у него семнадцать лет... буфет... часы... разные вещицы. И стали ждать нотариуса, чтобы составить завещание. Мы были свидетелями, мэр и я... Заметьте, монсеньор, если бы Господь призвал к себе первым Гийома, все так и произошло бы... Если бы сегодня был жив Фердинанд, а не Гийом, не возникло бы такой проблемы. К несчастью... — Как, господин кюре, — воскликнул епископ, — уж не хотите ли вы сказать, что все раскрылось?! — Нет, монсеньор. Только... сын Мэнги... Жоэль... вернулся. Прелат воздел очи к небесам и произнес несколько слов на латыни, которые священник не понял. — Мы попали в затруднительное положение, — продолжал он. — С тех пор как я предупредил хозяина гостиницы... — Поскольку он тоже участвует в заговоре? — прервал его епископ. — В каком заговоре? — искренне удивился священник. — Мы всегда находили друг с другом общий язык. Я предупредил Гийома, чтобы он не проговорился, когда придет его племянник. Гийом вел себя правильно. Молодой человек ничего не заподозрил. Он был слишком мал, когда уехал с острова. Но, даже если бы и заметил что-то странное, узнал мебель, какие-то вещи, принадлежавшие Гийому, мы сказали бы ему, что они достались Фердинанду по наследству! Но, слава Богу, нам не пришлось лгать! — А в его собственном доме... разве не было семейных реликвий, которые могли вызвать у него подозрения? — Я вижу, ваше преосвященство, вы подумали обо всем, — с уважением произнес священник. — Да, там есть альбом со старыми семейными фотографиями, и мы совсем о нем забыли. Мы страшно перепугались. Я воспользовался отсутствием Мэнги, чтобы войти в его дом... — Как вор! Священник с достоинством выпрямился. — У нас, монсеньор, дома не запирают. Любой может войти, и его всегда примут. Альбом служил подставкой для модели парусника. По пыли я определил, что Мэнги еще в него не заглядывал. Я вынул те фотографии обоих братьев, которые были подписаны. Священник на мгновение умолк, заерзал. Он чувствовал себя все неувереннее. — Это все? — спросил епископ. — Увы, монсеньор... Я подхожу к самому трудному моменту своего рассказа. — Поистине, господин кюре, вас страшно слушать, — заметил сухо епископ. — Я всего-навсего несчастный человек, попавший в затруднительное положение!.. Два дня назад из Гамбурга приехала девица... этакая штучка, если ваше преосвященство понимает, что я имею в виду. Она настолько обворожила Ланглуа, что тот согласился перевезти ее на своей лодке... Она зашла к Ле Метейе в гостиницу. И немало порассказала ему... достаточно, чтобы Ле Метейе понял, что между ней и Мэнги... — Я понял. — Он, конечно, предупредил меня. Он был очень взволнован. Эта девица, ее звали Хильда, так вот, Хильда приготовила неприятный сюрприз для Мэнги. Ведь он ее бросил... — Господи! — Итак, вечером мэр и я отправились к дому Мэнги и решили понаблюдать. Днем он ездил в Киброн, напился там. Несчастный! Он был в таком состоянии!.. Явилась девица. Они поссорились. Все произошло так быстро, что мы не успели вмешаться. Он ей угрожал. Она побежала к скалам, упала... и разбилась насмерть. — Но, господин кюре... это уже дело полиции, как мне кажется. — Полиции! — воскликнул в ужасе священник. — Во-первых, мы никогда не имели с ней дело. Они станут повсюду совать свой нос. Нет, монсеньор. В конце концов, это только несчастный случай. В газетах полно сообщений о подобных происшествиях. Никто не будет из-за какого-то несчастного случая ставить под удар строительные работы. Ведь они так важны! Работы уже начались. А стоят они сотни миллионов. Мы не можем уже повернуть вспять. — Вы меня пугаете, господин кюре. Так вы... — Сначала я помолился, потому что совершенно растерялся. Но Господь просветил меня. Другого решения быть не могло. Надо было, чтобы она исчезла, то есть следовало ее похоронить. Мэнги заперся в доме. Только двое были в курсе: Ле Метейе, который нам и сообщил о ее приезде, и Ланглуа, настоящий христианин. У нас были развязаны руки. Так вот, мы с мэром... — Господин кюре!.. — Это был единственный выход, иначе Мэнги обвинили бы в убийстве! — Он в курсе? — Разумеется, нет! Мы спасли ему жизнь. Теперь мы квиты. Мы отправились к Ле Метейе и сказали, чтобы он переписал регистрационную книгу. Таким образом, имя этой девицы исчезло. Затем мы научили, как отвечать, жену Ланглуа. Наши люди понимают такие вещи с полуслова. — У вас весьма сговорчивые прихожане, господин кюре. Ну, а что с Мэнги? Ведь он был свидетелем этого, как вы его называете, несчастного случая. И на следующий день он даже не попытался разобраться в этом деле? — Он слишком много выпил, монсеньор... Если бы вы, ваше преосвященство, знали, что воображают наши рыбаки, когда напьются... Только мое уважение к вам удерживает меня... Нет, это... это что-то. Прелат раскрыл было рот, но, подумав, решил промолчать. — Меня тревожит,— продолжал священник, — вовсе не смерть той несчастной. Господь знает, что делает, и мы всего лишь орудие в его руках. Меня беспокоит это наследство... Мэнги — человек слабый, но, в сущности, совсем неплохой. Я хотел бы ему помочь, потому что он беден... Так же беден, как и мы, и это немаловажно... с другой стороны, слишком поздно все вернуть назад... Я рассчитывал купить у него дом... за очень высокую цену. Но он отказался. Теперь я не знаю, что и предпринять. Что вы мне посоветуете, монсеньор? — И вы меня спрашиваете! — воскликнул епископ. — Но в данном случае непозволительно колебаться. Вы должны рассказать ему всю правду, вы слышите меня, всю правду... Эти деньги принадлежат ему. И пусть он располагает ими по собственному усмотрению. Что касается... всего остального, я подумаю. — Но остров, монсеньор! — Кроме острова, существует еще и закон. Возвращайтесь к себе, господин кюре, и поступите так, как я вам сказал. И немедленно. Сделайте так хотя бы из послушания, если мои доводы вас не убедили... Я спрашиваю себя, господин кюре, действительно ли вам все это внушил Господь? Идите. Сообщите мне о результатах.
Мэр поджидал священника на молу. — Ну что? — Монсеньор не похож на нас. Он человек городской. И мыслит как горожанин. Он хочет, чтобы мы рассказали Мэнги всю правду. — Слишком поздно. Он совершенно неожиданно уехал. Жандрон препроводил его. — Так он принял наше предложение? — Я даже не осмелился снова заговорить с ним об этом. — И он не сказал, куда едет? — Нет. Возможно, он и сам этого еще пока не знает. — Благодарю тебя, Господи, — пробормотал священник. — Сделай же так, чтобы он никогда не вернулся!

Вдовцы
Глава 1
Боб мне подмигнул. Я шел вдоль стойки бара со стаканом в руке и чувствовал себя ужасно неуклюжим и скованным, хотя за мной никто не наблюдал. Боб спокойно подтолкнул ко мне коробку, которая показалась совсем маленькой. И зашептал скороговоркой: — Только без глупостей! Я приготовил деньги заранее. Пять туго сложенных сотенных банкнотов. Боб взял их, развернул и как ни в чем не бывало положил в бумажник между другими купюрами. Каждое его движение внушало доверие. Я поставил стакан на стойку бара, взял коробку и сунул ее в карман плаща. Выходит, это так просто! Теперь у меня было впечатление, что я смотрю гангстерский фильм, вернее, участвую в нем: спускаюсь по лестнице, которая ведет к туалетам, запираюсь в кабинке, открываю коробку. Крупный план моего лица, поблескивающего от выступившего пота. Револьвер покоится на вате, как какая-нибудь драгоценность... Светлая рукоятка, очень короткий ствол, барабан, словно распухший от патронов. Я осторожно вынимаю револьвер из коробки. Куда его положить? В карман пиджака или брюк? Я выбираю карман брюк, чтобы в любую минуту иметь оружие под рукой. И, оставив коробку в углу туалета, снова появляюсь в баре, но уже не совсем прежним человеком, так как теперь нахожусь по другую сторону барьера. Я взял свой стакан и медленно допил его содержимое. Боб издали подмигнул мне, как бы говоря: «Теперь можешь защищаться, парень!» Я посмотрел на его волосатые лапы, его уши, искалеченные злой любовью к боксу. Что сделал бы он на моем месте? Или любитель бегов вон за тем столиком, отмечающий лошадей в своей газете, — что сделал бы он?.. Я сунул руку в карман и осторожно сжал рукоятку. Я имел оружие, но еще не знал, в кого выстрелю. Это было почти смешно. Обязательно выстрелю, сомнений нет, и моя уверенность шла не от воли — ее истоки находились гораздо глубже. Семь часов. Я вышел на улицу. Дождь прекратился. Я опаздывал и потому торопился. Чтобы не мешать правой ноге свободно двигаться, я поддерживал согревшийся на моем бедре револьвер. Он уже стал для меня привычным, как связка ключей или зажигалка. Я больше не размышлял. Я находился по другую сторону барьера. Проспект, блестящие автомобили, густой свет заходящего солнца, Матильда — все это далеко, в другом мире. Рыба в аквариуме плавает, смотрит попеременно то левым глазом, то правым. Она видит формы, очертания, купается в расплывчатости, растворяется в жидком сне. Она чудовищно одинока. Вот. Это хорошо. Гараван живет в двух шагах отсюда, на авеню Мак-Магона. Он наверняка богач. Как Матильда раздобыла приглашение на этот коктейль? Тайна. Я должен явиться одновременно с ней. Но хочу застать ее врасплох. Незаметно проскользну среди гостей и понаблюдаю. Взгляда, улыбки будет достаточно, чтобы навести меня на след, поскольку он наверняка находится здесь. На месте любовника Матильды я не упустил бы случая побыть с ней рядом. Так что... На площадке второго этажа я проверил свое моральное состояние, как другие поправляют галстук. Полное спокойствие. Почти что безразличие. Я вошел. И сразу оказался в шумной толпе, где наполненные бокалы оберегали ладонью, как зажженную свечу. Здесь царили гомон и смех, а чьи-то плечи задевали твои... Прекрасная обстановка для любовных прикосновений... С одной стороны слышу: — Дорогой друг, вы пропустили речь Шапюи. Какая жалость! С другой: — Гараван был бесподобен. Когда человека награждают орденом Почетного легиона, он обычно выглядит глуповато. Но только не Гараван!.. Он всегда прекрасно держится и ведет себя так непринужденно... Скорее награждающий, чем награжденный... Я медленно продвигаюсь к буфету. То здесь, то там — слепящие вспышки фотоаппаратов. На мой локоть ложится чья-то рука: — Миркин! Это маленький Кейроль из «Депеш». — Не похоже, что тебе весело. Я пожимаю плечами. — Знаешь, терпеть не могу все эти коктейли... Меня затащила сюда жена. Я даже не знаком с Гараваном. Что из себя представляет этот тип? — Президент — генеральный директор, — отвечает Кейроль и постепенно разводит руки. — Большая шишка... Только не знаю, где именно... Шерсть и хлопок или вроде того. — Ах! Теперь понимаю, почему моя жена оказалась тут. Она работает в фирме Мериля, который специализируется на шерстяных изделиях. Матильда демонстрирует там пуловеры... Право, я ужасно загордился! Откуда ни возьмись — эдакая тщеславная доверительность. «Матильда демонстрирует пуловеры» — сказано так, будто наши ссоры происходили не по этой причине! Глаза Кейроля рыщут по сторонам, но тем не менее он продолжает: — А еще он сотрудничает в финансовых газетах... очень, влиятельных... много путешествует... Смотри-ка, Шариер!.. Кейроль бросает меня, но зато я наконец замечаю Гаравана, прицепившего на лацкан свой орден, как хороший ученик — знак отличия за примерное поведение. Он в центре внимания гостей, которые окружили его плотным кольцом. Но среди них Матильды тоже нет. Официант протягивает мне бокал. Я позволяю толпе увлечь себя в людской водоворот, который уносит меня в малую гостиную. Невезение. Там я натыкаюсь на Пивто, у которого уже явно блуждающий взгляд и заплетающийся язык. — А я думал, ты на звукозаписи, — говорит он мне. — Нет. Сегодня я пас. — А что вы записываете? — О-о! Новый сериал. Не Бог весть какой захватывающий. — И кого же ты изображаешь? — Тайного агента. — С акцентом? — А как же! Руки чешутся дать ему по физиономии. Я вхожу в гостиную. Быстро оглядываю присутствующих. Здесь ее тоже нет. Оборачиваюсь. Пивто удаляется с женщиной в пестрых брюках. Ужасно жарко. Может, Матильда не пришла? Может, это хитрая уловка. Потом она скажет, что прождала меня и уехала из-за головной боли. Но если Матильда не пришла, то где она? С кем?.. А что, если мне тоже смыться? Хватит с меня и Матильды, и всего остального. Если бы я только мог приказать себе раз и навсегда: больше никого не любить! Кончено. Любовь вычеркнута из жизни. Когда доктор вам говорит: «Бросайте курить», вы именно так и поступаете. От злоупотребления спиртным тоже успешно отучают. Почему же нельзя отучиться любить? И в этой гостиной, тесной от людей и наполненной их гомоном, я вдруг задумался о том, чем стала бы моя жизнь, если бы я избавился... Тем временем я пробираюсь к другой гостиной, открывающейся мне за буфетом. Она здесь. Об этом мне сообщают не глаза, а знакомая острая боль на уровне печени. Матильда — мое страдание. Она здесь, и я испытываю мучительную боль. Рядом с ней трое мужчин. Который из них? Я стараюсь не двигаться, хотя меня толкают локтями, плечами. Один их троих поднимает к окну что-то блестящее. Оказывается, фотографию. Другие смотрят и одобрительно кивают. Я изображаю улыбку и подходу к ним. — Добрый вечер. Все оборачиваются. — Ах, Серж! — восклицает Матильда. — Наконец ты решился приехать! Жан-Мишель, ты не знаком с моим мужем? Жан-Мишель — тот мужчина, с фотографиями. Он представляется: — Мериль. — И без всякого смущения пожимает мне руку. Двое других делают то же самое, пока Матильда сообщает мне их имена: Робер Легран, Марсель Блондо. Они весьма любезны. Держатся непринужденно. — Мериль, покажи-ка Сержу свои фотографии, — просит Матильда. — Они просто потрясающие. Он поворачивает к свету один из квадратиков, зажав между большим и указательным пальцами. На снимке Матильда в белом пуловере, который от плеча до пояса прочерчен разноцветной полосой. Шерсть выразительно облегает грудь. — Мы уже готовим зимнюю коллекцию, — поясняет Мериль. — Лично я предпочитаю красный, — заявляет Блондо. Мериль копается в квадратиках, сверкающих у него на ладони. И показывает еще один снимок. Но я почти не смотрю на фотографии, а наблюдаю за мужчинами. Один копия другого: взлохмаченные шевелюры, водолазки, золотые браслетки на запястье — своего рода богема, ироничная, со всеми запанибрата. Я им завидую и в то же время ненавижу, потому что я сам — один из них, но у них есть деньги, а у меня — нет. Легран смотрит на фото и тычет ногтем в вырез пуловера. — А если открыть шею чуть пониже? Это даст большуюсвободу груди. — По-моему, тоже, — соглашается Матильда. — Пожалуй, — поддерживает Мериль. Он достает из кармана фломастер, подходит к стене и несколькими быстрыми штрихами набрасывает на ней силуэт — выразительную фигуру Матильды. Легран забирает у него фломастер и вносит свои исправления, добавляя развевающийся шарф. Все трое делают шаг назад. При этом Блондо наступает мне на ногу. — Извините, — рассеянно бормочет он. — Надо добавить несколько штрихов яркого цвета, тут и тут... — уточняет Легран. Его рука сладострастно шастает по непристойно приоткрытой груди. Глаза Матильды блестят, как у нищенки перед роскошной витриной. Может быть, она переспала с каждым из них. Я ощупываю револьвер на дне своего кармана. — Зайди-ка завтра пораньше, — говорит Мериль Матильде. — Посмотрим на все это в спокойной обстановке. Со мной они совершенно не считаются. Моего мнения и не спрашивают. Матильда принадлежит им куда больше, чем мне. — Погоди, — спохватывается Мериль. — Нет, завтра мне надо ехать за город. У меня встреча с художниками. Лучше послезавтра. Я его исключаю. Уж мне бы никакие художники не помешали встретиться с Матильдой. Значит... Легран? Блондо? Я прекрасно знаю: это может быть любой. Когда Матильда уходит по утрам из дому, она ускользает от меня. И тогда я подозреваю всех мужчин. Всем им хочется заключить ее в свои объятия. Сколько таких, как я, кто готов идти за ней по пятам ради одного удовольствия на нее смотреть? Она создана для любви. На нее оборачиваются, отпускают шуточки. Когда я выхожу с ней вместе из дому, то в любой момент готов кому-нибудь съездить по физиономии. Но все же среди них, всех этих самцов, есть один, который отобрал ее у меня. И вполне возможно, он принадлежит к мирку, в котором вращается Матильда. Но в таком случае он сейчас находится здесь, если только Матильда не предупредила его: «Мой муж тоже придет. Не показывайся». Однако, будь я на его месте, все равно пришел бы, а следовательно... — Мы уходим, — сказал Легран. — Прощай, цыпочка. Он чмокает Матильду в обе щеки, по-приятельски. Блондо и Мериль делают то же самое. Они без всякого воодушевления машут мне рукой: — Счастливо! Я поспешно беру Матильду за руку. Рука у нее свежая, мягкая, податливая. — Где ты выкопала этих типчиков? — Это мои приятели. Робер — из Академии искусств, Марсель — из Консерватории. Жан-Мишель считает, что они далеко пойдут. Я просто запутался во всех этих именах. Они роятся вокруг Матильды. Какие у нее обширные знакомства! Она не манекенщица и не начинающая киноактриса, но, поскольку время от времени ее фото появляются в каком-нибудь каталоге, усвоила наигранные манеры, посещает чаще, чем хотелось бы, модные бистро, где все друг с другом на «ты» и друг с дружкой спят. Она подправляет макияж. — Будь другом, принеси мне выпить. Я пробиваюсь через толпу. Когда я возвращаюсь, Матильда болтает с невысоким плешивым господином, который к ней прижимается. Она кокетничает с ним и заразительно смеется. Наверняка знает, что я в отчаянии, но заговаривает первая, желая меня обезоружить: — Позвольте представить вам моего мужа... Мсье Ришмон. Холодное пожатие руки. Ришмон! Ей не откажешь в наглости! — Что у вас для нас новенького? — с любезной снисходительностью спрашивает меня Ришмон. — О-о! У меня больше нет времени писать... стоит связаться с работой на радио, как себе уже не принадлежишь. Вы ведь знаете, что это такое... Репетиции... — А жаль! Мне понравилась ваша первая книга. Вам, господин Миркин, следовало бы писать. — Совершенно верно... — начинает было Матильда. Я бросаю на нее злобный взгляд, и она тотчас умолкает. А я продолжаю: — Я подумываю об этом. Подумываю... Возможно, в один прекрасный день... — Тогда желаю удачи. Этот господин целует Матильде руку, но, пожалуй, слишком нежно. Старый болван! Едва он отходит, как Матильда взрывается: — Послушай, Серж. Это был такой удачный момент. Я подаю его тебе на блюдечке, а ты почти что посылаешь его куда подальше. — Хватит... Больше о нем ни слова, пожалуйста. — Ладно... ладно... Устраивай свои дела сам. Лишь бы у тебя это получалось! Ну вот, и на сей раз все вышло не так, как хотелось бы. Матильда идет впереди, надувшись. Мы не без труда пробираемся к вестибюлю. На ходу она бросает мне ключи от своей машины. — Садись за руль. У меня болит голова. Однако это не мешает ей сбежать по ступенькам с живостью школьницы. На тротуаре она приостанавливается. Изящный поворот шеи и головы, как у лани на лесной опушке. Она вдыхает вечер, нежную июньскую ночь, небо, медленно гаснущее над крышами, и повисает на моей руке. — Я устала, милый. Тебе не следовало разговаривать заносчиво с Ришмоном... Было бы так уместно ввернуть, что ты участвуешь в конкурсе на премию «Мессидор». Он бы тебя поддержал. — Нет! — Не нет, а да. Не знаю, как именно проходит голосование, но заметь себе — он член жюри. Он встречает тебя у Патриса... — Кто такой Патрис? — Ну, у Гаравана. А Гараван — это что-нибудь да значит! Ты не умеешь себя подать. Так и есть, ее «симка» зажата машинами. Подаю чуть вперед, затем чуть назад. Бампер упирается в чей-то бампер. Я чертыхаюсь. — Такой великолепный случай, — бубнит свое Матильда. — Хватит уже, наконец. Послушай меня. Я не только не хочу, чтобы мне оказывали протекцию, но даже не поставил своего имени, когда сдавал рукопись. Мотор заглох. Я не привык к ее машине. И больше люблю свою — старую малолитражку. Я пускаю мотор на полную и в конце концов высвобождаюсь из затора. Мерзкая машина! Я призываю все свое хладнокровие, чтобы объяснить Матильде: — Правилами конкурсов подобного рода предусмотрено, что его участники должны сопроводить бандероль с рукописью конвертом, внутри которого указаны имя и адрес автора. На самом конверте они пишут название рукописи. Я же не сообщил ни имени, ни адреса. Я ограничился тем, что напечатал одну строчку: «При необходимости автор о себе заявит». — Почему? — Потому что не хочу прочесть в газетах: «Серж Миркин получил два голоса за свой роман «Две любви». — Это было бы не так уж плохо и позволило бы тебе пристроить другую штуку такого же рода. Я резко подал вправо и подрезал бельгийца, который приехал в Париж на своем «мерседесе», чтобы здесь и пропасть. Я сделал бы то же самое и с полицейской машиной, настолько меня распирало от злобы. — Постарайся понять, Господи! Я не такой, как ты. И не желаю добиваться цели любыми средствами, даже неблаговидными. — Скажите на милость! — Если хочешь знать все до конца, то я сожалею, что послушал тебя и вообще представил свою рукопись... Одно из двух: она либо хороша, либо плоха. Если она хороша, то мне не нужно, чтобы вокруг нее устраивали шумиху. А на премию мне наплевать. Матильда разражается смехом. — Послушайте-ка его! Умора! Десять тысяч франков его не интересуют! Он предпочитает изображать шпионов в дешевых радиопьесах и разъезжать в машине, которой даже цыган побрезгует. Знаешь, меня от твоих заявлений просто воротит! Красный светофор. Ссора тоже приостанавливается. Каждый из нас обдумывает свои реплики. Я знаю, в чем-то она права. Знаю, что у меня нет денег, чтобы особенно заноситься. Но знаю и то, что талант у меня есть. И этот маленький родник в моей душе я должен всячески защищать от нее, от своей абсурдной любви, от всего, что мешает мне собираться с силами и творить. К счастью, когда я попаду в тюрьму... Зеленый свет... Вереница машин снова приходит в движение. Матильда сидит, бесстыдно скрестив ноги; она у себя дома. В задравшейся мини-юбке она выглядит более чем вызывающе. Матильда закуривает сигарету, наблюдая за мной краешком глаза. Должно быть, у меня злое выражение лица, потому что она говорит: — Ну, что еще? Что я такого сделала? Площадь Согласия... Мост... Мы не двигаемся с места. — Хочешь знать, как прошел у меня день? Понятно!.. Бедняга Серж, ты меня огорчаешь... В десять я приехала в фотостудию, и Жан-Мишель тут же приступил к делу. Это долгая процедура. Приходится все время варьировать освещение. Мы перекусили на месте. Словом, проглотили по-быстрому бутерброды... Когда Жан-Мишель в форме, он всех доводит до изнеможения. — И как это происходит? — Что именно? — Ну эти, фотосеансы? — Ты меня просто поражаешь! Будто не знаешь! — Нет, расскажи. — Я надеваю пуловер и позирую перед фотоаппаратом. — Ну а потом? — Потом? Снимаю этот и надеваю другой. — А в промежутке между этим и другим? Она умолкает, медленно гасит сигарету в пепельнице. — Серж, знаешь, что я о тебе думаю?.. Ты извращенец, любитель подсматривать эротические сцены. Что верно, то верно. Я вижу ее, и еще как отчетливо! На ней только бюстгальтер, который больше открывает, нежели скрывает. Я сам и подарил его Матильде. Возможно, она даже снимает его перед этим Жан-Мишелем, чтобы свитера больше говорили его воображению. И Жан-Мишель кладет свои лапы на ее грудь. О-о! Нет, не лапы... эти длинные, тонкие пальцы, привыкшие прикасаться к тканям, трикотажу, кожам... Бульвар Сен-Жермен бесконечен. Я веду машину почти что с закрытыми глазами. Мне повсюду мерещится Матильда. Улица — как ярко освещенное фотоателье. Сомнений нет, ее любовник — Жан-Мишель! — Когда он фотографирует, вы с ним находитесь в студии одни? — Что ты себе вообразил? Есть еще Этьенета... — Этьенета? — Наша костюмерша, она же гример и парикмахер... Послушай, Серж, можно подумать, ты никогда не бывал в фотоателье! — В такого рода фотоателье я не бывал. — Они ничем не отличаются от всех других. — А после? — После чего? — После пуловеров. Что он заставляет тебя делать потом? Я всматриваюсь в нее. Она отворачивает лицо. — Спроси его сам. — А во время сеансов посетителей не бывает? — О-о! А как же! — И тут же поправляется: — Бывает, но не часто. — Приятели? Наподобие Леграна и Блондо? — Да. И несколько подружек. — И что делают они? — Что, по-твоему, они могут делать? Смотрят. Она попалась в западню. Я улыбаюсь, но на сердце у меня камень. — И ты еще меня обзываешь любителем подглядывать! На сей раз она не возмущается. Она усаживается глубже, прикрывает глаза. Я проезжаю мимо дома. Тут все забито машинами. Придется кружить по кварталу, пока кто-нибудь не отъедет. — К чему ты клонишь, Серж? Если бы я знал сам! Когда ей предложили поступить к Мерилю, она меня предупредила. В сущности, мне не в чем ее упрекнуть. Мне следовало предвидеть... Но я и сам тогда искал работу... Маленькая роль то там, то тут. На этом далеко не уедешь... Тогда я еще не мучился от подозрений. Еще не улавливал первых симптомов своей болезни. — Ты хочешь, чтобы я бросила эту работу? Как сказать «да» и при этом не потерять ее? Я впервые понимаю, что именно это мне и грозит. Пока что я думал только о Другом. Расправиться бы с Другим! Свободной рукой я ощупью нахожу ее колено. Несколько раз его сжимаю. Когда мы доходим до крайности, ласки заменяют нам слова. В этот момент моя рука говорит ей: «Я несчастен... Когда ты от меня далеко, я перестаю жить... Не покидай меня... а главное, главное, докажи мне, что я ошибаюсь и мои подозрения смехотворны!» Но тут кто-то отъезжает от тротуара. Ответа не последует. Я путаюсь в скоростях. И чувствую себя униженным от проявленной неловкости. — Дай мне руль! — говорит Матильда. — Как-нибудь сам справлюсь. Наконец я припарковался. Матильда не ждет меня. Она идет впереди. Вот ее-то мне и следует убить. Но я прекрасно знаю, что у меня на это никогда не хватит сил. Всех этих Жан-Мишелей, Роберов и Марселей, вот их — да. А между тем они — только жалкие мотыльки, роящиеся вокруг пламени. Как и я сам! И пока пламя не угаснет, будут налетать все новые. Я догоняю Матильду у лифта. Кабина тесная. Мы плотно прижимаемся друг к другу. Я заключаю ее в объятия. Она поднимает лицо, подставляет мне губы для поцелуя. Всякий раз у меня такое ощущение, что мы с ней расстались давным-давно. На такие дела память отсутствует. В глубине души я издаю глухой стон.Глава 2
Ожог я обнаружил несколько позже. Мы занимались любовью: она — с милой снисходительностью, а я — с прилежанием отчаяния. Полное самозабвение ушло в прошлое. Несказанное возбуждение, жгучее желание приобщиться к таинствам любви... то, что воспламеняло пленное божество нашей плоти, оставило нас навсегда. Теперь в момент самозабвения мы наблюдали украдкой друг за другом. Я чувствовал, как она внимательно следит, чтобы я получил удовольствие, и я испытывал желание ранить ее, оставить на ней метку, сжимать ей горло, пока в ее глазах не промелькнет безумие, как бывало прежде. Она предавала меня уже одним тем, что была слишком здравомыслящей. Любовь становится грязью, когда перестаешь терять голову. Да, как раз наш случай. Когда-то наши необузданные изыски были чисты. Теперь же наши объятия стали кощунством. Но мы еще сохраняли видимость страсти, от которой осталось лишь искусство поцелуев и ласк и молчание из боязни назвать вещи своими именами. Моя рука скользила по ее телу, следовала за изгибом оскверненных грудей, задерживалась на животе, но, как бы я ни усердствовал в поисках следов чужих рук, я уже переставал быть любовником и становился скорее лечащим врачом, который с маниакальным усердием ощупывает пациента, обследуя внушающие подозрения участки кожи. Вот так мои пальцы и нащупали нечто вроде прыщика, волдыря, у самой складки паха. Я зажег свет. — Погаси, — запротестовала Матильда. — Глаза режет. — Лежи спокойно! Не шевелись! Я сел рядом с ней. Ее нагота меня больше не волновала. Я грубо раздвинул ей ноги, наклонился. Она с некоторой тревогой следила за моими движениями, приподняв голову от подушки. — О-о! Пустяк, — сказала она. — Укус комара. — В таком месте! Ну да, ведь ты ходишь почти что голая! Нагнувшись еще ниже, я стал внимательно рассматривать волдырь. Нет, на укус не похоже. Это ожог... двух- или трехдневной давности. Покраснение вокруг него уже начинало бледнеть. Тонкая коричневая корочка выделялась на очень белой коже. Ожог от сигареты. Такая странная мысль пришла мне в голову сразу. У Матильды была привычка курить в постели. Она где-то курила, отдыхая от занятий любовью, и горячий пепел упал ей на кожу. Другого объяснения быть не могло. Я покачал головой. — Да, — пробормотал я. — Это укус. Надо бы помазать бальзамом. — Оставь, прошу тебя! Она погасила свет, и я снова улегся рядом. Я был настолько потрясен, что изо всех сил сжал кулаки, чтобы обуздать себя. Я старался контролировать дыхание, постепенно его замедляя, как будто погружался в сон. — Спишь? — шепнула Матильда. Я не ответил. Я лежал неподвижно. Я чувствовал, как мои глаза увлажнились и слеза потекла по виску к волосам, надолго оставив раздражающе холодящий след. Зачем бороться? Матильда мне изменяет. Ну и что? Ведь мы живем в такой среде, где господствуют легкие нравы. Откуда у меня такая жестокость? Неужто я все разрушу из-за ее мимолетного увлечения? Одного объяснения нам вполне хватило бы, чтобы снова наладить наши отношения. Но вся беда в том, что я не способен сказать ей по-приятельски: «Мне все известно. Ты его любишь? Правда же, нет? И хватит об этом. Только не начинай снова. Поверь, так будет лучше». Подобная мудрость или скорее трусость несомненно придет ко мне с годами, и довольно рано, но уже не с Матильдой. На сколько лет меня осудят? Десять? Пятнадцать? А может, и вообще оправдают! Обычно за преступления на почве страсти взыскивают не строго. Возможно, Матильда будет меня ждать. Но сможет ли пролитая кровь оживить любовь? Подобные мысли давно роились в моей голове. Я рассуждал сам с собой. Я злился на самого себя. По ночам я клял себя. Днем ненавидел ее. Я упрекал себя за все. За то, что в свои двадцать восемь был еще недорослем без будущего, который бегает по частным урокам, ищет направо и налево любую рольку, цепляясь на ходу за бывших консерваторских однокашников, уже имеющих имя в театре, на телевидении, иногда в кино. «Нет ли чего-нибудь для меня?» — «Да у тебя какая-то клейменая физиономия, бедняга Серж», — звучало как припев. Что в ней такого, в моей физиономии? Она казалась лицом преступника, в особенности когда я не брит. Возможно, из-за крупноватого носа, или формы рта — слишком растянутого при тонких губах... или из-за глаз, поражающих голубизной. Наверняка в ней было нечто такое, в чем я не отдавал себе полного отчета. «Мой казак», — первое время говорила Матильда. А между тем мои предки были такими же французами, как и ее, уже два поколения кряду. Правда заключалась в том, что мне не везло. Я написал роман, который, по мнению многих, был не так уж и плох. Но он появился на свет в начале мая шестьдесят восьмого[11], и его смело шквалом майских событий. Он прошел незамеченным. Не принес мне ни гроша. У Матильды же, наоборот, был хороший старт. Вначале она снималась в рекламных роликах. Долгое время успешно держалась на новой марке стирального порошка, затем на модном шампуне. Мне это было не очень по душе, но жить-то надо. Появились деньги. Впрочем, уходили они так же легко, как приходили. Мало-помалу мы приобрели привычку жить каждый сам по себе. Все это, разумеется, ужасно банально! Мы ощущаем любовь как живое существо. Она существует. Есть я, есть ты, есть наша любовь, как, говорят, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Это само собой разумеется. Она тут, живая, на вечные времена. Никакой необходимости за ней присматривать. И вот она ускользает от тебя без предупреждения! Матильда спит рядышком. Она спит! Ей нужно было разлюбить меня, чтобы иметь мужество спать! Я этого не понимаю: или она принимает меня за последнего идиота, хотя знает, до какой степени я недоверчив, или же ей все безразлично с тех пор, как она околдована другим. Совершенно очевидно, мы медленно движемся к разрыву, к взрыву, который разрушит нас обоих. В гневе я не узнаю сам себя. А мой гнев нарастает! У меня в руках пульсирует кровь гнева; во рту — желчь гнева; в животе — нервы гнева, туже и туже сворачивающиеся в узел. Я вас проучу, клянусь!.. Часы проходят. Время от времени Матильда переворачивается на другой бок. Иногда она протягивает в мою сторону руку, которая ищет того, кто разделяет с ней ложе. Я отодвигаюсь. Это верно — я старомоден. Как страдание! Завтра... да что я говорю... сегодня утром... сейчас же... я пойду следом за ней, я ее не отпущу. А если она ускользнет от меня и на сей раз, я обращусь к частному детективу. Сколько бы мне это ни стоило. Я должен удостовериться! Я слышу первых стрижей. Я так и не сомкнул глаз. В спальню проникает нежнейший утренний свет, он исходит от всего белого — от занавесок, моей сорочки, брошенной на стул, и вскоре начинает исходить от тела Матильды. Я столько пережил за эту ночь, что чувствую себя пустым внутри, как высохшее дерево. Я не более чем взгляд, который медленно скользит по ней. Наконец я тоже засыпаю, устав от долгого созерцания. Меня будит шум душа. Времени почти десять. В моей голове все разложилось по полочкам: подозрения... волдырь... частный детектив... Приступим! Я бесшумно беру записную книжку из пиджака и снова ложусь в постель. Вот уже месяц, как я заношу туда все ее передвижения. Сегодня у нас четверг. Этот ожог, похоже, можно отнести к прошлому понедельнику, потому что в воскресенье у Матильды еще ничего не было — уж это я хорошо знаю. Понедельник — это точно. Она сказала, что поедет навестить отца. Я про это забыл. Он живет в Морет-сюр-Луан. Бывший железнодорожник, сейчас на пенсии. Поскольку у него грудная жаба и он живет один, Матильда его частенько навещает. По крайней мере, так она утверждает. Теперь у меня все основания думать, что она лжет. На этого старого железнодорожника можно свалить все что угодно! Я мог бы позвонить ему по телефону, но он предупредит Матильду... Во вторник с десяти до семнадцати работа у Мериля. Это как-то не согласуется одно с другим. А впрочем, почему бы и нет? Поскольку в фотоателье постоянно толкутся посетители, любовники вынуждены встречаться в другое время и в другом месте. И вполне возможно, вне Парижа, во избежание нежелательных столкновений. Это если допустить, что речь идет именно о Мериле! Среда: все утро у парикмахера. Обед с подругой, некой Ивонн. Затем кино: фильм «Зэт», на Елисейских полях. В семь вечера коктейль у Гаравана. Она выходит из ванной, завернувшись в свой голубой махровый халат. — Ну что, мой цыпленочек... ты не приготовил кофе? Что с тобой? Плохо спал? — Устал немного. Я прячу под подушку записную книжку. Потягиваюсь. Зеваю. Лениво встаю с постели и, как только она уходит на кухню, быстро кладу книжку на место и одеваюсь. Сую револьвер в свою папку с документами. Запах кофе вызывает у меня отвращение. Никакого желания есть. Я спускаюсь за почтой. Как правило, в почтовом ящике одни счета. Сегодня утром их больше обычного... Электричество, просроченная квартирная плата, счет из автомастерской... Меня балуют. Я вскрываю конверт мастерской. С меня причитается сто тридцать франков. Это уж слишком. Свечи... смазка... мойка... смена масла. Мои глаза перепрыгивают на дату. 6 июня. В прошлую субботу. При смене масла на радиатор приклеивают бумажку с указанием километража. Вот способ сразу установить, ездила она к отцу или нет. Я выбегаю на улицу. Ее «симка» стоит неподалеку. Я прикладываю руку козырьком к стеклу, чтобы не отсвечивало. Я очень четко вижу цифру на счетчике: 29 230. Впрочем, ведь у меня остались в кармане ее ключи. Я проникаю в машину. Правильно. 29 230. Я орудую рычагом, поднимающим капот. Наклейка тут, как и положено. 29 205. С воскресенья машина прошла двадцать пять километров. Если бы Матильда ездила в Морет, счетчик показывал бы на сто пятьдесят километров больше. Значит, в понедельник... Ах! Какая же мучительная боль! Я возвращаюсь к себе. Машинально держусь за бок. Швыряю счета на стол, среди чашек и ломтиков поджаренного хлеба. Матильда одета, накрашена, уже готова бежать к другому. Она поднимает глаза — ее глаза такие темные, что похожи на черную воду бездонного колодца. — И много набежало? — спрашивает она. — Само собой. Она вскрывает два других конверта, подсчитывает сумму, барабаня пальцами по столу. — Почти сто тысяч, — сообщает она. — Ума не приложу, где нам их взять. В конце концов, как у нас это получается, Серж? Ведь мы с тобой неплохо зарабатываем. — Зарабатываешь ты! — Ты, я — это одно и то же... Ну и дерут же они в автомастерской! Она говорит совершенно спокойно и так естественно, что я на секунду задаюсь вопросом: «А что, если я ошибаюсь? Что, если даю волю своему воображению и позволяю ему себя дурачить?» Однако цифры говорят сами за себя: 29 230, 29 205. Я с отвращением намазываю хлеб маслом. — Скоро ты опять поедешь в Морет? — Почему ты меня об этом спрашиваешь? — Просто так. В ближайшие дни я буду довольно плотно занят на студии. Так что момент подходящий. — Может быть, в субботу. Сразу после того, как Жан-Мишель закончит снимать новую коллекцию. Матильда жадно откусывает от своего ломтика. Она все делает с жадностью. — Как себя чувствует твой отец? Кажется, я забыл тебя спросить, как у него дела. — Да. Он чувствует себя неплохо. Лгунья! — Больше всего его удручает невозможность заниматься садом. Мы немножко прошлись, только до вокзала, естественно. Забавно, что он не утратил страсти к поездам! Я восхищаюсь ею. Искренне восхищаюсь. На ее лице ни капли смущения; ни разу не дрогнули ресницы. Но она не задерживается на теме, которая угрожает стать опасной. — А ты?.. Что у тебя намечено на сегодня? Самое поразительное, что я смущаюсь, как будто виновный — я сам. — То-то и оно... У меня намечен обед с Бертье. Возможно, у него найдется кое-что для меня в его новой пьесе. — Вот было бы здорово! Она ставит на стол чашку, встает, ласково треплет мне волосы. — Постарайся, чтобы получилось. Я скрещу пальцы на счастье. Увидимся вечером, цыпленочек. Последний штрих губной помады, последний удовлетворенный взгляд на себя. — Мои ключи! Я бросаю ей ключи от машины. Хлопает дверь. Половина одиннадцатого. У меня есть время. Я мою чашки и блюдца. Грызу кусочек сахара. И не перестаю думать об ожоге. Это правда, что у некоторых укусов такой же вид. По квартире летают комары. Они залетают из Люксембургского сада. Не могу же я поймать комара и заставить его меня укусить, чтобы сравнить?! Нет, зато я могу... Это может быть болезненно... однако менее, чем неуверенность. Я раздеваюсь догола. Закуриваю сигарету. Ложусь. Неправильная поза — так пепел упадет мне на грудь. Значит, она не лежала, а сидела. Несомненно, опершись на подушки. Или же... или же курил другой. Я опять отчетливо вижу ожог. Да, он мог произойти только от прямого прикосновения сигареты. Неловкое движение... Мужчина протянул руку, раскаленный кончик сигареты коснулся ее бедра. При таком варианте надо предположить, что они лежали рядом... Он справа от нее. Она наверняка предпочла левую сторону постели, как и дома. Я укладываюсь на спину. Упираюсь рукой себе в бок, и если забыть, что в руке у меня сигарета, то все объясняется просто. Но эксперимент еще не закончен. Я закрываю глаза. Терпеть не могу физической боли. Кончиками пальцев левой руки я нащупываю верх своего бедра и легонько прижимаю к нему сигарету. Острая стреляющая боль... Нелегко заглянуть самому себе в этот уголок. Я сгибаюсь так, что хрустят позвонки, и вижу красноватый волдырь. Так оно и есть — один к одному. Я выпрямляюсь в изнеможении. Боль вполне выносимая. Что нестерпимо, так это картина двух сблизившихся тел, такое наглядное воспроизведение любовной сцены... «Ах! Я тебе сделал больно, дорогая. Прости меня. Дай-ка...» Он приближает губы к ожогу, а на кровати корчусь я сам. Убить его! Убить его немедленно! Но сначала сорвать с него маску. Я снова одеваюсь. Жгучая боль от ожога усиливается при соприкосновении с материей одежды. Эта боль продлится несколько дней. Я обещаю себе убить его раньше, чем она прекратится. Телефонный справочник лежит в стенном шкафу. Я открываю его на нужной странице. Частным агентствам не хватило одной колонки. Я отметаю самые крупные — те, которые себя рекламируют. Они должны стоить слишком дорого. И выбираю наудачу агентство Жозефа Мерлена — «Сыскная работа любого характера. Гарантия конфиденциальности». Вот его стоит попросить о безотлагательном свидании. На другом конце провода звучит хриплый голос: — В шесть часов? Очень хорошо. Если это по поводу слежки, то захватите с собой фотографии. Я ожидал, сам не очень-то знаю чего... возможно, подробного разговора, наводящих вопросов, проявления интереса, поскольку мой случай совершенно особый. Помню нашего старого полкового врача — близорукого майора... Нас было несколько десятков в длинной веренице. «Повернитесь... дышите... покашляйте... Следующий!» Мерзко! С того момента, как женщина начала вам изменять, мерзким становится все. Я вынимаю вторую сигарету. За последние недели я выкуриваю их по полсотни за день. На тротуаре я пытаюсь сориентироваться. Я уже не помню, где оставил свою малолитражку. Скорее доберусь на метро. И потом, у меня потребность окунуться в толпу. Когда я поднимаюсь на поверхность, на станции Франклин Д. Рузвельт, уже без четверти двенадцать. Магазин Мериля в двух шагах отсюда, на улице Пьера Шаррона. Бедро болит. Мне слишком жарко. Я чувствую себя обозленным, как собака, которую часто бьют. Задерживаюсь у витрин, где выставлено изящное нижнее белье, колготки, думаю, возможно, о предстоящем разговоре, конкретных вопросах. — Скажите, а мадам Миркин еще тут? И сразу тайна, засекреченность. Продавщица уходит в глубь магазина шушукаться с девушкой, у которой фиолетовые глаза и украшения на шее вроде как из металлической проволоки. — Она только что ушла, мсье. — Вы не знаете, куда именно? — Нет, мсье... Должно быть, в снэк-бар[12]. — Одна? — Да, мсье. Пришел в снэк. Сплошные головы. Я замечаю Линьера, который перекусывает наскоро. Он занимается рекламой. Я пожимаю ему руку. — Мою жену не видел? — Она что-то пила тут, каких-нибудь пять минут назад. — Тип, который был с ней, — ты его знаешь? Наивный, он попадается на крючок. — Нет. — Высокий брюнет, худощавый? — Нет, он скорее низенького роста. Волнистые волосы, что-то восточное. — А? Да, понял. Я ничего не понял. Но знаю, что играю в дешевой бульварной комедии. Мужчина, о котором идет разговор, не Мериль. Тогда кто? Клиент? Кто-нибудь из дирекции? Некий приятель?.. Или же тот, кого я ищу? Линьер указывает мне на стул напротив. — Ты что-нибудь закажешь? — Спасибо, нет. Я напускаю на себя вид человека, страшно занятого, хотя в общем-то жизнь ему улыбается. — Я их разыщу — они где-нибудь поблизости. Пока, старина. Теперь мне не остается ничего иного, как шнырять вокруг, с роем вопросов в голове, которые донимают меня, словно мухи. Я перехожу из ресторана в ресторан. Застреваю в потоке посетителей, рассматривая каждое лицо, каждый силуэт. Я всем мешаю. Я намеренно подвергаю себя пытке. Но впустую. Должно быть, он увез ее куда-нибудь в другое место. Я возвращаюсь на Елисейские поля, продолжая рыскать глазами, хотя уже убедился, что все мои поиски напрасны, и оседаю на террасе кафе. Повсюду парочки. В полдень Париж — город парочек. Я начинаю постигать всю глубину трагедии — разрыв между нами свершился. Голова моя уже об этом знала, но еще не знали все те душевные струны, которые дрожали при имени Матильды. Именно тут, за кружкой пива, глядя на окружающую меня толпу, я отчетливо осознал, что же со мной происходит. Есть больные, смертельно пострадавшие при катастрофе, они долгое время находятся в коме, и о них врачи говорят: «Они мертвы, хотя сердце еще бьется». Я нахожусь в коме. Но моя любовь еще пульсирует. И эти последние пульсации... Я чувствую себя ужасно. Мое состояние смахивает на удушье и тошноту. Пот увлажняет мне поясницу. У меня уже нет сил встать. Я продолжаю сидеть, не двигаясь и даже не думая, как медуза или морская звезда, выброшенная волной на берег. Тем не менее в два часа, я привожу свой разбитый костяк в движение. Я слоняюсь или скорее дрейфую мимо магазинчиков, потому что идти мне некуда. Спустя долгое время я снова оказываюсь перед магазином Мериля. Я захожу. — Мадам Миркин здесь, — сообщает мне продавщица. — Вы хотите ее видеть? И тут я испытываю такой прилив радости и света, что не в состоянии говорить. Я отрицательно мотаю головой. И ухожу очень быстрым шагом. Продавщица должна принять меня за чокнутого. Но это мне совершенно безразлично. Мне все безразлично теперь, когда я уже знаю, где Матильда. Как будто ко мне возвращается чувство ориентации. Я уже не ощущаю себя заблудившимся в темном лесу. Матильда здесь. Я без труда нахожу дорогу, которая приведет меня на радиостудию. А сегодня вечером наши пути опять сойдутся в одной точке. Я сожму ее в объятиях. Я спасен до завтрашнего дня. Спасибо тебе, Господи!.. Я твержу «спасибо тебе, Господи», как магическую формулу. Эти слова — «сезам» для отчаявшихся. Они открывают дверь в неопределенное будущее. Но, по крайней мере, туда можно войти и двигаться дальше. И раз уж я знаю, где Матильда, то у меня достанет мужества прикончить ее любовника. Работа на студии начинается — однообразная, отупляющая. Я произношу фразы, смысл которых до меня не доходит. — Хоть немного убедительности, — ворчит Бланшар, радиопостановщик. — Ведь в этот момент ты плывешь к танкеру... И в самом деле! Я — водолаз. И только что заложил взрывной заряд в борт танкера. Я произношу целую тираду, плавая в веселом шуме пузырьков. Полный идиотизм! Но зато будут деньги на Мерлена. Я плаваю. Произношу текст, не спуская глаз с оператора за стеклом, но мысли мои далеко. Хватит ли еще этих денег на оплату Мерлена? Сколько может запросить частный детектив за слежку, которая наверняка продлится несколько дней? Четыреста франков? Пятьсот? Мой монолог закончен. Танкер пойдет ко дну. — Достаточно, — решает Бланшар. — Не могу сказать, что сегодня ты был в лучшей форме. К счастью, шумовое оформление не подвело. Меня сменяет Дерем. Он играет старика, мозг операции. У него красивый низкий голос; он выдает банальности с мрачной страстью. Я ухожу на цыпочках. Четыре часа. В коридоре я сталкиваюсь с Аллари. — Ах! Миркин, у меня есть для тебя работенка, если ты свободен на будущей неделе. — А что такое? — Небольшая роль в детективном сериале. — Сколько дней? — Три, четыре. Ты умираешь почти в самом начале. В моих сериях русские недолговечны! Разумеется, я соглашаюсь. Я прохожу через буфет, где в любой час дня и ночи лохматые личности жуют сандвичи. Я съедаю два вчерашних рогалика с привкусом прогорклого масла. Мерлен живет довольно далеко, в предместье Пуасоньер. Я безмятежно прикидываю свои пересадки в метро. Тревога меня покинула. Я чувствую себя пациентом, давшим согласие на операцию. Дом не производит благоприятного впечатления. Прихожая также. Здесь скопилось слишком много тайных страданий. Мерлен распахивает передо мной дверь своего кабинета. Он толстый; отвислые щеки загораживают воротничок. У него редкие волосы, но кустистые брови. И глаза! Глаза усталые, с немного отсутствующим взглядом, не голубые, не серые, а туманные и не слишком обнадеживающие. Ему лет пятьдесят, как и его костюму, мебели, обоям. От него пахнет табаком, и он шумно дышит. — Присаживайтесь. Сам он садится во вращающееся кресло. Повсюду зеленые папки, как в налоговой инспекции маленького городка. Он угощает меня сигарой, подталкивает ко мне бензиновую зажигалку. — Мсье Миркин... Серж... Он старательно выводит данные на карточке зеленого цвета. — Возраст... профессия... домашний адрес... женат, разумеется... Итак, мсье Миркин, я слушаю вас.Глава 3
Я и не подозревал, что это будет так мучительно. С чего начать? Следует ли все рассказать ему о наших интимных отношениях? Раздеть Матильду догола перед носом у этого толстяка? Мерлен пришел мне на помощь. — Ваша жена вам изменяет? — Да... я так думаю... У меня такое впечатление... Словом, это больше, чем впечатление. Но я не знаю, с кем. — У вас есть доказательства? — Ну, во-первых... моя жена очень красива... — Мне потребуется фотография. Он протянул тяжелую руку с пухлыми пальцами. На безымянном — очень широкое обручальное кольцо, какие носили прежде. Я дал ему фотографию, которой ужасно дорожил. Я сфотографировал Матильду в Булонском лесу, когда мы катались на лодке. Она, смеясь, глядела прямо в объектив. В тот день в ней было что-то живое, волнующее и вместе с тем неотразимо милое... красивое прирученное животное, игривое, слегка диковатое. Мерлен смотрел оценивающе, и вокруг его глаз собрались морщины, как гармошка фотоаппарата «Кодак». Я все сильнее сжимал кулаки — на мой взгляд, изучение снимка слишком затянулось. — Весьма привлекательна, — наконец изрек Мерлен. Именно это слово было способно причинить мне острейшую боль. Я хотел отнять у него снимок, но он прижал его к груди жестом игрока, который приберегает лучшую карту для последнего хода. — Я вынужден оставить фотографию у себя... О! Временно... до окончания расследования. — Берегите ее! — Полноте! Он посмотрел на меня, как учитель на самого бестолкового ученика в классе. — Мой агент умеет обращаться с такими вещами, — продолжал он. — Итак, у вас есть доказательства?.. Я как в воду бросился — стал рассказывать ему все: про наши первые ссоры, постоянную нужду в деньгах, тщеславие Матильды. Он нетерпеливо отмахнулся от моих слов. — Это все не считается, — сказал он. — Пока что я вижу лишь начало разногласий, которые проистекают из-за того, что ваша жена зарабатывает больше вас и немножко опьянена успехом. В сущности, ну сколько она может зарабатывать в месяц? Три тысячи? Больше? Меньше? Если больше, меня бы это удивило... У вас с ней общий счет? — Нет. — Сколько времени вы женаты? — Два года. — Два года? Похоже, он вкушал эту цифру, задумчиво ее пережевывал, в то время как его глаза задержались на моем не слишком свежем вельветовом костюме. — Далее? — Ну что ж, еще эпизод с поездкой в Морет... Я объяснил ему про показания счетчика километража. Похоже, это его позабавило. — Разумеется, — допустил он, — это можно принять в качестве довода. Но у вас еще нет того, что называется доказательством... неопровержимым доказательством, каким могло бы явиться, к примеру, письмо. Он чувствовал, что есть и нечто более интимное, более смачное, и хотел об этом услышать. И я рассказал ему про ожог, но так тихо, что он наклонился над письменным столом, чтобы расслышать. Он со знанием дела несколько раз покачал головой. — Из вас выйдет превосходный детектив, мсье Миркин. Вот хоть и маленькая деталь, но весьма многозначительная. — На сей раз вы мне верите? — Да. Но вы не подозреваете никого персонально? — Я подозреваю всех мужчин, которые к ней приближаются. А их так много! У нее такие обширные знакомства! Мне известно, что в полдень она встречалась с типом восточной наружности. Кто он такой?.. Не могу сказать. За ней придется следить целый день, не выпуская из виду. Вот поэтому я и обратился к вам. — Догадывается ли она о чем-нибудь? — О-о! Наверняка. Она прекрасно видит, что я несчастен и пытаюсь что-нибудь разузнать. — Последний вопрос. Каковы ваши намерения? — Развод, — ответил я. — Покончить с этим раз и навсегда. Жизнь, какую я веду, стала невыносимой. — Адрес ее работодателя? — Улица Пьера Шаррона, двенадцать. Своим крупным жирным почерком он занес в карточку и этот адрес. — Марка машины? — «Симка-1300», белого цвета. — Номер? Я сообщил ему и номер, а также наш домашний адрес. — Само собой, мой агент установит за вашей женой слежку уже с завтрашнего утра. Однако сомневаюсь, что его первые отчеты смогут внести ясность. К сожалению, такие дела продвигаются не так быстро, как хотелось бы. Объявите своей жене, что на следующей неделе вы будете очень заняты, и особенно... скажем, в понедельник и пятницу. Уточните, что в эти дни вы задержитесь с девяти утра до восьми вечера, к примеру на студии, поскольку у вас запись на радио. — Нет ничего проще! — Когда она почувствует, что у нее развязаны руки, она неизбежно совершит опрометчивый шаг, который и наведет нас на след. Вы согласны? Что касается оплаты, скажем, вы дадите мне авансом пятьсот франков. Позже я представлю вам ведомость с указанием всех расходов. Считайте, каждый день обойдется в пятьдесят франков... Если дело пойдет быстро, это составит всего где-то тысячу — тысячу двести франков... Так что заходите. Я выписал чек и положил ему на письменный стол. Он до него не дотронулся, будто денежный вопрос его не волновал. Скрепив заполненную карточку и фотографию канцелярской скрепкой, он сунул их в конверт, на котором написал фломастером печатными буквами: «Дело Миркина». Потом долго, с наигранной сердечностью, пожимал мне руку. У дверей я обернулся... В этом грязном кабинете я оставлял раненый призрак Матильды. Прости, Матильда! Ведь я так хотел, чтобы... В приемной находились две женщины. Я быстро прошел мимо, сделав вид, что почесываю лоб, чтобы скрыть от них лицо. Затем остановился в первом попавшемся на моем пути баре, решив выпить чего придется... кажется, это было белое вино. Там сидели каменщики, они пили аперитив. Я не спешил вернуться домой и встретиться с Матильдой. Зачем? Чтобы лгать ей, в свою очередь? Но не поселиться же мне в отеле до конца слежки! Под каким предлогом? И на какие шиши? Я вернулся к восьми. Матильда хлопотала на кухне. Она готовила бутерброды. Еще одна деталь, о которой я позабыл поставить в известность Мерлена. В те редкие вечера, когда мы ужинали дома, это всегда была легкая закуска, всухомятку. Матильда ела, не присаживаясь к столу, приходила, уходила, клала свой хлеб куда попало. Никогда нормального ужина — вдвоем, в спокойной обстановке, не на бегу. Нередко она даже ограничивалась сухарем, листком салата, так как берегла фигуру. Единственное место, где мы встречались по-настоящему, была постель. — Не очень устал? — спросила она. — Очень. Просто с ног валюсь. — Клер сказала мне, что ты заходил в магазин. — Я проходил мимо. Мое свидание не состоялось в последний момент. Так что я мог бы повести тебя обедать. — Я не смогла бы, мой бедный цыпленочек. Агопян, один из наших клиентов, пригласил нас, Жан-Мишеля и меня. Жан-Мишель присоединился к нам уже в ресторане. — Жаль! В холодильнике — лишь бутылка молока да кусок колбасы. Странный ужин! — Кстати, — сказал я, — на следующей неделе мы совсем не увидимся. Я абонирован для новой передачи... детективная история. — И надолго? — Не меньше недели, и на полный день. Ты не считаешь, что мы ведем сумасшедший образ жизни? Она подошла и обняла меня за плечи. — Еще несколько лет. А потом увидишь, Серджо. Я слушал ее, как скрипичный мастер слушает скрипку. В ее голосе прозвучала нота подлинной нежности. — Ты меня еще чуточку любишь? — Глупыш! В эту ночь она любила меня так страстно, что я чуть было ей во всем не признался. Но, возможно, этого-то она и ждала. Она была слишком чуткой, чтобы не уловить, что я что-то от нее скрываю. Несколько дней мы как бы заново переживали медовый месяц, по крайней мере его видимость, потому что уже не обманывались — ни один, ни другой. Между ласками мы строили планы, или скорее она строила их за нас обоих. — Если чуточку повезет, — говорила она, — я могла бы занять важное место в деле Жан-Мишеля. И поскольку он тщеславен и пользуется финансовой поддержкой группы Гаравана, я не теряю надежды зарабатывать столько, сколько манекенщица... А тебя, в конце концов, заметит какой-нибудь продюсер... Знаешь, я вижу тебя в роли Мишеля Строгова[13]... или Раскольникова! Никогда еще мы не жили с таким самозабвением. И никогда еще так зорко не подстерегали один другого. Ожог начал подживать. Но тревога не утихала. В понедельник утром, когда мы расстались, я был, похоже, так бледен, что она испугалась, потому что спросила: — А ты не заболел? Тебе надо бы показаться врачу. С некоторых пор меня беспокоит твое состояние. Я удержал ее в объятиях. Как же мне хотелось послать Мерлена к чертям! День оказался для меня сущей пыткой. Как всегда, роль, отведенная мне в новом сериале, оказалась ерундовой. Погода стояла предгрозовая, дышалось тяжело. А где она, моя Матильда? Я предупредил, что освобожусь поздно. Ивоображал себе ее с другим. Повел ли он ее в отель? Или же у него была холостяцкая квартира? Когда я вышел из студии, небо над Сеной свело судорогой и вдалеке громыхал гром. Я выдохся. Мне не продержаться целую неделю! К счастью, дождь обрушился разом. Я укрылся в кафе, где пережидал более двух часов, потягивая мятный ликер. Прежде чем подняться к себе, воспользовавшись прояснением, я поискал среди машин, выстроившихся в ряд, Матильдину «симку». И нашел ее, наполовину заехавшую на «зебру». Счетчик километража прибавил 26 километров с момента моей последней проверки. 26 километров за пять дней — да это же сущие пустяки! Что, возможно, не помешает Матильде рассказывать мне басни о своей поездке в Морет. Но мгновение спустя она, наоборот, стала объяснять мне, почему не двинулась с места. — Я побоялась, как бы меня не застигла гроза. И позвонила папе по телефону. — Как он поживает? — Да так себе. Такая погода не для него, разумеется. Поеду проведать его в четверг. — Лучше поезжай в пятницу. Я проторчу на студии целый день. Значит, мои опасения были необоснованны. Но после первой радостной реакции я был вынужден признать, что Матильда прекрасно могла назначить свидание и в Париже — в таком случае алиби в виде поездки к отцу ей абсолютно не требовалось. И меня снова начали одолевать сомнения. Я принял успокоительную таблетку, чтобы заснуть, и назавтра, едва дверь за Матильдой закрылась, позвонил Мерлену. — Успокойтесь, — сказал он. — Мы делаем все необходимое. — Но скажите мне только, где моя жена была вчера. Я знаю, что она не покидала Париж. Я установил это по счетчику ее машины. — Вот и ошибаетесь, дорогой мсье. В полдень она находилась в Ла-Рош-Гюйоне. — Что?.. Не могла же она, однако, подделать показания счетчика? — Нет. Она поехала туда на голубой малолитражке. — Черт побери! Но с кем? — Вот это мы вскоре узнаем. Прошу вас, мсье Миркин, наберитесь терпения. Как видите, дело продвигается успешно. Он повесил трубку. В Ла-Рош-Гюйоне! Разумеется, это ли не идеальное место для любовного свидания?.. На берегу Сены, скалы, замок... Меня трясло от бешенства. Измена Матильды перестала быть гипотезой, чем-то абстрактным, что силой воображения можно строить и разрушать. Она зафиксирована как факт, получила подтверждение. Я достал из папки для бумаг револьвер и начал упражняться с ним, чтобы набить руку. Оружие не очень тяжелое, рукоятка легко умещалась в ладони. Мужчине с малолитражкой осталось уже недолго смеяться надо мной. Я положил револьвер на прежнее место. Как и накануне, я отсутствовал весь день. Я жил словно в тумане, как под действием наркотика. Мир вокруг меня, казалось, состоял из светящихся пятен — витрин, афиш, лиц, в ушах непрерывно шумело что-то вроде морского прибоя. Я неплохо выдержал два дня, в течение которых не сказал Матильде почти ни слова. — Что с тобой? — допытывалась она. У нее даже хватило наглости спросить: — Ну что я тебе такого сделала? — Ничего. Просто я сейчас много работаю. Впрочем, это была сущая правда. Я играл с полной отдачей, чтобы довести себя до изнеможения. В четверг я опять позвонил Мерлену. — Ничего нового, — сказал он. — Не надо нервничать. — А как насчет малолитражки... — Мы вернемся к этому разговору в субботу, когда, надеюсь, будем располагать почти что всеми данными. — Ну как, по-вашему, у нее есть любовник? — Очень похоже на то. До субботы, мсье Миркин. Вам удобно около двенадцати? Я перестал есть. Не спал без снотворного. Руки временами противно дрожали. И я не мог больше смотреть на Матильду, не думая о Ла-Рош-Гюйоне, об их спальне. Наверняка они завтракают в постели. Впрочем, нет, поскольку они там не ночуют. Я уже не знал, что и думать. Я был на грани нервного срыва. — Так, значит, завтра я еду повидать папу, — сказала Матильда. Я не сдержал ухмылки. — Тебе это неприятно? — Вовсе нет! — вскричал я. — Поезжай! Можешь ездить, сколько твоей душе угодно. Ему повезло, что у него такая преданная дочь, как ты. Матильда расплакалась. Шлюха! Я еще не знал за ней этого таланта — вызывать слезы по желанию. Я принял такую дозу снотворного, какой можно убить быка, а когда проснулся назавтра, она уже уехала. Попутного ветра! У меня кружилась голова. Я попытался выпить кофе. Меня чуть не стошнило. Я не понимал, куда она клонит. Если я ей надоел, то почему она не требует развода? Может, она боится? Однако она должна подумать и о том, что рано или поздно правда выплывет наружу. Значит?.. Я позвонил на студию и сказал, что заболел. В какой-то миг у меня промелькнуло искушение сесть в машину и поехать в Ла-Рош-Гюйон. Но что я буду там делать?.. Самым мудрым было предоставить агенту Мерлена действовать спокойно. Я вышел из дому и отправился бродить по улицам. На вокзале Монпарнас я сжевал бутерброд. Вполне возможно, что в этот самый момент Матильда садится за стол какой-нибудь гостиницы на берегу Сены. Я представлял себе, как она смеется, открывая свои зубки чревоугодницы: «Что будем есть?» В возбуждении она способна проглотить самую калорийную пищу, а потом два дня поститься. Этот подонок, сидя напротив, не сводит с нее глаз, как вороватый кот. А сверху сияет голубое небо, воспеваемое в романсах. Летние женские платья едва прикрывали тело. Даже воздух в Париже был хмельным. Я шел, сам не зная куда. Наверное, я походил на тех одиноких стариков, что бродят по улицам без цели, с пустой хозяйственной сумкой в руке, и разговаривают сами с собой. Зимой есть надежда на приближающийся вечер. Но эти июньские дни блистали победным светом допоздна. Время от времени я делал над собой усилие и думал: «Она раздевается. Она курит в постели, ожидая его». Или же, двумя улицами дальше: «Вот теперь они занимаются любовью». Легкий шорох листьев на бульваре. Я оперся о дерево. Мои веки увлажнил пот, который был соленее слез. Я дышал через силу. Икры ног дрожали, как у скалолаза, который вот-вот сорвется. Я решил присесть на террасе кафе. — Мсье плохо себя чувствует? — спросил официант. — Это от жары. Дайте-ка мне кружку пива и аспирин. Гудение в голове уменьшилось. Мало-помалу животное умиротворение растеклось по всем членам, потом глаза застлала сонливость. Я почувствовал себя намного лучше. Я находился далеко. Один. Что такое любовь, если хорошенько поразмыслить? Я искал ответа, но тщетно. Для него потребовались бы слова, много слов, а молчание так приятно. Неужели я уснул? Тень внезапно расширилась. Она достигла середины мостовой. Я чувствовал себя лучше. «Они пьют последний стакан перед возвращением в Париж. Я тоже пью. Мы пьем все вместе, как добрые друзья. В конце концов, почему бы нам и не делить одну женщину?» Я расплачиваюсь и снова пускаюсь в путь. Самое трудное позади. Но мне не хватает мужества на то, чтобы подняться к себе, на то, чтобы притворяться... Если она заговорит о своем отце, я залеплю ей пощечину. У нее будет время предупредить другого, а ведь именно этот другой мне и нужен! Я позвонил в полвосьмого. Она уже вернулась. Я в двух словах сообщил, что приеду поздно, возможно, после полуночи. И снова принялся бродить, на этот раз по набережной Сены, потому что свежесть, исходящая от реки, действовала на меня благотворно. Я снова играл в тайные игры своего детства... Например, я — бутылка, брошенная в море. Я плыву себе по воле волн, тону в водовороте, опускаясь до самого черного дна океана, а потом разом всплываю на поверхность. Тут за мной наблюдает птица. Но того послания, какое я несу с собой, никто никогда не прочтет. Это был один из тех вечеров, какие я любил, весь прочерченный красными линиями габаритных огней, и, если бы машины не создавали такого шума, можно было бы расслышать крики стрижей. Я сел на скамейку, откуда виднелись башни собора Парижской Богоматери, окрашенные в волнующие полутона. А потом пришла ночь, которая бередила сердце. И спустя долгое время час настал. У меня заболели ноги, и я медленным шагом, кратчайшим путем вернулся к себе домой. Матильда спала. Я потихоньку разделся и скользнул под одеяло рядом с ней. Ее тело внушало мне ужас. Я мгновенно провалился в тяжелый сон, который меня отпустил, когда за окном уже сверкал день. Когда я встал, квартира была пуста, но Матильда перед уходом вывела губной помадой на зеркале в ванной: «Пока. Я тебя люблю». Я попытался стереть надпись с размаху губкой. Но получилась алая мазня, кровавая пелена, сквозь которую проглядывало мое перекошенное лицо... Первая картина моего преступления. Я снова вскипел от гнева. Залпом выпил свой кофе и, наскоро приняв душ, направился к Мерлену. Наконец-то я узнаю правду. Три четверти часа спустя я предстал перед ним в его кабинете, где пахло стылым табаком. — Я собрал более чем достаточную информацию, — сказал Мерлен. — Вот она. Его ладонь прижимала машинописные листки. — Я кратко изложу вам отчет своего агента. Итак, в понедельник утром ваша жена села в машину и поехала на стоянку на площади Инвалидов. Затем она встретилась с мужчиной, который ждал ее в голубой малолитражке, припаркованной там же. — Кто он? — Все в свое время! В нашей профессии узнать все с первого захода невозможно. Я еще не знаю имени этого человека. Но скоро узнаю. Однако могу вам сообщить уже сейчас, что речь идет о мужчине лет тридцати, брюнете с пышной шевелюрой, очень элегантном... Машина поехала на большой скорости и остановилась в Ла-Рош-Гюйоне, где наша парочка пообедала в ресторане «Золотая рыбка», прямо напротив замка, если вы представляете себе это место. Часа в два они опять сели в машину и проехали около километра в сторону Отроша. Мужчина открыл ворота в усадьбу слева, сразу же за перекрестком. На дощечке надпись: «Глицинии». С дороги видны парк и крыша просторной виллы, другой стороной выходящей к Сене. Парочка уехала оттуда в пять тридцать. На стоянке ваша жена пересела в свою машину и прямиком вернулась к себе домой. Погодите... я предвижу ваш вопрос: номер этой малолитражки. Так вот, это номер 1189—FV75. У меня там в префектуре друг; к сожалению, ближайшие несколько дней его не будет. Мы узнаем у него, кто хозяин этой машины. Чуточку терпения... Я продолжаю. Вторник, среда, четверг — ничего примечательного. Ваша жена ходила за покупками, здесь подробный отчет о ее перемещениях... Ничего интересного... Но вот вчера... — Она собиралась проведать своего отца. — То-то и оно! Сценарий понедельника повторился один к одному... Парковка у Инвалидов... автострада... Мант... Ла-Рош-Гюйон... «Золотая рыбка»... Затем вилла «Глицинии». Но тут мой агент, желая побольше узнать о поместье... обошел его кругом и умудрился, вскарабкавшись по стене со стороны Сены, сфотографировать виллу... Более того, с помощью телеобъектива ему удалось сделать вот этот снимок. Мерлен пододвинул ко мне чуть выгнутый глянцевый прямоугольник, и тут мое сердце остановилось. Я увидел Матильду на балконе, завернутую в купальный халат, распахнутый на груди. Явно надетый на голое тело. Она курила и, повернув голову, похоже, разговаривала с кем-то, кто находился в спальне. — Комментарии излишни, не так ли? — спросил Мерлен. — Вы сможете развестись с ней, когда пожелаете. Я шевелил губами, но не мог выговорить ни слова. Мерлен отнял у меня фотографию, подколол ее к рапорту, который, сложив вчетверо, сунул в конверт. — Могу вас заверить, — добавил он, — что наши подопечные ни о чем не подозревают. Мой агент действовал очень умело... Я подготовил вам небольшой счетец. Бросив на него взгляд, я выписал чек. Теперь мне было плевать на деньги. — Заходите в среду. Я смогу сообщить вам имя этого господина. Среда! Несомненно, к среде этого господина уже не будет в живых. Я убью его раньше. Я выходил из помещения почти ощупью. Образ Матильды на балконе плясал у меня перед глазами.Глава 4
С этого момента Матильда стала мне чужой. Когда при встрече она как бы невзначай встряхивала у меня перед носом своими волосами, еще пахнущими парикмахерской, или целовала, обнимая за шею, я позволял ей все, смущаясь и удивляясь, как если бы рядом со мной находилась кузина, давно потерянная из виду, которая нежданно-негаданно нагрянула ко мне из провинции. Я слушал, как она говорит, и ее болтовня казалась мне пошлой; я смотрел на нее и находил вульгарной. Еще немного, и я обратился бы к ней на «вы». Квартира была уже не совсем прежней. Да как же я столько времени мог жить здесь? А между тем я оставался самим собой. Более того, я был поразительно настороженным, напряженным, намного более восприимчивым, чем обычно, к цветам, запахам, шумам. — Знаешь, папа чувствует себя неважно. Вчера ему было трудно дышать. Я так огорчена. Но не могу же я все время проводить в Морете... Как ты думаешь, может, мне съездить туда в понедельник? — Ну разумеется, не следует оставлять его одного, беднягу. Я был таким вежливым, таким отрешенным, что она внимательно взглянула на меня, несомненно задаваясь вопросом: не насмехаюсь ли я над ней? На самом же деле я испытывал полное безразличие. Да пускай весь мир провалится в тартарары! — Ну а как ты? Дела идут? — Почему бы им не идти? — Похоже, у тебя плохое настроение. — У меня? С чего ты взяла? — Тебя что-нибудь раздражает? Это звучало просто смешно. Я невольно улыбнулся. — Не выдумывай. Просто я занимаюсь отупляющей работой — вот и все. — Если ты не очень устал, давай сходим в кино, ну пожалуйста. Кино! Очень хорошо! Мне было все равно. Судя по афише, показывали вестерн. Револьверы стреляли сами собой. Шум выстрелов ласкал мой слух. Матильда сидела рядом со мной и сосала карамельку, как заурядная модистка. Все отдавало фальшью и подделкой, но я уже не возмущался. Мне оставалось играть в эту игру еще сутки. В воскресенье утром я обнаружил, что трушу, совсем как накануне конкурса в Консерваторию. Кофе вызвал у меня тошноту. Во рту привкус ржавчины. Мерзость! Матильда забеспокоилась. Я отвергал ее заботы — вежливо, но твердо. С нашим союзом покончено. Она стала для меня всего лишь случайной женщиной, которой сначала платишь, а потом о ней забываешь. — Ступай, — сказал я ей. — Ступай погулять. А я посплю, и мне станет лучше. В последующие часы мое недомогание только усилилось, и я опасался, что назавтра не смогу двигаться. А между тем мне это потребуется... Я все время старался вообразить сцену. Застав их в ресторане, я выстрелю в упор. Он рухнет на стол. Вино и кровь сольются воедино. Я услышу крики. Несомненно, меня изобьют. Тем лучше. Быть может, физическая боль вытеснит другую. Но в понедельник клиентов почти не бывает. Официантки разбегутся, и я уйду беспрепятственно. Мне придется даже спросить дорогу в жандармерию. В этом неизбежно будет что-то от шутовства. Мужчина, убивающий соперника, — это так несерьезно! Мне уже говорили, что я комедийный актер! А вдруг моя рука дрогнет от волнения и я промажу? Придется выстрелить несколько раз, целясь в сердце... А потом мои мысли перенеслись на другое. Кто окажется передо мной, поскольку этот кретин Мерлен так и не сподобился узнать имя? Кто?.. Видано ли, чтобы творящий правосудие не ведал личности виновника? Карающая десница, разящая наугад! А что, если в последний момент меня парализует от удивления? Что, если, увидев меня, мужчина воскликнет: «Кого я вижу! Миркин! Не выпьете ли с нами за компанию?» Я насмехался сам над собой, стиснув зубы. К тому моменту, когда Матильда вернулась домой, у меня поднялась температура и произошло то, чего я страшился: она ставила мне компрессы, заваривала настойку. Ну и видок у этого убийцы! Я был бледнее и чувствовал себя более разбитым, чем эмигрант, терзаемый морской болезнью в трюме корабля. В каком-то смысле я и был эмигрантом, только меня не ждала земля обетованная. Я провел неспокойную ночь. Опасаясь, что стану разговаривать во сне, я гнал от себя сон. И все же он меня сковал. В понедельник утром я проснулся совершенно обессиленным. Мне пришлось умолять Матильду съездить в Морет. — Как я могу оставить тебя одного?.. — Поезжай, прошу тебя... — Нет, нет. Смехотворные пререкания. — Я только туда и обратно, — пообещала Матильда. «Прощай, бедная вдова!» — подумал я, услышав, как она спускается в лифте. Красивые слова в стиле Александра Дюма. Я решительно окунался в мелодраму. Это впечатление игры в третьесортной пьесе для гастролей по провинции усилилось, когда я сунул револьвер в карман, рядом с носовым платком. От револьверной смазки пальцы стали липкими, словно я ковырялся в банке с вареньем. Мне достаточно выехать около одиннадцати. Нет нужды приезжать слишком рано. Это смахивало на ход мыслей пьяницы, который рассчитывает попасть к застолью. Я приготовил себе крепчайший кофе, который выпил залпом без особого отвращения. Теперь все шло в счет и имело значение, поскольку полицейские станут меня допрашивать также о времени, предшествовавшем преступлению. Ну что ж, в десять я иду под душ. В десять пятнадцать — бреюсь. В десять сорок пять — выхожу из дому, ищу свою машину, так как позабыл, где же я ее оставил. Я нахожу ее в соседнем квартале. Она уже раскалилась, и я поднимаю откидной верх. Я выезжаю немного раньше предусмотренного, так как не выдерживаю ожидания, но зато еду не спеша. Впрочем, я очень люблю эту дорогу, которая сегодня утром напоминает об отпусках. Откосы в цветах. Машин мало. После Манта передо мной предстает обширная перспектива пейзажа, вплоть до белых скал, повторяющих извивы Сены. Жара невыносимая. Ровно в двенадцать двадцать я добираюсь до первых домов Ла-Рош-Гюйона. Поскольку я намереваюсь явиться не в машине, а пешком, чтобы меня заметили только в самый последний момент, я оставляю свою малолитражку перед бывшим оптовым рынком. По словам Мерлена, «Золотая рыбка» находится как раз напротив замка. Это в двух шагах отсюда. Мое сердце колотится, а между тем я спокоен. Я бы очень удивился, если бы мне сказали, что я собираюсь кого-то убить. Напротив, что-то страшное должно случиться со мной самим. Вокруг полно машин, выставленных, как на продажу. Я замечаю крытые беседки ресторана. Здесь тоже полно народу. Девушки в длинных платьях. Свадьба! В ресторане играют свадьбу! Стук посуды, стаканов, смех. Мне хочется повернуть обратно. Осечка! Стрелять в любовника моей жены, когда кругом кричат: «Да здравствует новобрачная!» Нет, это немыслимо. Это смешно! Но, прикинув в уме, я быстро соображаю, что, наоборот, обстоятельства складываются для меня благоприятно. Должно быть, те двое обедают отдельно, в малом зале. Никто на нас не обратит внимания. Револьверные выстрелы затеряются в гомоне голосов свадебного пиршества. Я выйду, словно один из гостей, который пошел что-то поискать в машине, и... Мне приходит в голову мысль, что, быть может, мне и не придется отдавать себя в руки полиции. У Матильды, которую я все-таки знаю достаточно хорошо... у Матильды никогда не хватит мужества на меня донести... Значит, если никто меня не заметит... и я буду действовать достаточно быстро... У меня уже нет времени взвесить все «за» и «против». Человек тридцать толпится вокруг длинного стола, накрытого под деревьями. Трапеза еще не началась, и гости пока что заняты аперитивом. А между тем гомон становится все оглушительней. Мужчины сбросили пиджаки. Официантки снуют с подносами, нагруженными бутылками. Одна из них останавливается напротив меня. — «Чинзано»? Портвейн? Виски? Я беру «чинзано». Стакан в руке придает мне самообладания. Я иду вверх по аллее и захожу в ресторан. Перед баром с десяток мужчин шумно обмениваются шутками. — Сюда! — весело окликает меня самый толстый. И тут же хватает меня за руку. — Допивай свой стакан, приятель... и отведай-ка виноградного! С минуту я их слушаю. Как бы мне от них улизнуть? Каждый считает меня родственником другого. Они призывают меня в свидетели. — А если правительство не прекратит блокировать цены, черт побери, то мы заблокируем дороги! — Ясное дело, мы заблокируем дороги! — поддакиваю я. За новую порцию выпивки все голосуют поднятием руки. Я делаю вид, будто ищу что-то в кармане, и удаляюсь, словно что-то потерял. И тут замечаю в глубине застекленную дверь. Несомненно, мне сюда. Открываю ее. Действительно, за дверью маленький зал, но он пуст. Останавливаю официантку. — Вы не видели молодую женщину с господином? Они ваши постоянные клиенты. Приезжают сюда в голубой малолитражке. — Сегодня у нас другие заботы. Я удерживаю ее за рукав. — Они обедали тут в прошлую пятницу. — Знаете, у нас бывает столько народу... Спросите хозяина. Я ищу хозяина... Мой план провалился, я чувствую это и испытываю растерянность. Я натыкаюсь на добродушного малого со здоровым цветом лица и пышными усами, который тщетно пытается прикурить сигарету от неисправной зажигалки. — Нет ли у вас огоньку? Я выручаю его своей зажигалкой. — Пошли-ка чего-нибудь выпьем. Он властно подталкивает меня к бару. Его приветствуют дружеские возгласы: «Да здравствует господин мэр!» — Весьма польщен, — говорю я. — Но я здесь только мимоходом... — Не имеет значения, молодой человек. Теперь мой черед угощать. Жермена, принеси нам рикар. И я снова пью. Увидев приготовления к свадьбе, они отправились обедать в другое место — ясно как Божий день. У меня нет больше ни сил, ни желания. Мне не остается ничего другого, как вернуться в Париж. По счастью, меня выручает фотограф, который входит со своими причиндалами через плечо. Гром аплодисментов. Я выскальзываю на улицу. Рубашка прилипла к спине. Я более печален, сильнее подавлен, чем если бы убил Другого. Возвращаюсь на площадь, к своей машине. Что мне делать? Но ведь я еще могу взглянуть на виллу. Отсюда до нее рукой подать. «Какой-нибудь километр... слева за перекрестком» — по словам Мерлена. Кто знает, нет ли их там? Не обедали ли они спокойненько у себя? У себя! Вот слово, которое меня воодушевило! Я еду не спеша. Проезжаю перекресток — и вдруг вижу решетку ограды, табличку: «Глицинии». Сквозь ветки различаю крышу. Это здесь. Я останавливаю машину чуть поодаль, возле поля, и возвращаюсь по своим следам. Пластины листового железа укрепляют решетку и не позволяют заглядывать любопытным. Я поворачиваю ручку. Калитка не заперта на ключ. Я в нерешительности. Если я сейчас застрелю его, предумышленность предстанет еще более явной, чем в ресторане. Все присутствующие на свадьбе послужат свидетелями обвинения. Официантка скажет, что я искал парочку. Мэр скажет, что у меня был вид человека очень спокойного и полного решимости. Тем хуже! Приоткрыв калитку, я ступаю на территорию виллы. Одним взглядом фиксирую все детали: густую заросль смородинника, аллею каштанов, ведущую к дому, а по бокам, слева и справа, тенистый парк. Под моими ногами хрустит гравий. Я предпочитаю ступать по траве. Вероятно, они находятся с другой стороны дома, перед фасадом, глядящим на Сену. Я иду вдоль клумбы из красных цветов, и передо мной открывается ранее скрытая от глаз часть сада. На шезлонге под оранжевым солнечным зонтом спиной ко мне у края бассейна возлежит мужчина. Рядом с ним на низеньком столе стоят чашка и кофейник. Одна-единственная чашка. Выходит, Матильды тут нет! Я жду мгновение. Быть может, она выйдет из виллы. Ничего подобного. Рука мужчины тянется к чашке. На его запястье сверкают часы. Каждая деталь отпечатывается в моей памяти раз и навсегда. Жужжат пчелы, по лужайке позади бассейна прыгает птица. Я делаю шаг вперед. Второй. Мужчина оборачивается, потом вскакивает. На нем одни плавки. На теле почти никакой растительности: длинный белокожий сопляк. Мериль! Конечно же Мериль! Так я и думал. — Что такое? Он меня сразу узнал. — Ах! Какая неожиданность! Миркин! Я подхожу ближе, крепко сжимая револьвер в кармане. — Моя жена здесь? — Вы в курсе дела?.. Так я и думал, что в конце концов вы узнаете. Я говорил ей. Нет, старина, нет. Она, и в самом деле, сейчас поехала к отцу, в Морет. Не признайся он с таким цинизмом, я бы еще, пожалуй... Но уже в следующую секунду я становлюсь другим человеком. Я вытаскиваю револьвер, и выстрелы получаются у меня сами собой. Каждая пуля отбрасывает его назад. Он падает на газон. Чашка разбивается о цемент бассейна. Вдруг мне чудится, что в стороне дома движется тень. Я поворачиваюсь, нацелив пистолет, и различаю старого слугу в белой куртке, открывающего рот, чтобы закричать. И тут меня охватывает паника. Как сумасшедший я несусь по клумбам, выбегаю на аллею. Я сам не знаю, что делаю. С остервенением толкаю калитку, вместо того чтобы тянуть ее на себя. Поскольку револьвер мне мешает, я его забрасываю далеко в кусты смородинника. И потом снова оказываюсь на дороге. Запираюсь в автомобиле. Я слишком дрожу, чтобы вести машину, массирую сердце, которое готово выпрыгнуть из грудной клетки. Наконец, чуть ли не ощупью, включаю зажигание и уезжаю. Делаю большой крюк и Попадаю в Мант через Бонньер. Я совершенно позабыл о том, что когда-то имел намерение отдаться в руки полиции. По правде говоря, я не способен ни к одной ясной мысли. Я возвращаюсь домой, как голубь в голубятню, подталкиваемый некой настойчивой силой. Время от времени я твержу: «Ну все! Ну все!» — не очень-то зная, что хочу этим сказать. Мне необходимо вытянуться на постели и отдыхать долго-долго. Дорога запружена транспортом. У меня ноет поясница, болят плечи. Как же, оказывается, трудно быть живым! Я останавливаюсь у тротуара, неподалеку от дома, уже в пятом часу. Меня плохо держат ноги. Я едва тащусь к лифту. С удивлением смотрю на прихожую, спальню. И валюсь на кровать, безвольно, как Мериль — там, в траву. Ждать. Спать. Я надеялся провалиться в сон. Но именно теперь, наоборот, начинаю перепрыгивать с одной мысли на другую. В голове вертится целая карусель... Не только в ресторане меня видело сорок человек, но и слуга Мериля тоже сможет описать мои приметы. Матильда, узнав новость, сразу же заподозрит меня. Это неизбежно. И Мерлен! Мерлен, которому я обязан адресом виллы!.. Следовательно, считай, я пропал. Самое позднее завтра они будут тут. Со всеми доказательствами на руках. Завтра? Быть может, прямо сейчас? Ибо Матильда, несомненно, оставила на вилле одежду, личные вещи. Кто знает, не известно ли слуге ее имя? И потом, возможно, найдут револьвер. С отпечатками моих пальцев. Ладно, ставки сделаны. Сегодня вечером я буду ночевать в тюрьме. Так что лучше представить им виновного в достойном виде. Я встаю. Раздеваюсь, чтобы переодеться в костюм поприличнее. Ничто не дается даром: я беру твою жизнь, ты берешь мою свободу. Я вынимаю из шкафа белье и кладу в чемоданчик. А также бритвенный прибор. Зубную щетку. Что еще? Почем я знаю, что положено брать с собой в тюрьму? Пять часов. Я листаю телефонный справочник. Какого адвоката выбрать? Тут их именами заполнены целые колонки. Известный адвокат разорит меня вконец. Мое дело самое что ни на есть банальное: убийство на почве ревности. Я признаю все факты. Тут я присаживаюсь, чтобы подумать. На данном этапе я имею право посмотреть правде в глаза. Убивая Мериля, я терял Матильду. Тогда почему же я его убил? Защищая свое достоинство? Из самолюбия? Полноте! Что я отвечу председателю суда присяжных? Но прежде всего, что я должен ответить самому себе? Скажут: Миркин — человек беспокойный, неуравновешенный... Да ничего подобного. Правда заключается в том, что я люблю Матильду. Люблю так сильно, что готов потерять. Люблю так сильно, что готов дойти до конца. Это нелогично, а между тем так оно и есть на самом деле. Первое замешательство прошло, я чувствую себя незапятнанным. Я закуриваю. Шагаю туда и обратно по комнате. И я чист, как стеклышко. И я люблю чистую Матильду. Матильду освобожденную. Не вчерашнюю, а будущую. Адвокат во всем этом легко разберется, если он настоящий профессионал. Я ищу благозвучное имя... Лузиньян... Вот. Я попрошу защищать меня мэтра Лузиньяна. Звонит телефон. Я съеживаюсь на стуле. Уже! Быстро же они отреагировали. Снимаю трубку. Это Матильда. — Где ты? — Разумеется, в Морете. Где, по-твоему, мне еще быть?.. Я тебе звоню, потому что у папы начался приступ. Не очень сильный. Удушье, как обычно. Но я думаю, будет благоразумнее, если я переночую здесь. Я возвращусь завтра утром, как только явится прислуга. Она знает, как за ним ухаживать. — Согласен. — С тобой все хорошо? — Да, разумеется. — Целую. До завтра! Целую! Это простое слово меня потрясает. Возможно, я лишил ее шанса. А что, если Мериль был для нее всего лишь мимолетным увлечением? И она уступила ему только из нежелания потерять место? Теперь я вынужден пересмотреть все подозрения, открывшие мне глаза. Ах! У меня будет что рассказать следователю! Про все эти незначительные детали, которые свидетельствуют о разладе... «О чем ты думаешь?..» — «Ни о чем». Глаза, которые отводятся в сторону, и — какое удачное выражение! — по лицу проходит тень... молчание... перемены в прическе... ее отлучки из дому, которые становятся все более частыми и продолжительными... сексуальность взамен нежности... рассеянность по мелочам, потом забывчивость... «Тебе не попадался мой шарф? Куда я его задевала?» — и краска смущения, внезапно заливающая лицо... А сколько еще других симптомов. Не говоря уж об этих поездках к отцу, все более участившихся! О-о! Да, она мне не отказывала! Впрочем, уверен, что увижу, как она рухнет, когда я суну ей под нос газету... если еще буду тут завтра утром! ...Трудно поверить, но наступил вторник, а я все еще дома. Вечер, ночь прошли, но никто так и не объявился. Не могу сказать, что я дышу свободнее, но чемоданчик я убрал на место. Я не спеша и плотно позавтракал, держась начеку. На свои руки смотрю уже без отвращения. Они перестали дрожать. Это не руки преступника. Я не испытываю даже признака угрызений совести. Сожаление, разумеется. Матильда не должна была подталкивать меня на это убийство... Но предположим, что полиция сбивается со следа. Не Матильда же донесет на меня! И не Мерлен, который, если дать ему денег... Таковы мои утренние мысли, дарящие надежду в этот длинный летний день. Только не быть простофилей. Худшее все еще впереди. Однако не возбраняется верить, что еще не все потеряно, остается место для новых поворотов событий, которые могли бы сыграть мне на руку. В восемь я спускаюсь купить газету. Новость помещена на первой странице:Глава 5
Она позвонила в магазин. Я прислушивался рассеянно, полностью находясь во власти душевной муки. — Представляешь?.. Да, это ужасно... Думаешь, нас будут допрашивать? Но мы же ничего не знаем... Я от этого просто заболела... Нет, мне ничего не известно о его врагах. А тебе? Я на цыпочках пошел в спальню и включил транзистор, чтобы послушать девятичасовые новости. Матильда меня не подозревала. По крайней мере, от нее мне не придется опасаться сюрпризов. Это тоже доказывало, что все мои фантазии на ее счет — напраслина. Как мог я так заблуждаться? Эти улики, которые я собирал день за днем... Что ни говори, а ведь мне все это не приснилось! Или же у нее в любовниках ходит кто-то другой?! О Господи! «...Жандармерия Ла-Рош-Гюйона приглашает срочно явиться всех автомобилистов, заметивших в понедельник между полуднем и четырнадцатью часами машину, припаркованную неподалеку от виллы «Глицинии». Полиция внимательно заслушала показания слуги господина Мериля. Он видел преступника на достаточно близком расстоянии, но так мимолетно, что его описание получилось довольно расплывчатым: молодой человек, скорее высокого роста, чем среднего, в костюме светло-серого цвета из твидовой ткани; с непокрытой головой. Интересная подробность: похоже, у него очень длинные волосы. Ни одна гильза в саду не обнаружена. Может быть, вскрытие позволит...» У меня вспотели ладони. В соседней комнате Матильда все еще названивала по телефону. Если я избавлюсь от серого костюма, она сразу заметит. А мои волосы? Если я подстригусь, она задастся вопросом: почему? Опасность приближалась. Сдаться в руки полиции? Об этом не может быть и речи. Теперь уже не поможет! За убийство по недоразумению тоже наказывают. Я рисковал головой. И по иронии судьбы — очередная незадача — именно Матильда могла погубить меня скорее, нежели кто-либо другой. Услышав, как она положила трубку, я вернулся в гостиную. — Мартина думает, что полиция станет нас допрашивать, — сказала она. — Я уже не знаю, на каком я свете. — На вилле никогда не бывало визитеров — ты в этом уверена? — Совершенно. Начнем с того, что Жан-Мишель был очень скрытным. Он слишком дорожил этим проектом. В его планы входило создать трикотажную фабрику и начать широкую рекламную кампанию! Его ссудили большими суммами... Она промокнула глаза. — Но ведь тебя же он посвятил в свою тайну. — Только по необходимости. Я неизбежно обратила бы внимание на качество новых тканей. Но я дала ему слово хранить его тайну. — Неужели ты хочешь меня уверить, что только ты одна и была в нее посвящена? — Нет, разумеется. Но его все любили. Он был такой милый. Никто бы его не предал. Она снова расплакалась. Сколько ни ищи, я не видел следа, который вел бы не ко мне. Что я отвечу, если меня спросят, как я провел понедельник? Я совершил это преступление в каком-то смысле бездумно, не приняв никаких мер предосторожности. У меня оставался один малюсенький шанс: с точки зрения полиции, никакого повода убивать Мериля у меня не было. Разве моей жене не светила большая выгода, продолжи он свою работу? Я смотрел на Матильду, которая пыталась подправить макияж. — Что же ты скажешь? — Кому? — Ну, полиции. — Я не знаю, какие вопросы они нам зададут. — На вилле остались твои вещи? — Нет. Но я не смогу утаить... — Как бы то ни было, советую тебе особенно не распространяться. Когда полиция сует нос в личную жизнь, это может далеко завести. Я наблюдал за Матильдой. Моя подозрительность не уменьшилась, а у нее, вполне возможно, еще оставалось, что утаивать. Однако ее рука, наводившая синие тени на веки, не дрогнула. — Болтать я не расположена, — сказала она. — Этот каталог, о котором ты упомянула, уже находится в печати или только готовился? — Только готовился, к несчастью. — Полагаю, задумка Мериля не уйдет в песок. Готов биться об заклад, что его каталог все же увидит свет. Все фото находятся там, на вилле? — Разумеется. — А как ты снималась? Я хочу сказать: только по пояс или в полный рост? — В полный рост. Но с кашетой на лице. У меня сжалось сердце. Откровенные фотографии, как и следовало ожидать. — Так что люди не смогут тебя опознать? — Нет. Сколько сожаления прозвучало в этом «нет»! Как она была бы горда, если бы фигурировала на рекламах в метро полуголая! Красивейшие груди Парижа! — Послушай, Серж, не вздумай все начинать сначала! — Да нет. Я просто хочу разобраться в ситуации. Эти фото... они могут натолкнуть полицейских на мысль. Не опережай их вопросов. Поверь мне. Чем немногословней ты будешь, тем лучше... для тебя... и для меня тоже. На радио не очень-то любят рекламу подобного сорта. А я вовсе не желаю, чтобы меня выгнали с работы. — Ладно. Убегаю. До вечера, Серджо. Сейчас самым срочным было обезопасить себя со стороны Мерлена. Он-то знал. Он — единственный, кто держит в руках все нити. И ему нет никакого резона, сохраняя молчание, становиться соучастником преступления. Но что сделать, чтобы помешать ему говорить? Я видел только одну возможность — сказать ему почти всю правду... «Моя жена работала у Мериля манекенщицей... Она часто встречалась с ним на его вилле, где помогала готовить новую коллекцию нижнего белья... Она скрывала от меня свои поездки, зная, что мне это не очень-то придется по душе. Мы с вами ошибочно толковали обстоятельства по их видимости, а они имели совсем иной смысл» — и так далее. Казаться совершенно искренним человеком, у которого отлегло от души. Что касается преступления, то оно — простое совпадение. Конечно же, достойное сожаления. Я первый, кто оплакивает исчезновение этого бедняги Мериля, так как моя жена занимала у него очень неплохое положение. Станет ли еще другой хозяин использовать ее услуги манекенщицы?.. Я прекрасно вижу предстоящую сцену у Мерлена и в метро, по дороге к нему, заканчиваю ее отработку: мимика, интонации — все! Мне необходимо произвести хорошее впечатление на Мерлена, который, похоже, не очень-то спешит идти в полицию исповедоваться. Короче говоря, достаточно снять груз с его совести! Мерлен принял меня безотлагательно. Мне показалось, что он весьма далек от озабоченности, досады и, напротив, старается обуздать какую-то лукавую радость. Указав мне на стул, он приступил к атаке: — Газеты читали? Наступил момент влезть в шкуру моего персонажа. Я старался играть свою роль как можно достовернее. Всего одна нотка жалости по отношению к Мерилю, не навязчиво... Зато я подчеркнуто настаивал на таком деликатном моменте: — Ваш агент оказался на высоте положения... Мы толковали его информацию в одном-единственном смысле, какой она вроде бы подсказывала... И если ошибались, то, право, он тут уже ни при чем. Однако, чем больше я говорил, тем меньше ощущал реакцию Мерлена. Он был плохим зрителем и от меня ускользал. Он смотрел на меня тяжелым взглядом, в котором мелькала ирония. — Ладно, ладно, — наконец произнес он. — Рад узнать, что в вашем доме снова воцарился мир. Открыв ящик письменного стола, он извлек оттуда трубку и стал ее набивать, стараясь не рассыпать ни крошки табака. — Я чуть было не счел, — продолжил он, — виновным вас... Да и вы сами, полагаю, должно быть, пережили несколько тревожных моментов... Кстати, с понедельника у меня появились сведения, которые я вам задолжал. Я узнал, что голубая малолитражка принадлежала Жан-Мишелю Мерилю. Он раскурил трубку короткими затяжками заядлого курильщика. — И заодно узнал, — продолжал он, — нечто такое, что отводило от вас подозрения, в каком-то смысле, априори... Наблюдая за мной, он не мог удержаться от улыбки. — А именно? Я был слишком взволнован, чтобы сохранять спокойствие, как мне было положено по роли. — Мериль питал пристрастие к мужскому полу. До меня дошло не сразу. Как это может отвести подозрения от меня? Но потом у меня открылись глаза. — Вы в этом уверены? — Абсолютно. Естественно, я не укажу вам источники, но это доподлинно известно. Могу вам даже сказать, что несколько лет назад он был замешан в один из так называемых «типично парижских» скандальчиков, которые спешат замять. С тех пор он больше не давал повода для пересудов, но тем не менее!.. Так что не думайте, будто полиции это неизвестно, и в данный момент она должна направить поиски преступника по надлежащему руслу. Поверьте, я сожалею, что не был информирован обо всем этом раньше. Тогда бы вы не сомневались относительно верности своей супруги. Мне хотелось и смеяться, и плакать. Это было глупо, глупо, чудовищно глупо! — Вот вы и окончательно успокоились, не правда ли?.. Все хорошо, что хорошо кончается. Теперь вы понимаете: нельзя горячиться, располагая одними только подозрениями... В следующий раз, дорогой мсье, ведите себя благоразумнее... осмотрительнее. Впрочем, следующего раза не будет. Я полез было в карман, чтобы расплатиться. Мерлен остановил меня: — Нет. Аванса оказалось достаточно. Я и сам ужасно рад, что разделался с этим так быстро. Совершенно очевидно, что дело Мериля встало ему поперекгорла. У него оставалось одно желание: увидеть, что я ухожу. Он проводил меня к выходу и, просунув голову в дверь, напутствовал: — Запомните, вы никогда не обращались ко мне за консультацией... Вашу жену посвящать в наши дела необязательно... И никого другого тоже! Мерлен закрыл за мной дверь, и я степенно сошел по ступенькам. Убийца с пустыми руками! Мужчина, убивающий педераста, которого принял за любовника своей жены! Ну и потеха! И если когда-нибудь... Нет! Я уже сам себя не мог принимать всерьез. Я был смешон. Во всем том, что со мной происходило, присутствовала жестокая насмешка. Но почему именно со мной? Почему все это обрушилось именно на мою голову? Что я такого сделал, чтобы заслужить подобное наказание?.. Я пообедал в кафе. Или, точнее сказать, «некто» пообедал, так как от меня самого буквально ничего не осталось. А потом этот «некто» снова занемог и позвонил на радио, что явится только завтра. Мою новость восприняли прохладно. Но мне все стало безразлично. Пускай мое место займет другой! Не хочу больше и слышать о радио, об инсценировках романов с продолжением. Настоящий роман с продолжением я переживаю сейчас на собственной шкуре. Матильда возвратилась домой довольно рано, в большом возбуждении. — Они приходили. Нас всех допрашивали... Держи, вот «Франс суар»... Но ты не знаешь еще самого главного. Поговаривают, что магазин Мериля выкупит крупная фирма из Труа. Конечно, пока это только слухи. Но если они подтвердятся, я, несомненно, потеряю место... Они обойдутся собственным персоналом, можешь не сомневаться. И это после стольких усилий! Я привел в действие лавину. И она, естественно, все сметет на своем пути. — Чем они интересовались? — Ах! Всякими подробностями о его привычках, частной жизни... И что только можно накрутить вокруг мертвеца, просто тошно. Жан-Мишель имел право заводить приятелей, если ему так больше нравилось. — Ах! Потому что... — Такое подозревали, но, насколько мне известно, вполне возможно, что это и напраслина. — Почему ты мне про это не говорила? — Да ты мне никогда не веришь!.. Пойду-ка приму душ. Я просто без сил. А я развернул газету. «НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ МЕРИЛЯ» — броский заголовок на первой полосе. А также фотография, которую я сразу же узнал. «ГОСПОДИН МАРСЕЛЬ БРУДЬЕ, МЭР ОТРОША», — гласила подпись. У меня в ушах еще звучал шум свадебного пира. «Да здравствует господин мэр!» На сей раз моя погибель неминуема. Официантка из ресторана заговорила. Полицией установлено, что преступник сначала заявился в «Золотую рыбку», предполагая найти владельца голубой малолитражки, то есть Мериля, там. Поэтому полицейские допросили свадебных гостей. Но что мне вернуло немного мужества, так это противоречивость собранных показаний. Одним мужчина показался маленького роста, коренастым, лет сорока. Другим, наоборот, очень молодым и по виду нездоровым. Совершенно очевидно, что к тому моменту, когда я приехал, свидетели уже изрядно выпили. Что касается официантки, то, перегруженная работой, она на меня едва взглянула. Реальную опасность представляли только показания мэра. Когда я предложил ему зажигалку, он увидел меня совсем близко, и память его подвела не слишком. «Скорее высокий... примерно метр семьдесят пять... Блондин с голубыми глазами... Волосы, как сейчас носят... этакая грива... Светло-серый костюм (дался им этот злосчастный костюм — совершенно стандартный, а между тем все на него обратили внимание), одноцветный галстук бордового цвета» (неверно — серый, в тон к костюму). Мэр также заметил на моем пальце обручальное кольцо и упомянул черную зажигалку. — Что они толкуют там, в газете? — крикнула Матильда. — Иди-ка сюда и прочитай мне вслух. — Знаешь, такое впечатление, что они запутались. Она выключила душ и вышла из ванной, завернувшись в махровое полотенце. — Дай-ка взглянуть. Отступать было нельзя. Я протянул ей газету. И наблюдал, как ее глаза перебегают со строки на строку. — Блондинов с волосами до плеч в Париже хоть пруд пруди. Я сама знаю добрую дюжину, начиная с тебя. А серые костюмы в такое время года встречаются на каждом углу. Другой пищи для разговоров у них, похоже, нет. Она стала вытираться с безмятежным бесстыдством и вдруг неожиданно спросила: — Ты пойдешь на похороны? Они состоятся в четверг. На Перлашез. Народу явится видимо-невидимо. Я попытался казаться безразличным, рассеянным. — В котором часу? — В три. — Тогда нет. Я буду занят. — Ты никогда никуда не ходишь. И потом еще удивляешься, что тебя все забыли. Ее слова не содержали никакого юмора. Матильда была очаровательным, грациозным зверьком, всецело занятым собой; она постоянно наводила на себя глянец, как кошка, и была напрочь лишена чувства юмора. Она жила слишком напряженной жизнью. Я погладил ее бок, когда она прошла мимо за красным лаком для ногтей, который понадобился ей для педикюра. Нет уж! Я точно не пойду на похороны. Так же как никогда не возвращусь в Ла-Рош-Гюйон. И еще долго буду — я это чувствовал — наблюдать за лицами вокруг меня: на улице, в метро. Потому что, даже если свидетели уже и позабыли черты моего лица и мою походку, они несомненно узнали бы меня с первого взгляда, если бы случай столкнул нас лицом к лицу. Невероятный случай! Но ведь невероятные случаи не редкость! Взять хотя бы это абсурдное преступление... Боже мой, сумею ли я выпутаться из этой ситуации? У меня оставался, возможно, малюсенький шанс... На следующий день я пошел в банк. Чеки, выписанные Мерлену, свели мой счет почти к нулю. И если Матильда потеряет работу... Еще одно непредвиденное беспокойство. И за все это я должен пенять на самого себя. Я зашел к парикмахеру и подстригся. Не слишком заметно. Нельзя больше допускать оплошностей. Лишь действуя постепенно, мелкими штрихами изменяя свой внешний вид, отпустив небольшую бородку подковой, я, возможно, приобрету другой облик. На это уйдет два месяца. Два месяца... Сумею ли я потом все позабыть? Шезлонг, оранжевый зонт, птица на газоне... Эта картина еще стояла у меня перед глазами, как будто я видел ее только вчера! — Всех этих хиппи, — говорил парикмахер клиенту, — на месте правительства я посадил бы за решетку. Разговор шел об убийстве Мериля. Люди начинали разъезжаться в отпуска. Хроника происшествий оскудела. И это преступление было для газет, для публики просто находкой. Я был готов молить Бога об урагане, землетрясении, любой катастрофе. Мне казалось, я буду подвергаться меньшей опасности, если внимание людей переключится на новые объекты. Я не без отвращения сел в свою малолитражку и отправился на студию, уже приготовившись к тому, что меня отчитают. Какое там! На студии тоже только и разговору, что о преступлении. Марешаль, покинув кабину звукозаписи, вел спор с Вирье и Аллари. — Можешь не волноваться, — говорил Марешаль, — они сумеют замять это дело. Все трое повернулись в мою сторону. — Ты так не считаешь, Миркин? В самом деле, ты наверняка знаешь массу подробностей от своей жены? — Я знаю не больше вашего. — Занятные они, — сказал Вирье, — эти типы, которые живут двойной жизнью. Меня всегда интересовало: а как они узнают один другого? — Джекил и Хайд в одном лице, — сказал Аллари. — Днем он продает всякие безделицы, а по ночам предается сексуальным безумствам. Похоже, его всегда окружали котики. Ладно! Приступаем к делу. И на сей раз, Миркин, всерьез. Я тебя не отпущу до шести. Ведь ты же не ведешь двойного образа жизни! Он хлопнул в ладоши. Минуту спустя репетиция началась. Как всегда, убийственно скучная и изнурительная. До чего же я ненавидел эту профессию! Я не родился стать актером. Писать романы, сценарии, заниматься постановкой — вот это мне по душе. К несчастью... Аллари отпустил нас только в семь. Я пообещал ему прийти назавтра, как если бы все еще располагал своим будущим. Никогда прежде лето не казалось столь волнующим. Я задержался на минутку посмотреть, как течет Сена. Рыба, схватившая крючок, первое время тоже чувствует себя свободной. Она не ведает, что означает боль в уголке губы. Она с удивлением ощущает, как что-то тянет ее назад, но пока вокруг нее ничего не изменилось. Она притаилась в водорослях и чувствует себя в безопасности среди знакомых камней. Да, Сена здорово смотрелась в своем плавном течении между дворцами! Я снова сел в машину и поехал домой, раздумывая, у кого бы стрельнуть деньжат, чтобы перебиться, пока мне не заплатят на радио. От усталости у меня ломило плечи. Еще из лифта я слышал, как у нас в квартире звонит телефон. Очередная плохая новость! Вот и наша площадка. Пока я стану искать ключи, звонки прекратятся. В звонках в пустоту есть что-то зловещее. Я еще бессильно суетился перед дверью, а трубку уже сняли. Значит, Матильда дома. Я потихоньку отпер дверь. Она разговаривала очень быстро и очень тихо. Все мои подозрения разом ожили. Но до чего же это глупо с моей стороны! Возможно, на другом конце провода висела одна из ее многочисленных подруг. Только вот разговаривая с Жоэль, Шанталь или Мартиной, она всегда бывала слишком эмоциональна. Ради собственного спокойствия я обычно уходил в спальню или на кухню. Но сейчас Матильда, наоборот, приглушила голос, что меня и насторожило. Я медленно запер дверь, стараясь не скрипеть, на цыпочках миновал прихожую и уловил на лету несколько слов: — Да, я там буду... Как?.. Да-да, все уладится... Договорились! Нет, он не... Внезапно она оборвала свой разговор и громко спросила: — Какой номер вы набираете?.. Сожалею. Вы не туда попали... Вас неправильно соединили. Матильда повесила трубку. По-видимому, она уловила шум в прихожей или почуяла мое присутствие. Я быстро отпрянул и, притворившись усталым и рассеянным, стал снимать пиджак, затем водрузил его на вешалку. Матильда приоткрыла дверь. — А ты, оказывается, дома. — Кто звонил? — спросил я. — Никто. Неправильно соединили. В который уже раз. Улыбаясь и превосходно владея собой, она подошла, обняла меня за шею. — У тебя все в порядке? Ты хорошо поработал? — Так себе. Ничего особенного. Мы составляли славную пару. Как трогательно! Муж, вернувшийся домой после тяжелой работы. Женушка, которая его смиренно ждала и подносит ему комнатные туфли. Как назидательно! К несчастью, существовал еще и любовник, назначавший ей свидания. «Я там буду. Все уладится...» Что же еще могли означать эти слова? Выходит, любовник существует, но я никак не могу его вычислить. И у меня не осталось ни оружия, ни мужества. — Чему ты смеешься? — спросила Матильда. — Я? Разве я смеюсь?.. Мне было не до смеха, но я как раз подумал, что обманутый муж, который принял за любовника и убил по ошибке не того человека, — просто умора! — Что нового в магазине? — спросил я. — Они приходили опять? — Нет. Но я узнала, что Робера и Марселя допрашивали с пристрастием в течение четырех часов. Делать мы ничего не можем — магазин закрыт. Вот мы и болтаем. Радости мало! Мартина начала подыскивать работу. Но устроиться в другую фирму... — У тебя не очень озабоченный вид. Меньше, чем вчера. — К чему портить себе кровь? Поживем — увидим. Есть хочешь? Я купила ветчины. И вот мы молча сидим за столом перед едой, от которой меня воротит. Мне остается горькое удовлетворение: я себе не сказки рассказывал, я волновался не зря... Но где и когда они встречаются? Не надо забывать, что агент Мерлена следил за Матильдой всего неделю. Эпизод с Мерилем списан со счета, но вот как она устраивается, чтобы видеться с Ним? У меня нет больше денег на новую слежку. И потом, будь я даже осведомлен, я больше ничего не стал бы предпринимать. К чему! Но вот узнать бы... Узнать...Глава 6
Подошел конец недели. Дело Мериля мало-помалу сходило с газетных полос, а полицейские так и не объявились, не замаячили вокруг меня. Однако то, чего опасалась Матильда, свершилось. Она стала безработной, по крайней мере временно. Крупная фирма из Труа собиралась выкупить магазин и пошивочные мастерские Мериля. Неуверенность в завтрашнем дне вызывала озабоченность у нас обоих. Матильда то говорила: «Все уладится. Куда они без меня денутся — им же предстоит выпускать купальники», то у нее глаза были на мокром месте, и она угрюмо курила одну сигарету за другой. После того телефонного звонка я больше не замечал ничего подозрительного. Но, поскольку ее целыми днями не бывало дома, она имела тысячу возможностей встречаться с тем, кому ответила: «Я там буду... Все уладится...» — голосом, какого я у нее не знал. Кому-то, кто, должно быть, принимал в ней участие: ободрял, покровительствовал, возможно, подыскивал новую работу. Я был в этом почти уверен и тем не менее перестал терзаться так, как раньше. Смерть Мериля произвела во мне глубокую перемену. После того как истекли первые часы острой тревоги за себя, я впал в состояние своего рода покорной подавленности и светлой печали. Я пытался понять себя самого, и я себя осуждал. Мне еще не хватало проницательности, чтобы постичь скрытые пружины своей жестокости, своего инстинкта собственника. Просто я как бы от себя отстранялся. И, если бы полиция объявилась, я во всем признался бы с мрачной радостью. В то же время я чувствовал, что начинаю любить Матильду по-иному. В глубине души я знал, что она для меня потеряна, что настанет день, когда она уйдет. И готовился к этому расставанию с бесконечными предосторожностями. Она становилась для меня как бы раненым зверьком, которого выходил, к которому привязался и которого все равно придется отпустить на волю. А пока что смотришь на него с нежностью, слагающейся из бескорыстия и чистоты. А я так нуждался в чистоте! Этот жест, столь несвойственный мне, жест убийцы — перед моими глазами снова возникают оранжевый зонт и птица в траве, — я никогда его не повторю. Более того, теперь Мериль стал для меня своего рода другом, товарищем по несчастью, которого мне случалось все чаще и чаще призывать в свидетели, как будто он и я — мы присматриваемся к моей жизни из прекрасного далека. Я постарел. Не то достиг зрелости, не то заболел? Вокруг меня радость предстоящих отпусков переливалась в шумных разговорах через край, как пенистое вино. Моя радиопостановка близилась к завершению. Вирье собирался ехать в Центральный массив и не думал больше ни о чем, кроме форели, которую будет ловить в реке Сер. Аллари готовился, как обычно, уехать в Брест, где его ждала спортивная яхта и штормовая погода. В баре, где я всегда перекусывал, я только и делал, что пожимал руки: «Ну что ж, до скорого... хорошего тебе отпуска...» Помнится, я болтал с электриком из седьмой студии, когда в бар вошел один из наших репортеров с магнитофоном на ремне. Я указал ему на свободное место напротив. Он плюхнулся на стул, снял с плеча ремень и вытер пот с лица. — Ну и профессия! Представляешь, я болтался в ожидании перед Ла-Ротисри с одиннадцати. Жарища!.. Сдохнуть можно. И знаешь, кому присудили премию?.. Никому. Лауреат не сообщил своего имени. Как это мило, правда? Фотографы и все прочие остались с носом! — Но... о какой премии ты говоришь? — О премии «Мессидор»... Ее присуждали сегодня! Я впервые такое вижу! Несомненно, очередной ловкий трюк издателя. Ради рекламы они пускаются, во все тяжкие... Гастон, сандвич, да побольше колбасы. И кружку пива. А я уже покинул бар. Как бы вообще покинул этот мир. Мое сердце колотилось сильнее, чем там, возле бассейна. Эта премия! Я и думать о ней забыл. — Ты сказал «Мессидор»? Я не ослышался? — Да. Премия лучших времен, как говорил Ришмон. Ему пришлось драть глотку, бедняге, слышал бы ты этот гвалт! — Как называется книга? — «Две любви». Хочешь ее купить? Я отклеил взмокшую спину от спинки стула. — «Две любви»? — Похоже, замечательная вещь! Так или иначе, члены жюри высказались за нее единогласно. Он встал — его позвали из коридора. Вот уж не думал, что счастье способно причинять такую боль. Я стал лауреатом премии «Мессидор». Именно в тот момент, когда очутился на мели... Я разбогател. Как по мановению волшебной палочки. Тыква обернулась золотой каретой. Я же знал, что у меня талант! Я знал, что... на глазах у меня застыли слезы. Наверное, я производил впечатление умирающего. Я вышел и затерялся в студийных коридорах. Они еще увидят! И Матильда — она тоже поймет... Прежде всего нужно позвонить издателю. Нет, пойти и лично объяснить ему, почему я не решился указать свое имя в конверте... Ах, это солнце, теперь оно светит еще ярче, еще горячее... Этот ветер на набережных... Свежий ветерок успеха подобен дружеской руке на моем плече... Ах, Мериль, бедняга, как я сожалею... С каким удовольствием я пригласил бы вас всех... даже Леграна, даже Блондо... Нет, моей жене больше нет никакой необходимости работать. Отныне она мадам Миркин. Ну знаете, Миркин — автор романа «Две любви». Да, безвестный актер, но в том-то и дело, у него было, что сказать... «Две любви»... «Две любви»... Повсюду этот роман. Им заполнены витрины. Он — бестселлер сезона. Его будут читать в поезде, в отеле, на пляже... «Читайте «Две любви», это замечательная книга!», «Как, ты не читал роман «Две любви»? Я дам тебе почитать. Его проглатываешь за один присест. Он так написан!..». Пока что никто не в курсе дела. Я анонимный силуэт. Зато завтра мой портрет будет красоваться повсюду... Телевидение!.. Узкая лестница вела к самому берегу. Я спустился до середины и сел на ступеньку, как клошар. Телевидение?.. Что я сказал?.. Да в своем ли я уме?.. Какая ужасная мысль! Нет, никакого телевидения! Чтобы все они узнали меня и сообщили в полицию? И никаких фотографий. Но тогда, если быть последовательным, ни рекламы, ни издателя, ни премии... Я взобрался по крутому откосу, возвращавшему меня к исходной точке, но уже с кровоточащей раной, несчастный и разбитый. Полноте! Может, я ошибался, и выход все же существовал? Я пытался сосредоточиться, собраться с мыслями. Сейчас самый неподходящий момент для ошибочного шага. Положение о премиях я знал назубок; я его достаточно изучил. Издатель предусмотрел все. Он был единственным человеком, полномочным вести переговоры о правах на перевод, экранизацию и тому подобное. Он также полновластно распоряжался рекламой. Если я открою свое имя, то, волей-неволей, стану звездой. Меня затаскают по коктейлям, придется раздавать автографы... Это условие зафиксировано черным по белому в первом параграфе: «На данном этапе издательского дела литературные премии часто служат интересам, чуждым искусству и таланту. Премия «Мессидор» ставит перед собой цель — открыть подлинного писателя и дать ему возможность сделать независимую карьеру благодаря соответствующей рекламе...» Вот почему говорить: «Роман написал я. Но я не хочу, чтобы об этом узнали» — бесполезно. Меня примут за ненормального... Я угодил в ловушку! И она захлопнулась. Но разве неизбежно, что меня узнают?.. Это не вызывает малейших сомнений. Да, иногда свидетели колеблются, между ними нет согласия, но только потому, что от них требуется необычное усилие памяти, и они с трудом подыскивают слова. Когда же меня покажут крупным планом анфас, в три четверти, в профиль, они отреагируют незамедлительно. Следовательно, я должен переждать. Таково единственно разумное решение. И даже, возможно, достаточно дальновидное. Ибо этот роман без подписи, эта таинственная книга живо заинтересует общественное мнение, я это предчувствовал. Но месяца через три, когда дело Мериля забудется, когда свидетели... Нет. Я сам себе рассказывал басни. Через три месяца, полгода опасность останется точно такой же, как сейчас. Меня убивало отчаяние. Богатство, слава — все ускользало у меня из рук. Я бы хотел, чтобы меня изуродовали до неузнаваемости. Я вспоминал целые пассажи своего романа, которые ложились на бумагу почти что сами собой... Сейчас они казались мне неподражаемыми. Больше никогда я не сумею так написать. Момент озарения миновал. Я человек конченый, бесплодный, высохший, уничтоженный! Мне не оставалось ничего другого, как броситься в Сену, и с минуту я действительно подумывал утопиться. А потом вдруг вспомнил о Матильде. Если она где-нибудь услышала сообщение по радио, я пропал. Она вполне способна раструбить на всех перекрестках: «Роман «Две любви» написал мой муж!» А новости распространяются с быстротой молнии. Всегда найдется журналист, падкий на сенсацию. Боже мой! Мне уже слышался галоп репортеров. Я встал, более согбенный, чем дряхлый старик, и побрел по улице в поисках телефона-автомата. К счастью, я заметил издали какой-то бар и купил там жетоны. Начало пятого. Где искать Матильду? Сначала я позвонил в магазин. Там ее не оказалось. С замиранием сердца я набрал номер маленького кафе для завсегдатаев с улицы Пьера Шаррона. Если я застану ее там, значит, она наверняка уже в курсе. И все остальные тоже. Нет. Нет, ее не видели. На всякий случай я набрал домашний номер. Она ответила. — Слыхала новость? — Какую? — спросила Матильда. — Арестовали убийцу? — Да нет. Премия... Премия «Мессидор»... Ее получил я. — Что? — Ты прекрасно поняла. Я стал лауреатом. Я услышал ее вопль и с ходу остановил комментарии: — Матильда, слушай меня внимательно. Это очень важно. Объясню потом. Никому об этом ни слова. Никому! Если тебе позвонят, ничего не говори. Впрочем, я еду домой. — Но, в конце концов, поскольку... — Ты ничего не говоришь, ясно? Могу я на тебя положиться? — Разумеется, но... Я повесил трубку, прислонился к стене. Это было начало возмездия. Мне предстояло пройти этот путь. Куда он ведет. Господи, куда? Я залпом выпил кружку пива, прямо за стойкой. Хозяин читал «Франс суар», и я расшифровал длинный заголовок, который мне был виден слева направо:Глава 7
Я надеялся на успех. Но это был триумф! Тайна авторства, вероятно, занимала всех в первую очередь, но и литературные достоинства романа играли тут не последнюю роль. Я больше не мог раскрыть газету или журнал, чтобы не наткнуться на рекламные анонсы: «ОТКРОВЕНИЕ...», «ЛУЧШИЙ РОМАН ГОДА...», «НЕИЗВЕСТНЫЙ писатель на уровне знаменитых...». Когда мне попадался книжный магазин, я переходил на другую сторону улицы. Но, выходя из дому, не мог миновать книжного магазина Кастана. Повсюду «Две любви»... в витрине, на вращающихся стеллажах. И даже наклейки на стекле, наподобие антитуберкулезных: «КТО АВТОР РОМАНА «ДВЕ ЛЮБВИ»?» Вот что угнетало меня сильнее, чем объявления о розыске убийцы Мериля. Вскоре такие наклейки запестрели в проходах метро, между рекламами эластичных поясов и бюстгальтеров, так что и мой роман, и мое преступление заявляли о себе одновременно. Слава и опасность подстерегали меня рука об руку, даже в репликах людей, с которыми я сталкивался. «Бывают же ловкачи!» — говорил один. «Сколько же он, должно быть, заграбастал денег!» — слышалось от другого. В целом критика отзывалась о книге восторженно. Я узнавал об этом поневоле, так как Матильда вырезала все критические статьи, которые находила в прессе, и зачитывала их мне по вечерам. Таков был ее последний маневр с целью поколебать мое решение. Она меня поджидала и, не дав даже времени выпить стакан воды или сунуть голову под кран — жара по-прежнему стояла изнурительная, — кричала: — Да ты послушай!.. «Автор романа «Две любви» смело отказался от всех изысков так называемого «нового романа». Просто, однако с безупречным вкусом, он описал старомодную историю, в которой действуют современные персонажи, движимые слишком прямолинейной искренностью, отчаянной прозорливостью, что приводит их к подспудно желаемой катастрофе...» — Кто же это написал? — Не знаю. — В следующий раз постарайся вырезать статью вместе с именем критика. Имена критиков ее совершенно не волновали. Ей было важно количество статей! Несколько дней спустя они уже заполнили папку. Хвалебными оказались не все. Некоторые говорили о «непристойной саморекламе». Другие не без иронии утверждали, что автор правильно поступил, сохранив инкогнито. «Неправдоподобная история. Избитая тема». Или вот еще: «У Хемингуэя та же ситуация описана с несравнимо большей экспрессией!» Один хроникер написал так: «Невинная игра в «Кто автор?» продолжается. Откуда такая забота о сохранении инкогнито? Разве перед нами важный деятель науки или политики? А не проще ли допустить, что автор романа «Две любви»... пал жертвой дорожной аварии? Кто знает, может, он скончался раньше, чем его произведение удостоилось премии?..» — Хочешь, я куплю телевизор? — предложила Матильда. — Мы услышим дебаты. — А на какие шиши мы его купим? Но Матильду трудно остановить подобными аргументами. Она взяла напрокат портативный телевизор и поставила в спальне с намерением довести свою подрывную работу до конца. Итак, на сон грядущий я видел тех, кто мною занимался. Их было много! Что правда, то правда. Игра в «Кто автор?» стала модной. Любому собеседнику — будь то актер, депутат или пианист — под занавес, сообщнически подмигнув, задавали сакраментальный вопрос: «Не вы ли случайно написали «Две любви»?..» Однажды вечером с таким вопросом обратились к Эдди Мерксу[15], по завершении очередного Тур де Франс. Как надоедливый припев. Состоялся также «круглый стол», за которым собрались литературные критики. Между ними сразу завязалась перепалка. — Зачем издавать книгу автора, пожелавшего сохранить неизвестность? Начнем с того, что это противоречит Уставу конкурса. — Извините, такой случай уставом не предусмотрен. Насколько мне известно, он не предусмотрен вообще ни одним уставом. Жюри остановило свой выбор на лучшей рукописи, а издатель ограничился тем, что его утвердил. — Вся проблема в том, хорош ли сам роман. А он хорош. В конечном счете само литературное произведение важнее имени писателя. — И потом, возможно, автор уехал очень далеко. Его молчание может иметь тысячу причин. Но он объявится, несомненно. Матильда приглушила звук. — Видишь, время еще есть. — Нет. — В конце концов... ты же не боишься известности? — С чего бы это я стал бояться? Ссора возобновилась. Я выключил телевизор. Но не мог же я постоянно затыкать уши или носить повязку на глазах! На улице меня не покидало ощущение нависшей угрозы. Все разговоры, казалось, целились прямо в меня. Так, я пошел к парикмахеру, чтобы еще немного укоротить волосы. Он сразу заговорил со мной о романе «Две любви»... — У вас, мсье Миркин, обширные знакомства. Что об этом думают люди? Очередной розыгрыш, верно? Как тот случай с певцом в маске из «Спорт-Диманш». А в конце концов мы узнаем, что эту книжку написал Папийон... Вы отпускаете бороду? Куда бежать, чтобы обрести покой? До конца каникул у меня больше не было дел на студии, но я коротал время вне дома, совершая длительные прогулки. Теперь я перестал ходить и на бульвары, где даже на деревьях меня подстерегали наклейки «КТО автор?». Матильда ждала моего возвращения, готовая читать мне отклики в прессе, новые статьи, сплетни — забавные или слащаво-язвительные. — Прошу тебя. Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! — Нет, я не оставлю тебя в покое. Это слишком глупо. Любой на моем месте поступил бы, как я. Даю слово, ты что-то скрываешь. Ведь, в конечном счете, твои доводы не выдерживают критики. Я и сам прекрасно знал, что мои доводы никуда не годятся. И тем не менее пытался ей сопротивляться. — Ладно! Допустим, завтра я побегу к издателю. И что я ему скажу, а? Почему я не указал своего имени в конверте? Тут еще он мне поверит. Ну, а все остальное? Я не уезжал в путешествие... Не болел. А значит?.. — Но ты расскажешь ему все то, что рассказал мне... Что успех тебя пугает, ты боишься, что не сможешь так же хорошо написать следующую книгу. И потом, неужели ты воображаешь, что ему есть дело до твоих мотивов? Он до смерти обрадуется возможности возобновить вокруг твоего имени рекламную шумиху. Все это представлялось очевидным. Я замыкался во враждебном молчании, тогда как Матильда неутомимо кружила вокруг меня, отыскивая новые доводы. — Я залезу в долги, — пригрозила она, — вот тогда тебе поневоле придется решиться. И она привела свою угрозу в исполнение. Для начала купила себе два летних платья. То было далеко не разорение, но довело меня до белого каления. Мы превращались в противников, которых уже ничто и никогда не могло примирить. Затем она купила ручные часики и с готовностью показала их мне. Такие Часики вряд ли стоили больших денег — Матильда поступала осмотрительно. Главное — изводить меня. В этом и заключалась ее новая тактика. Скандалы сменились спокойными намеками на наше будущее материальное благополучие, как будто мы уже договорились, что рано или поздно я сдамся. Матильда в открытую строила планы. Так, она мне объявила: — Знаешь, я видела потрясную квартирку в шестнадцатом округе: четыре комнаты, терраса с видом на Булонский лес. Ты не хотел бы пойти ее посмотреть? Едва удержавшись от пощечины, я схватил Матильду за плечи и стал трясти: — Я тебе запрещаю. Запрещаю! Меня душил бессильный гнев. Она осторожно высвободилась. — Ладно! Не будем больше об этом. Однако согласись, что принимать журналистов, фотографов у нас в квартире... На следующий день на ее туалетном столике красовался флакон дорогих духов от Ланвена. Она объяснила мне спокойным тоном, приводившим меня в бешенство: — Мне выдали компенсацию. Надеюсь, не в последний раз, поскольку ателье Мериля выкупают, а тем, что новые владельцы возьмут меня на работу, и не пахнет. Но ведь все это теперь уже не имеет никакого значения, правда? Она ничегошеньки не понимала, кретинка. Я чувствовал себя затравленным зверем. И пусть мои волосы теперь стали короткими, а борода отросла, чего Матильда, похоже, и не заметила, я все еще узнаваем и очень долго останусь им. Я все еще походил на «казака» с очень светлыми глазами. Нет и еще раз нет! О том, чтобы раскрыть инкогнито, не может идти и речи. Мне исключительно повезло, что я ускользнул от следствия. Хотя, впрочем, дело еще не закрыто. Я не могу показаться на людях. Но что, если эта дура направит кредиторов по моим следам? А тут еще произошел инцидент, который навел меня на серьезные размышления. Я спускался в лифте. И в этот момент заметил разносчика телеграмм, который взбирался по лестнице. Обыденная сцена, она прошла бы мимо моего внимания, если бы консьержка, подметавшая вестибюль, мне не сообщила: — А к вам как раз понесли пневматичку, господин Миркин. — На мое имя? — На имя вашей жены. Пневматичка Матильде? Каких только предположений я не нагородил про себя, пока покупал пачку «Голуаз» и «Фигаро»! Когда я вернулся, Матильда кончала прихорашиваться. — Почты не было? — спросил я как бы невзначай. — Нет, никакой, — ответила Матильда. К несчастью для нее, порывшись в корзине для бумаг, я обнаружил конверт. Она его даже не разорвала. Я разглядывал незнакомый мне почерк — круглый, правильный, с аккуратно выведенными буквами: «Мадам Матильде Миркин — 88-бис, улица Бонапарта — Париж VI». Красивые прописные буквы. Почерк мужской. Я бросил конверт обратно в корзину. Меньше чем за секунду я и думать забыл о романе, интервью, мечтах и сожалениях. Я думал только об этом мужчине. Что написано в письме, в получении которого она не хотела признаваться? Я открыл газету для виду. «ДВЕ ЛЮБВИ»... САМЫЙ БОЛЬШОЙ УСПЕХ СЕЗОНА...» Теперь я всего этого уже не воспринимал. У меня появился другой повод для терзаний. Среди всех гипотез я сразу отобрал одну, и она с каждым мгновением становилась все обоснованней. Она обретала определенность как бы сама по себе, внезапно впитав все мои сомнения и подозрения. Матильда проговорилась. И вот кто-то уже в курсе. Кто-то манипулировал ею, подсказывал, как загнать меня в угол. С помощью долгов — это она придумала не сама. Она способна метать громы и молнии, выкрикивать ругательства, но методично бить меня в одно и то же место — нет. Я усматривал тут постороннее влияние. Я вспомнил про таинственный телефонный звонок. И вот сейчас —пневматичка. Ведь мне это не приснилось. Хотя, по словам Мерлена, видимость часто обманчива, я чувствовал: мне предстоит что-то открыть или скорее кого-то разоблачить. Матильда вышла из туалетной комнаты надушенная, обворожительная. — Я пошла по магазинам. Что пишут новенького? Она взяла у меня из рук «Фигаро». Она нюхом чуяла, на какой странице напечатаны письма читателей, парижская хроника или заметки, имеющие отношение к моему роману. — Ох! — Что там еще такого? Она прочла дрожащим голосом: — «Две любви» — роман, который так будоражит общественное мнение, — в скором времени будет экранизирован. О таком проекте заявили несколько кинокомпаний, в частности американских, которым их финансовое положение дает известные преимущества». Она опустила руки. — На сколько же потянут права на экранизацию? Я машинально ответил: — В долларах? Тысяч на сто. Я не очень-то в курсе. — Нет, а во франках? — Ну что ж, приравняй доллар к пятистам франков, тебе остается только помножить. Ее губы зашевелились. Она вскричала: — Получается что-то невероятное! Пятьдесят миллионов. — Пожалуй... так оно и есть. Цифра обжигала ее медленно, как кислота. Она закрыла глаза, вздохнула и пробормотала голосом, какого я у нее не слышал: — Я ненавижу тебя, Серж. И вышла, хлопнув дверью. Убедившись, что она не вернется, я снова извлек из корзины скомканный конверт пневматического письма и тщательно его изучил. Это было для меня куда важнее всех киномиллионов. Мне никогда не встречался такой каллиграфический почерк. Чернила напоминали глянцевую, густую китайскую тушь, словно письмо было написано гусиным пером. Неуловимый аромат еще не выветрился из слегка гофрированной бумаги. Запах кожи? Дорогого табака?.. Нет, запах богатства. Того богатства, которое еще мог бы заполучить и я. Ведь если в присутствии Матильды я всеми силами сопротивлялся, то наедине с собой слабел от испарины, когда меня одолевало желание заявить: «Да, это я и есть... тот самый писатель, над именем которого все ломают себе голову. Посмотрите на него наконец — вот он я...» Мне даже случалось думать: «Отсидев в тюрьме, я опять стану Миркиным, проклятым автором романа «Две любви»...» Но к тому времени я превращусь в старика. Меня удерживала животная осторожность. А между тем я не любил жизнь или, по крайней мере, эту абсурдную, сумасшедшую жизнь, слагающуюся из отвращения и страха. Аккуратно сложив конверт вчетверо, я сунул его в бумажник. Еще одно вещественное доказательство в деле об измене. Подозрение — вот что отныне помогало мне держаться. Вот что отныне помогало мне забыть! Я погружался в ревность, как в своего рода пьянство. Я сидел в кафе перед кружкой пива, которого не пил, сам из себя извлекая кайф самого одуряющего свойства. Матильде предоставлялась тысяча возможностей встречаться с мужчинами. И она отыскала какого-то умника... Вот почему он и ускользнул из поля зрения Мерлена... И этот «кто-то» знал о ней, о нас все. Матильда проводила с ним время в рассказах о себе. Доверительные признания, сплетни — ее стихия. Я был уверен, что в этот самый момент кто-то ищет способа меня погубить. Донести на меня в полицию он не осмелится — Матильда воспротивилась бы этому, все-таки она не способна опуститься до подлости. Впрочем, полной уверенности в том, что Мериля убил именно я, у них нет. И вот они стали придумывать разные хитрости: платья... часы... Да, так оно и было. Ни платья, ни часы в кредит не покупают... Эти долги — чистой воды шантаж, чтобы заставить меня окончательно потерять голову... О! Это ясно как Божий день. Я залпом выпил свое пиво и пустился в дальнейшие рассуждения. Моя мысль продолжала работать... Он использовал Матильду как рычаг. Вот почему она и не давала мне ни минуты передышки. Он уверен, что в конце концов я сдамся. И как только моя фотография замелькает на каждом шагу, адская машина придет в движение... Свидетели меня опознают... меня арестуют... посадят в тюрьму. А Матильда получит одновременно и деньги, и развод... Я предпочитал маленькие бистро, где прохладно и никто не удивляется при виде мужчины, часами погруженного в себя... Итак, Матильда решила меня погубить. Но почему? Что я, собственно, ей сделал?.. Я пытался воссоздать в памяти два года нашей супружеской жизни. В сущности, два счастливых года. Время от времени отравляемых приступами моей подозрительности. Но разве это заслуживает наказания столь гнусным предательством?.. Мои размышления заканчивались тем, что я, не смыкая глаз, погружался в своего рода тупую дремоту. Мне приходилось стряхивать ее с себя, говорить себе: «Это предположения. Измышления. Ты ни в чем не уверен. Если бы воображаемый тобой любовник существовал, он бы прежде всего старался не доводить до скандала!» Но я тут же возражал себе: ведь он-то абсолютно ничем не рискует. Это я, и только я, нахожусь в немыслимой ситуации. Совсем как несчастный герой моего романа. Я возвращался домой без сил, ведомый животным инстинктом. Кто выступит сегодня вечером по телевизору с рассуждениями о моей книге? Какие новые сплетни почерпнула Матильда в газетах? Да, конечно же она узнала новости! — Ходят слухи, что на роль героя картины прочат Трентиньяна... Серж, ответь мне, наконец. Неужели тебя это абсолютно не задевает? Тебе это безразлично? А что, если они искорежат твою книгу? Если они исказят ее смысл? Ты так и не пошевельнешься? Не заявишь протеста? Я уставился на ожерелье, которым она украсила легкую блузку. — Это еще что такое? — Это... это ожерелье... О-о! Маленький каприз. Ловким движением пальцев она расстегнула замок и опустила ожерелье мне в руку. — Подделка, нетрудно догадаться! Я буду носить его с бежевым костюмом. Днем это выглядит как-то нелепо. Свет мягко играл на каждой жемчужине, рождая в них золотистый отлив. Я готов был держать пари, что жемчуг натуральный и ожерелье ей обошлось в кругленькую сумму. —Когда мы пойдем на презентацию романа, — сказала она, — я непременно должна выглядеть красивой. А тебе, по-моему, пойдет темно-синий смокинг. Жемчуг наверняка натуральный. Три тысячи? Четыре? Я не имел ни малейшего понятия. Но мне во всем виделась провокация. — Тебе нравится? — спросила Матильда. — По-моему, смотрится неплохо. Может, немного старит, ну что ж, пускай! — Короче, сколько ты за него заплатила? — Сто сорок франков! Я же тебе сказала: это подделка! Она лгала с наглостью, какой я за ней еще не замечал. Я внимательней пригляделся к ожерелью. Особенно восхищала меня застежка. Несомненно, из платины, очень тонкая ювелирная работа выдавала дорогое украшение. Ценный подарок... стоивший изрядных денег! — Напрасно, — сказал я. — В данный момент мы не можем позволить себе никаких расходов. Похоже, до тебя не доходит, какие трудности нас ожидают. — Но мы же богатые люди. — Богатые? Я без работы до конца отпусков. А ты... ты потеряла место. Матильда раздраженно передернула плечами. — Ведь ты не допустишь, чтобы нас вышвырнули на улицу. — Перестань заблуждаться! — И я не удержался от того, чтобы не добавить: — Скажи ему, что я не уступлю — никогда, слышишь, никогда! Я думал, Матильда зацепится за эти мои слова и потребует объяснений. Но она ограничилась тем, что взяла у меня из рук ожерелье, и наш разговор на этом закончился. Она пустила в ход новую тактику — игнорировала меня, соблюдая полное молчание. Я перестал для нее существовать. Матильда уходила, приходила, обходила меня, как мебель; она снимала с лица краску, раздевалась, даже не глянув в мою сторону. Стоило ей улечься в постель, она выключала свет. Чтобы последнее слово осталось за мной, я включал телевизор. И сразу нападал на рекламную передачу. Между рекламой какого-то сыра и нового стирального порошка крупным планом показывали мой роман, а чей-то голос вкрадчиво мурлыкал: «Вы уже прочли «Две любви»?.. Нет?.. Тогда спешите зайти в ближайший книжный магазин. Надеюсь, там еще остался экземпляр!» Я почувствовал на постели движение. Матильда, словно загипнотизированная, смотрела на экран, как на седьмое чудо света. А на следующий день к нам в дверь постучала судьба. В девять утра мне позвонил некий Мелотти, телепродюсер. Он желал меня срочно видеть. Но поскольку днем он занят, то назначает мне свидание на вечер у себя дома. В Нейи, в двадцать один час. Он будет в восторге, если я приду с женой. Он изложит мне свой проект за ужином. Желая подразнить Матильду, я передал ей приглашение. Уверенный, что она пошлет меня куда подальше. Она же, наоборот, с радостью приняла его, а я, хорошенько подумав, раскаялся в том, что согласился на эту встречу. Если он предложит мне роль, я буду вынужден отказаться. Телевидение мне заказано. А что он мог предложить мне, если не роль? Какая досада!.. Но, может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. Если речь пойдет о дубляже, то согласен. В этом деле я спец. Матильда почистила перышки. На секунду у меня закралось подозрение, что этот Мелотти... Почему бы и нет? Я пообещал себе глядеть в оба, и мы поехали на ее машине. Мелотти вел себя любезно, отпускал Матильде комплименты без пошлости, а за ужином поддерживал приятную беседу. Я сразу обрел уверенность, что между ними ничего нет. Но то, чего я боялся, свершилось. Он заговорил о моей книге. — Вы читали? — спросил он. — Отличный роман, не правда ли? Постановщику предстоит нелегкая задача. Все решает стиль. В нем заключен такой нюанс отчаяния... Он щелкнул пальцами. Я прекрасно видел, что Матильда сидела как на раскаленных угольях. — Автор объявится в момент выхода фильма на экран, — продолжал Мелотти. — Все это оговорено заранее — можете не сомневаться! Это великолепнейший блеф, как в покере, еще не виданный доселе... Но вернемся к нашему делу. Помните фильм «Тарас Бульба» с Гарри Бауром в главной роли? — Нет. Я тогда еще под стол пешком ходил. — Так вот, я намерен сделать из этой повести кинодраму... Он с воодушевлением раскрыл нам свой проект и в заключение предложил мне роль в своем фильме. Я не мог отказаться наотрез. — Дайте мне подумать. Для меня ваше предложение — полная неожиданность... такой тонкий образ... Я путался в словах. Матильда наблюдала за мной суровым взглядом, поджав губы. Мелотти удивился: — Это серьезная роль. Вы станете кинозвездой на другой же день. — Такой шанс нельзя упускать, — пробормотала Матильда со злобной иронией в голосе. — Вот именно! — сказал Мелотти. — Я рассчитываю на вас, дорогая мадам, постарайтесь уговорить мужа. Конец трапезы был для меня кошмаром. Матильда кокетничала; Мелотти был польщен и лез из кожи вон, намечая главные сюжетные ходы будущего фильма, плавными движениями длинных пальцев старательно выстраивая в пространстве задуманные декорации. А я... я перебирал в уме упущенные возможности одну за другой. И все из-за чего, Господи, из-за чего? Из-за моей глупой ошибки вся моя жизнь катилась к чертям! Я улыбнулся, допивая ликер, которым нас угостили под занавес. Вроде бы клубничный. Мелотти засек эту улыбку. — Ах! — сказал он. — Вот видите... До вас постепенно доходит... Об этой постановке еще заговорят. Несчастный! Знал бы он, что у меня на душе! Я пообещал ему дать ответ как можно скорее, и мы расстались на дружеской ноте. Едва мы сели в машину, Матильда спросила: — Ты принимаешь его предложение? — Нет. Оно меня не интересует. Я резко тронул с места под жуткий скрип в коробке скоростей. — Насколько я понимаю, — сказала Матильда, — телевидение тебя пугает? Мне это совершенно ясно... Зачем ты так мчишься? Мы не спешим... Я хочу, чтобы ты мне ответил. Телевидение тебя пугает? — Эта роль не моего плана. Она расхохоталась. — Лжец! Правда заключается в том, что ты больше не решаешься показаться на экране. Покончим с этим, Серж. Мне осточертело играть в прятки. Я чуть не налетел на болвана, который выскочил слева, слепя фарами. Булонский лес был безлюден. Хорошее местечко для объяснений. Я сбавил скорость. — Давай! — сказал я ей. — Выкладывай все начистоту. — Это из-за Мериля, — начала она. — Ты боишься... Думаешь, я не поняла? — Ладно, — сказал я. — Это из-за Мериля. Я повернул к ней голову. Мне показалось, что у нее расширились глаза, полные тревоги и безумия. — Остановись! — закричала она. — Остановись... Дай мне выйти. Я прибавил скорости. Она хотела было открыть дверцу, но, не сумев, схватила меня за руку. Я попытался вырваться. Машину занесло. Фары осветили деревья вдоль дороги. Они надвигались с головокружительной быстротой. И все же у меня хватило времени осознать приближение чудовищного узловатого ствола, поблескивающего бурой корой. Он раскололся с оглушительным треском.Глава 8
Такое впечатление, что пробираешься, пробираешься сквозь заросли, раздвигаешь лианы, сражаешься с чудищами в полумраке леса... А между тем где-то есть свет: его чувствуешь; иногда он вспыхивает... вдыхаешь какой-то запах... потом опять приходится блуждать; и снова тьма... Матильда... Она здесь... Она подает мне руку... за нами звонкая пустота... Мы спускаемся по ступеням... Да здравствует новобрачная!.. Да здравствует господин мэр!.. «Теперь мой черед угощать, молодой человек. Жермена, принеси нам рикар!» Теперь свет совсем близко... Большой сад залит солнцем... Оранжевый зонт... и внезапная боль... Чьи-то стоны... Голос издалека: — Он приходит в себя. Благотворная боль... Я жив... Я знаю... Я знаю, кто я такой... Голова просто разламывается... Но почему? — Не надо двигаться! Кто это говорит? Ах! Свет озаряет мою память... Он выхватывает ствол дерева, который вот-вот налетит на меня... Нет! Я не хочу, чтобы меня трогали. — Господин Миркин... Я возвращаюсь во тьму. Как мне хорошо в этом лесу... Голоса стихают. Главное, не покидать тьмы. Ни за что... А потом мои глаза открываются, как занавес, который поднимается над пустой сценой. Кругом все белое — стены, кровать, стол, дверь. Больничная палата. Больничный запах. Мои ноги шевелятся. Руки слушаются. Но голова забинтована — тугая повязка унимает глухую боль, которая как бы стучит в глубине моих глазниц. А между тем я чувствую, что пришел в себя... как-то сразу... Я припоминаю удар. Снова вижу Матильду... ее рука вцепилась в мою... Где она? Я в палате один. Меня посещает ужасная мысль. Как позвонить, как позвать кого-нибудь?.. Матильда! Мне очень нужна Матильда. Может, теперь она боится меня? Вот почему ее нет здесь, у моего изголовья. Она не желает больше меня видеть. Прости, Матильда... Разве эта авария не поможет нам помириться? Разве мы не сможем все начать сначала, скажи? Я был безумцем, пусть так. Но с этим покончено. Мое безумие переродилось в боль, и когда эта боль пройдет, я выздоровею. И стану другим человеком. Дверь открывается. Медсестра плавно приближается к моей постели. Она свеженькая. У нее такие же голубые глаза, как и у меня. Она склоняется надо мной. — Где Матильда? — Т-с-с. — Вчера вечером, помнится... — Это было не вчера вечером... Это было на прошлой неделе... Вы восемь суток не приходили в сознание. Не двигайтесь. Сейчас придет врач. Она уходит и улыбается мне издали, приложив палец к губам. Восемь дней! Невероятно. Я прекрасно знаю, что это произошло только вчера вечером. В моей голове никакой путаницы. Но если так говорит сестра... Я слышу за дверью шаги. На этот раз доктор... Какое там! Мою кровать окружает группа ассистентов, которые пришли посмотреть на человека, чудом избежавшего гибели. — Ну как? Пришли в себя? — спрашивает главный. Он поднимает мне одно веко, второе, теребит руку. — Доктор, я... — Вы возвращаетесь издалека, старина. Не надо волноваться. Кто-то подкатывает к кровати столик с медикаментами, и чьи-то проворные руки колдуют над моей повязкой. — Какого черта они не пристегивают ремни? — ворчит доктор. — И при малейшем толчке вылетают через ветровое стекло, если не разбиваются о зеркало заднего вида... Вы помните, что произошло? — Да, прекрасно помню. Жена схватила меня за руку и... — У вас нет провала в памяти? — Нет. Я хорошо помню все, что было перед этим. — Прекрасно!.. Посмотрим рану. Он ощупывает мой череп, и я подскакиваю от острой боли. — Отлично... Сначала можно было подумать, что вас скальпировали... Завтра снимут скобки... Легкой повязки будет достаточно... Да... вполне достаточно. Он говорит. Говорит, не умолкая. Такое впечатление, что он старается не оставить мне времени на вопросы. Меня ощупывают другие руки. Обмен замечаниями технического порядка. Медицинские термины. Мне надоело быть объектом изучения. — Доктор... Где моя жена? Группа перемещается. Столик отъезжает к двери. Ассистенты покидают палату один за другим. — Доктор... Врач садится на край постели рядом со мной. У него карие добрые глаза, сильная челюсть, под кожей играют желваки. — Господин Миркин... коль скоро вы обрели память, то должны вспомнить, на какой скорости вели машину? — Да, примерно семьдесят пять. — Вы вцепились в руль. И это смягчило удар. А когда не за что уцепиться и сидишь со стороны дерева... Пауза. Я собираюсь с силами. — Матильда погибла? Вместо ответа он сжимает мне плечо. Боль в голове почти утихла. Я — воплощение тишины. Мне никогда больше не увидеть Матильду. Я не очень хорошо осознаю, что это значит. Такое громадное событие, пока что оно для меня загадка. На меня надвигается тень, как вечерняя тень от тополя где-нибудь в деревне. Я тоже оказался со стороны дерева. Я закрываю глаза. Призываю ночь. Иголка колет мне руку. Прощай, Матильда... Но при моем пробуждении она снова тут. Я слышу, как она кричит: «Дай мне выйти!» Во мне что-то съеживается, как тлеющая бумага. Я прекрасно знаю, почему мне не удается плакать — мой гнев еще не утолен. Любовник! Ведь любовник все еще жив! По мере того как возвращаются силы, я вновь обретаю способность рассуждать, и я не могу избавиться от четкой и ясной мысли: он подумает, что я убил Матильду. Для всех случившееся — несчастный случай. И это действительно несчастный случай. Только не для него. Поскольку он-то знает правду. Он с самого начала понял, что я хотел разделаться с ним, и, стреляя в Мериля, думал, что убиваю его. Благодаря Матильде, он мог наблюдать за моей реакцией. И если требовалось доказательство, он получил его от меня самого, когда я отказался явиться за премией. Так что же? Донесет ли он на меня? Скажет ли полиции: «Миркин настолько ревнив, что, убив Мериля, нарочно врезался в дерево. Он предпочел покончить все счеты, погибнув вместе с женой!» И что я смогу возразить? Я у него в руках. Теперь он поселился между образом Матильды и мною. Ну что ж, пусть говорит. Я не собираюсь защищаться. Время от времени в палату заглядывает сиделка. Ее зовут Арлетта. У нее мягкая походка, сдержанные движения. Я для нее человек, только что потерявший жену, — несчастный малый, которого следует щадить. Его голова выдержала удар. А сердце?.. Мое сердце тоже выдержит, дорогая Арлетта. А вот нервы сдают. Я боюсь. Но кому я могу признаться, что мне страшно? — На ваше имя поступила почта, господин Миркин. Чувствуете ли вы в себе достаточно сил?.. — Давайте, давайте! Визитки... соболезнования... горстка изъявлений дружеского участия, довольно жалкая, по правде говоря. Летние каникулы уже разбросали наших знакомых кого куда. А еще цветы с запиской от Мелотти. Он сожалеет. Он отказывается от своих предложений. Смерть — плохая примета. Я остался один и с пустыми руками. Чем я займусь по выходе из клиники? Не исключено, что я сменю клинику на тюрьму. Право слово, пожалуй, меня бы устроил такой выход из создавшегося положения. Я не представляю себе, как буду блуждать по опустевшей квартире. Наступает черед хирурга. Он сердечен. Внимателен. Ему тоже я рассказываю про несчастный случай. Он кивает. Дать больному выговориться — составная часть лечебного процесса. Когда хирург счел, что я поговорил достаточно, он хлопает меня по плечу. — Через два-три дня, — говорит он, — вы будете в состоянии вернуться к своим занятиям. На голове у вас останется шрам. Но если вы измените прическу и откинете волосы назад, думаю, он будет незаметен. От мигреней я выпишу вам лекарство. Предупреждаю: вас ждут частые мигрени... возможно, сильные. — Мне все безразлично, доктор. Он опять смотрит на меня и при этом как бы напрягает слух — так прислушиваются к механизму, в котором вроде бы что-то разладилось. Пожав мне руку, он уходит. День продолжается. Временами меня охватывает печаль, которая выворачивает мне душу, а иногда нападает сонливость, которой я охотно поддаюсь. Арлетта не выпускает меня из поля зрения. Но ведь я не смог бы ни выброситься из окна — оно зарешечено, ни повеситься — я в пижаме и у меня нет пояса, ни вскрыть себе вены, не имея ничего острого под рукой. Должно быть, они подозрительны по привычке. Или же обнаружили у меня психическое расстройство, которое мне неведомо. А между тем у меня нет никакой охоты пытаться что-то сделать с собой. Тот, другой, этому слишком обрадовался бы... Вот если бы его не существовало, я, разумеется, наложил бы на себя руки. Ведь у меня ничего не осталось. Я потерял все. Но пока он тут, за кулисами, и я его не изобличил, я не успокоюсь. Тягостная ночь. Кошмары. Такое впечатление, что голова пухнет, пухнет... Дежурная сестра делает мне укол. Новое утро побелило окно. Я люблю утро. Мной занимаются. Меня обихаживают, лечат. Я встаю. Правда, еще не очень твердо держусь на ногах. Иду в умывальную комнату посмотреться в зеркало. У меня борода потерпевшего кораблекрушение, затуманенный взгляд. Я внушаю жалость. Стук в дверь. Арлетта объявляет мне о визитере. И тут же входит здоровый детина. — Офицер полиции Жирар. Я сажусь на кровать. Он усаживается в кресло. Сейчас-то все и разыграется. — Я пришел в связи со следствием, — говорит он. — В случаях смертельного исхода мы обязаны провести следствие — вам это, несомненно, известно... Итак... Расскажите, что произошло. Он достает записную книжку, авторучку и готовится записывать. Зачем мне лгать? Я рассказываю ему о нашем ужине у Мелотти, нашем возвращении домой. — Вы пили? — Как обычно в подобном случае... немножко вина, ликер на десерт. — Проверка на алкоголь показала, что его доза у вас в крови заслуживала внимания. О-о! Не то чтобы она была опасной, но близко к тому. — Однако я чувствовал себя нормально... Я ехал довольно быстро, но не быстрее других... Кроме того, меня ослепила встречная машина... Тут я несколько видоизменяю ситуацию. Не посвящать же его в нашу ссору! — Ее шофер включил дальний свет. — Возможно, вы заехали на левую сторону? — Возможно. И тут жена испугалась, она схватила меня за руку, это и спровоцировало несчастный случай. Я не успел выровнять машину. Полицейский изучает меня с профессиональным недоверием, выискивая изъян в моем показании, но я начинаю успокаиваться. В пижаме, с повязкой на голове я конечно же неузнаваем. А если бы на меня прислали донос, я бы уже знал об этом. — Почему ваша жена не села за руль сама? Ведь вы ехали в ее машине. — Она не любила водить. — Несомненно, она схватила вас за руку, увидев, что вам грозит столкновение со встречной машиной. — Не думаю. — Однако вы в этом не уверены... Так или иначе, господин Миркин, на этом дело закрывается... Ваша жена умерла... и я весьма сожалею. Третьи лица тут не замешаны. Тем не менее я обязан подать рапорт. У вас есть страховка «от любого несчастного случая»? — Нет. — Ай-ай-ай! Это вам дорого встанет. По нашему указанию разбитую машину отбуксировали. Она находится в автомастерской «Универе» в весьма плачевном состоянии, как вы и сами догадываетесь. Машина старая? — Три года. — Значит, она уже утратила половину своей стоимости... Расходы по ремонту... расходы за помещение... — Теперь это уже не важно. — Да, я вас понимаю. — Скажите... а похороны? — Ах, правда. Извините. Я забыл, что вы восемь дней не приходили в сознание. Вашу жену похоронили в Морет-сюр-Луан. Все расходы взял на себя ее отец. — А она... она страдала? — Нет. Смерть наступила мгновенно. Арлетта приоткрыла дверь. — Не переутомляйте нашего пациента... Полицейский встал. — Позже я попрошу вас расписаться под протоколом. Примите мои соболезнования, господин Миркин, и скорейшего вам выздоровления. От этого визита у меня подкосились ноги, и тем не менее я ощутил трепетную радость, будто вопреки нанесенному ей урону во мне вновь звенела жизнь. Я улегся в постель. Арлетта, сама предупредительность, предложила газеты. Нет. Я не хочу читать. Мне уже набили оскомину разговоры о моей книге. Разве что... Мне нужно обдумать идею, которая сейчас пришла мне в голову... Она простая... но, возможно, безумная. Полицейский меня не опознал. Я знаю, он пришел допросить пострадавшего в аварии. Дело об убийстве Мериля ему и в голову не пришло, и он меня никогда не видел. А что, если, несмотря ни на что, я стал неузнаваем? И если с повязкой вокруг головы, для маскировки, я пойду к издателю и скажу: «Это я написал роман «Две любви»... Другой не замедлит объявиться. Другой, несомненно, подстерегает меня у этого поворота. Какие у него доказательства, если свидетели не опознают моей личности? Самым веским доказательством, которое я сам и выковал, служит то, что я не давал о себе знать. Выхода из этого тупика нет. Тогда подойдем к проблеме с другой стороны. Почему же до сих пор он ничего не предпринял? Должно быть, потерял голову от горя. Любимая женщина погибает в автокатастрофе, которую, возможно, я и спровоцировал, поскольку сам вышел из нее, почти не пострадав. Зная правду о смерти Мериля, он должен думать, что я убил и Матильду. И в каком-то смысле так оно и есть. Все, что произошло после того, как я купил у Боба револьвер, — звенья одной цепи... Тогда чего же он ждет? Что он задумал? Ведь не намерен же он оставить на свободе человека, который, по его мнению, виновен в двойном убийстве? Мигрень не заставила себя ждать. Я стараюсь больше не думать, но боль ловко завладевает моими недодуманными мыслями, монтирует их вопреки моей воле, заставляет проходить чередой перед моими глазами, как светящиеся буквы новостей, бегущих по фронтону здания. Я призываю на помощь Арлетту. Она дает мне таблетки, которые притупляют боль, не избавляя от нее. Я дремлю. Мне здесь хорошо. Я хотел бы пробыть тут как можно дольше. То, что ждет меня за стенами больницы, внушает страх. Боль отступает... Но не исчезает полностью и, возможно, уже никогда не отпустит. Она оставляет за собой шлейф забот, которые, в свою очередь, позже принесут новый приступ мигрени. Я пострадал от катастрофы сильнее, чем предполагает хирург, — в сфере, недоступной его пинцетам и скобкам. Доказательство тому — любая мысль сразу перерастает в навязчивую идею. Полицейский сказал: «Это вам дорого встанет». Исходя из его слов, я пытаюсь подсчитать расходы, высчитываю суммы к оплате, которые складываются одна с другой до бесконечности... Мне в жизни не расплатиться. Напрасно я... подсчеты продолжаются сами собой; мозг работает, как испорченный калькулятор... И тут появляется новая забота — как быть с работой. Совершенно очевидно, что на студии со мной распрощаются. Из-за постоянных отлучек... Вчера или, точнее, на прошлой неделе я почти наотрез отказался от предложения Мелотти... Я их знаю. Они пустят слух, что Миркин — конченый человек. В голове звучат их слова: «На него бесполезно рассчитывать», «К тому же никакого таланта...», «Похоже, он весь в долгах». Я закрываю глаза. Я выхожу из игры. Перешептывания продолжаются, сливаясь в непрерывное бормотание. В моей черепной коробке гул, как в тех раковинах, которые я прикладывал в детстве к уху, чтобы послушать глухой рокот моря. — Как вы раскраснелись! — замечает Арлетта. Врач, к которому я обратился за консультацией, дает уклончивый ответ: — Вам необходимо себя беречь... правильный образ жизни... легкая работа, не требующая сосредоточенности. Еще немного, и он посоветовал бы мне поступить на службу в контору. Это далеко не тот совет, который мог бы меня успокоить. То, что он добавляет, заставляет меня задрожать: — Мы не имеем возможности держать вас у себя дольше, господин Миркин. С медицинской точки зрения вы уже выздоровели... а у нас не хватает коек... Через два-три дня вы будете свободны. Они называют это свободой. Мне тотчас представляется жизнь вдовца — еда в ближайшем бистро, бессонные ночи в спальне, перенаселенной воспоминаниями. Я — обломок кораблекрушения. В мои-то тридцать лет! Последующие два дня ужасны. Ко мне вернулись физические силы. Я складываю свои вещи — узелок эмигранта. Вот уж не удивлюсь, если Другой ждет меня у выхода. Я этого почти желаю. Все лучше, чем город, наполовину обезлюдевший из-за летних отпусков, где я буду блуждать, как собака, потерявшая хозяина. Придется подписывать счета, платить деньги. Я прикидываю сумму на клочке бумаги; мое материальное положение прямо-таки аховое. Ну, я выставлю на продажу свою малолитражку, это почти ничего не даст. Мне еще должны кое-что на радио; на это можно протянуть несколько недель. Что еще я мог бы сбыть с рук? Ожерелье? Черт побери, да! Замечательная мысль! Мне дадут за него добрых две тысячи франков. Я спасен хотя бы на время. И это благодаря широте натуры Другого! Такая мысль поднимает мне настроение. Формальности при выписке из больницы кажутся уже не столь гнетущими. Я прощаюсь с Арлеттой, врачом. — Внимание, господин Миркин, не забывайте принимать таблетки. И приходите на прием, ежели с вами что-то будет не так. Я выхожу на улицу. Погода пасмурная, дышится тяжело. У меня слегка кружится голова. Я спускаюсь в метро не слишком уверенным шагом. Похоже, мне надо всему учиться заново, начиная с умения ориентироваться в подземных переходах. Учиться жить, совершать привычные действия, учиться выносить себя самого, что труднее всего! В переходах метро по-прежнему висят объявления: «Кто написал «Две любви»?», и чьи-то руки начертали мелом ответ: «Сеги...[16] Помпиду...» Искушение, которое меня уже посещало, возвращается с новой силой. Когда я исчерпаю все средства к существованию, у меня останется последнее — открыть свое инкогнито, а дальше будь что будет! Мне уже невмоготу терпеть мое положение миллионера-голодранца. Открывая дверь к себе в квартиру, я испытываю шок: Матильда по-прежнему тут... Невозможно удержаться от воспоминаний. Вот сейчас она выйдет из туалетной комнаты... Запах ее духов не выветрился. Я включаю все лампы. Мои глаза увлажняются. Вот теперь я теряю ее на самом деле. Мне вдруг делается так тяжело на душе, что я начинаю сомневаться: а стану ли продавать ее ожерелье? Я отыскиваю его в ящике трельяжа и, обессилев, плюхаюсь на кровать. Бусинка за бусинкой я пропускаю жемчуг между пальцами, как перебирают четки. Матильда!.. Матильда умерла по моей вине. Но мне позарез нужно знать. Мне позарез нужны деньги. Две тысячи? Две тысячи пятьсот? Возможно, больше. Я кладу ожерелье в карман и спускаюсь на лифте. Я не удовольствуюсь первым предложением и обойду несколько торговцев ювелирными изделиями. Начнем с бульвара Сен-Жермен. Мне немножко стыдно, как если бы я протянул руку за подаянием. Человек берет у меня из рук ожерелье, чуть ли не брезгливо. — Если вы по поводу оценки, — предупреждает он, — то мы этим не занимаемся... И тут же поднимает брови: — Да это подделка... Довольно хорошая... Только это дешевое украшение. Судите сами, я такие новые ожерелья продаю по сто сорок — сто пятьдесят франков... Могу показать вам их дюжины... — Я полагал... судя по замочку. — В нем нет ничего особенного... Вы рассчитывали его продать? Вы ничего не выручите... Разве что сдав в ломбард, но и там дадут гроши... Сожалею... До свиданья, мсье. Я ошеломлен. И тем не менее повторяю свою попытку. Еще более унизительную, чем первая. Выходит, Матильда сказала правду. Никто ей не дарил этого ожерелья. Ну, а как же тогда пневматичка? Может, в ней содержалось предложение работы, о котором она предпочла умолчать. А телефонный звонок? Разве я все придумал? Я уверен, она догадалась обо всем, что связано с Мерилем, поняла, что произошло... Для этого любовник не требуется... А что, если никакого любовника вовсе не существует... Не может быть! Но ведь ошибся же я в первый раз, с этим Мерилем... Как тяжко все же признавать, что я мог опять ошибиться. Этот любовник служил мне оправданием. Более того, он был для меня... Я во всем этом уже запутался. В каком-то смысле я в нем нуждался. Я уподобился гладиатору, который ощетинился оружием, но в отсутствие противника стал всего лишь ряженым. Но... Но если любовника нет, если нет больше угрозы с этой стороны, что мешает мне пойти к издателю?.. Матильда могла стать свидетелем обвинения, предъявить веские доказательства. Теперь, когда ее больше нет, остаются свадебные гости, видевшие меня лишь мимолетно. Риск тут, скорее всего, минимальный. И тем не менее я продолжаю колебаться. И захожу к парикмахеру, лишь бы еще немного потянуть время. Укорачиваю волосы. При этом шрам на голове становится заметнее. Тем лучше. Я подстригаю бороду. Это будет всего лишь их слово против моего. Но кто теперь им поверит, что автор романа «Две любви» — убийца? Меня спросят, почему я так долго не раскрывал своего инкогнито? Ответ: не чувствовал себя в состоянии встретиться с успехом; заболел. Доказательством тому — мои неоднократные отлучки на радио; а теперь — автомобильная катастрофа. Ножницы порхают вокруг моего лица. Я чувствую, что собираюсь совершить очередную глупость. Но поскольку ожерелье ничего не стоит, мне придется выходить из положения как-то иначе. Я еще не открывал своего почтового ящика. Наверное, он набит счетами, напоминаниями о долгах... Ладно, я решаюсь на этот шаг. Последний взгляд в зеркало. Лицо не особенно изменилось, но шрам сделал другим его выражение... Какая удача этот шрам! Я сказал: удача? Прости, Матильда. Издательство находится неподалеку от моего дома. Я иду вверх по бульвару. На сей раз я, Миркин, — признанный автор романа «Две любви». В моем кармане пусто, но мне причитаются большие деньги. Они примут меня за чудака. Но ведь все выдающиеся писатели — чудаки. Теперь меня уже ничто не остановит. Я прохожу мимо книжного магазина. Бросаю беглый взгляд на витрину. Завтра весь Париж будет потрясен. Мой роман по-прежнему красуется за стеклом. Но что-то изменилось. Я вернулся к витрине. Стал высматривать три икса на ленте. Но они уступили место имени. Я ничего не понимаю: Патрис Гараван. Кто придумал это имя? Что это значит? Я бросаюсь в магазин. Продавец мне объясняет: — Гараван?.. Он автор романа «Две любви». Объявился уже несколько дней назад. Вы что, не читали газет? Я что-то бормочу в ответ. Выхожу из магазина, ничего не соображая. Смотрю на книги, стоящие в ряд. «Патрис Гараван... Премия «Мессидор»... Патрис Гараван...» Иронический голос нашептывает мне: «А ты что думал? Свято место пусто не бывает!»Глава 9
Гараван! Я уже слышал эту фамилию. Но где? Где?.. И вдруг меня осенило. Коктейль... Тип, которого наградили орденом Почетного легиона... Это произошло в тот вечер, когда я купил револьвер. Но сколько бы я ни напрягал память, я видел лишь расплывчатый силуэт седеющего мужчины. Как он посмел? Книги стояли тут, одна за другой. Патрис Гараван! Ясно, он воспользовался моим несчастным случаем. Возможно, ходили слухи, что я умираю... Ну и что? Значит, он меня знал? Ему было известно, что я автор романа? Кто же его просветил? Это мог сделать один-единственный человек на свете. Матильда!.. Матильда и он, значит... Мне, однако, легко его разоблачить. Доказательство находится у меня в руках. А не у него! Я вернулся домой. Я уже нащупывал в кармане ключ от ящика, где запер копию рукописи. Когда я ее предъявлю — что я и сделаю незамедлительно, — им придется меня выслушать! Я прямиком прошел к письменному столу. Открыл ящик... Он пуст. Они оставили меня в дураках, оба. И нечего больше доискиваться. Многие месяцы рукопись лежала тут. Я сдал два экземпляра издателю, а третий — последний — запер в этом ящике и больше его не отпирал. Матильда его похитила, что не составляло труда. Вечером, раздеваясь, я имел обыкновение выкладывать содержимое карманов на камин... Она взяла рукопись, чтобы передать своему любовнику. Теперь все выстраивалось в одну цепочку. А я-то... да, я испытывал к ней жалость... и продолжал любить эту шлюху... которую мало убить. Ах, как же она меня обвела... «Назови себя!.. Скажи, что ты автор романа!» А потом, осознав, что я буду молчать, они оба придумали этот ловкий маневр, — ведь стоило моей рукописи оказаться у Гаравана, и я ограблен. Я потерял право даже заикнуться об авторстве. Я пошел на кухню и стал пить прямо из-под крана. Плеснул воду на лицо. Потоптался на месте в бессильном гневе. Что мне делать? Я побежден, побежден окончательно и бесповоротно. И все-таки я продолжал упорно искать выход из положения. Неужто я исчерпал все возможности отразить удар? Я вытянулся на кровати и заставил себя лежать неподвижно... Послушайте... Но почему?.. Почему она меня так предала? Гараван наверняка уже давно был ее любовником. Довольно странное сочетание: он — важный господин, влиятельный, богатый... а Матильда, при всей ее красоте, в его глазах стоила не больше, чем заурядная мещанка. Не говоря уж о разнице в возрасте... Ну конечно. Для Гаравана она не могла много значить!.. Приятное времяпрепровождение — и ничего более. Вот почему о разводе речь и не заходила. Возможно, он ее приметил в один прекрасный день на какой-нибудь презентации или на рекламных фотографиях, поскольку тоже занимается текстилем. Разве группа Гаравана не контролировала, в той или иной степени, некоторые фирмы, наподобие фирмы Мериля?.. С этой стороны все ясно. Ну а дальше?.. Так вот, Матильда открыла, что я убил Мериля, чего я всегда и опасался... или по меньшей мере подозревала правду и, увидев, как упорно я отказываюсь от успеха, денег, известности, все поняла. Она доверилась Гаравану. Как воспользоваться миллионами? Выдать за автора себя она не могла. Эту роль трудно сыграть. Но Гаравану по плечу обмануть весь свет. И он абсолютно ничем не рисковал, поскольку я — преступник, которого разыскивает полиция. Должно быть, он полагал, что я никогда не заговорю... Я не знал, каков он, этот Гараван, и в конце концов, возможно, он и не сволочь — я без труда влезал в его шкуру. Он долго колебался — довод в пользу того, что и у него случаются угрызения совести. На окончательное решение его толкнула смерть Матильды... Тут мне пришлось подкорректировать свою теорию. Он был сильно влюблен в Матильду. Нет, она была для него не только приятным времяпрепровождением. Совсем наоборот! И если он решился — именно в этот момент — сказать, что является автором романа «Две любви», то исключительно из чувства мести. Голова моя раскалывалась от боли. Я принял две таблетки. Значит, это сделано из мести. Я убил его возлюбленную. Он мог бы донести на меня как на убийцу Мериля. Но плевать он хотел на Мериля, и к тому же, глядишь, суд мог отнестись ко мне снисходительно. Наконец, зачем ему обнародовать свою любовную связь с Матильдой... Правда, ему достаточно было послать в полицию анонимку... Однако выкрасть у меня книгу — шаг намного эффективнее. Я уничтожил Матильду. А он, в свою очередь, уничтожал меня. Око за око, зуб за зуб... Более того, он знал, что я знал. Само собой!.. Выдавая себя за автора моего романа, он неизбежно предусмотрел, что я стану рассуждать так, как сейчас. И в этот самый момент, где бы он ни находился, нас соединяла нить... Боже, как трещит голова!.. Не будучи знакомы, мы тем не менее невероятно близки. Превосходно осведомлены друг о друге. В особенности он! Он наверняка в курсе всех моих привычек, всех моих маний. И как я представляю его себе, в квартире на авеню Мак-Магона, так и он силится увидеть меня в тесной трехкомнатной квартирке, когда я возвращаюсь туда из больницы, ослабший, побежденный. Я почти ощущал на себе его взгляд. Впечатление оказалось настолько сильным, что я чуть не встал со стула, как если бы звонок у дверей оповестил меня о приходе гостя. Впрочем, этот гость проникал сквозь стены, являлся чуть ли не моим вторым «я», поскольку он написал «Две любви», а значит, ближе его у меня никого нет. Какая замечательная, какая жуткая месть! Ему не хватало только одного: присутствия при моем крахе. Но ему отказано в такой радости. Несмотря на все его хитроумие! Как же он, должно быть, об этом сожалел! Я переселюсь в другое место. Не важно, куда именно. Я исчезну. И нить оборвется. Я вышел из дому, испытывая потребность очутиться на улице, в толпе, услышать шум других жизней... Проходя мимо почтового ящика, я извлек его содержимое. Одни счета, как я и предполагал. А у меня в кармане пусто. Продажа малолитражки давала мне двухнедельную отсрочку. Я никогда не умел жить экономно. В сущности, я совсем как Матильда. Понравился галстук — я его покупал. В шкафу висело пятьдесят галстуков. А я всегда повязывал один и тот же — самый старый. Двухнедельная отсрочка! Наступил вечер. Свет уличных фонарей почти не проникал сквозь сумерки. Я зашел в недорогой ресторанчик неподалеку от Сен-Сюльпис. Телевизор работал. Рекламировали какой-то сыр. Я заказал плотный ужин, так как чувствовал себя хуже некуда. Тесное помещение. Несколько посетителей заканчивали есть, поглядывая на экран. Меня сразу охватило предчувствие чего-то неизбежного. И я почти не удивился, когда на экране появился Жак Шансель. Он пересек студию и направился к креслам. За ним следовал высокий, сутуловатый мужчина в темном костюме. Я узнал его раньше, чем назвали имя. Это был он. Я оттолкнул тарелку. Его узкое лицо показали крупным планом: глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, лысеющий лоб, большие прижатые уши. Возраст между сорока и пятьюдесятью. Мое внимание привлекли глаза, усталые, обрамленные морщинами. Они то готовили мимолетную улыбку, в которой проглядывала насмешка, то выражали уход в себя, своего рода недоверчивое «себе на уме». Порой они открывались шире, пропуская беглый взгляд, как вспышку света, тотчас гаснущую. Я не слушал вводное слово Шанселя, а наблюдал за Гараваном, который смотрел в объектив и, казалось, вот-вот обратится ко мне. А еще у него был необычный рот, широкий и тонкий, и верхняя губа чуточку выдавалась вперед, как будто он готовился что-то попробовать, — деталь, придававшая его лицу двойственное выражение эксперта и человека, умеющего сказать «нет», но в галантной форме. Он сидел, сцепив руки вокруг колена. — Патрис Гараван, — обратился к нему Шансель, — вам, должно быть, известно, какой вопрос нас всех занимает?.. Кто вы? Представьтесь зрителям. — Мне сорок три года, — сказал Гараван. — Я родился в Париже. Учился вЛуи-ле-Гран. Доктор юридических наук. Вот уже несколько лет являюсь президентом — генеральным директором фирмы, занимающейся текстилем. Ничего экстраординарного, как видите. Медленная речь, продуманные интонации, а еще — голос, равнодушный, как будто бы все это вовсе несущественно. — Семейное положение? — В молодости был женат, затем разведен. Детей нет. — Патрис Гараван, вряд ли вы ворвались в литературу одним махом? Вашему роману «Две любви» наверняка предшествовало что-то еще? — Нет, ничего. Я даже ни разу в жизни не написал ни одной стихотворной строки... Недостаток времени. Но я люблю книги, разумеется... Однажды я познакомился с химиком, который был ужасно искалечен взрывом. Его история, чуть подретушированная, и послужила сюжетом для моего романа. Гараван говорил так вдумчиво, что мне бы и в голову не пришло его оспаривать. — Значит, если я правильно понимаю, вы написали свой роман одним росчерком пера? В глазах Гаравана промелькнула хитроватая усмешка. — О нет! На импровизацию я не способен. Я трудился над рукописью до самого последнего момента. — Вы пишете сразу на машинке? — Нет... Сначала набрасываю черновики от руки... Затем, когда мой текст меня более или менее удовлетворяет, сажусь за машинку. Сущая правда. Именно так я и работаю. Я! А не он! — Патрис Гараван, вы могли бы предложить рукопись издателю. Но вы предпочли участвовать в конкурсе. Почему? — Из скромности или, быть может, из гордости. Не мне судить. Как я вам сказал, литература — не моя стихия. Был объявлен конкурс. И я подумал: если мой роман окажется не на высоте, его просто отклонят, без комментариев... Понимаете? И не придется переживать из-за отказа, который меня в какой-то мере выбьет из колеи. Именно этим и объясняется, почему я не сопроводил рукопись конвертом с указанием имени автора. Я был уверен, что мои шансы самые ничтожные. Однако меня увлекала сама игра. Я сказал бы то же самое. Он украл у меня даже аргументы. — А между тем вы оказались победителем. Тогда объясните нам, почему вы так долго выжидали, прежде чем заявить о своем авторстве? Меня бы такой вопрос привел в замешательство. Но Гараван тщательно подготовился к ответу. В глазах опять промелькнула хитринка. — Я боялся, — пробормотал он, впервые притворяясь, что подыскивает слова. — Вокруг этой книги сразу поднялась шумиха. Я занимаю серьезные посты. Любовные истории... при моей-то профессии... в моей среде... (Намек на улыбку.) Я опасался, что меня неправильно поймут. И поэтому решил сначала хорошенько подумать... Будь я моложе, а главное, если бы я собирался продолжать литературную карьеру, я бы не колебался. Однако это не тот случай. — Но тогда, Патрис Гараван, почему же вы не сохранили секрет до конца? — Из-за денег. Не забудьте, что я еще и финансист. Я не имею права оставлять такие деньги без употребления. Вот почему я решил передать причитающиеся мне суммы — премию, проценты и гонорары — во Французский фонд медицинских исследований. В зале послышалось оживление. — У него, наверное, и так много! — позавидовал официант, убирая со стола. — Кофе, мсье? — Да, пожалуйста. Я был оглушен, как ударом по голове. Этими словами Гараван меня добил. Его бескорыстие служило гарантией искренности. Подобную щедрость мог позволить себе только автор — подлинный автор романа «Две любви». Выхода из создавшейся ситуации не было. Меня обрекли на молчание окончательно и бесповоротно. — Патрис Гараван, уверены ли вы в том, что успех вашей книги не заставит вас переменить свое решение? Вы, кажется, уже получили предложение экранизировать этот роман. Не открывается ли перед вами в каком-то смысле перспектива новой карьеры, хотите вы того или нет? — Право, не знаю. Слухи насчет проекта экранизировать мой роман верны, и я уже дал согласие. Это дело кажется мне занятным. Ну а дальше? Все это для меня так ново, так неожиданно... Откровенно говоря, не знаю. Я очень дорожу моим слишком редким досугом. — Наши зрители наверняка не знают, каково ваше излюбленное времяпрепровождение. Можете ли вы им признаться в этом? — Разумеется. Я не делаю из этого никакой тайны. В глубине души я охотник. — Охотник на диких зверей. Патрис Гараван — участник многочисленных сафари. А теперь кадры, подготовленные программой «Теле-Синема». Внезапно на экране возникают заросли. По тряской дороге едет «лендровер». На переднем сиденье Гараван в куртке и шортах. Он зажал между ногами тяжелый карабин. Рядом с ним, за рулем, негр. Улыбка приоткрывает зубы. Слева тянется река, такая широкая, что ее противоположный берег выглядит бледной чертой. Следует кадр, снятый телеобъективом, — буйвол прислушивается, наклонив рога... Мне уже нехорошо. Я угадываю продолжение... Животное, сраженное пулей... Гараван, сфотографированный рядом со своей жертвой. Этот человек внушал мне отвращение. Я ненавижу его всей душой. Я убивал ради защиты. Он же устраивает бойню ради собственного удовольствия. Теперь я лучше улавливаю сущность этих тонких губ. Я больше не могу видеть этот рот. Оставив деньги на столе, я ухожу. Это смахивает на бегство. Дома я часами предаюсь бесплодным размышлениям. Я — как шмель, который бьется в закрытое окно. Слова Гаравана точно обрисовали картину: я писал на черновиках, которые уничтожал по мере того, как перепечатывал текст, считая его окончательным. Такая педантичность теперь оборачивалась против меня. Если бы я еще вносил исправления в машинописный текст от руки, возможно, я и сумел бы доказать, что почерк мой, а не Гаравана. Но даже в этом случае, кто бы стал меня слушать, кто взялся бы сравнить два почерка? А уж тем более если бы я попытался вызвать скандал, добиваясь экспертизы двух пишущих машинок, его и моей. Да меня подняли бы на смех! Все веские доказательства, весь авторитет, все доверие на стороне Гаравана. Я не мог шевельнуть даже мизинцем. Я был его дичью. Он держал меня на мушке, чтобы прикончить, когда ему вздумается. Покинуть Париж? Но куда податься? И на какие шиши? Я лег спать, так и не придя ни к какому решению. Я сознавал, что все пути для меня закрыты. В ту ночь у меня раскалывалась голова. Проснувшись, я начал считать наличные деньги. Осталось сто двадцать франков. На радио мне уже выдали несколько авансов, так что теперь мне причитались сущие пустяки. Франков шестьсот. Продажа малолитражки мне принесет максимум пятьсот франков. И это почти все. Мой банковский счет пуст, а на Матильдин особенно рассчитывать не приходится. Да и перевод его на мое имя потребует долгих хлопот, которые обескураживали меня заранее. Продать мебель? Неподходящий момент — все разъезжаются в отпуск. Надо искать работу, любую, лишь бы выбраться из безденежья. Но к кому обратиться? Я пережевывал все эти мысли прямо до тошноты. И тут зазвонил телефон. Может, меня просят заменить больного актера или приглашают на дубляж? Я снял трубку, готовый принять любое предложение. — Алло? — Говорит Гараван. Меня прошиб холодный пот. — Извините за беспокойство в столь ранний час, дорогой мсье. Но я хотел бы встретиться с вами как можно скорее. Речь идет о срочном деле, суть которого мне сложно объяснить вам по телефону... Не могли бы вы прийти ко мне в первой половине дня?.. Алло? — Да, да... Разумеется. Когда пожелаете! — Скажем, в половине двенадцатого... Шестнадцать-бис, авеню Мак-Магона... — Договорились. — Благодарю. До скорой встречи. Итак, я согласился как дурак, повинуясь импульсу более сильному, чем моя воля. Потому что Гараван сильнее меня. Потому что я его боялся. Потому что скалолаза притягивает пустота. Эта встреча — невозможна, абсурдна, безнравственна. Но я уже не шел — меня уносило течением. Что ему от меня нужно? Разве он раздавил меня не окончательно? Я приготовил себе очень крепкий кофе, но не находил сахара. Я уже сам не знал, что делаю. Я кружил по квартире, как зверь в клетке. А если, вопреки заявлениям на телевидении, он предложит мне сделку... половинную долю? А что, если он мне скажет: «Забудем прошлое. Матильда умерла... Обсудим настоящее! Смешно и думать! Тот Гараван, которого я видел вчера, с его острым взглядом охотника в засаде, подстерегающего добычу! Нет! Никогда он так не скажет! Скорее, Гараван открыл способ еще полнее отомстить мне... Но какой? Каким образом он мог добить меня окончательно? Бедная моя голова раскалывалась на части после стольких дней поисков выхода из создавшейся ситуации. Я достал из шкафа свой лучший костюм. Тщательно привел себя в порядок. Как будто это имело хоть малейшее значение! Конечно же мне и в голову не могло прийти стараться ему понравиться. Просто я заботился о своем достоинстве. Я ощущал себя обвиняемым, который готовится предстать перед судом. И в то же время меня переполняло бешенство, холодная ярость сводила челюсти. Если он доведет меня до крайности, я нанесу ему ответный удар. В моем-то состоянии! Я поехал на метро и уже в одиннадцать оказался перед его домом. Пришлось долго прогуливаться в ожидании назначенного часа. Мне не хватало воздуха. В одиннадцать тридцать я позвонил. Дверь открыла старая служанка и проводила меня в гостиную, которую я сразу узнал. Здесь Матильда представила мне Мериля. Здесь, в сущности, все и началось. Комната обставлена богато, но на старомодный лад. Слишком много безделушек. Старинные картины. Кресла прошлого века. Позолота. Непроницаемая тишина. Гараван появился из дальней двери и бесшумно приближался. В черном костюме. Мужем был я, но вдовцом стал он. Дальше ехать некуда. Он еще издалека протянул мне руку, которая показалась мне всепрощающей дланью. — Присаживайтесь. Он окинул меня беглым взглядом, позволившим ему, однако, рассмотреть меня во всех деталях. Не взгляд, а луч прожектора. Потянув за складку брюк, он уселся напротив меня на диван. — Господин Миркин, вы, конечно, знаете, что я — автор книги, наделавшей много шума. Спокойное лицо, выражающее сердечное расположение. Рука, вытянутая на спинке дивана. Длинная ладонь, на пальцах ни перстня, ни обручального кольца. — Я согласился сделать ее адаптацию для кино, по легкомыслию полагая, что найти специалиста — не проблема, что в опытных сценаристах недостатка нет. Так вот, я ошибался. Хорошие сценаристы уже заключили контракт — в этом сезоне снимается много фильмов. Теперь вы догадываетесь, почему я просил вас приехать? — Меня?.. Ведь я не... — Знаю. Но в шестьдесят восьмом вы написали роман, полный достоинств, который назывался... кажется, «Вкус слез». Я не ошибся? — Нет. — Этот роман увидел свет в крайне неудачный момент. Его никто не читал. Я заметил его тогда и даже сказал себе: «Изумительная книга, которая говорит о тонком восприятии, довольно редком для молодого писателя». А мне как раз и нужна помощь такого человека, как вы, по крайней мере на первой стадии работы. Режиссер еще не назначен. Он и выберет автора диалогов. Но описательной частью сценария я хотел бы заняться сам. Хочу быть уверенным, что суть романа: не будет искажена в фильме... Вы читали мой роман? Первый удар! Я понял, что их будет еще много, если я не прекращу этот разговор немедленно. Но я себе больше не принадлежал. Меня словно заворожил его наглый цинизм. — Да. Читал. Он улыбнулся, и глаза его заблестели. — Тогда вы могли обнаружить, что между вашей книгой и моей существует своего рода близость... и даже более того... — Какое-то родство? — Вот именно. Он упивался этой игрой, которую вел по своей прихоти. Она обретала характер изощренной корриды, где каждый пасс тщательно рассчитан на то, чтобы получить преимущество над противником. Гараван не спускал с меня глаз. Он знал, что я опасен. Я чувствовал, в каком он находится напряжении, хотя внешне и казался по-прежнему невозмутимым. — Я уже говорил о вас с моим продюсером, — продолжал он. — Естественно, он предоставляет мне полную свободу действий при условии, что я сумею работать быстро. Он намерен снимать в сентябре. Хотите ли вы работать со мной? Он доверительно наклонился ко мне, и я увидел его совсем близко, как видел дерево, убившее Матильду. — Для первой стадии работы нам потребуется не больше месяца. Предлагаю вам пятнадцать тысяч франков. Вы согласны? Он несомненно знал о моих денежных затруднениях. Он знал меня лучше полицейского, лучше исповедника. — Для начала мы обоснуемся тут, поскольку мне еще предстоит уладить много дел. Затем уедем из Парижа. Я приобрел загородную виллу. Там нам будет совершенно спокойно. Добавлю одну деталь, важность которой не должна от вас ускользнуть: если фильм получится — а он получится, — то, возможно, это окажется удачным стартом для вашей собственной карьеры. Кстати, ваше имя будет фигурировать в титрах. Он ждал. Он следил за мной. Не наброшусь ли я на него? Возможно, под маской спокойствия гнездился страх, поскольку он добавил: — Советую вам согласиться, господин Миркин. Понимай: «Вы у меня в руках. Не забывайте, что достаточно мне сказать слово...» Я передернул плечами: — А если я откажусь? — Вам останется только пожалеть об этом. На сей раз его голос прозвучал резче. Он спохватился и продолжал в более дружелюбном тоне: — Вы опасаетесь, что окажетесь не на высоте, не так ли?.. От вас потребуется перо романиста. Я расположен всячески поручиться за вас, господин Миркин. Вы можете отнестись ко мне с полным доверием. Я улыбнулся, так как слова его прозвучали нелепо. — К работе нужно приступить уже завтра, — добавил он. — Нельзя терять ни минуты. Он встал, прошел к ломберному столику за книгой и протянул ее мне. Это был мой роман «Две любви». — Перечитайте, — сказал он, — чтобы глубже постичь содержание. И, если мое предложение вас привлекает, сообщите мне ответ вечером по телефону. Он продолжал стоять, не спуская с меня глаз. Я думал о буйволе в зарослях саванны. А он остерегался моих реакций раненого зверя. Возможно, он был вооружен. Именно в этот момент преимущество оказалось на моей стороне. Я-то знал, что ничего такого не сделаю, так как чувствовал себя сломленным. Мною руководило только любопытство, тогда как он был вправе опасаться чего угодно. Он не мог не знать, что я достиг предела того, что можно вынести. Он выждал несколько секунд, сочтя себя господином положения. — Чего бы вы хотели выпить? Виски? Портвейн? «Чинзано»? — Портвейн, пожалуйста. Он потянул за шнур, который заканчивался помпоном, как в старых английских фильмах. На звонок вошла служанка, толкая сервировочный столик на колесиках, заставленный бутылками. Он налил мне вина, заговорив еще дружественней, с ноткой взволнованного сочувствия. — Мне сказали, что вы стали недавно жертвой трагического случая. Это также одна из причин, побудивших меня предложить вам сотрудничество. Нехорошо, когда такой человек, как вы, остается под гнетом невосполнимой утраты. Я хорошо знаю, о чем говорю... Его голос едва заметно дрогнул. Наши взгляды опять встретились, но он уже взял себя в руки. И с невозмутимым видом поднял стакан. — За наш успех, — пробормотал он. На прощание он тепло пожал мне руку. — Жду вашего звонка с большим нетерпением, господин Миркин. На улице я почувствовал себя хуже, чем когда покидал клинику.Глава 10
Я уже знал, что приму предложение Гаравана. Будь у меня время и охота, я взял бы листок бумаги и разделил его на две половинки. Слева доводы «за». Справа доводы «против». Но я слишком устал. И потом, от меня больше ничего не зависело. В любой момент Гараван мог донести на меня в полицию. Так что лучше соглашаться. Может, он хотел меня изучить, убедиться, что я не закоренелый преступник, а несчастный человек. Может, он захотел дать мне шанс отплатить ему по заслугам? Я внушал это себе, чтобы приободриться. Но то была неправда или, по крайней мере, не единственная правда, потому что их было несколько. Во мне жили весьма противоречивые правды. Я направился прогулочным шагом в сторону Елисейских полей. Во время ходьбы легко размышлять. Правда, мне хотелось больше узнать о Гараване. Как Матильда могла стать его любовницей? Чувственное увлечение? Ладно, это я мог допустить. Но этот траур! Это горе, которое, похоже, и было движущей силой его поведения! Он — крупный буржуа, а она — молоденькая модистка! Тут крылось что-то непонятное. Правда и то, что Гараван меня привлекал. Мне следовало сразу съездить ему по физиономии. Я этого не сделал, и совершенно не мог объяснить себе почему. Признаться, я сам себе напоминал читателя романа с продолжением, который день за днем ждет, что же будет дальше. Не моя вина, если я превратился в зрителя своих же странных нравственных мук... Я обедал в закусочной среди молодежи с разным цветом кожи, изъяснявшейся на всех языках мира. Существовала еще одна вещь... одна правда, быстро ускользавшая, которую мне не удавалось постичь. Я уже отказывался думать. Он выпишет мне чек, и это, естественно, положит конец самой унизительной заботе о хлебе насущном. Выпив кофе, я позвонил ему. — Алло?.. Господин Гараван? — Ах, Миркин!.. Вы подумали? — Да. Я согласен. — В добрый час. Вы доставили мне огромное удовольствие. Но если вы свободны, мы могли бы приступить к делу не откладывая... Мне предстоят еще два свидания; я буду занят до пяти. После пяти, если не возражаете... — Договорились. — В таком случае я жду вас. В пять старая горничная проводила меня в кабинет Гаравана. — Мсье скоро вернется. Я прошел в просторную комнату, мрачноватую, как и вся квартира. Дубовые панели. Книжные шкафы. Кожаные кресла в английском стиле. Несколько картин в духе Коро. Приходила ли сюда Матильда? На письменном столе фотография. Я подошел ближе. Фотография немолодой женщины, некогда, по-видимому, красивой. Судя по линии рта, по овалу лица, мать Гаравана. Как трогательно! Вот уж не думал, что Гараван когда-то был мальчиком. Моя книга лежала на бюваре раскрытая, как труп на операционном столе. Я видел на полях пометки — черточки, крестики, стрелки, — сделанные красным карандашом. Вошел Гараван. — Ах, Серж... Вы уже здесь! Извините, меня задержали. Эта внезапная фамильярность в обращении меня удивила, но не шокировала. Скорее, она льстила мне как признак уважения, которого мне больше всего и не хватало в жизни. — Устраивайтесь поудобнее, старина. Ну и жара! Это был другой Гараван — Гараван для узкого круга, улыбчивый, щедрый на знаки внимания. — Итак! Как вы представляете себе нашу работу?.. Садитесь рядышком. Вот бумага, карандаши... Если хотите, мы его разберем по косточкам, этот роман, или же вначале определим последовательность событий? Может быть, вы предпочитаете, чтобы мы проследили за чувствами, отмечали их рост, эволюцию?.. Решайте сами... Вы знаете лучше меня, какого метода следует придерживаться... Между нами говоря, при первом чтении роман производит сильное впечатление, но стоит копнуть глубже, и замечаешь, что характеры утрированы и автор манипулирует героями, чтобы добиться определенного эффекта... У вас не создалось такого впечатления? И тут до меня дошла вся абсурдность сложившейся ситуации. Чего он хотел, так это разрушить мою книгу у меня же на глазах, проявляя видимость искренности, с какой он вынужден ее критиковать. — Можете быть со мной откровенны, — продолжил он. — Я не самолюбив. Разумеется, я не стану трубить на всех перекрестках, что мой роман — слабое произведение. Его считают хорошим — тем лучше. Но возьмите, к примеру, ревность Робера, главного героя. Как по-вашему, правдоподобен ли его образ? А сами вы ревновали, Серж? — Да, случалось... — Я хочу сказать — ревновали до умопомрачения? — Думаю, что да. — Тогда вам известно, как и мне, что ревнивец ничего не позволяет, ничего не пропускает, ничего не прощает. Робер должен был убить жену, а не любовника. Он подтолкнул ко мне шкатулку с сигаретами и, наверное, удивился, увидев, что я взял сигарету недрогнувшей рукой. — Теперь я полагаю, — сказал он, — что ошибался. Не бойтесь высказаться определенно и напрямик. В данный момент я доискиваюсь до истины. — Возможно, вы и правы. — Нет! Никаких «возможно». Ваше мнение? — У меня еще нет мнения. — Так вот, по-моему, он должен был убить жену... Это слабый момент в развитии сюжета. И мы должны внести коррективы. Одно дело — литература, а другое — кино. Оно не прощает никаких промахов. Я наблюдал, как он сужает круги, подготавливая почву с устрашающей ловкостью. Он будет мучить меня без передышки, чтобы выудить признание. — Есть в романе и другое слабое место, — сказал он. — Опять же касающееся ревности... Говорю вам, эта книга написана головой, а не нутром! — Вы судите сурово. — Потому что люблю докапываться до сути. Посмотрите, Серж, перед вами человек, снедаемый ревностью. Для ревнивца не существует моментов, когда он питает доверие. Любовь для него изначально сомнение, недоверие, подозрительность, тревога... Правильно я говорю? — В его страсти уже заложено убийство. Вот это нам и следует внушить с первых же кадров. — Согласен с вами. Но в таком случае вы расскажете уже совсем другую историю. — Ну и пусть, если она правдивее, жизненнее! Я встал. Меня трясло от бешенства, но я ничего не мог поделать. — Послушайте, Гараван... — начал я. Но он сразу прервал меня с чистосердечной, светлой улыбкой: — Зовите меня Патрис... Мы работаем рука об руку, не правда ли? Так что церемонии побоку. Что вы собирались мне сказать? Я засунул кулаки поглубже в карманы, прошелся по пушистому паласу, потом обернулся и посмотрел Гаравану прямо в глаза. — К чему вы, в конце концов, клоните? Он развел руками в знак бессилия, но продолжал улыбаться. — Я ищу. Мы ищем... Видите ли, для меня сейчас недостаток этого романа в том, что он показывает незаурядных людей, поставленных в исключительные обстоятельства. Тогда как нам, наоборот, нужно будет показать совершенно заурядных людей, таких, как вы и я, но тем не менее способных на какие-то крайние поступки... Понимаете?.. Я побуждаю вас к тому, чтобы попытаться идти по этому пути. Поговорим о нас... Допустим, это наша с вами история... Таков замысел продюсера. И он прав. Зазвонил телефон. Мы вздрогнули, как парочка, занятая любовью. — Ответьте, — сказал Гараван. — Скажите, что меня нет дома... Или нет, скажите, что вы — мой секретарь, и спросите, что передать. Я снял трубку. — Мсье Гаравана нет дома. С вами говорит его секретарь. Достав из ящика письменного стола несессер, Гараван подпиливал ногти. — Да, записываю... Мсье Бетель, прекрасно... Мсье Гараван будет завтра утром... Пожалуйста, мсье. Гараван одобрительно кивал. Я положил трубку на место. — Очень хорошо, — сказал он. — Самый подходящий тон... Этот тип — зануда. Никакого значения. Но, если бы я смел, Серж, я попросил бы вас, когда звонят в вашем присутствии, отвечать вместо меня. Вас это не затруднит? — О-о! Ничуть. — Итак, на чем мы остановились? Он это знал не хуже меня, но желал подчеркнуть, что продолжает вести игру и задавать вопросы надлежит ему, а отвечать — мне. — Вы говорили о том, что нам следует трактовать эту историю как свою собственную. — Вот именно... Но в таком случае, мне думается, нам следовало бы пересмотреть возраст персонажей. Они слишком молоды — я отдал себе в этом отчет уже задним числом. Кто такой, в сущности, ревнивец? Скрип пилочки терзал тишину. — Это тип, склонный к мести, — продолжал Гараван, — даже еще до того, как у него появится повод... Но, если ревнивец слишком молод, его месть будет лишена размаха, не так ли?.. Существует состояние всепоглощающей ревности, сверхчувствительности к обиде, которое мы обязаны передать... Вам сколько лет, Серж? — Двадцать восемь. Гараван задумчиво отполировал ногти о рукав. — В вашем возрасте еще легко прощают. В моем — нет. Вот почему я и хотел, чтобы нашему Роберу стукнуло сорок... Такой возраст позволил бы нам по-другому толковать его поведение. Наконец-то он подошел к этому вопросу, приближаясь с бесконечными предосторожностями, шаг за шагом, кружным путем, словно желая выйти на зверя с подветренной стороны. В дверь постучали. — В чем дело? — крикнул он, и его голос внезапно зазвучал сердито. Старая служанка опасливо просунула голову в дверь. — Приехали грузчики, мсье. — Мы перебираемся в деревню, — вздохнул Гараван. — Хорошо, иду. Извините, Серж. Я отправляю туда свои коллекции. Увидите, они вас заинтересуют. Если позвонят, ответьте за меня, пожалуйста. Он быстро вышел. А я воспользовался его отлучкой, чтобы отдышаться. Нервы у меня были так напряжены, что я уже только и мечтал, как бы откинуться в кресле, протянуть ноги, полностью расслабиться. Я уже четко представлял себе, в чем заключается его план. Под предлогом переделки моей книги в сценарий он задался целью заставить меня заново пережить мою жизнь с Матильдой и подтолкнуть к рассказу об автомобильной катастрофе так, как он ее себе представлял, то есть как о преднамеренном убийстве. После чего он выдаст меня полиции. Другого толкования быть не могло. А я? Разве мне и самому не хотелось способствовать этому? Разве не за этим я сюда пришел? И да, и нет... Я был не в состоянии дать однозначный ответ. В данный момент мне хотелось побольше узнать о его замысле. Я этого страстно желал. Скрытая борьба меня возбуждала. Ненависть к Гаравану действовала на меня как спиртное. Кто-то любил Матильду сильнее меня! Кто-то ненавидел меня больше, чем я ненавидел несчастного Мериля! И насколько Гараван прав! Я только и способен на жестокую, мгновенную, глупую месть. Тогда как он не спешил. Он убьет меня со своей непроницаемой улыбкой хорошо воспитанного человека. Он уже приступил к препарированию моего романа, и тот истекает кровью под его проворным ножом. Вскоре от этой книги, в которую я вложил всего себя, ничего не останется. Но я вынужден соглашаться со справедливостью его критических замечаний. Еще немного, и мне будет стыдно, что я написал эту историю. Кошмар! Он вернулся с подносом, заставленным бутылками и стаканами. — Бедняжка Анриетта, — сказал он, — и вправду стареет. Этот переезд заставляет ее терять голову. Вернее, то, что она называет переездом — на самом деле это всего лишь отправка некоторых вещей. Я отправляю в деревню свои коллекции, как я вам уже сказал, книги, кое-какую мебель... в сущности, совсем немного. И твердо намерен сохранить за собой эту квартиру, принадлежавшую моей матери... Я провел тут детство. Не очень веселое. Я почти не знал отца. Он скоропостижно скончался от разрыва сердца. Мама меня немного подавляла, если вы представляете себе, что я хочу сказать, Серж... Портвейн? — С удовольствием. Он ловким жестом налил мне вина. — Мне повезло, — продолжил он, — я нашел в деревне очень приятный дом... В делах я удачлив... И вот сейчас я его благоустраиваю по своему вкусу. Вам наверняка понравится. Жить здесь стало просто невозможно. Меня поминутно беспокоят. Я даже подумываю... Он медленно поставил свой стакан обратно на поднос. — Извините меня за бестактный вопрос... Связаны ли вы каким-либо контрактом или свободны, совершенно свободны? — Я свободен. — В таком случае не согласитесь ли вы по-настоящему стать моим секретарем?.. Я спрашиваю вполне серьезно. Вы себе не представляете, какую почту я теперь получаю! Я просто не знаю, с какого конца к ней подступиться. Само собой, я обязан ответить на все эти письма, но у меня не хватает мужества. И знаете, поклонницы, в моем возрасте... Он шаловливо захихикал, что прозвучало неуместно в его строгом кабинете. — А кроме почты, телефонные звонки множества знакомых, которые полагают, что их поздравления доставляют мне удовольствие. Вы лучше меня найдете для них подходящие слова. Соглашайтесь, Серж, и вы не пожалеете. Я оценю ваши услуги... очень щедро. Что вы на это скажете? Я часто смотрел документальные фильмы об Африке. Один из них пришел мне на память. Крупного хищника — из тех, к кому приближаться рискованно, — загоняют в яму, замаскированную ветками, забивают издалека, практически незаметно для животного. Гараван загонял меня постепенно. Он все предвидел, все подготовил... Даже это предложение, которое наверняка составляет часть его плана. Он считал, что может со мной хитрить. Я изобразил на лице нерешительность. Он снова взял в руки стакан, но не пил, а посматривал на меня из-под прищуренных век. — Я несколько смущен. — Но вам нечего смущаться! — вскричал он. — Это я буду вам премного обязан. Скажу вам по секрету: я человек скрытный и даже робкий... Да, робкий. Мне требуется невероятно долгое время, чтобы привыкнуть к новым лицам. С вами же я чувствую себя легко, потому что вы хорошо знакомы с проблемами, с которыми столкнулся я... Я имею в виду литературные проблемы... Мы понимаем друг друга с полуслова, и поэтому вам нет цены. Он осушил свой стакан и машинально посмотрел его на свет. — Ну что ж, — сказал я, — да будет так. Когда приступать? — Благодарю... Благодарю вас, Серж... С завтрашнего дня, если пожелаете. Скажем, с девяти до полудня и с четырнадцати до восемнадцати... Вас устраивает такой распорядок дня?.. Отлично! Он извлек из внутреннего кармана чековую книжку. — Нет, не возражайте. Это вам на первые расходы... Одна деталь меня несколько смущает... Ваша борода... Я ничего против нее не имею... но предпочитаю, чтобы вы ее сбрили... Вам предстоит принимать людей... а у Патриса Гаравана привыкли к известному... как бы это сказать... известному стилю. Черт побери! Гараван стремился вернуть меня к облику, который запомнили свидетели из «Золотой рыбки». Он протянул мне чек. Я прочел вписанную им сумму: тысяча франков. Сложив чек, я суховато поблагодарил. И я знал, что он понял: я не поддался на обман. Он посмотрел на свои часы — спортивные часы со множеством циферблатов, которые никак не вязались с его черным пиджаком отличного покроя. — Уже поздно, — сказал он. — Мы возобновим работу завтра. Мне кажется, дела наши идут неплохо, не правда ли? И я представлю вас Оппенгейму, моему продюсеру. Очаровательный человек, и ничего от промышленника. Его цель — не коммерческий фильм, а фильм искренний, способный тронуть зрителя, понимаете? Он проводил меня до лестницы и пожал мне руку. — Я очень доволен, Серж, очень доволен... Поскорее возвращайтесь! Дома я долго стоял под душем. Как древние, я верил в то, что вода смывает позор. Секретарь Гаравана! Среди всех гримас жизни эта наверняка выглядела самой отвратительной. На следующее утро я перевел деньги с чека на свой банковский счет и сбрил бороду. Отныне мое нагое лицо напрашивалось на изобличение. Я позвонил у дверей Гаравана. Меня приняла старая Анриетта. — Мсье нет дома, но он сказал, что вы знаете, чем надо заняться. — Да, я в курсе. Я направился прямо к письменному столу, на краю которого лежала стопка нераспечатанных писем и записка Гаравана:«Извините меня. Я должен на сутки уехать. Отправьте почту. Благодарю».Я сразу узнал почерк. Тот самый, что на конверте пневматического письма. Значит, сомнений больше нет. Человек, писавший Матильде, а также наверняка тот, кто звонил ей по телефону, — именно Гараван. Но, по мере того как сомнения рассеивались, мое озлобление оживало. Оно еще больше усилилось, когда я стал просматривать письма, по сути дела, адресованные мне. «Я только что прочел «Две любви», и роман меня потряс... Ваша столь волнующая книга рассказывает мою историю почти что слово в слово... Какое глубокое постижение психологии и какая тонкость чувств...» По большей части писали женщины. Одна из них начала письмо так: «Мэтр, прочитав ваше замечательное произведение, я почувствовала такую близость к вам...» Я даже обнаружил в конверте фотографию — молодая женщина в шортах с теннисной ракеткой в руке. Я был не только удивлен обилием писем, поскольку не имел за плечами никакого опыта писательского успеха, но еще и тронут, взволнован столькими знаками уважения. Значит, у меня, такого одинокого, такого покинутого, есть друзья, бесчисленные друзья. А Гараван осмеливался подвергать меня подобному испытанию! Фимиам славы — моей славы — мне приходилось вдыхать опосредствованно, стыдясь ее и как бы украдкой. Я его убью! Из нас двоих один лишний. Гараван подготовил для ответов визитные карточки. Я впрягся в работу. «Весьма польщен», «Благодарю Вас» и тому подобное. Иногда я придумывал варианты. Употреблял менее избитые обороты, выражал благодарность в более субъективной манере. Но как бы я себя ни обманывал, я оставался его подручным. Его негром! В десять я все бросил и сбежал, чувствуя, что больше не могу. Прохаживаясь по улице, я выкурил две или три сигареты. Я был волен в любой момент сказать Гаравану: «Вы подлец!» И хлопнуть дверью. Но такая свобода действий меня связывала. Возможно, это звучит чудовищно, но я охотно убил бы Гаравана, однако не желал вызвать его неудовольствие. Я вернулся, чтобы доделать работу. Я также записал несколько телефонных звонков, условился об одном-двух свиданиях. После полудня я купил черные очки. В них я почувствовал себя более защищенным. Гараван уже был дома, когда я вернулся. Мне пришлось извиниться за то, что я отлучался. Я ужасно досадовал на себя за то, что он засек мою отлучку. — Да нет же, дорогой Серж. Это мне следует извиниться перед вами. Вы вправе думать, что я — человек неорганизованный: говорю вам, что буду отсутствовать, а сам возвращаюсь ранее обещанного срока. Все это кажется непоследовательным... Но так нынче складывается деловая жизнь... Вы, я вижу, провернули большую работу. Остальное может и подождать... Если завтра меня будут спрашивать, скажите, что мы уезжаем на месяц в путешествие. А через два дня мы переедем в деревню. Гараван был говорлив. Он, с первого взгляда производивший впечатление человека неприступного, манерного, со мной держался непринужденно. Это выражалось в том, что он слишком много себе позволял и слишком много говорил. Мы играли в игру со смертельным исходом, и тем не менее его голос звучал дружелюбно, а его отношение ко мне выдавало желание произвести приятное впечатление. — Вы размышляли над нашей историей? Лично я много думал о ней. Что меня все больше и больше смущает, это взрыв, в результате которого наш герой получил увечье... В это трудно поверить... Нет ли в письмах, которые вы прочли, умных критических замечаний? — Нет. Зато много похвал. Гараван, стоявший посреди кабинета, руки в карманах, сделал несколько шагов к окну и, приоткрыв шторы, выглянул на улицу, словно за кем-то наблюдая. Позднее я заметил, что эта его привычка походила на своего рода манию, так же как манера, проходя мимо двери, прислушиваться. Может, он любил подслушивать под дверьми? — Не слишком ли вы скучали? — От чего именно? — Читать столько писем. Я покраснел. — Нет. Немного однообразно, конечно. Хотите, я зачитаю вам выдержки? Он рассмеялся и поднял руку. — Нет. Увольте. Это по вашей части. Не по моей!.. Я сказал, что много размышлял над этим взрывом... В романе можно описать все что угодно. Но в фильме... Не думаете ли вы, что сцена увечья Робера рискует показаться с экрана несколько... мелодраматичной? И даже слегка комичной? Я запротестовал. Мне надоели эти постоянные намеки. — Вы, несомненно, правы, — согласился он. — Больше всего я опасаюсь, как бы лучший эпизод фильма — взрыв — не оказался не на своем месте. Я предпочел бы им закончить... Ведь можно по-разному объяснить причину увечья нашего героя... Лично я прекрасно вижу, что он сам и подстроил этот взрыв с целью убить жену... Или, еще лучше, он подстроил автомобильную катастрофу. Я представляю себе его за рулем... — Но ведь это невозможно! — вскричал я. — Послушайте... вы водите машину? Какая у вас машина? — «Порше». — Тем более. Как можно быть уверенным, что сам выйдешь живым, целым и невредимым из катастрофы, в которой погибнет ваш пассажир?.. Совсем недавно я пережил почти такой же случай. — Ах, правда! — сказал Гараван. — Простите. — Я чуть не погиб. А между тем мы ехали не очень быстро, я вел машину осторожно. И у меня не было ни малейшего желания убивать жену. Последовало смущенное молчание. Гараван осознал, что предпринял неловкий маневр, а я упрекал себя в слишком спонтанной реакции. Похоже, мы оба почувствовали, что наша игра должна подчиняться более тонким правилам и следует избегать слишком прямых намеков. Ему не положено выглядеть нападающим, а мне — обороняющимся. — Мы вернемся к этой проблеме, когда сможем рассуждать спокойнее. Разумеется, вы поселитесь у меня. Я не намерен заставлять вас ежедневно приезжать на виллу и возвращаться в город. Я могу предложить вам одну из нескольких комнат, имеющихся в моем распоряжении. Это меня ничуть не стеснит. Возьмите с собой только самое необходимое, так как в моем автомобиле мало места для багажа. — Это далеко от Парижа? — Около восьмидесяти километров. Поблизости от Ла-Рош-Гюйона. Вы не суеверны? Тем лучше, так как на этой вилле недавно совершено убийство. Именно по этой причине мне и удалось приобрести ее по сходной цене. Владельцу хотелось избавиться от нее как можно быстрее... Однако, возможно, вы знали жертву?.. Это некий Жан-Мишель Мериль. Газеты много писали об этом деле. Я снял с носа черные очки. И предъявил Гаравану невозмутимое лицо. — Разумеется, — сказал я. — Весьма любопытное дело.
Глава 11
Автострада... Мант... Ветей... Вопреки собственной воле, я заново переживал то ужасное путешествие. Гараван как бы угадывал мое волнение. Разумеется, так оно и было — он даже старательно его провоцировал: вел машину не спеша, окружал меня вниманием. Не очень ли мне жарко? Не беспокоит ли сквозняк? Он и вправду выглядел человеком, который, отбросив заботы, отправляется отдыхать. В его непринужденной болтовне ощущалось веселое возбуждение. И мне приходилось делать усилие, чтобы напомнить себе, что сей обворожительный спутник жаждет моей погибели. Гараван объяснил мне, что давно уже подыскивал дом неподалеку от Парижа, но всякий раз он оказывался либо слишком далеко, либо слишком близко, либо место шумное, либо требовался капитальный ремонт. Слушая, как Патрис анализирует все эти обстоятельства, я лучше постигал придирчивый, маниакальный, недоверчивый характер этого человека. И как только Матильда — сама непосредственность — могла его выносить? — Я услышал об этой вилле от одного друга, который живет по соседству, — рассказывал Гараван. — Он хорошо знаком с моим нотариусом, который и воспользовался благоприятным случаем. А случай просто идеальный: дом совсем недавно полностью отремонтировали. Покраска едва успела высохнуть. К тому же при покупке я получал в придачу все имущество, включая мебель. Впрочем, от некоторых вещей я рассчитываю избавиться, но в целом такой вариант меня вполне устроил. Мы с вами приведем там все в полный порядок, вот увидите! От его слов я съежился в комок. Боль прошла по всему телу, Гараван рассмеялся и добавил: — Я приобрел этот дом вместе со слугой прежнего владельца — славным стариканом. Правда, у него чуть трясутся руки, но это преданная душа. Сегодня его не будет. Я дал ему выходной. Но мы прекрасно управимся и без него. Я уже не знал, чему верить. Устав от мыслей, я себе говорил: «Все это — чистое совпадение. Тут нет ничего предумышленного». И в самом деле, особняк стоил целое состояние. Не потратил же Гараван десятки миллионов только ради того, чтобы привезти меня сюда и вырвать признание, что я убил Матильду. Однако инстинкт самосохранения предупреждал, что опасность возрастала. Ведь в Париже я мог скрыться или, по крайней мере, тешить себя этой иллюзией. Когда мы приехали в Ла-Рош-Гюйон, я закрыл глаза. Вскоре Гараван остановил машину. — Серж, вас не затруднит отпереть ворота? Он протянул мне связку ключей. Я вышел из машины, как сомнамбула. Распахнув створки, я увидел аллею, которая вела на виллу, к смородиннику, красным цветам. Все возвращалось, как во сне. Гараван высунулся из окна машины. — Недурственно, правда?.. Я пробормотал ему в ответ что-то нечленораздельное, закрыл ворота, и машина покатила к дому. — С другой стороны дом выглядит еще приятнее, — сказал Гараван. — Пошли! Все было на месте, как в сценах, когда полиция восстанавливает картину преступления... Шезлонг, пляжный зонт, птицы вокруг бассейна. Я осматривался, не в силах произнести ни слова. Вон там крыльцо, на котором появился слуга... Покажись он тут в данный момент, я бы взвыл. Гараван повернулся ко мне спиной. Он рассматривал бассейн. — Не очень-то чистый, — заметил он. — Придется произвести очистные работы. Я закурил и глубоко затянулся. Постепенно страх отступил. Он ушел из моих рук, ног, и теперь тревога комком застряла где-то под ложечкой. — Осмотрим дом! — предложил Гараван. — Машину разгрузим позже. Следом за ним я взошел на крыльцо и оказался в доме Мериля. Разве Гараван не говорил, что сохранил обстановку прежнего владельца? Просторная прихожая с плиточным полом, который так блестел, что отражал наши силуэты. Справа — красивый старинный сундук. Высокое трюмо, в котором я увидел свое лицо с ввалившимися щеками. Растения в кадках. — Тут, — объяснил мне Гараван, — я размещу свои охотничьи трофеи. Раз уж они у меня есть, надо выставить их напоказ. Он открывал двери первого этажа — одну за другой. — Я оставил себе письменный стол. Взгляните... Очень удобный. Немного загроможден, на мой вкус. Он был забит бумагами, документами. Флоран все кое-как распихал по книжным полкам в гостиной. Когда выберете время, наведете там порядок. Тут находилась столовая, но я распорядился очистить помещение. Терпеть не могу столовых — на что они нужны? Я размещу здесь часть своих коллекций. Я привез из путешествий много оружия, по большей части туземного. А это гостиная. Мы обставим ее иначе. Я от нее не в восторге. Пошли глянем на подсобные помещения... Потрясающе, не правда ли? Кухня — сплошные кнопки. Все работает автоматически. Немного чересчур... пожалуй. Но Флоран хорошо управляется. Когда-то он служил коком на пассажирском судне. Я слушал его рассеянно. И представлял себе, как тут прохаживалась Матильда, в одном пеньюаре. Мы поднялись на второй этаж. Гараван там открыл только две двери: сначала в свою спальню — очень красивую и светлую, со старинной кроватью под балдахином, что придавало ей какой-то музейный облик, затем в мою — гораздо более банальную, зато из нее сквозь листву деревьев проблескивали воды Сены. К ней примыкал узкий балкончик, и я уверен, что Матильда стояла именно на нем в тот момент, когдаее сфотографировал агент Мерлена. «Мой визит превратился в паломничество», — думал я с горькой иронией. — Полагаю, вам тут будет хорошо, — произнес за моей спиной Гараван. — О-о! Не сомневаюсь. — Я не показываю вам другие помещения. Они не представляют никакого интереса. Ванная комната расположена в конце коридора. Над нами — спальня Флорана и огромный чердак. Все отделано почти заново. Ну что ж, мой дорогой, я думаю, мы вполне заслужили обед! Сегодня мы устроимся на кухне. Анриетта должна была приготовить нам потрясающий запас провизии! Гараван потирал руки и выглядел счастливым, как мальчишка, получивший новую игрушку. Морщинки вокруг глаз вроде бы смеялись, но взгляд оставался холодным и настороженным. — Я займусь сервировкой, — сказал он. — Впрочем, я обожаю стряпать, когда позволяет время. Перенесите вещи в спальни. Ничего похожего на приказ. Мы как бы поделили работу. Но, в сущности, я здесь для того и нахожусь, чтобы выполнять его указания. Я разгрузил «порше». Гараван взял с собой три чемодана из роскошной кожи, мой чемоданчик рядом с ними выглядел очень жалким. Итак, я забросил вещи на второй этаж и, прежде чем сойти вниз, захотел заглянуть в незанятые спальни. Оказалось, что они заперты на ключ. Странно! Я присоединился к Гаравану, который уже успел накрыть на стол. Мы впервые сидели вместе за столом, и я чувствовал себя несколько скованно, но оказалось, что Гараван — превосходный хозяин. Он следил за тем, чтобы разговор не затихал, тактично осведомлялся о моих вкусах, щедро потчевал вином и делал все, чтобы я не стеснялся. К несчастью, нас окружали стены, которые перекрывали мне воздух. Гараван рассказывал о своих сафари. — При охоте на хищников быстро пресыщаешься. Поначалу, убив несколько крупных животных, гордишься собой, может, потому, что вспоминаешь виденные в детстве зверинцы и ужас, который они внушали. А потом замечаешь, что преследовать дичь намного занятнее, нежели ее убивать. Вы никогда не охотились? — Никогда. — Это увлекательнейший опыт. Ты исчерпываешь силы животного, но при этом расходуешь собственные силы тоже. Люди думают, что идет борьба за жизнь. Нет! Это борьба за честь. Еще вина? — Благодарю... Какая же это борьба за честь, когда в твоих руках отменное оружие!.. Это слишком просто. — О-о! Вы думаете о ружье! Но вы забываете об инстинкте самосохранения у животных. Зверя, у которого любовь к жизни поистине в крови, поймать почти невозможно, и ему, разумеется, тоже надо оставить шанс... Покончим с этими персиками, они того заслуживают. Кофе?.. — С удовольствием. — Я пью очень крепкий. Нет, оставьте... я сам приготовлю. Лучше отнесите чашки в сад. И я расставил чашки на столе перед бассейном. У меня в ушах еще звучали слова Гаравана. Какой шанс он оставил мне? Я уселся в шезлонге Мериля. Мне оставалось произнести три слова: «Я убил Матильду!» И все было бы кончено. Изнурительная борьба на том бы и прекратилась. Но, поскольку я не убивал жену, признание, которого ждал Гараван, никогда не прозвучит. Итак? Сколько времени продлится эта рукопашная? Гараван присоединился ко мне с кофейником и плетеным креслом. — Ну что же, — сказал он, — пожалуй, мы могли бы и поработать, если вы не возражаете. И наш спор возобновился, ибо выстроить такой фильм — значило спорить до тошноты, до головокружения. — Чего бы мне хотелось, — сказал Гараван, — это представить себе прошлое наших героев. Роман знакомит тебя с героями, но ты не видишь их, тогда как в фильме их видишь, но досконально не знаешь. Вот это меня и смущает. Кто такой Робер?.. Вы перечитали книгу? Тогда вы уже овладели материалом... Каким вы представляете себе детство этого человека, его молодость, его окружение? Поскольку я не задавался всеми этими вопросами, когда писал свой роман, мне пришлось импровизировать. Гараван часто останавливал меня нетерпеливым щелчком пальцев. — Нет, Серж... Это не годится, Серж... Ревнивец — совсем другое. Вначале он единственный ребенок, избалованный матерью, которая им восхищается и никак не может прийти в себя от сознания, что произвела на свет подобное чудо. Например, я страшно ревнив, потому что мама дрессировала меня, как собачку... А вы? А моя мать после смерти отца учила меня играть на арфе. Случалось, в нашем доме бывали мужчины. Мне не хотелось посвящать во все это Гаравана. У одних есть свой тайный сад, у других — свое кладбище. Я ограничивался тем, что тряс головой, поддакивал ему: «Да, безусловно, вы правы». Дискуссия продолжалась, обходя подводные камни; я делал пометки на полях, а Гараван, с другим экземпляром в руке, вполголоса зачитывал текст, останавливаясь время от времени. — Чего недостает этой истории, — замечал он, — это сексуальной силы. Существуют вещи, которые должны быть выражены напрямик, как того требует сюжет. И тут же спохватывался, заметив, что вышел за рамки своей роли, и спешил исправить впечатление: — Видите ли, Серж, я всего лишь дебютант. Мы с вами оба — дебютанты. Это очень мило, но работу не облегчает! Иногда он останавливался на каком-нибудь слове, на мгновение отключался от разговора и казался внезапно подавленным скрытой мукой. Он думал о Матильде. Я тоже. И мы продолжали молча сидеть бок о бок, заклятые друзья. Солнце уже скрылось за тополями. Гараван посмотрел на часы. — Скоро семь. Вы не думаете, что на сегодня хватит?.. Я не прочь отведать чего-нибудь горяченького. А вы?.. Не пойти ли нам в ресторан?.. Вы уже бывали в этих местах? В «Золотой рыбке» неплохо готовят. Вам знаком этот ресторан? — Нет. Однако он прекрасно знал, что я туда приезжал и видел свадьбу — так что Жермена или кто-то другой из обслуживающего персонала сразу опознают меня, несмотря на черные очки. — Ну что ж, вы будете приятно удивлены. Готовит сам хозяин. Его фирменное блюдо — омлет со сморчками — просто объедение. Мы отправились пешком. Гараван не переоделся. На нем с самого утра красовались фланелевые брюки и пуловер, что его очень молодило. Из нас двоих скорее я выглядел хозяином, одетый по-городскому и с озабоченным лицом. Гараван продолжал болтать, а я, несмотря на свое паническое состояние, вынужденно отвечал ему. Какое изнурительное испытание — бояться, но не подавать виду и продолжать идти! Он говорил о чем придется — о романе, продюсере, диалогах, которые предстояло написать. Ничто в его поведении не выдавало человека, извлекающего удовольствие из собственного злого умысла. Он безмятежно наслаждался моментом, как турист, решивший пройтись перед обедом. Он даже положил руку мне на плечо с фамильярностью старшего брата, желающего внушить уверенность в себя робеющему юнцу. Когда мы оказались в саду «Золотой рыбки», я пришел в полное замешательство. Посетителей оказалось очень мало. Мы уселись в зеленой беседке. Хозяин вышел лично приветствовать гостей. Затем официантка, но не Жермена, приняла у нас заказ. Я сидел как истукан, весь в поту, словно к моей спине приставили пистолет, который вот-вот выстрелит. — Отменный суп, — сказал Гараван. — Они могли бы положить поменьше щавеля. Гараван повел речь о кулинарных рецептах. Теперь он казался мне отвратительным. Я ел через силу и при этом следил краем глаза за сновавшими туда и обратно официантками. Жермена так и не появилась. Может, сегодня у нее выходной? Или она уже не работает в ресторане? Я стал успокаиваться. — Вы берете дольку чеснока. Несколько луковиц-шалот... В конце концов, может, мы пришли просто-напросто поесть? Возможно, я не прав, усматривая в каждом жесте Гаравана враждебное намерение. Принесли омлет — золотистый, сочный, в меру жирный. — Позвольте налить вам вина, — сказал Гараван. — А то вы обедаете без аппетита. — О, спасибо. Это правда, я не очень проголодался. Но сколько бы я ни пил, омлет не лез мне в горло. У меня душа уходила в пятки при одной мысли обо всех испытаниях, ждавших меня впереди. Жермены тут не оказалось. Возможно, от нее я ускользнул окончательно. Но оставался Флоран. Я уже не раз говорил себе, что он представлял собой опасность номер один. А момент очной ставки с ним все приближался. Гараван наслаждался едой без всякой задней мысли. Он угостил меня большой порцией сыра бри. Его аппетит и здоровье внушали мне отвращение. И все же я согласился выпить чашку кофе. Вскоре в листве зажглись лампочки, вокруг них начали роиться мошки. — Я люблю сумерки, — сказал Гараван. — Как по-вашему, наш Робер любит вкусно поесть? — Не думаю. — Конечно же, он — чревоугодник. Я не знаю никого, кто жаждал бы счастья сильнее ревнивца. А счастье — не одно удовольствие, а тысяча удовольствий... При условии, если можешь разделить их все. Он слегка помрачнел, и у меня создалось впечатление, что эти слова напомнили ему какую-то тяжелую сцену. Может, ссору с Матильдой? Я представлял себе их связь как сплошную идиллию. Но у Матильды переменчивый, непредсказуемый характер, зависящий от сиюминутного настроения, тогда как у Гаравана характер властный, несмотря на светские манеры! Он расплатился с широким жестом большого барина, и мы ушли. Так ничего и не произошло. Но угроза взрыва подействовала на меня сильнее, нежели мог бы подействовать сам взрыв. — Вы в хорошей форме? — спросил он. — Если да, мы могли бы разобрать несколько ящиков. Мне не терпится привести эту виллу в полный порядок. А пока я еще не чувствую себя тут как дома. Обратив лицо к звездам, он мечтательно произнес: — По правде говоря, у меня никогда не было дома... Парижская квартира — не мой дом... Видите ли, Серж, со мной творится нечто весьма любопытное. С тех пор как я приступил к работе над этой книгой, я почувствовал себя другим человеком. Он заколебался, словно удерживаясь от чересчур откровенных признаний, и замолчал. Он не произнес ни слова до самого дома. Ящики громоздились один на другом в гараже. Он вывел из него «порше», и мы стали их распаковывать. — У вас ловкие руки, Серж? — Не особенно. — У меня тоже. Такое взаимное признание заставило нас рассмеяться, и вскоре между нами установились новые, более близкие отношения. Он извлекал из соломы дротики, палицы, а я переносил их в столовую. Мебель мы сдвинули в угол. Нелегкое дело — вбивать гвозди, чтобы прочно закрепить на них оружие. Время от времени, отступив на пару шагов, Гараван обозревал свои коллекции. — Немножко похоже на восточный базар, вы не находите?.. Серж, скажите откровенно, я вам не кажусь несколько смешным? — Нисколько. — Вы были коллекционером в детстве? Я — да. Причем заядлым. Мне все годилось... Марки, само собой, а также пуговицы, этикетки... Мне мало было иметь самому. Я хотел помешать владеть другим... Надо, чтобы наш Робер стал коллекционером. Это лучше обрисует... его характер. Осторожно, Серж! Я вертел в руках длинный кинжал. Он взял его у меня и держал на почтительном расстоянии. — Будьте осторожны, — предупредил он. — Это вам не сувениры, купленные наугад во время случайной стоянки. Это кинжал, острый как бритва. Туземцы пользуются такими для свежевания животных. Любая неосмотрительность может стать роковой. Какая ему печаль, если я и обрежусь? Странная забота! Он приводил меня в замешательство все больше и больше. Когда две стены были украшены, он поднял руку. — Стоп! Пора ложиться спать. Для первого вечера недурственно. Он проводил меня до спальни. — У вас есть все необходимое?.. Ну а если вам что-нибудь потребуется, здесь все к вашим услугам. Чувствуйте себя как дома, Серж... Покойной ночи... И не вставайте слишком рано. Он пожал мне руку, хлопнул легонько по плечу и удалился. Я лег с мигренью и спал очень плохо, несмотря на таблетки, которые теперь принимал каждый вечер. Сомнений нет, я — пленник. Но как истолковать поведение Гаравана? У меня создалось впечатление, что он ставит эксперимент. Но какой именно? Я теперь полностью в его власти. Что мог я предпринять? Напрасно я метался. Я чувствовал себя ужасно в этой спальне, где раздевалась Матильда. Гараван нарочно устроил мне свидание с призраками, и они терзали меня всю ночь напролет. Я проснулся очень рано. Во рту у меня горело, голова налилась свинцом. Я подошел к окну. Гараван уже спустился в сад. Одетый в майку и шорты, он занимался гимнастикой, бегал вокруг бассейна, высоко задирая колени, прыгал на месте, боксировал с собственной тенью. Он тренировался, чтобы победить меня. Настоящий боевой танец. Я наблюдал за ним, как жертва следит за приготовлениями палача. Потом увидел, как старый Флоран пересекает лужайку. Как подобает, в белой куртке и черных брюках. Я узнал его с первого взгляда — таким он предстал мне на верхней ступеньке крыльца. Он посовещался минутку с Гараваном. Обсуждали ли они всего-навсего меню завтрака или же что-то замышляли против меня? Но Гараван, конечно же, ничего не сказал старому слуге. Он готовился насладиться его удивлением. Флоран согласно кивал, потом произнес какие-то слова и снова одобрительно закивал... Я не стал больше ждать. Я оделся и сошел вниз. Поскольку мне неизбежно предстояло столкнуться с Флораном лицом к лицу, лучше не откладывать. Я даже не надел темные очки. К чему? Я пересек прихожую. Они все еще оставались в саду. Услышав мои шаги, оба разом обернулись в мою сторону. Я остановился, чтобы дать Флорану время посмотреть на меня. Я чувствовал себя как перед взводом карателей. Гараван сделал мне знак рукой. — Подойдите, Серж. Познакомьтесь с Флораном... Серж Миркин, мой секретарь. И тут я заметил, что Флоран не столько рассматривает мое лицо, сколько шрам на голове. В двух шагах позади нас Гараван наблюдал за этой сценой. Вот в этом и заключался поставленный им эксперимент! Он хотел узнать, способен ли еще свидетель опознать мою личность, несмотря на следы ранения. Накануне, в таверне, опыт провалился из-за отсутствия Жермены. А теперь? Флоран явно меня не узнавал. Во время убийства Мериля он видел меня мельком, и происшедшее слишком меня потрясло. Он чопорно поклонился мне. — Подайте нам завтрак в гостиную, — сказал Гараван. — Мне чай и тосты. А вам, Серж? — Кофе с молоком. Флоран еще раз поклонился. — Хорошо, мсье. Будучи отличным игроком, Гараван улыбался. Он понял, одновременно со мной, что его номер не прошел. Шрам, о котором я забыл и думать, оказался моим спасением. Он слишком притягивал взоры. Одного его хватало, чтобы меня преобразить. В таком случае, если свидетели стали бессильны, то какое доказательство мог против меня выставить Гараван? Да никакого. Я никогда и никого не убивал! — Хорошо ли вы спали? — спросил Гараван. — У вас утомленный вид. — По утрам я никогда не бываю в хорошей форме. — Вам следовало бы заниматься физическими упражнениями. С вашего позволения, я продолжу свои. — Ради Бога. Пока Гараван занимался прыжками, я курил. Мы с ним были на равных, и я испытывал непередаваемое облегчение. Он считает, что я убил Матильду, поскольку я убил Мериля. Матильда обнаружила правду, и я уничтожил ее. Следовательно, если бы установили, что я — убийца Мериля, то меня могли бы обвинить и в убийстве собственной жены. И тогда никакой надежды на снисхождение. Но если свидетели колеблются, уклоняются от ответа, весь хитрый замысел Гаравана рушится. Я медленно, с наслаждением проникался этой уверенностью. Вот почему Гараван и прибегал к стольким предосторожностям. А я... что мог бы я предпринять против человека, укравшего мою книгу? Тоже ничего. Но я оставался для него опасным... Ну вот, мне уже дышится легче. Нет, я не нуждался в физических упражнениях. Мне хватало умственных. И они улучшали мое самочувствие. — Пошли завтракать? — спросил Гараван. Мы вошли в дом. По пути в гостиную Гараван удостоверился, что дверь в столовую-музей заперта на ключ. — Из-за Флорана. Не хочу, чтобы он прикасался к оружию. Кофе благоухал. Впервые за все последнее время я ел с отменным аппетитом. Гараван же едва прикоснулся к своим тостам. — Ну что ж, — сказал я после завтрака, — а не вернуться ли нам к разговору о нашем ревнивце!Глава 12
Мы трудились все утро. В сущности, наша совместная работа была непрерывным противостоянием, безжалостной борьбой, в которой, как я почувствовал, перевес переходил на мою сторону. В самом деле, роль писателя Гаравану давалась с трудом. Делая критические замечания, он набирал очки; теперь же ему пришлось уступить инициативу мне. Он не мог, открыв свои карты, сказать: «Признайтесь во всем и покончим с этим!» Я понял, что, сумев продержаться, в свою очередь, сделаю его жизнь трудной. Я уже приступил к атаке. «Романист вашего ранга не может удовольствоваться такой невыразительной сценой», или же: «Подумайте о профессионалах. Они воспримут вас как любителя». Гараван сохранял хладнокровие, но делал это с трудом. Я до того осмелел, что подверг критике некоторые страницы романа «Две любви». В конечном счете, ведь это мое сочинение. Он слушал, одобрял, желая показать, что готов принять мои замечания. Гараван контролировал свое лицо, но руки — не всегда. К полудню он взмолился о перерыве: — У меня нет вашей тренировки, Серж. Возобновим работу завтра. А сегодня после обеда, если вы не против, продолжим распаковку вещей. Мне не терпится увидеть дом в идеальном порядке. Гараван произнес эту фразу с улыбкой, уже хорошо мне знакомой. Какой еще сюрприз он мне приготовил? Обед прошел в тягостном настроении, может, оттого, что стоявшая до сих пор хорошая погода вдруг испортилась и собрался дождь. В доме стало как-то сумрачно. Старый Флоран накрыл стол в гостиной; он сновал туда-сюда за нашими спинами, и его присутствие меня нервировало. Убрав посуду, он принялся помогать нам распаковывать ящики. В одном из них лежали ружья Гаравана, тщательно обернутые в промасленную ветошь. — Не нужно их трогать, — сказал мне Гараван. — Завтра должен прийти рабочий и укрепить на стенах витрины и стойки для ружей. Он также уберет из комнаты ненужную мебель, и нам станет яснее, что к чему. Пока я буду заканчивать здесь, вы могли бы разобраться на книжных полках в гостиной. Я без особого энтузиазма принялся за дело, заведомо зная, что придется рыться в бумагах, заметках, папках Мериля, что меня совсем не привлекало. Полки были завалены рисунками, папками с образчиками тканей, альбомами, набитыми фотоснимками. И тут меня осенило, что фотографии Матильды находились где-то в этих завалах. Я бросил взгляд в сторону соседней комнаты. Похоже, Гараван не следил за мной. Он протирал шерстяной тряпкой лук. Ведь Матильда наверняка рассказала ему о проекте каталога. Теперь я уже не решался протянуть руку. Еще секунда, и я обнаружу эти фотографии. Гараван наверняка искал их и нашел, когда осваивал свое владение. И если он попросил меня навести порядок на книжных полках, то только для того, чтобы я неожиданно наткнулся на присутствие в этом доме Матильды. Хитрость ему удалась, поскольку я буквально окаменел. В уголках глаз защипало от пота. Бедняжка Матильда! Должно быть, она не больно много для него значила. — Все в порядке? — крикнул мне Гараван. — Да, все в порядке. Я уже почти освободил нижнюю полку. Я действовал с предосторожностями санитара машины «Скорой помощи». Матильда вот-вот явится передо мной посреди всего этого вороха бумаг. Гнев помешал мне съездить в Морет, на ее могилу. Теперь я на нее уже не сердился. Как и она, я находился во власти Гаравана и постиг, что это означало. Я добрался до средней полки. На ней громоздились стопки коробочек, заполненных негативами. Я снимал их и ставил на пол. За коробочками стояла папка, которая раскрылась в тот самый момент, когда я распрямил спину. Из нее хлынул поток снимков. Я попытался их удержать, но папка соскользнула с полки, и снимки рассыпались вокруг меня. Матильда!.. Она лежала тут, на полу, и улыбалась. Я топтал ее. Меня шатало. — Что там у вас стряслось? Гараван подошел ко мне, не выпуская из рук своего лука. — Ах! — пробормотал он. — Какая незадача. Гараван положил лук на пол, напоминая охотника, опустившегося на колени перед убитой дичью. Он стал собирать фотографии и складывать их в кучку. Я тоже опустился на колени. Матильда лежала перед нами, почти такая же нагая, как и тогда, когда мы держали ее в своих объятиях... Тут — в бюстгальтере; там — в бикини, и никогда еще она не казалась такой красавицей. Чудилось, ее глаза обращались к нам с вопросом, их взгляд переходил с одного на другого. — Оставьте! — велел мне Гараван. — Она моя, — произнес я в ответ. Мы выпрямились одновременно с пригоршнями ее изображений. Возможно, это и помешало мне наброситься на Гаравана. Каждый из нас держал свою Матильду, чьи многочисленные лики, наполовину перекрывая друг друга, обретали загадочность, и предлагали нам половинку улыбки. — Это Матильда... моя жена... Гараван открыл было рот, и я подумал, что он ответит: «Она моя любовница», но он просто сказал: — Извините... И протянул мне фотографии. Я чуть было не добавил: «Она приезжала сюда позировать Мерилю», но предпочел смолчать. Всякое объяснение выглядело излишним. Тем не менее Гараван сделал вид, что ничего не знал. — Я должен был это предусмотреть... Как же непростительно с моей стороны! Разумеется, ведь ваша жена работала на Мериля... Я искренне сожалею... Вы позволите? Он взял одну фотографию из тех, что я прижимал к груди, и долго рассматривал. — Какая жалость! — пробормотал он. — Что за нелепая вещь — жизнь! Он протянул мне снимок и поднял с пола свой лук. — Возьмите их себе, само собой, они ваши... Я приберу сам. Бесконечно сожалею, что дал вам столь неприятное поручение. В моей голове не умещалось такое двуличие. Он сам расставил ловушку, которая и сработала у него на глазах; он мог наглядно убедиться, в какое ужасное волнение меня повергло случившееся, и при всем этом находил способ соблюсти приличия, проявить ко мне тщательно взвешенную долю интереса. Я не мог смотреть на эти фотографии, не впадая в обморочное состояние. А он находил в себе силы оставаться спокойным, вежливым, с той крупицей участия, которая рождала во мне желание его убить. Уж лучше бы он меня ненавидел! — На вашем месте, — продолжил он, — я пошел бы прогуляться. Пройтись по свежему воздуху. Сегодня вы мне больше не потребуетесь. Поверьте, прогулка пойдет вам на пользу. Я унес пакет фотографий к себе в комнату. Пойти гулять? Мне хотелось лечь и умереть. Я разложил фотографии вокруг себя — на камине, комоде, приколол кнопками к стенам. Вскоре я оказался в плену этого тела, которое так любил. Я почувствовал, что леденею при мысли о собственной гнусности. Я вопрошал глазами странного судию, чей взгляд проникал мне в самое сердце. Я не имел права... ни при каких обстоятельствах я не имел права соглашаться работать на Гаравана. В сущности, я перешел на его сторону. Я предал Матильду. Неужели я настолько бесхребетный? Матильда, ведь ты же знала, что я трус?.. Я вышагивал по комнате, и меня закружил хоровод мыслей. Если бы Матильда не начала... если бы она не изменила мне... Я не был трусом, когда выстрелил в Мериля... И за этим все пошло-поехало, заскользило, как лавина. Я скатился на самое дно, оглушенный падением. У меня едва хватило сил на то, чтобы заслониться скрещенными руками и уберечь гаснущее дыхание жизни. Кто на моем месте сделал бы лучше? А теперь я всего лишь жалкая развалина и задыхаюсь в предчувствии неумолимого конца. Мне неведомо, каким он будет, но я чую его приближение. И что, что мне делать, Матильда? Как отомстить за нас двоих? Как опять собраться с духом и убить Гаравана, если только он оставит мне на это время?.. В оружии тут недостатка нет... Но Гараван воздействовал на меня с такой силой, что я еще колебался. Он наверняка все предусмотрел, и в особенности то, что я рано или поздно почувствую искушение внезапно напасть на него. Он уже приготовился к отпору. Мне страшно. Подожди, Матильда. Дай мне срок, прошу тебя. Я еще слишком слаб, а он — слишком подозрителен. Вытянувшись на кровати, я мысленно проглядывал свою жизнь с Матильдой. Ласкал ее. Трепетал от любви и печали. Нет, так жить дальше невозможно. Если такое существование продлится, я рехнусь. Возможно, этого Гараван и добивался. Я поднялся в семь, чтобы явиться к столу в наилучшей форме. Умытый, причесанный, приодетый, я еще не утратил респектабельного вида. Он не сможет тешиться зрелищем моего поражения. Дверь в столовую-музей заперта — я повернул ручку, но она не поддалась. Гараван объяснил, что запирает комнату из-за Флорана. Черт подери! Он тоже принимает меры предосторожности. Он оказался на кухне, где присматривал за жарким, которое томилось с овощами на краешке плиты. Старый Флоран заканчивал сервировку стола. — О-о! — воскликнул Гараван. — Вы переоделись к ужину! Хороший признак! Дайте мне десять минут. Готовить жаркое на электрической плите — сущая профанация. Оно тушится либо слишком быстро, либо слишком медленно. Я не люблю современные плиты. Зато печки на дровах!.. С ними ничто не сравнится... Извините. Одна нога здесь, другая — там. Когда он спустился, на нем была уже не рабочая одежда, а костюм цвета пороха. Он дружески сжал мне плечо. — Я подумал об одном англичанине, кажется, это у Сомерсета Моэма, — сказал он. — Помните, его герой к вечеру облачался в смокинг, чтобы обедать в своей палатке. Здесь не палатка, а гостиная, но ситуация схожая. На войне как на войне. Пока мы сидели за столом, Гараван казался веселым, рассказывал остроумные анекдоты, вспоминал свои путешествия. Ничего удивительного, если Матильда подпала под его обаяние. Я поймал себя на том, что смеюсь над некоторыми его каламбурами. Время от времени я говорил себе: «И как он это может?.. Ведь он страдает не меньше моего». Но в нем, как и в Матильде, таилась жизненная сила, которая брала верх надо всем прочим. Он рассказал про те два года, которые провел в Оксфорде. — Моя мать отличалась большим снобизмом. Она буквально выдрессировала меня. Бедная дорогая матушка хотела протолкнуть меня в политику. Я счастливо избежал этой участи... Возьмите сыру, Серж. Вы ни к чему не притрагиваетесь. Рядом с ним я чувствовал себя ребенком. Он подавлял меня своим богатством, воспитанием, положением, спокойной смелостью. Есть мне не хотелось, но я взял кусочек сыру только из желания сделать ему приятное. Подобные мелочи выводили меня из себя. После обеда он увлек меня к бассейну выкурить сигару. Трава после дождя благоухала. — Днем мне доставили еще одну объемистую пачку писем. Как было бы любезно с вашей стороны просмотреть их завтра, пока я закончу с коллекцией. А после этого мы смогли бы вплотную заняться работой. Вы немножко думали о нашем фильме?.. Молодая женщина — какой вы себе ее представляете?.. В социальном плане?.. Их отношения мне чем-то напоминают отношения принца и пастушки... Это нужно продумать. Ведь если она не восхищается мужем, то не сможет его выносить, когда он заболеет, потеряет силу... Как правило, жалость убивает страсть. Положив руки на бедра и опустив голову, Гараван задумался. — Нужно показать страсть, способную на все, — продолжил он, — на самоотречение... Подумайте над этим хорошенько! И добавил почти шепотом: — Страсть верности... хуже ее не бывает! Игра в недомолвки возобновилась? Нет. Гараван протянул мне руку. — Спокойной ночи, Серж... Забудьте все это, если сумеете. Постарайтесь выспаться. Я тоже попытаюсь уснуть. Мы расстались, и я поднялся к себе в спальню, где, куда ни глянь, меня ждала Матильда. Я снял со стен все ее фото и сложил в свой чемодан. Спать! Гараван прекрасно знал, что это исключено — и для него, и для меня. Я долго мерил шагами комнату, докуривая пачку сигарет. А он... ходил ли он тоже по комнате? Наконец я улегся в постель. И с именем Матильды на устах я провалился в сон. Я открыл глаза почти в девять утра. И первой мыслью было: «Что скажет Гараван?» У меня уже появились лакейские манеры и заботы. Да плевать мне на то, что скажет Гараван! И все же... И все же я спешил закончить туалет, стараясь наверстать упущенное время. Внизу работа кипела. Я слышал стук молотка. Значит, обещанный рабочий уже принялся на дело. Это наверняка он — молоток постукивал быстро и четко, выдавая профессионала. Я спустился на кухню и, проходя мимо столовой, увидел спину рабочего, который устанавливал стойку для ружей. Несколько штук уже стояло в пазах. Я залпом выпил две чашки кофе. Неожиданно прозвучавший голос Гаравана заставил меня вздрогнуть. — С добрый утром, Серж. Спали хорошо? Держу пари, вас разбудил шум. Простите великодушно. Он долго мыл руки над раковиной, как хирург перед операцией. — Эту оружейную смазку никак не отмоешь. Вы сами увидите... в целом получилось неплохо. По крайней мере, на мой взгляд. А это самое важное. Он вытер руки с такой же маниакальной тщательностью. — Идемте... Выскажите свое мнение. Когда мы вошли в комнату, столяр обернулся. — Для этой витрины, господин Гараван... — начал было он, но осекся на полуслове. А я... я стоял, содрогаясь от страха. Это был мэр Отроша. Я узнал его с первого взгляда, тогда как он еще колебался, несомненно из-за моего шрама, но я чувствовал, что он напрягает память, и чуть ли не ждал, когда же он вспомнит. Его рот невольно перекосился от напряжения. Еще секунда, и память сработает. — Мой секретарь... Серж Миркин. Мсье Брудье, мой краснодеревщик, а в свободное от работы время — мэр Отроша. Гараван говорил шутливо, словно желая оттенить усиливающееся напряжение. — О-о! Извините, — пробормотал Брудье. Он провел рукой по вельветовым брюкам и протянул мне два пальца. — Я... забавная штука. У меня такое впечатление, что мы уже встречались. Возможно, вы живете в наших краях? — Нет, — как отрезал Гараван, — господин Миркин живет в Париже. — И вы никогда не приезжали сюда на уик-энд? — Никогда, — сказал Гараван. Он отвечал за меня. — Забавная штука, — повторил Брудье, которого не убедили слова Гаравана. — Можно взглянуть на вашу работу? — спросил Гараван с ноткой досады в голосе. — Погодите-ка, — произнес Брудье... теперь понимаю... Вы похожи на... разумеется, это совпадение... — На кого? — спросил Гараван. — Нет... просто... у меня мелькнула мысль... Я наверняка ошибаюсь. — Наверняка, — подтвердил Гараван. — Господин Миркин приехал в Ла-Рош-Гюйон в первый раз. Брудье тут нечего было возразить. Он машинально протер глаза и пожал плечами. — Нынешние молодые люди так похожи друг на друга, — сказал мэр. — Но, понимаете ли, встретив вас на улице... я бы поклялся... — Итак, эти витрины?.. — прервал его Гараван. Повернувшись ко мне спиной, Брудье показал на стены. Они заспорили, и я сделал глубокий вдох, как ныряльщик, который едва не задохнулся. Гараван просто спас мне жизнь. Я спрятал руки в карманы. Я еще дрожал и наверняка очень побледнел. Кожа моего лица ощутимо натянулась, как если бы по комнате гулял ледяной ветер. Я был в ужасе, отказывался что-либо понижать. Гараван мог погубить меня, стоило ему произнести слово. Он сам подстроил эту встречу с Брудье. Неужели он свел нас лицом к лицу исключительно затем, чтобы позабавиться? Ради удовольствия поиграть с огнем? Или же он хотел дать мне понять, что я ничем не рискую, пока смиренно танцую под его дудку? Понимал ли он, что сам уничтожает свидетельские показания, которые послужили бы моему обвинению? Я уже не знал, что и думать. — Тут я с вами не согласен, — говорил Гараван. — Как только оружие представлено в виде коллекции, оно теряет свой агрессивный характер. А я охотник, понимаете! И мои ружья следует расположить так, как будто они готовы к стрельбе. — Нет ничего проще, — отвечал Брудье. — Серж, вы согласны со мной? — Абсолютно. Брудье снова пристально посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и он улыбнулся вымученной улыбкой. Он все еще находился под впечатлением от неожиданной встречи и выглядел смущенным, словно Гараван сыграл с ним дурную шутку. — Глоток вина? — предложил Гараван. Ему никогда не удавалось быть совершенно естественным, как бы он ни старался. И я чувствовал, что вот и сейчас он фальшивит, не будучи уверен, что владеет ситуацией. Мы пошли на кухню, и Гараван сам откупорил бутылку анжуйского. — Ваше здоровье! Мы чокнулись. — Ну, как вам пришлось винцо? — спросил Гараван. — Недурно... но, на мой вкус, сладковато, — ответил Брудье. — А на ваш, Серж? — обратился он ко мне. — На мой?.. Я доверяю вам, так как не разбираюсь в винах. Мне оно показалось превосходным. — А между тем я уже где-то слышал ваш голос, — начал Брудье. — Я спрашиваю себя: а не... — Вы слышали его по радио, — объяснил Гараван. — Серж много работает на радио. Лицо Брудье озарила улыбка. — A-а! Вот оно что! Значит, вас можно увидеть и по телику. Ведь я же не сумасшедший. А я ломаю себе голову... Память играет с нами порой такие шутки... Гараван улыбался. Он выиграл. Выиграл — что? А кто проиграл? Я допил свой стакан, но не утолил жажду. — Я бы закончил сегодня вечером, — продолжал Брудье. — Сейчас мои подручные увезут лишнюю мебель. Ну что ж, мсье Серж, было очень приятно. Я словно избавился от наваждения. Вам тоже, наверное, такое знакомо... Силишься вспомнить... Как слово, которое так и вертится на языке... Он вернулся к своей работе. — Славный малый, — пробормотал Гараван. — К сожалению, немножко увлекается спиртным... С вашего позволения, Серж, я пойду ему подсобить, пока вы разбираете почту. С грехом пополам я принялся за дело. Чтобы не слышать стука молотка, я унес весь пакет писем к себе в спальню, но мне никак не удавалось сосредоточиться. Я где-то читал, что под воздействием противоположных раздражителей собака заболевает эпилепсией. Я оказался в аналогичной ситуации, поскольку меня раздирали противоречивые, но равные по силе чувства. Я страшился встречи со свидетелями, но она прошла безнаказанно. Значит, я имел право вздохнуть с облегчением и не терять надежды. Однако Гараван наверняка приберег для меня новые сюрпризы... Будущее меня пугало. Бежать отсюда... Но и тут меня раздирали взаимоисключающие чувства. С одной стороны, мне все больше и больше хотелось это сделать, но с другой — я не решался сдать позиции Гаравану. Он отнял у меня жену, книгу, богатство, а я еще дам ему в придачу чувство удовлетворения своим бегством? Ни за что. Тогда чего же я хочу? И, прежде всего, чего хочет он? Именно эта неизвестность меня и бесила. Может, он хотел довести меня до белого каления и толкнуть на то, чтобы я бросился его душить? И тогда он смог бы застрелить меня в упор. Законная самооборона... «Миркин сошел с ума. Он утверждал, что я — любовник его жены, — сказал бы он. — А ведь его жена сама умерла при невыясненных обстоятельствах». Мне уже слышались его фальшивые интонации. В этот момент заговорит Брудье, расскажет, как поразило его мое сходство с тем мужчиной, который убил Мериля. И круг замкнется. Не этого ли добивается Гараван? Но в таком случае, что еще у него в запасе?.. Разве я не свел концы с концами! Разве не выстроил в ряд весьма спорные, ничего не значащие аргументы! По его вине я превратился в механизм, придирчиво и бесполезно спорящий с собственным эхом. В моей бедной голове постоянно шумело, как в морской раковине. А я еще вынужден читать всякие глупости, которыми заполнены эти разноцветные листы почтовой бумаги. «Ваша замечательная история...», «Ваше знание человеческого сердца...», «Ваши столь реалистичные герои...». Куда там! Со скрежетом зубовным я хватал визитные карточки для ответа. «Патрис Гараван очень тронут и благодарит вас...» Я писал под угрозой смерти. К обеду я не спустился. Флоран пришел узнать, что случилось. Я сослался на мигрень, что было правдой. К вечеру стук молотка прекратился. Это означало, что Брудье наконец ушел, и у меня отлегло от сердца. Гараван нанес мне визит собственной персоной. — Вы плохо себя чувствуете, Серж? Он выглядел искренне огорченным, как всегда. — Хотите, я вызову врача? — Нет, благодарю. После автомобильной катастрофы у меня начались частые головные боли, но я знаю, как их надо лечить. Я сейчас спущусь. Вы удовлетворены работой краснодеревщика? — Очень!.. Комната приобрела надлежащий вид. Подсобные рабочие Брудье освободили ее от мебели. Я подумываю, не сделать ли из нее курительную... с бильярдным столом посредине? Пока это только проект... Мне необходимо узнать ваше мнение. — Ну что ж, идемте посмотрим. Он взял меня под руку, и мы спустились по лестнице. Какое трогательное зрелище! Двое друзей, из которых один заботливо поддерживает другого. Тогда как на самом деле тюремщик вел под руку пленника.Глава 13
Брудье проделал огромную работу. Оружие не только висело на стенах (ружья с одной стороны, дротики, стрелы, луки, ножи — с другой), но также заполняло витрины, опоясывающие комнату. Подойдя ближе, я увидел в них массу различных предметов. — Я ведь еще и путешественник, — пояснил Гараван. — Здесь выставлены сувениры, причудливые камни, туземные украшения — словом, лавка старьевщика. Я остановился возле стойки с ружьями. — Полагаю, они не заряжены. — Нет, разумеется. Боеприпасы надежно упрятаны. Он осторожно взял в руки тяжелый карабин. — На крупного зверя, — пояснил он. — Прикиньте-ка на вес! Положив карабин мне в руки, он смеялся над моим смущенным видом. Затем забрал и вернул на прежнее место, стерев кончиками пальцев невидимые пылинки со ствола. — А как вы пристрастились к охоте? — спросил я. — Благодаря чтению. Ведь я в самом деле рос одиноким ребенком и глотал приключенческие книжки одну за другой. Я отличался богатым воображением. Уже тогда я полюбил огнестрельное оружие. Я вырезал из иллюстрированных журналов картинки с изображениями хищников или зверей, казавшихся мне еще страшнее: носорогов, горилл, удавов, и просил, чтобы мне покупали пластмассовые револьверы, духовые ружья. Пока моя мать играла в бридж, я играл в охоту или в войну... Я носился по большой квартире, уже знакомой вам, и стрелял во все, что попадалось на моем пути. За диваном всегда пряталась парочка диких слонов, а уж змеи таились повсюду. Он говорил, не переставая улыбаться глазами, но в его словах звучала какая-то сдерживаемая грусть, которая внезапно вызвала у меня симпатию. — Не завидую вашему детству, — сказал я. — А между тем в детстве меня нежили и холили! В моей спальне лекарств хранилось не меньше, чем книг. Но все это в прошлом... Взгляните-ка на эту флейту. Он легонько постучал ногтем по витрине. — Подарок шамана из Кении. Он играл на ней, чтобы вызвать дождь... Тут выставлены амулеты, гри-гри... А еще тут есть снадобья от болезни, называемой любовью. Не слишком эффективные. Он шел медленно, и я брел за ним. Помимо моей воли, он сумел пробудить во мне интерес. — Вот раздел, отведенный Родезии... Он еще не богат экспонатами. Ах! Здесь представлены воинственные мау-мау... Ничего, кроме оружия, и все образцы уже опробованы в бою. Отравленные наконечники стрел... плетеные веревки для удушения врага... ножи, с помощью которых прорубают дорогу в джунглях... Редчайшие экспонаты, поскольку с каждым связана какая-либо история. Впрочем, здесь у всего — своя история. Например, в этой витрине... Сделав три широких шага, он оказался в глубине своего музея и указал мне на что-то пальцем. — Взгляните сюда. Я приблизился. На слое ваты лежал револьвер, и моя ладонь, моя рука, моя кожа узнали его раньше, чем мои глаза. Гараван открыл витрину, осторожно захватил оружие двумя пальцами за ствол, тщательно избегая прикосновения к рукоятке. Я смотрел на него почти с ужасом. — Вот револьвер, с которым тоже связана история... Возможно, со временем я опишу и ее. Подняв револьвер, он обратил его к свету, как ювелир, желающий вызвать восхищение игрой бриллианта. — В барабане остались еще три пули, — сказал он. — Три других... Он снова положил револьвер на ватное ложе и бесшумно закрыл крышку витрины. — Люблю, — продолжил он, — такие вещи, которым есть что сказать... Если музей не посещают, это не настоящий музей. Вы согласны? Не в состоянии что-либо ответить, я только кивнул, почувствовав настоятельную потребность сесть сейчас же, сию минуту. Несомненно, он показал револьвер, из которого я убил Мериля. — Кушать подано, — объявил Флоран. Гараван тронул меня за руку: — Пошли ужинать. Как будто у меня еще оставались силы хоть что-нибудь проглотить! Именно в этот момент я и принял решение его убить. То, что столько времени зрело в глубине моей души, внезапно открылось мне с какой-то ослепляющей очевидностью. Гараван зашел слишком далеко. Он не имел права подвергать меня столь мучительным пыткам. Коль скоро он владел револьвером с отпечатками моих пальцев на рукоятке, ему оставалось только предупредить полицию, и следствие пошло бы своим ходом. Я был согласен на официальное правосудие, но не на его личное — правосудие каннибала. Я сел перед своей тарелкой, позабыв, где нахожусь. — Чем вы нас потчуете, Флоран? — спросил Гараван, потирая руки. — Овощной суп Сюлли... говяжье филе с крокетами... артишоки в сметане и десерт. — Самое время... Нам необходимо подкрепиться... Я ненавидел его голос, жесты. Я ненавидел его настолько, что мне удавалось разыгрывать свою роль как по нотам. Но я избегал смотреть на него, так как Гараван сразу понял бы по блеску моих глаз, что я только что миновал точку, после которой пути назад нет. И такого человека Матильда предпочла мне! — В письмах ничего особенного? — поинтересовался Гараван. — Ничего... Обычные восторги. — У вас нашлось время подумать над нашим сценарием? — Немножко. Поддерживая бессвязный разговор, я размышлял. Мне было на руку выглядеть подавленным и тем самым усыпить его бдительность. Следовало создать у него впечатление, что я чувствую себя побежденным. А позже, когда все уснут, я завладею своим револьвером... а если дверь в музей окажется запертой, схвачу любой тяжелый предмет — молоток, каминную подставку для дров... что угодно... и рано утром, когда он выйдет из спальни, ничего не подозревая... У меня хватит сил... Я чувствовал, как меня распирает от накопившегося гнева, возмущения и протеста. Наконец-то я решился защитить себя от унижения! — Извините за это вино, — говорил Гараван. — Я еще не успел перевезти сюда свой винный погреб. Потом. Позже... Но должен признаться, что время от времени питаю слабость к благородным напиткам, конечно, при условии, что мое удовольствие кто-нибудь разделяет... Он рассмеялся. — Не сердитесь на меня, Серж, за такую разборчивость. Но сегодня вечером я нахожу, что жизнь ко мне благосклонна: дом обретает свое лицо, сценарий —тоже. Мы отлично понимаем друг друга. Единственное, что омрачает мое настроение, — я вижу, как вы утомлены, и это печально. Могу ли я чем-нибудь помочь? Мне так и хотелось плюнуть ему в физиономию. — О-о! Пустяки, — сказал я. — Последствия несчастного случая. Врач предупреждал меня. После десерта — манного пудинга с засахаренными фруктами, который Гараван ел спокойно и с удовольствием, — мы отправились в сад покурить: он — сигару, я — сигарету. — Я немножко поработаю перед сном, — сказал он. — Подытожу наши дискуссии и набросаю первый черновик... продюсер называет его «чудовищным». Это продвинет наше дело. А вам советую проглотить снотворное и хорошенько отдохнуть. Согласны? — Согласен! Мы обменялись доверчивыми рукопожатиями. По меньшей мере так оно выглядело со стороны. Я же думал: «Последнее. Тебе осталось уже недолго. Обещаю». Я поднялся в спальню и вскоре погасил свет. Ожидание началось. Теперь охотником стал я, и я не шевельнусь столько, сколько потребуется. Я услышал шаги Гаравана на лестнице. Закрыв за собой дверь, он передвинул стулья и, несомненно, принялся за работу, поскольку снова воцарилась тишина. Намного позже, как мне показалось, Флоран тоже поднялся к себе. Я по-прежнему был настороже, с ясной головой, и то, что мне предстояло сделать, казалось элементарно простым. Я не испытывал никаких колебаний и время от времени поглядывал на светящийся циферблат своих часов. Ночь выдалась темная и теплая. Я думал о роке, превратившем меня в преступника, меня — безобиднейшее существо. Меня словно привели за руку и вслепую сбросили с откоса, я катился по наклонной плоскости все ниже и ниже; я чувствовал себя не столько преступником, сколько жертвой. Когда мои часы показали час ночи, я бесшумно встал. Мне необходимо еще кое-что проверить, поскольку я не хотел полагаться на случай. Я узнал свой револьвер интуитивно. А что, если это все же не тот? Что, если мой все еще валяется в кустах смородины, куда я его зашвырнул? Что ж, проверим. Надев легкие ботинки, я спустился с лестницы на цыпочках, она и не скрипнула. Медленно, ощупью пересек холл. Оставалось пройти через дверь в сад. Я вышел из дома. Остальное — детская игра. Ну, а что, если я обнаружу свой револьвер в смородиннике?.. Полиция логично предположила, что убийца Мериля унес свое оружие... Она не обыскивала все вокруг... и либо я найду свой револьвер — и Гараван перестанет быть тем мерзким типом, каким я его считаю... либо я его не найду — и Гараван обречен. Я намеренно упрощал дилемму, чтобы лучше вникнуть в ситуацию. Обогнув дом, я шел по обочине аллеи, как и в первый раз, когда явился убить Мериля. Я полагал, что Гараван уснул, но окно его спальни ярко светилось в темноте. Значит, он еще работал. Вот и кустарник. Я светил себе зажигалкой и долго шарил по земле. Листва кустов неприятно шумела, когда я раздвигал ветки; земля была жирная, пальцы то и дело натыкались на улиток. Я покрылся испариной. Очень скоро я убедился, что моего револьвера тут нет. Должно быть, Гараван случайно обнаружил его, обрывая ягоды. Итак, я не ошибся. Револьвер в его музее — тот самый, из которого стрелял я. Значит, Гараван проиграл партию, и я убью его. Я повернул назад, сжав кулаки. Теперь уже ничто не могло меня остановить. Я проскользнул в дом и ощупал дверь музея. Она оказалась приоткрытой. Я замер в тревоге. Неужели Гараван тоже рыскает по этажу? Что означает эта приоткрытая дверь, как бы приглашающая меня войти? Поскольку кругом все тихо, я решился сделать шаг, другой... Гараван, сама осмотрительность, забыл вчера вечером запереть свой оружейный музей? На него это совсем не похоже. А между тем... Щелкнув зажигалкой, я поднял ее над головой и мельком увидел очертания ружей, отсвет витрин. Я пересек комнату. Револьвер лежал на месте — в своей ватной постели. Я приподнял крышку витрины. Она тоже была не заперта. Схватив револьвер, я повернулся, готовый стрелять... Но в комнате я находился один. Слишком уверенный в себе, Гараван и не предвидел, что его раб мог восстать. Он заканчивал писать черновик у себя наверху. Он и не подозревал, что я приближался к нему, держа палец на курке, ступенька за ступенькой, более опасный, чем все дикие звери, каких он преследовал на своем веку. Отныне его жизнь измерялась метрами, затем сантиметрами... Я замер перед его спальней. Мне оставалось лишь медленно повернуть дверную ручку, что я и сделал. И толкнул дверь. Спальня была пуста... Никого в кресле перед столом. Никого в постели. Настольная лампа освещала разбросанные листки бумаги. В хрустальной пепельнице дымилась полуистлевшая сигара. А каминные часы стучали лишь немного медленнее моего сердца. Где он? Догадался, что я хочу застать его врасплох? Я оглядывался по сторонам, нацелив револьвер. Может, он выскочит с карабином в руке?.. Я прошел по комнате на цыпочках. Разбросанные бумаги оказались не рабочими заметками, а письмами. Взяв одно из них, я поднес его к лампе и узнал почерк Матильды. У меня — снимки, а у него — письма! Пока я смотрел на Матильду, он слушал, как она говорит. Каждый на свой лад, мы воскрешали в памяти прошлое, начищая оружие. До чего же все это забавно! А теперь мы убьем друг друга ради прекрасных глаз Матильды! Но что же она могла говорить ему в письмах, эта... эта?.. Задыхаясь от бешенства, я опустился в кресло Гаравана. Первое письмо было датировано концом июня — Матильда написала его через несколько дней после присуждения премии. Я подскочил после первых же строк.«Дорогой мсье! Я получила Ваше письмо. Я так и знала, что обратилась к Вам не напрасно. Я благодарна Вам за попытки устроить меня на службу, но если мой муж решится, как я надеюсь, признаться, что он — автор романа «Две любви», мне больше не придется искать работу. Вы очень великодушны, и мне стало гораздо легче от уверенности, что я не одинока в такой момент, когда поведение моего мужа внушает мне большую тревогу. Не звоните мне. Не пишите. Он страшно ревнив! Одному Богу известно, что он способен вообразить! Еще раз благодарю. С уважениемСлова копошились перед глазами, как черви. То, что я обнаружил, было в тысячу раз ужаснее всего остального. Я взял второе письмо.Матильда Миркин».
«Дорогой мсье! То, что Вы сказали вчера, меня потрясло. А между тем, чем больше я над этим думаю, тем больше верю, что Вы правы. Да, приметы Сержа точно соответствуют приметам мужчины, который убил Мериля. Да, Серж часто надевает серый костюм. Да, он мог вбить себе в голову, что меня с Мерилем что-то связывает. Скажу Вам больше. Он подстриг волосы и отращивает бороду, как если бы старался изменить свою внешность. Само собой, я обошлась без замечаний, опасаясь, как бы он не заподозрил, что я догадалась. Но разве это не доказательство его виновности? Я так несчастна... Что мне делать? Я никогда не выдам его полиции. Я слишком люблю его, несмотря на его патологическую ревность! Я могу доверить это Вам, кто так добр ко мне. Я никогда не изменяла Сержу. Ему так необходимо, чтобы его любили, поддерживали, одобряли. Он постоянно сомневается в себе. Но я бессильна. Я прекрасно вижу, что он ест себя поедом, и вся эта шумиха вокруг его книги для него сущая пытка. Но он молчит, и все богатство, которое он заслужил, целиком будет потеряно. Я просто в отчаянии. Извините, что я Вам докучаю, но Вы стали моим единственным другом. С уважениемЯ вытер глаза. Выходит, что в этой истории негодяй-то — я один. Бедная моя Матильда! Тут было еще одно письмо.Матильда».
«Дорогой мсье! Я долго размышляла над Вашим предложением. Разумеется, все наши проблемы решились бы разом. Но не рискуете ли Вы себя скомпрометировать? Ваши аргументы мне кажутся убедительными, и к тому же Вы настолько умнее меня. Я прекрасно понимаю, что Вы готовы объявить себя автором не с целью извлечения личной выгоды, а только для того, чтобы спасти нас с Сержем. Но именно этого я и не могу принять. Или же оставьте что-нибудь для себя. Я знаю, Вас ожидает слава, поскольку этого Вы не можете избежать. Но не заходите ли Вы в своей щедрости слишком далеко? Я уже не в состоянии в этом разобраться. Я люблю Сержа, как я уже Вам говорила, но сомневаюсь, справедливо ли так щедро помогать ему после того, что он совершил? Судя по Вашим словам, он будет достаточно наказан, лишившись авторской славы. Вы, несомненно, правы. Самое лучшее, по-моему, это предоставить Вам свободу действий и полностью на Вас положиться. Мы никогда не сможем отблагодарить Вас как следует и, поверьте, будем всегда Вам признательны. Благодарная и преданная ВамВыходит, я все истолковал превратно! У Матильды никогда не было любовника. Гараван хотел только прийти ей на помощь. Я ощутил во рту привкус яда... Эти письма! Какая кара! Гараван был тысячу раз вправе обращаться со мной так, как он это делал. Он был даже недостаточно тверд, недостаточно жесток. Мне следует... Я посмотрел на револьвер.Матильда».
Гараван прислушивался из соседней комнаты. То была спальня Мериля. Она все еще казалась обитаемой. В вазах стояли свежие цветы. — Он продолжает колебаться? — пробормотал Гараван, обращаясь к фотографии Мериля, стоявшей на столике у изголовья кровати. — Мне было очень нелегко подвести его к такому решению — он долго и упорно сопротивлялся. Но сейчас он дозрел... Слушай! Перегородка дрогнула от выстрела. С букетов посыпались лепестки. Гараван медленно провел носовым платком по губам и посмотрел на фото Мериля. — Я добился этого финала из любви к тебе, Жан-Мишель... То, что сделал я, не сделал бы никто другой... А между тем... он весьма недурен, этот мальчик! Гараван склонил голову. Мериль улыбался ему со своей фотографии.
Последние комментарии
14 часов 59 минут назад
1 день 7 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 15 часов назад
3 дней 22 часов назад
4 дней 2 часов назад