Солдатский подвиг (Рассказы) [Вениамин Александрович Каверин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
СОЛДАТСКИЙ ПОДВИГ Рассказы

 От редакции
От редакции
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Рожденная в огне гражданской войны, Советская Армия, армия народа, из года в год укрепляла свою боевую мощь, закалялась в жестоких схватках с врагами нашей Родины. В этой книге собраны рассказы известных советских писателей о незабываемых подвигах наших отважных воинов-патриотов. Вы прочитаете о том, как боролись они за советскую власть против белогвардейцев и иностранных интервентов, как воевали с белофиннами, как сражались против фашистов в суровые годы Великой Отечественной войны. В этих рассказах вы познакомитесь с замечательными советскими людьми: с отважными моряками-черноморцами, со штурманом Фросей, которая спасла летчика и партизанский отряд в тылу у гитлеровцев, с девятнадцатилетней санитаркой, по прозвищу «Кнопка». Вы узнаете о подвиге разведчика Прибылова и о поступке шофера-воина Большакова, который вез на Ленинградский фронт горючее и в жестокий мороз, обжигая и обмораживая руки, несколько раз по дороге чеканил лопнувший шов цистерны. Прочитаете вы и о том, как в 1919 году Семен Михайлович Буденный и его ординарец Гриша Ковалев в течение двухсот сорока минут охраняли сон пяти с половиной тысяч бойцов — сон целого корпуса; как Григорий Иванович Котовский с бойцами во время трехдневного перерыва между боями построил погоревшему селянину новый дом. Прочитаете и о храбром пограничнике Серове, о его мастерстве, опыте и самоотверженности при выполнении воинского долга. В книге есть рассказы и о совсем юных героях: о Николае Вихрове, который своей скворечней давал сигналы бойцам морской пехоты и помог взорвать фашистский склад, и о Боре Волкове, и о многих других славных юных патриотах. Все эти рассказы говорят о воле, мужестве и находчивости, о взаимной выручке, опыте, об отваге советских людей и их пламенной любви к Родине.* * *
Напишите нам, понравились ли вам эти рассказы. Свои отзывы посылайте по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
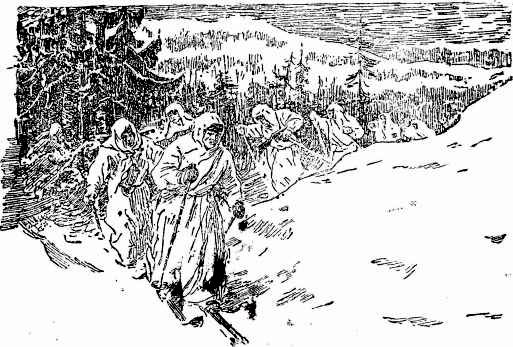 Николай Богданов
КОМИССАР ЛУКАШИН
Николай Богданов
КОМИССАР ЛУКАШИН
Рис. Б. КоржевскогоПо снежной долине бежали семеро наших лыжников, спасаясь от вражеской погони. Впереди шел Тюрин, командир маленького отряда. Этот большой, сильный человек шумно дышал, пар валил от его широкой спины, по щекам струился пот, несмотря на жестокий мороз. Первому идти труднее всех, по следу — легче. Поэтому прокладывать лыжню ставят самого сильного. Многие бойцы были ранены, иные выбились из сил и едва держались на ногах. Они шли день и ночь уже третьи сутки. Костров не разводили. На ходу ели сухари и заедали снегом. Вражеские лыжники гнались за ними по пятам. Позади всех, замыкающим, шёл комиссар отряда Лукашин. Замечая наседающих врагов, он припадал за камень или за дерево и ждал с ручным пулемётом наготове. И когда вражеские лыжники набегали, как стая волков, Лукашин подпускал их поближе и многих укладывал наповал меткой очередью. Передние падали в снег, задние шарахались в разные стороны и начинали беспорядочную стрельбу, а он вскакивал и бежал догонять своих. Комиссар не только замечательно воевал сам, но и помогал другим. Иногда выбившийся из сил боец, падал в снег и говорил: — Товарищ комиссар, сил больше нет. Лукашин протягивал ему руку: — Сил ты своих не знаешь… Вот так, выше голову. Ты же коммунист! И уставший поднимался. Один раненый лыжник достал согретый за пазухой пистолет и сказал: — Товарищ комиссар, разрешите умереть от своей пули, чтобы других не задерживать… Я своё отвоевал… Лукашин вырвал у него оружие: — Постыдись! Ты — герой! Да, это были герои. В полярную ночь они спрыгнули с самолётов на парашютах у самых границ Норвегии и отыскали фашистскую секретную радиостанцию, которая оповещала вражеские аэродромы о вылетах наших самолётов. Наши герои истребили радистов. А многие аппараты, приборы и секретный код, составлявший важную военную тайну, захватили с собой и направились в обратный путь во мраке полярной ночи. Среди лесов и скал к ним не могли спуститься наши самолёты, и парашютистам пришлось положиться на скорость своих лыж. Фашистов взбесил этот дерзкий налёт. И вот отборные лыжники из австрийских и немецких альпинистов бросились в погоню. С ними соревновались финские лыжники, считающие себя лучшими в мире. Но одолеть русских лыжников было не так просто: это был спаянный коллектив, где один за всех, все за одного. Наступил такой момент, когда казалось, что все погибнут. Перед нашими лыжниками встали отвесные скалы. Взбираясь по ним, они должны были снимать лыжи и поднимать за собой драгоценный груз, который везли на санках. Это был медленный подъём. Ослабевшие лыжники с трудом карабкались на обледенелые скалы. Враги могли перестрелять всех поодиночке. Фашисты быстро неслись по долине, как белые тени. И тогда комиссар решил пожертвовать собой, чтобы спасти остальных. Раздумывать было некогда. Он махнул рукой, указывая отряду «вперёд», а сам круто развернул лыжи и помчался назад, навстречу набегавшим врагам. Это были финские лыжники, опередившие немцев. Завидев наших лыжников, которые ярко выделялись в своих белых халатах на бурых скалах, преследователи обрадовались — можно было стрелять на выбор, как в живые мишени. Финны ускорили бег. Но тут по ним ударил ручной пулемёт Лукашина.

Лыжники рассыпались, упали в снег и стали окружать комиссара. Финны умеют ползать по снегу, как змеи по песку. И не успел комиссар оглянуться, как был окружён со всех сторон. — Русс, сдавайсь! — услышал он чужие голоса. Лукашин поглядел на скалы и вздрогнул. Он не испугался врагов, его взволновало другое. Все наши бойцы, даже раненые, спускались к нему на помощь. «Назад!» — хотел он крикнуть, но они бы всё равно не послушались его. «Хорошо, — решил Лукашин. — Сейчас вам незачем будет идти…» Он вскочил во весь рост и поднял руки. Увидев это, весь отряд остановился. А Тюрин даже протёр глаза. Что такое? Ведь комиссар всегда учил бойцов, что советский воин в плен никогда не сдаётся. Ему хотелось крикнуть: «Лукашин, опомнись!» Но тут фашисты обступили комиссара тесной толпой, и его не стало видно. Тюрин сел на выступ скалы и закрыл лицо руками: — Позор… И в это время прогремели два взрыва, резко отозвавшиеся в скалах. Что такое? Толпу врагов отбросило прочь от комиссара. Повалились убитые. Закричали раненые. Сам он упал ничком и не поднялся… В рукавах у него были спрятаны две гранаты, и, когда Лукашин поднятыми руками приманил поближе врагов, он с силой ударил гранаты оземь и вместе с собой подорвал и своих преследователей. Всё это поняли бойцы в одну минуту. Они поднялись разом, без всякой команды, и слетели вниз, как на крыльях. В уставших, измученных людях вдруг возродились новые, могучие силы. Как пёрышко, подхватили они своего израненного комиссара и внесли его на вершину скалы, за которой их встретили наши передовые дозоры. Опоздавшим немецким фашистам остались только их незадачливые соперники — побитые и покалеченные финские фашисты. Тюрин, сдавая санитарам комиссара, сказал: — Скорей к докторам его, к самым лучшим! Такого человека надо спасти во что бы то ни стало!.. — И, пожав холодеющую руку Лукашина, шепнул ему: — Я про тебя плохое подумал. Прости меня, комиссар. И когда отвернулся, на обветренных щеках его заблестел иней. Мороз был жестокий, с ветром, такой, что слёзы замерзали, не успев скатиться с лица.

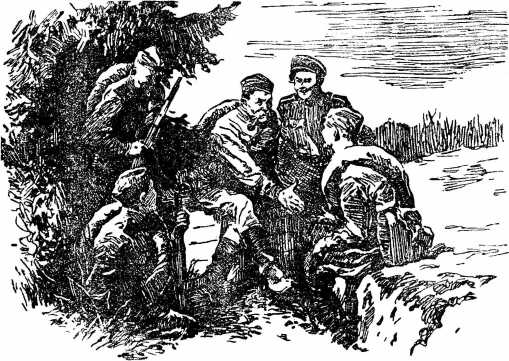 Борис Полевой
РАЗВЕДЧИКИ
Борис Полевой
РАЗВЕДЧИКИ
Рис. Б. КоржевскогоОднажды в самый разгар войны в известной на весь Калининский фронт роте разведчиков, которой, как сейчас помнится, командовал тогда капитан Кузьмин, произошёл спор между двумя любимцами роты: старым солдатом Николаем Ильичом Чередниковым и очень удачливым снайпером Валентином Уткиным, человеком хоть и молодым годами, но немало уже повоевавшим. Чередников, всегда относившийся к молодёжи покровительственно и немножко насмешливо, в присутствии всего отделения утверждал, что он сумеет так замаскироваться, что Уткин, подойдя к нему метров на десять и зная наверняка, что он где-то тут рядом, не сумеет его заметить. Уткин же, парень бывалый, самоуверенный, да и не без основания самоуверенный, заявил, что в пятнадцати метрах муху разглядит, а не то что человека, да ещё такого дюжего, здоровенного, как дядя Чередников — так звали в роте Николая Ильича. Поспорили на кисет с табаком. Судьёй попросили стать «поителя и кормителя» роты, старшину Зверева, человека сурового, справедливого, пользовавшегося у бойцов большим уважением. В назначенный час, когда рота отдыхала, отведённая после горячих дел во второй эшелон полка, старшина торжественно вызвал Уткина и повёл его с собой. Напутствуемые солёными шуточками, пожеланиями удачи, они вышли из расположения роты на задворки деревни, пересекли запущенное, непаханое, затянутое бурьяном поле, огороженное полурастасканной изгородью, и остановились на повороте просёлочной дороги, там, где она, некруто загибая, уходила в редкий, молодой берёзовый лесок. — Стой тут и гляди в оба, — сказал старшина, засекая на часах время и сам ища глазами, куда бы это мог спрятаться Чередников. Был серенький, промозглый, ветреный денёк. Над мокрым полем, над леском, трепетавшим бледной шелковистой зеленью весенней листвы, торопливо тянулись бесформенные бурые облака, почти цеплявшиеся за верхушки деревьев. Крупные, тяжёлые капли висели на глянцевитых ветках кустов, холодная сырь пробирала до костей. Но где-то высоко, наперекор непогоде, жаворонки звенели над печальными забурьяненными полями о том, что не осень это, а ранняя весна стоит над миром. Уткин внимательно оглядывался. Местность кругом была довольно ровная, прятаться на ней было негде, за исключением, пожалуй, кустарника, росшего на опушке. К нему он и стал присматриваться. Терпеливым, цепким взором разведчика он обшаривал каждую берёзку, кочку, каждый кустик; порой ему казалось, что он заметил несколько примятых травинок, или ком неестественно вздыбленного мха, или сломанный прут, вжатый ногой в болото и торчащий вверх обоими концами. Разведчик настораживался и хотел уже окликнуть Чередникова, но, вглядевшись повнимательнее, убеждался, что ошибся, и снова с ещё большим вниманием начинал осматривать местность. Старшина сидел возле, на большой груде камней, лежавшей на меже, покуривал и тоже с любопытством поглядывал кругом. От непрерывно сеявшего дождя трава покрылась серовато-дымчатым налётом, похожим на росу. Каждый след должен был быть отмечен на ней тёмным пятном. Но следов не было видно, и это больше всего смущало обоих. К исходу положенного на поиски получаса Уткина взяла досада. Ему начало казаться, что старый разведчик подшутил над ним, что сидит он сейчас, по обыкновению, где-нибудь у костра, подкладывает сухие ветки, задумчиво следит, как танцует, потрескивая, огонь, и посмеивается в усы над легковерами. — Разыграл, старый чёрт! — не вытерпел наконец Уткин. — Всё. Пошли. Чего тут разглядывать пустырь курам на смех! И как только он это сказал, где-то совсем рядом, точно из-под земли, раздался знакомый хрипловатый голос: — А ты гляди, гляди внимательней, торопыга… Глаз-то не жалей, а то всё: я, я, я… Вот и вышла последняя буква в азбуке. Заскрежетали, загремели камни, и из соседней, находившейся рядом, в двух шагах, каменной кучи, лежавшей так близко, что Уткин не обратил на неё даже внимания, отряхиваясь и поёживаясь от сырости, поднялась высокая, сутуловатая фигура старого разведчика с мокрыми от дождя, обвисшими, прокуренными, изжелта-бурыми усами. Он одёрнул гимнастёрку, ловким движением больших пальцев загнал складки за спину, поправил пилотку на голове, вскинул на плечо винтовку, подошёл к Уткину, так и застывшему на полушаге с открытым ртом, и протянул руку: — Давай кисет. Уткин молча вынул синий шёлковый кисет с вышитой на нём гладью надписью: «На память герою Великой Отечественной войны», — заветный кисет, полученный в первомайском подарке и служивший предметом зависти всей роты. С сожалением глянул он на подарок и протянул его дяде Чередникову. Тот невозмутимо взял кисет, набил из него маленькую самодельную трубочку, выпустил несколько колец дыма, аккуратно перевязал кисет бечёвкой и положил в карман. — Хоть знаю — жалеешь, а не отдам. Чтобы больше со старым солдатом Чередниковым пустого спора не заводил. Чтобы яйцо курицу не учило. Понятно это вам, гвардии боец, дорогой товарищ Уткин? А с кисетом этим была связана целая история, и историю эту все в роте знали. В нём вместе с табачком нашёл Валентин Уткин записочку: дескать, кури себе, боец, на здоровье да меня вспоминай, или что-то в таком роде, и подпись и адресок: город Калинин, ткацкая фабрика «Пролетарка». И из кисета этого к тому времени выросла не только мощная переписка, а, можно сказать, целая любовь. Поэтому все в роте удивились, как это дядя Чередников, человек душевный, справедливый, коммунист, готовый товарищу, если надо, половину своего солдатского мешка разгрузить, лишил общего любимца такой памятки. Ну, как бы там ни было, спор этот ещё больше поднял авторитет дяди Чередникова, и что бы с тех пор старый разведчик бойцам по делу ни говорил, никто уж противоречить не решался. И даже сам капитан, чуть дело доходило до особо важного задания, звал дядю Чередникова. Разведчик! Вы, наверно, представляете его себе этаким молодцеватым парнем, подвижным, быстрым, с энергичным лицом, с острыми глазами и обязательно с автоматом на груди. А дядя Чередников был уже в годах, высок, сутул, медлителен и не то чтобы неразговорчив, а просто предпочитал слушать, а не рассказывать. Отвечал он на вопросы по-солдатски, коротко и точно, пустословия и в других не жаловал, и всё время не выпускал изо рта маленькой кривой трубочки, которую он сам смастерил простым перочинным ножом из нароста берёзы. Автомат он тоже не носил, а предпочитал ему обычную русскую трёхлинейную винтовку. Тем не менее разведчик и снайпер он был по нашему фронту непревзойдённый, с настоящим талантом следопыта, со своей особой ухваткой, с лисьей хитростью и с неистощимой изобретательностью. Колхозник, сибиряк, таёжник, потомок многих поколений русских звероловов, он и к войне подходил со спокойным расчётом и деловитостью. Он говаривал, что враг, раз он к нам с оружием в дом влез, для него не человек, а зверь, и зверь лютый, покровожаднее хорька, похищнее, повреднее, чем волк. И он охотился за ним постоянно и неутомимо, заполняя этим не только все боевые дни, но и редкие фронтовые досуги, когда роту отводили во второй эшелон, на отдых. Он не вёл счёта истреблённым фашистам, как это делали в те дни другие бойцы, как не вёл когда-то в тайге счёта добытым белкам. Но друзья его, разговорившись, давали честное гвардейское, что «нащёлкал» дядя Чередников гитлеровцев близко к сотне. Сам он — и, думается мне, без всякой ложной рисовки — значения этому большого не придавал: дескать, эка радость подшибить фрица-ротозея! Однако, как охотник помнит убитых медведей, он запомнил трёх уничтоженных им врагов. Двух офицеров, которых он подкараулил, лёжа в нейтральной полосе, и снял во время командирской рекогносцировки, и одного, как он говорил, «страсть вредного», немецкого снайпера, подкараулившего нескольких наших бойцов и ранившего любимца роты разведчиков — пса Адольфку, лохматого, голосистого дворнягу, бегавшего по передовой с трофейным железным крестом на шее. За этим снайпером дядя Чередников охотился недели две. Тот знал об этом и, в свою очередь, охотился за старым разведчиком. Как бы состязаясь в мастерстве, они сутки за сутками караулили друг друга. Чередников, получивший задание капитана — во что бы то ни стало снять «вредного снайпера» — и решивший, как говорится, воевать до победного конца, появлялся в те дни в роте только затем, чтобы забрать у старшины сухари, консервы, табак и наполнить фляжку спиртом, которым он спасался от лихих в те дни морозов. Чередников приходил похудевший, обросший, злой, с воспалёнными глазами, с обкусанными кончиками усов, на вопросы не отвечал и, подремав часок-другой в уголке землянки, уходил назад, на передовую. Только к исходу второй недели удалось ему точно установить снежную нору немецкого снайпера. Она была вырыта за трупом лошади, лежавшим тут с осени, безобразно раздутым и уже запорошённым снегом. Дядя Чередников попробовал вызвать противника на бой выстрелом. Тот не ответил. Но с передовой враги открыли на выстрел такой огонь, что разведчик еле отлежался в своей засаде. Попробовал установить в леске чучело в каске и маскхалате. Хитрость не новая, однако и на неё попадались, но «вредный» не клюнул. День пропал зря. Тогда однажды в туманную ночь, перед рассветом, дядя Чередников протоптал следы к одиноко стоявшей у переднего края сосенке, что была как раз напротив палой лошади, отряхнул с веток иней, посорил по снегу корой и разложил за ней свой маскировочный халат. Всё это замаскировал, но не очень тщательно. От дерева он протянул суровую нитку к своему настоящему убежищу, сделанному в снегу, и дал всё это заволочь инеем оседавшего утреннего тумана. Когда совсем рассвело и поднялось солнце, Чередников начал легонько дёргать нитку. С ветвей сосенки стал тихо осыпаться снег. Он подёргает и замрёт. Подождёт полчаса, подёргает и опять замрёт. Наконец в норе немецкого снайпера послышалось шевеление. Над бурым пузом лошади обозначилось что-то более белое, чем снежный фон.

Грянул выстрел. Он слился с выстрелом дяди Чередникова. И всё стихло. Только снег осыпался с пробитой ветки сосенки, возле которой ночью разведчик с такой тщательностью раскладывал и маскировал свой халат. С тех пор «вредный» больше не досаждал нашим бойцам, и пёс Адольфка, излеченный помаленьку заботами разведчиков, мог смело бегать по передовой, позвякивая своим железным крестом, пренебрежительно поднимая ногу у пеньков и брустверов на самом виду у врага. Охотой за неприятелем дядя Чередников заполнял свои досуги, но настоящей военной специальностью была у него разведка. Много наши разведчики применили в Великую Отечественную войну разных хитрых способов, о них я рассказывать не стану, но из всех них дядя Чередников предпочитал разведку бесшумную, основанную на ловкости, на знании повадок врага, на умении маскироваться. Один или вдвоём со своим напарником, тем самым Валентином Уткиным, у которого он так безжалостно выспорил заветный кисет, они, как ящерицы, проползали в неприятельское расположение. Иногда, когда этого требовало задание, но никогда без повода, снимали холодным оружием с поста зазевавшегося часового и так же тихо, без шума, без выстрела, возвращались обратно. Для Чередникова разведка была даже не специальностью, а настоящим искусством; он любил её, как артист, и, как настоящий артист, охотно, упорно и терпеливо учил молодёжь, прибывавшую из запасных полков. Но учил не словами. Он не любил слов. На месте показывал он молодым солдатам, как надо ящерицей переползать, как войлоком обматывать подметки, чтобы шаг был бесшумен, как по моховым наростам на дереве, по годовым, кольцам на пнях определить страны света, как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие сосны, как сбивать собак со следа, как в снегу уметь спрятаться от холода, как по разнице во времени между выстрелом и разрывом определить дальность вражеских позиций, а по тону выстрела — направление стреляющей батареи, и многое другое, необходимое в этом сложном военном ремесле. Чередников показывал молодым солдатам свой знаменитый в роте маскировочный плащ, который он сам обшил ветками и корой и в котором, как мы уже знаем, его действительно можно было не заметить даже в двух шагах. — Фашист — зверь хитрый, пуганый, осторожный, его надо с умом брать, а потому дело наше самое из всех тихое, — говорил он молодым бойцам в заключение учёбы. Сам он так ловко осуществлял это на деле, что иной раз вместе с немцами и своих обманывал. Раз чуть по нему не заплакала вся рота. Приказал ему командир срочно взять «языка». Получены были агентурные данные, что противник здесь что-то затевает, и поступил сверху приказ добыть «языка» как можно скорее. Дядя Чередников молча выслушал приказание. На вопрос: «Понял?» — рубанул по обычаю: «Так точно, товарищ капитан!» — развернулся налево кругом, плаща своего знаменитого не захватил, а взял только винтовку и пошёл на передний край, никому не сказавшись и даже друга своего Валентина Уткина не предупредив. Очень уж требовался «язык». Должно быть, поэтому, не дожидаясь даже темноты, дядя Чередников перелез рубеж обороны и, глубоко зарываясь в снег, стал двигаться к немецким окопам, да так ловко, что даже свои, следившие за ним, скоро потеряли его из виду. Но шагах в двадцати от неприятеля что-то с ним случилось. Он вдруг привстал. Слышали бойцы, как у немцев рвануло несколько автоматных очередей. Видели, как, широко вскинув руками, упал навзничь разведчик, и всё стихло. В сгущавшихся сумерках на месте, где он упал, было видно неподвижное тело с нелепо поднятой рукой. Немцы попробовали подползти к трупу, но наши сейчас же открыли по ним огонь и отогнали их от тела. Весть о том, что убит дядя Чередников, быстро дошла до роты. Прибежал Уткин в маскхалате, белый, как халат, взглянул на неподвижное тело с поднятой рукой и тут же полез через бруствер. Едва его удержали. Уполз бы за другом, может быть, себе на беду, если бы сам капитан не приказал ему вернуться и дожидаться темноты. Весь вечер Уткин сидел с бойцами боевого охранения и, не таясь, ладонью стирал со щёк слёзы: — Ох, человек, вот человек! Где вам понять, что за человек за такой был дядя Чередников! Когда сгустилась ночь и запуржило в полях, капитан разрешил Уткину ползти за телом друга. Солдат перемахнул через бруствер и, миновав заграждение, двинулся вперёд. Он полз долго, осторожно, отталкиваясь локтями от скользкого наста. Вдруг сквозь шелест летящего снега услышал он хриплое, приглушённое дыхание. Кто-то полз ему навстречу. Уткин притаился, замер, тихо вытащил нож, ждёт. И тут слышит шёпот, знакомый хрипловатый шёпот: — Кто там? Не стреляйте — свои. Пароль — «миномёт». Чего притаился? Думаешь, не слышу? Мелко плаваешь, брат… Помогай тащить, ну… Оказывается, дядя Чередников из-за срочности задания решил на этот раз рискнуть. А расчёт у него был такой: незаметно приблизиться к вражеским окопам, нарочно дать себя обнаружить и упасть до выстрелов. Притвориться мёртвым и ждать, пока с темнотой кто-нибудь из фашистов не направится за его телом. И вот на этого-то и напасть и взять его в «языки». — Я с ними третью войну дерусь. Повадки их известны. Нипочём им не стерпеть, чтобы труп не обшарить. Часишки там, или портсигар, или кошелёк — это им очень интересно, — пояснил он потом товарищам. После этого случая сам генерал, командир дивизии, которому Чередников очень угодил «языком», вручил ему сразу за прошлые дела медаль «За отвагу», а за это — орден Красной Звезды. Ох, и праздник же был в роте! Хватив в этот день сверх положенной фронтовой нормы, молчаливый и неразговорчивый дядя Чередников расчувствовался, вернул Валентину Уткину заветный кисет с наказом не драть носа перед старым служивым, а потом принялся рассказывать товарищам, как совсем ещё желторотым новобранцем участвовал он в наступлении в 1916 году, как бежали тогда немцы под русскими ударами по Галиции и как вызвался он, Чередников, с партией лазутчиков проникнуть во вражеский тыл. Собственноручно взял он тогда в плен, обезоружил и привёл к своим австрийского капитана и получил за это свою первую боевую награду — георгиевский крест. Рассказал он ещё, как бежали немцы от Красной Армии на Украине в 1918 году и как гнали их тогда красные полки, наступая им на пятки. С группой разведчиков опять ходил тогда Чередников во вражеский тыл. Разведчики отбили у немцев штабные повозки, полковую кассу и автомашину с рождественскими подарками, захватили важные документы. И за это сам военком полка подарил Чередникову серебряные часы. Старый разведчик вытащил из кармана эти большие, толстые часы, на крышке которых были выгравированы две скрещенные винтовки и надпись: «За отменную храбрость, отвагу и усердие». Часы старого разведчика ходили по рукам, и, когда они вернулись к хозяину, тот задумчиво посмотрел на циферблат: — Ох, и ходко они тогда сыпали от нас, ребята! Аллюром три креста. И теперь побегут, скоро побегут, уж вы верьте дяде Чередникову! Потому, тогда мы были кто? Какие мы были? А теперь кто? Какие мы теперь, я вас спрашиваю? Тогда-то до Берлина мы за ними не добежали, сил не хватило. А теперь, ребята, будьте ласковы, без того, чтобы трубку вот эту об какое-никакое берлинское пожарище не раскурить, домой не вернусь. Может, думаете, хвастаю? Ну, попробуй скажи кто, что хвастаю! И никто этого не сказал, хотя говорил это дядя Чередников, старый русский солдат, когда войска наши ещё штурмовали Великие Луки и до Берлина было далековато.

 Леонид Соболев
БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ
Леонид Соболев
БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ
Рис. Ю. МолокановаЭтот бой начался для Михаила Негрёбы прыжком в темноту, вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолёта, где он неловко застрял, задерживая других. Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дёрнуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолёта. Парашют послушно раскрылся, и если бы Негрёба смог увидеть рядом своего дружка Королёва, он подмигнул бы ему и сказал: «А всё-таки вышло по-нашему!» Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королёв, ни Негрёба не могли, понятно, упустить такой случай, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же… в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью; достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки. Однако всё это обошлось, и теперь Негрёба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблёскивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка, с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу. В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негрёба, было совершенно темно. Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивающие от частых затяжек. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось. Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негрёба вынул из мешка кусачки, перекусил проволоку в нескольких местах, ползя вдоль неё. Тут ему пришло в голову, что проволока ведёт к какой-нибудь румынской части, где можно устроить порядочный переполох огнём из автомата. Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негрёба увидел трёх коней и поодаль — часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негрёба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой — кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас упёрлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса. Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие было одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негрёба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб румынского батальона, может быть полка. Офицеры сгрудились у стола над картой, по которой им что-то раздражённо показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негрёба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали ещё двое. Негрёба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и стали «смирно» — очевидно, один из вошедших был большим начальником. Негрёба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда. Уже рассвело, когда Негрёба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залёг в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негрёба навёл на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негрёба обрадовался: видно, рядом прятался ещё один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негрёба понял, что тот залёг в кустах рядом. Он решил переползти по кукурузе к товарищу (всё же вдвоём лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показались несколько румын, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негрёбе товарищ. В их трескотню Негрёба добавил свою очередь. Несколько румын упали, остальные кинулись в кукурузу. Всё снова стихло, только издали доносилась стрельба. Он пополз к кустам и нашёл там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негрёба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал: — Миша… пристрели… не выбраться… Негрёба взглянул в его белое восковое лицо и вдруг отчётливо понял, что тут, в этих кустах, и сам он найдёт свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь одного или выполнить его просьбу — тоже. Всё в нём похолодело и заныло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда!.. Шёл бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы… Но хотя жалость к себе и к своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилёг к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел: — Это, друг, всегда поспеется! Сперва перевяжу… Отсидимся! Двое — не один. На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негрёба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат, и сказал: — Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьёмся! Слышь, наши близко. В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но морякам от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому, Негрёба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву: — Гранаты у тебя есть? — Есть, — отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. — Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду… Бой приближался. Стрельба доносилась всё ближе. Солнце уже грело порядочно, и тёплый, горький запах трав поднимался от земли. Ждать последнего боя и с ним смерти было трудно. Сбоку, метрах в трёхстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румын с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог. Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание ещё продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползёт к балке, в сторону от пути отходящих батальонов. — Наши сзади, — сказал вдруг Леонтьев. — Слышишь? Негрёба и сам слышал сзади чёткие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом: — Моряки! Сюда! Он попытался подняться, но снова упал на траву. Негрёба высунул голову из куста и в жёлтой кукурузе увидел неподалёку чёрную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой: — Моряки! Перепелица, чертяка, право на борт! Свои! Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам. Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в кусты, и Негрёба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция: тут нас, как курей, задушат… — сказал он. — Тащите Леонтьева, я прикрывать буду. Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось ещё метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Пришлось положить Леонтьева и вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли ещё одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы чёрное дуло автомата. Увидев моряков, он возбуждённо сказал: — А я уж думал, мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас попрёт — только считай… Ну, теперь нас сила! Леонтьев был без сознания. Негрёба осмотрел повязки, они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал её и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад. — Позавтракаем пока, что ли, — сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги ещё ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негрёбе: — Дай ему. Горит человек. Негрёба осторожно влил воду в рот Леонтьеву. Тот глотнул и открыл глаза. — Держись, Леонтьич! — сказал Негрёба. — Гляди, нас теперь сколько… Факт, пробьёмся! Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал: — Попёрли руманешти, гляди… И точно: из ложбинки прямо на те кусты, где недавно ещё были моряки, выскочила первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежали несколько немецких автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по румынам, пытаясь остановить их. — Вот это тактика! — удивился Негрёба. — Что ж, морячки, поможем фрицам? Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями. Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке. Но это значило, что тогда они прошли бы к себе в тыл без потерь. И моряки стреляли, открывая огнём своё присутствие здесь. Стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал ещё одного врага. Стреляли, помогая атаке моряков десантного полка. Под этим огнём офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повёл их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглядел поле боя. — Порядком наложили! — сказал он удовлетворённо. — А как у нас с патронами, ребята? С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчётам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негрёба предложил повторить манёвр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. — Что ж, — сказал Негрёба, — видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит. Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и осмотрел обойму. — Шесть патронов, — сказал он. — А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно? — Понятно, — сказал Литовченко. — Ясно, — подтвердил Котиков. — Точно, — добавил Негрёба. Он сорвал четыре травинки и откусил одну; подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко. — Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегчённо: — Не мне: длинная! — Наткнулся ночью на офицера, — ответил Перепелица. — Вещь не тяжёлая, а пригодится… Тащи ты, Котиков. — Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. — Погано ихними-то пулями… Его травинка тоже оказалась длинной. — Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим и лёжа всех достанешь, — сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам. — Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе… Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно? — Ясно, — сказал Негрёба и положил пистолет под руку. — Кажись, пошли, — негромко сказал Котиков. — Ну, моряки, коли ничего не будет, свидимся! И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негрёба бушлат: — Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать. — Всё одно видать, — ответил Негрёба. — Лучше уж так. Хоть узнают, что моряки. И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке. Солдаты выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой всё ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо чуя, что тут они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они ещё раз залегли, отстреливаясь, и потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке. Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искажённые страхом. Они были так близко, что тяжёлый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно, упрямо и скученно, как испуганное стадо, которое всё сметает со своего пути. И тогда на пути встал Негрёба, встал во весь рост — крепкий и ладный моряк в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой. — Эй, руманешти, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели ещё три. Взрывы ахнули в потном стаде. Солдаты попадали. Другие отшатнулись и, петляя как зайцы, кинулись в стороны. Моряки бросили ещё четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул: — Мишка, а ведь прорвёмся! Хватай Леонтьева! Моряки мгновенно подняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришёл в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный, яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он глянул на Перепелицу и разжал зубы: — Бросьте меня… Пробивайтесь… Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал. Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьём. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним — второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул её в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул: — Тащите вдвоём, мы с Котиковым задержим! Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негрёба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнём. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп. Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке. Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки. Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат игранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слёз, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негрёбу, потому что он встал с излишней деловитостью: — Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлём. Идём своих искать. И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в чёрных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробираться сквозь сотни врагов. И, видимо, они сами поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал: — Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота… Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом… арш!
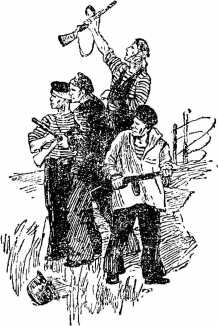
 Константин Федин
МАЛЬЧИК ИЗ СЕМЛЁВА
Константин Федин
МАЛЬЧИК ИЗ СЕМЛЁВА
Рис. ЛурьеШёл литературный вечер в Доме Красной Армии, в Москве. Из-за стола я вглядывался в ряды слушателей, затихших в торжественном старомодном зале. Ряды уходили далеко, и лица, ясно различаемые на передних стульях, в конце зала сплывались в лёгкие полосы, желтоватые от электричества и слегка туманные. Аудитория состояла из командиров, прибывших с фронта. Их взгляды как будто старались не выдать горечи, которой наполнен народ на войне. Вдруг где-то во втором ряду среди суровых и взрослых людей я увидел детское лицо, выделявшееся нежностью красок и блеском широких глаз. Это был мальчик, одетый в военную форму, с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника с сержантскими петличками. Он был совсем невелик ростом и тянулся, чтобы лучше всё видеть. Каждая чёрточка его лица выражала любопытство. Всё происходившее с публикой происходило с ним в увеличенном размере: посмеявшись, зал становился опять серьёзным, а его тонкий рот долго ещё сверкал застывшей улыбкой детского удовольствия. — Смотри, — сказал я своему другу, сидевшему за столом рядом со мной. — Смотри во второй ряд, какой там воин. И мы начали пристально глядеть на мальчика, дивясь его присутствию здесь, его мирному облику в воинском одеянии, всей его маленькой, необычайно жизненной фигурке. Минут десять спустя мне передали из рядов аккуратно сложенную записочку: «Мальчик, на которого вы указали, участвовал во многих делах партизанских отрядов и регулярных частей. Дважды представлен к правительственной награде, привёл десять „языков“». Мы перечитали несколько раз эти строки, поворачивая в пальцах записку и так и этак, с сомнением косясь друг на друга. — Надо с ним поговорить, — сказал я. И, как только кончился вечер, мы попросили разыскать в публике мальчика и привести к нам. В смежной с залом комнате мы прождали недолго. Вскоре раздался громкий, отчётливый стук, и очень увесистая дверь неожиданно легко отворилась. Вошёл плечистый, высокий, большерукий лейтенант и, громко сдвинув ноги, распрямляясь и делаясь ещё выше, спросил: — Разрешите ввести? В первый момент мы не совсем поняли, кого собирались ввести. Но лейтенант обращался к нам, и мы сказали: — Пожалуйста! Уходя, лейтенант оставил дверь приоткрытой, и на смену ему в её узкой щели тотчас появился мальчик в военной форме. Так же как лейтенант, он щёлкнул каблуками, вытянулся и взглянул нам по очереди в глаза. Любопытство подавляло всякое иное выражение на его тонком, заострённом к подбородку лице. Мы показались ему достойными самого внимательного изучения, и он был похож на охотника, впервые ожидающего появления из-за кустов редчайшей дичины. Я думал, он непременно первый задаст нам вопрос: губы его вздрагивали, собираясь выпустить готовые слова. Но дисциплина поборола любопытство, и он стойко ждал, когда его спросят. — Давно ли в армии? — спросил мой товарищ. — Вот как сошёл снег. — А зимой? — Был у партизан. — В каких же местах? Помолчав, он обернулся на высокого лейтенанта и, хотя у того был вполне доверительный и даже добродушный вид, ответил очень серьёзно: — Места лесные. Мы засмеялись, и я сказал: — Смоленские, что ли, леса-то? Он опять посмотрел на лейтенанта и тоже засмеялся, опустив голову. — Смоленские. В смехе его было ещё столько ребячьей прелести, что я почувствовал свежее волнение, какое испытываешь, войдя в детский сад. — Сколько же тебе лет? — Четырнадцать, пятнадцатый. — Ого! А с виду ты года на два моложе. Он пропустил это обидное замечание без всякого интереса, как будто решив терпеливо дожидаться более занятного разговора. — А откуда ты родом? — Из Семлёва. — Вон что! Знаю, знаю Семлёво: по обе стороны железной дороги — станция и село, и совсем рядом — леса. — Лес — так вот, подать рукой, — быстро подхватил он и весь раскрылся в своей сияющей детской улыбке, замигал часто-часто и вздёрнул острым носиком. Тогда с яркостью, почти осязаемой, я увидел этого мальчика среди его родных лесов, каким он был там год или два назад, мог быть там в ту или другую минуту, на весёлых тенистых холмах Смоленщины. Я увидел его, беловолосого, без шапки, с прозрачными, как осенний ручей, остановившимися на тихой думе глазами, с голубой жилкой на виске и с голубой тенью над приоткрытой верхней губой. Вот он стоит неподвижно, чуть-чуть наклонив голову, прислушиваясь одним ухом, как закачался тяжёлый лапник ели от прыжка золотисто-луковичной белки. Он смотрит, как белка сорвала прошлогоднюю еловую шишку, пошелушила её и сердито бросила, пустую, наземь. Вот он слушает свист лимонной иволги, спрятавшейся высоко на осиновой макушке и словно передразнивающей журчание струи, которая выбилась из болотца внизу, под холмом. Вот он остановился рядом с тонкой беленькой берёзой, ниточкой тянущейся к высокой тихой синеве; и сам он тянется своею замершею думой высоко вверх, в молчании соединившись с вечной жизнью родной природы. Кто знает, не станет ли этот мальчик поэтом, русским поэтом, какого даёт нам смоленская земля иное счастливое десятилетие? Мальчик стоял сейчас передо мной с отражением внезапного воспоминания на лице о родной своей земле, о родине, которой наделяется человек раз в жизни и которую он несёт потом в сердце через всю жизнь, как отца и мать. — Где же твой отец? — спросил я. — В Красной Армии. — А мать? — Мать? Не знаю. Говорили, ушла в лес. — А что про тебя рассказывают, будто ты от немцев «языков» приводил? — Приводил. — Это когда партизаном был или в армии? — И у партизан и в армии. — Сколько же всего привёл? — В общем десять. — Десять немцев? Ишь ты какой! Что же, поодиночке доставлял или как? Мальчик опять с улыбкой обернулся на лейтенанта, но теперь его улыбка была рассеянной — видно, его расспрашивали об этих случаях уже не в первый раз. — Когда как, — ответил он врастяжку: — то по одному, а то по двое. — Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было. Он принял наше изумление за неспособность взрослых понять самые простые вещи, которые для детей обыкновенны, и сказал, оживившись, искренне желая нам помочь. — Да немцы в разведку чаще пьяные ходят. — Пьяные? — Выпьют для храбрости — и пошли. Я один раз притаился в ельнике, лежу. А они по дороге идут из разведки. — Сколько же их? — Двое. Я вижу, пьяные. — Что же, они качаются? — Ну да, они на лыжах, ноги катятся, они падают, хохочут. Деревня, где они стояли, уже близко. Я пропустил их, а потом из ельника как крикну! И выстрелил! Они — раз! — кувырком. И подняться не могут, лыжи разъехались. Я их и взял. — Да как же взял? Ты один, а их двое. — Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером — стук! — и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели… Он подождал немного и добавил: — Ещё раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Упёрся — никак. — Ну и что же? — Ничего. Пристрелил его, а другой пошёл. Развеселившееся лицо его говорило: видите, всё очень просто, а вы изумляетесь! И выходило действительно так просто, что уже нечего было больше расспрашивать, и мы молча смотрели на мальчика. Тогда с заново вспыхнувшим любопытством он быстро спросил: — Вот вы сегодня читали рассказ: что это, правда или вы это придумываете? — Зачем придумывать? — ответил я. — Правда интереснее всякой придумки. — Да-а, как бы не так! — протянул он с полным недоверием. — Разрешите?.. — сказал высокий лейтенант, делая вежливый полушаг вперёд. — Нам пора. — Вы что же, приставлены к нему? — спросил мой друг, кивнув на мальчика. — По вечерам, — сказал лейтенант. — Он ведь в Москве первый раз, мало ли — заблудиться может, и движенье порядочное… Они оба — большой и маленький — сделали шумный поворот по-военному и вышли…

 Валентин Катаев
СОН
Валентин Катаев
СОН
Древние греки изображали сон в виде человеческой фигуры с крыльями бабочки за плечами и цветком мака в руке.
Рис. А. ТаранаМне хочется рассказать один поразительный случай сна, достойный сохраниться в истории. 30 июля 1919 года расстроенные части Красной Армии очистили Царицын и начали отступать на север. Отступление это продолжалось сорок пять дней. Единственной боеспособной силой, находившейся в распоряжении командования, был корпус Семёна Михайловича Будённого в количестве пяти с половиной тысяч сабель. По сравнению с силами неприятеля количество это казалось ничтожным. Однако, выполняя боевой приказ, Будённый прикрывал тыл отступающей армии, принимая на себя все удары противника. Можно сказать, это был один бой, растянувшийся на десятки дней и ночей. Во время коротких передышек нельзя было ни поесть как следует, ни заснуть, ни умыться, ни расседлать коней. Лето стояло необычайно знойное. Бои происходили на сравнительно узком пространстве — между Волгой и Доном. Однако бойцы нередко по целым суткам оставались без воды. Боевая обстановка не позволяла отклоняться от принятого направления и потерять хотя бы полчаса для того, чтобы отойти на несколько вёрст к колодцам. Вода была дороже хлеба. Время — дороже воды. Однажды, в начале отступления, бойцам пришлось в течение трёх суток выдержать двадцать атак. Двадцать! В беспрерывных атаках бойцы сорвали голос. Рубясь, они не в состоянии были извлечь из пересохшего горла ни одного звука. Страшная картина: кавалерийская атака, схватка, рубка, поднятые сабли, исковерканные, облитые грязным потом лица — и ни одного звука. Вскоре к мукам жажды, немоты, голода и зноя прибавилась ещё новая — мука борьбы с непреодолимым сном. Ординарец, прискакавший в пыли с донесением, свалился с седла и заснул у ног своей лошади. Атака кончилась. Бойцы едва держались в сёдлах. Не было больше никакой возможности бороться со сном. Наступал вечер. Сон заводил глаза. Веки были как намагниченные. Глаза засыпали. Сердце, налитое кровью, тяжёлой и неподвижной, как ртуть, останавливалось медленно, и вместе с ним останавливались и вдруг падали отяжелевшие руки, разжимались пальцы, мотались головы, съезжали на лоб фуражки. Полуобморочная синева летней ночи медленно опускалась на пять с половиной тысяч бойцов, качающихся в сёдлах, как маятники. Командиры полков подъехали к Будённому. Они ждали распоряжения. — Спать всем, — сказал Будённый, нажимая на слово «всем». — Приказываю всем отдыхать. — Товарищ начальник… А как же… А сторожевые охранения? А заставы? — Всем… всем… — А кто же?.. Товарищ начальник, а кто же будет… — Буду я, — сказал Будённый, отворачивая левый рукав и поднося к глазам часы на чёрном кожаном браслете. Он мельком взглянул на циферблат, начинавший уже светиться в наступающих сумерках дымным фосфором цифр и стрелок… — Всем спать, всем без исключения, всему корпусу! — весело, повышая голос, сказал он. — Даётся ровно двести сорок минут на отдых. Он не сказал: четыре часа. Четыре часа — это было слишком мало. Он сказал: двести сорок минут. Он дал максимум того, что мог дать в такой обстановке. — И ни о чём больше не беспокойтесь, — прибавил он. — Я буду охранять бойцов. Лично. На свою ответственность. Двести сорок минут — и ни секунды больше. Сигнал к подъёму — стреляю из револьвера. Он похлопал по ящичку маузера, который всегда висел у него на бедре, и осторожно тронул шпорой, потемневшей от пота, бок своего рыжего донского коня Казбека. Один человек охраняет сон целого корпуса! И этот один человек — командир корпуса. Чудовищное нарушение воинского устава. Но другого выхода не было. Один за всех и все за одного. Таков железный закон революции. Пять с половиной тысяч бойцов, как один, повалились на роскошную траву балки. У некоторых ещё хватило сил расседлать и стреножить коней, после чего они заснули, положив сёдла под голову. Остальные упали к ногам нерассёдланных лошадей и, не выпуская из рук поводьев, погрузились в сон, похожий на внезапную смерть. Эта балка, усеянная спящими, имела вид поля битвы, в которой погибли все. Будённый медленно поехал вокруг лагеря. За ним следовал его ординарец, семнадцатилетний Гриша Ковалёв. Этот смуглый мальчишка ещё держался в седле; он клевал носом, делая страшные усилия поднять голову, тяжёлую, как свинцовая бульба. Так они ездили вокруг лагеря, круг за кругом, командир корпуса и его ординарец — двое бодрствующих среди пяти с половиной тысяч спящих. В ту пору Семён Михайлович был значительно моложе, чем теперь. Он был сух, очень чёрен, с густыми и длинными усами на скуластом, почти оранжевом от загара чернобровом крестьянском лице. Объезжая лагерь, он иногда при свете взошедшей луны узнавал своих бойцов и, узнавая их, усмехался в усы нежной усмешкой отца, наклонившегося над люлькой спящего сына. Вот Гриша Вальдман, рыжеусый гигант, навзничь упавший в траву, как дуб, поражённый молнией, с седлом под запрокинутой головой и с маузером в пудовом кулаке, разжать который невозможно даже во сне. Его грудь широка и вместительна, как ящик. Она поднята к звёздам и ровно подымается и опускается в такт богатырскому храпу, от которого качается вокруг бурьян. Другая богатырская рука прикрыла тёплую землю — поди попробуй, отними у Гриши Вальдмана эту землю! Вот спит как убитый Иван Беленький, донской казак, с чубом на глазах, и под боком у него не острая казачья шашка, а меч, старинный громадный меч, реквизированный в доме помещика, любителя старинного оружия. Сотни лет висел тот меч без дела на персидском ковре дворянского кабинета. А теперь забрал его себе донской казак Иван Беленький, наточил как следует быть и орудует им в боях против белых. Ни у кого во всём корпусе нет таких длинных и сильных рук, как у Ивана Беленького. И был такой случай. Пошёл как-то Иван Беленький в богатый хутор за фуражом для своей лошади. Просит продать сена. Хозяйка говорит: — Нету. Одна копна только и осталась. — Да мне немного, — говорит жалобно Иван Беленький, — мне только коняку своего покормить, одну только охапочку. — Ну что же, — говорит хозяйка, — одну охапочку, пожалуй, возьми. — Спасибо, хозяйка. Подошёл Иван Беленький, донской казак, к копне сена, да и взял её всю в одну охапку. Ахнула хозяйка — сроду не видала она таких длинных рук. Однако делать нечего! А Иван Беленький крякнул и понёс копну к себе в лагерь. Что с ним по дороге случилось — неизвестно, только вдруг прибегает он без сена в лагерь ни жив ни мёртв. Руки трясутся, зуб на зуб не попадает. Ничего сказать не может… — Что с тобой, Ваня? — Ох… и не спрашивайте! До того я перепугался… ну его к чёрту! Остолбенели бойцы: что же это за штука такая, если самый неустрашимый боец Ваня Беленький испугался? А он стоит и прийти в себя не может. — Ну его к чёрту! Напугал меня проклятый дезинтер, чтоб ему сгореть на том свете! — Да что такое? Кто такой? — Да говорю же: дезинтер… Как я взял тое проклятое сено — чтоб оно сгорело, как понёс, а оно там в серёдке как затрепыхается… Дезинтер проклятый! Оказалось, в сене прятался дезертир. Его вместе с копной и понёс Иван Беленький. По дороге дезертир затрепыхался в сене, как мышь, выскочил и чуть до смерти не напугал неустрашимого бойца Беленького. Ну и смеху было! И опять нежно и мужественно усмехнулся Будённый, осторожно проезжая над головой бойца своего Ивана Беленького, над его острым мечом, зеркально отразившим полную голубую луну. Шла ночь. Передвигались над головой звёздные часы степной ночи. Скоро время будить бойцов. Вдруг Казбек остановился и поднял уши. Будённый прислушался и поправил свою защитную фуражку, подпалённую с одного бока огнями походных костров. По верху балки пробирались несколько всадников. Один за другим они тенью своей закрывали луну. Будённый замер. Всадники спустились в лагерь. Ехавший впереди остановил коня и нагнулся к одному из бойцов, который переобувался перед сумрачно рдеющим костром. У всадника в руке была папироса. Он хотел прикурить. — Эй, — сказал всадник, — какой станицы? Подай огня! — А ты кто такой? — Не видишь? Всадник наклонил к бойцу плечо. Полковничий погон блеснул при свете луны. Всё ясно: офицерский разъезд наехал впотьмах на красноармейскую стоянку и принял её за своих. Значит, белые близко. Терять времени нечего. Будённый осторожно выехал из темноты и поднял маузер. В предрассветной тишине хлопнул выстрел. Полковник упал. Бойцы вскочили. Офицерский разъезд был схвачен. — По коням! — закричал Будённый. Через минуту пять с половиной тысяч бойцов уже были верхом. А ещё через минуту вдали, в первых лучах степного росистого солнца, встала пыль приближавшейся кавалерии белых. Семён Михайлович приказал разворачиваться. Заговорили три батареи четвёртого конно-артиллерийского дивизиона. Начался бой.
…Вспоминая об этом эпизоде, Семён Михайлович сказал однажды, задумчиво улыбаясь: — Да… Пять с половиной тысяч бойцов, как один человек, спали вповалку на земле. Вот стоял храп так храп! Аж бурьян качался от храпа!.. — Он прищурился на карту, висевшую на стене, и с особенным удовольствием повторил: — Аж бурьян качался! Мы сидели в кабинете Будённого в Реввоенсовете. За окном шёл деловитый московский снежок. Я представил себе замечательную картину. Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Будённый на своём Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясётся чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече.

 Валентин Катаев
ФЛАГ
Валентин Катаев
ФЛАГ
Рис. А. ЕрмолаеваНесколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними поднимался узкий треугольник кирхи с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Безлюдным выглядел каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так. Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперёд и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблём, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобках блестело тугое зелёное масло. В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и всё его хозяйство. В тесной нише, отделённой от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил листы ведомостей. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой. Простыни слепящего оранжевого огня вылетели из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались. Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Всё было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осаждённый форт от беспрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катеры и десантные шлюпки шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его. Но время шло. Боеприпасов и продовольствия становилось всё меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила. — Ну? — сказал наконец комиссар. — Вот тебе и «ну», — сказал командир. — Всё. — Тогда пиши. Командир не торопясь открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведён последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки». Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скреплённую сургучной печатью, — подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку. — Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки. В дверь постучали. — Войдите. Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошёл в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик. — Вымпел? — Точно. — Кем сброшен? — Немецким истребителем. Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свёрнутую трубкой. Он прочитал её и нахмурился. На пергаментном листике крупным, очень разборчивым почерком зелёными ализариновыми чернилами было написано следующее: «Господин коммандантий совецки форт и батареи. Вы есть окружени зовсех старой. Вы не имеете больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасны кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Условия: весь гарнизон форта завместно коммандантий и командиры оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирхе — там сдаваться. Ровно 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь. Командир немецки десант контр-адмирал фон Эвершарп».
Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочёл и сказал дежурному: — Хорошо. Идите. Дежурный вышел. — Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво. — Да, — сказал комиссар. — Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе… Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтобы они его непременно заметили. Надо, чтобы он был как можно больше… Мы успеем? — У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь. Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет. Комиссар вошёл в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полосу с лозунгом. Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Незадолго до рассвета флаг размером по крайней мере в шесть простынь был готов. Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.
На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошёл к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер одеколоном мешки под глазами. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыхание, поднимая для приветствия руку. — Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой, слоновой кости, рукояткой кинжала. — Так точно. Они сдаются. — Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех наверх. Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был тёмный, ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита. Над силуэтом рыбачьего посёлка поднимался узкий треугольник кирхи с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем тёмный, почти чёрный. — Бедняги, — сказал фон Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства. Он отдал приказ. Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи. В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскалённое железо. — Чёрт возьми, это красиво, — сказал фон Эвершарп. — Солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть. Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабое место. Они врывались в узкие извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли. Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова поднимаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей. Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищён. Его лицо подёргивали судороги. — Вперёд, мальчики, вперёд! И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческого тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корёжило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожжённого металла лежали механизмы взорванных орудий. Морщина землетрясения прошла по острову. — Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы! В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Всё вокруг стало монотонного гранитного цвета. Всё — кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал ещё интенсивнее. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял всё. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя. Фон Эвершарп отдал новое приказание. Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катеры, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего посёлка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья. И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулемёты на все четыре стороны света: на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решён. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили её до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе. Но силы были слишком неравны…

 Борис Лавренев
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
Борис Лавренев
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
Рис. И. ПахолковаОн стоял перед капитаном — курносый, скуластый, в куцем пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрика. Его круглый носик побагровел от студёного степного суховея. Обшелушённые, посинелые губы дрожали, но тёмные глаза пристально и почти строго были устремлены в глаза капитана. Он не обращал внимания на краснофлотцев, которые, любопытствуя, обступили его, необычного тринадцатилетнего посетителя батареи, — этого сурового мира взрослых, опалённых порохом людей. Обут он был не по погоде: в серые парусиновые туфли, протёртые на носках, и всё время, переминался с ноги на ногу, пока капитан разбирал препроводительную записку, принесённую из штаба участка связным краснофлотцем, приведшим мальчика: «…был задержан утром у переднего края… По его показаниям, он в течение двух недель наблюдал за немецкими силами в районе совхоза „Новый путь“… Направляется к вам как могущий быть полезным для батареи…» Капитан сложил записку и сунул её за борт полушубка. Мальчик продолжал спокойно смотреть на него. — Как тебя зовут? Мальчик выпрямился, вскинув подбородок, и попытался щёлкнуть каблуками, но лицо его свело болью, он испуганно взглянул на свои ноги и, понурясь, торопливо сказал: — Николай Вихров, товарищ капитан. Капитан посмотрел на его туфли и покачал головой. — Мокроступы у тебя не по сезону, товарищ Вихров. Ноги застыли? Мальчик потупился. Он изо всех сил старался удержаться от слёз. Капитан подумал о том, как он пробирался ночью в этих туфлях по железной от мороза степи. Ему самому стало зябко. Он передёрнул плечами и, погладив мальчика по красной щеке, сказал: — Добро! У нас другая мода на обувь… Лейтенант Козуб! Маленький крепыш лейтенант козырнул капитану. — Прикажите начхозу немедленно подыскать и принести мне в каземат валенки самого малого размера. Козуб рысью побежал исполнять приказание. Капитан взял мальчика за плечо: — Пойдём в мою хату. Обогреешься — поговорим. В командирском каземате, треща и гудя, пылала печь. Краснофлотец помешивал кочерёжкой угли. Оранжевые отблески дрожали на белой стене. Капитан снял полушубок и повесил на крюк. Мальчик, озираясь, стоял у двери. Вероятно, его поразила эта сводчатая подземная комната, сверкающая эмалевой белизной риполина, залитая сильным светом лампы. — Раздевайся, — предложил капитан. — У меня тут жарко, как на артековском пляже в июле. Грейся! Мальчик стянул с плеч пальтишко, аккуратно свернул его подкладкой наружу и, привстав на цыпочки, повесил поверх капитанского полушубка. Капитану понравилось его бережное отношение к одежде. Без пальто мальчик оказался маленьким и очень худым. Капитан подумал, что он, наверно, крепко поголодал. — Садись! Сперва закусим, потом дело. Был, понимаешь, в старое время какой-то полководец, который изрёк, что путь к сердцу солдата пролегает через желудок. Довольно толковый был мужик. Боец с полным животом стоит пяти голодных… Чай любишь крепкий? Капитан налил доверху свою толстую фаянсовую кружку тёмной дымящейся жидкостью. Отрезал здоровый ломоть буханки, наворотил на него масла в палец толщиной и увенчал это сооружение пластом копчёной грудинки. Мальчик почти испуганно покосился на этот чудовищный бутерброд. — Клади сахар! И капитан придвинул гостю отпилок шестидюймовой гильзы, набитый синеватыми, искристыми, как снег, кусками рафинада. Мальчик исподлобья посмотрел на капитана странным взглядом, осторожно взял кусочек сахару поменьше и положил рядом с чашкой. — Ого! — засмеялся капитан. — Вон как ты от сладкого отвык. У нас, брат, так чай не пьют. Это только напитку порча. И он с плеском бухнул в кружку увесистую глыбу сахара. Худое лицо мальчика сморщилось, и из глаз на стол закапали неудержимые, очень крупные слёзы. Капитан вздохнул, придвинулся и обнял костлявые плечи гостя. — Ну, полно! — произнёс он весело. — Брось! Что было, то сплыло. Здесь тебя не обидят. У меня, понимаешь, вот такой же павиан, вроде тебя, есть, только Юркой зовут. А во всём прочем — как две капли, и нос такой же, пуговицей. Мальчик быстрым и стыдливым жестом смахнул слёзы. — Это… я ничего, товарищ капитан… я не за себя разнюнился… Я маму вспомнил. — Вон что… — протянул капитан. — Маму? Мама жива? — Жива, — глаза мальчика засветились. — Только голодно у нас. Мама по ночам от немецкой кухни картофельные ошурки собирала. Раз часовой её застал. По руке — прикладом… До сих пор рука не гнётся… Он стиснул губы, и из глаз его уплыла нежность. В них родился жёсткий и острый блеск. Капитан погладил его по голове: — Потерпи… Маму выручим. Ложись, вздремни немного. Мальчик умоляюще посмотрел на капитана: — Потом… Я не хочу спать. Сперва расскажу про них. В его голосе был такой накал упорства, что капитан не настаивал. Он пересел к другому краю стола и вынул блокнот: — Ладно, давай!.. Сколько, по-твоему, немцев в совхозе? Мальчик ответил быстро, без запинки: — Первое — батальон пехоты. Баварцы. Сто семьдесят шестой полк двадцать седьмой дивизии. Прибыли из Голландии. Капитан удивился такой точности ответа: — Откуда ты это знаешь? — Видел на погонах цифры. Слушал, как разговаривали. Я по-немецки в школе хорошо занимался, всё понимаю… Потом рота мотоциклистов-автоматчиков. Взвод средних танков. По северному краю совхоза окопы. Два дота с полевыми и противотанковыми пушками. Они сильно укрепились, товарищ капитан. Всё время цемент грузовиками таскали. Я из окошка подглядывал. — Можешь точно указать местоположение дотов? — спросил, подаваясь вперёд, капитан. Он вдруг понял, что перед ним не обыкновенный мальчик, а очень зоркий, сознательный и точный разведчик. — Большой дот у них на бахче за старым током… А другой… — Стоп! — прервал капитан. — Это здорово, что ты так хорошо всё выследил. Но, понимаешь, мы же в твоём совхозе не жили. Где бахча, где ток — нам неизвестно. А морская десятидюймовая артиллерия, дружок, штука серьёзная. Начнём гвоздить наугад, много лишнего перекрошить можем, пока в точку посадим. А там ведь и наши люди есть… И мама твоя… Мальчик взглянул на капитана с недоумением: — Так разве у вас, товарищ капитан, карты нет? — Карта есть… Да разве ты в ней разберёшься? — Вот ещё, — сказал мальчик с небрежным превосходством, — у меня же папа геодезист. Я сам карты чертить могу… Папа теперь тоже в армии… Он командир у сапёров! — добавил он с гордостью. — Выходит, что ты не мальчик, а клад, — пошутил капитан, развёртывая на столе штабную полукилометровку. Мальчик встал коленками на табурет и нагнулся над картой. Лицо его оживилось, палец упёрся в бумагу.

— Вот же, — сказал он, счастливо улыбаясь, — как на ладошке. Карта у вас какая хорошая! Подробная, как план… Вот тут за оврагом и есть старый ток. Он безошибочно разбирался в карте, как опытный топограф, и вскоре частокол красных крестиков, нанесённых рукой капитана, испятнал карту по всем направлениям, засекая цели. Капитан был доволен. — Очень хорошо, Коля! — Он одобрительно потрепал по плечу мальчика. — Просто здорово! И мальчик, на мгновение перестав быть разведчиком, по-ребячьи прижался щекой к капитанской ладони. Ласка вернула ему его настоящий возраст. Капитан сложил карту: — А теперь, товарищ Вихров, в порядке дисциплины — спать! Мальчик не противился. Глаза у него слипались от сытной еды и тепла. Он сладко зевнул, и капитан ласково уложил его на свою койку и накрыл полушубком. Потом вернулся к столу и уселся за составление исходных расчётов. Он увлёкся и не замечал времени. Тихий оклик оторвал его от работы: — Товарищ капитан, который час? Мальчик сидел на койке, встревоженный. Капитан отшутился: — Спи! Тебе что до времени? Начнётся драка — разбудим. Лицо мальчика потемнело. Он заговорил быстро и настойчиво: — Нет, нет! Мне же назад надо! Я маме обещал. Она будет думать, что меня убили. Как стемнеет — я пойду. Капитан изумился. Он и предположить не мог, что мальчик всерьёз собирается вторично проделать страшный путь по ночной степи, который случайно удался ему однажды. Капитану казалось, что его гость не вполне проснулся и говорит спросонок. — Чепуха! — рассердился капитан. — Кто тебя пустит? Если даже не попадёшься немцам, то в совхозе можешь угодить под наши снаряды. Спи! Мальчик насупился и покраснел: — Я немцам не попадусь. Они ночами от мороза по домам сидят. А я все тропочки наизусть… Пожалуйста, пустите меня. Он просил упрямо и неотступно, и капитану на мгновение пришла мысль: «А что, если весь рассказ мальчугана — обдуманная комедия, обман?» Но, заглянув в ясные детские зрачки, он отбросил это предположение. — Вы же знаете, товарищ капитан, что немцы не позволяют никому уходить из совхоза. Если меня хватятся утром и не найдут, маме худо будет. Мальчик явно волновался за судьбу матери. — Есть… всё понял, — сказал капитан, вынимая часы. — Сейчас шестнадцать тридцать. Мы пройдёмся с тобой на наблюдательный пункт и ещё раз сверим всё. Когда стемнеет, тебя проводят. Ясно? На наблюдательном пункте, вынесенном вплотную к пехотным позициям на рубеже, капитан сел к дальномеру. Он увидел холмистую крымскую степь, покрытую голубыми полосами снега, нанесённого ветрами в балки. Розовый свет заката умирал над полями. На горизонте темнели узкой полоской сады далёкого совхоза. Капитан долго разглядывал массивы этих садов и белые крапинки зданий между ними. Потом он подозвал мальчика: — Ну-ка, взгляни! Может, маму увидишь. Улыбаясь шутке капитана, мальчик взглянул в окуляр. Капитан медленно поворачивал штурвальчик горизонтальной наводки, показывая гостю панораму родных мест. Внезапно Коля отстранился от окуляра и мальчишески радостно затеребил капитана за рукав: — Скворечня! Моя скворечня, товарищ капитан! Честное пионерское! Удивлённый, капитан нагнулся к окуляру. В поле зрения, высясь над сеткой оголённых тополевых верхушек, над зелёной в пятнах ржавчины крышей, темнел на высоком шесте крошечный квадратик. Капитан видел его совсем отчётливо на бледно-сизом небе. И это натолкнуло его на неожиданную мысль. Он взял Колю под локоть, отвёл его в сторону и тихо заговорил с мальчиком под недоуменными взглядами краснофлотцев-дальномерщиков. — Понял? — спросил капитан. И мальчик, весь просияв, кивнул головой. Небо потемнело. С моря потянуло ледяной колкостью зимнего ветра. По ходу сообщения капитан провёл Колю на рубеж. Он вызвал командира роты, рассказал ему вкратце дело и приказал вывести мальчика скрытно за рубеж… Два краснофлотца канули с мальчиком в темноту. И капитан смотрел вслед, пока не перестали белеть новые валенки, принесённые мальчику в командный каземат начхозом батареи. Капитан ждал с тревогой — не грянут ли в этой тьме внезапные выстрелы. Но всё было тихо, и капитан ушёл к себе на батарею. Ночью ему не спалось. Он без конца пил чай и читал. Перед рассветом он был уже на наблюдательном пункте. И как только на востоке посветлело и можно было различить на этой светлеющей полосе крошечный квадратик, он подал команду. Первый пристрелочный залп башни расколол тишину зимнего утра. Гром медленно покатился над полями. И капитан увидел, как тёмный квадратик на шесте качнулся дважды и, после паузы, в третий раз. — Перелёт… вправо, — перевёл для себя капитан и скомандовал второй залп. На этот раз скворечня не шевельнулась, и капитан перешёл к огню на поражение обеими башнями. С волнением артиллериста он наблюдал, как в дыму разрывов полетели кверху глыбы бетона и брёвна. Он усмехнулся и после трёх залпов перенёс огонь на вторую цель. И снова скворечня вела с ним дружеский немой разговор. Огонь обрушилсятуда, где красный крестик на карте отметил склад горючего и боеприпасов. На этот раз капитану повезло с первого залпа. Над горизонтом полыхнула широкая полоса бледного огня. В туче дыма исчезло всё: деревья, крыши, шест с тёмным квадратиком. Взрыв был очень сильный, и капитан с тревогой подумал о том, что мог наделать этот взрыв. Запищал телефон. С рубежа просили прекратить огонь. Морская пехота, пошедшая в атаку, уже продвинулась к немецким окопам. Тогда капитан вскочил в коляску мотоцикла и в открытую помчался по полю на рубеж. От совхоза доносился пулемётный треск и удары гранат. Ошеломлённые немцы, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо. С околицы уже мигали весёлые флажки семафора, докладывая об отходе противника. Бросив мотоцикл, капитан побежал напрямик, через степь, по тому месту, где ещё накануне появление человека вызывало шквал свинца. Над садами совхоза плыл серо-белый дым горящего бензина, и в нём глухо рычали рвущиеся снаряды. Капитан торопился к зелёной крыше между надломленными тополями. Ещё издали он увидел у калитки закутанную в платок женщину. За её руку держался мальчик. Завидев капитана, он кинулся ему навстречу. Капитан с ходу подхватил мальчика и стиснул его. Но мальчику, видимо, не хотелось в эту минуту быть маленьким. Он упёрся руками в грудь капитана и рвался из его объятий. Капитан выпустил его. Коля стал перед ним, приложив руку к рыжей шапчонке: — Товарищ капитан, разведчик Вихров задание выполнил. Подошедшая женщина с замученными глазами и усталой улыбкой протянула руку капитану: — Здравствуйте!.. Он так вас ждал… Мы все ждали. Спасибо, родные! И она поклонилась капитану хорошим, глубоким русским поклоном. Коля стоял рядом с капитаном. — Молодец! Отлично справился!.. Страшновато было на чердаке, когда мы начали стрелять? — спросил капитан, привлекая мальчика к себе. — Страшно! Ой, как страшно, товарищ капитан! — чистосердечно ответил мальчик. — Как первые снаряды ударили, так всё и зашаталось, будто проваливается. Я чуть не махнул с чердака. Только стыдно стало. Сам себе говорить начал: «Сиди… сиди!» Так и досидел, пока склад рвануло. А после и не помню, как внизу очутился. И, сконфузясь, он уткнулся лицом в полушубок капитана, маленький русский человек, тринадцатилетний герой с большим сердцем — сердцем своего народа.

 Петр Павленко
УДАЧА
Петр Павленко
УДАЧА
Рис. А. ЛурьеБыло за полдень. Над тускло-золотистыми ржами медовыми волнами струился зной. Лёгкий ветер напоминал приливы и отливы жара, пышущего цветами и спелым хлебом. На переднем крае было тихо. Лишь иногда редкий выстрел нашего снайпера нарушал дремоту ленивого августовского дня. Ряды колючей проволоки перед нашими и немецкими окопами напоминали нотные строчки. На немецкой — нотными знаками пестрели консервные банки и поленья. Третьего дня ночью какой-то весёлый снайпер — не Голуб ли? — нацепил на колья проволочного заграждения немцев эту «музыку» — баночки и деревяшки — и до зари потешался, дёргая их за верёвочку из своего окопа. И до зари не спали немцы и всё стреляли наугад, все высвечивали ночь ракетами, все перекликались сигналами, с минуты на минуту ожидая, видно, нашей атаки. Утром же, разобрав, в чём дело, долго — в слепом раздражении — били из крупных орудий по оврагу и речке за окопами, разгоняя купающихся. А потом опять всё затихло до темноты, и наши побежали ловить глушёную рыбу. Вечером же, когда поля слились в одно неясно-мглистое пространство, немцы выслали патрули к своей проволоке, и те всю ночь ползали взад и вперёд, взад и вперёд, мешая нашим сапёрам, которые должны были взорвать проход в проволоке, но так и не сумели сделать из-за проклятых патрулей, хотя ходил не кто иной, как старший сержант Голуб. Ему обычно всё удавалось. Ночь, в общем, пропала даром, и наступил тот самый день, с которого начат рассказ. Было так тихо, будто на войне ввели выходной день. Окопы переднего края казались пустыми. Роты, стоявшие во втором эшелоне, косили рожь и неумело вязали снопы. Война как будто вздремнула. И никто поэтому не удивился, заметив над окопами хлопотливый «У-2», «конопляник», летевший с сумасшедшим презрением к земле, метрах в двадцати пяти, может быть даже и ниже. Немцы открыли по самолёту стрельбу. «Конопляник», как губка, сразу вобрал в себя дюжины три пуль и клюнул носом в ничьё пространство, между нашей и немецкой проволокой. Пока он валился, его успело всё-таки отнести по ту сторону немецкого заграждения. Самолёт негромко треснул и развалился, как складная игрушка. Первый выскочивший лётчик был убит сразу, второй же успел сделать несколько шагов назад, к проволоке, и перебросил через неё на нашу сторону полевую сумку, а потом его свалило четырьмя пулями. Видно было, как он вздрагивал после каждой. Немцы попробовали было захватить раненого лётчика, но наши, открыв пулемётный огонь, не дали им этого сделать. Лётчику и полевой сумке суждено было проваляться до темноты. Сапёры и разведчики кричали раненому: — Лежи, терпи, друг! Стемнеет — вытащим! Но тут позвонили из штаба дивизии, и сам командир лично приказал немедленно и любою ценою доставить ему полевую сумку, в которой, подчеркнул он, находятся документы огромной важности. Немецкие автоматчики тем временем уже пытались расстрелять сумку разрывными. Бросились будить всемогущего Голуба, который после ночной неудачи спал, как сурок, но он уже проснулся и следил за развитием драмы, что-то прикидывая в уме. Ещё до звонка командира дивизии ротный уже поинтересовался у Голуба, что он обо всём этом думает, и тот, прищурясь на самолёт, сказал: — Гробина! До ночи и думать нечего, товарищ старший лейтенант. Но сейчас, когда получен был точный приказ, операцию нельзя было откладывать, и Голуб без напоминания понял, что выполнять её придётся именно ему, а не кому другому. Он был опытный, храбрый и, как говорили, ещё и везучий. С ним на самое рискованное дело без страха шёл любой новичок. И, конечно, сейчас идти нужно было Голубу, он это отлично знал. Выбора не было. И сразу, как только понял он, что выбора нет, дело начало представляться ему в новом свете — и уже не таким гробовым, как раньше, бесспорно, рискованным, но отнюдь не смертным. Он собрал всего себя на мысли, что приказ забрать сумку не получен, а отдан им же самим, что это его приказ, его личная воля, он сам этого хочет. И когда «я должен» зазвучало в нём, как «я хочу», задание не то что сразу стало более лёгким, но жизнь и задание слились в одно и нельзя было ни обойти его, ни остановиться перед ним в нерешительности, оно стало единственным мостом, по которому мог пройти Голуб. Теперь, когда выбора не было, он не думал и об опасности, потому что думать о ней и о других менее рискованных делах — значило сравнивать их, то есть опять-таки выбирать, предпочитать, а он не мог этого. Все прежние рассуждения заглушило в нём желание — сделать! Никто и ничто не может принудить человека к геройству, так же как и к трусости. Всё идёт от себя. Один и тот же жестокий огонь высекает из первой души отвагу, из второй — трусость. Одно и то же побуждение — жить! — направляет первого вперёд, на противника, а второго — назад, в тыл. И как первый бегущий на вражеский окоп знает, что на пути его не раз встретится смерть, но он, может быть, и даже наверное, избежит её, так и второй, когда бежит с поля боя, отлично чувствует, что и на его пути встретится смерть от руки командира или товарища, и он точнее рассчитывает как-нибудь избежать её. Никто не даёт приказа совершить подвиг, кроме своей души. И если может она волю командира сделать своей и добиться её выполнения, — велика такая душа. Волевое, математическое напряжение быстро овладело Голубом. Ничего не слыша, кроме приказа, и ничего не видя, кроме полевой сумки, он быстро, как спортсмен, соображал, выйдет или не выйдет и как именно может выйти. — Товарищ старший лейтенант, — попросил он, — дайте огонь сразу всеми нашими пулемётами. Сразу и подружней. И «ура». И, быстро выскочив из окопа, он с несколькими бойцами пополз к проволоке. Никто не ожидал этого. Тут пулемёты шквальным огнём прижали к земле немецких автоматчиков — те потеряли точность. Немцы предоставили слово снайперам, наши — тоже. Вступили в дело миномёты. «Ура» из наших окопов сковало внимание немцев. История с сумкой перестала быть самой важной для немцев. Она растворилась в других деталях внезапной схватки, вот-вот, казалось, могущей перейти в рукопашную. Тем временем Голуб подполз к сумке и перебросил её товарищу, тот мгновенно передал третьему, как мяч в футболе, и она быстро влетела в окоп. «Ура» наших грянуло с новой силой, точно был забит гол в ворота противника. Однако наши пулемёты продолжали вести огонь с прежней настойчивостью, ибо Голуб всё ещё полз куда-то вперёд, к немцам. Ползли за ним и его бойцы. Теперь, когда так удачно была проведена операция, казавшаяся невыполнимой, ощущение удачи и веры в себя не знало границ. Сначала Голуб сам даже не сообразил, что делает, и, только занося руку с ножницами для резки проволоки, которые он всегда брал с собой по ночам, понял, что ножницы по привычке повели его дальше. Зачем? Может быть, исправить неудачную ночь? И только когда рука прорезала узкий лаз в проволочной плетёнке, вспомнился раненый лётчик. Пулемётный и винтовочный огонь и крики «ура» ещё более усилились. Голуб полз и резал, полз и резал, пока не очутился возле истекавшего кровью лётчика. — Помоги, родной, помоги! — прохрипел тот. Но Голуб не задержался возле него. Всё самое трудное было позади. Приказа не существовало, приказ вошёл в кровь, он стал отвагой, жаждущей полного торжества. И Голуб сделал ещё несколько шагов, чтобы коснуться убитого лётчика. Пули обсевали его со всех сторон. Он крикнул сапёру Агееву: — Не могу работать с убитым! Ползём назад! — и повернул к раненому. Если бы хоть один человек из тех, кто прикрывал Голуба и Агеева своим огнём, потерял веру в успех, всё провалилось бы. Схватка шла так, словно была заранее сыграна, каждый угадывал смысл своего следующего выстрела, ещё не сделав его. Командовать было некогда. Это была музыка, где звук ложится к звуку и краска к краске. И когда Голуб застрял с лётчиком в узком проволочном проходе, пулемётчики, снайперы и миномётчики сразу же прикрыли его таким точным огнём, что дали лишних четыре минуты на возню с проволокой. И затем всё было сразу кончено. Отдуваясь, сдирая с брюк и гимнастёрки шишки репья, чему-то смеясь, Голуб пошёл докладывать о выполнении задачи ротному командиру, который, впрочем, всё видел сам и уже успел позвонить в штаб дивизии. Пулемёты смолкли. Укрылись в своих норах снайперы. В воздухе, как эхо боя, несколько секунд ещё реяло «ура», но и оно затихло. Медово-сонный зной, звеня, ещё стал как-то гуще, плотнее, дремотнее и необозримее. Командир роты сел за представление к награде, а Голуб прилёг до темноты. Но он заснул не сразу. Возбуждение спадало медленно. Мускулы, точно подразделения, рассредоточение расходились на покой. Голуб хорошо знал это блаженное состояние после удачного дела и наслаждался им. — Удачливый чёрт! — услышал он о себе и улыбнулся. Умей он говорить, он ответил бы: — Удача? Может быть. Но удача не в том, что я полез под огонь и вышел целым. Удача в другом. Надо, чтобы приказ зазвучал в тебе, как своё желание, чтобы ты исполнил его не как придётся, а пережил всем сердцем, чтобы оно только легонько толкнуло тебя, а там и пошло от себя, своё, на полный газ, без стеснения. Удача — уметь вобрать в себя приказ, как желание боя. И она есть у меня. Тогда многое удаётся. Это закон.

 Вениамин Каверин
КНОПКА
Вениамин Каверин
КНОПКА
Рис. Б. КоржевскогоЭто была маленькая, толстая, румяная девушка, с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми ушами. У неё было много прозвищ — «Мячик», «Чижик», а один боец, когда она ещё работала в госпитале, прозвал её: «Пучок энергии». Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоявший из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия, весёлая, стремительная и действующая взрывами, как ракета. Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое — «Кнопка». Возможно, что оно намекало на её маленький нос, напоминавший кнопку. Но она не обижалась. Кнопка так Кнопка! Главное было: всюду поспеть и всё сделать самой. И она поспевала всюду. В этот день, самый горячий за всю её девятнадцатилетнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофёром, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на полевую почтовую станцию и сделать ещё десятки дел, перечислять которые было бы слишком долго. Теперь нужно было везти раненых в тыл, и она принялась помогать шофёру, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной. Раненых она уже знала по имени, а кого не знала, того называла «голубушка». «Ну, голубушка, теперь вот сюда, — говорила она командиру, который, делая над собой мучительное усилие, шёл, опираясь на её плечо, к санитарной машине. — Ну-ка, ещё раз!.. Умница! Вот и всё». О том, что дорога простреливается, она сказала, когда раненые уже были устроены и осталось только принести в машину снятое с них оружие. — Вот что, товарищи, — сказала она быстро, — мы поедем на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить. Понятно? Всё было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась с места и во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге. — Держитесь! Раз! — говорила Кнопка, когда, ныряя в рытвину, машина тяжело кряхтела и начинала, как лошадь, лягать задними колёсами. — Есть! Поехали дальше! Всё ближе слышались разрывы снарядов. Чёрные столбы земли, перемешанной с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом, потом мотоциклист, почему-то стоявший недалеко от шоссейной сторожки, а потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождём досок, стропил и камня. — Придётся обождать, — обернувшись, крикнул шофёр. — Эге! Кнопка! — Давай дальше, проскочим! Но проскочить было невозможно. Шофёр свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым некогда была обсажена дорога. Лучшего прикрытия не было. Но и это было не прикрытие. Во всяком случае, оставлять раненых в машине, представляющей собой превосходную цель, Кнопка не решилась. Называя их всех без разбору голубушками и умницами, она вытащила раненых одного за другим и устроила в канаве, метров за двадцать пять от машины. Был жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял душный, колеблющийся воздух. Вокруг ни тени. Очень хотелось пить. И первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других, а теперь, беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы. — Нет ли воды, сестрица? — просил он. И, точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду. Воды не было. Метрах в ста от разбитой сторожки виднелся колодезный сруб. Но была ли ещё там вода, неизвестно. Если и была, как добраться до неё через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды? — Где ведро? — спросила Кнопка у шофёра. Он посмотрел на неё и молча покачал головой. — В машине осталось?.. Да что же ты молчишь? В машине? — Ну, в машине, — нехотя пробормотал шофёр. — Ты за ними присмотришь, ладно? И, прежде чем шофёр успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине. Это было ещё полдела — доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухляди, которую шофёр зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его, как блин, засунула за пояс. Главное было впереди — добраться до шоссейной сторожки, а самое главное ещё впереди — от сторожки, уже не прячась в канаве, дойти до колодца. Впрочем, первое главное оказалось не таким уж трудным. Канава была глубокая, а Кнопка — маленькая. Так что, если бы время от времени из непонятного ей самой любопытства она не поднимала свою голову, украшенную косичками, торчавшими в разные стороны над ушами, эта часть пути показалась бы ей обыкновенной прогулкой. Правда, в прежнее время, прогуливаясь, она никогда не ползала на животе и не подтягивалась на руках, которые при этом сильно уставали. Но тогда было одно, а теперь другое. Вот и сторожка, то есть то, что от неё осталось. За ней начиналось второе главное. До сих пор Кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала: «А вдруг воды нет?» В первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, такой отвратительный вой свистящего и рвущегося воздуха стоял над её головой, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок — и всё это, быть может, напрасно. Но она продолжала ползти. Сруб стоял на огороде, а огород был отделён изгородью, хотя невысокой и полуразбитой, но которую всё же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба. Легко сказать — обойти! Это значило, что по крайней мере метров тридцать нужно было ползти под огнём. Руки очень ныли, спину ломило, и Кнопка, прижавшись лицом к земле и стараясь ровнее дышать, решила, что не поползёт. Ведро было на длинной верёвке; она перебросит его через изгородь — авось угодит в колодец. Четыре раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец. Но ведро упало бесшумно, и Кнопка поняла, что колодец пуст. С минуту она лежала неподвижно. Не то чтобы ей хотелось заплакать, но в горле защипало, и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем. «Так нет же, есть там вода! — вдруг сказала Кнопка про себя. — Не может быть! Есть, да глубоко». Она сняла пояс и привязала его к верёвке. Ведро чуть слышно шлёпнуло — или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Верёвка всё натягивалась; Кнопка слегка подёргала её и поняла, что ведро наполнилось водой. — Ну-ка, голубушка! — сказала она не то ведру, не то самой себе и стала осторожно вытягивать ведро из колодца.

Она вытащила его — мокрое, расправившееся, полное воды — и, вскочив, быстро перехватила рукой. Прежде всего нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть, умыться? Но умываться она не решилась. Сейчас-то много, но много ли она донесёт? И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром, полным воды: ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была! И, подхватив ведро, она побежала к сторожке. Где-то близко разорвался снаряд. Земля осыпала её с головы до ног. Она только присела на мгновение, отряхнулась и побежала дальше. Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро: не очень ли много расплескалось? Не очень! И вообще гораздо лучше бежать, чем ползти! Теперь всё было в порядке — от сторожки до машины рукой подать и можно пройти по канаве. — Пережду, как станет потише, — сказала она себе, — и айда! И вдруг она услышала чей-то голос. Сперва она подумала, что ослышалась, потому что этот слабый голос назвал её так, как называл её только один человек во всём мире: — А, Пучок энергии! Здорóво! — Что? — невольно откликнулась она и в ту же минуту увидела руку, торчащую из-под разбитых досок. Это был тот самый знакомый боец, который только один во всём госпитале не соглашался на «Кнопку». Последний раз она видела его в Ленинграде, когда он выписывался из госпиталя и снова отправлялся на фронт. — Сейчас, голубушка! — сказала Кнопка, осторожно снимая с него обломки досок. — Подожди, милый! Она велела бойцу обнять себя руками за шею и проползла вместе с ним метров двадцать. О воде она вспомнила, уже когда была рядом с санитарной машиной. — Ладно, скоро вернусь, — быстро пробормотала она. — Жаль только, что согреется. Эх, не прикрыла! Шофёр, заметив, что она возвращается не одна, выскочил из канавы и пополз к ней на четвереньках. Вдвоём они доставили раненого в укрытие, осторожно сняли с него гимнастёрку, и, быстро приговаривая, Кнопка стала останавливать кровь и перевязывать раны. Никто больше не просил пить. Никто даже не спросил у Кнопки, была ли в колодце вода. Жара стала ещё удушливее, и маленький лейтенант лежал, закинув голову и полуоткрыв пересохшие губы. Но он только взглянул на Кнопку и не сказал ни слова. — Ты что, Кнопка? — спросил шофёр, заметив, что она время от времени нетерпеливо поглядывает на сторожку. — Ничего, — отвечала Кнопка. — Кажется, потише становится, а? Становилось как раз не «потише», а «погромче», и шофёр только сомнительно покачал головой. — Нет, потише! — упрямо пробормотала Кнопка и вдруг, выскочив из канавы, опрометью побежала к сторожке. Через несколько минут она вернулась, таща ведро с водой. Правда, назад она летела так быстро, что с добрых полведра выплеснулось, но ещё оставалось много прекрасной, не успевшей согреться, чистой, вкусной воды. — Голубушки, принесла! Честное слово, принесла! — закричала Кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением. — Вот так штука! Принесла! Через полчаса, когда обстрел прекратился и раненые, которых она напоила и умыла, были уложены в машину, Кнопка с дороги в последний раз взглянула на мертвый, изрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на зубах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды. «Должно быть, я храбрая, что ли?» — неясно подумала она и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке. Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом. Машина по-прежнему ныряла по рытвинам, и нужно было следить, чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму.

 Яков Тайц
ДОМ
Яков Тайц
ДОМ
Рис. И. Лонгинова
1
За околицей, на отлёте, одиноко стояла изба. Кто в ней жил? Старик Аким, жена его Акулина и ребята: Колька, Толька, Федька и самый маленький — Кирюшка. Жили ни бедно, ни богато — как в песне поётся:2
…Три дня отдыхали котовцы в селе, и все три дня Акимовы ребята пропадали у соседей. А Кирюшка раз прибежал вечером, весёлый, важный: — Ребята, ребята, а я с кем говорил! — С кем? — С Котовским! — Ври! — Чтоб я лопнул! Он у Спиридонихи стоит. Я туда пошёл, и вдруг — он. С коня слазит. А я не побоялся. Стою такочки, смотрю. А он говорит: «Котовцем хочешь быть?» Я говорю: «Хочу!» Он меня тогда взял и на своего коня посадил. Во! А слез-то я сам. А он говорит: «Вырастешь — помни К-к-котовского!» Он, ребята, трошки заикается! — Правда! — Он! Ребята с завистью смотрели на Кирюшку. А он достал из-за пазухи какую-то фляжку с заграничными буквами и похвалился: — Глядите, что я в лесу нашёл! Поляцкая, верно. От фляжки сильно несло спиртным. Подошёл Аким, повёл носом: — Это что у вас? — Нема ничего! Кирюшка незаметно сунул находку в печь. Легли спать. Среди ночи Акулина вскочила: — Ой, ратуйте, ратуйте! Она растолкала спящих. Спасать добро было поздно: горящий спирт из фляжки залил всё вокруг. Сухой сосновый домик горел, как спичка. Пришлось всем, захватив одежонку, прыгать в окно. Сотни огненных языков жадно лизали стены, крышу… Вот рухнули стропила, взметнулись искры, посыпались на Акима… Старик не шевельнулся, будто каменный. Акулина выла: — Ой, лихо нам! Ой, ратуйте! Сбежался народ — кто в штанах, кто в рубахе, кто в чём. Акулину утешали. А Кирюшке хоть бы что. Ему пожар понравился. Хоть бы каждый день такие! И вдруг он увидел маленького полкового трубача и — Котовского. Кирюшка подбежал, гордый: — Это у нас пожар, у нас! Но командир не узнал «котовца». Он обернулся: — Дай тревогу! Сигналист поднял трубу. Пронзительные звуки покрыли всё: треск пожара, шум толпы, плач Акулины… И сразу же сбежались котовцы. И сразу же они привычно, молча строились колоннами повзводно. Старшины негромко командовали: — Становись! Равняйсь! Смирно! Изба догорала. Над лесом встало другое зарево — занимался день. Комбриг прошёлся вдоль рядов: — Т-т-товарищи бойцы, командиры и политработники! К-к-короче говоря, если мы все, всем квартирующим здесь полком, возьмёмся за работу, то мы, я думаю, поставим к вечеру п-п-погоревшему селянину новый дом. А? — Надо! — зашумели бойцы. Аким с подпалённой бородой лежал на земле. Котовский, отмахиваясь от едкого дыма, подошёл к нему: — Товарищ, можешь показать на бумаге, какая твоя изба была? — Была?.. — Аким поднял голову, бессмысленно посмотрел на Котовского. — На бумаге не могу, я так скажу… — Он вскочил: — Здесь от такочки были сенцы… туточки крылечко… ось так чистая по-половина… — Он заплакал и стал бородой вытирать глаза. — Я ж сам её срубил… по брёвнышку… по колышку!.. Котовский поднялся на бугор: — По-олк, слушать мою команду! Вечером выступаем! А сейчас — за работу! Топоры и пилы — у командира сапёрного взвода! Гвозди получите в обозе. Там же пакля. Разойдись!3
Аким не понимал, что такое творится. Один взвод расчищал остатки сгоревшего дома. Другие ушли в лес. Там в утренней тишине застучали топоры, запели пилы. Часто, одна за одной, валились высокие сосны. Бойцы быстро обрубали ветки, обдирали кору и на полковых лошадях везли стволы к пожарищу. Здесь их подхватывали сотни рук и укладывали по всем правилам плотницкого искусства. Комбриг, обтёсывая жирный бок смолистого бревна, спрашивал у Акима: — Так, что ли, старик? Окно-то здесь, что ли? Старик, разинув рот, остолбенело смотрел на то, как с каждой минутой, точно в сказке, вырастал большой новый дом. К обеду уже поднялись высокие — о семнадцати стволах — стены. Одни котовцы ушли к полковым кухням — пришли другие, стали класть поперечные балки, стелить крышу, заделывать венцы… В стороне визжала пила-одноручка — там мастерились двери, оконные рамы, наличники… Винтовки пирамидками ждали на лугу. Котовский поторапливал: — Б-быстрей, товарищи! Д-дружней, товарищи! К вечеру дом был готов. Народ повалил туда. Аким медленно поднялся по новым ступенькам. Они сладко скрипели. Он потрогал стены: может, он волшебный, этот в один день поставленный дом, и вот-вот развалится? Но дом стоял твёрдо, как все порядочные дома. Пускай окна без стёкол, пол некрашеный, мебели никакой — это всё дело наживное. На лугу заиграла труба. Бойцы отряхивали с себя стружки, опилки, разбирали винтовки, строились. Аким и Акулина выскочили из нового дома, пробежали вдоль строя вперёд, к командиру. Котовский уже сидел на серой своей лошадке. Полк ждал его команды. — Батюшка! Родный мой, ласковый! — заплакала Акулина. Она обняла и стала целовать запылённый сапог командира. Котовский сердито звякнул шпорой, отодвинулся: — Что делаешь, г-гражданка? — Он погладил её по растрёпанной седой голове и протянул руку Акиму: — Живите! Когда-нибудь получше поставим… из мрамора… с колоннами… А пока… Он привстал в стременах, обернулся: — По-олк, слушай мою команду! Шагом… Застучали копыта, загремели тачанки, заиграли голосистые баяны в головном взводе. Запевалы подхватили:
 Лев Кассиль
РАССКАЗ ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ
Лев Кассиль
РАССКАЗ ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ
Рис. Б. КоржевскогоКогда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награждённых, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шёл к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награждённому руку, поздравил и протянул орденскую коробку. Награждённый, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто поблагодарил, чётко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежащий у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился: — Разрешите обратиться? — Пожалуйста. — Товарищ командующий… и вот вы, товарищи, — заговорил прерывающимся голосом награждённый, и все почувствовали, что человек очень взволнован, — дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я рассказать вам о том, кто должен бы стоять здесь рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы. Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблёскивал золотой ободок ордена, и обвёл зал просительными глазами: — Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной. — Говорите, — сказал командующий. — Просим! — откликнулись в зале. И тогда он рассказал.
* * *
— Вы, наверно, слышали, товарищи, — так начал он, — какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас противник отсёк от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас фашисты из миномётов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубицы, а опушку прочёсывают автоматами. Время наше истекло. По часам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже. Сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому, время на соединение оттягиваться, а пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что нас тут горсточка всего-навсего осталась, и берёт нас своими клещами за горло. Вывод ясен — надо пробиваться окольным путём. А где он, этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит: — Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щёлка имеется. Если найдём — проскочим. Я, значит, сразу вызвался. — Дозвольте, — говорю, — мне попробовать, товарищ лейтенант. Внимательно посмотрел он на меня. Тут уже не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни — кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился. — Хорошо, — говорит, — товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно? И сам он вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку. — Ну, Коля, — говорит, — давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался сам, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля… Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие… — Ладно, — говорю, — Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю что надо. Ну, а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале… И вот пополз я, хоронясь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону — нет, не пробиться: густым огнём немцы по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне буерака — кустарник, и за ним — дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх. Вдруг замечаю, над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан — видно, пострадал где-то… Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг — сам не знаю почему — потянуло меня щекотнуть эти пятки. Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает. Взял я колючую былинку, да и покарябал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках. — Ты чего тут? — говорю я. — Я, — говорит, — корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке чёрное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет… Только вы, дядя, Не верьте. Это я всё вру… пробую так. Дядя, — говорит, — вы от наших отбились? — А это кто такие ваши? — спрашиваю. — Ясно, кто — Красная Армия… Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас могут зацапать. — А ну иди сюда, — говорю. — Расскажи, что тут в твоей местности делается. Голова исчезла, опять появилась нога, и ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперёд, съехал мальчонка лет тринадцати. — Дядя, — зашептал он, — вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут фашисты ходят. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь, сбоку, миномёты ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нет. — И откуда, — говорю, — ты всё это знаешь? — Как, — говорит, — откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю? — Для чего же наблюдаешь? — Пригодится в жизни, мало ль что… Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идёт по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завыло и раздался такой треск, словно большую половицу разом на тысячи сухих щепок раскололо. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас. Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно поднимает свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать глину из ушей, изо рта, из носа. — Вот это так дало! — говорит. — Попало нам, дядя, с вами, как богатым… Ой, дядя, — говорит, — погодите! Да вы ж раненый! Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу — из разорванного сапога кровь плывёт. А мальчишка вдруг прислушался, вскарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет мне: — Дядя, сюда немцы идут! Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда… Эх, ты, как вас сильно!.. Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад… — Эх, дядя, дядя! — говорит мой дружок и сам чуть не плачет. — Ну, тогда лежите здесь, дядя, чтобы вас не слыхать, не видать. А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь, после… Побледнел сам так, что веснушек ещё больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» — соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами — на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу… Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!.. Стоять! Не ходить дальше!» Заскрипели над моей головой тяжёлые сапоги. Я расслышал, как фашист спросил: — Ты что такое тут делал? — Я, дяденька, корову ищу, — донесся до меня голос моего дружка. — Хорошая такая корова, сама белая, а на боке чёрное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. Маришкой зовут. Вы не видели?
— Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко! Ты что такое лазал тут уж очень долго? Я тебя видел, как ты лазал. — Дяденька, я корову ищу… — стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка. И внезапно по дороге чётко застучали его лёгкие босые пятки. — Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! — закричал немец. Над моей головой забухали тяжёлые кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь фашистов от меня. Я прислушивался задыхаясь. Снова ударил выстрел. И услышал я далёкий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо… Я как припадочный бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнять задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся. Опираясь на локти, цепляясь за ветки, пополз я… После уже ничего не помню. Помню только — когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея… Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу… Он остановился, передохнул и медленно обвёл глазами весь зал. — Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло… И есть у меня ещё одна просьба к вам… Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного — героя безымённого… Вот даже и как звать его спросить не успел… И в большом зале тихо поднялись лётчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы — люди славных боёв, герои жестоких битв, — поднялись, чтобы почтить память маленького, никому не ведомого, героя, имени которого никто не знал. Молча стояли люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге…

 Евгений Воробьев
ЗЕЛЁНЫЕ РАКЕТЫ
Евгений Воробьев
ЗЕЛЁНЫЕ РАКЕТЫ
Рис. Ю. МолокановаТуман навалился на лес сырой тяжестью, и деревья стояли лишённые отчётливых линий, как за матовым стеклом. Прибылов шёл, внимательно всматриваясь в туман, высоко поднимая ноги, чтобы не шуршать опавшим листом. Туман этот был одновременно его сообщником и неприятелем: он укрывал от чужих глаз, но он же едва не предал Прибылова, оказавшегося вдруг у самых немецких блиндажей на опушке. Прибылов попятился, обошёл блиндажи стороной и углубился в лес. Шёл он быстро, но часто останавливался, прислушивался: в лесу стояла всё та же тишина, её нарушал только шелест листопада. Лесные прогалины заросли высокой, по-осеннему ломкой травой. Она стояла в обильной росе, так что колени у Прибылова стали совсем мокрые. Хорошо бы сейчас накинуть плащ-палатку, но, мокрая, она будет шуршать о траву, кусты, сучья; поэтому-то он ушёл в ватнике. Прибылов подумал о плащ-палатке и вспомнил все события вчерашнего дня. Он сидел в землянке и правил бритву, когда его вызвали к командиру. Побриться так и не пришлось. Вдвоём с командиром роты, молчаливым более обычного, они прошли в генеральский блиндаж. Приёма у генерала ждали два полковника, но адъютант сразу доложил о приходе разведчиков. Когда генерал здоровался с Прибыловым, он слегка задержал его руку в своей тяжёлой, жёсткой руке и внимательно вгляделся в его лицо. — Совсем молодой, — сказал генерал не то с удивлением, не то желая похвалить. Прибылову понравилось, что генерал подробно рассказал о боевой обстановке, многое ему доверяет. И от одного этого Прибылов пришёл в хорошее настроение. Ему понравилось также, что генерал-лейтенант разговаривал с ним, лейтенантом, как с равным, уверенный в его опыте и сообразительности — будто за картой сидели два командарма, — и не прерывал разговора колючими вопросами: «Понятно?» Речь шла об успехе наступления на этом участке фронта. Враг, опасаясь прорыва, стянул сотни орудий. Свирепая распутица остановила подвоз боеприпасов, и оба большака потеряли своё значение. В распоряжении немцев оставалась железнодорожная ветка, ведущая от рокадной магистрали к станции Хвойная. Завтра ночью партизаны подорвут мост. Прибылову следует позаботиться об эшелонах, которые успеют пройти по мосту до трёх часов ночи. Нужно пробраться через линию фронта, пройти лесом до железной дороги, проникнуть на станцию. Немцы боятся наших штурмовиков, а потому подают и разгружают эшелоны ночью. Нужно дождаться на станции эшелона и пустить две ракеты. Две зелёные ракеты — вот всё, что от него, лейтенанта Прибылова Бориса Петровича, требуется. Сигналы перехватят артиллеристы-наблюдатели, со вчерашней ночи живущие в лесу южнее Хвойной. Данные для стрельбы готовы, а каких-нибудь девять километров — не помеха для дальнобойных батарей. Артиллеристы накроют эшелон раньше, чем немцы успеют его разгрузить. Когда вопросы иссякли и всё стало ясно, генерал положил Прибылову руки на плечи и сказал, глядя ему прямо в глаза: — Вы сами понимаете, на что идёте. Но я вам приказываю… — генерал повысил голос, как бы подчеркнув это слово, — приказываю вернуться живым! На прощанье генерал спросил: — Холостой? — Семейный, — ответил Прибылов и смутился. Он понял, что не этот ответ хотелось услышать от него генералу. Ночью Прибылова должны были переправить через линию фронта. Сперва казалось, что не хватит времени на все дела, но сборы прошли быстро, и наступили часы вынужденного безделья. Время тянулось бесконечно: и не спится, и есть не охота. Прибылов вызубрил маршрут наизусть. Вглядится в карту, закроет её рукой и срисовывает на память. Его особенно интересовали дороги: не потому, что он собирался по ним ходить, но потому, что вынужден был их избегать. Разведчики ни о чём не расспрашивали, но понимали, что Прибылов отправляется на рисковое дело: беседовал с генералом, шоколада три плитки выдали на дорогу… Ночью Волобуев, Гаркуша и разведчик Шуйский, по прозвищу «Боярин», проводили Прибылова через линию фронта. Он простился с товарищами в темноте, не видя их лиц. Гаркуша сказал что-то с деланной весёлостью, чего Прибылов даже не запомнил. Шуйский, по обыкновению, промолчал. А Волобуев сказал значительно и строго: — Главное — о смерти не думай. Думай о жизни… О многом думал Прибылов, осторожно пробираясь по лесу, но мысли были какие-то растрёпанные, невесёлые. Он вспомнил, что не оставил Шуйскому обещанных кремней для зажигалки и тащит их сейчас зачем-то в кармане гимнастёрки, что не ответил на последнее Наташино письмо, что зря не попрощался с ребятами из соседней землянки. Потом внимание его привлекла почему-то осина. Все деревья поблизости стояли обнажённые, а эта всё ещё трепетала жёлтыми листьями, будто дрожала от холода. Интересно бы приметить место, сделать зарубку на стволе дерева, наведаться сюда через год и посмотреть, как осина будет вести себя будущей осенью: сбросит листву вместе со всеми или опять заупрямится. «Будущей осенью! — горько усмехнулся Прибылов. — Сообразил тоже! Загадывать на год вперёд, а до смерти четыре шага… Самое глупое — попасться сейчас, когда ещё ничего не сделано. После дела — куда ни шло. Но сейчас…» Он снова остановился, прислушался: только шелест умерших листьев и птичий гомон на верхушках деревьев, уже освещённых солнцем. Туман, процеженный сквозь лесную чащу, растворился. Прибылов стал лучше видеть, но и его самого можно теперь заметить издали. Весь день Прибылов шёл по лесу в обход станции Хвойная. Он правильно рассудил, что с запада подойти будет легче. Дальше от линии фронта — меньше патрулей, опасных встреч. В предвечерний час он вышел к железнодорожному полотну. Переходить через насыпь было рискованно, тем более что вдали справа виднелся семафор, поднявший железную руку, — очевидно, какой-то разъезд. Прибылов пошёл вдоль кромки леса. Не доходя до разъезда, он залёг за штабелем противоснежных щитов и решил дождаться темноты. Он лежал, с наслаждением вдыхая запахи железной дороги, манящие нас с детства. Ему несколько раз довелось видеть на фронте железную дорогу. Но то были ржавые рельсы, давно забывшие прикосновение колёс, — рельсы, едва видимые за травой, которая безнаказанно росла на щебёнке и чуть ли не на шпалах. Человек на войне привык к противному запаху гари и научился различать все его оттенки: от горелого тряпья и головешек до горелого мяса. Но паровозная гарь — необычного сорта. Смешанный запах каменноугольной смолы и нагретых букс — это мирные запахи, давно забытые, подобно аромату свежевыпеченного хлеба или назойливому душку нафталина. Прибылов дотемна пролежал за штабелем. Он не раз пригубил фляжку и основательно, второй раз за день, закусил, не очень-то считаясь с тем, что съел больше суточного пайка. «Мало ли что на трое суток, — подумал он, как бы возражая старшине роты. — Ты попробуй сперва проживи эти трое суток! А умирать на голодный желудок я не согласен…» Далёкое дыхание поезда заставило насторожиться. Послышался нарастающий гул; ему отозвались гудением рельсы. Паровоз шёл с прищуренными фонарями. Не доезжая семафора — он скорее угадывался, чем виднелся в предвечернем сумраке, — машинист начал тормозить, и под вагонами в неверном свете искр стали видны колёса. Грохочущий состав поравнялся с Прибыловым. Вагоны двигались медленно, тяжело подрагивая на стыках. Состав тащили два паровоза, шедшие один в затылок другому. Лишь несколько цистерн различил Прибылов на фоне тёмного неба. Все остальные вагоны — крытые, частью большегрузные. Сомнений не оставалось: снаряды. «Пусть себе идут, — решил Прибылов с облегчением. — Полежу полчаса, а потом дам ракеты вслед поезду. Куда он денется? И вовсе не нужно вылезать отсюда, из-за щитов, и идти на станцию. Не станут же разгружать снаряды в чистом поле». И до того соблазнительным показался этот план, что Прибылов готов был загодя вытащить из-за пазухи ракетницу. Но ещё раньше он едва не сгорел от стыда, поняв, что просто-напросто струсил и теперь ищет для себя оправданий. Между тем он чувствовал, что именно сейчас, когда вагоны движутся мимо, решается успех всего дела и он должен что-то предпринять. Патрулей Прибылов не видел, но можно было думать, что они торчат на всех тормозных площадках. Он принялся было считать вагоны, но сбился со счёта и внезапно подумал: «А что, если подъехать до Хвойной?» Прибылов устал, и ему очень не хотелось брести дальше пешком. Кроме того, поездка избавляла от поисков станции в темноте. А самое важное — он может опоздать. Немцы выгрузят, развезут снаряды и оставят его в дураках. Вряд ли Прибылов успел взвесить все «за» и «против» — скорее всего, он принял решение, повинуясь чутью разведчика. «Двум смертям не бывать, — успел он подумать, — а от одной вряд ли отвертеться. Только чтобы не по-глупому, не раньше времени…» Он рванулся к движущейся стене вагонов, ухватился за ускользающие поручни, в два прыжка вскочил на тормозную площадку и тотчас же наткнулся на часового. Тот сидел на скамеечке сгорбившись, засунув руки в рукава, зажав карабин между коленями. Прибылов не дал ему встать и умело использовал оба свои преимущества: внезапность и свободу движений, присущую человеку, который твёрдо стоит на ногах.

Он выхватил карабин и обрушил его кованым прикладом на голову немца. Тот был без каски, и участь его решилась мгновенно. За ступеньками — откос, и не слышно ничего, кроме перестука колёс и натужного скрипа буферов…

Оставшись на площадке один, Прибылов унял сердцебиение, закутался в плащ часового, подобранный на полу, и уселся в той же позе, упёршись коленями в борт тормозной площадки. Чувствовал он себя уверенно и был сейчас обеспокоен поездкой не больше, чем в детстве, когда ездил зайцем на дачном поезде. Эшелон осторожно миновал несколько стрелок. Машинист начал тормозить. И Прибылов понял, что попал на Хвойную. Он соскочил с подножки, отполз в сторону и спрятался под вагоном, одиноко стоящим на соседнем пути. Хорошо бы выяснить, есть ли ещё гружёные составы, но разгуливать сейчас по станции опасно, тем более что охрана в любую минуту может хватиться исчезнувшего часового и забить тревогу. Прибылову не терпелось подать сигнал и бежать обратно в лес. Но может прийти ещё эшелон, и обидно, если он уцелеет. На станции было тихо, только вдали попыхивали паровозы, будто хотели отдышаться после бега. Кто-то прошёл с фонарём вдоль состава — и опять тишина… Лёжа под вагоном, он ещё раз с удовольствием ощупал заряженную ракетницу, лежащую за пазухой. Никто теперь не помешает ему выполнить приказ, и что бы ни ждало его дальше, — он даст две зелёные ракеты и вызовет на себя огонь. «Интересно знать, как обо мне сообщат Наташе: „Пропал без вести“ или „Пал смертью храбрых“?» — горько подумал он и опять вспомнил, что перед уходом не ответил на последнее её письмо. Боялся, что ответ будет натянутым. Сообщать об опасном задании не хотелось, чтобы письмо не выглядело прощальным. «Когда я сажусь ужинать, — писала Наташа, — то ставлю на стол две тарелки, две чашки. Ты не сердись на меня: я стала совсем глупенькая от любви к тебе и одиночества. Мне всё кажется, что вот откроется дверь и ты войдёшь, как всегда весёлый, шумный, проголодавшийся, и сразу же сядешь ужинать». Прибылов поёжился, глубже засунул руки в рукава ватника. Ему было сладко думать, что Наташа спит сейчас в тёплой постели, ей ничто не угрожает, в комнате тихо, только прилежно тикают часики. Ложась спать, она любит класть эти часики под подушку. Кстати, который час теперь? Светящиеся стрелки показали половину третьего. Прибылов долго вслушивался в ночь. Тишина. Он уже отчаялся что-нибудь услышать, как издали донёсся глухой взрыв. — Был мост, и нет моста, — радостно подумал он вслух. Хорошо подать сигнал, но, может быть, ещё один эшелон успел пройти через мост и сейчас где-нибудь в пути? Около четырёх часов утра Прибылов выполз из-под вагона и посмотрел на небо. Рассвет ещё не коснулся его, но звёзды потускнели. Дальше ждать опасно, сигнал будет плохо виден. Поездов больше не было. Где-то вдали слышался едва различимый шум моторов: по дороге шла автоколонна. Может быть, за снарядами? Он вынул ракетницу и поднял её над головой. Не сразу удалось унять дрожь руки — волнуется или продрог? Прибылов затаил дыхание, совсем как при стрельбе в цель. Уж не собирается ли он попасть ракетой в ковш Большой Медведицы? Две ракеты, одна за другой, поднялись в небо с зелёным шипением, и стоявшие рядом товарные вагоны окрасились на несколько секунд в цвет классных.

Тревога прокатилась по станционным путям, треща одиночными выстрелами и очередями. Пронзительно залился кондукторский свисток. Паровозы переговаривались между собой испуганными гудками. «Самое глупое было бы попасться сейчас, когда всё сделано», — лихорадочно подумал Прибылов. Он юркнул обратно под вагон, выскочил с другой стороны и пустился наутёк подальше от эшелона. Он дрожал, хотя не чувствовал ни холода, ни страха. Ведь самое трудное позади, самое трудное! Неужели не отвертеться? Впереди показались какие-то едва различимые станционные постройки и чёрный профиль водокачки. Куда бежать? Где найти лазейку в колючей проволоке, которой, как он знал, оцеплена вся территория станции? Прибылов остановился, чтобы перевести дыхание, собраться с мыслями, но тут его внимание привлёк нарастающий свист. Он не успел сообразить, в чём дело, как уже ударило вблизи жёлто-лиловое пламя. Звук разрыва был неожиданным, как грохот поезда, который грубо рванул с места машинист. Не успел улечься разноголосый посвист осколков, как уже ударил с чудовищной силой второй снаряд, третий, четвёртый… — Давай, давай! — заорал Прибылов в радостном исступлении, забыв о всякой осторожности. Будто он стоял на батарее рядом с орудием и номера расчёта слышали его срывающийся голос. Сейчас в этой смертельной кутерьме легче было улизнуть от неминуемой облавы, и он побежал дальше, припадая к земле, когда свист снаряда переходил в зловещий шелест, предвестник близкого разрыва.

Очевидно, на далёких батареях знали своё дело, а батарей этих было немало, потому что над всей станцией бушевал огонь. Один снаряд ударил в водокачку так, что отлетела кирпичная макушка. Прибылов понял, что опоздал: не мог человек пройти невредимым сквозь такой огонь. «Эх, не думал, что придётся лечь от своего осколка… Самое обидное! В бою — куда ни шло, но так…» Где-то впереди, низко над землёй, заметался огонёк. Он шарахался из стороны в сторону, описывая одну и ту же дугу: кто-то бежал с фонарём в руке. Прибылов бросился вдогонку за незнакомцем. Тот, конечно, не станет сейчас приглядываться, не до того, а бежать в компании с немцем — безопаснее. Человек с фонарём пробежал мимо будки стрелочника, перепрыгнул через шпалы и нырнул куда-то в подземелье. Прибылов постоял какую-то долю секунды на верхней ступеньке, всматриваясь в полоску света под дверью, внизу. Он провёл пальцами по пилотке, убедился, что она повёрнута звёздочкой на затылок; ещё плотнее, на самые глаза, натянул капюшон плаща, спрятал гранату за отворотом ватника, решительно сбежал по ступенькам и открыл дверь. Погребок обдал его затхлым теплом. Кондукторский фонарь на полу подпрыгивал при каждом разрыве. Вокруг фонаря сидели на корточках несколько человек, очевидно железнодорожники. Они сидели с раскрытыми ртами, как рыбы, вытащенные на берег. Появление нового человека ни у кого не вызвало интереса. Один из сидевших на полу спросил его что-то по-немецки, но Прибылов только махнул рукой, ничего не ответил, и немец этому не удивился. Прибылов сел на пол, сжал голову руками и легко мог сойти за человека невменяемого, ошалевшего, контуженного. «А в землянке у нас сейчас тепло, уютно, — подумал Прибылов с тоской. — Ребята, наверно, спят, а может, Гаркуша и Волобуев опять затеяли спор о том, что вкуснее: галушки или пельмени?» Каждый пытался привлечь лейтенанта на свою сторону, но Прибылов придерживался строгого нейтралитета, и спорщики порешили на том, что после войны он обязательно приедет сперва на Полтавщину, в гости к Гаркуше, а потом на Урал, в таёжную Чердынь, к Волобуеву, для того чтобы решить затянувшийся спор о галушках и пельменях. «Хорошо бы дожить до конца войны, — замечтался Прибылов, — самому увидеть с улицы своё освещённое окно на третьем этаже. Прожить три дня после мира, а потом и умереть… Нет, тогда умирать и вовсе не захочется. Столько мучиться — и три дня. Когда так хочется жить!..» Погребок ходил ходуном при каждом разрыве, фонарь мигал, потом его подбросило взрывной волной, и он потух. Прибылов поднялся наверх, и зарево пожара весело встретило его. Эшелон горел сразу в нескольких местах. Станционные постройки тоже были охвачены огнём. Снаряды рвались пачками, очевидно ящиками. Несколько цистерн с горючим разорвало в клочья. Они оказались очень кстати, эти цистерны, как будто кто-то прицепил их специально для растопки. Крики доносились откуда-то издали: никто не рискнул тушить это стреляющее пламя. Обстрел прекратился так же внезапно, как начался, и Прибылов, не мешкая, зашагал прочь от горящей станции к лесу, черневшему поодаль. Он благополучно перелез, никем не замеченный, через колючий забор и скрылся в предрассветном лесу. Прибылов шёл с опаской, часто останавливался, прислушивался. Самое глупое было бы нарваться на немцев сейчас, когда всё вышло так удачно и просто. Ощущение счастья овладело всем его существом. Какое блаженство сознавать, что долг выполнен и самое опасное, тяжёлое — позади! У Прибылова было такое чувство, будто он всю дорогу тащил что-то очень тяжёлое, вроде плиты миномёта, и только сейчас освободился от ноши. Он и в самом деле с наслаждением повёл сильными плечами, как бы желая убедиться, что ничто не стесняет его движений, не мешает жить. И мысли сейчас всё шли какие-то лёгкие, весёлые. Он весело подумал, что хорошо бы сегодня вечером подбить двух дружков на нескончаемый спор о галушках и пельменях, что, наверно, от Наташи пришло и ждёт его новое письмо и что его, вероятно, наградят теперь вторым орденом. Он уже ясно представлял себе, как стоит и рапортует генералу о том, что приказ выполнен по всем статьям. Впрочем, откуда он взял, что генерал обязательно вызовет его? Нет у генерала других, более важных дел?.. Луна освещала берёзы мертвенным светом, и кора их была сейчас белее, чем днём. Листья падали, как хлопья снега, и земля, устланная ими, тоже была белой, словно Прибылов шагал по пороше. Он вышел к знакомой «калитке» в нашем минном поле ещё до рассвета. Он шёл не спеша и старался лучше приметить дорогу, потому что решил на днях снова отпроситься сюда в разведку. Когда часовой из боевого охранения окликнул Прибылова, он ответил каким-то чужим, незнакомым ему самому голосом и был удивлён, что часовой сразу узнал его. Прибылов был готов поверить тому, что за эти двое суток изменился до неузнаваемости, вплоть до голоса, походки, всех своих вкусов и привычек. Только его любовь к жизни оставалась неизменной.

 Николай Тихонов
ХРАБРЫЙ ПАРТИЗАН
Николай Тихонов
ХРАБРЫЙ ПАРТИЗАН
Рис. А. ЛурьеВо время гражданской войны в горах Северного Кавказа произошёл такой случай. Пришлось отступать партизанам перед большими силами белых. Решили партизаны уйти подальше в горы. Но белые наседали — того и гляди догонят. А партизанам нужно взять в горы семьи и скот. На совете один молодой партизан выступил и сказал: — Товарищи, спокойно делайте свои дела. Я задержу белых на целый день, а может, и больше. — Не один же ты их задержишь? Кто будет с тобой? Мы не можем выделить большой отряд. — Я задержу их один, — сказал партизан, — мне не нужно никого и никакого отряда. — Как же ты их задержишь? — спросили его остальные партизаны. — Это моё дело, — ответил он. — Даю вам слово, что я задержу, а моё слово вы все знаете. — Твоё слово мы знаем, — сказали партизаны и начали готовиться к походу. Они все ушли, а молодой партизан (его звали Данел) остался. На скале, возвышаясь над узкой тропкой, стояла старая башня, в которой он жил с матерью. Когда все ушли, он пришёл к матери, старой, но сильной женщине, и сказал: — Мать, мы будем с тобой защищать путь в горы и не пропустим белых. — Хорошо, сын, — ответила мать. — Скажи, что мне надо делать. Тогда Данел собрал всё оружие, что было у него в башне. Оказалось, что у него есть три винтовки и два старых ружья. Есть и патроны, но не очень много. Он положил винтовки и ружья в разных окнах башни, направил все их на тропу в определённое место и зарядил. — Смотри, — сказал он, — я буду стрелять, а ты заряжай ружья. Ты умеешь заряжать ружья? Старушка улыбнулась и сказала: — Старые умею хорошо, новые ты мне покажешь. И он поцеловал её в ответ и показал, как заряжать винтовки. Затем она пошла к ручью и принесла воды в кувшине. — А это зачем? — спросил сын. — А это — если ты захочешь пить или тебя ранят, вода пригодится. Не успели они покончить с приготовлениями, как на тропе показались белые. Впереди отряда ехали два статных всадника с красными башлыками на спине. Серебряные газыри блестели на их черкесках, кинжалы у пояса, шашки по бокам, винтовки за плечами. Бурки были свёрнуты и привязаны к седлу сзади. Ехали они, не думая, что старая башня чем-нибудь угрожает. Они ехали и смеялись над партизанами. Данел прицелился и выстрелил два раза. Когда дым рассеялся, он увидел, что всадников на тропе нет. И кони и всадники упали с обрыва в реку. Тогда те, что ехали сзади всадников, остановились и стали совещаться. Они стреляли по башне, но у башни были такие старые, толстые стены, что никакими пулями нельзя было их пробить. Тогда несколько всадников пустили лошадей вскачь, но Данел заранее положил на тропе большие камни, и лошади перед ними остановились. Ещё два всадника упали с сёдел вниз головой. И мать Данела зарядила ему снова винтовку. A oil стрелял из разных щелей и окон, чтобы казалось, что в башне много народу. Тогда белые стали непрерывно стрелять по башке. Пули так и свистели по карнизам. Иные залетали в башню и ударяли в стену с противным визгом. Данел стрелял метко. Он целился спокойно и никого не подпускал к башне. Все, кто пробовал пройти по тропе, были ранены или убиты. Тогда белые пришли в страшную ярость, и два смельчака спустились с обрыва в реку и, держа в зубах кинжалы, переплыли реку и стали взбираться по острым уступам к башне с другой стороны. Их не видел Данел, но его мать увидела. Она тотчас же, не говоря ему ничего, стала следить, как лезли с тыла эти белые. Она взяла старинное ружьё и выстрелила в белых. И когда один из них упал в реку, другой растерялся, неловко схватился за камень и полетел вниз вслед за первым. Когда белые увидели это, они прервали бой и стали совещаться. — Несомненно, — сказали они, — в башне опытный отряд, который держит всю местность под обстрелом. Стреляют и снизу, и сверху, и с тыла. Что будем делать? — Надо подождать пушку, пушка сразу разрушит башню, — сказали одни белые. Но другие не согласились: — Пушку некуда поставить, пушка сорвётся в пропасть. Пушка тут не поможет. И они опять начали сражаться и ранили Данела в руку. Мать перевязала ему руку и, пока он отдыхал, стреляла сама, и очень метко. Тогда белые снова начали совещаться. — Давайте сделаем так, — сказали они: — пушку не будем вызывать, но их напугаем пушкой. «Пошлём к ним для переговоров человека без оружия и скажем, что если они не дадут дороги, то мы их всех убьём из пушки». Это предложение понравилось белым. И вот Данел увидел, что по тропе к башне идёт человек, снимает с себя винтовку, шашку, кинжал и кладёт всё на камни. — Эй, — кричит он, — выходи кто-нибудь, ничего не будет, разговор имеем небольшой! Данел говорит матери: — Я пойду разговаривать, а ты следи и, чуть что, стреляй. Ты устала, наверно, матушка, — сражаемся ведь целый день… — Данел, Данел, — сказала мать, — с белыми волками я готова всю остальную жизнь сражаться, чтобы их всех перебить. Я не пью и не ем, я сыта нашей победой. — Вот ты какая у меня! — сказал Данел и стал спускаться к тому белому, что ждал его у камней. Данел встал по другую сторону камней и говорит: — Что надо, что скажешь? — Что скажу? Одно скажу — давайте нам дорогу, а не то всех вас перебьём. Весь ваш отряд с тобой вместе. — Если ты только за этим пришёл, можешь обратно идти, — говорит Данел. — Нет, я имею предложение! — Какое ты имеешь предложение, говори. — Если вы не откроете дорогу нашему отряду, мы доставим сейчас пушку и всех сразу повалим: и вас всех, и башню вашу паршивую… — Дай подумать, — сказал Данел, посмотрев на небо. День уже склонялся совсем к вечеру. Он подсчитал в уме, сколько осталось патронов, — патронов осталось очень мало. Он сказал: — Ну хорошо, мы дадим вам дорогу при одном условии. — Говори своё условие. — Мой отряд держит эту дорогу до темноты. Как будет темно, мы уйдём. И пусть будет дорога ваша. Белый очень обрадовался, думая, что партизан испугался его пушки. И, радуясь тому, что он так ловко обманул партизана, он как бы нехотя сказал: — Хорошо, пусть так и будет. Мы отдохнём до ночи, но тогда вы уж убирайтесь немедленно, или вам всем будет худо. С этими словами белый пошёл к своим, а Данел вернулся в башню. Когда стало совсем темно, он привёл к башне коня, навьючил на него винтовки, посадил свою мать и отправился в горы. А белые, боясь засады, целую ночь стояли на месте. И когда они утром двинулись в горы, в долине никого уже не было. А за это время партизаны хорошо укрепили свои новые позиции.

 Николай Тихонов
РУКИ
(Из цикла «Ленинградские рассказы»)
Николай Тихонов
РУКИ
(Из цикла «Ленинградские рассказы»)
Рис. Б. КоржевскогоМороз был такой, что руки чувствовали его даже в тёплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны. Много он видел дорог на своём шофёрском веку, но такой ещё не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто ты двужильный. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, — уже кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовёт. Тут не скажешь: дело не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете: проси товарищей вытаскивать — самому не вызволить, и думать об этом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришёл на эту лесную дорогу регулировщиком. То наползёт туман, то дохнёт с Ладоги ветер, каких он никогда не видел, — пронзительный, ревущий, долгий. То начнётся пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные — сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим; и главное — груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз? Большаков остановил машину, вылез из кабинки и, тяжело приминая снег, пошёл к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке сбегает непрерывная струйка. Холодок прошёл по его спине. Цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошёл. Горючее вытекало. Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы к тому же привезти к месту пустую цистерну? Он вспоминал все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять и просто смотреть — этим делу не поможешь. Проваливаясь в снег, он пошёл к кабинке. Политрук сидел, подняв воротник полушубка, уткнув замерзающий нос в согретую его дыханием овчину. — Товарищ политрук, — позвал Большаков, — придётся побеспокоить. — А что, разве мы приехали уже? — спросил политрук, мгновенно пробудившись. — Выходит, приехали, — сказал Большаков. — Цистерна течёт. Что будем делать? Политрук вывалился из кабинки. Он протирал глаза, спотыкался, но когда увидел, что случилось, стал задумчиво хлопать рука об руку, соображая, потом сказал: — Поедем до первого пункта, там сольём горючее, в ремонт пойдём. Так? — Да оно как бы и не так, — сказал Большаков. — Как же оно так, если мы горючее не куда-нибудь, а в Ленинград, фронту, срочно везём! Как же его просто сольёшь? Его не сольёшь; — А что ты можешь? — сказал политрук, смотря, как скатывается бензиновая струйка вдоль разошедшегося шва. — Разрешите попробовать — чеканить его буду, — ответил Большаков. Он открыл ящик со своими инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был как раскалённый. Но Большаков храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, и влез на борт. Бензин лился ему на руки, и бензин был какой-то странный. Он жёг ледяным огнём. Он пропитывал насквозь рукавицу, он просачивался под рукава гимнастёрки. Большаков, сплёвывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь. Вздохнув, он пошёл на своё место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошёл смотреть цистерну. Шов разошёлся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было всё начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь. Дорога была бесконечной. Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины; он уже перестал чувствовать боль ожогов бензина; ему казалось, что всё это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по руке бензин. Он в уме подсчитал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчётам выходило, что не очень много — литров сорок, пятьдесят. Но если бросить чеканить через каждые десять, двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал всё сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве. Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте, и каждые сорок минут он хватает зубило, а щель всё ширится и смеётся над ним и его усилиями. Неожиданно за поворотом открылись пустые, странные пространства, огромные, неохватные, белёсые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже не было страшно. Он вёл машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стукался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него — замёрзшего, усталого существа — жила одна непонятная радость: он твёрдо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен. …В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облезшей кожей, изуродованные, сожжённые руки, и сказал недоумевающе: — Что это такое? — Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал Большаков, сжимая зубы от боли. — А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете: в такой мороз так залиться бензином… — Остановиться было нельзя, — сказал он. — Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин? — В Ленинград вёз, фронту, — ответил он громко, на всю землянку. Доктор взглянул на него пристальным взглядом. — Та-ак, — протянул он, — в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо. — Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром — в дорогу… В бинтах ещё теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмём…

 Лев Линьков
ПО СЛЕДУ
Лев Линьков
ПО СЛЕДУ
Рис. И. ЛонгиноваПосле полудня на заставу приехал комендант пограничного участка капитан Иванов. Спрыгнув с разгорячённого Орлика и передав его коноводу, капитан принял рапорт начальника заставы, поздоровался и, оглядевшись, словно ища кого-то, спросил: — Вернулся? — Пока нет! — сумрачно ответил Яковлев. Отогнув обшлаг рукава, Иванов посмотрел на часы. Было два часа дня. — В пятнадцать часов минет полсуток, — добавил начальник. — Да-а… — протянул капитан. — Все заставы предупреждены, заблудиться он не мог… Командиры прошли в канцелярию. Яковлев доложил коменданту, что усиленные наряды, посланные на поиски по всему участку заставы, не обнаружили никаких следов пропавшего пограничника, да если они и были, то их давно размыл дождь, ливший три часа кряду. Оставалось предположить, что ночью с Серовым приключилась беда. Может быть, он повстречался с какими-нибудь матёрыми нарушителями границы, которым удалось его ранить и увезти с собой как «языка», могли и убить… Всё это было возможно, но не хотелось думать, что с таким находчивым и опытным пограничником, как Ермолай Серов, стряслось несчастье. В отряде Ермолая считали лучшим следопытом. За полтора года Серов задержал шпионов и диверсантов больше, чем другие. — Везёт парню! — говорил кто-нибудь, когда Серов приводил на заставу очередного нарушителя. Но дело было вовсе не в случайностях. Серов отлично изучил участок заставы, включая большое болото. Он точно знал, где можно пробраться через болото ползком на животе, где нужно прокладывать жерди, чтобы не увязнуть, а где можно пройти по пояс в густой жиже. Он знал каждый пенёк и каждую кочку, знал, можно ли за этими кочками и пнями спрятаться человеку. Пожалуй, во всём отряде никто не мог лучше его «читать» следы, оставляемые на земле и снегу птицей, зверем и человеком. Он сразу видел, кто тут пробежал: коза или кабан. У кабана своя привычка — обязательно по дороге копать землю. По чуть заметной разнице в глубине следов Ермолай определял, что зверь хромает на левую ногу, а взглянув на оттиски распущенных ослабевших пальцев, говорил наверняка: «Прошёл старый тигр». Великолепно Ермолай разбирался и в следах человека. Он сразу узнавал сдвоенный след и по малейшим вмятинам у пятки безошибочно определял, как шёл нарушитель: лицом вперёд или пятясь назад. Новички были буквально поражены, когда однажды, обнаружив на границе следы нарушителя, Серов описал не только внешность этого человека, а рассказал чуть ли не всю его биографию: — Нарушитель высокого роста, он прошёл сегодня утром после восьми часов, у него плоскостопие, он прихрамывает на левую ногу, косолапит, идет издалека, устал, нёс что-то тяжёлое, ему лет так пятьдесят. По-видимому, охотник, в лесу привычный. И по этому описанию, переданному по телефону на соседнюю заставу, в семи километрах от границы пограничники задержали опытного шпиона. — Как ты обо всём этом догадался? — спросили позже товарищи у Серова. — Что, он портрет тебе свой оставил? — А зачем мне портрет, когда и так всё как на ладони, — улыбнулся Ермолай. — Гляжу на след. У внутреннего края стопы почти нет выемки — подъём, значит, низкий, ступня плоская. Левый след меньше вдавлен, будто человек боялся ногу твёрдо ставить, — хромает, значит. У пяток наружные края сильнее вдавлены, а носки сближаются — косолапый человек. Шаг — шестьдесят сантиметров. У пожилых да у женщин шестьдесят пять бывает, у здорового мужчины — семьдесят, а то и восемьдесят, а этот, мало того, что пожилой, груз тяжёлый нёс издалека и потому устал изрядно. — А как ты узнал, что он охотник, да ещё высокий? — Я же говорю, по следу, — спокойно продолжал Серов. — Линия походки прямая — значит, человек ногу перед собой выбрасывал. Так ходят военные да охотники: кто мало ходит, тот в стороны ноги ставит. — Высокий-то почему? — спрашивали новички, окончательно поражённые убедительными доводами Серова. — Ведь у высоких людей шаг должен быть шире. Откуда ты узнал, что он высокий? — Ветку он плечом надломил — вот откуда. — А почему после восьми часов? — Потому что дождь кончился в семь часов. До восьми земля успела подсохнуть, а если бы шпион прошёл до дождя, то вода сгладила бы кромку следов… Не сразу постиг всю эту премудрость Ермолай. День за днём учил его Яковлев искусству следопыта и наконец сказал, что ему самому пора у Ермолая учиться. И вот лучший следопыт заставы исчез, словно канул в воду. Вечером он присутствовал в комендатуре на заседании бюро комсомольской организации, после чего направился обратно на свою заставу и пропал. С каждым часом, становилось всё меньше надежд на его возвращение. Сведения, которые подтвердили бы, что Серов попал в руки к врагам, можно было получить не раньше вечера, и Иванов решил остаться на заставе ждать известий. Дробные голоса водяных курочек и свист камышовки известили о приближении сумерек. Яковлев направлял на участок границы ночные наряды. Иванов, молча наблюдая за давно знакомой процедурой, мысленно перебирал, все возможные варианты поисков Серова. Остаётся одно: «прочесать» весь участок комендатуры. Вдруг распахнулась дверь, и поспешно вошедший старшина возбуждённо доложил: — Ермолай Серов прибыл! Ермолай шёл медленно, сгибаясь под тяжестью привязанного за спиной человека. Увидев Серова, пограничники, чистившие у конюшни сёдла, побежали ему навстречу. Серов остановился, широко расставив ноги и тяжело переводя дыхание. Фуражка сползла ему на лоб. Верёвка, перекрещивающая грудь, сдавливала шею, отчего сухожилия напряглись и вздулись. И брюки, и гимнастёрка, и даже фуражка — всё было покрыто слоем грязи, на сапогах грязь налипла огромными комьями. На лбу Ермолая кровоточила глубокая царапина, глаза были воспалены. Одной рукой он оттягивал верёвку, чтобы не резала плечо и шею, в другой держал винтовку. Товарищи сняли со спины Ермолая связанного по рукам и ногам человека. Это был здоровяк, на голову выше Серова; левая штанина его, туго перекрученная выше колена верёвкой, потемнела от крови. Одежда неизвестного тоже была в грязи. Увидев подходивших коменданта участка и начальника заставы, Серов выпрямился: — Товарищ капитан, разрешите доложить? — Докладывайте. Ермолай коротко сообщил, что в тридцати километрах от заставы он догнал и задержал вот этого самого нарушителя. Задержанного развязали. Он громко стонал и не мог стоять на ногах. Его отнесли сделать перевязку. — Накормить товарища Серова обедом! — приказал Яковлев, любовно глядя на Ермолая. Иванов попросил самым подробным образом изложить, как Серов задержал нарушителя. Но даже в подробном рассказе у Ермолая всё выглядело как нельзя более просто… На тропке, километрах в трёх от границы, он обратил внимание на след лошади. След вёл в тыл, к болоту. Лошадь показалась Серову подозрительной: она шла, не то шагом, не то рысью и так аккуратно ступала, что спереди у следа даже не было срыва. Вскоре Ермолай ещё больше насторожился. На болоте появились кочки. Ермолай прыгнул на одну из них, кочка едва выдержала его, а под лошадью даже не осыпалась. Да и к чему бы коню скакать с кочки на кочку? Тринадцать километров шёл Серов по тайге, полянками, болотом и снова углубляясь в тайгу. Наконец след вывел его к шоссе и исчез. На шоссе ни души. Куда же свернуть: направо или налево? Серов нагнулся, тщательно всматриваясь в траву. Опустился на колени, прополз несколько шагов. Налево! Нарушитель пошёл налево. Вот здесь он очищал с сапог о траву болотную грязь. Грязь ещё сырая, не успела обсохнуть. Значит, совсем недавно останавливался человек. Здесь он шёл обочиной — на стеблях травы ещё комочки грязи. Налево! Ермолай побежал по шоссе. За поворотом метрах в трёхстах шёл какой-то высокий человек в форме железнодорожника. Ермолай догнал его и остановил резким окликом: — Гражданин, вы потеряли… Железнодорожник оглянулся. — Что вы говорите? Ермолай наставил на неизвестного винтовку. Железнодорожник медленно поднял руки и удивлённо спросил: — Ты что это, батенька, играть вздумал? Сознание возможной ошибки заставило Серова покраснеть, но он упорно стоял на своём. — Давайте документы, бросайте сюда! — топнул Ермолай о землю. — На разъезд надо, опоздаю, — сказал железнодорожник, засовывая руку в карман. В отдалении прогудел паровоз. — Слышишь? Опоздаю. Незнакомец собрался было вытащить руку, но Серов переменил решение: — Не вынимай руку! Ему показалось, что карман у железнодорожника как-то странно оттопырился — возможно, там пистолет. Вторично, уже совсем близко за сопкой, раздался гудок паровоза. — Я опоздал. Вы будете отвечать, — вновь переходя на «вы», сказал железнодорожник. — Я обходчик пути, меня ждут на сто пятой дистанции. Он назвал посёлок, из которого шёл, фамилию председателя поселкового Совета. Если пограничник бывал в посёлке, то должен знать и его тестя Филиппа Сорокина — дом его под зелёной крышей. Ермолай молча слушал и соображал, что ему делать. Не проверив документы, вести железнодорожника на заставу? Но какие основания задерживать человека далеко от границы, основываясь на одних предположениях? — Зачем вы лазили по болоту? — неожиданно спросил Ермолай. Железнодорожник глянул на свои сапоги и на сапоги Серова. — Я поливал огород. — Пойдёмте! — Никуда я не пойду. Проверьте документы, — намереваясь вынуть руку из кармана, рассерженно проговорил железнодорожник. — Не вынимайте руку! Пойдёмте! — Куда же это идти? — глядя на винтовку, спросил обходчик. — Откуда пришли. Пойдём болотом. — Я не шёл никаким болотом, — делая несколько шагов, проговорил обходчик. — Левее, — указал Ермолай движением винтовки в сторону тайги. — Пойдёмте до разъезда, там вам сразу скажут, кто я такой. — Левее! — настойчиво повторил Ермолай. — Ваш след, идём по вашим следам, — сказал он, мельком взглянув на отпечатки копыт.

— Вам это так не пройдёт! — проворчал обходчик, отстраняя упрямую ветку. Согнутая ветка с силой выпрямилась, ударив по лицу идущего сзади Ермолая. Ермолай невольно зажмурился. Только на один миг кустарник скрыл от него фигуру задержанного. Серов стремительно присел, и тотчас в ствол ели, чуть повыше его головы, впилась пуля. Ермолай один за другим разрядил два патрона и, резко оттолкнувшись, прыгнул в сторону. Шум кустарника указывал направление, по которому бежал обходчик. «Шпион!» — Ермолай послал ему вдогонку ещё две пули и укрылся за стволом берёзы. Три пули ударились в дерево с противоположной стороны; одна из них прошла почти насквозь, отщепив кусочек древесины. — Дальше болота не уйдёшь! — прошептал Ермолай, поняв, что обходчик взял круто влево. Всё остальное, по рассказу Серова, было совсем обычно. В болоте он ранил нарушителя в ногу, и тот едва не захлебнулся, будучи не в силах выбраться из воды. Серов связал раненого по рукам и ногам верёвкой, которую всегда носил при себе, и вытащил на сухое место. На пути не было никаких селений, и оставалось одно: взвалить нарушителя себе на спину и тащить. Отдыхая каждые пять минут, Серов прошёл последние восемь километров за восемь часов. Из своих рук поил врага и два раза делал ему перевязку. — Но почему вы решили, что именно он шёл на копытах? — спросил комендант. — От болота я вернулся на опушку — копыта лежали там в кустах. — А как же вы их разыскали? — Он сам показал, понял: я помер бы вместе с ним в болоте, а без копыт на заставу не пошёл, — улыбнулся Ермолай. — Выходит, вы тащили его обратно? — Тащил. — Выходит, выходит… вы тащили его… восемь плюс два и ещё два, всего плюс четыре… вы тащили его двенадцать километров? — Так те же не в счёт, товарищ капитан, они обратные, — искренне изумился Ермолай…

 Николай Жданов
КРОВЬ ЛЕЙТЕНАНТА
Николай Жданов
КРОВЬ ЛЕЙТЕНАНТА
Рис. ЛонгиноваНочью выпал снег. И теперь окрашенные утренним солнцем горы казались неправдоподобно красивыми — розовыми на вершинах и нежно-синими в не освещённых солнцем местах. Внизу, в долине, медленно клубился туман — полупрозрачный, лёгкий и, должно быть, тёплый, как дыхание. Небо, чистое и высокое, мягко светилось, как бы искрилось, хотя звёзды уже не были видны на нём. — Поди ж ты, красота какая, а! — сказал Дёмин, с удовольствием оглядывая один за другим обрывистые склоны и испытывая давно забытое чувство покоя. Он неторопливо обошёл неширокое плато, исследуя спуски. Их было два: один — со стороны крутой каменной скалы, по которой они спустились ночью, другой — на противоположной стороне плато, в небольшой горной щели. Этот последний был особенно узким, обрывистым. Из-за снега нельзя было даже толком разобрать: тропа это или русло дождевого ручья. Он пошёл к маленькой, запорошённой снегом палатке, где, втянув в полушубок ноги и голову, ещё спал Патрикеев. — Вставайте! — сказал ему Дёмин. — Кофей кипит, булочки пережариваются! Он подумал, что и в самом деле неплохо было бы поесть теперь, и, достав из рюкзака банку с консервами, принялся расковыривать её штыком. Приятное, лёгкое чувство не оставляло Дёмина. Он ещё раз с удовольствием огляделся вокруг. За краем скалы, внизу, влево от себя, он увидел кусок обкатанной горной дороги. В одном месте под скалой, где не было снега, ясно виднелась выбитая в камне колея. Дёмин оставил банку и штык и, подойдя к обрыву, принялся внимательно разглядывать дорогу. Да, несомненно, это и есть путь через перевал. Вчера они с Патрикеевым выбрались на это плато уже в полной темноте, и он не успел как следует сориентироваться. Дёмин достал двухвёрстку и нашёл на ней окружающие холмы. «Если это дорога через перевал, — рассуждал он, — а это безусловно так, — значит, плато, на котором мы сейчас находимся, и есть тот самый Орлиный Залёт, где должен быть отряд Джавашидзе». — Патрикеев, что вы натираетесь снегом, будто турист какой? Подите сюда. — Есть идти сюда, — весело отозвался Патрикеев. Растёртое снегом лицо его сияло, и глаза выражали весёлую готовность действовать. — Вы помните приказ майора Роева? — строго спросил Дёмин. — Повторите мне слово в слово. — Пробраться на плато Орлиный Залёт и передать находящемуся там отряду, что приказано держаться при любых условиях до подхода наших подразделений, — твёрдо отчеканил Патрикеев. — Подождите… «находящемуся там»? За это вы ручаетесь? — Ну, что вы, товарищ лейтенант, да я этот приказ лучше своей фамилии помню. — Так. Значит, «находящемуся там», — медленно повторил Дёмин. — Ну, а если этот отряд там не находится? — То есть обязательно находится, — торопливо заговорил Патрикеев, ещё более краснея от возбуждения. — Они ещё вчера должны были быть там. Только они не знают, что держаться им надо во что бы то ни стало. Потому тот Орлиный Залёт дорогу через перевал, как в руках, держит, и кто на нём есть, тот и к морю выход имеет. — Ишь, говорить-то, оказывается, артист, — думая о чём-то своём, заметил Дёмин и, вновь подойдя к обрыву, стал напряжённо всматриваться в даль. — А если я вам скажу, что Залёт этот тут и есть, где мы с вами стоим, тогда что?.. Глядите, — перебивая самого себя, позвал он Патрикеева, — идут! Действительно, внизу, в долине, то исчезая, то снова появляясь в тумане, двигались люди. Ещё нельзя было решить, много их или нет, но уже по поступи, по сверканию металлических частей оружия было ясно, что это идёт воинская часть. — Так это они идут… — облегчённо вздохнул Патрикеев, радуясь, что внезапно охватившая его тревога сразу же оказалась напрасной. — Ишь, орлы! — ласково добавил он, вглядываясь в медленно движущиеся шеренги. — Высокий у повозки, должно быть, сам Джавашидзе. Жалко, товарищ лейтенант, что у нас флага нет. Поставить бы его тут, они бы сразу поняли, что свои уж их дожидаются. Дёмин молчал. Вертикальная, похожая на шрам складка на его лбу сделалась ещё отчётливее. Он сделал Патрикееву знак рукой, чтобы тот замолчал, а сам отошёл в сторону и опустился на снег на краю обрыва. Дёмин видел, как вся шеренга медленно скрылась за поворотом дороги, огибавшим выдавшуюся вперёд скалу. Скоро ему стало ясно, что замеченная им группа была только замыкающей частью длинной колонны. Головная часть была за поворотом и теперь появлялась в том месте, где дорога, уже обогнув скалу, вновь выходила на покатый склон главного хребта и зигзагами поднималась вдоль широкого ущелья, над которым, как нос большого корабля, высился Орлиный Залёт. Впереди колонны бесшумно и очень медленно подвигались маленькие квадратные машины. Увидев их, Дёмин понял, что опасение, возникшее у него, верно, что это — немцы!
* * *
Дёмин ещё раз внимательно оглядел плато и поманил к себе Патрикеева. Ему было совершенно ясно, что отряд Джавашидзе по каким-то причинам задержался в пути, и теперь им вдвоём с Патрикеевым предстоит во что бы то ни стало держать этот пик до подхода Джавашидзе. — А много их!.. — разглядывая вползавшую на скат колонну, удивлялся матрос, не понимая, как он мог принять этих солдат за своих. — Вот бы миномёт сюда, а, товарищ лейтенант? Дёмин невольно улыбнулся, глядя на осенённое вдохновением безусое, юношески задорное лицо Патрикеева: — Или бы, например, батарею главного калибра, как у нас на крейсере? А? Вы, я вижу, мечтатель… Сколько у нас запасных дисков? — Четыре, товарищ лейтенант. — Два оставьте мне. Забирайте автомат и по этому вот спуску пробирайтесь туда, на передний уступ. Когда с вами поравняется колонна, открывайте огонь. Поняли? Патроны берегите. Всех их не убьёшь, не старайтесь. Важно их остановить и заставить брать это плато боем. Две трети патронов — на оборону! Этот вот спуск — на вашей совести. А тот — на моей. Это было, пожалуй, самым трудным — отпустить от себя Патрикеева. Но решение уже было принято, и в правильности его Дёмин не сомневался. И вот он один. Лежит на краю обрыва и держит в руках свой автомат. Под ним синеватый воздух, скалы и лес. И почти напротив, но ниже и левее его, гребень перевала, усеянный мелкими высотками, меж которых извивается дорога на ту сторону хребта, к тылам наших войск, к морю. Почему застрял отряд Джавашидзе? Ведь должен же он прибыть сюда! Ко скоро ли? Видит ли Патрикеев того высокого офицера с широкой повязкой на рукаве? Чудак, он принял его за Джавашидзе. Сколько отсюда до них? Метров четыреста… Эх, он забыл сказать Патрикееву, какой нужен прицел! Ну, сам знает, Чего он молчит там? Пора… Или нет, не пора… нет, ещё рано… Дёмину нестерпимо захотелось приблизиться к своему товарищу, сказать что-нибудь ласковое, ободряющее, что помогло бы ему самому бороться с наплывающим волнением, страхом. Он сделал движение, и в эту минуту тройной дробящий звук потряс молчаливые горы. Молодец Патрикеев! Первая машина остановилась, и в чёрном окутавшем её дыму сверкнули жёлтые языки огня. Напряжение сразу оставило Дёмина. — Ха-а-льт! — услышал он нервный и резкий крик и увидел, как высокий офицер с повязкой на рукаве, нелепо размахивая пистолетом, пытается задержать отпрянувших от дороги солдат. А пули свистят и стучат о камни. Эхо наталкивается на эхо и путает звуки. Уже не понять, стреляет ли Патрикеев или только с дороги беспорядочно палят по склонам фашистские автоматчики. Важно, что колонна остановилась. Пусть немецкие офицеры подумают, как им поступить. Он, Дёмин, подождёт. Сейчас решается самое главное. Если они пойдут вперёд, они, конечно, пройдут. Что можно сделать против такой колонны двумя автоматами? Но что-то подсказывает Дёмину, что немцы не решатся идти вперёд: они любят прощупывать огнём все подозрительные места, обливать металлом каждую щель, вывёртывать её наизнанку и уже потом идти. А потом будет поздно! Первая мина, с грохотом разбившаяся о выступ скалы, обрадовала Дёмина, как подтверждение его расчёта. Он заметил, что теперь на дороге остались лишь несколько брошенных повозок и та догорающая машина. Немцы попрятались в скалы. Зато их огонь так усилился, что Дёмин подумал, не подрывают ли они гору. Там, внизу, падали сосны, и оттуда взлетали вверх осколки, царапая скалы и отбивая куски породы. Потом он понял, что враг ведёт навесный огонь и снаряды, не попадая на площадку, пролетают вниз. Теперь вокруг стоял такой невыносимый грохот, что Дёмин не удержался и отполз ниже, в углубление горной щели. Когда он немного пришёл в себя и вновь выбрался наверх, чтобы взглянуть на дорогу, он увидел, что несколько солдат сбрасывают обгоревшую машину с обрыва, а сзади уже подтягиваются повозки и солдаты собираются двигаться дальше. Дёмин ощутил острое чувство унижения. Значит, они просто презирают их сопротивление, не считаются с ним. Он прилёг поудобнее за уступом и, подождав, пока колонна несколько уплотнится, дал длинную очередь, затем вторую и третью. Но паники на дороге уже почти не было. Квадратный, неловкий гитлеровец в большой каске и ватном френче, заменявшем ему шинель, кричал что-то, размахивая короткими руками, и не уходил от повозок. Одна лошадь, маленькая, светло-рыжая, с чёрным хвостом, упала и билась под оглоблями, пытаясь встать. Меняя диск, Дёмин слышал, как лязгали о камни её копыта. Короткий сверлящий звук сдавил воздух. Дёмину показалось, что пространство вокруг него натянулось, лопнуло и, рухнув, прижимает его к скале. Когда он открыл глаза, снег вокруг него был чёрным от пятен гари. Дёмин хотел подползти к обрыву и посмотреть, что делается на дороге, но не смог пошевельнуться. Тело его как-то обмякло и горело, как будто натёртое очень жёсткой мочалкой. Яростно напрягая мышцы, упираясь локтями о скользкие камни, он пополз. Выбиваясь из сил, он едва продвинулся на один метр. Ему не хватало воздуха. Может быть, это шарф душит его? Он сорвал с шеи шарф и увидел на белом шёлковом полотне пятна крови. Неужели это его кровь? Но что же он остановился? Надо ползти, ползти… То, что он увидел с обрыва, сначала удивило его. Дорога была пуста, на ней виднелся только труп той рыжей лошади: они, видимо, пристрелили её. Почти весь снег на дороге стаял, и поднявшийся из долины туман окуривал склон. Где же они? Неужели прошли мимо него, за перевал, к морю? Наконец он заметил внизу, под самой горой, тёмные, двигающиеся в тумане пятна. Конечно же, этого надо было ждать: они решили взять плато и уже спустились к склонам Орлиного Залёта. Значит, он вынудил-таки их брать эту гору с боем! Дёмин удовлетворённо вздохнул и оглянулся вокруг, словно ища кого-нибудь, кто мог бы увидеть и оценить в эту минуту, как правильны и точны были все его расчёты. Теперь надо держать их здесь. Держать насмерть. Он хотел рвануться к автомату, но вдруг почувствовал, что не может сдвинуться с места. Прошуршал снаряд над его головой и разорвался далеко на перевале. Что значат эти разрывы? Может быть, немцы заметили наших? Ведь Джавашидзе где-нибудь тут. Или они закрывают огнём подходы с той стороны хребта, чтобы обеспечить себе захват Орлиного Залёта? Только бы продержаться ещё! Деловые, короткие очереди автомата Патрикеева доносились до Дёмина и ободряли его. Собрав последние силы, он пополз к автомату, оставляя на талом снегу следы крови, а когда наконец дополз, чуть не заплакал от отчаяния, поняв, что ему даже не поднять оружия.* * *
Решение пришло внезапно, когда Дёмин лежал на снегу, прислушиваясь к возне и выстрелам внизу. Он судорожно стал шарить у себя на груди и у шеи. Где же шарф? Может быть, ещё не поздно! Вот он чувствует, как тёплая, ласковая и обессиливающая струя стекает у него под тельняшкой. Надо бы зажать рану рукой. Дёмин с трудом расстёгивает бушлат и меховой жилет под ним и тут находит у себя на коленях шарф, который так мучительно нужен ему. Он хватает его и прижимает к ране гладкую, холодную ткань. Теперь он совсем спокоен… Немцы не смогут подняться на обрыв, пока здесь будет развеваться красный флаг. Они остановятся и будут обстреливать гору с разных сторон и придумывать обходный манёвр. Дёмин снова прижал теперь уже тёплый и влажный шарф к ране и медленно, боясь потерять сознание, пополз на край выступа, нависшего над спуском.* * *
Отряд Джавашидзе, задержанный в горах боями, к вечеру прорвал оцепившие плато вражеские кордоны и очутился у подножия Орлиного Залёта. Патрикеев, измученный и радостный, встретил бойцов на спуске и повёл их на вершину к позиции лейтенанта. Поднявшись на плато, бойцы заметили колеблемое ветром светло-красное полотнище. Подойдя ближе, они увидели Дёмина. Он лежал на самом краю выступа. В простёртой над обрывом руке его был зажат пропитанный кровью шарф — яркий, как знамя. Лейтенант был мёртв, но кровь его продолжала борьбу. Фашисты не решились подняться на плато и группировались внизу, видимо разрабатывая планы многосторонней атаки. Но было уже поздно.
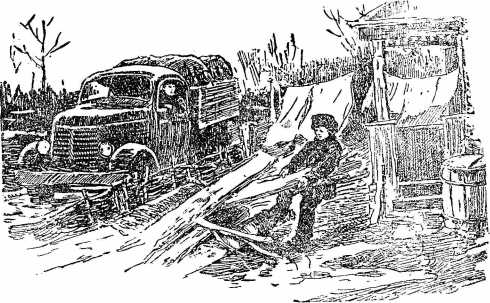 Иван Василенко
ПОЛОТЕНЦЕ
Иван Василенко
ПОЛОТЕНЦЕ
Рис. Б. КоржевскогоОднажды после сильного дождя, когда глубокие рытвины на дорогах наполняются до краёв липкой, чёрной грязью, против дома, где жил Асхат с матерью, застрял грузовик. Мотор ревел как исступлённый, колёса буксовали, фонтаном выбрасывая жидкую грязь, а доверху груженная машина только дрожала, но не трогалась с места. Асхат выскочил на крыльцо. По окраске грузовика он сразу догадался, что это фронтовая машина. Мальчик привык различать их издалека. За последний месяц мимо их посёлка таких машин прошло немало. Через стекло кабинки, по которому стекала вода, Асхат видел, как шофёр что-то кричал, скривив рот, — вероятно, ругался. Но за шумом мотора голоса его не было слышно. Наконец мотор умолк. Распахнув дверцу, шофёр сердито сказал: — Ну, чего стоишь, малец? Тащи доску! Живо! Асхат бросился к плетню, где лежал заготовленный для стройки лес. Он взял сразу две доски. Тащить их было очень тяжело — и на третьем шагу Асхат поскользнулся и шлёпнулся прямо в грязь. При этом доска больно ударила его по ноге. Но Асхат вскочил и опять схватился за свою ношу. — Одну, одну! — закричал шофёр и побежал на помощь мальчику. Лицо шофёра уже не было сердитым, он улыбался: — Муравей, честное слово, муравей! Сам маленький, а какую махину тащит! Он положил доску в рытвину, под колесо, и опять влез в кабину. Машина заурчала, заскрипела и медленно выползла из ямы. Шофёр заглушил мотор и посмотрел на потемневшее небо: — Ну как ехать? На каждом шагу ямы. А война не ждёт… — Дядя, — сказал Асхат, — поезжайте вон туда! Все наши, как дорогу размоет, всегда объезжают там. Я вам покажу. Хотите? Шофёр недоверчиво посмотрел в сторону, куда показывал мальчик, потом опять взглянул на дорогу, подумал и решительно сказал: — Ну, садись! Асхат немедленно забрался в кабину. Запах бензина ударил ему в нос. От мотора в машине было тепло. Машина, переваливаясь с боку на бок, как корабль в бурю, поплыла по ухабистой дороге. Выбрались на край села. И прямо через поле, с которого недавно сняли кукурузу, поехали к смутно видневшемуся вдали пригорку. Машина шла довольно быстро, но ещё быстрее сгущались сумерки, и, когда выехали снова на дорогу, было уже совсем темно. — А дальше-то как? — словно ни к кому не обращаясь, сказал шофёр и остановил машину. — Тут опять на каждом шагу ямы. — А по бокам и того хуже: овраги, — деловито сказал Асхат. — Точно, — подтвердил шофёр. — Так спикируешь, что и костей не соберёшь. Теперь, когда мотор утих, совсем близко слышалась орудийная пальба. К глухим ударам, от которых вздрагивала земля, то и дело примешивались другие звуки: то дробные и частые, как бы догонявшие друг друга, то хриплые и протяжные. Временами на небе вспыхивал багровый свет и, задрожав, погасал. Вот уже третий день в посёлке с тревогой следили за этими вспышками. Положив голову на руль, шофёр молчал. — Дядя, — почему-то шёпотом спросил Асхат, — вы прямо на фронт? Далеко это? Но шофёр продолжал молчать. Асхат уже решил, что шофёр не расслышал его вопроса или услышал, но не удостаивает ответом, но тут шофёр подавил вздох и сказал: — В том-то и дело, что близко! Кабы далеко, я бы фары зажёг. А тут с фарами ехать нельзя. Фашисты за каждым огоньком следят. — А вы до утра, дядя, подождите, — посоветовал Асхат. — И я с вами останусь. Шофёр усмехнулся: — В такой компании чего не посидеть! Да только нас в другом месте крепко ждут… — Шофёр опять вздохнул. — Ну, слезай, малый, шагай домой. Спасибо тебе. Небось обратно дорогу найдёшь? А я поплыву. Ничего не поделаешь, придётся нырять в потёмках. Асхат молча взялся за ручку дверцы и вылез на подножку. Но прыгать на землю он не торопился. — Дядя, — сказал он, — там, за поворотом, круча. Сорвётесь — костей не собрать. Точно. — Да что ты меня путаешь! — рассердился шофёр. — Шагай домой, говорят тебе! Ну! Тогда с неожиданной твёрдостью Асхат сказал: — Дядя, я придумал: дайте мне полотенце. Я с полотенцем пойду. До самого фронта. — Что-о? — протянул шофёр. — Какое полотенце? — Обыкновенное, белое. У вас же есть полотенце? — волновался Асхат. — Да зачем оно тебе? — всё более удивляясь настойчивой просьбе мальчика, спросил шофёр. Если бы Асхат попросил у него пулемёт, противотанковое ружьё или целую пушку, шофёр удивился бы не меньше, чем этой просьбе. — Ты что же, собираешься полотенцем фашистов бить? — грустно улыбнулся он. — Ах, какой вы непонятливый! — с досадой сказал мальчик. — Я повешу полотенце на спину и пойду вперёд. А вы будете ехать за мной. Вам же видно будет в темноте белое? У нас все здесь так делают. — Ах ты, родной мой! Ах, золотко! — вдруг радостно закричал шофёр. — Понял! Понял! Он обнял мальчика, притянул к себе и, не разобрав в темноте, поцеловал его прямо в нос.

* * *
Два дня спустя Асхат писал отцу: «Папа, я полотенцем привёл на фронт целый грузовик снарядов. А снарядов оставалось мало, и наши стреляли редко. А как мы привели машину, наши опять стали стрелять часто. И немцы тоже стреляли. Но я не боялся. Командир мне сказал, что я храбрый, что ты под Ленинградом бьёшь врагов из пушек. Потом командир приказал получше нацелить пушку и дал мне дёрнуть. Я так дёрнул за шнурок, что всё кругом задрожало. Командир послушал, что ему сказали по телефону, засмеялся и сказал, что у меня лёгкая рука: я, оказывается, прямо в блиндаж угодил. И командир велел написать тебе, что, если фашиста убили на Кавказе, он на Ленинград уже никогда не пойдёт. И ещё он сказал, что за снаряды мне дадут медаль. А чтобы не думали, что я только хвастаюсь, будто медаль моя, мне дадут ещё красную книжечку и в книжечке напишут, что медаль в самом деле моя».
 Гавриил Троепольский
ЛЕГЕНДАРНАЯ БЫЛЬ
Гавриил Троепольский
ЛЕГЕНДАРНАЯ БЫЛЬ
Рис. А. ЕрмолаеваВечер опускался над Новой Калитвой. Заходящее солнце, казалось, чуть постояло над горизонтом, брызнуло огненно-красными отливами по величавому Дону и пошло на покой. В широкой сенокосной пойме послышалась песня. По дороге ехала подвода, оттуда и нёсся разудалый и стремительный напев:
* * *
Суровый выдался декабрь в восемнадцатом году. Метели вихрили по степям чернозёмья. Скрипели полозья, визжали обмёрзшие колёса тачанок, упрямо продвигавшихся навстречу армии белых. Шли красноармейцы Богучарского полка, закрываясь воротниками или иной раз просто платками, повязанными вокруг шеи. К ночи буран рассвирепел. Он стегал лицо, слепил глаза. Снег набивался за воротник и, растаивая, стекал каплями за спину. Полк выходил в бой. Всю эту массу разнообразно одетых идущих и едущих вооружённых людей можно было принять за гигантский табор. Вдруг всё преобразилось. Как неведомый ток, пробежал по степи приказ командира полка Малаховского. Из уст в уста передавалось: — В цепь… — Занять станцию Евдаково… — Без шума в цепь… — Пулемёты по местам… И полк растаял. Будто буран разметал людей по степи, свирепея всё больше и сильнее. Казалось, уже нет никакого полка, а есть два твоих соседа по цепи, слева и справа. Но так только казалось. Каждый знал, что впереди Малаховский, что он никогда не бывает позади в таких случаях, а во время боя может появиться неожиданно там, где его никак не предполагали встретить. А когда приблизились к окраинам Евдаково, полк ожил. Ударили орудия, цепь открыла огонь, застрочили пулемёты, ворвавшись к крайним хатам. Белые не видели противника. Разве ж могли они предположить, что в такую жуткую пургу возможно наступление? Всё получилось настолько неожиданно, что один из двух полков белых спешно стал отходить без боя по направлению к деревне Голопузовке. Тачанка Опенько ворвалась в Евдаково. Она разворачивалась и сыпала свинцом, чтобы снова тут же нырнуть в буран и стать невидимкой. — Красные дьяволы! — неслось откуда-то из метельной кромешной мути. А на этот голос и скрип бегущих сапог тачанка поворачивалась задком и давала очередь-другую. Надо было для этого только два слова Опенько: — Крохмалёв! Дай! И первый номер, Тихон Крохмалёв, «давал». При этом он не переставал прибавлять прибаутки со «среднепечатными» вставками. А что можно сделать с Крохмалёвым, если он всегда весёлый и танцор «мировой»? Впрочем, что можно сделать и тачанке, мечущейся в зверской пурге? Главное, если бы она была одна. Но слеза строчит вторая, справа — третья, там — четвёртая. По стрельбе белым ясно одно: цепь близко, где-то рядом с невидимками-тачанками, у крайних хат. А буран рвёт и мечет. «Слепой» бой был в разгаре. И вдруг… пулемёт заело! Он отказал в тот момент, когда беляки, оправившись от первого смятения, стали отстреливаться. Они были совсем близко, в нескольких десятках шагов. Второй номер, Гордиенко Андрей, молчаливый и замкнутый парень, коротко сказал баском: — Давай, Митрофан, лупанём их из винтовок. А? Он как бы спрашивал командира расчёта Опенько. Он готов был всегда молча и хладнокровно бить белых. Но Опенько ответил: — Ни пулемёта не будет, ни тебя не будет. Выходить из боя! — приказал он. — Быстренько устраним и… В эту секунду завизжали около уха пули. Белые нащупали… — Гало-оп! — крикнул Опенько. Кони сорвались с места. И помчалась «боевая колесница» вдоль переулка, туда, где не слышно выстрелов. Так расчёт тачанки Опенько оказался за селом, в лощинке, как раз в том месте, где несколько минут тому назад спешно проследовал отходящий пехотный полк белых. Они отходили в степь длинной колонной. Видимо, план их был таков: «Вы пришли из бурана, а мы уйдём в буран. Мы хорошо одеты, сыты. Вы, если попробуете преследовать, помёрзнете». Но не думал об этом Опенько. Важно было в те минуты одно: пулемёт должен работать! Молча, понимая друг друга, Опенько и Гордиенко спешно устраняли дефект. А Крохмалёв держал вожжи и разговаривал с лошадьми: — Видите, какая неприятность вышла?.. То-то и оно, что неприятность… Лошади и те понимают. А через некоторое время окликнул: — Андрей! — Что? — У меня спина мокрая. А у тебя? — Ну и чёрт с ней… Пройдёт? — спросил он у Опенько по поводу какой-то детали пулемёта. — Конечно, пройдёт! — ответил Крохмалёв, приняв это по адресу своей спины. — Вот разобьём белых, подсушимся, подчистимся. Вшей не будет. Каждый день будем обедать и ужинать. Вот жизнь так жизнь! А? — Но никто ему не отвечал. — Женюсь. Обязательно тогда женюсь, будь я проклят. Опенько молчал. Он сжал челюсти. Изредка он отрывался от работы, высовывался из-под брезента и пристально слушал пургу. И слышал: бой продолжался, белых теснили богучарцы в сторону, противоположную той, куда отступил их второй полк. Так два полка белых оказались оторванными друг от друга. Преследовать отходящий полк было некому: не было сил. Значит, сюда, к тачанке, своих ждать не приходится. Эти мысли пронеслись в голове Опенько. Он всё понял, но сказал так: — Чёрт возьми! Стоять в такое время! Что скажет Малаховский! Понимаешь, Тихон? — И он со злобой сплюнул, снова нырнув под брезент. Крохмалёв вздохнул и проговорил: — Ясно: наших тут не жди, а белые могут прорваться. Плохо дело, дорогие мои лошадушки. Мокрые мы все — могём помёрзнуть, как та капуста на корню: был мягкий, будешь твёрдый… Митрофан! — Что там ещё? — откликнулся Опенько из-под брезента. — Лошади-то потные. Если ещё минут двадцать постоим — решка. На себе пулемёт потащим. А гармонью Андрееву бросим тут. — Я тебе «брошу»… по скулам за твою агитацию. — И сразу же мирно: — Сейчас… Почти готово. — А может, выпрягу да погоняю их маленько? Пропадут ведь. — Не смей! — крикнул раздражённо Опенько. — Ты только отошёл с лошадьми, а он, беляк, тут как тут. Передёргивай вожжами, давай плясать на месте. — Это мы можем, если дозволено. А ну играй! — И он принялся орудовать вожжами. — Эх-ма! Такой тройки на земном шаре нету! Давай пляши! А буран хлестал тачанку, одинокую, заброшенную в степи, оторванную от своих. Только-только Опенько удовлетворённо крякнул, окончив возню с пулемётом, и вылез из-под брезента, как Крохмалёв схватил винтовку и крикнул: — Белые! — Ра-азвернись! Приготовьсь! — скомандовал Опенько и сам приложился к пулемёту. Он ещё не видел ничего. Видеть мог только Тихон, обладавший кошачьим зрением. Но вот из бурана вынырнула тройка. Теперь её видит и Опенько. Он уже поправил по привычке шапку, сдвинув её на затылок, чтобы не мешала. Но… — Извиняюсь! — закричал радостно Тихон. — Как есть свои! Держись, Митрофан Федотыч! Сам Малаховский припожаловал. Тройка вороных, запряжённых в сани, с разбегу остановилась около тачанки. — Опенько, ты? — Так точно, товарищ Малаховский. — Доложили — ты замолчал. Так и знал — нырнёшь в лощинку. Здесь Малаховский знал каждый кустик, каждый ярок. Но как он проскочил сюда, вслед белым, понять было невозможно. Для этого надо было либо обогнуть фланг белых, либо пересечь их линию. Обогнуть он, конечно, не успел бы. Только впоследствии выяснилось. Он шагом въехал в расположение белых во время бурана, остановил какого-то солдата и спросил: — Скажи-ка, браток, где штаб первого полка? Срочно нужен командир полка. — Отошёл на Голопузовку, ваше благородие! — Как стоишь, скотина?! Смирно! Генерала не признал! — Виноват, ваше превосходительство! Тройка скрылась в метели, как провалилась сквозь землю. И вот Малаховский наткнулся на тачанку. Он сидел в санях в расстёгнутой бекеше защитного сукна. Богатырь с виду, он, казалось, не признавал ни зимы, ни бурана. А серая, в смушку, папаха не была даже надвинута на уши. Ему было жарко. — Что случилось? — спросил он. — Отказал пулемёт, товарищ Малаховский. — Готово? — Готово. — За мной! И тройка помчала его в бешеной скачке в пургу. За тройкой — три кавалериста, из разведчиков. За кавалеристами — тачанка-сани, а за ними сорвалась и тачанка Опенько. Их было только одиннадцать человек: три — верхами, семь — при пулемётах и сам Малаховский. — Это куда же мы теперь? — спросил Крохмалёв. — За Малаховским, — ответил Опенько. — Понятно. Вижу: за Малаховским. — А он куда? — спросил Гордиенко. — Туда… — И это понятно, — сказал Тихон с иронией. — Задача ясная: за Малаховским… А ты есть хочешь, Митрофан? — И, не дожидаясь ответа, сообщил: — Жрать хочется. Нам там поесть не дадут? — Дадут, — ответил Опенько. — Горяченького, с огонька. — Как это позволите понять? — притворялся Крохмалёв. — Ты что, не видишь? Полк белых-то отошёл сюда. Оттуда — мы, а они — сюда. — Приблизительно соображаю. Малаховский что-то задумал. А что, пока не пойму. Но, кажись, вскорости пойму. — Весёлый ты парень, Тихон, — угрюмо сказал Андрей. — С твоим характером всю землю можно пройти пешком. — А мы её на тачанке проедем, — уточнил Крохмалёв и промурлыкал: — «Всю-то я вселенную проеду…» Совсем неожиданно для своих подчинённых, вразрез их разговору, Опенько сказал: — Так, ребята. Старик наш ненадёжный. Часто капризничает. «Старик» — это пулемёт, накрытый брезентом. — Спервоначалу-то он ничего, — резонно возразил Гордиенко, — а как в долгом бою, то стал того… Заменять надо. — Ему уж сто лет с неделей… Так что, подпускать надо ближе. И спокойно. Главное, спокойно. Буран хлопотал свирепым хозяином степи, с воем и рёвом. Трое парней, одетых в крестьянские кожухи, прижавшись друг к другу, мчались вместе с бурей, туда, за Малаховским, что впереди. И они были частью бури. Вдруг лошади неожиданно осадили и пошли шагом. Потом стали. Впереди, совсем близко, в нескольких шагах, хутор. Малаховский выслал вперёд кавалериста. Через несколько минут тот возвратился. В хуторе спокойно. Въехали и стали в затишек. — В Голопузовку на разведку — двое! — приказал Малаховский двум кавалеристам. — Остальным покурить. Тихо, без шума. Малаховский подошёл к Опенько: — Ну как, Митрофан, не замёрз? — Всё в порядке, — ответил тот. — Только вот у Крохмалёва неладно: вода по спине бежит. И жениться хочет. — Все захохотали тихим, сдержанным смехом, а Опенько добавил: — И земной шар собирается объехать на тачанке. Малаховский положил одну руку на плечо Опенько, другую на плечо Крохмалёву и сказал: — И всё это хорошо: и жениться и объехать земной шар. Это очень хорошо. Верь, Крохмалёв, что объедешь. Главное, верить… А холод потерпите, ребята. Вот кончится война, и зацветёт жизнь. Я её вижу, эту жизнь. Хорошая будет она. Девять человек стояли тесным кружком, и казалось, не было среди них командира полка, а был хороший старший товарищ, друг, тот самый товарищ, строгий и требовательный в бою, но простой и душевный на отдыхе. Таков Малаховский. Буран выл между хатами и сараями. Хутор спал. А девять храбрых ожидали двух. Те двое вынырнули из метели так же неожиданно, как в неё и окунулись. Один из них доложил: — Пехотный полк белых вышел из Голопузовки минут двадцать назад. Идут тихо. В хвосте кухня. Прикрытия нет. Малаховский смотрел в бурю. Он будто что-то вспоминал или прикидывал в уме. Потом тихо, но твёрдо сказал: — А ну, ребята, ко мне ещё поближе. — И затем продолжал уже решительно, тоном приказа: — Догнать хвост. Всем стрелять беспрерывно, не переставая, — сидеть на хвосте. Кавалеристам — с флангов хвоста и вдоль колонны. Белые попытаются занять оборону в балке, собьются в кучу. В тот момент одна тачанка остаётся на краю яра и молчит, ждёт сигнала; кавалеристы со мной — в объезд, зайдём с другой стороны балки, в тыл. Я начинаю тремя выстрелами. Немедленно со мною — пулемёт с другой стороны. А тебе, товарищ Опенько, надо… Тебе, дорогой, ворваться молча в балку, в самую гущу и… — Он совсем изменил тон и душевно продолжал: — Сам понимаешь — буран, паника. И ещё имейте в виду: добрая половина полка — мобилизованные, полк сформирован неделю тому назад. Задание ясно? — Ясно! — ответили все. — За мной! — И Малаховский вскочил в сани. Снова стремительная скачка наперегонки с ветром. Так же неожиданно остановились. Выстрел! То Малаховский открыл огонь по «хвосту». Первая тачанка, вырвавшись, развернулась и застрочила по белым. Опенько мчался вперёд правой стороной дороги. По приказу Малаховского первая тачанка замолчала. Опенько выскочил на дорогу, в нескольких метрах от хвоста колонны, и его «старик» заговорил. Белые ответили редким беспорядочным винтовочным огнём, так, что даже не слышно было свиста пуль: они стреляли без цели, в белый свет, ускоряя марш. Малаховский подскакал к Опенько и крикнул: — Прекратить огонь! Давай второй тачанке! Так два пулемёта, сменяя друг друга, «висели на хвосте» противника. А три кавалериста с флангов постреливали из бури то там, то тут. И полк свалился в балку. — Стоять тут! — приказал Малаховский расчёту первой тачанки. — Опенько, готовьсь! — и умчался в объезд, сопровождаемый кавалеристами. В яру крики и гомон сливались с бураном. В этом месте был широкий тупой отрог балки — Малаховский это предвидел. Он объехал отрог на другую сторону и, подойдя вплотную к сгрудившимся белым, выстрелил три раза. Кавалеристы начали одновременно с ним. С другой стороны затараторил пулемёт. — Окружили! — дико прокричал кто-то в балке. А с горы бешеным вихрем слетела в балку тачанка Опенько. Он уже видит врага слева и справа. Вот он уже внизу, в самой гуще. — Стоп! — командует он тихо. — Веером! — и застрочил. Разворачиваясь кругом, тачанка вертелась вьюном и осыпала белых. Завизжали пули во все стороны. В жутком буране нельзя было врагу понять, откуда стреляют. Казалось, со всех сторон: снизу, сверху, с боков. Поднялась невообразимая свалка. И в этом месиве беспорядочной толпы — зычный голос Малаховского: — Окружили! Бросай оружие! Сдавайсь! — Сдавайсь! — кричали кавалеристы. — Сдавайсь! — ревел медведем Андрей Гордиенко. Сверху сыпал пулемёт, отрезая отрог от балки. Опенько вертелся на дне балки. И вдруг… отказал пулемёт! — Сдавайсь! — гремел Малаховский. — Старик! Старик — почти плача, обращался юный Опенько к пулемёту, как к живому. — Старик! Что же это ты? — И он с остервенением ударил по металлу, ударил до боли в кулаке. — Сдавайсь!!! — зарычал он в бурю и в упор выстрелил в подбегавшего к нему офицера. Тачанка рванулась вверх, на край. И тут Опенько увидел: в метре от тачанки мелькнул пулемёт, а около него, сбоку, лежал труп, уткнувшись в снег лицом. — Давай к своей тачанке — помогайте им! — приказал он остальным двум. — Прощайте, ребята! — и… вывалился в снег на всём скаку. — Стоп! — рявкнул Гордиенко. Крохмалёв кошкой прыгнул к Опенько: — Митроша! Ранило? — К своей тачанке… Ну! — зашипел он на Тихона. Приказ есть приказ: тачанка взмыла вверх. Белые толпой стали выбираться из отрога, отстреливаясь вкруговую. «Где Опенько? Что с Опенько? — думал Малаховский, стреляя беспрерывно. — Уходят, а он молчит». Опенько полз в рыхлом сугробе к пулемёту противника. «Почему молчит пулемёт? — думал он. — Наверно, расчёт разбежался, а один, что лежит, убит наповал». Он толкнул в бок человека, лежавшего около пулемёта. Тот не пошевелился. «Готов», — подумал Опенько. — Ах вы, сволочи! Опенько ещё покажет… — проговорил он вслух, сжав зубы. И застрочил. Застрочил в десяти метрах от противника. Застрочил в одну точку, перерезав поток отступающих из балки, как ножом. — Сдавайсь! Сдавайсь!.. Кричали это паническое слово уже не только Малаховский, но и десятки других голосов — кричали белые. Но что это? Опенько почувствовал, как лента пошла плавнее, уже не требовалось подправлять её, прекращая для этого огонь. Оглянулся и увидел: тот «труп» в солдатской шинели и с закутанным в башлык лицом подавал ему ленту. Опенько выхватил пистолет… — Земляк, земляк! — быстро заговорил «труп». — Не узнаёшь? Сосед твой — Кузьма Бандуркин, из Подколодного. По голосу узнал, как ты ругнулся. — Кузьма?! — Я. — Ладно. Подавай. Потом разберёмся. Пулемёт сыпал вновь. Уже вдвоём они перетащили его в то место, где «перерезали» колонну, и теперь отсекли совсем часть полка, оставив в балке. — Второй батальон! Прекратить огонь! — командовал Малаховский несуществующему батальону. Он сам оказался где-то близко от Опенько и, сложив ладони рупором, кричал во весь голос: — Я, командир Богучарского полка, приказываю пленным сложить оружие на левый склон балки! Слушай команду! Я, командир Богучарского полка, приказываю… — повторял он несколько раз. Знали белые, что такое Малаховский. И вот он сам здесь. Значит, полк здесь. — Слушай команду! Оружие на левый склон! …Метель утихала. Брезжил рассвет. Близко, совсем под дулом пулемёта, запорошённые снегом пленные складывали около Опенько винтовки, подтаскивали пулемёты, оставляли всё это и спускались вниз, строились. — Кузьма? — спросил Опенько, лёжа у пулемёта и не сводя глаз с подходящих вереницей пленных. — А? — Как же это ты попал к белякам? — Мобилизовали в «добровольческий полк». Пришли втроём с винтовками и мобилизовали, прямо за обедом. — И ты пошёл? — Пошёл, — с горечью ответил Кузьма. — Должен я тебя убить. Опозорил ты наше славное Подколодное. — Теперь мне всё одно. Только я не виноват, Митрофан. Я расскажу. — А чего ж ты лежал в снегу? — Притворился убитым. Или замёрзну, думаю, или утеку к своим. — К каким к своим? — К вам. Я бы всё одно утёк. Они лежали в снегу, коченея и стуча зубами, пока последний пленный не положил винтовки. Стало видновсё вокруг. В балке было уже тихо. Пленные, построившись в три шеренги, около которых «хлопотал» Малаховский, увидели перед собой… только два пулемёта, направленных на них. — Кузьма? — снова обратился Опенько. — А? — У тебя еда есть какая-нибудь? — Хлеб есть, мясо варёное есть. — Дай. Больше суток не ел. И взять негде. Крохмалёв и Гордиенко спустились вниз на своей тачанке. Они увидели Опенько: он сидел рядом с беляком и ел мясо с хлебом. Жевал он медленно, через силу. Лицо его было черно, щёки ввалились, волосы выбились на лоб и прилипли. Такая ночь стоила нескольких месяцев, а может быть, и нескольких лет. — А этот «башлык» чего тут? — злобно спросил Гордиенко, бросив взгляд на Кузьму Бандуркина. — Чего не строишься, чучело? Ну!.. За Кузьму ответил Опенько чуть охрипшим, простуженным голосом: — Пойдёшь в мою тачанку, Кузьма. — Он разломил хлеб на две части и отдал Тихону и Андрею. — Ешьте, ребята… Спать хочется. — И ещё добавил: — Он нашу правду почуял. Не трожьте его. …До тысячи человек пленных, четыре пушки, десять пулемётов, сотни винтовок, весь обоз с имуществом полка — таков был результат ночной легендарной операции. Большинство пленных снова вооружили, и Малаховский повёл их в обход, чтобы ударить казакам с тыла. Они пошли за Малаховским, а среди того же дня были уже в бою. Этот тыловой удар, неожиданный и стремительный, решил исход боя. Так начался разгром наступавшей «Южной армии» генерала Иванова и левого фланга Донской армии генерала Краснова. Богучарский полк вышел в глубокий тыл противника. Белые, в беспорядке отступали. …А вечером Опенько вошёл в хату какого-то села (он не помнит какого), сел около печки на; пол и уснул. Гордиенко осторожно перенёс его на кровать, лёг с ним рядом. На полу, на соломе, спал Крохмалёв. Он лежал навзничь, положив забинтованную руку на грудь, волосы откинулись назад, пересохшие губы что-то шептали: он бредил. Кузьма Бандуркин управил лошадей, вошёл в хату и лёг рядом с Крохмалёвым. Уснул он не сразу: слишком много потрясений произошло за последние дни. Наконец уснул и он. В хате стало тихо. Только с печки слышался шёпот: там сидела, свесив ноги, пожилая женщина, смотрела на спящих и, утирая фартуком глаза, шептала: — Молоденькие-то все какие… Дай вам бог счастья… Двадцать два года было в то время Опенько. Горячая и славная юность!* * *
А сейчас генерал-майор в отставке Малаховский переписывается с Опенько. «Дорогой соратник и боевой друг Митрофан Федотович!» — пишет генерал. «Отец наш и товарищ!» — пишет Митрофан Федотович своему бывшему командиру. Какая трогательная и тёплая дружба, скреплённая кровью! Малаховский живёт сейчас в Риге, Опенько и до сих, пор работает заведующим нефтехозяйством машинно-тракторной станции в Новой Калитве. Если вам доведётся быть в Новой Калитве, то вы спросите: «А где тут проживает Опенько?» И вам могут задать контрвопрос: «А не тот ли Опенько, что взял целый полк?» Но это уже будет легенда. Он был не один, их было «много» — одиннадцать человек славных богучарцев. Это была легендарная быль из жизни легендарного Богучарского полка. Уже в то время многие из них были ранены по нескольку раз. Сам Малаховский (впоследствии командир двадцатой кавалерийской Богучарской дивизии Южного фронта) за годы гражданской войны ранен… двадцать раз! Только Крохмалёву Тихону не удалось проехать по земному шару, не удалось и жениться: он убит при подавлении одного из восстаний казаков. Славный он был парень, удивительно тёплой души человек, весёлый и смелый… Они отдали свою юность тому будущему, что зовётся сейчас настоящим. И о них, о богучарцах, ещё не написано слово, ещё не спета песня. Слава им, погибшим и живым! Слава храбрым!
 Лев Успенский
ВОЛЧОНОК
Лев Успенский
ВОЛЧОНОК
Рис. Б. КоржевскогоСлучилось страшное: та часть отряда капитан-лейтенанта Савича, которая переходила фронт южнее болота, нарвалась на минное поле. Заминированный участок был расположен между двумя поленницами старых берёзовых дров, на мирной мшистой полянке под небольшим пригорком. Полянка, в невысоких кудрявых ёлушках, лежала как раз на тропе: этакая тихая, знакомая на вид, уютная лесная луговина. Рыжики бы корзинами носить с такой!.. Хуже всего было то, что первая мина взорвалась в тот момент, когда все люди были уже в пределах участка. Звук получился (вероятно, из-за первого снега) странный, скорее похожий на разрыв ручной гранаты. Неверов упал. Капитан-лейтенант кинулся к нему. И вот Неверов, указывая на Чижова, проводника из бригады, яростно прохрипел: — Товарищ капитан-лейтенант, это он, гад! Он в меня гранату бросил! Немцы были рядом. Чижов — человек незнакомый. Всё можно подозревать в таких случаях. Капитан, рванув кобуру, кинулся к нему: — Ты что же это, негодяй? Побледнев, тот отшатнулся в тень дерева: — Товарищ начальник! Да что вы! Опамятуйтесь! Да это же мины! На мины нарвались! Я ведь сам в руку ранен… И, точно в подтверждение его слов, впереди, потом справа ухнули ещё два негромких взрыва. Донёсся стон. — Шульга! Шульга! — пронзительным шёпотом позвал капитан-лейтенант. — Шульга, где ты? Что с тобой? Две или три секунды ничего не было слышно. Потом неузнаваемый голос сержанта Шульги сказал: — Ранило меня, товарищ командир. Ногу мне… — Он не кончил. Стоя над лежащим на снегу Неверовым, капитан-лейтенант с отчаянием огляделся. Высокая луна, скрываясь за радужными облачками, кривовато, но спокойно смотрела вниз. Убелённый чистейшим первым снежком, лес молчал холодно и безучастно. Передние люди, несомненно, как-то прорвались сквозь заграждение. Они исчезли уже в ельнике и пошли, по инструкции, к месту встречи. Их теперь не воротишь. Что ж делать? Как быть? Трое раненых, он один… Первое, что он сделал, конечно, — это приказал осмотреть и наскоро перевязать раны. Они были не особенно тяжёлыми, но делали отряд неподвижным: ноги! Как же выбраться отсюда теперь? Капитан-лейтенант сделал было шаг вправо, но его резко шатнуло. Этого ещё не хватало! Контузия, что ли? Острая боль свела спину. Эта боль сразила капитана. Что нужно предпринять, ему было ясно, совершенно ясно. Надо было тотчас же, шаг за шагом, но как можно скорее прощупать обратную дорогу между минами. Значит, надо было идти, останавливаться, замирать на одной ноге, осторожно опускать вторую, нагибаться, садиться на корточки, ощупывать снег… А кто из них четверых был способен на это? Раненные в ноги не могли идти; контуженный не был в состоянии сгибаться; тот, кому повредило руку, не годился для нащупывания мин. Но и оставаться здесь, под носом у немцев, в лунную ночь было тоже совершенно невозможно. Капитан-лейтенант, сжав зубы, осмотрелся ещё раз. Он вздрогнул… Сзади, на холмике, с которого они только что спустились, он увидел маленькое чёрное пятнышко. Неподвижно, но ясно рисовалось оно на белых намётах снега у того места, где тропа разветвлялась надвое. — Чёрт возьми! Волчонок! — ахнул он. — Борька! Остерегаясь кричать, капитан торопливо замахал в ту сторону рукой: «Сюда! Сюда!» В этом пятнадцатилетием мальчугане, Борисе Волкове, сосредоточилась теперь вся его надежда.
* * *
За два месяца работы в разведывательном отряде Боря Волков, подобранный разведчиками где-то во время отступления, сумел совсем незаметно перейти с положения воспитанника части на положение настоящего рядового бойца. Капитан-лейтенант и другие командиры со дня на день всё с большим и большим интересом приглядывались к нему. Тихий мальчик этот был так твёрд на словах и в поступках, как не всегда бывает твёрд взрослый. Он был не вообще отважен, а спокойно, расчётливо смел. В то же время он на редкость разумно и находчиво умел в случае надобности пользоваться своим не по годам детским видом, своей лёгонькой фигуркой, звонким, как бы ещё не окрепшим голосом. Он мог — а это большая редкость, — когда нужно, совершенно искренне всплакнуть; когда нужно, по-ребячески разыграться. Мало-помалу, сначала по снисхождению к его настойчивым просьбам, потом уже и без всяких просьб, его стали брать с собой в операции, давать далеко не пустячные поручения. Борька стал незаменим. Выяснилось, что лучшего связного, способного пробраться откуда угодно и куда угодно, лучшего наблюдателя в самых трудных местах и искать нечего. Был случай, когда Борис с донесением один перешёл фронт в очень сложной обстановке. Был случай, когда он, находясь в глубоком тылу у врага, первый заметил приближение вражеских автоматчиков, вовремя оповестил командира и тем спас отряд. «Волчонок! — ласково говорили про него все как один бойцы, люди, вовсе не склонные хвалить понапрасну. — Ну, Волчонок у нас вездеход. Он как под шапкой-невидимкой гуляет. Подросток — подросток, а пользы за двух стариков принесёт!» Сегодня Борю взяли именно с этой целью: его хотели направить с донесением к своим, когда достигнут сборного пункта и соединятся с другим отрядом. За несколько минут до несчастья капитан-лейтенант приказал мальчику чуть задержаться у развилки лесных троп, следя за той из них, которая уходила вбок. Догнать отряд он должен был по знаку, после того как все люди пересекут открытую поляну. Вот эту поляну. Эту самую. Отделяясь от своих, Борис Волков выбрал укрытое место в тени небольшой ёлочки, так, чтобы ему были видны обе тропы. Одна из них уходила налево по густому осиновому мелколесью, вдоль неширокой просеки — визирки. Она была пуста, подзанесена лёгким снежком, открыта взгляду. Отряд на его глазах двумя еле видимыми группами двинулся по ней под уклон. Первая пятёрка быстро пересекла лужайку и растворилась в густом ельнике напротив. Вторая взяла левее и дошла только до середины, когда грянул взрыв, потом другой и третий. Сердце подростка ёкнуло. С трудом вглядываясь в тропу (поляна была близко, но люди в белых халатах сливались со снегом), Борис старался угадать, что там произошло. Некоторое время он никак не мог разобрать, в чём дело: выстрелы это были или взрывы, напал ли кто-нибудь на наших или, наоборот, это они гранатами забросали незадачливого врага. Можно было понять, что командир и двое или трое бойцов задержались на лужку. Было заметно, что они как-то странно движутся по нему. Но маскировочные халаты мешали увидеть большее, а сойти с места мальчик не считал себя вправе: он хорошо знал, что значит дозорному отлучиться со своего поста. Отчаянно вытягивая тонкую шею, то щуря, то широко открывая глаза, он смотрел вслед своим и наконец почти точно сообразил, что случилось. «Мины! — подумал он. — Ох, плохо дело!..» Почти в этот же миг он заметил там другое, особенное движение: как было условлено, ему махали чем-то тёмным, видимо ушанкой. Он бегом пустился вниз.* * *
Пока мальчик бежал, тысячи сомнений охватили капитан-лейтенанта. Единственный выход? Да. Но это невозможно! Даже взрослый не мог бы сделать то, что было необходимо: проползти через минное поле в полутьме, нащупывая дорогу, шаг за шагом обходя опасные места, ежесекундно рискуя жизнью, — проложить единственную живую тропку по полю смерти. А мальчуган! Ему заранее представилось очень возможное, более чем вероятное: негромкий удар, клуб дыма и этот мальчик — пусть он трижды смельчак, но ведь он ребёнок, ещё не понимающий до конца, на что идёт! — этот мальчик в крови, с оторванными ступнями ног, с раздробленными кистями рук… Нет, этого нельзя допустить! Капитан сделал усилие. Он попытался ещё раз сам нагнуться к земле, но в глазах у него помутилось. С трудом, еле переводя дух от боли, он выпрямился… Ну вот! Не хватало ещё обморока! Очевидно, с ним тоже что-то серьёзное. Эх, был бы хоть сплошной снег, были бы следы видны… А тут, на этой мёрзлой земле, лишь кое-где припорошённой белым, не видно ничего… Мальчик приближался. Теперь он уже услышит. — Стоп! Стой на месте! Дальше нельзя! Да стой, тебе говорят! Боря Волков замер у самой опушки, там, где тропа выходила на этот обманчивый луг. — Волчонок! — окликнул его громким, свистящим полушёпотом Савич. Боря Волков на этот раз не ответил, как всегда: «Здесь, товарищ капитан-лейтенант!» Он теперь видел уже многое: лежащего Неверова, тёмное пятно на снегу около него; видел, как проводник из бригады бинтовал себе руку… На этот раз Боря ответил тонким, детским голосом: — А? И капитан-лейтенанта пронзила ещё более острая жалость. Он закусил губу и несколько секунд молчал. — Слушай, — сказал он затем, — слушай хорошенько, Борис! Мы попали, брат, на мины. Евграфов и его люди как-то прошли, а мы вот… влопались. Ранило Шульгу, Неверова, проводника… Меня, проклятая, контузила, должно быть. Контузия, брат, вот это хуже всего… Надо выходить отсюда, Волчонок… А? — Я слушаю, товарищ командир! — донеслось издали. — Ну вот… понимаешь ты, что теперь надо сделать? Надо, чтобы кто-нибудь стал на четвереньки… Так? Прополз бы от тебя к нам, понимаешь? Ты эти мины когда-нибудь видел? Они такие, как гробики маленькие… Вот… Надо ползти, а впереди себя тихонько руками шарить. Только еле-еле, чуть-чуть. Нащупал, заметил, где она, куда от неё проволока протянута, и кругом от неё ползи. Чтобы не зацепить, смотри… Вот… Кто бы это мог сделать, Волков, а? Борис Волков ответил почти сразу. И голос его почти не изменился, когда он сказал: — Я сейчас сделаю, товарищ капитан-лейтенант! Капитан-лейтенант закашлялся. — Ладно… — с усилием выговорил он. — Больше, брат, некому. Главное, у меня-то контузия, чтоб ей!.. Но осторожно, смотри! Имей в виду, это не шутки! Очень осторожно надо. Тут стыдиться нечего, если и побоишься… А? Боря Волков там, за зоной смерти, пыхтя, расстёгивал в это время туго затянутый краснофлотский ремень. — Да я боюсь, товарищ капитан-лейтенант, — искренне ответил он, — я не стыжусь: боюсь! И вот началось это страшное. Ночью по мёрзлой земле, осыпанной первой порошей, полз в полутьме пятнадцатилетний мальчик. Ему совсем не нужно было ползти так. Ему следовало бы сидеть сейчас дома, в тепле, решать задачи по Шапошникову и Вальцеву, ехать на площадке трамвая, полной шумных подростков, с коньками под мышкой на каток. Надо было, чтобы он уже спал и видел во сне, как ребята «бузят» на физике или на диктанте. А он вместо этого спасал четырёх взрослых. И вокруг него, под белым снежком, под сухой мёрзлой травой, слева и справа, незримые, безжалостные, лежали изготовленные и насторожённые опытными, умелыми взрослыми людьми аккуратные гробики с добротной взрывчаткой производства треста «Фарбениндустри. Германия, Баден». Каждого из них было достаточно для того, чтобы превратить Борю Волкова в ничто. А их были десятки… Сначала он прополз шага два или три прямо. Потом замер: одна есть! Вот она, в лошадиной ископыти, на тонком пузырчатом ледку. — Иван Михайлович! — позвал вдруг Боря. — Бумаги… Бумаги у вас нет? Киньте мне… Я рвать буду, сзади себя кидать. А то ведь опять забудем, где я полз-то. Капитан-лейтенант хотел было крикнуть: «Молодец! Молодчага, Борька, Волчонок, сынок!», но сделать этого он не смог. Он только яростно сорвал с галет, лежавших в кармане, лист газеты «Комсомольская правда», в которую они были завёрнуты, скомкал, швырнул… — Ну? Ну?.. — шептал он. — Ах ты, братцы мои! — сказал рядом вполголоса проводник. — Ну и мальчушка у вас, товарищ начальник!.. Ох! Неверов, приподнявшись на локте, неотрывно, молча смотрел вперёд. Оставляя за собой бумажный лёгкий следок, Боря полз теперь странным зигзагом, выписывая по полянке сложный «ход коня».
Вправо… Остановка… Чуть-чуть влево… Долгие поиски руками в снегу… Вот она! Теперь метра два вперёд… У кочки следующая… Так дополз он до капитана, так прополз мимо него, так добрался до того куста, за которым лежал Шульга. Был один такой момент, когда всё потемнело вокруг капитан-лейтенанта. Мальчуган вдруг остановился и замер. Осторожно, еле-еле, он стал закидывать руку назад, за плечо, за спину. — Что случилось, Борис, а? — испуганно спрашивал командир. Мальчик ответил не сразу, ответил, когда уже Савич сам почти всё понял. — Крючком рыбным подцепило… За бушлат. Вот… Сейчас сниму, — ответил он, потихоньку, вслепую выпрастывая из сукна этот страшный грошовый крючок, соединённый с миной, а тоненькая веточка можжевельника над ним предательски и насмешливо колыхалась в такт его движениям. «А ну-ка, мальчик! Ну, ещё! — точно говорила она. — А ну, чуть посильнее дёрни…» Всё расстояние, по которому пролёг этот удивительный путь, составляло каких-нибудь три-четыре десятка метров. Всё время, которое мальчик затратил на своё страшное дело, не превышало тридцати или сорока минут. Но когда он вернулся от Шульги, вернулся осторожно, но уже на ногах, когда он прошёл последние два или три поворота и молча стал рядом с командиром, и капитан-лейтенанту, и Неверову, и всем показалось, что минули долгие, страшные недели. Капитан не мог говорить. Он крепко обнял мальчика и прижал его к себе. Он без слов ощупывал его, жал его замёрзшие, обмазанные холодной грязью руки… Через минуту Волчонок опустился на землю и пополз в обратный путь. Все молча, потихоньку потянулись за ним — дорогой, проложенной через зону смерти. Когда выбрались к опушке и страшная луговина осталась позади, капитан снова обнял мальчика. — Ну, брат, — сказал он, — ну, Волчонок, спасибо тебе! Ордена тебе за это мало! Боря Волков молчал потупясь. Потом он поднял руки ко рту и стал дуть на них так, точно перед этим лепил снегурку: руки ломило от холода. — Не надо мне ордена, — тихо, но твёрдо возразил он. — Только вы, товарищ командир… вы, смотрите, не помирайте от контузии…

 Михаил Водопьянов
ШТУРМАН ФРОСЯ
Михаил Водопьянов
ШТУРМАН ФРОСЯ
Рис. А. ЛурьеОднажды к нам в полк пришла скромно одетая белокурая девушка. Мы, лётчики и штурманы, только что кончили подготовку к боевому вылету и собирались пойти пообедать. Кто-то решил, что она пришла наниматься подавальщицей в столовую, и ей предложили: — Пойдёмте, девушка, с нами. Мы как раз в столовую идём. — Спасибо, я не хочу есть! — Ну, с заведующим поговорите. — Спасибо, мне не нужно. — А кто же вам нужен? — Командир полка. — Интересно, по какому же делу, если не секрет? — Видите ли, — охотно ответила девушка, — когда я кончала десятилетку, я одновременно училась в аэроклубе летать. Теорию сдала отлично, а практически оказалась малоспособной: поломала машину, и меня отчислили. Кое-кто засмеялся, но многих её откровенный рассказ заинтересовал. — Вы что же, — спросили её, — хотите поступить в наш полк? — Да. — Вам незачем идти к командиру. — Почему? — С такой практикой вы нам не подойдёте. — Но вы ведь меня ещё не знаете, — возразила девушка. — Я ещё окончила школу штурманов и работала в отряде. А потом заболела, и меня отчислили в резерв. Сейчас я здорова, и мне стыдно сидеть дома, когда все воюют. — Нет, вы всё равно не подойдёте, — сказал ей старший штурман (а я в это время подумал: «Молодец, настойчивая! Люблю таких»). — Наши штурманы летают ночью и имеют многолетний опыт. А вы? — Я тренировалась и ночью. — А сколько вам лет? — Скоро двадцать два будет. — Многовато, — сказал кто-то, и все засмеялись. — С таким штурманом полетишь и заблудишься — домой не попадёшь! — заметил один из наших лётчиков. Девушка начала кусать губы, чтобы сдержать слёзы. Немного помолчав, она взяла себя в руки и сказала: — Что ж, за смех обижаться не приходится, а серьёзно меня никто не обидел. Спасибо и на этом! Она повернулась и быстро пошла к воротам. Всем стало жаль её. А я, глядя вслед уходящей, вспомнил свою молодость, своё непреодолимое желание летать, насмешки отца, который говорил, что мне «летать только с крыши». — С характером девушка! — сказал главный штурман. — По-моему, — заявил я, — надо попробовать её потренировать. Характер подходящий. Девушку вернули. Командир предложил ей пройти медицинскую комиссию и сдать испытания. Скоро у нас в отряде появилась новая боевая единица: штурман Фрося, как её все звали. Фрося оказалась способным, грамотным штурманом. Кроме того, она знала радио и хорошо работала на ключе. Сначала её посылали на боевые задания с опытными мастерами своего дела. Но вскоре она была допущена к самостоятельным полётам и начала работать с лётчиком Беловым. Однажды они вылетели в район Брянска. Связь Фрося всегда держала прекрасно. На этот раз они имели скромное задание — разведать погоду. Каждые пятнадцать минут мы получали от неё сообщения. Вдруг связь на некоторое время прервалась. Затем Фрося сообщила: «В районе Брянска большое скопление танков. Бросаю бомбы». Опять наступил перерыв — и новое сообщение: «Самолёт горит. Лётчик ранен. Стрелок убит». На этом связь была прервана. У нас в полку сильно загоревали. Многие поговаривали, что, будь на месте Фроси старый, опытный штурман, надежда на спасение людей ещё таилась бы. «Дивчина она хорошая, но бывалый человек в таком положении оказался бы полезнее», — так судили у нас в полку. Тем временем от потерпевшего бедствие экипажа никаких сведений не было. Белова и Фросю считали погибшими.
Прошло три месяца. Стояла глубокая зима. В гуще Брянских лесов скрывалось немало партизанских отрядов. Лётчики нашего полка довольно часто получали задания на «малую землю»: мы возили партизанам продовольствие, оружие, одежду, вывозили раненых. Однажды, когда самолёт вернулся из такого полёта, на его борту оказались Белов и Фрося. Трудно рассказать о радости, испытываемой военными людьми, когда к ним возвращаются товарищи, которых считали погибшими. Фросю и Белова буквально на руках вынесли из самолёта… И уж действительно ни с чем Не сравнима была наша радость и гордость, когда мы услыхали историю их спасения. Фрося скромно молчала. А Белов рассказал нам вот что. Когда загорелся самолёт, Белов был тяжело ранен в бедро. Он не мог двигаться. Фрося вложила ему в руку парашютное кольцо и помогла перевалиться через борт машины. Тут же она прыгнула сама. Приземляясь, раненый лётчик не мог самортизировать ногами и от острой боли потерял сознание. — Надо сказать правду, — рассказывал Белов, — что, когда Фрося нашла меня на опушке леса без чувств, она решила, что я умер. Тут наш штурман повёл себя не по-мужски: она кинулась на мой «труп» и так разревелась, что привела меня своими слезами в сознание. Начиная с того момента, когда она обнаружила, что я жив, её поведению может позавидовать любой храбрейший и мужественный боец и разведчик. Положение наше было тяжёлое. Двигаться я не мог. Аварийного пайка могло хватить на два дня, и то по самой скромной порции. Кроме того, нас легко могли обнаружить фашисты. Неподалёку упал наш самолёт — мы видели зарево от догоравшей на земле машины. Этот костёр мог привлечь внимание врагов. Уж не знаю, откуда у Фроси столько силы: она взвалила меня на спину и понесла. От боли я снова потерял сознание. Не знаю, сколько времени она меня так протащила. Говорит, что недалеко, но, по-моему, это неправда. Я очнулся снова уже в шалаше на довольно мягкой «постели» из сухого мха. Убежище у нас было прекрасно замаскировано, но положение опять очень неважное. Есть было нечего. Рана моя горела, и я по-прежнему совсем не мог двигаться. Мы решили расстаться. Сидеть нам обоим в шалаше значило обречь себя на голодную смерть. Если же Фросе удалось бы найти партизан или местных жителей, которые взялись бы нам помочь, мы были бы спасены. Она ушла в разведку. Фроси не было два дня… Остальное пусть она сама расскажет. — Товарищ командир, — взмолилась Фрося, — я не умею. Вы уж начали, вы и продолжайте! — Как же я расскажу о том, чего не видел? — Вы и так всё знаете лучше меня! — Ну, смотри не обижайся… Так вот, друзья мои, что сделала Фрося, — продолжал Белов. — Не найдя в лесу партизан, она проникла в занятый фашистами районный городок. Она сумела войти в доверие к фрицам, и её приняли в офицерскую столовую. Товарищи дорогие, если бы вы знали, какие изумительные блюда она мне приносила! Один раз умудрилась даже дотащить мороженое… Но разве дело в том, что она старательно выбирала для меня всё самое лучшее! За каждый вынесенный для меня кусок, за каждый тайный уход в лес она рисковала жизнью. Я лично так считаю, что, добывая и доставляя мне питание, она совершила подвиг. Тут Фрося надулась, покраснела и сказала совершенно серьёзно: — Как вам не стыдно, Николай Павлович… Никогда не думала, что вы станете такое говорить… — Сама виновата! Я предлагал рассказывать — не захотела. Теперь не мешай. — Правильно! — зашумели лётчики. — Фрося, к порядку! — Я вам ещё не то расскажу, — продолжал Белов. — Однажды она явилась ко мне с целым провиантским складом: им можно было полк откормить! При этом она заявляет, что, мол, не ждите меня — целую неделю не приду. Я спрашиваю, как и что, она отмалчивается. Когда я стал беспокоиться, что её заметили, она рассказала, что ничего страшного нет: просто ей нужно связаться с партизанами, и всё. Пожалуй, время её отсутствия было для меня самым тяжёлым испытанием за все дни нашего бедствия. Я не мог ни есть, ни спать. Никогда в моей жизни дни не тянулись так медленно. Я воображал себе всяческие несчастья, которые могли случиться с Фросей, проклинал своё беспомощное состояние, и мне не раз приходила в голову сумасшедшая мысль выбраться из своего логова. Но как я мог прийти к ней на помощь? Не на седьмой, а на десятый день к моему убежищу подошла Фрося вместе с партизанами. И только уже в партизанском лагере я узнал, что она спасла весь отряд… Посмотрите на неё, дорогие товарищи! Эта скромная девушка сохранила нашей стране восемьдесят шесть человеческих жизней… Фрося опять сильно покраснела. На этот раз она смутилась настолько, что на её глазах появились слёзы. Но, как в первый раз, когда она пришла к нам в полк, она взяла себя в руки и прервала Белова: — Николай Павлович, честное слово, вы не так рассказываете. Уж лучше я сама. Народ, слушавший всю эту историю, конечно, зашумел: требовали продолжения, Фрося сказала: — Не знаю, что тут такого? Каждый бы так сделал. Я работала официанткой у них в столовой. Никакого героизма тут нет: наоборот, очень противно было подавать этим гадам. Они думали, что я не знаю их языка, и свободно говорили при мне обо всём. А я немножко понимаю. И когда я узнала, что готовится карательная экспедиция на партизанский отряд, я, конечно, пошла и предупредила. Вот и всё. — Нет, не всё! — крикнул ей Белов. — Как «не всё»? — А документы? — A-а… Ну, вот ещё что: когда я решила уйти и больше уж не возвращаться, я пошла в гардероб, где они оставляли свои шинели. Там я всё повытаскивала у них из карманов — на всякий случай. Конечно, могло оказаться, что ничего ценного бы не нашлось. Но один дурак оставил в кармане шифр радиопередач и список тайных осведомителей. Всё это очень пригодилось партизанам. Только, по-моему, это не моя заслуга, а глупость врага… Ну, а теперь уж окончательно всё. — И Фрося вздохнула с облегчением. В этот вечер долго не смолкали разговоры о Фросе. Она уже давно ушла отдыхать, а мы всё толковали о ней. — Помните, — сказал кто-то, — мы решили, что она пришла к нам в столовую подавальщицей наниматься? — Да-а… А кто это сказал, что с таким штурманом улетишь и домой не вернёшься? — Это я сказал, — отозвался Белов. На этот раз пришла его очередь покраснеть. — Нет, — добавил он, — теперь я вижу, что с ней-то как раз откуда угодно домой попадёшь.

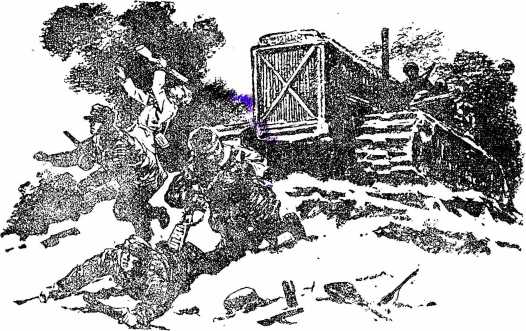 Геннадий Фиш и Василий Ходаков
ШЕСТЬ ЧАСОВ ИЗ ЖИЗНИ ШОФЁРА КОЙДЫ
Геннадий Фиш и Василий Ходаков
ШЕСТЬ ЧАСОВ ИЗ ЖИЗНИ ШОФЁРА КОЙДЫ
Рис. А. ЛурьеОперативные сводки скупо говорили о том, что продвижение замедляется, так как войска вынуждены прокладывать себе дорогу по болотистым лесам. Вслед за войсками по зыбким, дрожащим под ногой, незамёрзшим, но уже покрытым снегом финским болотам двигалась группа водителей со своими автомобилями. Водители рубили ёлки, укладывали их сплошным настилом и по этому настилу проводили свои машины. Они убирали с пути огромные валуны, оставленные здесь древними ледниками; они прорубались сквозь частый лес… Им нужно было поспевать за своей частью. Стояли морозы, но люди работали без шинелей и ватников: им было жарко. Работали дружно. За четыре часа караван грузовиков с боеприпасами, продовольствием и оружием продвинулся вперёд метров на триста. Среди многих автомобилей в колонне шла и зелёная «эмка», машина командира полка. Её вёл двадцатитрёхлетний шофёр Анатолий Григорьевич Койда. Вместе с товарищами он валил деревья, настилал дорогу, стремясь скорее туда, где уже дралась пехота. Так за трое суток, шаг за шагом, были пройдены по болотам тридцать километров пути. Следующим колоннам проход был открыт… Полк наступал, и вместе с командиром полка, неотлучно, по самым плохим дорогам следовал шофёр Койда. Он прятал свою машину в лесной чаще и шёл вперёд вслед за командиром на огневые позиции. Высокий, стройный, с резким профилем и немного запавшими глазами, всегда весёлый, находчивый, с украинской шуткой на устах, он жаждал боя. И он дождался его! В ту ночь полк занимал позиции у реки. В глубине, в лесу, у дымных костров, пламя которых закрывали от чужого взгляда шалаши из ельника, расположились бойцы. В ту ночь командир сказал: — Койда, иди ночевать к писарям на хутор. На хуторе было три дома: большой, многокомнатный, с широкими окнами, стоявший особняком на горе, и в отдалении два маленьких домика — службы. Люди тесно располагались в двух маленьких постройках: большой дом командир запретил занимать. В три часа ночи по тревоге Койда проснулся, вскочил на ноги. Где-то близко шла перестрелка. Не найдя в темноте шлем, он вышел с пистолетом в руке на порог. Прямо перед ним длинная просека прорезала ночной лес. Встревоженные люди быстро покидали домик, уходя лесом к реке, к своей части. Кто-то совсем рядом крикнул: — Ложись! Койда лёг на крыльцо, подложил под голову брошенный кем-то вещевой мешок и стал внимательно смотреть в глубину просеки. Там строем двигались люди. Услышав незнакомый говор, Койда понял, что это враги. Противник, прокравшийся лесом, выходил по просеке к хутору. Он был убеждён в своём численном превосходстве, внезапности подхода с тыла и не считал нужным маскироваться. Белофиннов было несколько сотен. Койда видел, как неприятель, миновав первое маленькое здание, направился к большому дому на пригорке, рассчитывая ударить по штабу. Он усмехнулся: он-то знал, что командир запретил занимать большой дом и предпочёл разместить свой штаб в убогой малоприметной лесной хижине. Домик, где был Койда, находился в лощине. С крыльца он наблюдал, как суетились неприятельские солдаты, расставляя на пригорке пулемёты — пулемёты справа от дома и пулемёты поодаль, слева. Он смотрел и думал о том, что ему делать, как остановить врага. Вдруг, вскочив, он вошёл обратно в помещение и в темноте, ощутив, что в комнате, где минуту назад было тесно от спавших, стало вдруг пусто, спросил: — Где люди? — Приказано было отойти к части, — отозвался кто-то в темноте. — Сколько осталось? Оказалось, что в доме остались пять вооружённых бойцов, ручной и станковый пулемёты и двадцать две гранаты. Койда приказал вставить капсюли и, распределив гранаты, сказал: — Если невыдержка будет, отойдём к лесу. В темноте раздались голоса: — Пускай только паразиты сунутся! Тогда Койда спросил: — Кто умеет стрелять из пулемёта? Бойца с ручным пулемётом он поставил за большим валуном у левого угла дома: валун был надёжным прикрытием. — Будем подпускать близко и бить короткими очередями, — сказал Койда. Сам же взялся за станковый пулемёт «максим» и установил его на лыжах справа от дома. Койда метко стрелял из пулемёта. Этому он научился урывками на полигоне, куда ему приходилось возить своего командира. Но устройство пулемёта он не знал. Рядом с пулемётом лежал боец в белом халате. Койда лёг и стал наводить пулемёт на цель. Оглянулся — бойца нет. «Неужели сбежал?» — рассердился Койда. Но через две минуты боец снова появился: он волочил за собой три коробки лент, набитых патронами. — Ну, теперь посражаемся! — повеселел Койда. — А я подумал, что ты сбежал. — Никуда я не уйду! Вместе будем драться, а если что, и помирать будем вместе, — шёпотом ответил боец и, придвинувшись к шофёру, накрыл его полой своего халата. Так лежали они вдвоём. Направляясь к избушке, в лощину вышла группа белофиннов. Отделившись от других, впереди шёл офицер. — Стреляй! — шепнул боец. Но Койда не стрелял: он не хотел преждевременно обнаружить свой пулемёт. — Стреляй! — повторил боец, когда офицер был уже в нескольких шагах. Койда поднял над щитком пулемёта пистолет и почти в упор выстрелил в офицера. Вторым выстрелом сразил ещё одного врага, затем, прильнув к пулемёту, дал короткую очередь и уничтожил всю группу — восемнадцать белофиннов. Затем сразу же, ползя по снегу, он оттащил свой пулемёт метров на десять в сторону и снова навёл его на цель. Боец в белом халате, держа в руках ленту, чтобы не заедало, переместился вместе с Койдой и снова накрыл его полой халата. С гребня холма, справа, сразу открыли огонь шесть пулемётов по тому месту, где Койды уже не было. Они изрыгали ливень светящихся пуль, и Койда отлично видел то место, откуда они били. Когда белофинны, полагая, что они уничтожили дерзкого пулемётчика, прекратили огонь, заговорил пулемёт Койды. Он бил наверняка. И с того места, по которому он бил, белофинны уже больше не стреляли. Вдруг заговорили вражеские пулемёты, стоявшие слева. Но Койда уже успел снова перекочевать со своим пулемётом, и пули врага летели в пространство. Койда опять отлично видел позиции неприятеля. И снова его пулемёт ударил по цели короткой очередью. Вражеские пулемёты слева тоже замолчали. И опять шофёр Койда переменил позицию. Рассвирепевший враг устремился в атаку на Койду и его товарищей, видимо предполагая, что имеет дело с целым подразделением. Тогда заговорили оба пулемёта: ручной из-за валуна и станковый, управляемый Койдой. И полетели, разрываясь, одна за другой ручные гранаты. И отважным бойцам видно было, как падали на снег враги и как вскоре холм стал чёрным. Атака была отбита, но белофинны ещё продолжали вести огонь. Четырнадцать раз менял позиции для своего пулемёта шофёр Койда! Благодаря необычайному чутью он избрал самый лучший в таких условиях способ: переходил с одного места на другое. Когда Койда готовился в пятнадцатый раз переменить позицию, начали бить по врагу наши орудия и на помощь подошла пехота. Койда доложил командиру об обстановке и сообщил, что белофинны отходят в сторону одного из наших подразделений. — Койда, любой ценой свяжись с капитаном и предупреди! — сказал командир. Задание было не из лёгких: нужно было проскочить через цепь отступающих белофиннов и опередить их либо пойти в обход лесом по глубокому снегу. Медлить нельзя было. Койда повторил приказание и огляделся. Вблизи стоял приземистый трактор-тягач «Комсомолец». Койда вскочил на трактор и крикнул водителю: — А ну, давай жизнь! — Взялся за пулемёт и добавил: — Давай побыстрее!.. Водитель попался умелый и храбрый. Загрохотали гусеницы, и, пылью взметая снег, машина рванулась вперёд. На ходу на трактор вскочил ещё один боец с пулемётом. Водитель прибавил газ. Он вёл машину напрямик — на холм, к большому дому, вблизи которого снова суетились белофинны. С тягача, мчавшегося в темноте со скоростью тридцати километров, Койда огнём своего пулемёта привёл белофиннов в смятение и промчался дальше. На пути он различил группу артиллеристов, которые отбивались, защищая свои орудия от наседавших со всех сторон врагов. С трактора в помощь артиллеристам ударили два пулемёта. Попав под пулемётный огонь и слыша скрежет гусениц, белофинны, видимо, решили, что их атакуют танки, и разбежались. Койда оставил пулемётчика поддерживать артиллеристов, а сам помчался вперёд выполнять приказание. — Держись! — крикнул на прощание Койда. И сквозь лязг гусениц донеслось: — Будут довольны! Койда не знал фамилии храброго пулемётчика, не видел в ночной темноте его лица, но по голосу он узнал бы своего боевого друга среди тысяч людей. Трактор-тягач мчался вперёд. Чтобы действовать ловчей, Койда сбросил полушубок, но и в ватнике было жарко: он бросил ватник. Машина обгоняла бегущих белофиннов, и Койда расстреливал их на ходу. Вот и свои, они уже ведут бой с белофинскими ротами. Койда нашёл капитана. Тот обрадовался такому нежданному вестнику на тракторе и крикнул: — У нас всё в порядке! Бьём их помаленьку! А вот ты доскачи до заставы. Любой ценой доставь патроны! Ребята в окружении бьются с вечера. Патроны, наверное, у них все вышли… — Есть доставить патроны! — в радостном возбуждении откликнулся Койда. Через минуту нагруженный цинковыми ящиками с патронами, пулемётными лентами и дисками трактор уже мчался по лесной извилистой дороге, громыхая на ухабах. Койда мчался к заставе. Противник ускользал от него за поворотами дороги, разбегался по лесу и, припадая за деревьями, бил огнём. Пули стучали по металлу мчавшегося трактора. — Я ранен! — воскликнул водитель. — Можешь вести машину? Гони! — повелительно отозвался Койда и почувствовал, как по руке потекла горячая липкая кровь: он тоже был ранен. — Потом разберёмся! — крикнул он снова водителю. Наконец тягач домчался до заставы… Бойцы лежали в снегу и не отстреливались. Патроны иссякли. Всё теснее сжималось вражеское кольцо вокруг заставы. Трактор Койды, как вихрь, прорвался к своим. В первую минуту бойцы подумали, что к ним ворвался белофинский танк, настолько неожиданно было его появление. Койда поднялся и громко позвал: — Товарищ Колесник! Начальник заставы подбежал к машине. — Койда, это ты? — удивился он. — Куда мне стрелять? Где противник? — торопился Койда. — Стреляй кругом! — последовал ответ. — Давай гони на одной гусенице! — не раздумывая ни секунды, сказал Койда водителю. Тот понимал его с полуслова. Он мгновенно оттянул рычаг правого тормоза, и тягач волчком завертелся на одной гусенице. И так он вращался двадцать минут, и в течение этих двадцати минут Койда длинными очередями строчил по врагу во все стороны через головы лежащих бойцов. Враги, осаждавшие заставу, были разбиты и обращены в бегство. Но Койда уже не мог остановиться. — Берите патроны! — крикнул он бойцам и, освободившись от груза, бросился догонять врага. Он гнал его по дороге, расстреливая из пулемёта. Белофинны исчезли в лесной чаще, но и тут Койда не успокоился. «Они не могли уйти далеко!» — подумал он. Водитель, казалось, сросся с машиной. Подбадриваемый Койдой, он стал колесить на тракторе по лесным тропам. Они отыскивали врага. И нашли… Разбежавшись по лесу, белофинны собирались на открытом, занесённом снегом болоте. В молочном тумане зимнего рассвета было видно, что их много, несколько сот. — А, вы тут! — обрадовался Койда. — Ну, тикать вам отсюда некуда! И он стрелял, пока пулемёт не накалился. Бежать удалось лишь немногим. — Патроны все. Поехали обратно! — сказал Койда, впервые за всё время почувствовав холод и вспомнив, что он в одной гимнастёрке. — Мы так кружили, что дороги назад не найду, — отозвался водитель. — Иди по следу… — Ну, иди теперь отдыхать! — сказал командир полка Койде и посмотрел на часы. Было девять часов утра. Всего шесть часов прошло с той минуты, когда Койда вскочил по тревоге. За это время он вёл бой с батальоном врага и уничтожил его. Двенадцать станковых пулемётов и один ручной, тридцать четыре тысячи патронов, шестьсот пар лыж, брошенные шинели, винтовки были трофеями этого неслыханного в мире сражения — поединка одного человека с батальоном! Высокое вдохновение пережил за эти шесть часов Койда. «Есть упоение в бою!» И это упоение Герой Советского Союза шофёр Анатолий Григорьевич Койда испытал в священном бою за социалистическую Родину.

 Николай Чуковский
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Николай Чуковский
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Рис. А. ЛурьеВ тот самый день, когда по радио сообщили, что Берлин взят нашими войсками, лётчик Коля Седов был сбит зенитным снарядом. Это видел лётчик Лукин, всегда летавший вместе с Седовым. Они вдвоём кружили над морем, следя за движением немецких кораблей, удиравших из Либавы. В Либаве и её окрестностях немцы были нашими войсками вплотную прижаты к морю и могли удирать только по воде. Истребители Лукин и Седов вели разведку: выслеживали удиравшие немецкие суда. Оба они знали, что война вот-вот кончится, что немцы обречены и что эта разведка, быть может, последнее боевое задание, которое им поручили. Чувство торжества и счастья не покидало их в полёте ни на мгновение. А между тем разведка оказалась трудной, потому что ветер гнал по морю длинные полосы тумана. Коля Седов только оттого и попал под снаряд, что слишком близкоподошёл к удиравшему судёнышку, стараясь разглядеть его сквозь туман. У Лукина горючего оставалось на семь минут полёта — ровно столько, сколько нужно, чтобы долететь до аэродрома. Он как раз собирался повернуть к Дому и приказал Седову следовать за собой. Они могли разговаривать друг с другом в полёте, потому что у обоих были радиоаппараты. Но не успел он произнести ни слова, как услышал у себя в шлемофоне резкий грохот: это в самолёте Седова взорвался снаряд. Лукин обернулся, увидел пылающий самолёт, волочащий за собой столб бурого дыма, и помчался к нему. Седов выпрыгнул из самолёта. Метров восемьсот пролетел он, не раскрывая парашюта. Наконец парашют раскрылся, и падение резко замедлилось. Лукин успел, снижаясь, два раза облететь вокруг Седова, прежде чем тот коснулся гребней волн. Кружась вокруг парашюта, мечущегося на ветру, Лукин думал только об одном: раскроется у Седова резиновая лодка или не раскроется? Как все морские лётчики в последний год войны, Седов был снабжён резиновой лодкой, занимавшей в сложенном виде очень мало места и раскрывавшейся от прикосновения к воде. Лукин тоже имел такую лодку, но никогда не видал, как она раскрывается, и потому не был уверен, раскроется ли лодка Седова. Но не успел он сделать третьего круга, как лодка раскрылась. Она была похожа на байдарку или на каюк эскимоса. В ней сидел Седов и махал Лукину рукой. Летя теперь над самой водой, Лукин с удивлением заметил, как высоки волны. Сверху, с высоты двух тысяч метров, где он только что был, море не казалось ему таким бурным. Седов в своей лодочке подпрыгивал на белых гребнях. Волосы его развевались по ветру: он, падая, потерял свой шлем. Лукин ничем сейчас не мог ему помочь. Он убедился, что немецкого судна, сбившего Седова, отсюда, снизу, не видно. До берега было километров восемь. Горючего у Лукина осталось на три минуты. Медлить больше невозможно. Он взмыл и помчался. Чтобы добраться до аэродрома, ему нужно было долететь до берега и перемахнуть через береговую полосу, где всё ещё держались немцы. Аэродром был расположен позади немцев, на поляне посреди леса, и на такой далёкий путь горючего уж никак хватить не могло. Был только один выход — за оставшиеся три минуты подняться как можно выше и оттуда, с высоты, попытаться спланировать на аэродром. И Лукин понёсся к берегу, круто набирая высоту. О себе он не беспокоился. Он был уже немолод, двадцать лет проработал в авиации, обучил несколько поколений лётчиков, служа инструктором в лётной школе, провоевал всю войну с первого дня и управлял самолётом, как собственным телом, — почти без размышлений, твёрдо и уверенно. Он думал только о Седове. Коля Седов был гораздо моложе Лукина и казался Лукину почти ребёнком. Последние три года они не разлучались, спали вместе, ели вместе, во всех полётах и боях были вместе. Лётчики-истребители летают парами, и такую пару составляли Лукин и Седов: Лукин был ведущий, а Седов ведомый. В воздушном бою ведущий выслеживает и догоняет противника, наносит ему удар, а ведомый сзади охраняет ведущего, потому что лётчик-истребитель на самолёте один и не может одновременно смотреть и вперёд и назад. Седов, охраняя Лукина, столько раз спасал его от смерти, что между ними установилась совсем особая близость, редко встречающаяся между людьми других профессий. Три минуты кончились, когда Лукин находился как раз над береговой чертой. Мотор замолк, наступила странная, непривычная тишина. В этой тишине самолёт продолжал двигаться вперёд, медленно снижаясь. Немецкая зенитка раза три выстрелила по Лукину и замолчала: слишком ещё высоко он находился, чтобы надеяться в него попасть. Ветер дул с моря, попутный, и очень помогал Лукину; однако над линией фронта он прошёл уже так низко, что мог различить пулемётчиков, лежавших у пулемётов. Теперь до самого аэродрома был только лес, ни одной поляны, где можно было бы сесть. Лукин медленно плыл на беззвучном самолёте над щетиною ёлок, которые, казалось, поджидали его. Прямо перед собой он увидел бугор, поросший лесом, и в течение нескольких секунд был почти убеждён, что этого бугра ему не преодолеть. Но порыв ветра перетащил его через верхушку бугра. Отсюда уже виден был аэродром. Самолёт Лукина выпустил шасси. Почти касаясь колёсами острых еловых вершин, он пролетел последнюю сотню метров и опустился на самый край аэродрома. Приказав своему технику заправить самолёт горючим, Лукин побежал к землянке, где помещался командный пункт полка. Снег сошёл ещё совсем недавно, на аэродроме блестели лужи, меховые унты Лукина сразу намокли, и бежать было трудно. Пар валил от него, когда он, запыхавшийся, стоял перед командиром полка и докладывал о том, что случилось с Седовым. Офицеры штаба полка, сидя между неотёсанных брёвен, подпиравших потолок, были сегодня заняты той же работой, что всегда, — говорили по телефону с дивизией, составляли донесения, чертили графики боёв; как всегда, несколько лётчиков, неуклюжих и огромных, словно медведи, толпились у входа в ожидании приказаний; как всегда, как каждый день, дневальные и связные топили печурку, подметали пол; но на всех лицах сегодня было что-то новое — торжественное и счастливое. Все они уже знали, что победа одержана, что Берлин взят, что вот-вот гитлеровцы капитулируют и войне конец. Выслушав доклад Лукина, командир полка приказал немедленно позвонить в дивизию, чтобы на помощь Седову выслали гидросамолёт и катер. Посмотрев на лицо Лукина, расстроенное, утомлённое и раскрасневшееся, он сказал ему мягко: — А вы пойдите и отдохните. К Лукину в полку относились с особым уважением не только потому, что он был один из лучших лётчиков, но и потому, что он был старше всех по возрасту. Сам командир полка лет десять назад курсантом учился у Лукина фигурам высшего пилотажа. Он всегда старался предоставить Лукину покой и отдых, если это было возможно. Но Лукин не ушёл. — Гидросамолёт могут подбить «Фокке-Вульфы», — сказал он. — Я вышлю кого-нибудь из наших лётчиков для сопровождения гидросамолёта, — ответил командир полка. Лицо Лукина стало упрямым. — Они не найдут, — сказал он. — А я знаю это место наизусть. Командир понял, что удерживать его не стоит. Лукин выскочил из землянки командного пункта и, тяжело дыша, побежал к своему самолёту. С гидросамолётом он встретился в условном месте над морем. Гидросамолёт, громоздкий, неуклюжий, с трудом преодолевал ветер, который стал ещё сильнее. Созданный и для полёта и для плавания, он и летал и плавал недостаточно хорошо. Два длинных поплавка, подвешенных снизу — реданы, — делали его медлительным и неповоротливым в воздухе. В безветренную погоду он, конечно, имел бесспорные достоинства, так как был силён и мог поднять много груза, но при ветре летать на нём было трудно. Ветер не обтекал его, а ударял плашмя в его широкое тело с разными пристроечками и башенками, сбивал с курса, кренил, поворачивал. Лукин кружился перед ним, то залетал далеко вперёд, то возвращался, чтобы не потерять его из виду. Эта необходимость возвращаться раздражала и тревожила Лукина. Он чувствовал, что приближаются сумерки. В сущности, сумерки уже начались. День был пасмурный, тусклый, но к этой тусклости примешивалась уже особая тень — знак близящейся ночи. Ещё чуть-чуть стемнеет, и нелегко будет отыскать Седова в его крохотной лодочке среди бесконечного простора моря. Не совладав со своим беспокойством, Лукин оставил гидросамолёт далеко позади и помчался вперёд один. Он то взмывал ввысь, чтобы видеть как можно шире и дальше, то спускался к самым волнам, чтобы лучше их разглядеть. Волны испугали его. Они вздымались тяжёлыми бурыми буграми, рябыми от ветра, и были теперь гораздо больше, чем во время его прошлого полёта. Ветер, как назло, крепчал, тучи стремительно неслись над морем, разыгрывалась буря, и страшно было подумать, что должен был чувствовать Коля Седов в своей крохотной лодочке. Жив ли он ещё? И вдруг Лукин заметил над морем хорошо знакомый ему силуэт «Фокке-Вульфа». Немецкий истребитель «Фокке-Вульф» взлетал свечкой вверх, потом переворачивался и почти отвесно шёл к воде, стреляя из пулемёта. Вода кипела под ним от пуль. Выпустив очередь, «Фокке-Вульф» переворачивался над самой водой и опять нёсся вверх, чтобы снова ринуться вниз, стреляя. Круто повернув, Лукин помчался к «Фокке-Вульфу». Но «Фокке-Вульф», заметив советский истребитель, бросил своё занятие и на предельной скорости понёсся к берегу. В эти последние дни войны немецкие лётчики уже не решались вступать в бой с советскими самолётами. Лукин не стал его преследовать. Он домчался до того места, где только что вода кипела под пулями, и увидел маленькую лодочку, которая качалась на волнах. Седов не сидел в лодочке, а лежал ничком. Лукин видел только его спину. Он уже не сомневался, что «Фокке-Вульфу» удалось застрелить Седова. Вдруг Седов поднял лицо и взглянул прямо На самолёт Лукина. Он сел и замахал Лукину рукой. Несмотря на сумерки, Лукин был убеждён, что Седов ему улыбнулся. Лодочка Седова с необыкновенной лёгкостью взлетала на гребень волны, а потом скользила вниз, в провал между волнами. Надутая воздухом, она оказалась удивительно устойчивой. Седов сидел в ней и грёб руками, как вёслами. Он грёб, направив нос лодочки в сторону открытого моря, стараясь уйти от захваченного немцами берега, к которому его несло ветром. Лукин давно заметил, что расстояние между Седовым и берегом сильно уменьшилось. Гребя ладонями, трудно держаться против такого сильного ветра. Да и долго ли можно так грести? Ветер принесёт его к немцам. Лукин сделал круг и опять помчался к Седову. На этот раз он пронёсся от него так близко, что едва не задел. В течение мгновения между ними было не больше двух-трёх метров, и всё же он не мог помочь ему, не мог сказать ему ни слова. Промчавшись мимо, он увидел приближающийся гидросамолёт. Гидросамолёт шёл низко над водой, почти касаясь верхушек волн своими длинными поплавками. Командир экипажа — на гидросамолёте был экипаж из трёх человек — вёл свой странный, похожий на громадную водяную птицу корабль прямо к Седову. Лукин ждал, что гидросамолёт вот-вот сядет на воду и подберёт Седова. Но случилось не так. Долетев до Седова, гидросамолёт, вместо того чтобы сесть, понёсся дальше, слегка набирая высоту. Отойдя метров на двести, он сделал круг и полетел обратно. Но опять не сел возле Седова, а пронёсся мимо. Лукин связался с командиром гидросамолёта по радио. — Садитесь! — закричал он ему. — Отчего вы не сели? — Сесть при таком ветре нельзя, — услышал он в ответ. — Нас перевернёт. — А вдруг не перевернёт? Лукин и сам понимал, что перевернёт. Командир гидросамолёта сказал ему, что с юга идут три катера на помощь Седову; он сам их видел несколько минут назад. Лукин полетел навстречу катерам. Быстро темнело, и катера он заметил только по белым бурунчикам. Он подлетел к ним ближе. Они стремительно шли кильватерной колонной, рассекая волны, тонкие радиомачты раскачивались. С катеров заметили его самолёт, и он повёл их прямо к Седову, то залетая вперёд, то возвращаясь. До Седова оставалось не больше двух километров, как вдруг катера замедлили ход. Они перестроились, слегка отступили и начали медленно обходить Седова по большой дуге. Эта непонятная задержка вывела Лукина из себя. Темнота сгущалась каждое мгновение; через несколько минут он уже и сам не найдёт Седова. Не имея возможности разговаривать по радио с командиром катеров, он связался с командным пунктом своего полка. Может быть, там что-нибудь знают. С командного пункта полка позвонили на базу катеров, а тем временем, пока тянулись эти переговоры, все три катера повернули и пошли прочь, в открытое море. Лукин в отчаянии и бешенстве кружил над ними. Наконец с командного пункта полка ему сообщили: — Мины. — Какие мины? — Море в этих местах заминировано. Седов находится в самой середине минного поля. Катера подойти к нему не могут. Вот если бы не так темно… Всё это было как колдовство. Словно заколдованный, сидел Седов в своей резиновой лодочке, и снять его оттуда не было никакой возможности. Совсем стемнело. Лукин больше не видел ни воли, ни Седова. Дальнейшие попытки спасения приходилось отложить до утра. Лукину оставалось только одно: вернуться на аэродром. В мучительной тоске летел он над тёмным морем, над тёмным лесом. Мины Седову не страшны: лодочка его слишком легка, чтобы подорваться на мине. Не страшны ему пока и «Фокке-Вульфы»: они не найдут Седова в темноте, да и не станут искать. Вот разве на рассвете… Но увидит ли ещё Коля Седов этот рассвет? Его или перевернёт волной, или вынесет на берег, к немцам… Сдав самолёт технику, Лукин, не ужиная, побрёл по тёмному, пустынному аэродрому к кубрику. Морские лётчики, подобно морякам, то помещение, в котором спят, называют кубриком. Обычно это просторная землянка на краю аэродрома, защищённая от вражеских бомб тремя — четырьмя накатами толстых брёвен. В кубрике, где жил Лукин, горела яркая электрическая лампа, озарявшая девять коек. Лётчики уже поужинали и только что пришли из столовой. В столовой они слушали московскую радиопередачу, полную подробностей взятия Берлина, и обсуждали её, рассаживаясь по своим койкам. Они все уже знали о несчастье с Седовым и, увидев Лукина, примолкли. Они любили Седова, боялись за его судьбу и жалели, что в такой счастливый день его нет вместе с ними. Им было жалко и Лукина: лысеющий, пожилой, с утомлённым лицом, он, казалось, осунулся за этот день и ещё постарел. Они стали убеждать его, что, пока Седов жив, ещё не всё пропало, и советовали ему пойти поужинать. Но Лукину совсем не хотелось есть. Не раздеваясь, он лёг на свою койку. Койка Седова была пуста. Лукин всегда спал рядом с Седовым, между их койками стояла только небольшая тумбочка, вроде шкафчика, служившая им обоим. Лукин привык видеть совсем близко голову Седова с раскинутыми по подушке почти жёлтыми волосами, привык слышать его дыхание. Дверца тумбочки была выломана, и там внутри, на виду у всех, лежали вместе мелкие вещи Лукина и Седова. У Лукина вещей было мало: зубная щётка, бритвенный прибор; зато Седов хранил в тумбочке много всяких пустяков, которыми он дорожил: карандашик в металлической оправе, трубка с чёртиком, кинжал, набор зажигалок и мундштуков, коробочки, флакончики, даже пуговицы… В увлечении Коли Седова этим вздором было много ещё совсем детского, очень милого для Лукина. Каждая эта вещь была хорошо знакома Лукину, и, глядя на них, он вспомнил смех Седова, его весёлые, смелые, добрые глаза. Толстой пачкой лежали в тумбочке письма, которые Седов получил из дома за три года войны. У Седова были отец и мать и две сестры, обе моложе его, младшая совсем маленькая. У Лукина не было родных: родители давно умерли, а своей семьёй он не обзавёлся. Родных Седова он никогда не видел, но знал о них всё, словно прожил вместе с ними много лет. Седов всегда рассказывал про них, показывал все письма из дому. И Лукину было хорошо известно каждое письмо в этой пачке. Все уже спали, и один только Лукин бессонными глазами глядел в потолок, когда в кубрик вошёл командир полка. Он подошёл к койке Лукина, сел у его ног и вполголоса, чтобы никого не разбудить, стал обсуждать с ним план спасения Седова. Он говорил деловито, не выражая ни сожалений, ни соболезнований, не уверяя, что всё непременно кончится благополучно. И за эту сдержанность Лукин был ему благодарен. Они оба сразу сошлись на том, что Лукину следует вылететь при первых проблесках зари, чтобы найти Седова раньше, чем его найдут «Фокке-Вульфы». Командир полка больше не предлагал послать кого-нибудь вместо Лукина. В остальном опять было решено испытать и катера и гидросамолёт. Ничего другого нельзя было придумать. — Прогноз погоды на завтра хороший, — сказал командир полка, уходя. — Через час ветер уляжется и волны станут меньше. После его ухода Лукин вышел из землянки посмотреть, что делается на дворе. Ночь для начала мая была на редкость тёмная, чёрные тучи низко неслись над лесом, ветер кидал из стороны в сторону тяжёлые лапы елей. Всё это не предвещало ничего доброго. О хорошей погоде командир полка говорил, конечно, просто так, в утешение. Вернувшись в кубрик, Лукин опять лёг на свою койку, даже не пытаясь заснуть. Светало очень рано, до рассвета оставалось часа два. Два часа пролежал он не двигаясь. Потом снова вышел. Ночь ещё не кончилась. Но как всё изменилось! Тучи исчезли, и большие звёзды сияли на высоком небе, начавшем уже слегка бледнеть. Очертания деревьев неподвижно чернели в холодном воздухе. Ветра не было. На востоке за лесом чуть-чуть розовело. Пора. В тающих сумерках самолёт Лукина понёсся на запад к морю. Он перелетел через немцев, прижатых к берегу, и был уже далеко над морем, когда сзади, из-за берега, встало солнце. Оно сначала позолотило лёгкие облачка в вышине, потом озарило самолёт. Лучи его сверкали так ослепительно, что в сторону берега было нестерпимо смотреть. И только до моря они ещё не добрались: над морем всё ещё клубился синий сумрак. Но вот наконец озарилось и море. Волны всё ещё были велики, но катились как-то лениво. Ветер не рябил их, как вчера, не срывал с них верхушки, не пенил. Ни клочка тумана над волнами; весь огромный простор был отчётливо виден от горизонта до горизонта. Бесконечная сияющая пустыня. Ни дымка, ни паруса. И нигде ни малейшего признака маленькой лодочки Седова. Лукин нёсся то вверх, чтобы видеть подальше, то над самыми волнами, чтобы не пропустить ни одного метра поверхности. Он то приближался к берегу, то уходил в одну сторону, то в другую. Седова не было. Лукин в отчаянии готов был уже сообщить на командный пункт, что ночью Седов погиб и дальше искать его бесполезно, как вдруг на поверхности моря, в стороне берега, заметил несколько всплесков — словно большая рыба, разыгравшись на солнце, пыталась выскочить из воды. Лукин отлично знал, что это такое. Такими с высоты кажутся разрывы артиллерийских снарядов, упавших в воду. Немецкие береговые батареи обстреливали море. Почему? Солнце, висевшее над самым берегом, слепило глаза и мешало смотреть. Лукин мчался навстречу солнцу, к берегу. Теперь, когда он подлетел ближе, разрывы снарядов казались ему не всплесками, а столбами белой пены и бурого дыма. Эти столбы, возникающие на широком пространстве, были особенно густы в одном месте. И там, где разрывы снарядов были гуще всего, Лукин увидел лодочку Седова. Лукин понял, почему он не видел её до сих пор. Она находилась слишком близко от берега, ближе, чем он предполагал, и солнце мешало ему смотреть. От Седова до берега было не больше двух километров. Немцы видели Седова отлично, солнце им не мешало, и они били по нему прямой наводкой. Снаряды разрывались то справа от него, то слева, то перед ним, то за ним. В такую маленькую цель попасть нелегко, и всё же некоторые снаряды разрывались так близко, что лодочку подкидывало. Среди всех этих взрывов Седов неподвижно сидел в своей лодочке, ко всему равнодушный. Казалось, он дремал. Он больше не грёб руками — вероятно, у него уже не было сил грести. Может быть, он умер? Но когда Лукин пронёсся над самой головой Седова и обернулся, ему показалось, что Седов приподнял голову и смотрит на него… Наконец появился гидросамолёт. Ветра не было — гидросамолёт мог сесть на воду, не рискуя перевернуться. Лукин помчался к нему навстречу, чтобы привести его к Седову. Теперь Лукин был спокоен. Если в ближайшие три минуты ни один снаряд не попадёт в лодочку, Седов будет спасён. Гидросамолёт сел на воду в полукилометре от Седова и, как большая белая водяная птица, поплыл к нему, оставляя за собой длинный пенистый след. И сразу же немецкие артиллеристы, обрадовавшись, что перед ними такая крупная мишень, оставили Седова в покое и перенесли весь огонь на плывущий гидросамолёт. По Седову стреляла одна батарея, по гидросамолёту било, по крайней мере, пять батарей, — весь берег осыпал его снарядами. Столбы воды ежесекундно обступали его со всех сторон, окружали его всё теснее. Гидросамолёт несколько замедлил ход, свернул сперва вправо, потом влево. Некоторое время он, плывя широкими зигзагами, все еще пытался двигаться в сторону Седова. Но скоро взрывы окончательно преградили ему путь, и он только метался, стараясь увернуться. Лукин понял, что гидросамолёт погибнет, если сейчас же не взлетит. И гидросамолёт, взлетел. Лукин низко носился большими кругами над Седовым, мучаясь от своей беспомощности. Немцы на берегу окружены, разгромлены, и надеяться им не на что. Седов жив, качается на волнах в своей лодочке, озарённый ласковым майским солнцем; лучший друг его, Лукин, то и дело проносится над самой его головой, и всё же он обречён и спасти его никак не удастся. Гибель Седова не принесёт немцам никакой пользы, их злоба бессмысленна, и всё-таки они его погубят. Неужели им позволят его погубить? Командный пункт полка поминутно запрашивал Лукина о положении дел. Из переговоров по радио Лукин знал, что все наши авиационные, морские и сухопутные части, расположенные вокруг на сто километров, знают о Седове и внимательно следят за его судьбой. Сам командующий флотом приказал сделать всё возможное, чтобы Седов был спасён. И действительно, всё возможное делалось: там, за минным полем, уже сияли на солнце присланные для спасения Седова катера. По правде сказать, к их появлению Лукин вначале отнёсся довольно равнодушно: они ведь приходили сюда и вчера вечером. Впрочем, на этот раз у них, видимо, был какой-то особый план. Два катера — один совсем маленький, другой побольше — двинулись необыкновенно сложным и извилистым путём в глубь минного поля. Лукин понимал, что вблизи от берега мин нет и что минное поле уже осталось позади Седова: немцы обычно не ставили мин у самого берега, чтобы дать возможность своим судам двигаться вдоль береговой полосы. Но катерам, стремящимся подойти к Седову со стороны открытого моря, нужно преодолеть широкое заминированное пространство. Страшно было смотреть, как шли они ощупью, один по следу другого, то сворачивая, то останавливаясь, иногда даже пятясь назад. При свете дня мину легче заметить, чем в сумерки, и всё же каждое мгновение Лукин ждал взрыва. Однако взрыва не было. Оба катера медленно, но упорно приближались к берегу, и мало-помалу их движения становились всё увереннее. Видимо, самую страшную часть минного поля им удалось уже преодолеть. И всё-таки Лукину казалось, что они совершили этот опасный и сложный подвиг напрасно. Он знал, что катер — ещё лучшая мишень для артиллерии, чем плывущий по воде гидросамолёт. Немцы пока не стреляли. Они притаились, следя за движением катеров, чтобы подпустить их поближе и бить наверняка. И первый снаряд взорвался как раз в то мгновение, когда оба катера, почувствовав, что вышли на свободную воду, стремительно понеслись вперёд. Они неслись, а снаряды рвались вокруг, и сверкающие столбы воды обступали их всё гуще и гуще. И вдруг над передним катерком возникло небольшое плотное облачко дыма. Лукину сначала показалось, что в катер попал снаряд и поджёг его. Нет, он ошибся. Облачко дыма росло, росло, росло, протянулось за катером бесконечным хвостом и, повиснув огромным занавесом, скрыло полморя. И Лукин, ликуя, понял: дымовая завеса! Немцы тоже поняли, и огонь всех своих батарей сосредоточили на маленьком катерке. Волоча за собой всё расширяющийся дымный хвост, он, бесстрашный, мчался… нет, не к Седову, а прямо к берегу по клокочущему от взрывов морю, потом повернул и понёсся между берегом и Седовым. Опять повернул и сам скрылся за своей завесой. Стена плотного дыма, растянувшись на много километров, скрыла от немцев и Седова и оба катера. Немцы перестали стрелять. Лукин тоже ничего не видел, потому что и сам попал в дымную мглу, подымавшуюся всё выше. Когда он наконец из неё выбрался, он снова нашёл лодочку Седова. Она была пуста. Два катера осторожно пробирались гуськом через минное поле, направляясь в открытое море. Час спустя Лукин сидел в землянке командного пункта полка и звонил по телефону на базу катеров. Оттуда ему сообщили, что Седова уже привезли. — Ну как он? Здоров? — Здоров. — Что делает? — Спит. Лукин и сам очень хотел спать. От бессонной ночи, от длинного полёта, от пережитого волнения он весь был полон счастливой усталости. Он пошёл в кубрик, разделся и лёг. «Седов спасён!» — думал он, засыпая. Спал он спокойно и очень долго, много часов. «Седов спасён!» — подумал он, проснувшись. Он пошёл в землянку командного пункта и опять позвонил на базу катеров. — Седов спит, — ответили ему. — Ещё не просыпался? — Не просыпался. В этот день так ему и не удалось поговорить с Седовым: Седов спал. Только на следующее утро Седов наконец подошёл к телефону. — Коля!.. Ну как, выспался? — Выспался. — Очень было трудно на лодке? — Очень. Ночью меня чайки измучили, кружились надо мной, садились на голову, на плечи, я только и делал, что гонял их… Я знал, что меня выручат. — Знал? — Не сомневался… А ты слышал новость? Только что сообщили: Германия капитулировала. Война кончилась. Это был первый день мира.



Последние комментарии
59 минут 41 секунд назад
9 часов 51 минут назад
9 часов 54 минут назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 20 часов назад
2 дней 22 часов назад