Перунъ [Иван Федорович Наживин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ИВ. НАЖИВИНЪ ПЕРУНЪ
Лѣсной романъ
К читателям
Администрацией библиотеки было неоднократно замечено, что некоторые из клиентов (нток) позволяют себе кроме положенных трех книг брать лишние книги без записи. Такое положение совершенно недопустимо в нашем общественном деле. Кроме того мы обращаемся к нашим читателям с убедительной просьбой бережно обращаться с книгами, являющимися нашим общим достоянием. Многие книги приведены в так плохое состояние, что их приходится изъять из обращения, отчего количество книг в библиотеке заметно уменьшается. Надо помнить, что хорошая книга это наш лучший и верный друг. Она нас научает и утешает в нашей тяжелой эмигрантской жизни. Мы должны ее любить и, следовательно, беречь.
ПРОЛОГЪ
Было это на Руси лѣтъ тысячу тому назадъ, почитай. Зачатки такъ называемой государственности были замѣтны только на великомъ водномъ пути «изъ варягъ въ греки», по Днѣпру и Волхову, а остальная Русь, къ украинамъ, была Русью деревенской, гдѣ лѣсной, гдѣ степной, дикой и вольной. Жила Русь родами и старшій въ родѣ правилъ всѣми дѣлами и назывался гдѣ княземъ, а гдѣ — святъ-царемъ. Жили селяки въ плохенькихъ, наскоро сколоченныхъ избенкахъ въ лѣсахъ глухихъ, среди болотъ гиблыхъ, по берегамъ свѣтлыхъ озеръ и рѣкъ многоводныхъ и многорыбныхъ. И такъ какъ былъ въ тѣ времена человѣкъ окруженъ злыми ворогами со всѣхъ сторонъ, то и привыкли селяки не имѣть ничего лишняго, довольствоваться малымъ и были каждую минуту готовы покинуть свое жилище и итти дальше — куда глаза глядятъ. И они очень цѣнили эту свою свободу, питали отвращеніе ко всякому игу и даже просто порядку, никогда ни въ чемъ не были согласны между собой, никакъ не хотѣли одинъ другому повиноваться, про все спорили и очень часто доходили въ спорахъ своихъ до рукопашной. Но столкновенія ихъ между собой такъ же скоро потухали, какъ и возгорались и они, оставивъ свои короткія копья, щиты тяжелые деревянные и луки со стрѣлами малыми, омоченными въ яду смертельномъ, снова брались за свои лютни осьмиструнныя, за гусли яровчатыя и за свирѣли звонкія длиною въ два локтя, и круговая чаша меду пѣннаго туманила имъ головы сладкимъ туманомъ, и широкая вольная пѣсня ладно плыла по холмамъ и по доламъ: они любили пѣть и говорили, что «пѣвца добра милуютъ боги»… Селяки-славяне любили ласковый свѣтъ и благодатное тепло земной жизни и не вѣрили въ смерть. Покойниковъ своихъ они хоронили по гранямъ родныхъ полей, на путяхъ, на розстаняхъ: тамъ, на столбахъ, стоялъ въ глиняныхъ сосудахъ прахъ ихъ и весной свѣтлой, на Радуницу, и лѣтомъ, въ Семикъ, когда вся земля изнемогала въ яру любовномъ, въ жаркій праздникъ Ярилы, шли селяки къ своимъ покойничкамъ и закликали весну пѣснями веселыми, и праздновали полноту жизни радостной, земное царство свѣта, и призывали къ совмѣстной радости и мертвыхъ своихъ. И, склонившись къ роднымъ могилкамъ, причитали они: «ужъ ты, солнце, солнце ясное, ты взойди, взойди со полуночи, ты освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не во тьмѣ сидѣть, не съ бѣдой горевать, не съ тоской вѣковать. Ужъ ты, мѣсяцъ, мѣсяцъ ясный, ты взойди, взойди съ вечера, ты освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не крушить во тьмѣ своего сердца ретиваго, не скорбѣть во тьмѣ по свѣту бѣлому, не проливать во тьмѣ горючихъ слезъ…» Они постоянно видѣли, какъ въ природѣ изъ смерти неудержимо возникаетъ все новая и новая, молодая, радостная жизнь, и понимали, что изъ міра человѣку уйти просто некуда, и потому, когда кто-нибудь изъ близкихъ умиралъ, они устраивали по немъ веселую и шумную страву или тризну и давали ему на дорогу въ новую жизнь гдѣ ладью, гдѣ коня, и припасовъ всякихъ, и гривну на переправы возможныя, а иногда даже и жену и рабовъ. И, когда отправлялись они на ловлю звѣровую, въ путь далекій, они слушали, гдѣ играетъ птица лѣсная, справа или слѣва, и если птица играла по мысли имъ, они благодарны были ей, а противъ сердца — опасались, ибо знали они, что и въ птицѣ этой какъ-то таинственно живетъ духъ ихъ близкихъ, уже отошедшихъ отъ нихъ. И во всемъ чувствовали они бытіе божіе: и въ небѣ, и въ водѣ, и въ горахъ, и въ камняхъ, и въ деревьяхъ старыхъ, и въ звѣздахъ. И, гадая о судьбѣ своей, вопрошали они все это о будущемъ и покорно и мудро предоставляли силамъ божественнымъ то, что выше воли человѣческой. И дикой душой своей чуяли они вѣяніе силъ жизни таинственной во всемъ: и въ шорохахъ ночи, и въ шелестѣ листвы, и въ вѣщихъ крикахъ птицъ, и въ травѣ архилинъ, и во всесильной разрывъ-травѣ, и въ жуткомъ папоротникѣ. И небо — въ немъ царилъ благостный Сварогъ, Отецъ всего, — ласково улыбалось имъ, простымъ дѣтямъ своимъ, и они, полные благодарности къ богамъ за волшебный даръ жизни, «приносили имъ требы, короваи ломили, ставили брашна котѣйныя и моленое брашно то давали другимъ и сами ѣли». И вотъ вдругъ изъ за моря, изъ далекаго Цареграда, появилась въ зеленой, безкрайной землѣ русской новая вѣра, новый богъ непонятный, странный богъ, рожденный какъ-то отъ дѣвы, а потомъ погибшій страшной смертью отъ руки жидовиновъ въ землѣ ихъ. Противны были радости людскія этому новому богу и прежде всего требовалъ онъ отъ человѣка отказа отъ той жизни, отъ того теплаго, привольнаго и веселаго міра, который онъ же самъ со старымъ отцомъ своимъ создалъ для нихъ! И многіе на Руси, запуганные разсказами о мученіяхъ нестерпимыхъ, которыя заготовилъ этотъ новый, иноземный богъ людямъ, послушались его велѣній и неподалеку отъ Кіева стольнаго, въ зеленыхъ горахъ, надъ свѣтлымъ Днѣпромъ, еще во времена князя Владиміра Красна Солнышка, стали они, спасаясь отъ міра и жизни, рыть себѣ глубокія пещеры… Цѣлые они и ночи напролетъ, освѣщаемые тусклымъ свѣтомъ свѣтильниковъ скудныхъ, рыли они, какъ кроты, подземные ходы, уходя все дальше и дальше въ глубь земли отъ коварныхъ прелестей солнечнаго міра. Ужъ не одинъ изъ нихъ умеръ въ этой тяжкой работѣ, въ этихъ лишеніяхъ тяжелыхъ, но это не останавливало другихъ: похоронивъ подъ скорбное пѣніе павшаго въ борьбѣ за непонятное, они все рыли, все рыли, уходя въ землю все дальше и дальше, точно надѣясь, что вотъ еще одинъ ударъ тяжелой лопаты и предъ ними раскроются врата въ какой-то новый, имъ невѣдомый, міръ. А внизу Днѣпръ сѣдой шепчетъ что-то солнечнымъ берегамъ, и разливаются по поймѣ зеленой пѣсни соловьиныя, и съ хриплыми криками вьются надъ водой вольныя чайки бѣлыя. Изъ-за горы ломаными линіями выступаютъ на солнечномъ небѣ зубчатые палисады города стольнаго съ толстыми, приземистыми башнями и слышна перекличка дозорныхъ, день и ночь наблюдающихъ за страшнымъ Полемъ: не нагрянули бы часомъ степняки… По рѣкѣ сверху слышны трубы звонкія: то идетъ караванъ ладей острогрудыхъ съ товарами изъ варягъ въ греки и привѣтствуетъ стольный городъ звуками трубными… Обливаясь горячимъ потомъ и изнемогая, усердно рылъ наряду съ другими пустынножителями и Добрынко, рыбакъ, звѣроловъ и бортникъ, нареченный жрецами новаго бога во святомъ крещеніи Андріемъ. Безъ устали выносилъ онъ изъ черной дыры и золотой песокъ, и тяжелую глину, и холодные, какъ мертвецы, камни къ устью пещеры, откуда открывался такой захватывающій душу видъ на окаянный міръ. Онъ боялся смотрѣть въ эти зовущія солнечныя дали, онъ дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ пугливой женской тѣни, которая тоскливо бродила иногда вокругъ келій: то чернокудрая, знойная Ганна-полонянка все пыталась отнять его у его новаго бога. Но напрасно! Онъ все рылъ, все рылъ, все рылъ, все молился, все постился, все изнурялъ себя бдѣніемъ всенощнымъ… Но сядетъ онъ, усталый, отдохнуть и — вдругъ потеряется въ мечтѣ о томъ, что было: и видитъ онъ жаркія ночи звѣздныя въ степи безкрайной, и слышитъ онъ свои унывныя пѣсни вольныя, которыя распѣвалъ онъ, бывало, разъѣзжая на своемъ челночкѣ-душегубкѣ по тихимъ днѣпровскимъ заводямъ, и шумныя стогна городскія… Очнется онъ, встряхнется отъ мечтаній грѣшныхъ и снова до поздней ночи за работу, отъ которой темнѣетъ въ глазахъ. И бросится онъ, изнеможденный, на жесткій одръ свой и вотъ вдругъ зазвучитъ колдовской, полный сладкой отравы, смѣхъ Ганны. Онъ вскочитъ, бросится съ молитвой отъ навожденія лукаваго на холодную жесткую землю и вотъ изъ темнаго угла тянутся къ нему бѣлыя, полныя, зовущія руки ея, онъ слышитъ даже тихое позвякиваніе ожерелья серебрянаго, онъ вдыхаетъ запахъ степныхъ травъ и росы, который идетъ отъ ея волосъ, отъ всего ея стройнаго, знойнаго тѣла… И въ отчаяніи бьется онъ кудлатой головой своей о сырую, нѣмую землю и изъ голубыхъ, когда-то дѣтски-ясныхъ глазъ его, теперь горячихъ и страшныхъ, катятся ядовитыя, жгучія слезы… Если новый богъ держалъ его крѣпко и не уступалъ Ганнѣ-полонянкѣ, то и Ганна-полонянка держала его не менѣе крѣпко и никакъ не хотѣла уступить его новому богу… И старецъ Ѳеодосій замѣтилъ муку великана и кротко увѣщевалъ его оставить пещерное житіе и итти въ міръ — съ проповѣдью спасенія пребывающимъ во тьмѣ сѣни смертной. — Тамъ, чадо мое, отдашь ты силу свою на дѣло Божіе… — говорилъ ему старецъ, когда съ первыхъ проталинокъ улыбнулись свѣтлому Хорсу-Дажьбогу первые нѣжные подснѣжники и съ островерхихъ кровель протянулись къ землѣ, какъ нити жемчуговъ перекатныхъ, сверкающія завѣсы капелей. — А у насъ тебѣ еще тѣсно, чадо мое… И вотъ, выждавъ, когда подсохнутъ степныя тропы, Андрей, получивъ благословеніе игумена, попрощавшись съ братіей и вскинувъ на плечи сумку съ черными сухарями, оставилъ свое узкое и скорбное скитское житіе и, вооруженный только длиннымъ посохомъ и словомъ божіимъ, вышелъ на вольную волюшку окаяннаго міра. И какъ только увидѣлъ онъ эти родные холмы, убѣгавшіе вдоль широко, какъ море, разлившагося Днѣпра въ голубую даль, какъ услышалъ онъ въ безднѣ неба, гдѣ блисталъ во всемъ своемъ величіи и красѣ Дажьбогъ лучезарный, трубные звуки каравановъ журавлиныхъ и журчаніе жаворонковъ невидимыхъ, какъ пахнуло ему въ душу сладкимъ запахомъ отходящей матери-земли, кормилицы, — палъ онъ на эту землю, весь обливаясь слезами радости несказанной. Онъ не зналъ, да и не хотѣлъ знать въ эти минуты, хорошо это или плохо, что такъ радуется онъ радостью молодой земли, отъ бога это или отъ прелестника-дьявола: хотя и не было съ нимъ Ганны-полонянки, въ эту минуту онъ былъ счастливъ… И онъ шелъ и шелъ, узнавая съ радостью тѣ мѣста, гдѣ онъ нѣкогда бортничалъ, гдѣ ставилъ онъ западни на звѣрей дикихъ, гдѣ жилъ онъ жизнью привольной и тихой, какъ звѣрь лѣсной. И въ попутныхъ поселкахъ, гдѣ гремѣли уже старинныя колдовскія пѣсни сперва въ честь чаровницы-весны, а потомъ Лада свѣтлаго и жаркаго Ярилы, и носили стройныя дикія дѣвушки по солнечнымъ дорогамъ разукрашенную лентами пестрыми нѣжную, бѣленькую березку, символъ матери-природы и матери вообще, и заводили игрища «межю селы», на которыхъ парни «умыкаху у воды дѣвиця» въ жены себѣ, — онъ всячески избѣгалъ того, что было страшнѣе всего: женщины. И это не было трудно: онъ внушалъ имъ, робкимъ, страхъ, этотъ большой, сильный человѣкъ въ странной, черной одеждѣ, съ сумрачно горѣвшими глазами. Онъ пробовалъ говорить имъ о Богѣ цареградскомъ, единственно истинномъ и онѣ охотно слушали его, и кормили его, и поили, но — сторонились его. А когда кончалъ онъ странныя рѣчи свои, въ тихомъ сіяніи молодого мѣсяца, свѣтлой чаровницы Мокошь, снова гремѣли старыя, колдовскія, грѣшныя пѣсни. И горько ему было, что онъ одинъ среди этого гомона и радости земли, и душа его томилась больно, и тоска о Ганнѣ мучила его, и бѣжалъ онъ отъ Ганны все дальше и дальше лѣсами дикими, держа путь свой къ той украинѣ земли Кіевской, гдѣ «по Оцѣ-рѣкѣ», смѣшавшись съ кроткою чудью бѣлоглазой, жили вятичи… И вотъ разъ, подъ вечеръ, когда надъ старымъ, звенящимъ въ вышинѣ боромъ сіяла свѣтлая Мокошь, покровительница родовъ и богиня женщинъ, и мавки-русалки длиннымъ бѣлымъ хороводомъ поднялись съ темнаго дна Ужвы-рѣки, что въ Оку пала, и покатилъ по водѣ верхомъ на сомѣ старый, добродушный толстякъ Водяной, недавно, на Никитинъ день, съ шумомъ проснувшійся отъ долгой зимней спячки своей, и кружился, веселясь и качаясь на длинныхъ вѣтвяхъ по лѣсу озорникъ Лѣшій, и защелкалъ въ душистой уремѣ колдунъ-соловей, онъ пришелъ въ небольшое селеніе, затерявшееся въ лѣсной пустынѣ. Тамъ, на широкой, зеленой полянѣ, полыхалъ огромный костеръ, — «пожаромъ» звали его въ тѣ времена, — а вокругъ него, въ однѣхъ холщевыхъ рубахахъ, искуссно вышитыхъ по вороту и по подолу, въ вѣнкахъ изъ молодыхъ цвѣтовъ на головѣ и съ бусами изъ зеленой глины на шеѣ, бѣшенымъ хороводомъ, изгибаясь стройными, горячими тѣлами, неслись дѣвушки съ пьяными глазами, съ жарко дышащими устами и «перескакаху чрезъ огнь по нѣкоему древлему обычаю». И снова кружились онѣ въ пестромъ хороводѣ, и пѣли жаркія пѣсни, и взвизгивали страстно отъ избытка жизни и любви. А вокругъ сидѣли вятичи-поселяне и глаза ихъ горѣли зеленымъ, пьянымъ огнемъ. И большой каменный Перунъ, сжимая въ десницѣ своей пучекъ ярыхъ молній, стоялъ на холмѣ, надъ дымящеюся рѣкой и, весь отъ луны серебряный, благосклонно взиралъ на эти игры дѣтей своихъ, и золотился въ серебряномъ сумракѣ у подножія его огонь священный неугасимый, поддерживаемый старымъ волхвомъ полѣньями дубовыми… И Андрей не зналъ, была ли это ревность о Господѣ или просто зависть къ этимъ, хотя и мимолетнымъ, но жгучимъ радостямъ земли, въ которыхъ ему уже нѣтъ доли, заговорила въ немъ, но, внутренно яростный, выступилъ онъ на поляну изъ чаши лѣсной и съ испуганнымъ визгомъ разбѣжались опьяненныя дѣвушки, и схватились за свои короткіе копья и ножи вятичи. Но не устрашился ихъ Андрей и съ крестомъ распятаго жидовинами бога въ высоко подъятой рукѣ вышелъ къ костру. И, видя, что онъ безоруженъ и одинъ, селяки успокоились, а такъ какъ всегда славились они гостепріимствомъ, то и встрѣтили они дальняго гостя привѣтствіями… И у догорающаго священнаго огня сгрудилась толпа лѣсныхъ Селяковъ и жадно слушала чудныя рѣчи странника о томъ, какъ сначала все было неустроено и духъ Божій носился надъ бездной, и какъ въ первый день грозный Богъ сотворилъ для человѣка эту вотъ землю, а во второй — твердь или видимое небо, чтобы днемъ согрѣвало людей солнышко, а ночью чтобы яркія звѣзды служили ему спутниками надежными въ лѣсныхъ пустыняхъ, какъ потомъ создалъ этотъ Богъ на потребу человѣкамъ птицъ, рыбъ и звѣрей всякихъ, а потомъ, когда все такимъ образомъ было готово, создалъ и самого человѣка, какъ люди размножились и прегрѣшили и Господь перетопилъ ихъ всѣхъ, какъ потомъ, долгое время спустя, у него родился сынъ, какъ сынъ этотъ старался обрезонить жидовиновъ жить по совѣсти и какъ тѣ не послушались его и распяли на крестѣ, и какъ онъ воскресъ и улетѣлъ на небо, и какъ надо вѣровать въ него и исполнять все, что приказалъ онъ: нельзя жрать нечисть всякую безъ разбору, нельзя срамословить предъ отьци и передъ снохами, и баловаться съ дѣвками на игрищахъ межю селы у священныхъ водъ, и не приносить идоламъ поганымъ никакой «жаризны», и многое другое… И долго, долго говорилъ онъ, а селяки слушали: они любили такія замысловатыя сказки до страсти… Уже черкнула на востокѣ, надъ зубчатою стѣною лѣсовъ, золотисто-зеленая полоска зари, а онъ все говорилъ и успокоившіяся дѣвушки смотрѣли ему въ глаза очарованными глазами изъ толпы поселянъ, сидѣвшей вкругъ него тѣснымъ кольцомъ… И вотъ отъ рѣки поднялся туманъ, бѣлый и мягкій, и свернулся легкими облачками розовыми и потянулся ввысь, и изъ-подъ густой пелены его вдругъ, весь озолоченный солнышкомъ, всталъ на крутомъ берегу Ужвы-рѣки Перунъ, сіяющій, и радостный, и многомилостивый… И возгорѣлось сердце Андрея великою ревностію о Господѣ истинномъ и сталъ яростно обличать онъ идола Перуна. Онъ говорилъ, что это лишь простой, обтесанный руками человѣческими камень, а не богъ, но селяки не вѣрили ему и въ сердцахъ ихъ поднялась темная туча. Андрей не устрашился и, грозный, предложилъ имъ великое испытаніе: вотъ онъ сброситъ Перуна съ берега въ рѣку и, если онъ богъ, пусть поразитъ его онъ своими золотыми стрѣлами, а если онъ только камень безчувственный, то пусть поклонятся вятичи богу истинному. Селяки приняли его предложеніе, хотя и не безъ великаго страха. И вотъ впереди смущенной толпы ихъ Андрей подошелъ къ берегу и съ замирающимъ сердцемъ — онъ не былъ все же такъ ужъ совсѣмъ увѣренъ, что этотъ Перунъ, благосклонно царившій надъ безбрежной пустыней лѣсовъ вятскихъ и надъ сердцами этихъ добродушныхъ и гостепріимныхъ людей, только камень, — и охватилъ его холодное, могучее тѣло своими узловатыми, могучими руками, и покачнулъ, и повалилъ, и, неуклюже переваливаясь съ боку на бокъ, Перунъ покатился къ краю обрыва, и сорвался съ берега, и среди тучи брилліантовыхъ брызгъ исчезъ въ водѣ. Толпа лѣсовиковъ ахнула и замерла, но — не было грома, не было молній, не потряслась въ ужасѣ земля и на холмѣ вмѣсто величаво-неподвижнаго бога стоялъ величаво-неподвижный съ горящими, изступленными глазами апостолъ новаго бога. И тотчасъ же многіе увѣровали въ бога истиннаго, и Андрей тутъ же крестилъ ихъ во имя Отца, Сына и святаго Духа въ изстари языческой Ужвѣ-рѣкѣ. Однако, къ вечеру того же дня вспыхнула въ селеніи тяжкая болѣзнь: въ жестокихъ корчахъ съ быстротой невѣроятной погибалъ одинъ селякъ за другимъ. И тотчасъ же, по обычаю, вспыхнулъ среди нихъ разладъ и жестокое недовольство: тѣ, которые остались вѣрны Перуну, объясняли все это местью поруганнаго бога, тѣ же, которые приняли новую вѣру, хотя и испугались, хотя и поколебалась втайнѣ, утверждали, что въ бѣдствіи виноваты непринявшіе новой вѣры, что это не Перунъ, а Богъ истинный караетъ ихъ, а, можетъ, и просто старый волхвъ нарочно, чтобы вызвать эти распри, отравилъ воду въ Гремячемъ Ключѣ. И отъ словъ лѣсовики перешли къ дракѣ, а отъ драки къ копьямъ и дубинамъ… И вотъ на холмѣ, съ котораго еще только вчера вечеромъ въ сіяніи луны благосклонно взиралъ Перунъ на игры и пляски дѣтей своихъ и на которомъ теперь уже водруженъ былъ Андреемъ огромный сосновый крестъ, началась кровавая свалка. Андрей и хотѣлъ бы остановить ее, но не могъ, и, безсильный, стоялъ онъ надъ толпой у креста, и ждалъ, когда все это кончится, и было ему скорбно: стало ему вдругъ жалко и своей молодой, изуродованной чѣмъ-то жизни, и ярымъ полымемъ полыхала въ сердцѣ его тоска о брошенной имъ Ганнѣ-полонянкѣ. И вдругъ на шумъ боя выбѣжала изъ лѣса женщина молодая и съ крикомъ бросилась къ нему. Въ одинъ мигъ узнало ее его сердце и поняло все: она бѣжала за нимъ со своей грѣшной любовью. И, сраженный неожиданностью, онъ отдѣлился отъ креста и призывно раскрылъ ей навстрѣчу руки. И въ то же мгновеніе каленая стрѣла, пущенная изъ-за кустовъ старымъ волхвомъ, звеня, впилась въ его сердце и онъ, истекая кровью, упалъ подъ ноги сражающимся, а на него, сраженная нечаяннымъ ударомъ копья, упала оборванная, окровавленная, изстрадавшаяся, но теперь совершенно счастливая Ганна-полонянка… И такъ какъ нововѣровъ было больше, чѣмъ сторонниковъ Перуна, они побѣдили и, побѣдивъ, сперва справили они по Андрею славную тризну съ игрой во свирѣли и лютни, съ пѣніемъ, съ примѣрными боями воиновъ, съ медомъ хмельнымъ, а затѣмъ съ великимъ торжествомъ погребли въ зеленомъ лонѣ матери-земли тѣло его и приказали уцѣлѣвшимъ поклонникамъ Перуна подъ страхомъ смерти немедленно креститься, что тѣ съ охотою великою и исполнили, ибо на дѣлѣ увидѣли превосходство новой вѣры надъ старою. И общими усиліями селяковъ старый волхвъ былъ сожженъ на огнѣ великомъ живьемъ во славу Бога истиннаго… И за павшимъ Андреемъ со стороны Кіева шли еще и еще проповѣдники новаго бога, а съ ними и дружинники князя кіевскаго, которые, ежели селяки гдѣ упрямились признать бога истиннаго, легонько эдакъ поторапливали ихъ по загривкамъ познать истинную вѣру и пріять царство небесное. И такъ «монастыреве на горахъ сташя и черноризцы явишася» и князь стольный кіевскій любилъ ихъ даже «до излиха» и всячески помогалъ имъ… И вскорѣ былъ основанъ монастырь на крутомъ берегу Ужвы-рѣки, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда, встрѣчая солнце, стоялъ Перунъ и гдѣ палъ Андрей, и назвали люди монастырь тотъ непыратый: Спасъ-на-Крови. И стали въ тѣхъ монастыряхъ черноризцы книги непонятныя списывать одну съ другой для просвѣщенія людей, и иконы писали красками яркими и раздавали ихъ селякамъ на мѣсто прежнихъ идоловъ поганыхъ, преходящаго творенія рукъ человѣческихъ, и шли въ тѣхъ монастырькахъ великіе споры о томъ, можно ли ѣсть кровь рыбью, и можно ли ѣсть бѣлку давленую, и что надо сдѣлать съ человѣкомъ тѣмъ, который передъ обѣдней постучитъ себѣ о зубы яйцомъ куринымъ, и можно ли попу обѣдню пѣть, ежели онъ у себя въ карманѣ платокъ женскій обнаружитъ, и слѣдуетъ ли носить бороду человѣку крещеному. И особенно любили почему-то черноризцы размышлять на тему: что есть жена? И, отвѣчая себѣ, они мудро говорили, что жена есть «сѣть утворена прельшающи человѣка во властяхъ свѣтлымъ лицомъ убо и высокими очима налидающи, ногами играющи, дѣлы убивающи, многы бо уязвиша низложи, тѣмъ же въ доброти женстѣй мнози прельщаются и отъ того любы яко огнь возгорается. Жена есть святымъ обложница, покоище змѣино, діяволь увѣтъ, безъ увѣта болѣзнь, поднѣчающая сковорода, спасаемымъ соблазнъ, безъисцѣльная злоба, купница бѣсовская…» И увѣряли всѣхъ чернецы смиренно, что тотъ, кто «не имѣ жены и кромѣ міра пребывая, заповѣди Господни исправити можетъ, а съ женою и съ чады живуще не можетъ спастися», и находились люди, которые поэтому бросали женъ и дѣтей безъ пристанища, и шли въ монастырь, и опять и опять разсуждали дружно о путяхъ спасенія, и увеличивали казну свою, и заводили холоповъ многихъ и пріобрѣтали вотчины необозримыя… И мудро постановляли: «въ говѣнье дѣтяти молоду коровьяго молока не ясти: два говѣнья матерь ссетъ, а во третье не дати ему ясти; въ говѣнье не достоитъ сидѣти нога на ногу взложивше; чеснокъ достоитъ ясти въ Благочѣщеньевъ день и сорокъ мученикъ; аще кто помочится на востокъ, да поклонится 300. Попъ, аще хощетъ литургисати, да не ястъ луку преже за единъ день…» и т. п. И такъ распространялось просвѣщеніе это и вѣра христіанская изъ монастырьковъ тѣхъ. И люди положительные, уставя брады своя, говорили степенно: кабы вѣра эта была плохая, князь съ боярами не приняли бы ея. Но были, конечно, и вольнодумцы, которыхъ это просвѣщеніе не удовлетворяло. И многіе селяки-вятичи считали встрѣчу съ монахомъ недобрымъ знакомъ — какъ и со свиньей, — и возвращались немедленно послѣ такой встрѣчи домой. И жаловались черноризцы, что церкви ихъ стоятъ пусты, а на игрищахъ всегда полно людей, такъ, что одинъ толкаетъ другого. И простые люди думали, что вѣнчаніе въ церкви новаго бога нужно только боярамъ и людямъ именитымъ, а сами брали себѣ женъ съ плясаніемъ и гудѣніемъ и этимъ плясаніемъ и гудѣніемъ только и ограничивались. Волхвы, загнанные въ дебри лѣсныя, смучали простыхъ селяковъ всякими побасками нелѣпыми и иногда дерзость ихъ была во истину изумительна: такъ въ 1071 г. «приде волхвъ прельщенъ бѣсомъ, пришелъ бо Кіеву глаголаше сице, повѣдая людямъ яко на пятое лѣто Днѣпру потещи вспять и землямъ преступати на ина мѣста, яко стати Гречьски земли на Руской, а Русьскѣй на Гречьской, и прочимъ землямъ измѣнитися; его же невѣгласи послушаху, а вѣрніе же насмѣхаются, глаголюше ему: бѣсъ тобою играетъ на пагубу тебѣ.» И вѣрніи оказались, конечно, правы: злой кудесникъ погибъ въ одну ночь отъ бѣса. Многіе же селяки-вятичи и другіе уходили отъ монаховъ и дружинниковъ въ лѣса темные и образовывали разбойничьи шайки. И епископы христіанскіе сказали Владиміру Красну Солнышку: пошто не казнишь ихъ? И отвѣчалъ добрый князь: боюся грѣха. И разъяснили епископы бога добраго: ты поставленъ отъ Бога на казнь злымъ и добрымъ на милованіе. И послушался ихъ Владиміръ Красно Солнышко и сталъ казнить селяковъ непокорныхъ богу новому, и тѣмъ укрѣпилъ вѣру христіанскую въ землѣ русской отъ края и до края… Монастырь Спаса-на-Крови скоро прославился и, прославившись, разбогатѣлъ. И надѣли черноризцы мантіи широкія и, кушая золотистыхъ осетровъ и уху янтарную изъ стерляди востроносой, говорили людямъ о гибельности міра и спасеніи души… Но — не умерли и не умираютъ древніе славянскіе боги Земли Русской: такъ же роскошно сіяетъ надъ землей Сварогъ таинственный, отецъ всѣхъ боговъ, и восходитъ каждое утро, все радуя, Дажь-Богъ или Хорсъ сверкающій, и гремитъ и блистаетъ своей тяжкой палицей Перунъ-жизнедавецъ, и шумитъ вѣтрами своими Стрибогъ, и пасетъ в раздольныхъ долинахъ небесныхъ свои сіяющія стада Волосъ, и ворожитъ свѣтлая Мокошь, и озорной Лѣшій носится по лѣсамъ, и шумитъ въ рѣкѣ добродушный Водяной, и мавки-русалки играютъ съ жемчугомъ луннымъ, и таится въ хлѣбахъ дѣдъ Полевикъ, и хозяйничаетъ на дворѣ тихій заботникъ Домовой: нѣтъ, нѣтъ, не все, что было, прошло да быльемъ поросло!..I. — «КОЛОКОЛА»
Андрей Ипполитовичъ, только годъ назадъ окончившій университетъ, филологъ и артистъ въ душѣ, съ какою-то толстой, хорошо изданной книгой, вошелъ въ старенькую, сѣренькую бесѣдку, висѣвшую надъ широкой, сонной, сплошь заросшей всякими водорослями и бѣлыми лиліями Старицей, и сѣлъ у раскрытаго окошка съ цвѣтными стеклами, чтобы почитать. Но не читалось ему: слишкомъ хорошо было это раннее вешнее утро, слишкомъ пьянилъ сладкій духъ черемухи, и косые золотые лучи солнца, которые прорѣзывали тамъ и сямъ высокія, стрѣльчатыя аллеи стараго парка, наполняли душу свѣтлой, безграничной радостью. Андрей былъ очень чутокъ къ красотамъ природы и ко всякой красотѣ, онъ страстно любилъ всѣ искусства и, скрывая это, какъ тяжкій грѣхъ, и самъ писалъ недурные стихи… Онъ снова раскрылъ книгу и попробовалъ читать. Эти были трагедіи Эсхила. Не самыя трагедіи были нужны ему — онъ ихъ зналъ уже давно. Ему хотѣлось открыть въ нихъ ту тайну очарованія, которая, какъ медъ, истекаетъ изъ нихъ вотъ уже тысячелѣтія: онъ и самъ трудился надъ большой философской поэмой, въ которой онъ хотѣлъ излить все, что онъ нашелъ въ жизни за свои двадцать четыре года. Но чтеніе опять не пошло и онъ, глядя на красивую трагическую маску на обложкѣ книги, задумался и его красивое лицо съ золотистыми усиками и бородкой, какъ у Ванъ-Дейка, и голубыми глазами, изъ тѣхъ, которые рѣдко смѣются, стало торжественно и мягко. И тихій вѣтерокъ, влетѣвшій въ раскрытое окно, мягко шевелилъ его длинными золотистыми волосами — онъ любилъ ласку солнца и всегда ходилъ въ деревнѣ безъ шляпы… И сладко дремалъ въ сіяніи утра старинный паркъ, и спала тихая, почти черная вода Старицы съ неподвижными, точно заколдованными камышами и водорослями, и въ мозгу Андрея ярко развертывались прекрасные образы его философской поэмы «Колокола». Его мало интересовала суетливая современность; онъ былъ по преимуществу созерцателемъ; внутренняя жизнь его шла какими-то и для него совершенно неожиданными, таинственными путями и чѣмъ неожиданнѣе были эти изломы жизни въ его душѣ, тѣмъ ярче и глубже ощущалъ онъ пьянящую сладость бытія… Сюжетъ его поэмы былъ изъ не совсѣмъ обычныхъ. Это была тема, надъ которой онъ усердно работалъ прежде всего для самого себя. Съ одной стороны его съ дѣтства какъ-то тяготили люди, онъ не любилъ ихъ за творимую ими тѣсноту жизни, за ихъ шумъ и кровавую суетливость, а съ другой стороны — возможно ли счастье безъ людей? И онъ, отвѣчая себѣ на этотъ вопросъ, медленно, вдумчиво, любовно воздвигалъ стройное, нарядно-звучащее зданіе своей свѣтлой поэмы «Колокола». Въ 2687 г., послѣ страшной и опустошительной войны между Европейскими и Американскими Соединенными Штатами съ одной стороны и великими республиками Азіи, на сторону которыхъ сталъ почти весь черный континентъ, — съ другой, жизнь людей, оправившись послѣ страшныхъ потрясеній, забила съ особенною яркостью и силой. Ломались старыя, уже изжитыя формы общежитія и создавались новыя, въ искусствахъ и наукахъ расцвѣли такія достиженія, что головы людей восторженно кружились отъ радостнаго сознанія мощи человѣческаго интеллекта и отъ жажды новыхъ радостныхъ возможностей; людскія страсти били особенно горячими ключами и вся жизнь казалась людямъ волшебной и пестрой сказкой, торжественнымъ и веселымъ праздникомъ. И какъ разъ въ это время надвинулась на землю изъ безднъ вселенной гигантская комета. Одни астрономы говорили, что она спалитъ всю жизнь земли въ огневыхъ вихряхъ несказанной ярости, другіе утверждали, что комета сорветъ съ земли ея атмосферный покровъ и люди въ мукахъ погибнутъ отъ недостатка воздуха, третьи увѣряли, что никакой опасности комета для земли не представляетъ: это будетъ такъ что-то вродѣ свѣтовой ванны. Предсказанія астрономовъ пугали людей нѣсколько, но споры ихъ смѣшили своей противорѣчивостью и въ концѣ концовъ они не вѣрили ученымъ и жизнь текла, какъ широкая, полноводная рѣка, величавая и прекрасная… А комета охватывала по ночамъ уже полнеба… И жилъ въ это время на землѣ одинъ юноша, философъ и поэтъ, который, томясь людской суетой, ушелъ высоко въ горы и жилъ тамъ среди прекрасныхъ вершинъ, слагая звучныя строфы о жизни земли, которая лежала у его ногъ въ голубомъ туманѣ, далекая, манящая и прекрасная. И вдругъ въ одинъ яркій день отшельникъ-поэтъ замѣтилъ, что вся земля внизу одѣлась въ какую-то мутную пелену, тяжелую и зловѣщую. И странно: замолкли вдругъ всѣ колокола земли, которыя онъ такъ любилъ слушать со своихъ высотъ… И постепенно зловѣще-мутные газы разсѣялись, уползая вдаль тяжелыми гигантскими змѣями, и предъ юношей открылась ужасающая картина черной, совершенно соженной земли. Томимый тяжелыми предчувствіями, онъ спустился со своихъ горъ и увидѣлъ, что комета какимъ-то ядомъ отравила все живое на землѣ. Всюду, въ селеніяхъ и городахъ, по лѣсамъ и на моряхъ валялись и плавали тысячи, милліоны труповъ животныхъ и людей, захваченныхъ внезапной смертью за своими повседневными занятіями. Съ ужасомъ нашелъ онъ своего стараго отца, который, склонившись надъ древними текстами, казалось, былъ погруженъ въ глубокую думу, но на самомъ дѣлѣ былъ мертвъ; онъ видѣлъ тысячи прекрасныхъ дѣвушекъ, которыя валялись повсюду и съ невыразимой кротостью смотрѣли въ небо остеклянѣвшими глазами; онъ видѣлъ астрономовъ, умершихъ подъ своими могучими телескопами, видѣлъ тысячи милыхъ дѣтей, какъ цвѣты скошенныхъ хвостомъ страшной кометы. Юноша-поэтъ раньше и самъ въ тайныхъ грезахъ своихъ видѣлъ освобожденную отъ суетливыхъ людей землю, зеленую и солнечную, на которой онъ, поэтъ, живетъ одинъ, вольный и счастливый. Но теперь, когда все это дѣйствительно случилось, онъ прямо окаменѣлъ отъ ужаса и волосы на головѣ его становились дыбомъ. Эта опустошенная, тихая, какъ кладбище, земля съ почернѣвшими лугами и лѣсами была такъ ужасна, что его умъ мутился и душа его мучилась нестерпимо и не тѣмъ, что вотъ умерли милліоны живыхъ существъ, — смерть удѣлъ всего земного, — а тѣмъ, что вотъ онъ остался одинъ во вселенной… Но человѣкъ ко всему привыкаетъ — въ этомъ спасеніе его и ужасъ его. Привыкъ и онъ понемногу къ своему тяжелому одиночеству и, грустный, день за днемъ жилъ на опустошенной землѣ, на которой праздничнымъ утромъ не звонили уже въ голубой вышинѣ колокола. Травы и деревья оживали понемногу, щебетали въ перелѣскахъ какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшія и очень еще рѣдкія птички, и плясали въ золотыхъ лучахъ солнца тихими вечерами свою пляску веселыя мошки, и необыкновенно пышной красой сіяла пустынная земля въ то время, какъ горѣли и играли въ небѣ вечернія облака, на которыя теперь уже не было кому, кромѣ него, любоваться. И слагались въ душѣ его печальные гимны. Но странно: живой родникъ поэзіи, такъ горячо бившій нѣкогда въ его душѣ, сталъ точно слабѣть, священный огонекъ едва теплился, готовый вотъ-вотъ угаснуть. И онъ понялъ, почему: главный предметъ человѣческой поэзіи это человѣческая душа, зеркало міра, съ ея страстями и нѣжными переливами чувствъ, но человѣка на землѣ уже не было и не о комъ было слагать звучныя поэмы и не для кого… И грустный, прощаясь со своими послѣдними воспоминаніями о человѣчествѣ, ходилъ онъ — и годъ, и два, и три… — изъ края въ край по безбрежной землѣ и нестерпимо тосковалъ о человѣкѣ, который нѣкогда такъ тѣснилъ его, такъ тяготилъ, и о встрѣчѣ съ которымъ онъ только и мечталъ теперь. И тѣмъ болѣе казалась ему такая встрѣча вѣроятной, что все чаще и чаще стали ему встрѣчаться въ его скитаніяхъ животныя — такія довѣрчивыя теперь и кроткія, — которыя быстро размножались отъ немногихъ уцѣлѣвшихъ, видимо, на большихъ высотахъ особей. И съ мукой тяжкой, съ палящей жаждой неустанно мечталъ онъ о женщинѣ, златокудрой, какъ солнце, и стройной, какъ молодая березка, съ милыми, нѣжными, зовущими глазами… И вотъ вдругъ разъ, когда онъ тихимъ золотымъ вечеромъ, печальный, подходилъ къ бѣлѣющему среди горъ тихому городку, вотъ вдругъ навстрѣчу ему понеслись бурно-радостные звоны колоколовъ… Обезумѣвъ отъ радости, задыхаясь, онъ бросился къ городу. Въ своемъ воображеніи онъ уже видѣлъ людей, видѣлъ ту, златокудрую и нѣжную, по которой такъ мучительно томилась его душа длинными темными ночами, видѣлъ, какъ по заросшей дикими травами и цвѣтами площади она спѣшитъ ему навстрѣчу, радостная и смущенная, и — бѣжалъ, бѣжалъ, блѣдный отъ волненія, задыхаясь, на звуки колоколовъ, которыхъ онъ столько времени не слыхалъ… А колокола все гудѣли — бурно, радостно, торжественно, точно привѣтствуя возрожденіе человѣческой жизни на землѣ со всѣми ея человѣческими скорбями и радостями. Онъ уже бѣжитъ, спотыкаясь отъ волненія и радости, заросшими улицами и площадями, онъ шаритъ жадно глазами по окнамъ, переулкамъ и площадямъ, онъ летитъ… Вотъ онъ уже подъ порталомъ бѣлаго собора, вотъ онъ несется уже по каменнымъ ступенямъ на гудящую колокольню. Еще только нѣсколько ступеней… одна ступень… одинъ шагъ… Онъ съ силой отбрасываетъ тяжелую дверь — то, рѣзвясь, наполняетъ всю землю ликующимъ шумомъ омертвѣвшихъ-было колоколовъ цѣлая семья… медвѣжатъ!.. — Все одинъ, все одинъ!.. — раздался надъ нимъ мелодичный, немножко насмѣшливый голосъ. — Упиваетесь мечтами? Онъ такъ и затрепеталъ весь: предъ нимъ златокудрая, стройная, нѣжная, почти такая, какою онъ видѣлъ въ грезахъ своихъ желанную, ожидающую его въ пустынѣ, подъ ликуюшіе звуки колоколовъ, стояла въ мягкомъ сіяніи утра Ксенія Федоровна, жена его пріемнаго отца. Она съ улыбкой осмотрѣла его помятую, вышитую по воротнику косоворотку и влажные сапоги, къ которымъ пристали былинки и лепестки цвѣтовъ, — по обыкновенію пробродилъ, вѣроятно, все утро… — Ну, не смотрите же такъ на меня! — проговорила она съ улыбкой. — Развѣ вы хотите съѣсть меня? И скажите: почему вы всегда смотрите исподлобья и почти никогда не улыбаетесь? — Не замѣчалъ… Не знаю… — какъ всегда, смутившись, отвѣчалъ онъ. — Всегда исподлобья… Иногда мнѣ даже страшно дѣлается… И она засмѣялась своимъ серебристымъ смѣхомъ. — Ну, идемте чай пить… А то дѣдушкѣ одному скучно… Дѣдушкой она звала своего мужа и это было всегда непріятно Андрею почему-то… Онъ всталъ и стрѣльчатыми аллеями, полными трепетанія теплыхъ солнечныхъ зайчиковъ, молча пошелъ за Ксеніей Федоровной. И сердце его тревожно билось… А она шла впереди, что-то напѣвая, и, повидимому, не обращала на него ни малѣйшаго вниманія. Андрей зналъ ее еще дѣвушкой, когда она была учительницей въ селѣ Егорьевскомъ, неподалеку. И тогда, при первой встрѣчѣ его съ ней — тогда совсѣмъ не была она такъ хороша, какъ теперь — забилось его сердце сладкимъ волненіемъ. Но было въ ней что-то такое, что пугало его и тогда, и теперь. Иногда казалась она ему похожей на чутко дремлющую кошку съ этимъ ея стройнымъ, гибкимъ тѣломъ и точно зелеными, хищно мерцающими иногда глазами. И всегда издѣвалась она надъ всѣмъ «идеальнымъ», какъ говорила она. И тогда около нея чрезвычайно увивался одинъ изъ молодыхъ сосѣдей, кирасиръ-корнетъ князь Судогодскій… Андрей всегда робѣлъ съ женщинами, боязливо сторонился ихъ и онъ отошелъ отъ нея, а когда въ прошломъ году вернулся онъ на лѣто въ «Угоръ», онъ нашелъ Ксенію Федоровну уже хозяйкой старой усадьбы и Левъ Аполлоновичъ, пріемный отецъ его, смущенно шутя, просилъ его дружно жить съ молодой хозяйкой, которая, надѣялся онъ, тоже не будетъ обижать его пріемнаго сына. И всѣ были точно смущены… Въ то лѣто онъ не долго пробылъ въ «Угорѣ» и уѣхалъ со своимъ учителемъ и другомъ профессоромъ Максимомъ Максимовичемъ Сорокопутовымъ на крайній сѣверъ, куда его тянуло безлюдье и старина, сѣдыя легенды и былины, и эти удивительныя, многоглавыя старинныя церковки, доживавшія свои послѣдніе годы надъ свѣтлой гладью водъ, среди угрюмыхъ лѣсовъ и болотъ, уѣхалъ, унося въ сердцѣ, въ самыхъ отдаленныхъ тайникахъ его, златокудрый образъ съ томно зелеными глазами… Не прошла тяжелая неловкость и въ этомъ году, когда онъ, какъ всегда, пріѣхалъ отдохнуть въ «Угоръ». И не узналъ Андрей Ксеніи Федоровны: въ этой изящной, прекрасно одѣтой женщинѣ совсѣмъ потонула та прежняя захудалая земская учительница. Казалось, что она такъ и выросла въ этой обстановкѣ и совсѣмъ никогда и не знала заботы о завтрашнемъ днѣ. И онъ думалъ о ней и днями и ночами, и мучительно тянулся къ ней, и боялся этого страшно… Они вышли на широкую луговину передъ старымъ, темнымъ домомъ, гдѣ на огромныхъ, старинныхъ куртинахъ уже распушились недавно посаженные цвѣты. За потемнѣвшимъ палисадникомъ виднѣлся широкій залитый солнцемъ дворъ, гдѣ въ теплой пахучей пыли возились куры, утки, индѣйки и пѣтухи, поджавъ одну ногу и скашивая на бокъ голову, строго оглядывали синій небосклонъ: не видно ли гдѣ хищной тѣни ястреба? Среди нихъ, подъ молодой кудрявой рябинкой, съ корзиной крупной и душистой клубники въ рукахъ стояла бывшая нянька, маленькая, старая горбунья Варвара, жившая въ «Угорѣ» съ незапамятныхъ временъ. Варвара видѣла все всегда въ самомъ мрачномъ видѣ, всегда ожидала всяческихъ бѣдствій и всячески отравляла жизнь своей племянницѣ-сиротѣ, Наташѣ, которая служила въ «Угорѣ» горничной и все стремилась уйти въ монастырь… Варвара обратила на Ксенію Федоровну и Андрея свое старое сморщенное лицо, долго смотрѣла имъ вслѣдъ своими увядшими глазами и, маленькая, сухенькая, зловѣще покачала своей облѣзлой, повязанной чернымъ платкомъ головой и тяжело вздохнула: — О-хо-хо-хо-хо… И носились надъ усадьбой пьяныя солнцемъ ласточки, и звенѣли совсѣмъ обезумѣвшія отъ радости жить мухи, и гудѣли пчелы среди бѣло-розовыхъ шатровъ старыхъ яблонь, и бѣжали куда-то бѣлыя, пушистыя облака въ синевѣ неба и, казалось, было все счастливо такъ, что больше ужъ и нельзя было быть…II. — СТАРЫЙ МОРЯКЪ
На широкой, тѣнистой террасѣ, сплошь затканной дикимъ виноградомъ, въ просторной, чесучовой парѣ сидѣлъ за дымившимся стаканомъ чая Левъ Аполлоновичъ Столпинъ, отставной капитанъ черноморскаго флота, владѣлецъ «Угора», крѣпкій, бѣлоголовый старикъ средняго роста, широкоплечій, съ некрасивымъ, обвисшимъ, но умнымъ, на-чисто бритымъ лицомъ и твердыми, прямыми глазами. Въ молодые годы жизнепониманіе Льва Аполлоновича было чрезвычайно просто, ясно и твердо: есть Россія, домъ нашихъ предковъ, нашъ домъ и домъ дѣтей нашихъ, и есть другія, ей, большей частью, враждебныя страны. Если Россія хочетъ существовать, она должна, какъ и все, бороться за свое существованіе. Для этого нужно прежде всего, чтобы армія ея и флотъ стояли на должной высотѣ, а для этого, въ свою очередь, нужно, чтобы всѣ люди арміи и флота честно и сурово исполняли свой долгъ до конца, а въ особенности тѣ, кто занимаетъ командные посты. Левъ Аполлоновичъ думалъ, что буря и бой это нормальное состояніе моряка, а штиль, портъ, миръ — исключеніе, временный отдыхъ, подарокъ судьбы. И матросовъ своихъ, и офицеровъ онъ «тянулъ» такъ, что на его крейсеръ «Пантера» даже съ берега всѣ смотрѣли съ замираніемъ сердца. Но онъ отдавалъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, что среди морского офицерства, среди всѣхъ этихъ береговыхъ франтовъ съ кортикомъ и карьеристовъ такихъ людей, какъ онъ, очень немного, и тѣмъ суровѣе былъ онъ къ себѣ. Грянула японская война. Самый близкій другъ его, Ипполитъ Лукоморинъ, командиръ крейсера «Память Чесмы», вмѣстѣ съ эскадрой адмирала Рождественскаго пошелъ на Дальній Востокъ, поручивъ его заботамъ своего единственнаго сына Андрея, тогда молоденькаго гардемарина, и простился съ нимъ на-вѣки: всѣ хорошіе моряки понимали, что безумными правителями эскадра Рождественскаго посылается на гибель, что японцы разстрѣляютъ ее съ безопаснаго для себя разстоянія и что только чудо можетъ спасти обреченныхъ на безславную и безсмысленную гибель. Чуда не случилось и эскадра страшно погибла, а вмѣстѣ съ ней погибъ Лукоморинъ, одинъ изъ лучшихъ моряковъ балтійскаго флота. И тутъ впервые — онъ посѣдѣлъ за время японской войны, — Левъ Аполлоновичъ призадумался и еще смутно понялъ, что если всѣ они исполнятъ свой долгъ до конца, а Петербургъ останется Петербургомъ, то жертва ихъ будетъ жертвой безплодной.Война закончилась революціей. Возмущенной душой Левъ Аполлоновичъ былъ на сторонѣ потерявшаго терпѣніе народа, но и прирожденная лойяльность, и боязнь революціи въ условіяхъ русской дикости заставили его твердо остаться на своемъ посту. Зашумѣлъ и черноморскій флотъ, почувствовалось броженіе и на борту «Пантеры». Левъ Аполлоновичъ вызвалъ къ себѣ своего единственнаго сына, Володю, служившаго мичманомъ на его кораблѣ. Онъ любилъ сына всей душой и потому «тянулъ» его такъ, какъ не «тянулъ» ни одного изъ своихъ офицеровъ, и сынъ понималъ его, и смотрѣлъ на него преданными и влюбленными глазами. И когда сынъ переступилъ порогъ его каюты, онъ обернулся къ нему, долго, молча, любовно смотрѣлъ въ его красивое, мужественное лицо и, наконецъ, тихо сказалъ: — Володя, у насъ на борту неблагополучно. Не сегодня, такъ завтра вспыхнетъ бунтъ. Сейчасъ же иди въ минные погреба и будь тамъ безвыходно: по моему первому слову ты взорвешь корабль. Ты понялъ меня? — Понялъ, папа. Все будетъ исполнено. Отецъ крѣпко сжалъ ему руку и сказалъ: — Иди! Онъ не ошибся: на другое же утро, когда крейсеръ шелъ къ кавказскимъ берегамъ, — тамъ волновались горцы, — и когда капитанъ былъ на командирскомъ мостикѣ, матросы вдругъ высыпали всѣ на палубу и, тревожно и злобно шумя, придвинулись къ мостику со всѣхъ сторонъ. Въ поведеніи ихъ чувствовалась нерѣшительность: они знали своего командира. Ярко вспыхнулъ на палубѣ красный флагъ. — Смирно! — рѣшительно крикнулъ съ мостика Левъ Аполлоновичъ. — Слушай всѣ! И, обратившись къ телефону въ минные погреба, онъ громкосказалъ: — Мичманъ Столпинъ! — Есть! — отвѣчалъ молодой голосъ изъ нѣдръ корабля. — Приготовьтесь! Если точно черезъ десять минутъ не послѣдуетъ личной отмѣны моего приказанія, вы взорвете корабль… — Есть, г. капитанъ! И, выпрямившись, капитанъ крикнулъ въ разомъ смутившуюся толпу: — Если въ теченіе десяти минутъ вы не выдадите мнѣ всѣхъ зачинщиковъ бунта, корабль будетъ взорванъ… Слышали? — онъ вынулъ часы. — Итакъ, десять минутъ на размышленіе… Матросы отлично знали и его и молодого мичмана Столпина, и тревожно загалдѣли: они уже искали виноватаго. Капитанъ съ часами въ рукахъ стоялъ на мостикѣ. Стрѣлка медленно ползла впередъ. Въ минномъ погребѣ, рѣшительный и торжественный, стоялъ молодой мичманъ и не спускалъ глазъ съ циферблата: шесть минутъ… пять минуть… три минуты… Двѣ минуты… Предъ командирскимъ мостикомъ стояло восемь человѣкъ связанныхъ матросовъ и вся команда, тихая, смущенная, побѣжденная. И слышенъ былъ только плескъ волны, взрѣзаемой острымъ носомъ быстро бѣгущаго крейсера. — Мичманъ Столпинъ! — Есть, г. капитанъ! — Вамъ приказано взорвать крейсеръ… — Такъ точно, г. капитанъ… — Отставить! — внятно произнесъ командиръ. — Есть, г. капитанъ! — дрогнулъ голосъ мичмана и изъ молодыхъ глазъ неудержимо брызнули слезы. — И вы будете безсмѣнно въ минномъ погребѣ до моего личнаго распоряженія… — Есть, г. капитанъ… Уже чрезъ часъ было вынесено постановленіе военно-морского суда и въ солнечномъ просторѣ моря рѣзко рванулъ залпъ. А чрезъ три дня въ Сухумѣ, гдѣ «Пантера» бросила якорь и гдѣ для демонстраціи былъ высаженъ дессантъ, изъ засады въ колючкѣ пулей былъ убитъ неизвѣстко кѣмъ мичманъ Столпинъ. Гибель стараго друга подъ Цусимой и гибель единственнаго любимаго сына, убитаго своей же, русской рукой за исполненіе своего воинскаго долга, потрясли Льва Аполлоновича до дна его прямой, честной души. Его старое, стройное, но немного наивное жизнепониманіе разомъ развалилось: онъ окончательно понялъ, что, пока Петербургъ останется Петербургомъ, жертва честныхъ слугъ родины останется жертвой безплодной, онъ понялъ, что самый страшный врагъ Россіи это русское правительство. Онъ выждалъ на своемъ посту, пока кончилась революція, а затѣмъ вышелъ въ отставку и, взявъ изъ морского училища сына-сироту своего друга, Андрея, который тяготился военной карьерой, уѣхалъ въ свое запущенное и почти бездоходное имѣніе «Угоръ». Онъ энергично взялся за хозяйство, быстро привелъ въ порядокъ то, что можно было въ условіяхъ дикаго, лѣсного края, и принялъ участіе въ земской работѣ: если земля сама себѣ не поможетъ, то кто же еще ей поможетъ? Человѣкъ много видѣвшій, осторожный, онъ не далъ говорунамъ завлечь себя въ политическую игру, въ которой было много легкомысленнаго, онъ хотѣлъ серьознаго дѣла, но и тутъ скоро онъ увидѣлъ то же, что и во флотѣ: было много карьеристовъ, было много ко всему равнодушныхъ, была жажда денегъ и популярности, но очень, очень мало было сознанія Россіи, жажды ея пользы, ея преуспѣянія. И все болѣе и болѣе хмурился старый морякъ… Разъ какъ-то, заскучавъ среди своихъ лѣсовъ, поѣхалъ онъ на югъ, повидать голубое море, Севастополь, солнечные берега, родной флотъ. И по дорогі изъ Байдаръ въ Алупку пришлось ему ѣхать въ коляскѣ съ незнакомымъ морякомъ, вылощеннымъ лейтенантомъ, который былъ похожъ на все, что угодно, только не на моряка. Заговорили о флотѣ. — Но почему же вы торчите все въ порту? — сказало Левъ Аполлоновичъ. — Почему не крейсирует вы, напримѣръ, у кавказскихъ береговъ? Это было бы не вредно… — У кавказскихъ береговъ? — лѣниво переспросилъ дэнди съ кортикомъ. — Ахъ, тамъ всегда такъ качаетъ!.. Старикъ промолчалъ. Въ сердцѣ темной тучей поднялось предчувствіе какой-то смутной, но грозной катастрофы. И всталъ вопросъ: что жъ дѣлать? Какъ спастись? Что весь этотъ страшный развалъ значитъ? Онъ скоро вернулся, хмурый, домой и въ тишинѣ родового гнѣзда безъ конца передумывалъ свои новыя, тяжелыя, неотвязныя думы. И газеты, и мѣстные говоруны со всѣхъ сторонъ подсказывали ему разгадку русской загадки, — стоитъ только передать власть имъ, — но онъ прямымъ, недовѣрчивымъ умомъ своимъ очень скоро раскусилъ всю мелочность этихъ трафаретныхъ выкриковъ. И чувство гражданской отвѣтственности въ немъ не только не затихло, но, наоборотъ, все болѣе и болѣе крѣпло: надо кричать, надо будить спящихъ, беззаботныхъ, легкомысленныхъ! И онъ посылалъ въ Петербургъ большой, обстоятельный докладъ по морскому дѣлу: оно поставлено въ Россіи на совершенно ложныхъ основаніяхъ, ибо, если сильный флотъ нуженъ островной Англіи съ ея далекими колоніями, то огромной континентальной Россіи онъ совершенно не нуженъ. Знаменитая теорія, что лучшая защита есть нападеніе, есть теорія безсмысленная и лживая, придуманная профессіоналами войны для оправданія всякихъ авантюръ. Расточать потъ и кровь народа на безконечныя вооруженія, даже не задумываясь, нужно ли это, есть преступленіе. Никакія завоеванія Россіи не нужны: ей достаточно дѣла съ устроеніемъ того, что уже пріобрѣтено. А разъ завоеванія ей не нужны, то не нуженъ ей и громадный флотъ, который она теперь содержитъ: для защиты береговъ нужны лишь небольшія, хорошо поставленныя минныя и подводныя эскадры… Докладъ его читали, пожимали плечами и — клали подъ сукно: помилуйте, если не совершенно красный, то во всякомъ случаѣ опасный и безпокойный человѣкъ… Левъ Аполлоновичъ тѣмъ временемъ велъ компанію въ земствѣ, чтобы для зарѣчныхъ деревень открыли хоть одну больницу: онъ предлагаетъ безплатно флигель у себя на усадьбѣ, отопленіе и освѣщеніе — земство должно дать только средства на персоналъ. Но онъ не принадлежалъ къ командующей въ древлянскомъ земствѣ либеральной партіи и его дѣло тянули и тянули безъ конца. И онъ выступилъ съ предложеніемъ о томъ, чтобы земство пришло на помощь правительству въ дѣлѣ насажденія хуторовъ: реформа громаднаго значенія, въ ней спасеніе крестьянской Росссіи отъ нищеты, а Россіи правящей — отъ революціи. Такъ какъ это было явно нелиберально, то послѣ долгихъ и горячихъ дебатовъ проэктъ его провалили. И такъ и шло… И Левъ Аполлоновичъ сталъ все больше и больше уходить въ свое хозяйство: самъ ухаживалъ за садомъ, водилъ пчелъ, а то уходилъ просто въ лѣса или на рѣку, подальше отъ людей… И неожиданно для всѣхъ — да и для себя, пожалуй, — онъ женился на Ксеніи Федоровнѣ. Онъ старался не думать, не анализировать своего чувства къ ней, которое заставило его рѣшиться на этотъ рискованный и немножко въ его возрастѣ смѣшной шагъ: была тутъ и тоска одиночества, и жалость къ этой красивой, одинокой дѣвушкѣ, которая неизбѣжно опустилась бы и заглохла въ страшной нуждѣ и тяжелой атмосферѣ народной школы, задыхавшейся подъ тупымъ и ревнивымъ надзоромъ батюшекъ, становыхъ и другихъ блюстителей блага народнаго. Было въ этомъ чувствѣ — и въ этомъ было совѣстно признаться самому себѣ, — и простое, послѣднее влеченіе къ женщинѣ, къ этому прекрасному, стройному тѣлу, которое такъ обидно было видѣть въ затрапезномъ ситцевомъ платьишкѣ… И даже глухая молва о назойливомъ и, какъ говорили сплетники, успѣшномъ ухаживаніи молодого князя Судогодскаго не остановили его… — Какъ и думала: сидитъ въ старой бесѣдкѣ и мечтаетъ… — со своимъ обычнымъ смѣшкомъ проговорила Ксенія Федоровна, сѣла за самоваръ и спокойными, увѣренными движеніями стала наливать чай. — Вотъ сливки… Хотите клубники? И всѣ тяжело чувствовали, что говорить не о чемъ, что все, что они скажутъ, будетъ притворствомъ, ложью, нужной только для того, чтобы скрыть то важное, что наростало между ними неудержимо. — Что новаго въ газетахъ? — спросилъ Андрей только для того, чтобы не молчать. — Ничего особеннаго… — отвѣчалъ спокойно Левъ Аполлоновичъ. — Все та же сѣрая, безвкусная прѣснятина… — Я увѣрена, что нашъ отшельникъ мечталъ въ бесѣдкѣ о покинутой имъ въ Москвѣ дамѣ сердца… — сказала Ксенія Федоровна насмѣшливо. — Что? Угадала? И она бросила на него боковой взглядъ. Она всегда задирала такъ его и старику это не нравилось: точно она на немъ свою силу пробовала… — Вы ошибаетесь… — отвѣчалъ Андрей черезъ силу. — Никакой дамы сердца у меня нѣтъ… И онъ густо покраснѣлъ. — А можно узнать, о чемъ вы думаете въ вашемъ уединеніи? — На этотъ разъ я думалъ о… — замялся Андрей. — Я получилъ вчера письмо отъ профессора Сорокопутова: онъ зоветъ меня въ Олонецкій край на изслѣдованіе… — Вотъ не понимаю этой вашей страсти ко всей этой старой ветоши! — воскликнула она. — Пѣсенки какія-то, пословицы, косноязычныя сказанія, кому все это нужно, скажите, пожалуйста? Жило, было, умерло — ну, и конецъ. Я еще понимала бы, если бы цѣлью всѣхъ этихъ заботъ вашихъ было, напримѣръ, полученіе званія профессора московскаго университета, чина тайнаго совѣтника и пр., но именно этого-то и нѣтъ у васъ… А такъ, впустую, изъ любви къ искусству… не понимаю! — Прошлое надо знать для пониманія настоящаго… — неохотно сказалъ Андрей. — Вотъ рядомъ съ «Угоромъ» двѣ деревни: Вошелово и Мещера. Ничѣмъ особеннымъ одна отъ другой онѣ не отличаются, — тѣ же постройки, тѣ же нравы, тотъ же типъ населенія, — а между ними слышна постоянная, давняя вражда, отчужденность. Воюютъ между собой даже ребятишки и, чуть что, вошеловскіе начинаютъ дразнить мещерскихъ:
Мещера,
Нехрещена,
Солодихой
Причащена…
III. — УТРО НА УЖВИНСКОЙ СТРАЖѢ
По застрѣхамъ завозились голуби и воробьи, пѣтухи усиленно хлопали крыльями и кричали на птичникѣ, послышалось первое, точно сонное щебетанье ласточекъ — значитъ, утро пришло, а такъ какъ во всѣхъ этихъ звукахъ была какая-то особенно бодрая, веселая нотка, то Иванъ Степановичъ, видный писатель, но человѣкъ деревенскій, сразу понялъ, что утро занимается тоже солнечное, веселое. Лежать старику уже надоѣло да и вообще онъ привыкъ вставать съ солнышкомъ: онъ очень любилъ эти утренніе часы, эту золотистую, залитую золотомъ восхода землю, эту особенную тишину во всемъ, это серьозное, чистое, немножко умиленное одиночество… Онъ всталъ, привычнымъ движеніемъ сразу попалъ въ свои теплые и мягкіе «шлепанцы» и, накинувъ легкій, бѣличій халатъ, подарокъ сына, подошелъ къ широкому итальянскому окну. Онъ не ошибся: все въ веселыхъ, золотыхъ, розовыхъ, нѣжно-лиловыхъ, сѣренькихъ кудряшкахъ облаковъ, занималось, дѣйствительно, радостное лѣтнее утро, — точно жаръ-птица, выпорхнувъ изъ-за граней земли, распустила свой пестрый хвостъ по небу, по лѣсамъ, по лугамъ, по полямъ… Онъ распахнулъ окно и нѣсколько мгновеній съ наслажденіемъ вдыхалъ свѣжій воздухъ, полный аромата хвойныхъ лѣсовъ, росы и влажной съ ночи земли, любуясь прекрасной, дикой картиной, которую онъ такъ любилъ. Домъ лѣсничаго стоялъ довольно высоко и изъ него была видна чуть не вся Ужвинская казенная дача, это безбрежное синее море лѣсовъ, эта привольная пустыня съ рѣдкими, одинокими домиками лѣсной стражи и стариннымъ монастыремъ Спаса-на-Крови въ ея дальнемъ углу. «Журавлиный Долъ» былъ погруженъ еще въ утренній сумракъ, Ужва дымилась золотисто-розовымъ туманомъ, а кресты обители и высокія сосны на дальнемъ «Вартцѣ» уже рдѣли подъ первыми лучами еще невиднаго солнца. И изъ-за лѣсовъ, торжественный и чистый, прилетѣлъ первый звукъ колокола… Иванъ Степановичъ тихонько умылся, одѣлся, сунулъ ноги въ мягкіе, резиновые ботинки — по случаю росы, — и, накинувъ старое, выцвѣтшее, широкое лѣтнее пальто, тихонько, чтобы никого не безпокоить, вышелъ безъ шапки на крыльцо. Легкій, душистый вѣтерокъ заигралъ совсѣмъ бѣлыми, пушистыми волосами старика, обласкалъ морщинистое лицо съ усталыми голубыми глазами, запутался въ бѣлой бородѣ и пріятной свѣжестью наполнилъ старую грудь. Раньше, въ прожитой, отлетѣвшей жизни, сколько было напряженныхъ поисковъ за ея жгучими, ѣдкими наслажденіями, а теперь вотъ ничего не зналъ старикъ выше этого наслажденія просто дышать свѣжимъ и чистымъ утреннимъ воздухомъ… Старый Рэксъ, тяжелый санбернаръ, увидавъ хозяина, громко зѣвнулъ, неторопливо всталъ, потянулся и, стуча ногтями по лосчатому полу терраски, подошелъ кѣ старику и мокрымъ, холоднымъ носомъ ткнулъ его въ руку, требуя ласки. — Ну, что, старикъ? Выспался? — ласково потрепалъ его по массивной, умной головѣ Иванъ Степановичъ. — Ну, пойдемъ наводить порядки… И, какъ всегда, въ сопровожденіи Рэкса онъ спустился, не торопясь, во дворъ и мелкими старческими шагами пошелъ росистой луговиной къ службамъ. Завидѣвъ старика, куры, утки, индѣйки, выпущенныя уже вставшей, но еще невидимой Марьей Семеновной, домоправительницей, на волю, со всѣхъ ногъ бросились къ нему, ожидая обычнаго угощенія. И онъ остановился посреди двора и, погрузивъ руку въ глубокій карманъ пальто, бросилъ птицѣ заготовленныя еще съ вечера крошки и кусочки. И всѣ эти Пеструшки, Хохлатки, Цыганки, Косолапки жадно ловили кормъ, и лѣзли одна черезъ другую, и дрались, и, схвативъ корочку покрупнѣе, во всѣ лопатки неслись прочь, преслѣдуемыя менѣе счастливыми товарками. Тутъ же между ними вертѣлся давній знакомый Ивана Степановича, старый воробей Васька, пестрый, крикливый и жадный: онъ всегда старался утянуть что покрупнѣе и часто на лету едва справлялся со своей добычей. Изъ пріотворенной двери темной кладовки со снисходительной улыбкой на кругломъ, полномъ, съ двумя подбородками лицѣ, смотрѣла домоправительница, Марья Семеновна, пожилая, степенная женщина, въ темномъ платкѣ и съ тяжелой связкой ключей въ рукахъ. — Съ добрымъ утромъ, Иванъ Степановичъ… — сказала она. — И что вы все балуете ихъ? Вѣдь я ужъ ихъ кормила… — Съ добрымъ утромъ, Марья Семеновна… — отвѣчалъ старикъ. — Ну, такъ что же, что кормили? Пусть полакомятся… — Да вѣдь не хорошо закармливать птицу… Нестись не будетъ… — Ну, не будутъ… Будутъ!.. А если на одно яйцо и будетъ меньше, такъ какая же въ этомъ бѣда? Ну, ты… — строго обратился онъ къ старой палевой индюшкѣ. — Ты что клюешься? Я тебѣ дамъ молодежь обижать!.. Ну, больше ничего нѣтъ, все, не взыщите. А то и Марья Семеновна вонъ бранить насъ будетъ… Идемъ, старина, дальше… Рэксъ тяжело качнулся и пошелъ за Иваномъ Степановичемъ. Марья Семеновна, звеня ключами, озабоченно переходила изъ одной кладовки въ другую, а оттуда на погребъ, изъ погреба въ теплый, пахучій коровникъ, гдѣ уже слышно было аппетитное цырканье молока въ подойникѣ: то доила двухъ чудесныхъ, блѣдно-рыжихъ симменталокъ ловкая, оборотистая Дуняша, ея помощница. Иванъ Степановичъ всегда удивлялся той массѣ какихъ-то невидимыхъ дѣлъ, которыя Марья Семеновна озабоченно продѣлывала въ теченіе дня, но она не позволяла легкаго отношенія къ этимъ своимъ никогда не кончающимся мистеріямъ. — Вы пишете и пишите себѣ, а въ бабьи дѣла не суйтесь… — резонно говорила она. — Вѣдь, сливочки топленыя къ кофею вы любите? И булочки чтобы тепленькія были? И чтобы окрошка была похолоднѣе? Ну, такъ и надо все это обдумать и заготовить… Вы думаете, что такъ все готовое вамъ съ неба валится?.. Изъ дверей конюшни послышалось тихое, ласковое ржаніе: то Буланчикъ привѣтствовалъ стараго хозяина. Иванъ Степановичъ подошелъ, приласкалъ умненькую буланую головку и поднесъ своему любимцу на ладони кусокъ сахару и тотъ бархатными губами осторожно взялъ его и, кланяясь, сочно захрустѣлъ своимъ любимымъ лакомствомъ и умнымъ, темнымъ глазкомъ покашивалъ все на хозяина. Буланчикъ былъ разумыая, но чрезвычайно самолюбивая лошадка. Въ дѣлѣ былъ онъ чрезвычайно старателенъ безъ всякаго понуканія, но любилъ, чтобы его стараніе видѣли и замѣчали. И не только кнута, даже грубаго окрика онъ не выносилъ… — Съ добрымъ утромъ, Иванъ Степановичъ!.. — послышался ласковый голосъ. — Какъ почивали? — А, Гаврила, здравствуй… Все слава Богу? — Все какъ нельзя лучше, Иванъ Степановичъ… — отвѣчалъ Гаврила, невысокій, складный въ своемъ сѣромъ казакинѣ съ зелеными выпушками лѣсникъ съ рыжеватой бородкой вкругъ блѣднаго лица и глазами тихими и какъ будто немножко тоскливыми, какъ лѣсныя озера. Онъ былъ большимъ пріятелемъ Ивана Степановича, котораго онъ уважалъ за знаніе лѣса и за любовь къ нему, за толкъ въ оружіи, въ собакахъ и въ охотничьемъ дѣлѣ. Иногда онъ пробовалъ для разгулки читать книги Ивана Степановича, но не понималъ въ нихъ ничего и не понималъ, для чего это нужно описывать разныхъ людей и все, что они тамъ выдумываютъ и дѣлаютъ — и живые-то они до смерти надоѣдаютъ!.. Оттого и ушелъ онъ отъ нихъ въ лѣса… Изъ сарая между тѣмъ слышалось нетерпѣливое царапанье и жалобный визгъ. — Васъ зачуяли… — улыбнулся лѣсникъ. — Прикажете выпустить? — Выпусти, выпусти… Щелкнула задвижка и пестрымъ клубкомъ, нетерпѣливо визжа и перескакивая для скорости одинъ черезъ другого, на солнечный дворъ вылетѣли любимцы Ивана Степановича: рослый и гибкій, весь точно резиновый, красный ирландецъ сына «Гленкаръ», его собственный желтопѣгій, крупный пойнтеръ «Иракъ III» и молодые наслѣдники его славы «Стопъ II» и «Леди II». Они визжали, лаяли, прыгали, чтобы лизнуть Ивана Степановича непремѣнно въ губы, носились, какъ бѣшеные, по двору, валялись въ росистой травѣ, съ удовольствіемъ чихали, опять съ радостнымъ восторгомъ лаяли На Ивана Степановича и лизали его руки горячими, шершавыми языками. Кракъ, зная, что Иванъ Степановичъ принадлежитъ, собственно, ему, ревниво косился на другихъ, съ достоинствомъ рычалъ, старался стать между Иваномъ Степановичемъ и осаждающими и всячески оттиралъ ихъ. Тогда они начинали теребить массивнаго Рэкса, который терпѣливо сносилъ это тяжелое испытаніе, — только лицо его дѣлалось особенно серьозно и печально… — А теперь и покормить можно… — сказалъ Иванъ Степановичъ. — Слушаюсь… Старикъ, въ сопровожденіи Рэкса, заглянулъ и къ гончимъ, которыя содержались сзади сарая, въ загонѣ, въ которомъ раньше жилъ молодой лось. Восемь багряно-черныхъ костромичей съ волчьими загривками, махая крутыми гонами, лизали руки хозяина сквозь частоколъ и, просясь на волю умильно визжали. — Ну, ну… — говорилъ онъ, лаская ихъ. — Посидите, посидите, теперь ужъ недолго… Потерпите… У-у, шельмы… Высокій, сильный, франтоватый Петро, недавно только освободившійся отъ военной службы, второй лѣсникъ Ужвинской стражи, вошелъ въ загонъ съ овсянкой и широко улыбнулся Ивану Степановичу. — А, Петро, здравствуй… — улыбнулся старикъ. — Постой: что это я хотѣлъ сказать тебѣ? Да, да, да… Вчера намъ изъ Москвы какой-то толстый прейскурантъ прислали, такъ зайди за нимъ, возьми… — Вотъ благодарю покорно, Иванъ Степановичъ… — широко осклабился Петро. — Вотъ дай вамъ Богъ здоровьица… У Петро въ жизни были двѣ страсти: охота звѣровая — ради которой онъ въ лѣсникахъ тутъ, на сѣверѣ остался, — и прейскуранты, которые онъ собиралъ всюду, гдѣ только могъ. Онъ проводилъ надъ ними безконечные часы, съ трудомъ — онъ былъ малограмотенъ — читая и перечитывая ихъ, обсуждая цѣны, разсматривая всѣ эти грамофоны, оружіе, будильники, дамское бѣлье, столярные инструменты, антикварныя изданія, письменныя принадлежности, мебель, велосипеды, галстухи, огородныя сѣмена и пр. Его скромное жалованье лѣсника не давало ему возможности купить что-нибудь, но это обстоятельство ни въ малѣйшей степени не мѣшало его блаженству среди всѣхъ этихъ богатствъ, о которыхъ говорилось въ прейскурантахъ. А если въ руки ему долго не попадалось новыхъ прейскурантовъ, онъ начиналъ скучать и, выбравѣ удобную минуту, — больше всего послѣ хорошей охоты, — онъ начиналъ подмазываться къ Ивану Степановичу. — Иванъ Степановичъ, сдѣлайте милость, выпишите мнѣ вотъ этотъ прискуринтикъ… — и онъ указывалъ на какое-нибудь объявленіе въ газетѣ, которую онъ бралъ у Марьи Семеновны на курево. — Ужъ очень любопытно… Иванъ Степановичъ писалъ куда слѣдуетъ открытку и скоро почта приносила желанный прейскурантъ — на автомобили, на церковныя облаченія, на лѣсопильные станки — и Петро долго, внимательно и любовно сидѣлъ надъ своимъ новымъ пріобрѣтеніемъ… Поговоривъ немножко съ Петро, старикъ съ Рэксомъ пошли въ садъ. Легаши тоже увязались было за нимъ, но должны были вернуться на повелительный свистокъ Гаврилы, въ рукахъ котораго они проходили превосходную школу. Рэксъ на свистокъ не обратилъ никакого вниманія: онъ зналъ, что къ нему это относиться не можетъ. Бѣгать, скакать, ластиться, — думалъ онъ грустно о легашахъ, — опять скакать, что за нелѣпая жизнь! А тѣ увивались уже около Гаврилы: онъ подвязывалъ грубый холщевой передникъ — значитъ, сейчасъ овсянка… Иванъ Степановичъ, все наслаждаясь свѣжимъ, ароматнымъ утромъ, ходилъ между рядами малины, обходилъ яблони, гдѣ въ междурядьяхъ пышно стояли здоровые, хорошо одѣтые кусты крыжовника и всякой смородины: черной, бѣлой, красной, золотистой… Иногда онъ тихонько обламывалъ сухую вѣтку, тамъ снималъ гусеницу, завернувшуюся въ листокъ, тамъ любовался обильнымъ плодоношеніемъ какой-нибудь яблони. И, когда изъ-за лѣсовъ, точно купаясь въ солнечномъ блескѣ, снова долетѣли до него звуки стараго монастырскаго колокола, онъ остановился, оглядѣлъ прекрасный вольный міръ вокругъ себя, эту, всегда его сердцу милую, лѣсную пустыню к большая свѣтлая любовь затеплилась вдругъ въ старомъ сердцѣ и къ этимъ, обвѣшаннымъ еще мелкими яблоками, яблонькамъ, и къ золотымъ лютикамъ, и къ этой парочкѣ нарядныхъ мотыльковъ, къ этимъ зябликамъ, пѣночкамъ, ласточкамъ, малиновкамъ, къ этимъ кучевымъ, въ крутыхъ завиткахъ, облакамъ, которыя великолѣпно громоздились въ лазури надъ синью лѣсной пустыни, ко всему и ко всѣмъ… Тихо задумчивый, онъ прошелъ въ пышный огородъ, обѣщавшій чудесный урожай. Тамъ густо и пріятно пахло влажной землей, навозомъ и укропомъ. Рѣдиска была почти вся уже выбрана, стройными рядами стояли сочные и широкіе султаны капусты, пріятно для глазъ курчавилась морковь, рѣдька уже начинала распирать землю, буйно поднимался горохъ, зеленѣлъ блѣдно — салатъ и темно — шпинатъ и золотыми звѣздочками уже зацвѣтали ранніе огурцы, и гладкіе муромцы, и въ бородавкахъ — нѣжинцы, о которыхъ Марья Семеновна говорила: «нашъ, муромскій, огурецъ и душистѣе, и нѣжнѣе, а нѣжинскій тотъ ядренѣе, съ хрустомъ и въ солкѣ пріятнѣе, а особенно ежели пустить его помоложе…». И тутъ Иванъ Степановичъ навелъ порядокъ: тамъ оборвалъ желтый, прѣлый листокъ, тамъ поправилъ тычку, тамъ замѣтилъ яички капустницы и уничтожилъ ихъ. А потомъ молодымъ соснячкомъ, гдѣ, на пригрѣвѣ, такъ густо и упоительно пахло сосной, по плотно убитой тропкѣ спустился онъ къ берегу сверкающей на солнцѣ Ужвы, полноводной, но не широкой и тихой лѣсной рѣки. У каждой рѣки есть свое лицо — лицо Ужвы было задумчиво и немножко точно печально всегда, даже въ самые веселые солнечные дни, даже въ дни буйныхъ весеннихъ разливовъ, когда другія рѣки въ бѣшеномъ весельи «играютъ»… Въ послѣднее время, когда ноги иногда просто отказывались итти на охоту, Иванъ Степановичъ пристрастился къ удочкѣ и часто тихимъ, солнечнымъ утромъ или золотымъ вечеромъ, когда воздухъ звенитъ отъ пляски комариныхъ полчищъ, сидѣлъ онъ тутъ тихонько на бережку, глядя на свои задремавшіе поплавки и ожидая солиднаго клева ребристо-пестраго окуня съ красными перьями, простой, лѣнивой поклевки мраморнаго налима или веселаго озорства стаи ершей въ то время, какъ надъ темнымъ омутомъ, въ ожиданіи жадной щуки или тяжелаго соменка, дремотно согнулись его жерлицы… Онъ еще и еще полюбовался дышавшей утренней свѣжестью рѣкой, которая красивою излучиной уходила у «Журавлинаго Дола» въ лѣса:, дальними маленькими, сѣрыми деревеньками, надъ которыми стояли теперь кудрявые, золотистые столбики дымковъ, послушалъ осторожную возню дикихъ утокъ въ камышахъ глухой заводи, звонкое пересвистываніе куличковъ по песчанымъ отмелямъ, и красивой, цвѣтущей луговиной, вдоль опушки стараго лѣса, направился къ дому, то и дѣло останавливаясь, чтобы полюбоваться цвѣтами, нѣжная прелесть которыхъ такъ теперь трогала его. Онъ хорошо зналъ эту нарядную гамму улыбокъ счастливой земли: съ весны тутъ золотится первоцвѣтъ и безчисленныя созвѣздія одуванчиковъ, и нѣжный лютикъ, и тяжелая купальница. Потомъ, когда въ палисадникѣ, у дома, одѣнется своими пышными и нѣжными гроздьями сирень, тутъ, по опушкамъ, благоухаетъ бѣленькій и скромный, какъ чистая дѣвушка, ландышъ; потомъ появятся на лугу колокольчики, засіяютъ весело звѣздочки поповника, выглянетъ синяя, скромная вероника, круглыя, лиловыя подушечки скабіозы, пунцовые султаны липкой смолевки, а по сырникамъ, въ тѣни, распустятся рѣзныя, благоухающія кадильницы любки бѣлой и голубеьькія незабудки. Потомъ въ садикѣ раскроется дурманящій своимъ сильнымъ и сладкимъ ароматомъ жасминъ, а по полянамъ и вырубкамъ поднимутся малиновые, рѣзные конусы Иванъ-чая, зазолотится звѣробой, пышно одѣнется въ поймѣ своими нѣжными цвѣтами шиповникъ. Это время цвѣтенія, а потомъ и налива ржи, въ тѣни которой уже желтѣетъ жесткій погремокъ и прячется сладко-душистый василекъ и алая гвоздика, а за ними идутъ нѣжносѣрыя «хлопушки» съ бѣлымъ кружевцомъ, которыя такъ нравятся дѣтямъ. Къ этому времени жаворонки уже допоютъ свои послѣднія пѣсни, тетеревиные и глухариные выводки выровняются, заведутъ свои оркестры кузнечики и зазолотится по межамъ нарядная пижма, эта послѣдняя улыбка сѣвернаго лѣта… И Иванъ Степановичъ медленно шелъ къ дому, блаженно дышалъ и всему радовался… Постепенно, къ концу жизни, у него выработалась — не онъ выработалъ, а она какъ-то сама выработалась, — обычная для умныхъ стариковъ, немного печальная философія тихой покорности жизни, не головного, а какого-то внутренняго непротивленія… И въ послѣднее время въ душѣ своей онъ подмѣтилъ нѣчто совершенно новое: человѣческая мысль все болѣе и болѣе теряла для него значеніе, а съ другой стороны его внѣшнія чувства какъ-то сами собой изумительно утончались и становились источникомъ безконечнаго радованія. И какъ-то стирались рѣзкія грани между добромъ и зломъ, раньше неважное стало важнымъ, а важное — совершенно неважнымъ и міръ точно просвѣтлялся, дѣлался воздушнѣе и легче, превращался въ какую-то волшебную сказку. Для него все становилось источникомъ очарованія и радости: и звенящій въ вышинѣ боръ, и улыбка человѣка, и опаловое облако въ небѣ, и студеная вода ключа. И съ каждымъ мѣсяцемъ красота и чары жизни и міра росли — казалось бы, ужъ некуда больше, а все дѣлалось лучше и лучше, нѣжнѣе, воздушнѣе, радостнѣе, — точно въ душу его спустился, точно осѣнилъ ее своею благодатью великій Сварогъ, Отецъ всѣхъ боговъ, Отецъ свѣта вѣчнаго, который свѣтитъ и добрымъ и злымъ. И только одно печалило иногда старика: то, что онъ раньше не зналъ этого блаженнаго состоянія, то, что не знаютъ этого люди теперь, не понимаютъ, что это всѣмъ доступное счастье — вотъ, подъ руками. И онъ, всю жизнь думавшій надъ жизнью, изучавшій людей, написавшій о нихъ столько книгъ, не зналъ, что это такое. Если это старость, то да будетъ благословенна старость, ибо это было лучшее, что онъ въ жизни обрѣлъ! И степенно, и важно, думая какую-то большую, но неторопливую думу, выступалъ за нимъ всегда покорный Рэксъ. Ему было жарко, надоѣдала уже муха, онъ считалъ, что лучше было бы дремать гдѣ-нибудь въ холодкѣ, дома, пока добрая Марья Семеновна не позоветъ завтракать, но дѣло это дѣло и у всякаго своя судьба, отъ которой не уйдешь и которую лучше поэтому принимать покорно… — Что это вы такъ сегодня загулялись? — встрѣтила Ивана Степановича на крыльцѣ Марья Семеновна, уже надѣвшая въ знакъ того, что день начался, чистый, бѣлый передникъ и степенную наколку. — Пирожки остынутъ… — Сію минуту, Марья Семеновна, сію минуту… — отвѣчалъ проголодавшійся Иванъ Степановичъ. — Вотъ только чуточку приведу себя въ порядокъ…IV. — ЗОЛОТЫЯ СЛОВА
Иванъ Степановичъ вошелъ въ свою комнату, трудами Марьи Семеновны уже прибранную и полную солнечнаго свѣта, запаха цвѣтовъ изъ росистаго цвѣтника подъ окномъ и щебетанія ласточекъ. Налѣво стояла кровать подъ темнымъ, мягкимъ одѣяломъ, съ вытертой уже шкурой матерого волка на полу и блокнотомъ для записыванія ночныхъ думъ на стѣнкѣ, умывальникъ, а направо большой, почтенный диванъ и круглый столъ съ букетомъ свѣжихъ полевыхъ цвѣтовъ, которые онъ самъ вчера набралъ. У окна помѣщался большой рабочій столъ съ книгами и папками и уже поблекшимъ портретомъ рано, въ дѣтствѣ, умершей любимицы-дочки, Маруси, которая улыбалась ему изо ржи. Въ одномъ углу помѣщалась этажерка съ разными книгами и, большею частью, нечитанными журналами, которые изъ уваженія къ старому писателю высылались ему редакціями, а въ другомъ — стеклянный шкафчикъ съ его любимыми ружьями. На полкахъ, сзади его кресла, пестрѣли корешки его любимыхъ книгъ, немногихъ, которыя были его друзьями всю жизнь и въ которыя онъ и теперь любилъ иногда заглянуть, а подъ ними, на полу, стоялъ старый, очень потертый сундукъ, сундукъ-другъ, который всю жизнь путешествовалъ съ Иваномъ Степановичемъ изъ края въ край. Онъ вообще любилъ старыя вещи, которыя долго служили ему, и только въ крайнемъ случаѣ разставался съ ними… По стѣнамъ висѣли портреты близкихъ, писателей и его любимыхъ собакъ, нѣсколько чучелъ, а надъ диваномъ — хорошая копія съ прелестнаго левитановскаго «Вечерняго Звона». Не успѣлъ онъ, прифрантившись немного передъ старымъ зеркаломъ, надѣть свои шлепанцы, какъ въ дверь легонько постучали и вошла Марья Семеновна съ подносомъ. — Готовы?.. Ну, кушайте… — сказала она, ставя подносъ на столъ у дивана и подвигая потертое, хорошо обсиженное кресло. Въ домѣ былъ заведенъ хорошій порядокъ завтракать утромъ у себя — такъ дольше продолжалось утреннее уединеніе и покой. На подносѣ былъ душистый кофе, топленыя сливки съ черно-золотистыми пѣнками, горячіе, аппетитно пахнущіе пирожки, тарелочка красной, душистой клубники и два послѣдніе номера «Русскихъ Вѣдомостей» — другія газеты Марья Семеновна сразу же брала въ свое распоряженіе и безпокойными, сердитыми листами ихъ аккуратно выстилала свои комоды, сундуки и полочки и въ знакъ особаго благоволенія раздавала лѣсникамъ и крестьянамъ на курево и на оклейку избъ. Да и «Русскія Вѣдомости» развертывалъ теперь затихшій Иванъ Степановичъ только изрѣдка: непріятно было ему нарушать свой ясный покой и вмѣшиваться въ то, что отъ него въ концѣ концовъ не зависѣло. Онъ помалкивалъ обыкновенно объ этомъ, но, Господи, какъ звонко расхохоталась Лиза, его меньшая, когда онъ какъ-то разъ нечаянно высказалъ эти мысли! Какъ никто ничего не знаетъ?! Какъ никто ничего не можетъ?! Вотъ оригиналъ этотъ старый папка!.. Да она только на четвертомъ курсѣ, а и то все понимаетъ. А что это будетъ, когда потомъ поѣдетъ она доучиваться заграницу! Нѣтъ, наука… И она разразилась горячимъ символомъ вѣры, въ которомъ профессора съ громкими именами играли роль деміурговъ «новой жизни». — Ты бы послушалъ, что говорила недавно на одномъ рефератѣ на эту тему Евдокія Ивановна Кукшина! — воскликнула она. — Какая Кукшина? — разсѣянно спросилъ старикъ. — Какъ? — поднялся кверху задорный, хорошенькій носикъ. — Ты не знаешь Евдокіи Ивановны Кукшиной?! Это извѣстная общественная дѣятельница, которая… И пошла, и пошла!.. И Иванъ Степановичъ долженъ былъ смириться подъ этой стремительной аттакой église militante, но за то теперь, когда никого строгаго рядомъ не было, онъ сказалъ Марьѣ Семеновнѣ спокойно: — Нѣтъ, Марья Семеновна, вы и «Русскія Вѣдомости» возьмите себѣ… — И хорошо дѣлаете, что не читаете… — сказала Марья Семеновна степенно. — Что зря глаза-то тупить? Но сама она съ тѣхъ поръ, какъ побывала въ 1905 г. съ семьей Ивана Степановича заграницей — старику-гуманисту былъ противенъ кровавый разгулъ бездарнаго правительства, которымъ оно отвѣтило на народныя волненія, и онъ уѣхалъ заграницу, — очень пристрастилась къ газетамъ — она говорила не «пристрастилась», а «набаловалась», считая такое увлеченіе все-таки слабостью, баловствомъ, дѣломъ несерьознымъ, — и любила посмотрѣть иногда, какъ идутъ тамъ дѣла, причемъ особенно пріятны ей были извѣстія изъ тѣхъ странъ, гдѣ она побывала: она считала себя компетентною въ ихъ дѣлахъ. — А пирожками вы окончательно избалуете меня, Марья Семеновна! — принимаясь за кофе, сказалъ Иванъ Степановичъ. — И не надо бы ѣсть, а не вытерпишь: вѣдь, ишь, какъ зарумянились! — Почему не надо? — возразила Марья Семеновна. — На то и пирожки, чтобы кушать… — Отяжелѣешь, работать меньше будешь… — Вотъ важность какая! Ежели не бѣда, что у курицы однимъ яйцомъ меньше будетъ, то нѣтъ бѣды и въ томъ, что на свѣтѣ будетъ одной книжкой меньше… Иванъ Степановичъ задребезжалъ старческимъ смѣхомъ. — Вотъ это такъ золотыя слова, Марья Семеновна! Непремѣнно запишу… Это вотъ вѣрно!.. И теперь я съ вашими пирожками стѣсняться ужъ не буду… — Ну, и кушайте на здоровье… — сказала она, довольная, что Иванъ Степановичъ развеселился, что подносъ ея выглядитъ такъ аппетитно, что все вокругъ ея стараніями такъ чисто, солнечно, въ порядкѣ и, захвативъ «Русскія Вѣдомости», она вышла, а черезъ двѣ-три минуты съ крыльца раздался ея ласковый голосъ: — Гдѣ ты, Рэксъ? Иди завтракать… А-а, все не выспался, старый… А ночью что дѣлалъ? Ну, ну, знаю, что хорошая собака… Ну, пойдемъ… Иванъ Степановичъ уже кончалъ завтракъ, когда въ дверь постучали. — Иди, иди… — отозвался Иванъ Степановичъ, зная по стуку, что это Сережа, сынъ. Дверь отворилась и въ комнату вошелъ Сергѣй Ивановичъ, невысокій, худощавый, черноволосый и черноглазый человѣкъ лѣтъ двадцати восьми въ потертой формѣ лѣсничаго и въ высокихъ сапогахъ. Въ лицѣ его стояло какъ будто выраженіе подавленной грусти… Едва кончивъ лѣсной институтъ въ Германіи, онъ полюбилъ эту хорошенькую, нарядную Таню и женился на ней. Его влекло къ наукѣ, онъ готовился остаться при Академіи, а Таню влекла шумная, сверкающая жизнь бездѣлья и наслажденія. Онъ уступилъ ей, взялъ мѣсто въ Петербургѣ, но вскорѣ Таня закружилась въ вихряхъ ненасытной жизни и унеслась, оставивъпослѣ себя молодого мужа съ разбитымъ сердцемъ и маленькаго сына Ваню. Сергѣю Ивановичу все опротивѣло и онъ принялъ мѣсто лѣсничаго въ одномъ изъ глухихъ лѣсныхъ уѣздовъ, чего всегда шутя желалъ ему его отецъ-охотникъ. И вскорѣ Таня погибла безобразной и жестокой смертью: ее застрѣлилъ послѣ кутежа пьяный офицеръ-гвардеецъ. Да и не только горе, причиненное Таней, влекло его въ лѣса, но и общая усталость: много усталыхъ, разочарованныхъ въ заманкахъ жизни людей скрылось тогда, послѣ бури 1905 г., по разнымъ трущобамъ… Сперва хозяйство его взяла было въ свои руки постарѣвшая и уставшая отъ жизни мать, Софья Михайловна, но такъ какъ ей было это трудно и часто ѣздила она гостить къ замужнимъ дочерямъ и заграницу лѣчиться, то съ общаго безмолвнаго согласія бразды правленія были переданы Марьѣ Семеновнѣ, которая вырастила Сергѣя Ивановича и считала себя какъ бы членомъ семьи. Иванъ Степановичъ скоро совсѣмъ переселился къ сыну и наслаждался покоемъ и одиночествомъ въ своихъ милыхъ, лѣсныхъ пустыняхъ. — Ну, что? Здоровъ? — ласково проговорилъ отецъ, подставляя щеку для поцѣлуя. — Спасибо. А ты какъ?! Письмо отъ мамы есть… — А-а… Ну, какъ тамъ у нихъ? — У Шуры все слава Богу, а Капа все бунтуетъ… — Плохо, плохо… — покачалъ головой Иванъ Степановичъ, которому хотѣлось, чтобы не только у дочерей, но и во всемъ мірѣ все шло хорошо. — Я всегда этого боялся. У нея всегда была слишкомъ сильна не только Wille zum Leben, но и Wille zur Macht… А мужъ? — Мужъ преуспѣваетъ. Возможно, что войдетъ отъ своей партіи въ Думу… — усмѣхнулся чему-то Сергѣй Ивановичъ. — А Лиза пріѣхала изъ Парижа и работаетъ при московскихъ клиникахъ. Скоро хочетъ побывать у насъ. Тысячи поклоновъ и поцѣлуевъ тебѣ… — А-а, спасибо… Очень радъ… Она молодецъ у насъ… — А что ты думаешь дѣлать сегодня? Я хотѣлъ прокатить тебя въ мои хвойные питомники. Утро чудесное… — Нѣтъ, спасибо, милый… Я хочу сегодня немножко поработать. А, можетъ быть, мы лучше сдѣлаемъ такъ: сегодня каждый займется своимъ дѣломъ, а завтра поѣдемъ пораньше къ обѣднѣ въ монастырь, а по пути заглянемъ и на питомники… — Прекрасно… — сказалъ Сергѣй Ивановичъ, какъ-то сразу оживая. — Кстати, я для «Вѣстника Лѣсоводства» статью свою пока кончу — ужасно она у меня залежалась… — Ну, вотъ видишь, какъ все хорошо выходить… — Ну, такъ будь пока здоровъ, папа… — Будь здоровъ, милый… Не забудь прислать мнѣ Ваню поздороваться… — Не безпокойся: онъ и самъ не забудетъ. Ты карандашъ ему, что ли, какой-то необыкновенный обѣщалъ? Цѣлое утро только о немъ и разсказываетъ… — А да, да… Какъ же, дамъ… Сергѣй Ивановичъ, немного повеселѣвшій, ушелъ къ себѣ, а Иванъ Степановичъ перешелъ къ своему рабочему столу. Новаго теперь онъ уже ничего не писалъ, но усидчиво готовилъ послѣднее, посмертное изданіе своихъ избранныхъ сочиненій и все исправлялъ и дополнялъ свои обширные мемуары. Въ собраніи сочиненій онъ не столько исправлялъ разныя несовершенства, сколько выбрасывалъ все злое, все раздражающее, все недоведенное до точки: пусть послѣ него останется не сорокъ томовъ непремѣнно, а хотя бы только четыре, но чтобы это было самое лучшее, что имъ за всю жизнь было создано… Но не успѣлъ Иванъ Степановичъ найти нужную ему папку, какъ дверь отворилась и въ комнату вбѣжалъ черноголовый, румяный Ваня, мальчикъ лѣтъ пяти, очень похожій на отца. — Здравствуй, дѣдушка… А я пришелъ за карандашемъ… — Вотъ тебѣ разъ! — воскликнулъ дѣдъ. — Я думалъ, что ты пришелъ поздороваться съ дѣдушкой, а оказывается, тебѣ нуженъ не дѣдушка, а карандашъ… Вотъ такъ внучекъ! — Нѣтъ, и дѣдушка, но и карандашъ… — рѣшительно поправилъ мальчикъ. — Навѣрно не только карандашъ, но и дѣдушка? — Навѣрно… — Тогда другое дѣло… Иванъ Степановичъ порылся въ правомъ ящикѣ стола и досталъ толстый, граненый, сине-красный карандашъ. — Вотъ видишь, съ этого конца онъ, какъ я и говорилъ тебѣ, синій, а съ этого — красный… Видишь? Глаза ребенка загорѣлись восхищеніемъ: такого чуда онъ еще не видѣлъ! А старикъ молча, ласково смотрѣлъ на ребенка: болѣе двадцати лѣтъ тому назадъ такъ же пораженъ былъ чудомъ сине-краснаго карандаша Сережа, а шестьдесятъ лѣтъ назадъ это было однимъ изъ первыхъ чудесъ огромнаго міра для него самого! — А очинить его можно? — спрашивалъ Ваня, все еще не довѣряя своему счастью. — Можно. Но только у меня руки, братъ, не очень слушаются, такъ ты ужъ Марью Семеновну попроси — она тебѣ все наладитъ. Дверь пріотворилась. — Ну, иди, иди… — ласково сказала Марья Семеновна. — Я очиню… Она хотя и пошутила на счетъ куринаго яйца и книги, тѣмъ не менѣе къ труду Ивана Степановича она относилась уважительно: какъ и Гаврила, она не понимала, зачѣмъ этотъ трудъ нуженъ, и эта-то вотъ таинственность цѣлей этого труда и внушала ей особое почтеніе. Только одному Ванѣ, дай то по настоятельному требованію самого дѣда, разрѣшалось тревожить его за утренней работой… Мальчикъ разсѣянно, наспѣхъ — некогда было, — поцѣловалъ дѣда и побѣжалъ чинить скорѣе карандашъ. А Марья Семеновна въ открытую дверь сказала: — А изъ Берлина пишутъ, Вильгельмъ захворалъ что-то… Совсѣмъ еще молодой, а поди вотъ… Не легкое дѣло, должно быть, царствовать-то… — Ему и пятидесяти, должно быть, нѣтъ… — сказалъ Иванъ Степановичъ. — Что это за года? Совсѣмъ молодой человѣкъ… Марья Семеновна легонько притворила дверь — раньше она этого дѣлать не умѣла и только съ годами выучилась и теперь и сама не любила, когда кто закрывалъ дверь «невѣжливо». Иванъ Степановичъ все моршилъ лобъ и потиралъ лысину, стараясь вспомнить что-то нужное для работы. И, наконецъ, вспомнилъ и улыбнулся. Онъ отыскалъ въ своихъ мемуарахъ нужную главу — «Послѣдніе годы литературной и общественной дѣятельности», — и своимъ мелкимъ, четкимъ почеркомъ вставилъ въ одномъ мѣстѣ на поляхъ «золотыя слова» Марьи Семеновны о томъ, что нѣтъ для людей никакой бѣды въ томъ, если писатели будутъ писать и поменьше. И долго, съ задумчивой улыбкой старикъ сидѣлъ надъ своими мемуарами, а въ открытое окно широко лился солнечный свѣтъ, и сладкій запахъ цвѣтовъ изъ палисадника, и щебетанье ласточекъ, и восторженный визгъ стрижей, и тихій шумъ вершинъ лѣсной пустыни…V. — ЦВѢТЫ НА МОГИЛАХЪ
Въ полдень всѣ трое, дѣдъ, сынъ и внукъ, сѣли въ прохладной и полутемной столовой съ лосиными рогами и чучелами глухарей на стѣнахъ обѣдать. Блюда подавала миловидная, расторопная, веселая, съ ямочками на румяныхъ щекахъ, — эти смѣющіяся ямочки, казалось, составляли не только ея прелесть, но и самую сущность, — Дуняша, а Марья Семеновна внимательно смотрѣла и въ кухнѣ, и въ столовой, чтобы все было такъ, какъ слѣдуетъ. И душистая окрошка со льдомъ, и телятина съ молодымъ салатомъ, и вареники въ сметанѣ, — все было замѣчательно. И говорили, не торопясь, о предстоящихъ охотахъ, о близкихъ, о жизни лѣса, словомъ, о томъ, что пріятно. Дѣдушка не прочь былъ сразу же пойти вздремнуть часокъ, но сперва нужно было посмотрѣть новыя произведенія внука, которыми тотъ, видимо, гордился: синихъ «дядей», которые таращили красные глаза и широко разставляли руки съ неимовѣрнымъ количествомъ пальцевъ, красныхъ лошадокъ, похожихъ на дома, и синіе дома, похожіе на лошадокъ. И когда дѣдушка разъ спуталъ домикъ съ лошадкой, Ваня поднялъ на него свои блестящіе, удивленные глаза: Господи, и до чего могутъ быть безтолковы иногда эти старики!.. Но Марья Семеновна пришла въ помощь дѣду, отманила Ваню въ кухню смотрѣть котятъ и Иванъ Степановичъ поторопился скрыться въ свою комнату. Онъ никогда не рѣшался нарушать среди дня напряженной торжественности кровати и поэтому легъ подремать на диванъ… Въ три часа Марья Семеновна начала ходить по корридору и усиленно гремѣть и кашлять — Иванъ Степановичъ увѣрялъ всегда, что онъ самъ просыпается къ чаю въ свое время, и Марья Семеновна заботилась, чтобы это такъ и было. Послѣ сна онъ всегда умывался холодной водой, а Марья Семеновна, заслышавъ плесканье, тотчасъ же пошла за чаемъ и вскорѣ появилась съ подносомъ, на которомъ ароматно дымился янтарный чай, лежали всякіе крендельки и завитушки и благоухало малиновое варенье, которымъ Марья Семеновна справедливо гордилась: хоть бы одна ягодка разварилась, всѣ цѣлехоньки, точно сейчасъ съ вѣтки!.. А прозрачность сиропа? А духъ?! И подносъ свой она поставила теперь не на круглый столъ у дивана, а на рабочій столъ: чай Иванъ Степановичъ кушалъ, не торопясь, уже за работой… На этотъ разъ много ему работать не пришлось: явились Ваня съ Петро, чтобы итти вмѣстѣ съ нимъ за березками — завтра была Троица. И кстати забрали съ собой и легашей промять ихъ немножко. Поужинали, какъ всегда, рано и, какъ всегда, рано разошлись по своимъ комнатамъ. А на утро — оно выдалось опять на рѣдкость солнечное, — всѣ встали на восходѣ. Всю усадьбу лѣсники разукрасили молодыми березками. Сергѣй Ивановичъ былъ взволнованъ чѣмъ-то. Глаза его сіяли напряженнымъ блескомъ. Рѣшили, что лучше ѣхать безъ кучера, въ одноконку, — утро чудесное, не жаркое, а дорога лѣсомъ прекрасная, такъ, не торопясь, одни поѣдутъ, а другіе пойдутъ, по очереди. Начались оживленные сборы. Всѣ прифрантились и почувствовали себя празднично. И, когда Гаврила подалъ вымытый и подмазанный тарантасъ, запряженный Буланчикомъ — по спинѣ его бѣжалъ точно черный ремешокъ, а грива и хвостъ были почти бѣлые, — всѣ начали спорить, кому ѣхать первому, а кому итти. У воротъ, какъ всегда, вспомнили, что Марья Семеновна забыла распорядиться на счетъ вчерашняго удоя, остановились и ждали, пока все тамъ будетъ налажено. Сергѣй Ивановичъ замѣтно нервничалъ и глаза его все сіяли. — Ну, вотъ теперь, слава Богу, все… — облегченно сказала Марья Семеновна, усаживаясь. — Съ Богомъ… И колеса бархатно зашуршали по песчаной лѣсной дорогѣ… Буланчикъ съ удовольствіемъ влегъ въ хомутъ и все косилъ назадъ умнымъ глазкомъ: видятъ ли его старанія хозяева, одобряютъ ли его? Иванъ Степановичъ, снявъ шляпу, шелъ сторонкой и наслаждался своей любимой стихіей, лѣсомъ. Теперь, когда у него лично все въ жизни было уже почти кончено, когда человѣческія страсти отгорѣли въ немъ и душа обрѣла свѣтлый покой, единственнымъ врагомъ его, кажется, остались только мальчишки-пастушата, съ ихъ проклятой страстью класть въ лѣсу огни, отъ которыхъ въ позапрошломъ году выгорѣлъ весь Медвѣжій Логъ. Но еще больше не любилъ онъ и боялся лѣсопромышленниковъ и, если начиналась рубка какой-нибудь знакомой дѣлянки, онъ переставалъ ходить въ ту сторону. За то большой радостью было для него, когда, благодаря его статьямъ въ одной очень вліятельной газетѣ, удалось добиться, что Ужвинская Дача была объявлена заповѣдникомъ, гдѣ никто не имѣлъ права охотиться. Звѣрь и птица стали быстро множиться: глухариные тока вокругъ Вартца и на Лисьихъ горахъ были теперь на рѣдкость, лоси ходили въ «Журавлиномъ Долу» стадами и появились уже среди быковъ «лопатники», въ прошломъ году убили трехъ рысей, тетеревей, глухарей, рябчиковъ, куропатокъ бѣлыхъ было «безъ числа», какъ говорилъ Гаврила, а когда этой весной стоялъ Иванъ Степановичъ съ нимъ на тягѣ, на слуху прошло около сорока долгоносиковъ, — настоящая карусель! А вкругъ задумчивыхъ лѣсныхъ озеръ, а въ особенности на Исехрѣ, — берега ихъ были топки, глухи и недоступны даже самому ярому охотнику, — сколько водилось тамъ утки, бекаса, журавлей, цапель, вальдшнеповъ, куликовъ, гагаръ! А весной и осенью, въ пролетъ, тамъ присаживались громадные косяки гусей, а иногда даже и лебеди. Дикая жизнь лѣсная била клюнемъ и радостно было смотрѣть на нее. Но эта лѣсная жизнь была скрыта, доступна только посвященнымъ, нужно было извѣстное усиліе и большое знаніе лѣса, чтобы проникнуть въ ея таинства, но и та жизнь, которая шла на виду, была не менѣе прелестна со своими хорами зябликовъ, малиновокъ, пѣночекъ, нарядныхъ щегловъ, крошечныхъ крапивниковъ, со своими пестрыми дятлами, тоскующими кукушками, желтыми иволгами, вороватыми сойками, траурными сороками, зловѣщими воронами и филинами, а по низинамъ, къ Ужвѣ, и безчисленными соловьями… А надъ цвѣтущими полянами и опушками, гдѣ такъ много по веснѣ цвѣтовъ, трепетали пестрые мотыльки и стрекозы на своихъ слюдяныхъ крылышкахъ… — Садитесь, Иванъ Степановичъ, теперь я пойду… — крикнула Марья Семеновна. — А то устанете, не выстоите обѣдни… Поспоривъ, сколько требовалось для поддержанія своего престижа стараго охотника и великолѣпнаго ходока, Иванъ Степановичъ сдался: ноги-то все же не прежнія. И онъ сѣлъ въ тарантасъ, а Марья Семеновна пошла сторонкой… — Экія мѣста!.. — сказала она, любовно оглядывая все вокругъ. — Благодать! Въ позапрошломъ году я разъ тутъ сто восемьдесятъ семь бѣлыхъ однимъ заходомъ взяла… — Ну, какія это мѣста! — возразилъ Иванъ Степановичъ. — Вотъ у меня на Лисьихъ Горахъ такъ мѣста! Здѣсь мѣсто сравнительно низкое, грибъ растетъ рыхлый, а тамъ, по борамъ, идетъ все крѣпышъ, точно на подборъ, настоящая слоновая кость! Они любили посоперничать такъ въ знаніи лѣса, его богатствъ и тайнъ и никогда не уступали одинъ другому. — Такъ до вашихъ-то Лисьихъ Горъ день ходу, а тутъ рукой подать… — возразила Марья Семеновна. — А что здѣсь грибъ плохъ, такъ это и говорить грѣшно. Что, не хороши были маринованные, которые вамъ вчера къ жаркому подавали? — Я ничего не говорю: превосходны… — согласился Иванъ Степановичъ. — А все же тамъ въ десять разъ лучше… Тамъ мѣсто боровое… Передъ обѣдней Марья Семеновна была въ особенно мирномъ настроеніи и она уступила. — А ягоды, ягоды будетъ въ этомъ году! — сказала она. — И брусники, и черники, и гонобоблю, и клюквы… Прямо все усыпано… — Да… — сказалъ Сергѣй Ивановичъ. — Птицѣ будетъ раздолье… И выводки въ этомъ году все большіе… — Рѣдкій на все годъ… — съ умиленіемъ сказала Марья Семеновна, хозяйственная душа которой радовалась на это изобиліе и богатство: сколько она за лѣто наваритъ, насолитъ, намочитъ, насушитъ, намаринуетъ всего! У Ключика они свернули на минутку въ сторону, чтобы посмотрѣть на новые хвойные питомники. На большой полянѣ были вспаханы и обнесены частой изгородью ряды аккуратныхъ низкихъ грядокъ. На ближнихъ грядкахъ чуть виднѣлись нѣжные всходы елочекъ, посѣянныхъ въ этомъ году, — такъ, какая-то розовая щетинка, — дальше тѣсно сидѣли прошлогоднія малютки, еще дальше уже упорно щетинились деревца третьяго года, а съ той стороны поляны елочки были уже выкопаны и разсажены по вырубленнымъ дѣлянкамъ. Сергѣй Ивановичъ очень заинтересовалъ начальство своими опытами съ посадкой новыхъ породъ ели и самъ очень дорожилъ своимъ дѣломъ, но сегодня онъ былъ далеко душой отъ всего этого, разсѣянъ и пр-прежнему напряженно сіяли его глаза… — Когда въ молодости я странствовалъ по горамъ заграницей, я часто встрѣчалъ тамѣ такіе вотъ питомники… — сказалъ задумчиво, вспоминая, Иванъ Степановичъ. — И видъ ихъ всегда удивительно трогалъ меня. Саженый лѣсъ это, конечно, не то, что вотъ этотъ нашъ Божій лѣсъ-богатырь, но тутъ трогательна эта дума человѣка о томъ далекомъ будущемъ, котораго онъ самъ уже не увидитъ: когда эти крошки будутъ большими деревьями, его уже не будетъ. Это мнѣ всегда представлялось наиболѣе чистымъ, наиболѣе поэтическимъ видомъ человѣческаго труда. И какъ-то хотѣлось благословить и эти елочки, а въ нихъ и весь трудъ человѣческій, и все будущее человѣчества… И послѣ небольшого молчанія, уже сидя въ тарантасѣ,— теперь шелъ Сергѣй Ивановичъ, — Марья Семеновна сказала: — А вонъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» пишутъ, что нѣмцы съ чехами опять въ Вѣнѣ схватились… Диковинное дѣло! Сколько, словно, мѣста на землѣ, а людямъ все тѣсно… — Ничего не подѣлаешь… — вздохнулъ Иванъ Степановичъ. — На землѣ было тѣсно уже тогда, когда на ней жила всего одна семья, и Каинъ убилъ Авеля… И всѣ почувствовали благодарность къ судьбѣ за то, что эти большія, вѣчно о чемъ-то поющія деревья прячутъ ихъ отъ шумнаго и тѣснаго міра… Скоро золотые, рдѣюшіе въ утреннемъ сіяніи стволы старыхъ сосенъ разступились и на высокомъ берегу тихой, точно зачарованной Ужвы забѣлѣли стѣны и засіяли огоньками кресты монастыря. Добрый Буланчикъ, усиленно перебирая ногами, втащилъ тарантасъ въ крутую гору и какъ разъ въ это время старый колоколъ торжественно ударилъ къ обѣднѣ и, дрожа, понеслись чистые звуки его надъ лѣсными пустынями. Основанной на мѣстѣ дикаго, лѣсного поселка вятичей, на крови Добрынка-Андрея, обители Спаса-на-Крови опредѣленно не повезло. Отъ прежнихъ богатствъ монастыря очень скоро не осталось и слѣда: грабили и жгли его въ старину и татары, и ляхи-еретики, и вольница казачья, и москали, и опять казаки, и опять ляхи, и опять москали, — всѣ, кому только не лѣнь. Каждый вѣкъ каждое поколѣніе воздвигало себѣ какого-нибудь бога или божка и, по странной ироніи судьбы, у Спаса-на-Крови всѣмъ этимъ богамъ и божкамъ люди приносили кровавыя жертвы: то величію и славѣ Золотой Орды и славнымъ ханамъ ея, то величію и славѣ Рѣчи Посполитой, то величію и славѣ великаго государя московскаго и всея Руси, то вольности казацкой, то торжеству истинной вѣры православной, то торжеству истинной вѣры католической… И въ этой борьбѣ божковъ обитель захудала и въ борьбѣ за существованіе — она идетъ и между обителями, — она должна была уступить свое мѣсто другимъ, болѣе счастливымъ обителямъ, гдѣ во время открывались какія-нибудь мощи, икона чудотворная являлась или прославлялся какой-нибудь старецъ-прозорливецъ… И послѣ того, какъ въ монастырѣ случилось ужасное по своимъ подробностямъ убійство потаскушки Варьки, мѣстный губернаторъ, прибалтіецъ съ истинно-русской душой, настоялъ на упраздненіи монастыря. — Помилуйте! — негодуя, говорилъ онъ, конечно, только близкимъ, по секрету. — Эти канальи не только не поддерживаютъ православія, но первые окончательно добиваютъ его… И это въ наше-то время!.. И старый, закоптѣлый, наполовину развалившійся монастырь и совсѣмъ опустѣлъ бы, если бы тихое мѣстечко это не тянуло такъ къ себѣ людей своей красотой и тихою печалью. Мѣстная помѣщица, именитая княгиня Ставровская, потерявъ въ 905 во время революціи на Волгѣ мужа и дѣтей, на свои средства возстановила монастырь, выхлопотала разрѣшеніе основать тутъ дѣвичью обитель и сама первая постриглась тутъ, а чрезъ три года приняла и схиму. Сестры первое время подобрались хорошія, усердныя и снова обитель исполнилась благоуханія благочестія и добрыхъ дѣлъ… Прежде чѣмъ итти въ церковь, Иванъ Степановичъ, какъ всегда, прошелъ на могилку къ своей Марусѣ: она пріютилась тутъ, неподалеку отъ старенькой пятиглавой церковки, подъ развѣсистыми березами. Всѣ знали, что старикъ не любитъ, когда его свиданіе съ дорогой могилкой нарушается даже близкими, и поэтому оставили его одного. И онъ знакомой тропинкой среди могилъ — на нихъ алѣла еще уцѣлѣвшая отъ Радуницы яичная скорлупа: люди приходили христосоваться со своими покойничками… — среди лютиковъ, колокольчиковъ, поповника, незабудокъ прошелъ къ могилкѣ, снялъ шляпу, поклонился по старинному крестьянскому обычаю низко своей дѣвочкѣ, тихо спавшей среди цвѣтовъ и зелени, въ нѣжномъ сіяніи лѣтняго утра и сѣлъ на сѣренькую скамеечку. Въ душѣ поднялась старая печаль, — Маруся была его любимицей, — низко опустилась бѣлая голова и легкій, душистый вѣтерокъ заигралъ пушистыми волосами, а надъ развѣсистыми старыми березами, въ сіяющемъ небѣ гулко и торжественно пѣлъ о Богѣ и вѣчности старый монастырскій колоколъ… И сладко было старику думать, что вотъ еще немного и онъ ляжетъ тутъ, рядомъ съ этимъ холмикомъ, надъ которымъ уже зацвѣталъ душистый шиповникъ… Когда, умиротворенный и еще болѣе притихшій, Иванъ Степановичъ вошелъ въ теплящуюся лампадами и восковыми свѣчами и, какъ улей, душистую церковь, служба уже началась. Онъ обмѣнялся вѣжливыми поклонами со знакомыми сестрами, пошептался съ матерью-казначеей, давая ей необходимыя порученія, куда и какія поставить свѣчи — самъ онъ никогда не рѣшался дѣлать это изъ боязни по своей обычной разсѣянности все перепутать и сдѣлать не такъ, — и, все раскланиваясь со знакомыми сестрами и крестьянами и вообще сосѣдями, прошелъ на свое обычное мѣсто, позади кресла игуменьи. Та покосилась на него осторожно и сдѣлала неуловимый знакъ своей молоденькой келейницѣ, которая исчезла куда-то и чрезъ минуту возвратилась съ коврикомъ для Ивана Степановича. Тотъ изъ приличія, какъ всегда, запротестовалъ слегка, но втайнѣ старикъ былъ не только польщенъ, но даже умиленъ этимъ вниманіемъ, а Марья Семеновна почувствовала приливъ грѣховной гордости, что вотъ ея стараго хозяина такъ отличаютъ… Старый храмъ былъ весь убранъ древлими языческими березками и полевыми цвѣтами, точно лѣсъ зеленый, молодой ворвался въ эти широко раскрытыя окна и затопилъ его своей солнечной радостью. Цвѣты и зелень ласково обвивали всѣхъ этихъ мучениковъ, столпниковъ, дѣвъ непорочныхъ, изсохшихъ аскетовъ съ мученическими глазами и въ жаркомъ воздухѣ стоялъ густой ароматъ ладона, воска и березы, въ окна побѣдно рвались золотые столпы солнечнаго свѣта и ласточки весело щебетали въ закоптѣвшемъ куполѣ, гдѣ царилъ строгій Богъ-Саваоѳъ, хорошо причесанный старецъ съ красивой бородой, въ розово-голубой одеждѣ… И у дверей, весь сѣрый, корявый, съ дикими глазами, точно какой духъ лѣсной, стоялъ въ новыхъ, еще бѣлыхъ лапоткахъ Липатка Безродный, бобыль, полунищій, полурыбакъ, который всѣ и дни и проводилъ по дикимъ лѣснымъ озерамъ и почти разучился говорить по-человѣчески… Неподалеку отъ него виднѣлся монастырскій перевозчикъ Шураль, еще молодой, весь точно бронзовый мужикъ со строгими глазами, никогда ни съ кѣмъ не говорившій — видимо, по какому-то обѣту — ни единаго слова. А спереди богомольцевъ яркимъ, красивымъ взрывомъ выдѣлялась нарядная и прекрасная Ксенія Федоровна, рядомъ съ которой стоялъ и усердно молился Левъ Аполлоновичъ и разсѣянно думалъ о чемъ-то Андрей. Богатѣй изъ Мещеры, толстый Петръ Иванычъ Бронзовъ, бывший старшiй поваръ изъ московскаго «Эрмитажа», въ желтоватой чесучевой парѣ набожно стоялъ рядомъ съ своей тоже толстой, простоватой супругой, сложившей ротикъ бантикомъ и усердно молившейся… Размягченный душой Иванъ Степановичъ слѣдилъ за торжественнымъ ходомъ богослуженія и слушалъ стройное пѣніе дѣйствительно прекраснаго хора. Служилъ сегодня его любимый священникъ, о. Александръ, — какъ всегда, истово, толково, неторопливо, съ глубокимъ и искреннимъ чувствомъ, которое заражало всѣхъ молящихся. Иванъ Степановичъ очень хорошо зналъ и исторію религій, и Вольтера, и Ренана, и Толстого, и самъ достаточно побунтовалъ въ молодые годы, но теперь и это все потеряло для него всякое значеніе. Никакія усилія, никакой бунтъ сыновъ человѣческихъ — понялъ онъ — не могутъ убить въ людяхъ идеи и чувства Бога, а если ихъ формы служенія Ему несовершенны, то что же въ ихъ дѣяніяхъ на землѣ совершеннаго? Сперва вслѣдъ за Гете онъ думалъ, что das schönste Glück des denkenden Menschen ist das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschlieche ruhig zu verehren, но потомъ какъ-то само пришло къ нему откровеніе, что unerforschlich въ концѣ концовъ все, все тайна и — радостно онъ смирился. А это, кромѣ того, такъ все прекрасно въ самомъ несовершенствѣ своемъ, такъ утишаетъ уставшую душу человѣческую, такъ ее баюкаетъ, такъ согрѣваетъ…. И онъ сосредоточенно, не развлекаясь, слушалъ бархатные возгласы дьякона и умиленно молился Богу о мирѣ всего міра, о путешествующихъ, недугующихъ, страждущихъ и о предстоящихъ молящихся, ожидающихъ отъ Бога великія и богатыя милости, хотя самъ онъ теперь уже не нуждался ни въ чемъ, ибо обрѣлъ, наконецъ, величайшую изъ милостей неба: глубокій покой и душевный миръ… Степенно и сосредоточенно молилась сзади стараго хозяина Марья Семеновна — такъ, какъ молятся женщины, не о томъ, о чемъ возглашаетъ дьяконъ, о чемъ поетъ хоръ, а точно совершая въ тайнѣ души какое-то особенное, интимное богослуженіе. Вспоминалась вся жизнь, всѣ грѣхи вольные и невольные, поднималось чувство благодарности къ Богу, что вотъ упокоилъ онъ ее въ тихомъ трудовомъ пристанищѣ, свѣтлой лампадой теплилась въ душѣ надежда, что и впредь Господь не оставитъ ее своей милостью, что дни ея просто разрѣшатся въ мирной и непостыдной кончинѣ и что сможетъ она въ концѣ концовъ дать добрый отвѣтъ на страшномъ судиіцѣ Христовомъ. Ваня широко открытыми глазами смотрѣлъ на то строгіе, то умиленные лики святыхъ, тепло озаренные священными огнями, и ему иногда казалось, что это прекрасные гимны благоухаютъ такъ въ куреніяхъ кадильныхъ или что эти сизыя волны благоуханій поютъ такъ надъ толпой, и странно волновалась душа ребенка предъ непонятнымъ, но прекраснымъ. Иногда его развлекала плачущая на колѣняхъ молодая женщина, изступленно, сквозь слезы смотрящая къ тихо сіяющему алтарю, или старая схимница-княгиня, потерявшая во время бунта на Волгѣ всю свою семью, въ черной мантіи съ бѣлыми костями и черепами, отъ которыхъ вѣяло холодной, за душу берущей жутью, или ласточка, съ нѣжнымъ щебетаньемъ носившаяся въ куполѣ, пронизанномъ золотыми столпами, — тогда Марья Семеновна тихонько трогала мальчика за плечо и ласково напоминала ему, что надо молиться. Но забылъ о молитвѣ Сергѣй Ивановичъ, — онъ молился у другого алтаря, другимъ чиномъ, другому богу: просіявшіе, горячіе глаза его не отрывались отъ поющаго хора, отъ этой стройной и такой строгой, чистой, недоступной въ своемъ черномъ одѣяніи красавицы, сестры Нины, племянницы старой княгини-схимницы, съ нѣжнымъ оваломъ лица, съ голубыми, какъ небо, глазами и крошечной родинкой надъ верхней губой слѣва, въ которой было что-то удивительно трогающее и восхищающее. Неизвѣстно, чувствовала ли красавица это восторженное и грѣшное обожаніе его, но она не подняла на него своихъ опущенныхъ глазъ ни разу и ея лицо, казалось, было одухотворено только одной молитвой. Но, когда разъ, во время службы, она прошла мимо Сергѣя Ивановича совсѣмъ близко, то опущенныя длинныя рѣсницы ея странно затрепетали и было въ этомъ неуловимомъ мерцаніи ихъ что-то такое, отъ чего въ душѣ молодого лѣсничаго еще жарче разгорѣлся буйный пожаръ… Онъ и не замѣтилъ, какъ кончилась обѣдня. — О чемъ это вы такъ замечтались? — послышался сзади его смѣющійся тихій голосъ. Онъ обернулся: къ нему подошли поздороваться Столпины. Иванъ Степановичъ, раскланявшись съ ними, обернулся къ игуменьѣ, которая звала его на чашку чаю: онъ какъ-то не долюбливалъ Льва Аполлоновича за 905, когда тотъ, по слухамъ, обнаружилъ большую жестокость во время безпорядковъ во флотѣ. И старый морякъ немножко сторонился писателя: не нравилось Льву Аполлоновичу въ немъ, что онъ какъ-то равнодушенъ ко всему, какъ-то точно сторонится жизни и дѣлъ ея… И подошелъ къ нимъ и Петръ Ивановичъ Бронзовъ и съ достоинствомъ раскланялся: онъ зналъ себѣ цѣну. — А я слышала, къ вамъ скоро сынъ изъ Америки пріѣзжаетъ… — любезно обратилась къ нему Ксенія Федоровна. — Да-съ, ожидаемъ… — вѣжливо отвѣчалъ тотъ. — Тогда разрѣшите ужъ привезти его въ «Угоръ» познакомиться съ сосѣдями… — Милости просимъ… Будетъ очень интересно… Я еще не видала, какіе живые американцы бываютъ… — Хе-хе-хе… Ничего, не очень страшны… И всѣ, вслѣдъ за богомольцами, пошли потихоньку изъ быстро пустѣющей церкви, въ которой стоялъ и не проходилъ густой ароматъ ладона, воска и молодыхъ, вянущихъ березокъ…VI. — ВОСКРЕСЕНIЕ ПЕРУНА
Пестрая толпа богомольцевъ быстро растекалась во всѣ стороны: одни торопились къ перевозу, другіе скрывались въ лѣсу, третьи шли навѣстить знакомыхъ сестеръ, а нѣкоторые на кладбище провѣдать своихъ покойничковъ. Левъ Аполлоновичъ съ Иваномъ Степановичемъ пошли къ игуменьѣ, а Сергѣй Ивановичъ съ Ксеніей Федоровной и Андреемъ, напившись чудеснаго молока съ вкуснымъ монастырскимъ хлѣбомъ, пошли, наслаждаясь солнцемъ, вокругъ старыхъ стѣнъ обители, боромъ, къ рѣкѣ. Сергѣй Ивановичъ давно уже сдружился съ Андреемъ, но сегодня бесѣда ихъ что-то не клеилась: Сергѣй Ивановичъ то торжествовалъ внутренно, то мучился и не зналъ, что дѣлать, ибо всѣ дороги его жизни вели теперь только въ одну сторону, въ эту тихую обитель надъ зеркальной гладью точно зачарованной лѣсной рѣки, къ ногамъ этой далекой въ своемъ строгомъ одѣяніи монахини дѣвушки съ глазами цвѣта вешняго неба. Прежде всего покоя искалъ онъ въ этой зеленой крѣпости лѣсовъ, но онъ потерялъ покой: стоило ему только вспомнить это неуловимое мерцаніе длинныхъ рѣсницъ на миломъ лицѣ, какъ горячіе гимны гремѣли въ его сердцѣ, но смотрѣлъ онъ на эти бѣлыя, старыя, суровыя стѣны и торжество его смѣнялось отчаяніемъ… И какая-то тягота и напряженіе точно сковывало и Андрея и даже Ксенію Федоровну — точно подошли они оба къ краю пропасти и не могли ни итти дальше, ни отойти прочь… А на томъ берегу, по солнечнымъ дорогамъ, среди цвѣтущихъ поемныхъ луговъ шла большая ярко-пестрая толпа дѣвушекъ и съ пѣніемъ плясала вокругъ разряженной въ пестрыя ленты березки, которую несли въ головѣ толпы. Дѣвушки уже не знали, забыли, что значить эта разряженная, тысячелѣтняя березка, но отъ этого ни ихъ пѣсни, ни пляски были не менѣе веселы… — Жарко… Я что-то устала… — сказала Ксенія Федоровна. — Сядемъ… И они сѣли на самомъ берегу сверкающей на солнцѣ Ужвы, среди разбросанныхъ крупныхъ валуновъ, подъ крутымъ обрывомъ, на которомъ стоялъ монастырь. — Когда же вы отправляетесь на сѣверъ? — спросилъ Сергѣй Ивановичъ своего друга. — На этихъ дняхъ… — отвѣчалъ тотъ, щуря глаза на золотыхъ зайчиковъ въ мелкой ряби рѣки. — Мы хотимъ на этотъ разъ забраться куда поглуше… — Вотъ хоть убей меня, не могу понять этой страсти къ мертвечинѣ! — съ непонятной досадой воскликнула Ксенія Федоровна. — Понимаю охотника, велосипедиста, врача, инженера, артиста, который отдается своему дѣлу со страстью, но это ковыряніе въ мертвомъ мусорѣ — не понимаю! Тамъ обрывокъ уже мертвой пѣсни запишетъ, тамъ поговорку выкопаетъ, которую никто ужъ и не знаетъ, тамъ словечко заплеснѣвѣлое, и радуется… А результатъ? Узналъ, что въ нашей Мещерѣ тысячу лѣтъ тому назадъ жила Чудь и что — какъ это тамъ? — людьми часто правятъ силы, которымъ человѣкъ не знаетъ даже и имени… А что изъ этого? Ничего, «такъ»… А рядомъ, мимо бѣжитъ жизнь, живая, нарядная, пестрая… — И эта историческая жизнь такая же живая, нарядная, пестрая… — отозвался Андрей. — Слова… Слова такъ же живутъ, какъ бабочки, цвѣты или мы съ вами… Слова, какъ люди, рождаются, борются, старѣютъ и умираютъ, какъ у людей, у каждаго изъ нихъ есть своя особая біографія, какъ у людей у нихъ есть лица, то милыя, влекущія, то сумрачныя, отталкивающія, какъ у людей, у каждаго изъ нихъ есть своя особая таинственная душа. И какъ и у людей, таинственно ихъ рожденіе и таинственна ихъ смерть. Есть слова-дѣти, при рожденіи которыхъ мы присутствовали, какъ витализмъ, напримѣръ, футуризмъ, аэропланъ и пр., а многія другія — дряхлые старички, которые доживаютъ тихонько свой вѣкъ на нашихъ невнимательныхъ глазахъ, какъ какая-нибудь «тріодь», «сумный», «городище» или странный для насъ «перочинный» ножъ. И у насъ «Перунъ» умеръ, а у галичанъ — живъ: такъ называется тамъ и до сихъ поръ молніи, ударившая во что-нибудь. Есть слова получившія сразу всемірную извѣстность и право жительства во всѣхъ языкахъ, какъ «трэстъ», «растакуэръ», «автомобиль», и есть слова, которыя отъ рожденія поселились въ зеленой, провинціальной глуши, какъ нашъ древлянскій «пыринъ»[1], напримѣръ, или волжскій «стрежень» или наше древлянское «вырево»… — А что это такое «вырево»? — съ ласковой насмѣшкой, глядя въ его оживившееся лицо, спросила Ксенія Федоровна. — У крестьянъ нашихъ это длинная, затяжная ссора, канитель, чепуха… — сказалъ оживившійся Андрей. — Слова… Да это волшебный міръ! Царство ихъ — сверкающая розсыпь, которою я не устаю никогда любоваться, наслаждаюсь ихъ звуками, наслаждаюсь ихъ душами. Вѣдь каждое слово это какое-то милое окошечко въ манящую таинственную безконечность духа человѣческаго. А какъ радостно бываетъ иногда разгадать слово! Вотъ недавно понялъ я, что такое «опенки»: о въ на нашемъ языкѣ всегда означаетъ окруженіе, округъ, вокругъ, а затѣмъ идетъ пень и получается, что опенки это только о-пеньки, то есть, тѣ, что растутъ вокругъ пня, то есть, какъ разъ то, что и составляетъ самый яркій признакъ этого милаго, веселаго, дружнаго грибка. Точно такъ же подушка это то, что кладутъ подъ ушко, а нѣмецъ происходитъ отъ нѣмой, ибо онъ ничего не можетъ сказать… И не странно ли, что Богъ, богатырь и богатство имѣютъ, повидимому, одинъ корень? И развѣ не смѣшно немножко, что начальство, началитъ — т. е. наказывать — и начало тоже, видимо, отъ одного корня? И у каждаго есть или, по крайней мѣрѣ, должно быть слово или немногія слова, которыя онъ произноситъ только въ самыхъ глубинахъ души своей, куда, какъ въ скинію Господню, не имѣетъ права входить никто, и есть, наоборотъ, слова, которыя я, напримѣръ, готовъ повторять безъ конца, въ которыхъ я слышу сладкую волнующую музыку, ту вѣчную поэму творенія, тотъ утренній вѣтеръ, который, по словамъ Торо, слышутъ только немногія уши… И, можетъ быть, долгъ каждаго дѣйствительно культурнаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы въ теченіе своей жизни внести хоть одно красивое новое слово въ эту общую сокровищницу человѣческую, хоть одну только жемчужинку… Онъ разрумянился и похорошѣлъ. Сергѣй Ивановичъ съ удовольствіемъ слушалъ: въ немъ совсѣмъ не было этой способности такъ ощущать, такъ выражать скрытую красоту жизни и поэтому это свойство своего друга онъ особенно цѣнилъ. Ксенія Федоровна задумчиво чертила кончикомъ зонта по влажному песку и никакъ не хотѣла себѣ сознаться, что эти красивыя и для нея во всякомъ случаѣ новыя маленькія откровенія трогаютъ ее, и иногда вскидывала на Андрея мягко-насмѣшливый взглядъ. — Да… — вздохнула она легонько. — Дѣти любятъ погремушки… — И ничто не даетъ мнѣ увѣренности въ лучшей долѣ человѣка какъ именно слова… — тише заключилъ тотъ. — Психологическій законъ, вѣрно выраженьый въ словахъ «отъ полноты сердца глаголятъ уста», непреложенъ и, если теперь мы слышимъ слова: свобода, равенство, братство, которыхъ раньше — тысячи лѣтъ назадъ — не было, то я знаю, что въ душѣ человѣка забили новые ключи, которыхъ раньше тоже не было. И, можетъ быть, придетъ время, когда ключи эти, слившись, потекутъ широкой и могучей рѣкой обновленнаго человѣчества въ новую, прекрасную жизнь и новое человѣчество это, забывъ всѣхъ своихъ старыхъ, немножко исключительныхъ боговъ, падши поклонится Богу Единому, Отцу всего сущаго… — Любовь вотъ богъ безсмертный, которому покорно все живое… — низкимъ голосомъ проговорила тихо Ксенія Федоровна и вдругъ воскликнула живо: — Ай, смотрите! Точно рука… Что это такое? Андрей торопливо наклонился къ продолговатому камню, съ котораго она концомъ зонтика машинально счищала зеленый мохъ. Въ самомъ дѣлѣ, на камнѣ было ясно видно грубое, плоское изображеніе человѣческой руки. Въ одну минуту нетерпѣливыя руки молодежи очистили отъ моха весь камень, — это было изображеніе человѣка, державшаго въ правой рукѣ пучекъ яро извивающихся молній. И такъ какъ на плоскомъ лицѣ его не было никакого человѣческаго выраженія, то и казалось оно исполненнымъ какого-то неземнаго спокойствія, силы и даже величія… — Это удивительно… Это поразительно… — говорилъ Андрей, точно соображая. — Это, по всей видимости, тотъ самый Перунъ, котораго первые проповѣдники изъ Кіева сбросили оттуда, съ обрыва, въ рѣку. Она обмелѣла, отступила отъ берега и вотъ древлій богъ воскресъ! — Оставить его тутъ было бы жалко… — сказалъ Сергѣй Ивановичъ. — Кто-нибудь возьметъ да нарочно его въ омутъ опять и свалитъ. А то такъ «на смѣхъ» изуродуютъ… — Нѣтъ, тутъ, конечно, оставить его нельзя… — сказалъ Андрей. — Пока мы перевеземъ къ себѣ на усадьбу, а потомъ въ Москву, въ историческій музей… Это очень интересная археологическая находка и честь ея принадлежитъ вамъ… — Скорѣе моему зонтику… — равнодушно усмѣхнулась Ксенія Федоровна. И скоро вкругъ воскресшаго бога собрались любопытные богомольцы и заахали, ужасаясь, неизвѣстно чему, черныя монахини. — Ишь-ты, въ рукѣ-то громовы стрѣлы держитъ, — знать, сердитай былъ… — послышались голоса. — Ой, дѣвыньки, да какой онъ страшнай!.. Вотъ ежели приснится ночью — со страху помрешь! И стамой[2]) какой… Ну, и дѣла!.. Ну, поглядѣли и ладно: стуканъ онъ стуканъ и есть — чего тутъ еще проклажаться-то?.. Айда по домамъ… Господи, вотъ чуда-то… Первымъ простился съ монахинями Левъ Аполлоновичъ. Старенькая коляска его тихо спустилась съ горы и въѣхала на паромъ. Молчаливый Шураль переправилъ его на другую сторону. — Ужасно непріятно, что онъ за трудъ ничего не беретъ… — проговорилъ тихо Левъ Аполлоновичъ. — Нужно просто оставлять, что слѣдуетъ, на паромѣ… — сказала Ксенія Федоровна. — Пробовалъ — все равно не беретъ… — И что это скрыто подъ его молчаніемъ? — задумчиво проговорила она. — Вѣроятно, любовная драма какая-нибудь… Левъ Аполлоновичъ немножко поморщился: ему было непріятно, что жена слишкомъ что-то часто останавливается на любовныхъ темахъ. И коляска заколыхалась по солнечному проселку. Сзади вилась легкая золотистая пыль. И поднимались изрѣдка маленькіе смерчи и, весело крутясь, уносились въ луга, — можетъ быть, то баба-яга, заметая слѣдъ помеломъ, проносилась куда-нибудь въ ступѣ по своимъ дѣламъ… И въ зеленыхъ лугахъ, и по шумнымъ деревнямъ все еще ходили пестрыя толпы молодежи съ разряженной березкой, и пѣли, и плясали, и дурачились, уже не зная имени той радости, которая пьянила ихъ. Подъ вечеръ выѣхалъ и Иванъ Степановичъ со своими. Теперь правилъ старикъ, а Марья Семеновна держала въ рукахъ уснувшаго, утомленнаго Ваню. Говорили они мало и потушенными голосами и каждое слово ихъ было тепло и значительно. А Сергѣй Ивановичъ молча шагалъ между золотистыхъ стволовъ по звонкой тропкѣ и въ душѣ его всепобѣдно царилъ милый ликъ и трепетали длинныя рѣсницы… И, когда подъѣхали они въ серебристыхъ сумеркахъ къ лѣсному домику, въ его окнахъ, чуть посеребренныхъ неполнымъ еще мѣсяцемъ, мирно засіяли имъ навстрѣчу тихіе огоньки: то Дуня — она цѣлый день проплакала, потому что Петро «провалился», не сказавшись, къ обѣднѣ на Устье, — зажгла ради Духова дня лампады. И, когда усталый, но довольный Иванъ Степановичъ вошелъ въ свою комнату, то и у него теплился этотъ ласковый огонекъ и глубокимъ миромъ дышала вся его, точно преображенная, комната… А въ это время, на другомъ концѣ лѣса, надъ зачарованной рѣкой, въ тихіе часы, когда старыя монахини при робкомъ свѣтѣ восковыхъ свѣчекъ и лампадъ умерщвляли свою плоть — въ ночные часы нечистая сила особенно сильна, — бдѣніемъ, молитвами и чтеніемъ старыхъ пахучихъ книгъ съ прозеленѣвшими мѣдными застежками и выцвѣтшими лентами между полуистлѣвшихъ страницъ, на окнѣ своей келійки сидѣла молоденькая монахиня и, поднявъ прекрасное лицо въ звѣздное небо, то думала о чемъ-то, то грѣховно мечтала. Холодные годы сиротства въ раннемъ дѣтствѣ, потомъ долгіе годы Смольнаго, потомъ эта страшная катастрофа въ семьѣ любимой тети, когда погибла такъ ужасно вся ея семья, потомъ этотъ уходъ вмѣстѣ съ нею отъ міра въ тихую обитель: она всегда была очень религіозна и шагъ этотъ не былъ особенно труденъ ей. И вотъ вдругъ среди темныхъ лѣсовъ, за бѣлыми старинными стѣнами налетѣло на нее нежданно-негаданно это искушеніе: неужели, неужели правда то грѣшное счастье, о которомъ говорятъ ей всегда эти черные, полные огня глаза? Неужели правда?… И она пробовала молиться, и она пробовала спать, и она пробовала читать древнія пахучія книги съ прозеленѣешими застежками, но не могла ни спать, ни читать, ни молиться и вся отдалась колдовству этой теплой, ласковой лѣтней ночи, и радовалась, и отчаивалась, и не знала, что дѣлать…VII. — ШЕСТВІЕ БОГА
Старая игуменья не только ничего не имѣла противъ удаленія Перуна, но, наоборотъ, настаивала, чтобы его поскорѣе убрали подальше. — Ну его… — говорила она и въ лицѣ ея была какая-то странная брезгливость. — Увезите поскорѣе, развяжите руки… Тоже сокровище!.. Андрей подрядилъ одного изъ пріѣхавшихъ помолиться крестьянъ, общими усиліями взвалили восскресшаго бога на телѣгу, — она была совсѣмъ почти такая, какъ и тысячу лѣтъ тому назадъ, — и, сопровождаемый шутливымъ прощаніемъ толпы любопытныхъ, Перунъ переѣхалъ на паромѣ на ту сторону и солнечными дорогами и шумными деревнями медленно поѣхалъ по родной землѣ въ невѣдомое. Вездѣ шумѣла разряженная молодежь, все носившая красиво убранныя березки. — Стукана везутъ!.. — кричали веселые голоса встрѣчнымъ и поперечнымъ. — Въ рѣкѣ пымали… Ахъ, батюшки, вотъ чуда-то! Глядите, глядите: и руки, и морда человѣчья, все, какъ слѣдоваитъ… И откедова онъ такой взялся?… И, окруженная пестрымъ вѣнкомъ молодежи, телѣга, не торопясь, двигалась вечерѣющими дорогами къ «Угору». — Тпру! Съ какимъ товаромъ? — весело крикнулъ, видимо, подгулявшій встрѣчный мужикъ съ рыже-красной бородой, останавливая свою бѣлую, впразелень, кляченку. — Стукана водяного веземъ! — весело кричали со всѣхъ сторонъ. — Въ рѣкѣ пымали: въ Оку плылъ. А мы переняли… Мужикъ на ходу подивился на Перуна. — И я тоже, не хуже вашего, мертвое тѣло везу… — заржалъ онъ, скаля бѣлые, крѣпкіе зубы. — О. Настигая… Такъ наклевался у насъ, что одно слово: ни вдыхнуть, ни выдьіхнуть… — Кого? Кутилкина? Запьянцовскаго? Га-га-га-га… — раскатилась толпа. Дѣйствительно, въ телѣгѣ, обративъ къ сіяющему небу маленькое, сморщенное, съ курносымъ, краснымъ носикомъ лицо, храпѣлъ на свѣжемъ сѣнѣ старенькій попикъ отъ Устья, о. Евстигнѣй, великій грѣховодникъ передъ Господомъ и большой весельчакъ. Тѣ, кто помоложе и позубастѣе, звали его Настигаемъ, Достигаемъ, Запьянцовскимъ, Кутилкинымъ, а тѣ, кто посолиднѣе и кто не хотѣлъ очень ужъ компрометировать духовенство, тѣ величали его «попикомъ непутнымъ». Часть молодежи, которой стуканъ уже успѣлъ надоѣсть, увязалась за телѣгой огненнаго мужика и два шествія съ шумомъ разошлись: одна толпа плясала и дурачилась вкругъ воскресшаго Перуна, а другая, съ березкой, вкругъ пьянаго до безчувствія попика. А въ небѣ ярко сіяло склонявшееся къ вечеру солнце — казалось, что добрый Дажьбогъ, ухватившись обѣими руками за толстый и круглый животъ свой, громко хохоталъ надъ шумными забавами зеленой, его милостью счастливой земли… И шедшій за Перуномъ Андрей почувствовалъ, что въ душу его запала отъ этой встрѣчи Перуна съпьянымъ Настигаемъ среди солнечныхъ полей какая-то большая, но совсѣмъ еще смутная мысль, которую онъ старался выявить яснѣе, но напрасно… И, шумя веселымъ шумомъ, шествіе ввалилось на широкій, заросшій и немножко точно грустный дворъ угорской усадьбы. Андрей рѣшилъ поставить Перуна около своей любимой старой бесѣдки, надъ сонной, затканной бѣлой кувшинкой Старицей, на уцѣлѣвшемъ цоколѣ, на которомъ когда-то стояла теперь совсѣмъ развалившаяся богиня Флора съ цвѣтами въ подолѣ, среди густо разросшагося шиповника и жасмина и высокихъ, теперь точно сметаной облитыхъ черемухъ. Молодежь разомъ подхватила стукана на руки и со смѣхомъ понесла его старымъ паркомъ къ бесѣдкѣ. — Во, важно… — раздавались голоса, когда Перунъ сталъ на свое мѣсто. — Такъ вотъ пущай и стоитъ… Тутъ ему гоже: вся земля видна съ горы-то… А теперь угощай, давай, дѣвокъ-то, Андрей Палитычъ: нельзя, старались… Андрей Ипполитовичъ вопросительно посмотрѣлъ на вышедшаго на шумъ Льва Аполлоновича. Этотъ вопросъ съ «угощеніемъ» всегда былъ тяжелъ ему. Но съ другой стороны нельзя было, конечно, и не отблагодарить сосѣдей. — Ну-ка, Корнѣй, поди-ка принеси намъ сюда наливочки какой послаще… — сказалъ Левъ Аполлоновичъ, котораго невольно заражало это неудержимо наростающее веселье. — И спроси у Варварушки для дѣвицъ пряниковъ, что ли, какихъ, орѣховъ тамъ… Чрезъ какіе-нибудь четверть часа угощеніе вкругъ воцарившагося надъ ликующей землей Перуна было въ полномъ разгарѣ. Парни молодцевато хлопали по очереди свой стаканчикъ и для чего-то считали обязательно нужнымъ ловко сплюнуть потомъ въ сторону, дѣвки сперва маленько «соромились», отнѣкивались, но въ концѣ концовъ выпивали сладкой и душистой наливки и, выпивъ, съ улыбкой прятались за спины подругъ. А когда молодежь угостилась, пристали и сбѣжавшіеся изъ сосѣднихъ Мещеры и Вошелова старшіе. И всѣхъ ихъ обнесъ собственноручно Левъ Аполлоновичъ душистой наливкой. И, когда заговорилъ крѣпкій хмѣль въ праздничныхъ головахъ, звонкій и задорный бабій голосъ крикнулъ: — Ну, всѣ… дѣвки, бабы… караводъ! Надо потѣшить хозяина тароватаго… Ну, живо!.. И вотъ вдругъ, точно по наитію, вкругъ воскресшаго бога пышно зацвѣлъ — какъ и тысячу лѣтъ тому назадъ, — живой вѣнокъ хоровода. Сосѣди отлично знали — по помочамъ и по престоламъ — что новыхъ, «фабришныхъ», «паскудныхъ» пѣсенъ здѣсь хозяева не любятъ, и вотъ Акулина, гладкая, складная, ражая баба подъ-сорокъ, съ лукавыми и жадными глазами крикнула: — Ну, вы тамъ… которые молодые… Я старинную заведу, а вы подлаживай… И шевельнулся и поплылъ пестрый хороводъ и въ тихомъ сіяніи вечера, на зеленой полянѣ, среди стараго парка поднялся вдругъ сильный и звонкій голосъ Акулины:Хорошо съ милымъ по ягоды ходить…
Хорошо съ милымъ аукаться въ лѣсу
Люли, люли,
Хорошо съ милымъ аукаться въ лѣсу…
Ты ау, ау, мой миленькій дружокъ,
Ты подай-ка свой веселый голосокъ!
Люли, люли,
Ты подай-ка свой веселый голосокъ
Черезъ темненькій, высокенькій лѣсокъ…
Люли, люли…
На всѣ стороны четыре…
На всѣ стороны четыре
Клала по узору,
По узору золотому,
По другому голубому, —
Эхъ, да коверъ шила!
Шила, брала,
Какъ, бывало,
Шила, брала,
Какъ, бывало.
Дружка поджидала…
Не летай, соловей,
Не летай, молодой,
На нашу долинку!
Свою дѣвушку милую,
Свою дѣвушку милую
Семь разъ поцѣлую!..
Горбунья Варвара полозила изъ комнаты въ комнату, зажигая вездѣ лампадки, на лицѣ ея былъ страхъ и какая-то зловѣщая радость, точно она хотѣла сказать всѣмъ: ну, что? довертѣлись? — Святъ, святъ, святъ… — шептала она, крестясь при каждой вспышкѣ молніи. — Гнѣвъ-то Господень!.. Воо, опять молонья… Святъ, святъ, святъ… Наташа, какъ ласточка, все вилась вокругъ комнаты Андрея, и боялась, и не могла уйти, и въ глазахъ ея то и дѣло наливались крупныя слезы… Молніи слѣдовали одна за другой почти безпрерывно, — бѣлыя, золотыя, зеленыя, синія, красныя… — громъ не умолкалъ ни на мгновенье, то удаляясь, то приближаясь, то оглушая страшными взрывами, отъ которыхъ, казалось, сотрясалась земля и все живое невольно затаивало дыханіе. Казалось, точно пробовалъ воскресшій Перунъ свою силушку старую, словно торжественно, въ буйномъ веселіи праздновалъ онъ свое возвращеніе къ жизни, къ родной землѣ… И застучали по стекламъ первыя, крупныя капли теплаго дождя, забарабанило дружно и весело по крышѣ и вдругъ властный, ровный, бархатный шумъ дождя потопилъ всѣ звуки. Молніи вздрагивали все такъ же часто, но громъ сталъ какъ-то менѣе яростенъ и слышно было, какъ все оживало въ теплой тьмѣ. И старый Корнѣй, радостно фыркая, крякая, вздыхая, съ наслажденіемъ мылъ по своей привычкѣ подъ трубой, душистой и теплой дождевой водой и лицо, и шею, и руки, и все приговаривалъ: — Во, важно! Экая благодать!.. Вотъ милость-то Божья… Не вода, а одно слово шелкъ… Варварушка, ты что же не умоешься? Сразу на двѣсти лѣтъ помолодѣешь… А я погляжу, погляжу да и посватаюсь… А? — Тьфу, грѣховодникъ старый! — отгрызалась горбунья. — Имъ все ни по чемъ — какой народъ пошелъ!.. Святъ, святъ, святъ… Гроза затихала. По парку шелъ немолчный шепотъ капель. Въ широко распахнутыя окна свѣжими потоками лился упоительный, весь пропитанный ароматами воздухъ. Въ прорывы черныхъ тучъ иногда выкатывалась свѣтлая луна и тогда лохматые края тучъ одѣвались въ блѣдное золото. Въ глубинѣ парка смутно среди облитыхъ сметаной черемухъ выступали очертанія отдыхающаго теперь Перуна. И проглянули звѣзды, и раскатилась опять соловьиная пѣснь, чистая, серебряная, точно омытая ливнемъ… А когда разсвѣло и встало опять яркое солнце, и вся земля засверкала алмазами и жемчугами, и закурилась ароматами, какъ гигантская жертвенная чаша, мужики выходили со дворовъ на околицы и, радостно глядя на пышно цвѣтущіе сады и луга и поля, все сладострастно пожимали плечами и повторяли еще и еще: — Экая благодать Господня… Не надышишься! А рожь-то, рожь-то, кормилица… Ну, и послалъ Господь милости… И всѣ были ласковы и любовны и готовы къ умиленію и душамъ ихъ было тѣсно въ груди: имъ хотѣлось летать…
VIII. — МОСКВИЧЪ
Деревни, которыя, какъ Вошелово или Мещера, стояли по опушкѣ огромной Ужвинской казенной дачи, жили очень зажиточно. Первоисточникомъ ихъ благосостоянія былъ лѣсъ. Каждую осень, какъ только падетъ снѣжокъ, крестьяне изъ дальнихъ деревень выѣзжали въ лѣсъ на заработки, а чтобы не возвращаться домой каждый день, становились они со своими лошадьми «на фатеру» по подлѣснымъ деревнямъ. Благодаря этому въ деревняхъ скоплялось къ веснѣ огромное количество навоза, поля получали великолѣпное удобреніе и давали обыкновенно прекраснѣйшіе урожаи. Скота у этихъ мужиковъ было вдоволь и скотъ былъ сытый и веселый, стройка хорошая, прочная, ладная и одѣвались по этимъ деревнямъ форсисто. Благосостоянію крестьянъ очень способствовало и то обстоятельство, что всѣ эти подлѣсныя деревни были небольшія, дворовъ восемь, десять, много пятнадцать, а поэтому сходы не горлопанили, а занимались дѣломъ и хозяйственные мужики, легко сговорившись между собой, держали немногихъ пьяницъ и лежебоковъ въ ежевыхъ рукавицахъ. Изъ другихъ, удаленныхъ отъ лѣса деревень много народу уходило въ города на заработки, — каменщиками, штукатурами, шестерками, прикащиками и пр., — и тамъ поэтому народъ «шатался въ корнѣ»; здѣсь этого явленія могло бы и не быть, — народъ былъ сытъ и доволенъ, — но тѣмъ не менѣе повѣтріе это захватывало некрѣпкія души и здѣсь, и здѣсь многіе не желали больше «пнямъ молиться» и рвались въ города, чтобы «вытти въ люди», т. е. носить манишки крахмальныя, штаны тпруа и махать тросточкой… Послѣ ночной грозы мещерскіе мужики, празднуя Духовъ День, съ удовольствіемъ бездѣльничали: грѣлись на солнышкѣ, чесали языки, смѣялись по заваленкамъ и безперечь дули чай: кто съ жирнымъ топленымъ молокомъ, кто съ лимончикомъ, а кто и съ ланпасе. Какъ всегда собрался народъ и подъ окнами большого, шикарнаго, прямо купеческаго дома Петра Ивановича Бронзова, бывшаго москвича. Домъ этотъ былъ въ восемь большихъ — по городскому — оконъ по улицѣ, выкрашенъ весь въ темно-зеленую краску и заплетенъ причудливой рѣзьбой сверху до-низу, что стало-таки въ копеечку. Изъ оконъ смотрѣли на улицу цвѣты всякіе и весело и парадно горѣли на солнышкѣ мѣдные, ярко начищенные приборы оконъ и дверей. Все было крѣпко, богато и гордо. Петръ Иванычъ, небольшого роста, жирный и мягкій, какъ котъ, съ круглымъ и бритымъ лицомъ, въ просторной чесучовой парѣ — ну, чистый вотъ баринъ, глаза лопни! — только что всталъ послѣ полуденнаго отдыха, побаловалъ себя рюмочкой охотницкой мадерки — онъ былъ большой сластена, — и вышелъ къ собравшимся мужикамъ посидѣть. Встрѣтили его мужики, какъ всегда, съ великимъ почетомъ. И какъ всегда, очень скоро слово мірское осталось за Петромъ Ивановичемъ и сталъ онъ разсказывать мужикамъ о вольномъ и благородномъ житьѣ московскомъ: онъ былъ въ Москвѣ главнымъ поваромъ въ Эрмитажѣ, хорошо принакопилъ и теперь на старость вернулся въ Мещеру, на родину, доживать свой вѣкъ на спокоѣ. Поговаривали было легонько, что изъ Москвы будто попросила его полиція за какія-то темныя дѣлишки съ векселями — онъ занимался и дисконтомъ полегоньку, — но вѣрнаго тутъ никто не зналъ ничего, а и зналъ бы, такъ это нисколько не уменьшило бы уваженія мещерцевъ къ ихъ удачливому земляку, — напротивъ… — Поваръ… Вы думаете, что такое поваръ?.. — благодушно, но назидательно говорилъ Петръ Иванычъ своимъ медлительнымъ, жирнымъ, генеральскимъ баскомъ. — Повара Москва уважаетъ, да еще какъ! Да и не одна Москва: пріѣдетъ, скажемъ, изъ-за границы пѣвецъ какой знаменитый, или прынецъ тамъ какой, генералъ важный или какой Деруледъ и сичасъ же первымъ дѣломъ куда? Въ Эрмитажъ покушать!.. Потому наше заведеніе, можно сказать, всей Европѣ извѣстно, а не то что… Вотъ тутъ и долженъ поваръ себя показать, да такъ, чтобы Россію не острамить… Возьмемъ, скажемъ, стерлядь… — вдохновляясь, продолжалъ онъ. — Вы думаете, бросилъ ее въ кастрюлю, тутъ тебѣ и уха? Ого! Или, скажемъ, паровую тамъ подать требуютъ или кольчикомъ, по царски?.. Нѣтъ, братъ, врешь: прежде, чѣмъ тебѣ на столъ ее подать, долженъ я ее, мою голубушку, сперва въ надлежащія чувства произвести, да-съ! Потому подалъ я ее гостю, а гость ее понюхалъ, — Петръ Иванычъ сдѣлалъ видъ, какъ гость нюхаетъ стерлядь и на жирномъ лицѣ его отразилась брезгливость, — и вдругъ отъ стерляди отдаетъ карасиномъ?! Что могу тогда я въ свое оправданіе сказать, какими глазами буду я смотрѣть тогда на гостя? А гостю-то, можетъ, цѣна миліёнъ, а то и десять, — вродѣ Нобеля тамъ бакинскаго, или Вогау, или, скажемъ, нашихъ Морозовыхъ… Нѣтъ, прежде, чѣмъ на столъ ее подать, долженъ я ее, голубушку, воспитать и воспитать сурьозно, чтобы она не воняла… Вотъ какъ привезутъ ее къ намъ съ нижегородскаго вокзала, первымъ дѣломъ долженъ я пустить ее въ проточный бассейнъ, гдѣ воду держутъ градусовъ такъ на пятнадцать; поживетъ она тамъ недѣльку, другую, ее переводятъ въ слѣдующій классъ, будемъ говорить, гдѣ вода уже похолоднѣе, а затѣмъ еще черезъ двѣ недѣли въ самый высшій классъ, гдѣ вода держится уже прямо ледяная. Ну-съ, погуляетъ она тутъ, сколько по расписанію полагается, вынетъ ее поваръ сачкомъ изъ воды, подниметъ жабры, понюхаетъ, — Петръ Иванычъ показалъ, какъ поваръ, поднявъ жабры внимательно внюхивается въ рыбу, — и ежели запаха нѣтъ, пожалуйте на кухню, а чуть запашокъ, — обратно въ приготовительный классъ на воспитаніе. Д-да-съ… А вы говорите: что такое поваръ?! Или вотъ, помню, пріѣхала какъ-то разъ къ намъ компанія одна послѣ театровъ, — тузы все московскіе первостатейные… Ну, заказали того, сего, а напослѣдокъ, говорятъ, чтобы былъ намъ крюшонъ изъ пельсиковъ и на совѣсть… Ну, метр-д-отель, — это, по нашему сказать, главный лакей, что ли, хорошій эдакій господинъ, тоже, какъ и я вотъ, состояніе имѣетъ, — ну, подходить это къ нимъ метр-д-отель вѣжливенько и говоритъ, что, конечно, крюшонъ изготовить можемъ какой угодно, но что, дескать, пельсики теперь — а дѣло было около Новаго года, — меньше 50 р. за десятокъ достать нельзя. Гости тоже всякіе бываютъ и, конечно, оно всегда лутче предупредить, чтобы потомъ разговору не вышло. А тѣ и говорятъ: мы, говоритъ, васъ не спрашиваемъ 50 или 500 рублей за десятокъ, а чтобъ былъ намъ крюшонъ по нашему скусу и крышка. «Слушьсъ!.» — почтительно склонившись, набожно проговорилъ Петръ Ивановичъ, подражая метр-д-отелю. И сичасъ же къ телефону, звонитъ Елисѣеву: немедленно доставить два десятка лучшихъ пельсиковъ. А тамъ, у Елисѣева, — это, можно сказать, на счетъ этихъ самыхъ дѣловъ первый магазинъ на всю Европу, — тамъ на этотъ случай люди напролетъ всю ночь дежурятъ. Ну, приняли это заказъ, отобрали пельсиковъ, на автомобиль и маршъ… И пока гости кушали жаркое, крюшонъ у меня ужъ готовъ: мало того, чтобы скусомъ я потрафилъ, я никакихъ правъ не имѣю и минуты опоздать… Да-съ! А вы: что такое поваръ?! Вотъ поэтому-то и платили намъ четыре катеньки въ мѣсяцъ и ото всѣхъ почетъ и уваженіе: Петръ Ивановичъ, высокоуважаемый; какъ ваше драгоцѣнное? И — рукотрясеніе… — Эхъ, и живутъ же, братецъ ты мой, люди на свѣтѣ! — глубоко вздохнулъ кто-то. — А мы тутъ въ лѣсу, можно сказать, бьемся съ хлѣба на квасъ. А? — Или пріѣхалъ ты, скажемъ, съ мамзелью какой въ отдѣльный кабинетъ, поужинать… — все болѣе и болѣе вдохновляясь, продолжалъ Петръ Ивановичъ. — А карактеръ у тебя, скажемъ, сумнительный. И это у насъ предусмотрѣно — въ Москвѣ все можно, были бы деньги! И на этотъ случай состоитъ у насъ при заведеніи своя кушерка: осмотритъ она живымъ манеромъ твою мамзель и, ежели все въ порядкѣ, такъ и доложитъ: пользуйтесь въ свое удовольствіе безъ всякаго сумлѣнія… И опять же ты съ ней, запершись, свое удовольствіе имѣешь, а въ дырочку эдакую — въ стѣнѣ эдакъ аккуратно продѣлана, — нашъ человѣкъ за тобой наблюденіе имѣетъ, потому есть и такіе, которые травиться вдвоемъ пріѣзжаютъ али тамъ стрѣляться: дураковъ не сѣютъ, какъ говорится, а они сами родятся. Ну, это, конечно, тамъ дѣло твое, стрѣляйся на здоровье, ну, другихъ только марать нечего: ты, къ примѣру, за левольвертъ, а мы — въ двери: извините, сударь, у насъ такого положенія нѣтъ… И пожалуйте въ полицію, она тамъ разберетъ, какъ и что… А вы: что такое поваръ?! Пока, братъ, ты до шефа-то, — главный поваръ такъ называется — достукаешься, тоже всего перевидаешь. Бывало, какъ мальченкой я еще при кухнѣ тамъ состоялъ, чуть что, и сичасъ: ты какъ, сукинъ сынъ, яблоки-то чистишь? А? — заревѣлъ вдругъ Петръ Ивановичъ свирѣпо. — Въ ухо ррразъ! Нѣшто его такъ чистятъ? А? Въ другое ррразъ! Бывало, ночью спишь, такъ во снѣ видишь, какъ яблоко чистить надо… А не то что… Нѣшто Москва зря деньги платить будетъ? А намъ вотъ платила, и капиталецъ мы себѣ приличный составить могли, и денежки вѣрнымъ людямъ на проценты давали. Прилетитъ, бывало, на квартеру князекъ какой молоденькій: не оставьте, Петръ Ивановичъ, выручите… И руки жметъ, и все такое — не гляди, что ты поваръ, а онъ князь важнѣющій… — Вотъ тебѣ и князь, ж… въ грязь… — пустилъ кто-то со смѣхомъ. — Нынче, знать, только тотъ и князь, у котораго въ мошнѣ густо… — послышались голоса. — А знамо дѣло… Дай-ка вонъ Гришаку денегъ-то, и онъ всякому князю сопли утретъ… Гришакъ Голый — бѣдный, худосочный мужиченка съ выбитыми зубами, жалкой бороденкой и печальнымъ лицомъ старой клячи, — живо вскочилъ. — Капиталы… Князья… Пельсики… Рукотрясеніе… — сразу дико завопилъ онъ. — Дураки вы всѣ, вотъ что! Деньги! Вонъ у его ихъ много, — злобно ткнулъ онъ рукой на Петра Ивановича. — Ишь, брюхо-то отростилъ!.. Всю жизнь в столиціи прожилъ, а чего онъ оттедова вывезъ, спроси! Только всѣхъ и разговоровъ, что про дѣвокъ да про жранье… Рѣдкая деревня не имѣетъ для сходовъ своего обличителя. Въ Мещерѣ эту роль взялъ на себя Гришакъ Голый и съ ролью своей справлялся иногда недурно. Но сытая деревня смотрѣла на него, какъ на клоуна и, когда Гришакъ схватывался съ кѣмъ-нибудь, всѣ старались еще больше «растравить» его, «подцыкнуть» и со смѣхомъ слѣдили за состязаніемъ крикуновъ, — такъ же, какъ слѣдили бы за грызней собакъ или сраженіемъ двухъ пѣтуховъ. Обличенія Гришака были чѣмъ-то вродѣ моральной щекотки, въ которой мужики находили своеобразное удовольствіе. — Дѣвки, Гришакъ, дѣло тоже нужное… — подзудилъ кто-то. — Чай, и ты къ бабѣ-то своей на печь лазишь… А? — Гришакъ-то? — тотчасъ же встряли другіе. — Онъ по этой части, можно сказать, на всю деревню первый ходокъ, не гляди, что всѣ зубы съѣлъ… А что касаемо на счетъ божественнаго, такъ ето надо на Устье къ о. Настигаю итти или къ Спасу-на-Крови, къ монашкамъ, — онѣ удовлетворятъ… Да что, ето онъ отъ зависти больше… Ты, Петръ Иванычъ, неравно остерегайся, какъ бы онъ къ тебѣ въ кубышку-то не заправился… А что, Гришакъ, ежели бы тебѣ, къ примѣру, миліенчикъ-другой отсыпать, а? Вотъ чай, зачертилъ бы… Га-га-га-га… Онъ? Гришакъ? Онъ сичасъ бы первымъ дѣломъ у габернатура антамабиль откупилъ бы, насажалъ бы его полный дѣвокъ и разгуливаться… Ты тогда, неравно, и меня, Гриша, прихвати… Га-га-га-га… Чево у габернатура, — у Демина, фабриканта, лутче: оретъ, на сто верстъ слышно… Тутъ какъ-то съ базара я, братцы, ѣхалъ, а онъ у заставы и настигни меня. Да кыкъ рявкнетъ это въ трубу-то! И-ихъ, моя привередница уши приложила, хвостъ ета пистолетомъ и пошла по полямъ чесать, на кульерскомъ не догонишь! Думалъ ужъ, жизни рѣшусь… — Идолы вы, черти! — завопилъ Гришакъ истошнымъ голосомъ; онъ отлично зналъ, что этими своими воскресными обличеніями онъ больше всего угодитъ мужикамъ и самому Петру Ивановичу даже. — Правду про нашъ народъ говорятъ, что здря Іюда Христа такъ дешево продалъ, наши сумѣли бы взять подороже. Антамабили, миліенчики… Тьфу! Душа-то, душа-то есть ли у васъ, у чертей? Петръ Ивановичъ, который, склонивъ съ улыбкой голову на бокъ, съ удовольствіемъ слѣдилъ за разгоравшейся вспышкой, вдругъ насторожился: — Постой, не ори! — строго остановилъ онъ вдругъ Гришака. — Никакъ колколо… Всѣ прислушались: въ самомъ дѣлѣ, въ зеленой солнечной поймѣ заливался малиновымъ звономъ колокольчикъ. — Это Лаврова ямщика колколо… — послышались голоса. — Его и есть… Ишь, какъ нажариваетъ… Чего тамъ: первый ѣздокъ… Да ужъ не сынокъ ли это къ тебѣ ѣдетъ, Петръ Иванычъ, а? — По времени такъ что и пора… — сказалъ Петръ Ивановичъ, глядя изъ-подъ руки въ пойму. — Ну, я такъ полагаю, что онъ телеграммой упредилъ бы заблаговременно… — Что же, съ супругой пожалуетъ? — Хотѣлъ съ супругой… — Вотъ бы любопытно на мериканку-то поглядѣть, какія онѣ такія бываютъ… А какъ онъ, Лексѣй-атъ Петровичъ, съ ей разговариваетъ? — Какъ разговариваетъ?.. Такъ по американски и разговариваетъ… — Ты гляди, братецъ мой, какъ человѣкъ произошелъ, а? — заговорили мужики. — Енжинеръ, деньги гребетъ видимо-невидимо, на мериканкѣ женился… А что, Петръ Ивановичъ, какъ, мериканцы-то въ Бога вѣруютъ? Али, можетъ, нехрещеные какіе? Во, говори съ дуракомъ! Чай, они не турки… Тройка гнѣдыхъ, вся въ мылѣ, ворвалась въ сѣренькую околицу маленькой и тихой Мещеры, въ бурѣ захлебывающихся звуковъ подлетѣла къ дому Петра Ивановича и ямщикъ, округливъ руки, лихо осадилъ коней: — Тпру… Пожалуйте… — Онъ… Онъ и есть, Лексѣй Петровичъ… — взволновались всѣ, вставая. — Ишь ты, чисто вотъ габернатуръ… А мериканка-то, — гляди, гляди, братцы… — Алешенька… да что же это ты не упредилъ насъ?.. — заторопился навстрѣчу сыну Петръ Ивановичъ. — Мамаша, мамаша! — крикнулъ онъ оборачиваясь, въ окна. — Скорѣе: Алешенька пріѣхалъ… — Иду ужъ, иду… — сіяя всѣмъ своимъ толстымъ, добродушнымъ лицомъ, торопилась отъ дому маленькая, круглая Марья Евстигнѣевна или, какъ ее всѣ добродушно звали, Стегневна. Изъ коляски между тѣмъ вышелъ Алексѣй Петровичъ, высокій, худой, съ бритымъ лицомъ, лѣтъ за тридцать, въ широкомъ, дорожномъ пальто и пестромъ картузикѣ «съ нахлюпкой», и помогалъ выбраться своей женѣ, красивой женщинѣ, тоже въ широкомъ пальто и длинной вуали, которая окружала ея голову нѣжно-синимъ облакомъ. Алексѣй Петровичъ, улыбаясь однѣми губами — въ глазахъ его стояла не то большая усталость, не то какое-то особенное, тяжелое равнодушіе ко всему, — обнялся съ взволнованными родителями и представилъ имъ свою жену. — Ну, вотъ… Прошу любить и жаловать… — сказалъ онъ. — Только вотъ бѣда: по-русски то она не говорить ни слова… Старики не посмѣли расцѣловаться съ невѣсткой. Та, улыбаясь имъ ласково всѣми своими бѣлыми зубами, энергично, съ какимъ-то вывертомъ, дернула ихъ за руки и что-то проговорила вродѣ какъ по-птичьи. Старики, смущенные и сіяющіе, только кланялись. — Ну, земляки, здравствуйте… обратился къ крестьянамъ Алексѣй Петровичъ. — Какъ живете-можете? — Здрастовай, Лексѣй Петровичъ… — раздались голоса. — Съ пріѣздомъ! Въ кои-то вѣки собрался на родину… Мы ужъ думали, забылъ ты про насъ совсѣмъ въ Америкѣ-то своей… А постарѣлъ, постарѣлъ, говорить нечего… Чудакъ-человѣкъ, извѣстно: заботы… Одинъ, посмѣлѣе, поздоровался съ гостемъ за руку, за нимъ другой и Алексѣй Петровичъ, здороваясь, обошелъ всѣхъ. Сбѣжавшіяся между тѣмъ со всѣхъ концовъ бабы и ребята во глаза на мериканку. На лицахъ ихъ было жестокое разочарованіе: она была, какъ и всѣ бабы, только что тонка ужъ очень, да говоритъ чудно, по-птичьему. А то ничего, вальяжная барыня… — Ну, жалуйте, жалуйте въ домъ, гости дорогіе… — повторяла сіяющая Стегневна. Ужъ не знаю, какъ и величать ее, женушку-то твою… — Зовутъ ее Мэри Бленчъ… — отвѣчалъ сынъ. — А вы зовите… ну, хоть Машей, что ли… — Гришакъ, ты что ротъ разинулъ? — строго прикрикнулъ Петръ Ивановичъ. — Тащи вещи въ домъ… Живо! Гришакъ съ полнымъ усердіемъ взялся за желтые чемоданы и баульчики съ блестящимъ никелевымъ приборомъ, за пестрые пледы, за шляпные футляры. Толстая Марфа, кухарка, съ красными лакированными щеками, и работникъ Митюха, молодой парень съ совершенно бѣлыми рѣсницами и волосами и сонными глазами, помогали ему, а Марфа уже бурчала на Гришака: — Да ты тише… Нѣшто можно такъ съ господскими вещами обходиться? Обломъ!.. Ты мужикомъ-то не будь, а норови какъ поаккуратнѣе… — Ну, вотъ что, милой… — обратился Петръ Ивановичъ къ ямщику, здоровому парню съ налитой кровью шеей, русыми кудрями и серебряной серьгой въ ухѣ. — Ты лошадей-то во дворѣ поставь, а самъ пройдешь на кухню: тамъ тебѣ Марфа и водочки поднесетъ, и закусишь… — Не извольте безпокоиться, Петръ Ивановичъ… Много вашей милостью довольны… — Ну, земляки… — весело и торжественно крикнулъ Петръ Ивановичъ. — По случаю пріѣзда моего наслѣдника жертвую вамъ на вино и угощеніе… Староста, Семенъ Иванычъ, распорядись тамъ, — мы потомъ сочтемся… И денегъ моихъ не жалѣй — гулять такъ ужъ гулять… — Ура! — зашумѣла вдругъ толпа. — Ура!.. — What is the matter? — сказала Мэри Блэнчъ. — Are they so pleased at your returning home? — Жалуйте, жалуйте, гости дорогіе… Машенька, родимка… милости просимъ…IX. — АМЕРИКАНЕЦЪ
Въ домѣ шла суета: въ то время, какъ дорогіе гости умывались и чистились въ отведенной имъ большой комнатѣ, рядомъ со столовой, Стегневна и Марфа, потныя, съ испуганными лицами, хлопотали въ кухнѣ, на погребѣ, въ кладовкахъ, а Петръ Ивановичъ собственноручно сервировалъ большой столъ, красиво разставляя вокругъ букета изъ свѣжей черемухи подносимыя ему водки, вина и всякія закуски. Скатерть была свѣжая, въ аппетитныхъ складочкахъ, хорошаго полотна, хрусталь и серебро празднично сіяли и чудесно пахло отъ закусокъ. Тутъ были и ветчина необыкновенная, и редиска, и омары, и сыры всякіе, и копчушки, и заливное — хоть самому Эрмитажу въ пору! И яркія краски большихъ картинъ въ золотыхъ рамахъ по стѣнамъ, и блескъ начищеннаго паркетнаго пола, и пушистый коверъ, и серебряное жерло дорогого грамофона въ углу, на особомъ столикѣ, все это еще болѣе усиливало впечатлѣніе сытости, довольства, праздничности… Освѣжившійся и чистый, Алексѣй Петровичъ вышелъ въ столовую, съ удовольствіемъ оглядѣлъ оживленнаго отца, всю эту прочную, солидную обстановку и попробовалъ-было ласково остановить хлопотливо бѣгавшую съ тарелками мать. — Да будетъ вамъ, мамаша! И такъ ужъ наставили всего — на недѣлю хватитъ… — Стой, братъ, стой! Не въ свое дѣло не мѣшайся! — вмѣшался Петръ Ивановичъ. — Вотъ, помремъ мы со старухой, все твое будетъ, а пока хозяинъ тутъ я, а твое дѣло — хе-хе-хе-… — подневольное: садись только да кушай… Ты погоди вотъ, какой завтра я вамъ обѣдъ закачу — м-м-м-м… Самъ для дорогихъ гостей къ плитѣ стану, тряхну стариной… Ну, что же хозяюшка-то твоя не идетъ? — Одѣвается… — Гожа, говорить нечего, больно гожа… — сказала старушка. — Только, словно, тонка ужъ больно… Какъ у васъ тамъ на счетъ пищіи-то? — Ничего, ѣдимъ… Это ужъ природа такая… — сказалъ Алексѣй Петровичъ и сдержалъ зѣвокъ. — Ну, только, Алешенька, одно скажи мнѣ, успокой меня, старуху глупую… — понизивъ голосъ, сказала Стегневна, робко глядя на сына. — Сколько ночей, можетъ, не спала я, все думала, все мучилась… Скажи: а въ Господа-то она у тебя вѣруетъ? Молится ли Богу-то? Сынъ невольно смутился. — Видите мамаша, тамъ это личное дѣло каждаго… — сказалъ онъ съ видимымъ трудомъ подбирая слова. — Хочешь — молись, не хочешь — твое дѣло… — Ахъ, не гоже это, родимый, не гоже… — горестно вздохнула мать, по своему понявъ сына. — Кто же, какъ не мужъ, долженъ поглядѣть за этимъ? Какъ можно безъ молитвы? Вотъ сестра твоя, Вѣрочка, — губы ея затряслись и глаза налились слезами, — все не хотѣла въ церковь ходить, мать не слушала, а чѣмъ кончилось? Единственная дочь ихъ, Вѣра, будучи курсисткой, оказалась замѣшанной въ дѣло одной революціонной организаціи, которая произвела нѣсколько удачныхъ покушеній на жизнь высокопоставленныхъ лицъ, и была сослана въ Сибирь, въ каторжныя работы. — Ну, что, пишетъ ли она вамъ? — спросилъ Алексѣй Петровичъ. — Рѣдко… Да что! — махнулъ отецъ, омрачившись, рукой. — Пропащій человѣкъ! И вотъ хошь убей меня, не пойму: ну, у которыхъ тамъ рубашки смѣнной нѣту, это понятно, что на стѣну лѣзутъ, — ей-то, Вѣрушѣ, чего нужно было въ эти дѣла путаться?! Да что Вѣруша, — подруга ея, Маруся, дочь генерала отъ кавалеріи Веневскаго, красавица, богачка, и та съ ней ушла на каторгу! А отецъ — знавалъ я его: не разъ у насъ въ Эрмитажѣ кушали, — эдакій представительный, грудь это вся въ регаліяхъ, индо въ глазахъ рябитъ, а дочь — подите вотъ… Дверь отворилась и въ столовую вошла Мэри Блэнчъ чистая, корректная, пахнущая какимъ-то необыкновенно приличнымъ запахомъ и еще разъ сдѣлала свой shake-hands со стариками. — Милости просимъ, милая… Садитесь-ка вотъ… Кушайте, гости дорогіе… Старуха съ большимъ огорченіемъ отмѣтила про себя, что ни сынъ, ни невѣстка и лба передъ ѣдой не перекрестили, а, глядя на нихъ, и ея хозяинъ, не помолившись, усѣлся, ровно татаринъ какой… — Водочки? А хозяюшка твоя рюмочку выкушаетъ? — угошалъ Петръ Ивановичъ, котораго чрезвычайно смущало присутствіе молчаливо улыбавшейся невѣстки. — Или лучше винца? Вотъ, пожалуйте портвейнцу… А ты что, съ редиски начнешь? А то вотъ копчушекъ попробуй… Кушайте, кушайте, сударыня, поправляйтесь… Мэри Блэнчъ ласково благодарила его на своемъ птичьемъ языкѣ и, обратившись къ мужу, сказала: — The old one is really charming! Старушка ласково подвигала къ ней всякую ѣду и обильно накладывала ей всего на тарелку и подливала вина, и смотрѣла въ молодое, красивое лицо старческими любящими и немножко жалостливыми глазами. — Ну, какъ же ты тамъ поживалъ, разсказывай… — говорилъ Петръ Ивановичъ, накладывая сыну омаровъ. — Привыкъ ли? Словно, постарѣлъ ты, а? Или тамъ дремать не приходится? — Конечно, работать надо… — отвѣчалъ сынъ немного скучливо. — Да это ничего — вотъ главное безсонница меня все мучаетъ… Иногда по цѣлымъ недѣлямъ не сплю… И устаешь… А то ничего… — А ты заботься поменьше, вотъ и спать будешь… — сказалъ отецъ. — Чего тебѣ очень-то ужъ убиваться? Слава Богу, у меня есть кое-что, проживете за милую душу… Одинъ, вѣдь, ты теперь у насъ остался… А ежели по какому милостивому манифесту Вѣрушу и воротятъ, ты ее не покинешь: одна у тебя сестра-то, какая тамъ ни на есть… Да едва ли воротятъ: это они подъ великаго князя-то Сергѣя Лександровича дѣло подвели. Такихъ не помилуютъ… Ну, да что объ этомъ толковать — ты вотъ лутче про Америку-то твою намъ разскажи… Нюжли это правда, читалъ я, что въ вашемъ Чикагѣ дома до двадцати этажей есть? — Есть и выше… — опять подавивъ зѣвокъ, отвѣчалъ сынъ. — И поѣзда, пишутъ, больше ста верстъ въ часъ отжариваютъ? — Есть и быстрѣе… — И къ чему это пристало такую спѣшку пороть? — недовольно покачала головой Стегневна. — А храни Богъ случай какой? Нѣшто нельзя потише-то? Ты вотъ икорки-то, икорки возьми… — ласково сказала, она снохѣ, подвигая къ ней зернистую икру во льду. — Кушай, родимка, больше, — оно, глядишь, и войдешь въ тѣло-то… Въ раскрытыя окна издали, отъ дома старосты, долеталъ веселый говоръ и смѣхъ мужиковъ, торжествовавшихъ возвращеніе своего земляка изъ дальнихъ странъ. — Эхъ, давай и мы на радостяхъ грамофонъ заведемъ — воскликнулъ Петръ Ивановичъ, бросивъ салфетку на столъ, и самъ взялся заводить машину. — Есть у меня тутъ гдѣ-то и мериканскія пластинки… — гозорилъ онъ, роясь въ черныхъ, блестящихъ дискахъ. — А, вотъ она… Ну-ка, послушайте вашу-то, заморскую… Грамофонъ пошипѣлъ, потрещалъ и вдругъ изъ соребряннаго жерла полетѣли разухабистые звуки Jankee doodle. — Aoh! — расцѣла Мэри Блэнчъ и сказала старику, что это American soug и что это very nice of him. И она пожелала чокнуться съ Петромъ Ивановичемъ и Стегневной. Первое напряженіе и неловкость стали проходить и за столомъ стало оживленнѣе. — А ты писалъ, докторша она у тебя? — громко говорилъ Петръ Ивановичъ сыну. — Что же, практикуетъ вольно или на службѣ гдѣ состоитъ? — Нѣтъ, она докторъ права… — устало отозвался сынъ, котораго утомлялъ шумъ грамофона чрезвычайно. — Ну, вродѣ адвоката, что ли… Въ газетахъ она пишетъ, книги составляетъ… — Ого! — почтительно удивился Петръ Ивановичъ. — И хорошо зарабатываетъ? — Ничего… — Это вотъ дѣло! Это вотъ я понимаю… Не то, что наши рохли… Сударыня, ваше здоровье! — почтительно поднялъ онъ свою рюмку къ невѣсткѣ. — Всякихъ успѣховъ вамъ! Ну, а только вотъ на счетъ наслѣдника мнѣ, братъ, какъ хочешь, а хлопочи… — обратился онъ къ сыну. — Читалъ я въ газетахъ, что у васъ тамъ это вродѣ какъ отмѣнено, ну, только на это моего согласія нѣту: внука мнѣ подавай обязательно… Между тѣмъ свечерѣло. Гости замѣтно притомились. Отъ дома старосты слышался непрерывный галдежъ и взрывы хохота — обличитель Гришакъ вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей и чистилъ всѣхъ, а въ особенности богатѣевъ, и въ хвостъ, и въ гриву. Иногда слышалось громкое, нестройное ура. Мэри Блэнчъ выразила желаніе посмотрѣть веселье русскихъ peasants, празднующихъ возвращеніе своего countryman, но Стегневна рѣшительно воспротивилась. — Ну, что это ты? Къ чему пристало? — недовольно говорила она. — Мужикъ онъ мужикъ и есть. Нажрался, чай, водки-то на даровщинку, ругается да блюетъ, какъ свинья, только всѣхъ и дѣловъ. Нѣтъ, нѣтъ, куды тамъ итти! А вы вотъ лучше съ папашей еще немножко посидите, а я пойду съ Марфой постелю вамъ приготовлю: надо дать вамъ съ дороги покой… — Это я не прочь… — сказалъ сынъ, котораго утомила не столько дорога, сколько угощеніе и тяжелое напряженіе бесѣды со стариками. — Мы сейчасъ пойдемъ къ себѣ… — сказалъ онъ женѣ по-англійски. — All right! — Ну, а въ Москвѣ-то были, чай, свозилъ ты ее въ Эрмитажъ? — сказалъ Петръ Ивановичъ. — Какъ же, два раза ужинали… — Ну, что? Потрафили? — озабоченно спросилъ Петръ Ивановичъ, который и издали строго слѣдилъ за порядками Эрмитажа. — Не оконфузили себя передъ женушкой-то твоей? — Нѣтъ, все было прекрасно… — отвѣчалъ сынъ и со своей слабой улыбкой сказалъ что-то женѣ. — Yes, yes!.. — закивала она головой свекру. — It was splendid! Capital!.. — Ваше здоровье, сударыня! — удовлетворенный, поднялъ свою рюмку съ душистой мадерой Петръ Ивановичъ. — Очень радъ слышать ваше одобреніе, очень радъ… — Ура! — грянуло у дома старосты. — Га-га-га-га-га… — Поди-ка сюда на минутку, Алеша… — поманила Стегневна сына изъ сосѣдней комнаты. — Мнѣ спросить бы тебя надо… — Я на минутку… — сказалъ онъ женѣ, поднимаясь. — All right! — Погляди-ка, родимый, такъ ли мы тебѣ все тутъ уладили… А то глядишь, и не потрафишь въ чемъ… — сказала Стегневна. Посреди комнаты возвышалась торжественная, какъ катафалкъ, двухспальная кровать, у стѣны былъ поставленъ большой, мраморный умывальникъ съ маленькимъ кувшинчикомъ воды, а передъ старинными, черными образами въ углу горѣла лампада. Алексѣй Петровичъ немножко растерялся. — Спасибо за хлопоты, мамаша… — сказалъ онъ. — Но только такъ мы не привыкли… такъ… Лучше бы поставить двѣ кровати… а еще лучше каждому дать отдѣльную комнату… Старуха съ удивленіемъ и печалью робко посмотрѣла въ усталое лицо сына: да ужъ любитъ ли онъ жену? Ужъ не пробѣжала ли какая черная кошка промежду нихъ? Какъ же это такъ можно?.. — Ладно, ладно, сынокъ, ты приказывай, родимый… — сказала она печально. — Потому мы порядковъ вашихъ заморскихъ не знаемъ. Ты говори, какъ и что… — И подушекъ намъ столько не надо… — сказалъ онъ и сложилъ большую половину подушекъ на диванъ. Какая-то пожелтѣвшая и страшно грязная тетрадка шлепнулась вдругъ на полъ изъ подушекъ. — Это что такое? — удивился Алексѣй Петровичъ, поднимая ее. Старушка совсѣмъ сконфузилась. — Это… это «Сонъ Богородицы»,[3] родимый… — пролепетала она. — Ты вотъ жаловался, что не спишь, а это отъ безсонницы первое средствіе… — А, да, вотъ что… — проговорилъ сынъ и, брезгливо посмотрѣвъ на засаленную первую страницу тетрадки съ ея титлами и торжественными славянскими словами, осторожно положилъ ее на ночной столикъ. — Спасибо. А вотъ воды прикажите намъ поставить побольше, мамаша… Мы тамъ къ водѣ привыкли… — Слушаю, сынокъ, слушаю… Все сдѣлаемъ, какъ велишь… Ты иди пока къ папашѣ-то, а то они тамъ вдвоемъ и не сговорятся, чай… Въ столовой снова начался нудный разговоръ, а за стѣной, въ комнатѣ для дорогихъ гостей, передвиганіе и возня. Совсѣмъ стемнѣло. Мужики все торжествовали. Наконецъ, старики отпустили гостей на покой — со всяческими пожеланіями, поклонами и наказами спать подольше. Гости вошли въ спальню. Тамъ стояли уже двѣ кровати — Стегневна никакъ не рѣшилась развести ихъ по разнымъ комнатамъ, рѣшивъ, что авось обойдется какъ по хорошему, — и много воды. Алексѣй Петровичъ подошелъ къ иконамъ и погасилъ лампадку. Мэри Блэнчъ сѣла къ столу, чтобы записать пестрыя impressions сегодняшняго дня, а Алексѣй Петровичъ досталъ изъ своего личнаго баульчика толстую книгу въ зловѣщей, дымно-багровой обложкѣ, на которой рѣзко выдѣлялась черная надпись «Labor and Capital» и, зѣвая, легъ на широкій диванъ и открылъ книгу: спать, все равно, онъ не могъ бы. Какъ только закрывалъ онъ глаза, такъ ему начинались назойливо мерещиться крупныя цифры: онѣ складывались, вычитались, помножались, дѣлились, выстраивались солидными столбцами и снова двигались, слагались, умножались, дѣлились и то веселили своими итогами, то печалили и безпокоили. Засыпалъ онъ всегда только подъ утро, но и во снѣ онъ видѣлъ все только большія цифры. Онъ раскрылъ, зѣвая, книгу — и въ ней по безконечнымъ страницамъ тоже тянулись все только цифры, цифры и цифры… Въ столовой тихонько собирали со стола. Стегневна была печальна: и кушали мало, и спятъ врозь, и не молятся — ахъ, не хорошо дѣло, ахъ, не ладно!.. — Ну, и то слава Богу, что хоть табачищи-то этого онъ не курить, не поганится… — сказала она вслухъ, какъ бы отвѣчая на свои печальныя думы. — Тссс! — угрожающе поднялъ Петръ Ивановичъ палецъ. — Ура! — грянуло въ раскрытыя окна съ темной, прохладной и душистой улицы. — Ахъ, окаянные, какъ ихъ развозитъ! — съ досадой прошептала Стегневна. — Теперь до полночи гайкать будутъ, а Алешенька и безъ того не спитъ… — Я Митюшку пошлю, ежели что, велю, чтобы не шумѣли… Ахъ, да ему еще въ городъ надо велѣть собираться… И онъ озабоченно присѣлъ къ большому письменному столу, стоявшему въ простѣнкѣ, но такъ какъ въ пышной бронзовой чернильницѣ вмѣсто чернилъ были только высохшія мухи, то онъ досталъ изъ жилетнаго кармана обгрызокъ карандаша и, потирая лобъ, на листкѣ почтовой бумаги сталъ выписывать все, что было нужно купить въ городѣ. И на цыпочкахъ онъ прошелъ освѣщеннымъ корридоромъ въ свою большую, чистую кухню съ огромной, усовершенствованной плитой, гдѣ уже ждалъ его сонный Митюха. — Ну, Митюха, завтра чуть свѣтокъ запрягай лошадь и гони въ городъ… — сказалъ онъ дѣловито. — Вотъ по этой запискѣ возьмешь ты у Окромчедѣлова все, что тутъ записано: паштетъ изъ дичи — 2 фунта, затѣмъ омаровъ… да смотри, королевскихъ возьми, съ короной, а не дряни какой… 2 банки, затѣмъ скажи, чтобы дали тебѣ икры свѣжей 2 фунта… Постой: а сельдей-то я и забылъ записать… Ну, потомъ сыру швейцарскаго… да не чичкинскаго, а настоящаго швейцарскаго, заграничнаго… Ну, впротчемъ, что тебѣ тутъ вычитывать — все равно все перепутаешь… Просто передай ты эту записку самому Гаврилѣ Федоровичу въ руки и скажи, что велѣли, дескать, Петръ Ивановичъ вамъ кланяться и велѣли отпустить по этой вотъ запискѣ все, что тутъ перечислено. За цѣной, молъ, мы не стоимъ, но чтобы все было самаго перваго сорта, на совѣсть, потому, молъ, сынокъ къ Петру Иванычу изъ Чикаги пріѣхалъ, инженеръ, молъ, съ супругой… ну и… того… чтобы все было какъ слѣдоваитъ… Ну, а тутъ кое-что изъ винъ, сластей и всякой мелочи… Эхъ, ваниль-то забылъ! И долго онъ наставлялъ соннаго Митюху, какъ и что ему дѣлать, а затѣмъ, обсудивъ обстоятельно съ Марфой и Стегневной завтрашній обѣдъ, онъ снова на цыпочкахъ прошелъ въ столовую и прислушался у двери въ спальню гостей. — Ура! — грянуло на темной улицѣ. — Га-га-га…Погоди, собака, лаять, —
Дай съ милашечкой побаять!
Погоди, собака, выть,
Дай съ милашкой мнѣ побыть!
X. — СТАРЕНЬКІЙ ПРОФЕССОРЪ
На широкой, заплетенной дикимъ виноградомъ террасѣ угорской усадьбы сидѣло за чаемъ небольшое общество сосѣдей: Петръ Ивановичъ съ сыномъ и невѣсткой, о.Настигай со своимъ краснымъ носикомъ, трясущейся сѣдой головкой и трясущимися руками, въ лиловой, далеко не первой свѣжести, рясѣ, Сергѣй Ивановичъ со своей младшей сестрой Лизой, хорошенькой брюнеткой съ задорнымъ носикомъ, прилетѣвшей изъ Москвы къ отцу, чтобы вздохнуть отъ своихъ безконечныхъ общественныхъ обязанностей, и самъ хозяинъ, Левъ Аполлоновичъ, который на не совсѣмъ увѣренномъ уже англійскомъ языкѣ старался занять Мэри-Блэнчъ. — Оно конечно… — вѣжливо кашляя въ руку, говорилъ Алексѣю Петровичу о. Настигай. — Я только хочу сказать, что трудно будетъ къ нашему народу иностранцамъ привѣситься, а намъ трудно будетъ ладить съ иностранцами, у которыхъ все идетъ по линейкѣ да по отвѣсу. Мы, знаете, народъ невѣрный, народъ, будемъ такъ говорить, неожиданный, мы сами о себѣ не знаемъ, какое колѣнце мы черезъ четверть часа выкинемъ… Хе-хе-хе-хе… Вотъ, къ примѣру, есть тутъ неподалеку за Устьемъ небольшая деревенька Фрязино. И жилъ тамъ, знаете, мужикъ одинъ, Прокофій Силантьевъ, и былъ онъ маленько не въ своемъ разумѣ: людей дичился до чрезвычайности и все священное писаніе, знаете, читалъ цѣлыми ночами, все до чего-то своимъ умомъ хотѣлъ дойти, знаете… И что ему въ голову запало, сказать вамъ я ужъ не могу-съ, но только недавно, на самый семикъ, привязалъ онъ всю свою скотинку покрѣпче, домашнихъ своихъ разослалъ туда и сюда, чтобы не мѣшали, а затѣмъ и запали свою усадьбу да сразу во многихъ мѣстахъ! А самъ спокойнымъ манеромъ, сдѣлавъ все, что требовалось, на улицу вышелъ. Да-съ… Мужики, конечно, бросились тушить пожаръ, сразу смикитили, что дѣло не чисто, и взялись за Прокофья: ты запалилъ? Я… — говоритъ. Зачѣмъ? Не вашего ума дѣло… Ну-съ, мужички, не говоря худого слова, связали его по рукамъ и по ногамъ да и бросили въ огонь. Веревки, конечно, сразу же перегорѣли. Прокофій, весь въ огнѣ, вылазитъ это изъ пламени, а мужички приняли его сѣнными вилами и опять въ огонь спихнули… Такъ и сгорѣлъ. А вы говорите: иностранцы и все такое… Тутъ не только иностранцы, а и я, знаете ли, который здѣсь родился и помирать скоро думаю, и я, знаете, въ толкъ народа взять не могу-съ… Не входитъ это въ голову человѣческую никакимъ манеромъ… — Да вѣдь у насъ, въ Соединенныхъ Штатахъ, русскихъ не одинъ милліонъ и ничего, живутъ… — равнодушно сказалъ ему Алексѣй Петровичъ. — Тамъ одна заповѣдь для всѣхъ: если не хочешь, чтобы тебя раздавили, работай изо всѣхъ силъ. А всякое эдакое вотъ озорство, на это есть законъ. Сожгли — иди въ острогъ. Очень просто… Попикъ, видя, что его не поняли или не поинтересовались, какъ слѣдуетъ, виновато улыбаясь, замолчалъ. Ему очень хотѣлось водочки, но онъ стѣснялся. — I beg your pardon? — въ сотый разъ повторяла Мэри-Блэнчъ, усиливаясь понять, что говорилъ ей Левъ Аполлоновичъ. Онъ еще и еще разъ старательно повторилъ сказанную фразу, стараясь, чтобы у него выходило какъ можно больше похоже на птицу, но его усилія вознаграждались слабо. — Но что же, собственно, думаете вы затѣвать тутъ? — спросила Лиза. — Все это болѣе или менѣе въ облакахъ еще… — сказалъ Алексѣй Петровичъ, глядя на хорошенькое личико совсѣмъ такъ же, какъ онъ глядѣлъ бы на стѣну. — Но эти огромныя лѣсныя богатства, которыя пропадаютъ совсѣмъ зря, ясно говорятъ, что большому капиталу тутъ можно бы найти интересное примѣненіе… — Вы забываете, что у насъ есть, слава Богу, лѣсоохранительный законъ, который очень ограничиваетъ примѣненіе большихъ капиталовъ въ лѣсномъ дѣлѣ… — сказалъ Сергѣй Ивановичъ, который берегъ свои лѣса пуще зѣницы ока. — Я знаю… — отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ. — Но, во-первыхъ, мы можемъ заинтересовать правительство изготовленіемъ целулозы и взрывчатыхъ веществъ, а, во-вторыхъ, это будетъ уже дѣло частныхъ землевладѣльцевъ поискать выхода. Тутъ у одного Болдина, говорятъ, до шестнадцати тысячъ десятинъ… Похудѣвшая Ксенія Федоровна, задумчивая и печальная, — Андрей не подавалъ о себѣ изъ сѣвернаго края никакой вѣсти, — вдругъ почувствовала приливъ знакомой ей острой тоски. Она встала и, обмѣнявшись съ мужемъ быстрымъ взглядомъ, сказала съ улыбкой: — Ну, вы займите тутъ гостей, а я пойду распорядиться по хозяйству… И, не дожидаясь отвѣта, она пошла въ домъ… — I beg your pardon? — услышала сна за собой въ сотый разъ вѣжливый вопросъ американки. Точно притягиваемая какою-то непонятною силой, Ксенія Федоровна поднялась во второй этажъ, въ опустѣвшую комнату Андрея. Все книги, книги, книги… И много исписанной бумаги на столѣ… И какая-то книга забыта на диванѣ съ красивой трагической маской на обложкѣ… И прозеленѣвшій шлемъ на шкапу, вырытый въ какомъ-то курганѣ за Волгой. И старинныя, вышитыя полотенца по стѣнамъ, наброшенныя на рамы любимыхъ картинъ, любимыхъ писателей, любимыхъ людей… А ея портрета тутъ нѣтъ и не можетъ быть, хотя чуетъ она на тысячеверстномъ разстояніи его смертную тоску по ней… Вздохъ тяжело стѣснилъ молодую грудь и машинально взяла она со стола какую-то красиво переплетенную книгу, машинально открыла ее и наудачу прочла: «…То не десять соколовъ пускалъ Боянъ на стадо лебедей, то вѣщіе пальцы свои вкладывалъ онъ на живыя струны, и струны сами играли славу князю…» Она взглянула на обложку — «Слово о полку Игоревѣ»… И, тоскуя, снова прочла она полубесознательно: «…Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ, на городской стѣнѣ, говоря: „о, вѣтеръ, вѣтеръ, зачѣмъ, господинс, такъ бурно вѣешь? Зачѣмъ на своихъ легкихъ крылышкахъ мчишь ханскія стрѣлы на воиновъ мужа моего? Развѣ мало тебѣ вѣять вверху подъ облаками, лелѣя корабли ьа синемъ морѣ? Зачѣмъ, господине, мое веселье по ковылю развѣялъ?…“» И живо, живо отозвалась тоскующая женская душа на тоску той сестры своей, — въ Путивлѣ, на городской стѣнѣ, надъ степью безкрайнею… И строго нахмурились красивыя, тонкія брови, и строгими, потемнѣвшими глазами она всматривалась въ темныя глубины жизни, спрашивая настойчиво и мрачно: кто такъ мучитъ людей? За что? Кто такъ мучитъ ее? И не было отвѣта… И стонала душа раненой лебедью бѣлой, и билась душа яръ-туромъ буйнымъ о неумолимыя стѣны судьбы своей… «…Полечу я, какъ кукушка, по Дунаю… Омочу я бобровый рукавъ свой въ Каялѣ-рѣкѣ… Утру князю раны на крѣпкомъ тѣлѣ…» Пусть молчитъ онъ крѣпче, чѣмъ могила: она слышитъ боль ранъ его!.. И горячія слезы зажглись на прекрасныхъ глазахъ и рванулась душа въ безкрайнія степи жизни: «полечу я, какъ кукушка, по Дунаю… омочу я бобровый рукавъ свой въ Каялѣ-рѣкѣ…» И слышала внизу горбунья Варвара тоскливые шаги наверху, въ комнатѣ опустѣвшей, и чуяло, и ждало сердце старое большую бѣду и злорадно ей радовалось почему-то. Слышала эти безпокойные шаги и блѣдная Наташа и въ страдающемъ сердцѣ ея темной тучей поднималось недоброе чувство къ этой страдающей, не находящей себѣ ни въ чемъ покоя соперницѣ… И вдругъ Ксенія Федоровна насторожилась: колокольчикъ? Нѣтъ, это не онъ, — онъ раньше августа не пріѣдетъ… Но въ «Угоръ»… Она подошла къ окну: знакомая пара сѣрыхъ съ полустанка ѣхала «пришпектомъ» къ усадьбѣ. Въ тарантасѣ двое… И вдругъ вся кровь прилила ей къ сердцу: онъ, онъ, онъ!.. Горячимъ, лѣтнимъ вихремъ бросилась она со счастливымъ, сіяющимъ лицомъ внизъ, но овладѣла собой и вышла на террасу спокойно, — только глаза ея сіяли, какъ звѣзды. А снизу, изъ парка, поднимался по широкой, уставленной цвѣтами лѣстницѣ Андрей съ какимъ-то маленькимъ, худенькимъ, небрежно одѣтымъ старичкомъ, съ блѣднымъ, тихимъ лицомъ, длинными безпорядочными волосами, въ сильныхъ очкахъ. Левъ Аполлоновичъ поднялся имъ навстрѣчу. — Скоро… Не ждали… — ласково сказалъ онъ Андрею. — Но очень радъ… — Позволь, папа, представить тебѣ моего учителя и друга, профессора Максима Максимовича Сорокопутова… — А-а, очень радъ… — радушно протянулъ руку гостю хозяинъ. — Очень, очень много слышалъ о васъ отъ моего Андрюши… Ксенія Федоровна, профессоръ Сорокопутовъ… Нашъ батюшка, о. Евстигнѣй… — продолжалъ онъ представленія. — Петръ Ивановичъ Бронзовъ, сосѣдъ… — Зачичеревѣлъ что-то профессоръ-то… — невольно подумалъ про себя Петръ Ивановичъ, съ сожалѣніемъ глядя на захудалую фигурку, но тотчасъ же почтительно раскланялся: титулъ профессора имѣлъ свойство приводить его въ какое-то набожное настроеніе. — Наташа, проводи г. профессора въ комнату для гостей… — распорядилась сіяющая Ксенія Федоровна. — Милости просимъ… А помоетесь съ дороги, прошу васъ пить чай… Наташа, радостная, съ сіяющими глазами, носилась, какъ на крыльяхъ, но старалась не смотрѣть на хозяйку. Пріѣхавшіе ушли въ домъ, а Лиза, которую бѣсилъ «накрахмаленный американецъ», повела аттаку на капиталъ: она считала себя убѣжденной соціалъ-демократкой. Алексѣй Петровичъ едва отвѣчалъ ей и смотрѣлъ на нее такъ, какъ будто бы она была стѣна. Но Лиза не успѣла развить и десятой доли своего напора — а онъ у нея былъ значителенъ, — какъ на террасу вышли немножко прифрантившіеся Андрей и профессоръ. Ихъ усадили къ столу… — Но почему вы вернулись раньше времени, Андрей? — спросила Ксенія Федоровна, неудержимо сіяя глазами. — Позвольте мнѣ пожаловаться на него… — слабымъ, похожимъ на вѣтеръ, голосомъ сказалъ профессоръ. — Я буквально не узнавалъ его въ эту поѣздку: вялъ, разсѣянъ, лѣнивъ, изъ рукъ вонъ, — ну, точно вотъ влюбленъ! Самъ я лично состоянія влюбленности никогда не испытывалъ, но слыхалъ, что всѣ влюбленные вотъ такіе полуневмѣняемые… И я, наконецъ, потерялъ терпѣніе и потребовалъ возвращенія домой, потому что — между нами говоря, — безъ него я въ этихъ дикихъ уголкахъ тоже ничего не могу сдѣлать при моей разсѣянности и непрактичности. Я, къ сожалѣнію, именно такой профессоръ, какими принято изображать насъ въ «Будильникѣ» и во «Fliegende Blatter»… Пока онъ говорилъ, Ксенія Федоровна не сводила своихъ сіяющихъ глазъ съ явно смущеннаго Андрея. — Я очень переработалъ зимой… — сказалъ Андрей, не поднимая глазъ. — А тутъ еще эти бѣлыя сѣверныя ночи, безсонница, тоска… — Но все таки сдѣлать что-нибудь удалось? — спросилъ Левъ Аполлоновичъ. — Очень мало… — отвѣчалъ профессоръ. — Откопали любопытную вопленницу одну, лѣтъ за восемьдесятъ, но съ необыкновенной памятью. А потомъ у одного дьячка удалось пріобрѣсти любопытный апокрифъ начала XIX в., доказывающій тождество Наполеона съ предсказаннымъ въ Апокалипсисѣ Звѣремъ… Но я все же отлично проѣхался и отдохнулъ. А сюда затащилъ меня Андрей Ипполитовичъ знакомиться съ обрѣтеннымъ имъ Перуномъ… Это очень интересно… — Ну, а вы какъ? — съ улыбкой обратился Андрей къ Лизѣ, чтобы отклонить разговоръ въ другое русло. — Все воюете? — Все воюемъ… — сразу поднялся вверхъ хорошенькій носикъ. — Eglise militants, значитъ, попрежнему? — Никакой église тутъ нѣтъ… — изготовляясь къ стремительной аттакѣ, отвѣтила Лиза. — Причемъ тутъ église? Тамъ слѣпая вѣра, тутъ — точная наука… — Не дай Богъ, если власть когда захватятъ ваши! — усмѣхнулся Андрей. — Если бы это случилось, намъ, вѣроятно, пришлось бы пережить не мало старыхъ страничекъ нашей исторіи. Появились бы новые Путята и новые Добрый и изъ вашего толка и стали бы, какъ и старый Путята и старый Добрыня въ Новгородѣ, ломать храмы старыхъ боговъ, жечь непокорные города, огнемъ и мечемъ внушать истины новой вѣры, — словомъ, какъ полагается… — Странное представленіе о самой культурной, самой научной, самой передовой партіи! — вспыхнула Лиза. — Никогда я не… — Да будетъ вамъ! — вмѣшался Сергѣй Ивановичъ. — Какъ только сойдутся, такъ пыль столбомъ… — Пожалуйста! — задорно поднялся носикъ. — Можешь быть и умѣреннымъ, и аккуратнымъ и все, что угодно, но предоставь другимъ имѣть въ жилахъ кровь болѣе горячую… Разговоръ разбился на группы и зашумѣлъ. Профессоръ, угощаясь, — онъ не разобралъ какъ-то, была ли это яичница-глазунья или творогъ съ молокомъ, или то и другое вмѣстѣ, — бесѣдовалъ съ Мэри-Блэнчъ и Алексѣемъ Петровичемъ. Англійскій языкъ онъ зналѣ великолѣпно, такъ, что безъ малѣйшаго затрудненія одолѣвалъ самые головоломные научные труды, но говорилъ ужасающе, чего онъ самъ какъ будто и не подозрѣвалъ и велъ бесѣду чрезвычайно увѣренно. На лицѣ Мэри-Блэнчъ стояло полное недоумѣніе и она не рѣшалась даже повторять свое «I beg your pardon…» И она очень ловко отступила и завладѣла Львомъ Аполлоновичемъ, а профессоръ обратился къ о. Настигаю. — Конешно, конешно… — косясь на водочку, говорилъ о. Настигай своимъ мягкимъ говоркомъ на о. — Старины тутъ непочатый край, можно сказать… Да что-съ: можно сказать, что всѣ мы здѣсь — ходячая старина. Одна слава, дескать, что хрещеные… Вотъ на этой недѣлѣ является ко мнѣ одинъ поселянинъ: пожалуйте, батюшка со святой водой — домовой что-то расшалился… Ну, поѣхалъ смирять домового. — И не усмирилъ… — засмѣялся Петръ Ивановичъ, который любилъ эдакъ прилично-либерально подтрунить надъ попикомъ. — Зря цѣлковый съ мужика взялъ… Въ эту же ночь «хозяинъ» такъ въ конюшнѣ развозился, что хоть святыхъ вонъ неси… Старики наши уговорили Матвѣвну, хозяйку, поставить ему за печь на ночь угощеніе получше, — ну, сталъ потише… Эхъ, ты, Аника-воинъ, съ домовымъ, и съ тѣмъ справиться не могъ… А «я — попъ»…. — А развѣ у васъ какія особенныя молитвы противъ нечистой силы есть? — спросилъ Левъ Аполлоновичъ, невольно отмѣчая про себя, какъ оживилась и просіяла Ксенія Федоровна, которая такъ тосковала все это послѣднее время. — А какъ же-съ? Имѣемъ особыя молитвы… — Но ты напрасно, папа, считаешь домового «нечистой силой»… — вмѣшался Андрей. — Домовой это покровитель домашняго очага изъ рода въ родъ, дѣдушка, хозяинъ, а совсѣмъ не врагъ. Это вина батюшекъ, что понятіе о немъ такъ извратилось… Алексѣй Петровичъ удержалъ зѣвокъ. Вечерѣло. Чай кончился. Разношерстное общество испытывало нѣкоторое утомленіе отъ напряженій не совсѣмъ естественнаго разговора. Даже Лиза притихла. Ей стало грустно: такъ тянуло ее повидать Андрея, но, какъ всегда, и теперь сразу же началась эта ненужная, въ сущности, пикировка. Профессоръ разсѣянно ѣлъ варенье изъ крыжовника и старался догадаться, что это онъ такое ѣстъ. О. Настигай, радовавшійся, что онъ попалъ въ такое образованное общество, все искалъ темы для занимательнаго разговора. — Можетъ быть, господа, пока не стемнѣло, вы хотите взглянуть на Перуна? — проговорила Ксенія Федоровна. — Тогда милости прошу… Всѣ зашумѣли стульями. Мэри-Блэнчъ вытащила откуда-то свой великолѣпный кодакъ, съ которымъ она не разставалась. И всѣ спустились въ тихо дремлющій паркъ и стрѣльчатой аллеей прошли на зеленую луговину, гдѣ, среди круглой, одичавшей куртины, надъ тихой Старицей, стоялъ, окруженный цвѣтушимъ жасминомъ, воскресшій богъ съ выраженіемъ необыкновеннаго покоя и величія на своемъ плоскомъ лицѣ. Профессоръ былъ въ полномъ восторгѣ. Другіе притворялись, что все это очень интересно. Мэри-Блэнчъ сказала что-то мужу. — Господа, моя жена покорнѣйше проситъ всѣхъ васъ стать вокругъ… этого… ну, я не знаю, какъ это называется… ну, монумента, что-ли… — обратился Алексѣй Петровичъ ко всѣмъ. — Она хочетъ снять васъ… И вотъ, подъ руководствомъ оживленной американки, всѣ съ шутками и смѣхомъ стали размѣщаться вкругъ воскресшаго бога: и замкнутый, усталый, далекій Алексѣй Петровичъ, и довольный собой и жизнерадостный Петръ Ивановичъ, и благодушно улыбающійся попикъ, который сумлѣвался, однако, подобаетъ, ли ему въ его санѣ сниматься съ идоломъ поганымъ, и вся теперь играющая жизнью и счастьемъ Ксенія Федоровна, и смущенно сторонящійся ея Андрей, и мужественно-спокойный и прямой Левъ Аполлоновичъ, и худенькій, не отъ міра сего, профессоръ, высохшій среди старыхъ текстовъ, и лѣсной отшельникъ, влюбленный въ свои зеленыя пустыни, Сергѣй Ивановичъ, и хорошенькая Лиза, только недавно прилетѣвшая изъ Парижа. А надъ ними, на фонѣ старыхъ великановъ парка, въ сіяніи яснаго неба, царилъ Перунъ, грозный богъ, милостивый богъ, съ пучкомъ ярыхъ молній въ десницѣ и съ выраженіемъ какого-то неземного величія на плоскомъ лицѣ… И сухо шелкнулъ Кодакъ… И еще… И еще… — Это весьма цѣнная находка и, конечно, московскій историческій музей съ радостью приметъ вашъ даръ… — говорилъ совсѣмъ оживившійся и даже разрумянившійся профессоръ. — Нѣтъ, нѣтъ, я давно думалъ, что, какъ ни интересны наши сѣверныя губерніи, намъ не мало работы и по близости. И эта работа еще интереснѣе, потому что труднѣе: тамъ вся старина лежитъ еще почти на поверхности народной жизни, а здѣсь надо итти глубоко въ народную душу, въ самый материкъ… И завтра же, чтобы не терять времени, Андрей Ипполитовичъ, мы проѣдемъ съ вами къ Спасу-на-Крови… — А послѣ завтра, не угодно ли вамъ, г. профессоръ, посмотрѣть нашу Исехру?.. — любезно предложилъ Петръ Ивановичъ, съ упоеніемъ выговаривая слова «г. профессоръ». — Это, можно сказать, самая наша глушь… И на озерѣ этомъ, знаете, плаваютъ эдакіе какіе-то бугры зеленые и народъ нашъ говоритъ, что это «короба», въ которые засмолены были убійцы древлянскаго князя нашего Всеволода — засмолили ихъ, будто бы, да такъ и пустили въ озеро… И будто на Свѣтлый день изъ коробовъ этихъ и теперь еще слышны стоны убійцъ… Я такъ полагаю, что все это бабьи сказки, ну, а, между протчимъ, интересно. На Исехру ѣдетъ по своимъ дѣламъ сынъ мой, Алексѣй Петровичъ, — вотъ и васъ, если интересуетесъ, мы прихватили бы, г. профессоръ. Это отсюда верстъ двадцать… Алексѣй Петровичъ былъ недоволенъ, но дѣлать было уже нечего. И онъ быстро поладилъ съ профессоромъ о времени выѣзда. — Мы, конечно, одинъ другого стѣснять не будемъ… — сказалъ онъ твердо. — Вы будете дѣлать свое дѣло, а я — свое… — Конечно, конечно… — довольный по случаю открытія Перуна, говорилъ профессоръ. — Великолѣпно… А дома, въ душной комнаткѣ своей, заставленной темными образами, бокотала горбунья Варвара: — И стыдобушки нѣту! То словно отравленная муха ходила, а тутъ сразу, какъ розанъ пышный, расцвѣла… Быть бѣдѣ, быть большой бѣдѣ тутъ!.. Наташа слышала ея воркотню, ей было больно и на прелестныхъ глазахъ ея наливались крупныя слезы…XI. — СТРАЖА ПУСТЫНИ
Крѣпкій, ладный тарантасъ Петра Ивановича, тяжело кряхтя, переваливался съ боку на бокъ и нырялъ по корнямъ и выбоинамъ невозможной лѣсной дороги на Фролиху. Лѣтнее утро сіяло и радовалось. Въ головѣ Алексѣя Петровича складывались столбцы длинныхъ цифръ, и разсыпались и снова складывались: — огромныя дѣла можно тутъ сдѣлать! Наканунѣ Мещеру пріѣхалъ было урядникъ повыпытать у старосты и у мужиковъ, не болтаютъ ли мерикакцы чего зряшнаго, но, когда узналъ онъ съ пятаго на десятое, въ чемъ дѣло, онъ преисполнился къ Алексѣю Петровичу величайшаго уваженія и пошелъ къ Бронзовымъ въ домъ и почтительнѣйше, стоя у порога, поздравилъ гостей съ пріѣздомъ и заявилъ, что, понадобятся въ чемъ его услуги, для такихъ онъ завсегда готовъ въ лепешку расшибиться. Профессоръ Сорокопутовъ, сидя рядомъ съ Алексѣемъ Петровичемъ, сводилъ въ одно свои впечатлѣнія отъ осмотра монастыря Спаса-на-Крови и былъ одно и то же время и очарованъ его древней архитектурой и разочарованъ разграбленной ризницей и архивомъ, въ которыхъ ничего достопримѣчательнаго уже не было. Изъ вѣжливости спутники обмѣнивались иногда короткими замѣчаніями и снова замолкали. На козлахъ скучалъ альбиносъ-Митюха, «личарда» Петра Ивановича. — Безхозяйственный народ, — сказалъ Алексѣй Петровичъ чуть не съ отвращеніемъ. Богатства его колоссальны, а онъ живетъ нищимъ… И не угодно ли полюбоваться этой «дорогой»? Вѣдь это не дорога, а преступленіе… И какъ поразительно загрязнена вся его жизнь — одна эта матерщина чего стоитъ!.. Счастье, что жена ни слова не понимаетъ по-русски, а то она сбѣжала бы въ первый же часъ ея пребыванія здѣсь… — Матерщина наша очень древняго происхожденія… — задумчиво замѣтилъ профессоръ. — Даже самые древніе историческіе документы отмѣчаютъ, что славяне «срамословятъ предъ отьци и снохи» нестерпимо. Въ этой брани очень сказалось прежнее родовое начало: нанося оскорбленіе матери своего противника, славянинъ наносилъ его, такъ сказать, всему роду его… Алексѣй Петровичъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ посмотрѣлъ на него вбокъ, незамѣтно пожалъ плечами и замолчалъ. Митюха сперва прислушивался, что говорятъ господа, но такъ какъ все это было непонятно и «безъ надобности», то ему стало скушно и онъ, покачиваясь, блаженно задремалъ… Двадцать верстъ до Фролихи, глухой лѣсной деревушки, они ѣхали часа четыре, а, пріѣхавъ, остановились по рекомендаціи Петра Ивановича у мѣстнаго лавочника, Кузьмы Ивановича, высокаго худого старовѣра съ огромнымъ носомъ, страдавшаго совершенно нестерпимой склонностью къ краснорѣчію. Домъ у Кузьмы Ивановича былъ старинный, большой и угрюмый. Сбоку къ нему была пристроена каменная, въ одно окно лавка, въ которой густо пахло сыростью и всею тою дешевою дрянью, которую потребляетъ неприхотливая деревня: каменными, запыленными пряниками, «ланпасе» въ ржавыхъ, засиженныхъ мухами жестянкахъ, вонючимъ и линючимъ ситцемъ, поганенькими лентами для дѣвокъ и ревущими гармонями для парней, крестиками, поясками и сизой копченой колбасой, селедками и дешевымъ «ладикалономъ». — Милости просимъ… Съ пріѣздомъ… — ласково привѣтствовалъ Кузьма Ивановичъ гостей. — Пожалуйте, пожалуйте, гости дорогіе… И съ большимъ почтеніемъ и всякими привѣтствіями онъ провелъ ихъ въ «передню», самую большую комнату съ бѣлыми коленкоровыми занавѣсками на окнахъ, облѣзлыми, старинными иконами и чахлой геранью и фикусами. Таня, его жена, степенная, толстая, бездѣтная баба, съ утра до ночи щелкавшая орѣхи и страдавшая поэтому всегда разстройствомъ желудка, тотчасъ же съ помощью совершенно одурѣвшей отъ усердія работницы Ѳеклисты, грязной, глухой и рябой старухи въ подтыканномъ платьѣ, соорудила на кругломъ, зыблющемся столѣ соотвѣтствующее угощеніе. Вкругъ начищеннаго, безпрерывно подтекающаго самовара появились коробочка шпротовъ, и каменные мятные пряники, и яички въ смятку, и кислый ситный, отъ котораго неизмѣнно поднималась потомъ у всѣхъ нестерпимая изжога, и нарѣзанная мелкими кусочками сине-розовая свинина съ замѣтнымъ душкомъ, и густое и вязкое, какъ смола, малиновое варенье… — Пожалуйте… Откушайте-ка вотъ съ дорожки… — съ ласковой улыбкой кланялся Кузьма Ивановичъ. — Милости просимъ… Гости сѣли за столъ, не помолившись, и лицо Кузьмы Ивановича на минуту приняло-было обиженное выраженіе, но онъ справился съ собой и снова заулыбался. Алексѣй Петровичъ сразу приступилъ къ дѣлу: обезпеченъ ли здѣсь народъ землей? Какіе есть сторонніе заработки? На какое количество мѣстныхъ рабочихъ могло бы расчитывать крупное предпріятіе? Какая тутъ поденная плата? Чьи больше лѣса въ округѣ?.. Кузьма Ивановичъ отвѣчалъ очень осторожно, стараясь угадать, къ чему все это клонится, и опасаясь, какъ бы неосторожнымъ словомъ какимъ не причинить себѣ убытку. Узнавъ окончательно, что предстоитъ тутъ очень большое дѣло, онъ оживился: всегда за большимъ кораблемъ можно увязаться и маленькой лодочкѣ. — Такъ вы, какъ я понимаю, сами изволите тутъ заводское дѣло начинать? — любезно освѣдомился онъ. — Сперва надо все выяснить… — отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ, проглядывая еще разъ сдѣланныя имъ въ записной книжкѣ помѣтки. — Выгодно будетъ — начнемъ… — Такъ въ случаѣ чего позвольте предложить вамъ свои услуги… — сказалъ Кузьма Ивановичъ. — А то гдѣ же вамъ при вашемъ нѣжномъ воспитаніи со здѣшнимъ народомъ возжаться? Нашъ народъ лѣсной, неотесанный… Профессоръ, надышавшись лѣснымъ воздухомъ, находился въ самомъ чудесномъ расположеніи духа. Онъ словно даже пьянъ немножко былъ. Въ раскрытое окно ярко и весело свѣтило лѣтнее солнышко. Гдѣ-то кричала дѣтвора. На старыхъ березахъ шумѣли молодые скворцы. Одно только мѣшало: этотъ вотъ тяжелый духъ отъ свинины. — Таня, ахъ, Господи Боже мой… А что же молочка-то? — Господи, вотъ дѣла-то! И забыла, право слово, забыла… Ѳеклиста, давай молоко топленое попроворнѣе… И, взявъ у старухи кринку молока съ чудеснѣйшей розовой пѣнкой, Кузьма Ивановичъ осторожно поставилъ ее на столъ: кушайте, гости дорогіе! Свинина нестерпимо воняла и профессора мутило. И вдругъ онъ рѣшился: — Можетъ быть, лучше было бы… гм., мясо это убрать? — сказалъ онъ. — Алексѣй Петровичъ какъ я вижу, его не ѣстъ, а я — вегетаріанецъ… — вдругъ совершенно неожиданно, пьяный солнцемъ, выпалилъ онъ. — Вагетаріанцы? — съ недоумѣніемъ поднялъ брови Кузьма Ивановичъ. — Это что же такое? — Мяса я не ѣмъ никакого… — уже стыдясь своего вранья, сказалъ профессоръ. — Это что же, по обѣщанію или, можетъ, по болѣзни какой? — Нѣтъ, не по болѣзни… — отвѣчалъ съ усиліемъ профессоръ мѣшая желтой, облѣзлой ложечкой чай. — А такъ… изъ гуманитарныхъ соображеній… ну, изъ жалости, что ли… Для чего же убивать живое существо, когда можно обойтись и безъ этого? Кузьма Ивановичъ сдѣлалъ круглые и глупые глаза. Онъ никогда не понималъ ничего, что не касалось до него непосредственно, а это явно до него касаться не могло. Танѣ стало почему-то нестерпимо смѣшно и отъ усилій сдержать смѣхъ она сразу вся вспотѣла. Смѣшно ей было это блѣдное лицо, и голосъ профессора слабый, и то, что онъ въ очкахъ, и то, какъ онъ говорить чудно… — Однако, въ священномъ писаніи прямо говорится, что Господь создалъ всѣхъ живыхъ тварей на потребу человѣка… — нашелся, наконецъ. Кузьма Ивановичъ. — Можетъ быть, но это… гм., такъ сказать, дѣло личныхъ вкусовъ… — испытывая на себя досаду, сказалъ профессоръ. — Я давно ужъ не ѣмъ… — Такъ прикажете убрать? — видя, что это дѣло рѣшеное, сорвался съ мѣста Кузьма Ивановичъ. — Будьте добры… — Держите, Таня!.. Таня схватила тарелку со свининой, торопливо выбѣжала въ кухню, бросила тарелку на столъ и, прислонившись къ жаркой печкѣ, такъ вся и затряслась въ неудержимомъ беззвучномъ смѣхѣ. Ѳеклиста съ неодобреніемъ, покосилась на нее: ишь, бѣса-то тѣшитъ… Ишь, покатывается! — Совсѣмъ вы мало кушали… — съ большимъ сожалѣніемъ говорилъ Кузьма Ивановичъ, когда гости, не молясь, встали изъ-за стола. — Въ деревнѣ полагается кушать покуда некуда… досыти… Можетъ, прикажете къ вечеру курочку зарѣзать? Супруга живо оборудуетъ… — Я едва ли вернусь сюда… — сказалъ Алексѣй Петровичъ. — Мы осмотримъ съ вами истоки Ужвы, а затѣмъ проѣдемъ лѣсами дальше… А вы тутъ останетесь, профессоръ? — Да, пока… — Такъ прикажете курочку? — повторилъ Кузьма Ивановичъ. Профессоръ по опыту зналъ, что въ такихъ случаяхъ курочка обыкновенно оказывается или старымъ, синимъ и жилистымъ пѣтухомъ, котораго не беретъ никакой зубъ, или же, наоборотъ, усердная хозяйка такъ распаритъ ее, что отъ нея остаются только какія-то нитки, сказалъ: — Нѣтъ, нѣтъ, спасибо… Я же сказалъ, что я мяса не ѣмъ… — И куръ не кушаете? — И куръ. Ничего живого… — Тэкъ-съ… — растерянно проговорилъ Кузьма Ивановичъ. Онъ рѣшительно ничего не понималъ въ этихъ дикихъ причудахъ: люди, повидимсму, состоятельные, а въ курицѣ себѣ отказываютъ… Быстро собравшись, Алексѣй Петровичъ съ Кузьмой Ивановичемъ уѣхали, а профессоръ пошелъ на озеро посмотрѣть на «короба». Ребята собрались-было поглядѣть на чудного барина, но какъ только онъ обратился къ нимъ съ какимъ-то вопросомъ, всѣ они моментально исчезли и болѣе уже не показывались. До озера было красивой лѣсной просѣкой версты двѣ… И какъ чудесно дышалось тутъ, какъ бодро, весело шагалось по этой песчаной, перевитой узловатыми корнями старыхъ сосенъ дорогѣ! Узенькая, едва замѣтная тропка вбѣжала на небольшой холмикъ и среди золотыхъ стволовъ засверкала широкая гладь большого озера. А за озеромъ — темная синь лѣсной пустыни. Куда ни кинешь взглядъ — ни малѣйшаго признака жилья. Берега озера низки и жутко зыблются подъ ногой рѣдкаго здѣсь охотника и рыболова. Иногда въ бурю озеро поднимается на сжимающій его со всѣхъ сторонъ лѣсъ, рветъ волнами эти зыбкіе берега цѣлыми кусками и потомъ, когда все успокоится, по озеру изъ конца въ конецъ и плаваютъ тихо эти маленькіе островки съ деревьями и кустами и какою-то странною жутью вѣетъ отъ этихъ тихихъ, зеленыхъ кораблей… — Ага! — подумалъ профессоръ. — Вотъ они знаменитые короба-то… Онъ сѣлъ на большой, точно отполированный, валунъ, вкругъ котораго блестѣла своими крѣпкими, лакированными листочками брусника, и залюбовался широкимъ, зеленымъ безлюдьемъ. А тишина какая!. Вонъ неподалеку медленно, важно — «точно профессоръ какой по аудиторіи расхаживаетъ…», подумалъ старикъ, — идетъ зеленымъ берегомъ высокій журавль, то и дѣло опуская свою длинную шею въ траву, гдѣ копошились лягушки и всякая другая мелкота; вонъ, выставивъ впередъ грудь и вытянувъ длинныя ноги, похожая на древнюю острогрудую ладью, медленно и плавно летитъ надъ озеромъ сѣрая цапля; гдѣ-то въ глуши стонутъ дикіе голуби, гремитъ кѣмъ-то потревоженный могучій красавецъ-глухарь, въ порозовѣвшемъ отъ вечерняго неба озерѣ громко, пугая, бултыхается крупная рыба. И плавно колышутся на водѣ и, какъ привидѣнія, какъ сонъ, тихо-тихо плывутъ вдаль зеленые, тихіе, жуткіе корабли-островки… Въ тихомъ воздухѣ вдругъ протяжно и тонко зазвенѣла боевая пѣснь комара. Крупный, рыжій, проплясавъ сѣрой тѣнью передъ лицомъ профессора ровно столько, сколько это требовалось его стратегическими соображеніями, онъ опустился ему на руку, аккуратно разставилъ свои тонкія, какъ волосики, ножки и торопливо и жадно погрузилъ свое острое жало въ тѣло профессора. Тотъ осторожно поднялъ руку и слѣдилъ, какъ быстро наливалось красной кровью это маленькое, сѣро-желтое тѣльце. Вотъ оно такъ распухло, что еще мгновеніе, казалось, и маленькій хищникъ лопнетъ. Но комаръ вытащилъ жало и, перегруженный, совсѣмъ обезсиленный, поднялся было на воздухъ и тутъ, же безсильно, въ непередаваемомъ блаженствѣ повалился на пахучій, мягкій мохъ. Въ комариной душѣ его было полное довольство жизнью, маленькое тѣло его плавало въ сладкой истомѣ и дремотно мечталъ онъ, какъ завтра, сильный, бодрый, будетъ онъ плясать въ вечернемъ солнечномъ лучѣ боевую пляску, и мечталъ онъ о сладостной любви въ свѣжей тѣни густого куста калины… А передъ профессоромъ плясалъ уже другой комаръ, но рука старика непріятно зудѣла въ укушенномъ мѣстѣ и поэтому онъ тихонько отгонялъ маленькаго хищника. Тотъ слегка отлеталъ въ сторону и снова побѣдоносно, самоувѣренно трубилъ и снова нападалъ… Профессоръ любовался имъ… И вдругъ острый уколъ въ шею заставилъ его инстинктивно мазнуть рукой по укушенному мѣсту, но напрасно: лѣсной воинъ, подкравшійся съ тыла, съ побѣдными трубными звуками отлетѣлъ въ сторону и оба крошки аэроплана пошли на профессора въ аттаку уже прямо въ лобъ. Комарамъ казались опасными и въ то же время смѣшными порывистыя, тяжелыя движенія этого нелѣпаго, огромнаго созданія, неизвѣстно откуда взявшагося въ лѣсной глуши: такого животнаго они еще не видывали. Но запахъ отъ него шелъ, хотя и затхлый немного, но теплый и вкусный… Привлеченные боевыми трубами товарищей, слѣва неслись еще три сѣренькихъ аэроплана, а справа сразу пять. Застоявшійся лѣсной воздухъ, казалось, сразу ожилъ и зазвенѣлъ пріятнымъ серебристо-нѣжнымъ, пѣвучимъ звономъ… Профессоръ сорвалъ съ молоденькой березки нѣсколько вѣтокъ — отъ нихъ шелъ упоительный запахъ свѣжей зелени… — и легонько отстранилъ ими плясавшихъ вкругъ его головы свою боевую пляску комаровъ. Тѣ, какъ-то насмѣшливо продѣлавъ самыя головоломныя мертвыя петли и паденія и на хвостъ, и на крыло, отлетѣли въ сторону, но тотчасъ же снова пошли въ аттаку, вызывая трубными звуками резервы… Профессоръ поднялся съ валуна и спустился ближе къ берегу. Зеленыя кочки зловѣще закачались. Изъ густого тальника поднялась сѣрая цапля и, выставивъ грудь и вытянувъ длинныя ноги, медленно полетѣла надъ озеромъ и во всей ея апокалиптически изломанной фигурѣ профессору почувствовался укоръ и недовольство: зачѣмъ пришелъ? Что тебѣ еще тутъ надо? Надъ головой его уже звенѣло цѣлое облачко комаровъ и острые уколы то въ ухо, то въ шею, то въ руку заставляли профессора нетерпѣливо дергаться и энергичнѣе махать душистыми вѣточками. Нисколько того не желая, онъ сокрушилъ уже нѣсколько этихъ изящныхъ малютокъ-аэроплановъ, которые тихо валились на влажную землю, но мѣсто павшихъ бойцовъ быстро занимали другіе, ловкіе, жадные, смѣлые… Бултыхнулась въ озерѣ огромная старая щука и мелкія волны красивыми золотыми и рубиновыми кругами пошли къ берегамъ и зашептались о чемъ-то старые камыши. Красноголовая желна звонко протрещала въ глубинѣ лѣса. Рѣзкій уколъ въ лѣвое ухо, невольное движеніе и на рукѣ капелька крови, и сѣренькій комочекъ раздавленнаго лѣсного воина. Профессоръ ожесточенно закрутилъ надъ головой березовой вѣткой и много лѣсныхъ воиновъ исковерканными упали въ траву, но на мѣсто ихъ въ сѣромъ, пляшущемъ облакѣ стали тотчасъ же другіе и колонна за колонной шли въ аттаку на это чудное, злое существо, которое, скажите, пожалуйста, даже и пососать немножко нельзя! Вверху, въ небѣ, и внизу, въ глубинѣ совершенно затихшаго озера, рдѣли и таяли золотистыя, перистыя облачка — казалось, то летали надъ землей и не могли улетѣть, не могли достаточно налюбоваться ею божьи ангелы. И встали надъ безбрежными синими лѣсами, торжественно сіяя, огромные, золотые столпы заходящаго солнца и все чаще и чаще бултыхалась въ водѣ крупная рыба, и шли по озеру отъ нея красивые круги къ берегамъ, то огненно-золотые, то ярко-красные, то нѣжно-голубые… И нарядная пѣсня осторожнаго дрозда, усѣвшагося на самой верхушкѣ заоблачной ели, звонко отдавалась въ лѣсной чашѣ… Острые уколы въ ногу, въ спину, въ шею и въ лобъ разомъ… Профессоръ не на шутку разсердился и березовой вѣточкой своей произвелъ въ сѣрой звенящей тучѣ надъ его головой невообразимыя опустошенія. Но бойцы тотчасъ же сомкнулись и, пославъ одинъ отрядъ бить по ногамъ въ полосатыхъ носкахъ, другой — въ спину, прикрытую желтоватой чесучой, главными силами взялись за эту волосатую, злую голову. Десятки, сотни тонкихъ жалъ кололи его всюду. Бойцы, придя въ невѣроятное озлобленіе, не жалѣли себя, гибли подъ ударами березовой вѣточки сотнями, но — силы ихъ все прибывали и прибывали. Все тѣло профессора горѣло, какъ въ огнѣ. Душу охватывало раздраженіе тѣмъ болѣе тяжелое, что безсильное совершенно. — Ахъ, чортъ васъ совсѣмъ возьми… Ахъ, чортъ… Нѣтъ, это что-то совершенно невозможное… Ахъ, чортъ!.. Надъ почернѣвшими вершинами зажглась уже серебряная лампада вечерней звѣзды. На томъ берегу, въ сиреневомъ сумракѣ вспыхнулъ яркой звѣздой одинокій огонекъ — то Липатка Безродный, полу-рыбакъ, полу-нищій, оборванный, сѣрый, какъ духъ какой лѣсной, пришелъ половить рыбки. И много было въ этоми одинокомъ огонькѣ среди лѣсной пустыни какой-то кроткой и сладкой, берущей за душу грусти-тоски… И накидалъ на огонь Липатка сырыхъ вѣтокъ для дыму, отъ комаровъ, и пробѣжала отъ огня золотая дорожка по озеру и въ тихое небо поднялся сизый столбикъ дыма: точно приносилъ тамъ безродный нищій какую-то жертву богамъ лѣсной пустыни…. Но профессоръ не видѣлъ уже ни серебряныхъ звѣздъ, ни кроткаго одинокаго огонька, ничего — весь въ огнѣ раздраженія, окруженный необъятной тучей комаровъ, онъ быстро выбирался съ берега къ лѣсной дорогѣ, яростно отбиваясь березовыми вѣтками направо и налѣво. Но лѣсная пустыня и прекрасное озеро это слало на него полки за полками и тысячи острыхъ жалъ подъ торжествующіе звуки трубачей гнали его лѣсомъ все дальше и дальше, прочь, съ его широкополой панамой, съ его полосатыми носками, съ его чесучовымъ пиджакомъ. Онъ задыхался въ этихъ сѣрыхъ, звенящихъ тучахъ, онъ не зналъ, куда дѣться, онъ прямо робѣлъ… — Ахъ, чортъ… Ахъ, дьяволъ… Нѣтъ, это рѣшительно невозможно! — бормоталъ онъ задыхаясь. — Это что-то совершенно непонятное… Онъ споткнулся объ узловатые корни старой сосны на опушкѣ, упалъ, уронилъ очки, едва нашелъ ихъ въ сумракѣ и, ощупавъ ихъ, убѣдился, что одно стекло разбито, и снова, подъ грозный звонъ комариныхъ полчищъ, весь въ огнѣ, побѣжалъ къ деревнѣ. Онъ вбѣжалъ въ избу. Страшная жара и духота сразу перехватили дыханіе. — А мы совсѣмъ заждались васъ… — съ очаровательной улыбкой встрѣтилъ его Кузьма Ивановичъ. — Хорошо ли изволили разгуляться? — Да что вы, смѣетесь?… Совсѣмъ сожрали прямо… — То есть… какъ это собственно? — Да комары, чортъ бы ихъ совсѣмъ побралъ! Комары! Это что-то совершенно невѣроятное… Даже на сѣверѣ не видалъ я ничего подобнаго… — А, да… Дѣйствительно, ихъ у насъ весьма значительное количество… — Количество! Это чортъ знаетъ что, а не количество!.. За перегородкой Таня давилась въ нестерпимомъ смѣхѣ. — Да вы бы хоть окно открыли… — проговорилъ профессоръ, успокаиваясь немного. — Здѣсь такая жара и духота, что терпѣть нѣтъ силъ… И опять ему почудилась въ спертомъ воздухѣ неуловимая вонь свинины. — Что вы? Это совсѣмъ немысленное дѣло… — сказалъ Кузьма Ивановичъ, вѣжливо улыбаясь. — Намъ, конечно, воздуху не жалко, но комара набьется до невозможности. Глазъ вамъ сомкнуть не дадутъ всю ночь. А мы хошь сичасъ откроемъ… Да это еще что! — съ увлеченіемъ продолжалъ онъ. — Вы посмотрите, что передъ покосами будетъ — свѣта Божія не видно! Потому лѣсная сторона — такой ужъ тутъ порядокъ… Въ ночное лошадей выгонимъ, такъ всю ночь костры кладемъ, а то прямо живьемъ сожрутъ. А ежели куда ѣхать понадобиться, такъ, ежели лошадь покарахтернѣе, обязательно всю надо карасиномъ вымазать, а то въ такую анбицію войдетъ, что и костей не соберешь… — Да какъ же это вы тутъ терпите? — Такъ вотъ и маемся… А то вотъ, какъ жара пойдетъ, слѣпень появится, а за нимъ — строка, муха такая сѣрая. Это ужъ не комаръ вамъ будетъ, эта иной разъ такъ жиганетъ, что индо кубаремъ завертишься. А комаръ мы это считаемъ вродѣ мѣста пустого… — А какъ же Алексѣй Петровичъ? — помолчавъ, спросилъ уныло профессоръ. — Они и въ усъ не дуютъ!.. — усмѣхнулся Кузьма Ивановичъ. — Надѣли пальто резиновое, шапку кожаную съ наушниками и ходомъ! Не только комару нашему за ними не угоняться, а и меня-то просто въ лоскъ положили. Большое дѣло затѣваютъ, большое!.. Ну, что же, очень пріятно… Теперь къ Егорью поѣхали… Чайку на сонъ грядущій не прикажете? — Благодарствую. Лучше бы молочка… — Можно и молочка… Таня, принесите-ка криночку парного… Скоро Ѳеклиста, шаркая босыми ногами и не смѣя и глазъ поднять на господина, подала хозяину большую, аппетитно пахнущую кринку молока. — Смотрите, пожалуйста: мушка жизни своей рѣшилась… — проговорилъ Кузьма Ивановичъ съ сожалѣніемъ и, легонько выковырнувъ пальцемъ плававшую въ сливкахъ муху, бросилъ ее на полъ, а палецъ вкусно обсосалъ. — Пажалуйте… Стиснувъ зубы, профессоръ налилъ себѣ въ сальный стаканъ молока. — Ну, что же, будемъ ложиться? — вопросительно проговорилъ онъ. — Я что-то усталъ немножко… А завтра я хотѣлъ бы кого постарше на счетъ сказаній всякихъ старыхъ поразспросить… Можетъ, пѣсни кто знаетъ какія старинныя… Кузьма Ивановичъ, Таня — она все умирала со смѣху: поглядѣть, соплей перешибешь, а туда же пѣсни… — и Ѳеклиста собрали съ пола полосатые половики, притащили невѣроятную перину, гигантскія, нестерпимо воняющія ситцемъ подушки и стеганое, не гнущееся, какъ лубокъ, одѣяло. Профессоръ осторожно осматривалъ стѣны: нѣтъ ли клоповъ? — Ну, почивайте съ Господомъ… — ласково проговорилъ Кузьма Ивановичъ. — А лампочку я ужъ приму… — Сдѣлайте милость… Отъ лампы было пріятно избавиться: отъ нея нестерпимо воняло керосиномъ. — Пожелавъ вамъ спокойной ночи и пріятнаго сна. — Спасибо… И вамъ того же… За перегородкой, сквозь щели которой золотыми полосками свѣтился огонь, хозяева переговоривались низкими голосами, а потомъ стали что-то смачно жевать и въ жаркой комнатѣ уже вполнѣ опредѣленно запахло порченой свининой…Вася, Вася, Васенька, —
Золотыя басенки!
Вася баетъ — сахаръ таетъ,
Говоритъ — животъ болитъ!
XII. — НА СОЛОМКѢ
Напившись рано поутру чаю съ густымъ топленымъ молокомъ и съѣвъ пару яичекъ въ смятку, профессоръ немного ожилъ, хотя голова его болѣла. Онъ долго бился, чтобы растолковать Кузьмѣ Ивановичу и Танѣ цѣль своей экспедиціи, но ничего не выходило: старинная посуда, старинныя вышивки, пѣсни и сказанія старинныя — да на что эта пустяковина нужна? И, наконецъ, поняли: въ книжку писать. И, понявъ, сразу исполнились къ профессору жалостливаго презрѣнія, съ какимъ относится деревня къ дурачкамъ и блаженненькимъ. И про себя дивился Кузьма Ивановичъ, какая можетъ промежду образованными людьми разница быть. Взять хоть того же Лексѣй Петровича: орелъ, такъ и ширяетъ, деньги, по всѣмъ видимостямъ, и не сосчитаешь, а за дѣло берется мертвой хваткой. А этотъ побаски какія-то въ книжку записываетъ, ровно маленькій, пѣсни ему, старому дураку, подавай… Но такъ какъ при извѣстной обходительности изъ всего можно свою пользу извлечь, то Кузьма Ивановичъ сразу принялъ рѣшительныя мѣры. Сперва онъ провелъ своего гостя по всѣмъ своимъ сродственникамъ, тупымъ и тугимъ старовѣрамъ — онъ упорно звалъ ихъ столовѣрами — и они, нехотя, показали заѣзжему чудаку и посуду старинную, и мѣдные литые складни, и распятія старовѣрскія, и черныя иконы старинныя «на двухъ шпонкахъ», на которыхъ уже нельзя было ничего отъ копоти разобрать, и книги святоотческія. Но все это было самое обыкновенное и не имѣло съ научной точки зрѣнія никакой цѣны, а когда сталъ профессоръ распрашивать ихъ о пѣсняхъ, то молодежь соромилась, отнѣкивалась и пряталась, а старики считали его домогательства личнымъ оскорбленіемъ: не угодно ли, они пѣсни для него играть будутъ! Они холодно говорили, что они ничего знать не знаютъ и вѣдать не вѣдаютъ и смотрѣли на него презрительно и зло. Такъ проканителился Кузьма Ивановичъ по пустякамъ все утро. Наконецъ, все это надоѣло ему и онъ послалъ свою Ѳеклисту позвать Васютку Кабана, своего крестника, и другихъ ребятъ, а когда всѣ они собрались робкой кучкой у порога, онъ сказалъ: — Ну, вотъ, господинъ пріѣзжій хочетъ сказокъ деревенскихъ послушать, такъ вы, того, раскажите ему…. Ты, Васютка, парень ловкай — разсказывай. Коли потрафите, ланпасе и орѣховъ отъ господина получите, а не потрафите, я съ вами по-свойски раздѣлаюсь…. Поняли? Ребята исподлобья глядѣли на профессора и въ глазахъ ихъ было и полное недовѣріе, и ужасъ. Но профессоръ погладилъ бѣлокурыя головы, велѣлъ Кузьмѣ Ивановичу тотчасъ же одѣлить ихъ орѣхами и конфектами — Кузьма Ивановичъ сразу же рѣшилъ сбыть при этомъ случаѣ завалявшееся у него ланпасе, которое «скипѣлось» въ одинъ сплошной, пестрый и какой-то слюнявый монолитъ, — и потихоньку ребята стали отходить, дѣло налаживаться и черезъ какіе-нибудь полчаса вся компанія лежала уже на соломкѣ, у овина, на задахъ. — Ну, хошь, разскажу я тебѣ про трехъ воровъ, двухъ московскихъ и одного деревенскаго? — сказалъ Васютка, разбитной парнишка лѣтъ одиннадцати, двѣнадцати, съ бойкими глазенками, въ платаной рубашкѣ и босой. — Такая сказка — индо духъ захватываетъ… — Валяй! — одобрилъ профессоръ. — Разсказывай всѣ, какія знаешь, а тамъ мы разберемъ…. И, глядя въ небо — денекъ былъ сѣренькій, тихій, ласковый, — профессоръ, съ наслажденіемъ лежа на спинѣ, приготовился слушать. — Ну, вотъ… — проглотивъ слюни, началъ Васютка все еще срывающимся голосомъ. — Жили-были три вора, два московскихъ и одинъ деревенскій. Много лѣтъ работали они вмѣстяхъ, а наконецъ того порѣшили разойтитца, чтобы кажній самъ по себѣ старался. Ну, подѣлили это они между собой добычу и поѣхали наши москвичи домой. И вотъ, ужъ сидя на машинѣ, стали они свѣрять свои счеты съ Петрушкой — вора-то деревенскаго Петрушкой звали, — и видятъ, обсчиталъ ихъ сукинъ сынъ Петрушка — не гляди, что деревенскій! Всѣ ребята сочувственно и дружно разсмѣялись. — Да… — продолжалъ Васютка, оживленный явнымъ успѣхомъ. — Пріѣхали это они домой, взяли гумаги, счеты, крандаши, давай — опять считать. Ну, какъ ни считаютъ они, а все выходитъ, что здорово огрѣлъ ихъ сукинъ сынъ Петрушка. И взяло ихъ зло и поѣхали они опять въ деревню — вотъ хошь въ нашу, къ примѣру. А у сукина сына Петрушки сердце ужъ чуетъ, что не сегодня-завтра дружки его къ нему опять за расчетомъ пожалуютъ…. Ну, пымалъ онъ для этого случаю двухъ воронъ: одну дома подъ лавкой оставилъ, а другую за пазуху себѣ положилъ и пахать поѣхалъ. Пашетъ это онъ — вдругъ, глядь, а дружки его ужъ съ машины катятъ… Увидали это они его и къ нему: «что ты это насъ, сукинъ сынъ, Петрушка, въ расчетахъ надулъ, а? Ты гляди, какъ бы тебѣ, брать, за это не напрѣло!..» «Не можетъ этого быть, — говоритъ сукинъ сынъ Петрушка. — Пойдемте ко мнѣ въ избу, свѣримся….» Ну, вынулъ онъ ето изъ-за пазухи ворону и приказалъ ей: «лети ты, ворона, къ моей бабѣ и скажи, что гости ко мнѣ пріѣхали московскіе, чтобы она самоваръ скорѣе ставила и закусочку чтобы соорудила…» И пустилъ ворону. Та, извѣстное дѣло, кра и — ходу…. А уходимши изъ дому-то сукинъ сынъ Петрушка женѣ своей наказалъ, чтобы всякое угошеніе было у него на столѣ завсегда и чтобы отъ самовара она не отходила, ну, и все тамъ такое… Ну, приходитъ ето онъ съ гостями домой, а на столѣ угощеніе всякое стоитъ, а подъ лавкой ето ворона прыгаетъ. «Ну, спасибо, — говоритъ ей ето сукинъ сынъ Петрушка, — что все исправила, какъ слѣдуетъ…» А ето была, знамо дѣло, другая ворона, та, которую онъ, уходимши, подъ лавкой оставилъ. И подивились воры московскіе: какая умственная птица!.. Большую, дескать, въ нашихъ дѣлахъ такая птица помочь оказать можетъ… Ну, сѣли это всѣ за столъ, выпили-закусили, считаться стали и, какъ ни крутился сукинъ сынъ Петрушка, а все на него начетъ большой вышелъ, тыщъ въ пять, а то и поболѣ. «Ну, дружки мои московскіе, — говоритъ — видно дѣлать нечего, приходится вамъ мнѣ платить. Ну, только — говорить — деньги у меня всѣ въ государственной банкѣ, въ городѣ, а вотъ ежели хотите, могу я вамъ продать мою ученую ворону: за мной пять тыщъ, а воронѣ цѣна десять тыщъ — доплатите мнѣ пятъ тыщъ и въ расчетѣ… Идетъ?» А воры московскіе и рады: идетъ, говорятъ. Ударили по рукамъ, забрали воры московскіе свою ворону и на машину, рады радешеньки…. Ребята и подошедшій послушать Кузьма Ивановичъ весело расхохотались. — Ну, и сукинъ сынъ Петрушка! — съ восхищеніемъ сказалъ дѣтскій голосокъ. — Да… — еще больше одушевляясь, проговорилъ Васютка, блестя своими бойкими глазами. — Да… Ну, стали ето они къ Москвѣ подъѣзжать, вынули изъ кошелки ворону и говорятъ ей: «ну, ворона, лети домой къ намъ и вели нашимъ бабамъ угощеніе всякое намъ приготовить….» И пустили они ворону въ окошко. А та, знамо дѣло, кра и — будь здоровъ, Капустинъ, поминай, какъ звали! А воры московскіе промежду собой толкуютъ: вотъ, чай, наши бабы дивиться будутъ, какъ ворона имъ нашъ приказъ отлепортуетъ!.. Ну, пріѣзжаютъ ето они домой — никакого угощенія. «Что такое? Почему? А гдѣ же ворона?» А бабы: «какая ворона? Самъ ты ворона…. Нажрался, что и говорить ужъ чего не знаешь…» И поняли воры московскіе, что опять сукинъ сынъ Петрушка ихъ ограчилъ, и еще больше обозлились они на него… И черезъ день-два опять покатили они къ ему въ деревню, чтобы поквитаться съ нимъ, какъ слѣдуетъ… Хорошо… А сукинъ сынъ Петрушка знаетъ, что опять дружки къ нему пожалуютъ и раскидываетъ ето головой, какъ ему быть, что дѣлать? И пошелъ онъ ето къ мяснику и купилъ пузырь бычій и налилъ его кровью, а потомъ позвалъ бабу свою и говоритъ: «вотъ, подвяжи ето себѣ какъ поаккуратнѣе подъ бокъ, а какъ пріѣдутъ мои пріятели московскіе, буду я приказывать тебѣ собрать угощеніе, а ты ето кобенься, не слушайся, ругай насъ… Тогда пырну я тебя ножикомъ въ бокъ, а ты и помри, а какъ посѣку я тебя вербой вотъ изъ-за образовъ, ты сичасъ же вставай, и всякое угощеніе ставь, и будь ласковой и покорливой…» Ладно… И вотъ пріѣзжаютъ со станціи воры московскіе, на чемъ свѣтъ стоитъ сукина сына Петрушку ругаютъ, а онъ едакъ все посмѣивается: «да дурьи головы, говоритъ, а адристъ-то вашъ вы воронѣ сказали?» Тѣ себя по лбу хлопъ: про адристъ-то и запамятовали! А сукинъ сынъ Петрушка ругать ихъ давай: зря, говоритъ, вы птицу ученую сгубили — зналъ бы, говоритъ, такъ дуракамъ такимъ ни за какія деньги ее не продалъ бы… Ну, да ужъ ладно, говоритъ, песъ съ вами — впередъ умнѣе буду… Ну-ка, баба… — говоритъ, — сооруди ты намъ съ горя закусить чего-нито да поживѣе, а то москвичи-то, чай, голодные съ дороги… А та въ анбицею: «стану я на васъ, сволочей, собирать, — ишь, повадились, таскаются! Не будетъ вамъ ничего и не дожидайтесь… Какую птицу загубили, дурьи головы, а я имъ угощенье ставить буду…» Кы-ыкъ сукинъ сынъ Петрушка ножикомъ размахнется, кы-ыкъ въ бокъ ей саданетъ — та ай-ай-ай-ай заверезжала, кровью вся залилась и на полъ повалилась: помираетъ… Воры московскіе ни живы, ни мертвы сидятъ: «что ты, сукинъ сынъ Петрушка, надѣлалъ? И себя, и насъ теперь загубилъ. Безпримѣнно насъ теперь господишки въ Сибирь засудятъ…» А сукинъ сынъ Петрушка кобенится еще: «ну, засудятъ, не больно у меня засудятъ…» Взялъ онъ ето отъ образовъ вербу, подошелъ къ бабѣ и давай ее по ж… едакъ легонько сѣчь: будя дурака-то валять, вставай… — приговариваетъ. Баба ето вскочила, какъ ни въ чемъ ни бывало, ласковая такая сдѣлалась, на столъ всего тащитъ, а воры московскіе индо и слова отъ удивленія выговорить не могутъ… Старенькій профессоръ давнымъ давно уже приподнялся съ соломы и, пораженный, во всѣ глаза смотрѣлъ на всѣ эти дѣтскія лица, которыя въ полномъ упоеніи слушали сказку, на Кузьму Ивановича, который, забывъ всю свою солидность, присѣлъ на корточки и слово боялся пропустить, на Васютку, который, забывъ о всякомъ смущеніи, плавалъ въ наслажденіи: ни такихъ сказокъ, ни такого стиля профессоръ еще не встрѣчалъ въ русскомъ народѣ за все время съ IX по XX вѣкъ! — Ну… — захлебнулся Васютка въ восторгѣ. — Увидали ето воры московскіе всю диковину ету и пристали къ сукину сыну Петрушкѣ: «что ето у тебя за верба такая? Что хошь ты съ насъ возьми, только продай намъ ее….» «А ето — говоритъ сукинъ сынъ Петрушка, — живилка называется: какого хошь мертвеца, говоритъ, изъ могилы подыметъ въ разъ…» Тѣ такъ и вцѣпились: продай да продай намъ твою живилку, потому намъ въ нашемъ дѣлѣ это первѣющая вещь!.. Ну, сукинъ сынъ Петрушка поломался эдакъ для виду маленько да и продалъ москвичамъ свою живилку за двадцать пять тыщъ рублей. И такую-то они на радостяхъ выпивку закатили, что едва къ послѣднему ночному поѣзду, пьяные-распьяные, потрафили. Ну, ладно… Пріѣзжаютъ ето они домой за полночь: ставьте, бабы, самоваръ скорѣе и пожевать чего-нито соберите, да живо! А хозяйка ихъ къ черту на кулички посылаетъ: полуношники, пьяницы, чтобы вамъ, чертямъ, куды провалиться… И пошла, и пошла чехвостить… А мужъ-атъ ето какъ вынетъ изъ-за голенища ножикъ, да какъ въ бокъ ей п-пыхъ! Та ай-ай-ай-ай да вся въ крови оземь и ударилась… Сбѣжались ето домашніе всѣ, а воры себѣ и-и куражатся: все ето для насъ самое плевое дѣло… Ну, беретъ потомъ мужикъ ейный живилку ету самую и давай ее по ж… стегать. А та и не шевельнется: померла! Ну, позвали ето полицею, обоимъ нашимъ москвичамъ руки назадъ и сперва въ острогъ пожалуйте, а тамъ и въ Сибирь… Такъ и ослобонился сукинъ сынъ Петрушка, воръ деревенскій, отъ своихъ пріятелей закадышныхъ, воровъ московскихъ… Ребятишки заливались веселымъ смѣхомъ, били себя ладошками по ляжкамъ и все въ восторгѣ повторяли: — Ай да сукинъ сынъ Петрушка! Вотъ такъ утеръ сопли москвичамъ! А? Не гляди вотъ, что дуракъ деревенскай, а какъ всѣхъ обчекрыжилъ… — Ну, Васютка, и молодчина ты! — довольный, смѣялся Кузьма Ивановичъ. — За такую сказку и я тебѣ сверхъ уговору орѣховъ отсыплю… И гдѣ ты только подцѣпилъ ее? — А о мясоѣдѣ у насъ шерстобиты стояли, валенки валяли, вотъ вечеромъ какъ-то и разсказывали… — польщенный, сказалъ Васютка. — Да еще ето что! — возгордился онъ. — Вотъ какъ они про попа съ попадьей разсказывали, такъ индо всѣ животики надорвали, смѣямшись… Профессоръ такъ растерялся отъ этого новаго фольклора, что буквально и словъ не находилъ, а только все водилъ изумленными очками съ одного лица на другое. — А въ школу ты ходишь, Вася? — спросилъ онъ. — А какъ же…. Къ Егорью ходимъ…. — Кто же васъ учить тамъ? — Учителька… Раньше то учила Аксинья Федоровна, вотъ что за стараго угорскаго барина вышла замужъ, а теперь Вѣра Гавриловна учитъ, о. Настигая племянница… Профессоръ хотѣлъ какъ-то связать эту сказку со школой, но отъ растерянности у него ничего не вышло. Онъ все разсматривалъ сквозь толстыя очки свои эти веселыя дѣтскія лица, точно искалъ на нихъ чего. И вдругъ за домомъ послышался звукъ подъѣхавшаго экипажа. Кузьма Ивановичъ торопливо ушелъ посмотрѣть, кто подъѣхалъ, и тотчасъ же вернулся. — Это Лексѣй Петровичъ отъ Егорья пріѣхали, спрашиваютъ васъ, угодно ли вамъ съ ними домой ѣхать или еще у насъ погостите? — вѣжливо освѣдомился онъ у профессора. — Нѣтъ, нѣтъ, я ужъ съ нимъ поѣду… — заторопился вдругъ профессоръ, точно боясь, что его оставятъ здѣсь одного. — Конечно, вмѣстѣ лучше… Вы ужъ одѣлите, Кузьма Ивановичъ, дѣтей лакомствами и пойдемте сосчитаемся со мной… Черезъ какую-нибудь четверть часа онъ уже сидѣлъ рядомъ съ Алексѣемъ Петровичемъ въ тарантасѣ. — Ужъ вы, Лексѣй Петровичъ, ежели начнете дѣло, сдѣлайте милость, не оставьте…. — кланялись Кузьма Ивановичъ съ Таней. — Насчетъ поставки харчей тамъ рабочимъ, али по найму, али еще тамъ что… Будемъ потрафлять, какъ отцу родному, а не то что… Потому народъ здѣшній сѣрый, лѣсной и гдѣ же вамъ съ вашимъ нѣжнымъ воспитаніемъ возжаться съ мужиками? И, когда гости уѣхали, Кузьма Ивановичъ сѣлъ съ Таней попить чайку и за чаемъ съ удовольствіемъ разсказалъ ей сказку про двухъ воровъ московскихъ и одного деревенскаго… И Таня и старая Ѳеклиста со смѣху помирали… А тарантасъ, кряхтя, заколыхался и занырялъ по лѣсной дорогѣ. Въ умѣ Алексѣя Петровича сами собой рождались столбцы длинныхъ цифръ, разсыпались и опять сбѣгались въ столбики. Митюха, не ожидая уже отъ господъ никакихъ антиресныхъ разговоровъ, клевалъ носомъ, а профессоръ чувствовалъ себя такъ, какъ будто онъ сорвался съ высокой колокольни и очень ушибся о землю. Міръ красивыхъ былинъ, мудрыхъ пословицъ, проникнутыхъ глубокимъ религіознымъ чувствомъ сказаній, пѣсни, живой красотой плѣняющія, вотъ что считалъ онъ раньше подлиннымъ и прекраснымъ выраженіемъ души народной. Но вотъ вдругъ въ глухой лѣсной деревушкѣ оказалось, что этихъ былинъ, пословицъ, сказаній и пѣсенъ никто не знаетъ, что все это теперь лишь мертвое украшеніе гимназическихъ хрестоматій и предметъ для ученыхъ диссертацій, а изъ устъ народа, изъ дѣтскихъ устъ на него вдругъ полился потокъ зловоннѣйшей грязи! Что же это такое? Конечно, онъ не только зналъ, но могъ наизусть цитировать, что сказали по поводу грубости нравовъ русскихъ и Олеарій, и Максимъ Грекъ, и Крижаничъ, и святители московскіе, и Котошихинъ, и Симеонъ Полоцкій, но, Боже мой, вѣдь съ тѣхъ поръ сколько лѣтъ прошло!.. Гдѣ же была церковь-просвѣтительница, гдѣ была школа, гдѣ были образованные классы?! Какъ можно было не обратить вниманія на такое ужасное явленіе?! Что же они смотрѣли? Что съ этимъ дѣлать? Вѣдь, это ужасъ, ужасъ, ужасъ — другого слова тутъ не подберешь!.. Всѣ эти мысли, всѣ эти чувства были для профессора такъ новы, что охватившая его растерянность все больше и больше увеличивалась — растерянность и какая-то тяжелая безпомощность. А рядомъ съ нимъ сидѣлъ Алексѣй Петровичъ, спокойный, увѣренный въ себѣ и въ своихъ цифрахъ и не обращалъ рѣшительно никакого вниманія ни на что. То, что онъ нащупалъ среди родныхъ лѣсовъ, была настоящая Калифорнія и въ головѣ его роились проэкты одинъ другого смѣлѣе, одинъ другого грандіознѣе… И зашепталъ по лѣсу тихій и спорый — «грибной» — дождь…XIII. — ЛѢШІЕ НА КАЧЕЛЯХЪ
Затихшій-было подъ дождемъ лѣсъ пробуждался. Снова защебетали птицы, сладко потягивались звѣри послѣ дремы — во время дождя такъ хорошо спится, — и лѣшіе вышли погрѣться на солнышкѣ… Не надо думать, что лѣшій въ русской землѣ одинъ, — лѣшихъ очень много. Въ каждомъ лѣсу свой лѣшій, а въ большихъ лѣсахъ, какъ Ужвинская дача, живетъ и по нѣскольку лѣшихъ. И всѣ они одинъ на другого не похожи. Въ молодомъ, веселомъ перелѣскѣ, напримѣръ, что подъ Журавлинымъ Доломъ, гдѣ пахнетъ всегда солнышкомъ и бѣлой любкой, и лѣшій небольшой и веселый, со смышленными и задорными, какъ у молодого щенка, глазами; въ сумрачныхъ оврагахъ вкругъ Гремячаго Ключа живетъ лѣшій старый, съ сѣдой бородой и, должно быть, отъ старости печальный и глаза его, большіе, круглые, неподвижные, всезнающіе, наводятъ на душу жутъ; и совсѣмъ опять другой лѣшій отъ Семи Стожковъ, съ монастырской пожни, гдѣ открытыя, солнечныя елани смѣняются красивыми островами деревьевъ — душистая черемуха, развѣсистые вязы, дубы коренастые, бѣлая березанька, и шиповникъ, и калина, и дикая смородина, и вьющійся хмѣль… — и гдѣ по веснѣ ведутъ свои любовныя карусели лѣсные отшельники, вальдшнепы: этотъ лѣшій радостно-ясенъ и, навѣрное, если не пишетъ стиховъ, то непремѣнно играетъ на свирѣли… И пошелъ по лѣсной пустынѣ вѣтеръ, ровный и сильный, и сверкали алмазами дождевыя капли, падая съ деревьевъ, и колыхались зеленыя вершины, какъ волны, и шумѣли, и звенѣли, и въ то время, какъ лѣшіе постарше, постепеннѣе, развалившись гдѣ-нибудь на солнышкѣ, съ наслажденіемъ почесывались, лѣшіе помоложе забирались на вершины и качалъ ихъ тамъ вѣтеръ точно на качеляхъ: это самое большое для лѣшихъ удовольствіе, самая любимая ихъ игра качаться такъ въ солнечной вышинѣ, и смотрѣть дикими глазами въ синія дали, и фантазировать о чемъ придется… А на заплетенной вьюнкомъ терраскѣ домика лѣсничаго сидѣлъ въ старенькомъ креслѣ Иванъ Степановичъ и, глядя на поющую, звенящую, волнующуюся, какъ море, милую его сердцу лѣсную пустыню, говорилъ задумчиво прижавшемуся къ нему внуку: — …Вонъ у порога валяется сѣрый булыжникъ — ты тысячи разъ уже пробѣжалъ мимо него равнодушно, а между тѣмъ, если бы ты умѣлъ слушать, онъ разсказалъ бы тебѣ о себѣ такую исторію, передъ которой всѣ наши сказки показались бы тебѣ не пестрой жаръ-птицей, а скучной сѣрой вороной, которая нахохлилась подъ дождемъ. Или вотъ посмотри на эти капли, — сказалъ дѣдъ, указывая на пахучую, мокрую вѣтку черемухи, которая свѣшивалась надъ ними. — Посмотри: та блеститъ, какъ расплавленное золото, эта почему-то вся матовая, какъ жемчужина, а эта вотъ зеленая, прозрачная, и такая легкая, что точно она сейчасъ растаетъ и улетитъ. И, какъ и булыжникъ, эта капля могла бы разсказать тебѣ очень многое… — А что бы она разсказала? — спросилъ тихо ребенокъ, зачарованно глядя на зеленую каплю. — Что? — повторилъ такъ же дѣдъ и глаза его любовно обѣжали и синюю пустыню лѣса, и широкіе луга за рѣкой, и ласковое, теплое небо и подъ едва уловимый шепотъ капель по лѣсу онъ началъ: — Эта капля, другъ ты мой, старше меня, старше тебя, старше этого лѣса. Она такъ стара, что никто даже и не знаетъ, когда, гдѣ и какъ она родилась. Тысячи, милліоны лѣтъ тому назадъ, можетъ быть, качалась она на сѣдыхъ волнахъ Ледовитаго Океана. Кругомъ ни души, — лишь изрѣдка, какъ темное привидѣніе, проплыветъ въ глубинѣ огромный китъ или бѣлая чайка проплачетъ въ безбрежномъ просторѣ. А по ночамъ надъ зелено-бѣлыми громадами льдовъ горитъ и переливается сѣверное сіяніе — помнишь, какъ у тебя въ книжкѣ нарисовано?.. И вотъ какъ-то разъ морознымъ утромъ, когда мутно-багряная заря тихо свѣтила надъ ледяными полями, волна лизнула подножье ледяной горы и наша капелька примерзла къ огромной льдинѣ, на которой бѣлый медвѣдь, окрашивая теплой кровью зеленоватый ледъ, доѣдалъ молодого тюленя… «И такъ въ ледяной глыбѣ капелька носилась по океану еще сто, а, можетъ быть, и тысячу лѣтъ. И вотъ какъ-то случилось, что бурей загнало ту льдину далеко на югъ, она растаяла и капелька поднялась надъ моремъ сѣдымъ туманомъ и улетѣла ввысь, но тамъ тучу хватило холоднымъ вѣтромъ и капелька, превратившись въ хорошенькую пушистую звѣздочку-снѣжинку, запорхала внизъ и тихонько легла на мохнатую вѣтвь старой ели, склонившейся надъ Гремячимъ Ключемъ… Но зима подходила уже къ концу. Солнышко грѣло все жарче и жарче. Уже всталъ изъ берлоги оголодавшій за зиму медвѣдь, уже начали линять бѣлки, мѣняя сѣренькую зимнюю шубку свою на красную, лѣтнюю, у тетеревей покраснѣли брови и уже начали они вылетать на первыя проталины на пожняхъ и уже слышно было по зарямъ ихъ первое чуфыканье и переливчатое токованіе. На землѣ, въ снѣгу, шелъ какой-то едва уловимый шепотъ: то капельки — ихъ вѣдь милліарды въ снѣгу, — прощались одна съ другой передъ близкой разлукой. И, простившись, однѣ изъ нихъ улетали легкимъ паркомъ въ небо, другія уходили во влажную землю, а оттуда по корнямъ поднимались вверхъ то стволомъ старой ели, то въ нѣжной, острой иголочкѣ молодой травы. А эта вотъ капелька побѣжала въ говорливомъ ручьѣ будить спавшую подо льдомъ Ужву: какъ ни малы эти капельки, а это онѣ весной будятъ и подымаютъ рѣки…» «И вотъ — радуясь жизни, продолжалъ тихо и тепло старикъ, — наша капелька понеслась Ужвой въ широкую Оку, а Окой въ матушку-Волгу, а надъ серебряными разливами ихъ, въ радостномъ весеннемъ небѣ съ побѣдными кликами плыли караваны журавлей. И то несла на себѣ наша капелька тяжелые плоты, то огромныя барки и быстрые пароходы, то съ веселымъ шумомъ, играя, бѣжала она на золотую отмель, гдѣ, звонко смѣясь, купались ребятишки, то снова лѣниво и сонно колыхалась въ волнахъ, убѣгая въ синюю даль… Одинъ разъ ее проглотила-было даже востроносая стерлядь, но тотчасъ же снова выпустила ее изъ-подъ жаберъ на свободу… Уже давнымъ давно кончились синіе лѣса, прошли мимо красивыя дикія горы Жегулей и теперь вокругъ разстилались лишь жаркія, безкрайнія степи и шелъ по берегу, позванивая колокольчиками, караванъ верблюдовъ, и сверкала вдали морская ширь. И было такъ жарко, что капелька снова превратилась въ паръ и унеслась въ сверкаюшее небо… И снова падала она шумнымъ, спорымъ дождемъ на землю, и напивалась янтарнымъ зерномъ въ тяжеломъ колосѣ, и уходила въ душистый каравай хлѣба, и утоляла голодъ людей, и снова возвращалась въ землю, въ цвѣты, въ рѣки, и снова улетала въ небо, пока какъ-то разъ не очутилась она на прекрасной, снѣговой вершинѣ, въ Гималаяхъ, гдѣ и уснула она съ милліардами другихъ капелекъ, долгимъ, тысячелѣтнимъ сномъ. И, огибая каменныя громады, тихо, медленно ползли тѣ ледяныя поля къ цвѣтущимъ полямъ, которыя виднѣлись глубоко внизу, когда солнце разрывало сѣдыя тучи, клубившіяся вкругъ вершинъ. И все теплѣе и мягче становился воздухъ, и снова проснувшіяся капельки стали сливаться въ тоненькіе, точно серебряныя ниточки, ручейки. И вотъ съ заоблачныхъ горъ, изъ-подъ сѣдыхъ тучъ понесся внизъ бѣлый, какъ серебро, потокъ, и свергался онъ въ страшныя пропасти, и извивался, играя, по зеленымъ лугамъ, гдѣ паслись стада дикихъ козъ и, наконецъ, скрылся подъ темными сводами старыхъ кедровыхъ лѣсовъ, окутавшихъ склоны Гималайи… Тамъ, въ этомъ темномъ лѣсу, въ пещерѣ жилъ святой старецъ съ бѣлой, какъ свергающійся въ бездны потокъ, бородой. Онъ проводилъ все свое время въ трудѣ, чтеніи священныхъ книгъ и глубокихъ размышленіяхъ. Но узкія тропинки, которыя змѣились по лѣсамъ, говорили, что къ нему ходили снизу люди — тѣ, которые страдали, тѣ, которые потеряли дорогу въ жизни, тѣ, чье сердце было разбито. И они уходили отъ старца утѣшенные… И вотъ, когда наша капелька проносилась въ серебряномъ потокѣ мимо пещеры святого старца, она увидѣла, какъ оттуда вышелъ какой-то человѣкъ и сталъ берегомъ потока спускаться внизъ. Уже у подножья горы онъ остановился и, наклонившись къ ручью, погрузилъ въ него свою флягу-тыкву: ему нужно было итти безводною степью на востокъ. И капелька не знала, сколько времени пробыла она въ этой тыквѣ. Нѣсколько разъ человѣкъ открывалъ флягу и отпивалъ немножко воды и опять шелъ и шагъ его былъ медленъ: видимо, онъ слабѣлъ отъ нестерпимой жары, которую не умѣряло даже дыханіе еще недалекихъ ледниковъ Гималайи… И вдругъ путникъ остановился и наклонился къ землѣ, а потомъ открылъ свою флягу. При свѣтѣ уже склонявшагося къ западу солнца капелька увидѣла лежащаго на горячемъ пескѣ человѣка съ закатившимися глазами и тяжело поднимающейся грудью. Путникъ посмотрѣлъ, сколько воды у него еще осталось, и, видимо, заколебался: воды было мало, а путь еще далекъ. Но онъ вспомнилъ о томъ, что слышалъ онъ отъ старца на горѣ и, склонившись, осторожно полилъ немного воды на горячую голову больного. Тотъ очнулся и открылъ глаза и путникъ далъ ему выпить остальную воду. Больному стало легче. Отдохнувъ, оба спутника пошли потихоньку дальше и, когда на утренней зорькѣ имъ пришлось разстаться, спасенный долго и горячо благодарилъ своего спасителя и на глазахъ его блестѣли слезы — тѣ самыя капельки, что тысячу лѣтъ тому назадъ качались на сѣдыхъ волнахъ Ледовитаго Океана, что будили ранней весной нашу Ужву, что спали потомъ на ледяныхъ глыбахъ Гималайи… И упала наша капелька слезой въ горячій песокъ и тотчасъ же унеслась опять въ небо, радостная, что она видѣла такое на маленькой землѣ… Гдѣ была она потомъ, не знаю. Можетъ быть, заливала она пожары, можетъ быть, сверкала въ свѣтлыхъ волнахъ Генисаретскаго озера, когда на берегу его говорилъ рыбакамъ Христосъ, можетъ быть, грознымъ наводненіемъ разливалась по землѣ, разрушая труды людей. Но не думай, что этимъ она дѣлала злое дѣло: только при большой бѣдѣ-то и обнаруживается человѣкъ по настояшему, какъ это было въ жаркой пустынѣ, когда путникъ спасъ нашей капелькой умиравшаго отъ зноя человѣка, спасъ, жертвуя, можетъ быть, своей жизнью… Такъ что капелька служитъ красотѣ жизни даже тогда, когда на первый взглядъ и несетъ она за собой злую бѣду… Она бывала вездѣ за свою долгую жизнь, она видѣла все, пока, наконецъ, въ синей тучѣ не прилетѣла она въ нашъ садъ и не повисла на вѣткѣ черемухи… Ахъ, да она ужъ упала!.. — сказалъ дѣдъ, замѣтивъ, что зеленой капельки на вѣткѣ уже нѣтъ. — Она уже ушла дѣлать другое дѣло. Вѣроятно, ее уже пьютъ теперь корни черемухи и скоро она нальется черной ягодкой. Ягодку эту склюетъ дрозд-рябинникъ, она обратится въ немъ капелькой крови и онъ унесетъ ее осенью съ первыми морозами на далекій югъ и она увидитъ, можетъ быть, Нилъ и пирамиды фараоновъ. А, можетъ быть, эту ягодку съѣшь ты и капелька эта загорится въ твоемъ мозгу теплой, хорошей мыслью, которая заставитъ тебя почувствовать твое родство со всѣми капельками, со всѣми дроздами, цвѣтами, комарами, людьми и облаками… Отчего такъ радостно намъ это сіяніе солнца? Отчего такъ милъ намъ этотъ поющій лѣсъ? Оттого, что все родное, все зоветъ одно другое, все любовно перекликается… Ахъ, какъ хорошо, какъ упоительно пахнетъ вѣтромъ и лѣсомъ!.. Правда?» Мальчикъ не понималъ и половины того, что тихо говорилъ ему дѣдъ, но слушалъ, какъ зачарованный, а по лѣсу шелъ тихій шепотъ падающихъ съ деревьевъ капель и сверкали эти капли въ лучахъ солнца золотомъ и драгоцѣнными каменьями. А изъ-за лѣса лился нѣжный и задумчивый благовѣстъ. И въ маленькой душѣ была и любовь, и трепетъ, и сіяніе… А лѣшіе, которые помоложе, все качались по вершинамъ старыхъ деревьевъ, и смотрѣли дикими, восторженными глазами въ синія дали и фантазировали о чемъ придется, а старики, тѣ — какъ и старый Рэксъ, — блаженно подремывали на солнышкѣ, почесывались, съ боку на бокъ поворачивались и ничего, ничего на свѣтѣ имъ было не нужно…XIV. — «ГРЕЧЕСКІЕ КАЛЕНДАРИ»
На красивой, серебряной излучинѣ Оки, тамъ, гдѣ впадаетъ въ нее тихая Ужва, раскинулся старенькій, тихенькій губернскій городокъ Древлянскъ, славящійся своими вишнями и безподобной антоновкой по всей Россіи. Въ ясные августовскіе дни, когда въ посвѣтлѣвшемъ небѣ курлыкаютъ, прощаясь съ родными болотами, журавли, когда мелькаетъ уже въ зелени деревьевъ золотой листъ и тянутся повсюду серебряныя нити паутины, надъ маленькимъ вокзаломъ городка, надъ его тихими пристанями, надъ всѣми его живописными окрестностями стоитъ густой, сладкій ароматъ антоновки. И почему-то въ это время — отъ этого ли солнышка, отъ сладкаго ли духа антоновки, отъ курлыканья журавлей заунывнаго или отъ всего этого вмѣстѣ, — на душу спускается глубокій, ясный покой, и хочется блаженно улыбаться, и такъ легко вѣрится въ счастье… А весной весь городокъ опушится снѣгомъ вишневаго цвѣта, и зарокочутъ соловьи по садамъ, и побурѣетъ и облетитъ вишневый цвѣтъ, и нальются въ темной листвѣ пурпуровыя ягоды, и безчисленные воробьи поведутъ на сады неустанныя аттаки, и по всему городку загремятъ выстрѣлы садоводовъ, безуспѣшно отбивающихъ эти приступы, и опять какъ-то весело дѣлается на душѣ отъ этой пальбы, отъ вида рдѣющихъ на солнышкѣ ягодъ и веселаго блеска полноводной Оки на красивой излучинѣ… Отличительной чертой древлянцевъ — тихихъ, сонныхъ, лѣнивыхъ, — была ихъ большая привязанность къ родному городу и другъ къ другу. Не то, что они не сплетничали никогда одинъ на другого, не клеветали, не ссорились, не судились, — нѣтъ, все это продѣлывали они исправно, какъ и всѣ, — но и сплетничая и ссорясь, они все же испытывали другъ къ другу большую симпатію. «Какъ, и вы древлянскіе?!» — радостно восклицалъ какой-нибудь древлянецъ, встрѣтившись гдѣ-нибудь на чужбинѣ съ землякомъ, и сразу лицо его озарялось радостной улыбкой, и онъ звалъ земляка пить чай съ вишневымъ вареньемъ, и угощалъ его чудесной антоновкой — «теща прислала, — помните, какой у нея садъ-то на Студеной горѣ?» И оба съ наслажденіемъ погружались въ воспоминанія о древлянской жизни, перебирали всѣхъ общихъ знакомыхъ и незнакомыхъ и издали, на разстояніи вся древлянская жизнь представлялась имъ удивительно милой, точно осыпанной бѣлымъ вишневымъ цвѣтомъ, точно вся пропитанная сладкимъ, чудеснымъ запахомъ антоновки, который стоить надъ городкомъ въ то время, когда въ солнечной глубинѣ неба курлыкаютъ, прощаясь, журавли, а по опустѣвшимъ полямъ стелется серебристая паутина и нѣжно перезваниваютъ старенькіе колокола старенькихъ островерхихъ колоколенокъ… Но въ послѣдніе годы вторглось въ эту тихую, сонную жизнь что-то совсѣмъ новое, небывалое и какъ будто враждебное. Началось дѣло это на Окѣ-матушкѣ. Вдругъ, откуда ни возьмись, явилась какая-то шустрая компанія чужихъ людей, поставила новыя пристани и пустила новые пароходы. Немудрящи были тѣ пароходишки, что раньше по рѣкѣ туда и сюда полозили, говорить нечего, и всѣ презрительно звали ихъ «горчишниками», и ворчали на владѣльца ихъ, купца Сорокина, что дорого онъ за все беретъ, но все же какъ-то сжились съ этими горчишниками, и съ цѣнами, и со всѣмъ порядкомъ. И вотъ вдругь явились новые, хорошіе и быстрые пароходы и рѣзко понизили на все цѣны. Сорокинъ-купецъ, мужикъ ндравный, уступить не захотѣлъ и тоже цѣны понизилъ: тамъ, гдѣ новые ловкачи цѣлковый брали, онъ везъ за восемь гривенъ теперь. Ловкачи понизили цѣну до полтинника, а Сорокинъ разомъ махнулъ на четвертакъ, тѣ гривенникъ, а Сорокинъ — даромъ! Весь край древлянскій прямо дыханіе затаилъ, глядя за этой совершенно новой для него борьбой, а она разгоралась все болѣе и болѣе: ловкачи объявили, что будутъ теперь народъ возить даромъ и каждому пассажиру кромѣ того будутъ даромъ же подавать стаканъ чаю съ лимономъ, а Сорокинъ громыхнулъ: даромъ и по стакану водки! Биткомъ набитые пароходы и горчишники бороздили рѣку туда и сюда, и на пристаняхъ народу было не пролѣзешь, и былъ здоровенный хохотъ, и пѣсня, и пьянство великое, и рѣзались пароходчики все дальше и дальше, пока Сорокинъ въ одинъ прекрасный день не померъ отъ удара съ горя, а семья его, раньше богатая, осталась безъ гроша. И сразу ловкачи-побѣдители, оставшись на рѣкѣ полными хозяевами, подняли цѣны такъ, что въ одно лѣто вернули всѣ свои убытки и стали грести денежки лопатой… А потомъ вскорѣ кто-то изъ молодыхъ купцовъ на окраинѣ города заводъ поставилъ: косы, серпы, подковы выдѣлывать, лопаты, гвозди, топоры и прочее, что всѣмъ надобно, и сталъ народъ у воротъ заводскихъ толпиться, гонясь за заработкомъ новымъ, и съ утра до ночи гремѣлъ и дымилъ заводъ на всю округу, и ужасныя точила его сѣяли среди рабочихъ чахотку, а съ ней попутно — нищету и горе. И случалось какъ-то разъ крѣпко взбунтовались рабочіе и побили окна на заводѣ, и отказались работать. Начальство казаковъ откуда-то пригнало, и была стрѣльба, и порка, и аресты, и высылки и великое разореніе и новое, еще горшее горе… И замутилась тихая жизнь древлянская до самого дна. Правда, и чай попрежнему благодушно пили древлянцы до седьмого пота, и сладко благоухала по пристанямъ антоновка, и ходили они по субботамъ въ баню и, блаженно распаренные, съ красными узелками и вѣниками подмышкой, шли они домой, чтобы опять и опять пить чай съ удивительнымъ вареньемъ вишневымъ, но точно вотъ дала древлянская жизнь какую то жуткую трещину и будущее древлянской земли зловѣще затуманилось… Но любовь къ своей землѣ сохранили древлянцы прежнюю… И никто изъ всѣхъ нихъ не любилъ такъ родныхъ мѣсть, какъ Юрій Аркадьевичъ Лопушковъ, старенькій учитель исторіи въ мѣстной гимназіи и предсѣдатель мѣстной археологической комиссіи. Ему было за шестьдесятъ и за доброту его безконечную и за всегдашнюю готовность помочь всѣмъ и каждому прозвали его древлянцы Юріемъ Аркадьевичемъ Утоли-моя-печали, а другіе, насмѣшники, тѣ звали его Унеси-ты-мое-горе. Но и насмѣшники, и добродушные всѣ шли къ нему со всякой бѣдой своей, а онъ усадитъ, поглядитъ въ глаза, по плечу потреплетъ, чайкомъ попоить, — глядь, а бѣда-то ужъ не такой страшной кажется и горе помягчаетъ. Былъ Юрій Аркадьевичъ роста небольшого, съ эдакимъ пріятнымъ брюшкомъ, весь въ небольшихъ, добрыхъ морщинкахъ, съ большой серебряной бородой. Говорить онъ любилъ главнымъ образомъ о древлянской старинѣ и улыбался при этомъ ясной, дѣтской улыбкой. Въ одной изъ тихихъ, зеленыхъ уличекъ былъ у него свой тихій сѣренькій особнячекъ, конечно, съ садикомъ, въ которомъ, конечно, были и вишни, и антоновка, и старенькая, зеленая бесѣдка подъ черемухой, гдѣ Юрій Аркадьевичъ любилъ въ теплое время чайку попить и поблагодушествовать съ пріятелями въ тихой бесѣдѣ о старинѣ. Въ его небольшомъ, темноватомъ кабинетикѣ висѣли по стѣнамъ въ рамкахъ старинныя лубочныя картинки народныя, производствомъ которыхъ славился нѣкогда Древлянскъ; по запыленнымъ полкамъ въ строгомъ порядкѣ и за номерами были разложены огромныя, зеленыя, старинныя монеты, старинные кокошники крестьянокъ съ помутнѣвшими блестками, какой-то плоскій черный камень съ отпечатками слѣдовъ доисторическихъ птицъ, желтоватый черепъ съ застрявшей въ немъ полуистлѣвшей татарской стрѣлой, старая расписная посуда, старинная рѣзная прялка, а надъ всѣмъ этимъ, на верхней полкѣ, царила чудовищная, пуда на три, оранжевая тыква, которую Юрій Аркадьевичъ самъ вырастилъ у себя въ огородѣ и которая свидѣтельствовала о прекрасномъ климатѣ и чудесной почвѣ древлянской земли. Въ углу за книжнымъ шкапомъ стоялъ даже цѣлый старинный оконный наличникъ съ удивительно причудливой рѣзьбой, гдѣ были и павы съ невѣроятными хвостами, и невиданные цвѣты, и какія-то чудовища съ плоскими лицами, и удивительно изящныя розетки и завитушки. Въ письменномъ столѣ его, въ особомъ ящикѣ, лежала цѣлая коллекція рукописныхъ біографій и портретовъ древлянцевъ, хоть чуточку прославившихъ себя и родной городъ на поприщѣ наукъ, искусствъ или государственнаго служенія: какъ только кто изъ нихъ умретъ, такъ и тащитъ Юрій Аркадьевичъ немедленнно въ редакцію «Древлянскихъ Вѣдомостей» заранѣе заготовленную статейку съ портретомъ, чтобы древлянцы и весь міръ могли узнать о тяжелой утратѣ древлянской земли… И, когда толковалъ Юрій Аркадьевичъ мальчишкамъ исторію, то всѣмъ имъ казалось, что самое главное на свѣтѣ это Древлянскъ съ его соборами, курганами и старыми кокошниками, а вся всемірная исторія это только пріятно-пестрый вѣнокъ для Древлянска, какой-то долгій подходъ человѣчества къ красующемуся въ концѣ его длиннаго пути Древлянску. Если пріѣзжалъ кто въ Древлянскъ посмотрѣть его живописную старину, то это Юрій Аркадьевичъ водилъ гостя по стариннымъ урочищамъ, показывалъ ему и Благовѣщенскій соборъ, построенный еще въ XII в., и старый Крестовоздвиженскій монастырь съ его старинными могильными плитами, и удивительную, трогательную церковку Спаса-въ-городкѣ, и мѣсто злой сѣчи съ татарами, и мѣсто еще больше злой сѣчи древлянцевъ съ новогородцами, и велъ его въ городской музей, гдѣ показывалъ перчатки Тургенева, выступавшаго разъ въ молодости на литературномъ вечерѣ у древлянской губернаторши, и собранную имъ, Юріемъ Аркадьевичемъ, коллекцію разныхъ автографовъ, и уже облѣзшій возокъ, въ которомъ ѣхала разъ Екатерина древлянскимъ краемъ… И заѣзжій гость ясно понималъ, что и возокъ царицы, и коллекція портретовъ, и выцвѣтшія фрески «страшнаго суда» въ соборѣ Благовѣщенскомъ — все это въ высшей степени важно и нужно и что все это важное и нужное составляетъ какъ бы драгоцѣнное достояніе этого тихаго старичка съ дѣтской улыбкой… Юрій Аркадьевичъ сидѣлъ въ своемъ старинномъ, когда-то темно-зеленомъ, а теперь буромъ креслѣ у окна и, щуря свои голубые, дѣтскіе глазки, просматривалъ только что полученный номеръ «Древлянскихъ Вѣдомостей». Онъ не особенно интересовался газетами, а если и просматривалъ теперь отчетъ о засѣданіи Государственной Думы, то только потому, что сегодня въ отчетѣ этомъ помѣщена была рѣчь древлянскаго депутата Самоквасова. Правда, Самоквасовъ былъ правый, а Юрій Аркадьевичъ эдакій прилично-умѣренный кадетъ, но за то Самоквасовъ былъ все же древлянецъ, а, во-вторыхъ, его хлесткій юморъ и народныя словечки подкупали старика и онъ съ удовольствіемъ читалъ рѣчь земляка, тѣмъ болѣе, что на этотъ разъ Самоквасовъ отдѣлывалъ не жидо-кадето-масоновъ, а министровъ, что русскому человѣку всегда чрезвычайно пріятно. — Можно? — развязно послышалось отъ двери. — Иди, иди, Костя… — отозвался старикъ, бросая газету. Въ комнату вошелъ Константинъ Юрьевичъ, его сынъ, столичный журналистъ, худой, длинный, съ козлиной бородкой на какомъ-то тоже козлиномъ лицѣ и самоувѣренно, вызывающе закинутыми назадъ волосами. Костю выключили изъ пятаго класса древлянской гимназіи за организацію возмущенія пятиклассниковъ по поводу трудныхъ экстемпоралей по латинскому языку, но онъ нисколько не оробѣлъ и какъ-то удивительно скоро устроился сперва въ мѣстной газеткѣ, а потомъ перекочевалъ и въ столичную печать. И онъ имѣлъ извѣстный успѣхъ: его незнавшая никакихъ предѣловъ самоувѣренность производила чрезвычайное впечатлѣніе. Писалъ онъ о чемъ угодно и сколько угодно: и о земельномъ вопросѣ въ Новой Зеландіи, и о предстоящихъ выборахъ во Франціи, и о положеніи женскаго вопроса на Антильскихъ островахъ — причемъ онъ считалъ своимъ долгомъ, пользуясь удобнымъ случаемъ, выразить антильскимъ женщинамъ свои лучшія пожеланія успѣха въ героической борьбѣ, вполнѣ увѣренный, что его пожеланія доставятъ антильскимъ женщинамъ не мало удовольствія, — и о новыхъ завоеваніяхъ въ области воздухоплаванія, и о проблемахъ пола… И статьи его всегда были украшены цитатами на всѣхъ языкахъ міра — онъ не зналъ ни единаго — и приводилъ онъ ихъ всегда въ подлинникѣ. Тутъ было и «lasciate ogni speranza», и «sapienti sat», и «da der König absolut, wenn er euren Willen tut», и «to be or not to be», и «laisser faire», и «сказалъ Декартъ», и «какъ разъ справедливо замѣтилъ мой другъ Пашичъ», и рѣшительно все, что угодно. И былъ у него кромѣ того цѣлый арсеналъ ядовитыхъ русскихъ рѣченій: «умри, Денисъ, — лучше не напишешь!», «опускайся, куме, на дно…», «бѣда, коль сапоги начнетъ тачать пирожникъ!» и пр. И было въ безчисленныхъ статьяхъ его много задора, треска, яда, бойкости, всего, что угодно, но не было только одного: собственныхъ мыслей. Онъ весь былъ сотканъ изъ чужихъ, гдѣ-то отштампованныхъ мыслишекъ, которыя и скрѣплялъ онъ собственной ложью; ложь эта была у него чисто инстинктивной и такъ вошла въ привычку, что онъ совсѣмъ уже не замѣчалъ, что онъ все лжетъ, и лжи своей вѣрилъ больше всякой правды. Но это не только не мѣшало ему преуспѣвать, — наоборотъ, это-то болѣе всего и содѣйствовало его успѣху. Теперь онъ пріѣхалъ «отдохнуть» недѣльки на двѣ въ Древлянскъ, нагло смотрѣлъ на всѣхъ съ усмѣшкой черезъ пенснэ, и пенснэ его было нагло, и развязно качалъ онъ наглой ногой, и нагло разваливался, и не давалъ никому сказать и слова, ибо кто бы что бы ни говорилъ, все оказывалось глупо, не научно, а главное, отстало чрезвычайно. И каждымъ словомъ своимъ, каждымъ движеніемъ онъ какъ-то давалъ понять, что тамъ, вдали, онъ дѣлаетъ какое-то важное, огромное дѣло. Старикъ совсѣмъ пересталъ читать его статьи въ столичныхъ газетахъ, робѣлъ передъ нимъ и старые пріятели его — а пріятели ему въ городкѣ были всѣ — стали обходить уютный домикъ стороной… — Ну, что? Все «Древлянской Сплетницей» пробавляетесь? — развалившись и нагло качая ногой, сказалъ Константинъ Юрьевичъ, усмѣхаясь на газету. — И охота тебѣ, папахенъ, съ такой дрянью возиться! — Ну, ну, ну… — примирительно зажурчалъ старикъ. — Конечно, намъ за вами, большими кораблями, не угоняться, но мы хоть… того… сзади какъ, пѣтушкомъ… Хе-хе-хе-хе… Ты, брать, ужъ очень строгъ… — Стро-огъ? Ха-ха… Да развѣ съ вами, мягкотѣлыми кадетами, можно быть «строгимъ»? Вы дѣтки благовоспитанныя, паиньки, которымъ нужно сладкой манной кашки, да смотрѣть, какъ бы лошадка не задавила, да какой чужой дядя не обидѣлъ… Ха-ха… Постой: къ тебѣ ползетъ какой-то благопріятель, кажется, надо спасаться… — заглянувъ въ окно, прибавилъ онъ. — Ну! Не укусятъ… Мы народъ смирный… Хе-хе-хе… — Ты знаешь, что всѣ эти божьи коровки совсѣмъ не по мнѣ… Ба, да это непротивленышъ! — Можно? — раздалось опять отъ двери. — Жалуйте, жалуйте, Павелъ Григорьичъ… Милости просимъ… Гость былъ не изъ пріятныхъ, но Юрій Аркадьевичъ даль бы скорѣе четвертовать себя, чѣмъ обнаружилъ бы это передъ гостемъ. — Сколько лѣтъ, сколько зимъ!.. Это былъПавелъ Григорьевичъ Толстопятовъ, коренастый мужичина, съ рыжей, нечесанной и неопрятной бородой и налитыми чѣмъ-то тяжелымъ глазами, мѣстный прогорѣвшій помѣщикъ, а теперь послѣдователь, какъ онъ говорилъ, Льва Николаевича. Одѣтъ онъ былъ въ сѣрую, выцвѣтшую блузу, старые брюченки и ботинки изъ брезента; на кудлатой, уже сѣдѣющей и немытой головѣ ничего не было. Прочитавъ запрещенныя сочиненія Толстого, Павелъ Григорьевичъ бросилъ военную службу, отдалъ всю землю крестьянамъ, оставивъ себѣ только усадебный участокъ, на которомъ онъ хотѣлъ честно кормиться своимъ трудомъ. Но дѣло это не пошло и, поголодавъ, сколько поголодалось, онъ переселился съ семьей въ городъ и сталъ сочинять о Толстомъ всякія книги, такія же унылыя, тяжелыя и неумытыя, какимъ былъ и онъ самъ. И днемъ и ночью Павелъ Григорьевичъ проповѣдывалъ любовь ко всему живому и увѣрялъ всѣхъ, что и самъ онъ любить всѣхъ, даже враговъ. Ненавидѣлъ онъ только — но за то зеленой ненавистью — священниковъ, офицеровъ, землевладѣльцевъ, мясоѣдовъ, жандармовъ, ученыхъ съ ихъ ложной наукой, соціалъ-демократовъ, капиталистовъ, матеріалистовъ, полицейскихъ, барынь, аристократовъ, Максима Горькаго, правительство, Софью Андреевну, нотаріусовъ, артистовъ, Побѣдоносцева и тому подобныхъ идіотовъ и прохвостовъ. Тѣмъ же, кого онъ любилъ, онъ писалъ безъ ъ и безъ ѣ длинныя письма, которыя начинались неизсмѣнно «дорогой брат во Христе», а кончались: «с вегетаріанский привѣтом Павел Толстопятов». — Здравствуйте… — сказалъ Павелъ Григорьевичъ, не подавая руки, такъ какъ это былъ только очень глупый буржуазный предразсудокъ. — Извините, что побезпокоилъ: я только на минутку, по дѣлу… — Да проходите, проходите въ комнату… Какой церемонный!.. Вотъ садитесь-ка въ кресло попокойнѣе. Давненько вы къ намъ не заглядывали… Павелъ Григорьевичъ, съ неудовольствіемъ осмотрѣвшись, сѣлъ. Константинъ Юрьевичъ съ нескрываемой насмѣшкой глядѣлъ на него своимъ наглымъ пенснэ и раскачивалъ ногой. Юрій Аркадьевичъ старался не видѣть позы сына и ласково смотрѣлъ на гостя. — Дѣло вотъ въ чемъ… — тускло началъ Павелъ Григорьевичъ. — Какъ вы, конечно, знаете, Левъ Николаевичъ считаетъ въ дѣлѣ самосовершенствованія вегетаріанство «первой ступенью». Это вполнѣ понятно и только духовные слѣпцы могутъ оспаривать это. И вотъ мы съ женой рѣшили основать въ Древлянскѣ вегетаріанское общество и при немъ столовую. Но у насъ совершенно нѣтъ средствъ. И мы рѣшили обратиться къ вамъ съ просьбой о содѣйствіи… — Но чѣмъ же могу я въ такомъ дѣлѣ помочь? — развелъ руками Юрій Аркадьевичъ. — Думаю, что на большой успѣхъ вамъ у насъ расчитывать нельзя: мы покушать любимъ по совѣсти… Хе-хе-хе… — Какъ вы странно выражаетесь! Не по совѣсти надо сказать, а, напротивъ: безъ всякой совѣсти, вотъ какъ было бы нужно сказать. Предаваться обжорству, когда столько братьевъ-людей голодаетъ, проливать кровь животныхъ только для того, чтобы кусками ихъ труповъ набить себѣ животъ — по совѣсти! И, конечно, если мы начнемъ дѣло съ увѣреній, что оно не пойдетъ, то, конечно, оно и не пойдетъ… И потому я прошу васъ оставить другихъ въ сторонѣ, а отвѣтить мнѣ только лично за себя: согласны вы стать членомъ вегетаріанскаго общества? — Ну, что же? Отчего же? — смутился старикъ. — Можно… — Согласны вы быть членомъ-учредителемъ и внести на дѣло десять рублей? — Десять это многонько… Хе-хе-хе… Рублика бы три, куда бы еще ни шло… А десять многонько… Павелъ Григорьевичъ укоризненно покачалъ головой. — Какія-то сабли по стѣнамъ, тыквы, шлемы, книжонки истлѣвшія, монетки… — показалъ онъ рукой на шкапы и полки. — На это средства у васъ есть, а на то, чтобы спасти милыхъ животныхъ отъ страданій и смерти, на это у васъ денегъ нѣтъ! Зачѣмъ завалили вы вашу безсмертную душу всѣмъ этимъ безсмысленнымъ хламомъ? Выбросьте вонъ всю эту рухлядь, освободите себя и отдайте намъ эту комнату подъ вегетаріанскую столовую… Старикъ жалко заморгалъ глазами и не зналъ, какъ выпутаться: отказать — это для него было ножъ острый, а выбросить «мусоръ» — Господи помилуй, да какъ же можно такъ къ родной старинѣ относиться? — Но па-азвольте… — нагло качая ногой, вмѣшался Константинъ Юрьевичъ. — Неужели же вы все еще носитесь съ вашимъ самоусовершенствованіемъ? Въ наше время это по меньшей мѣрѣ смѣшно… — Да, я считаю не самоусовершенствованіе, какъ вы выражаетесь, а самосовершенствованіе единственнымъ правильнымъ путемъ для переустройства современнаго общества… — кротко сказалъ Павелъ Григорьевичъ. — Не смѣю спорить! — язвительно склонилъ голову Константинъ Юрьевичъ, явно показывая, что спорить онъ и можетъ, и смѣетъ, но не хочетъ унижаться. Но путь этотъ… э-э-э… возьметъ вѣка, а человѣчество едва ли согласится ждать съ назрѣвшимъ переворотомъ до… греческихъ календарей! — До какихъ календарей? — не понялъ гость. — Я перевожу это съ латинскаго… — пояснилъ снисходительно Константинъ Юрьевичъ. — Ад календас грекас… На лицѣ отца выразилось огорченіе. — Ну, ты мнѣ не дѣлаешь, милый мой, чести, какъ твоему учителю исторіи!.. — засмѣялся онъ смущенно. — Надо все же различать между календами и календарями… Сынъ разомъ смекнулъ, что онъ сѣлъ въ калошу — на это у него былъ прямо удивительный нюхъ, — и, снисходительно раскачивая ногой, онъ сказалъ: — Но, папахенъ, надо же понимать… иронію… Ха-ха-ха… Ты не долженъ ставить себя съ твоей ученостью въ смѣшное положеніе… — Ну, развѣ для ироніи… Тогда, конечно… Но старикъ все же никакъ не могъ смотрѣть ему въ лицо. Въ передней снова зашумѣли и старикъ самъ отворилъ дверь. — А-а, милый мой Андрей Ипполитовичъ!.. Милости просимъ! Вслѣдъ за Андреемъ въ комнату вошелъ маленькій, худенькій старичекъ. — Позвольте представить вамъ Юрій Аркадьевичъ, своего учителя и друга и вашего давняго корреспондента, профессора Максима Максимовича Сорокопутова… — Максимъ Максимычъ… Родной мой… Голубчикъ! — едва выговорилъ старикъ. — Да, ей Богу, это такая радость… такая честь… Ну, прямо и высказать не могу… Константинъ Юрьевичъ всталъ, но всей своей фигурой показывалъ, что ему даже и знаменитый профессоръ нипочемъ. Павелъ Григорьевичъ смотрѣлъ на маленькаго старичка съ сожалѣніемъ, думая, что напрасно тотъ свою жизнь, божественный даръ, потратилъ на всякіе пустяки. — Садитесь, родной мой… Отдыхайте… А это сынъ мой… а это Павелъ Григорьевичъ, извѣстный послѣдователь нашего великаго Толстого… Костя, поди распорядись на счетъ самоварчика… И закусочку чтобы собрали… Да поживѣе…XV. — ЗАПРЕТНОЕ
Павелъ Григорьевичъ ушелъ, чтобы не поддаться искушенію вовлечься въ праздные разговоры, а кромѣ того онъ зналъ, что сейчасъ непремѣнно будутъ «закусывать», а въ немъ древлянскій человѣкъ сидѣлъ крѣпко и всѣ эти закуски заставляли его очень мучиться: и хочется, и грѣхъ. Но Константинъ Юрьевичъ остался и это чрезвычайно стѣсняло старика: и наглый блескъ его пенснэ мѣшалъ, и независимое раскачиваніе ногой, и его словечки самоувѣренныя, а, пожалуй, и возможность новыхъ «греческихъ календарей»: какъ учитель исторіи, старичекъ былъ самолюбивъ. Но къ счастью, за сыномъ зашелъ скоро кто-то изъ его пріятелей и они, шумно посмѣявшись въ передней, ушли. Сразу стало легче… — Ужъ не знаю, съ чего начинать угощать васъ, дорогой мой Максимъ Максимовичъ… — проговорилъ старикъ. — Древлянскія достопримѣчательности наши въ городѣ покажу я вамъ завтра, — такъ съ утра полегоньку и начнемъ, — а сегодня отдыхайте ужъ у меня… И пока вотъ посмотрите тѣ сокровища мои, которыя удалось мнѣ собрать за мою жизнь. И надо бы все это въ музей нашъ отдать, знаю, и совѣсть коритъ, а нѣтъ, все никакъ разстаться не могу! Но въ завѣщаніи первымъ пунктомъ поставилъ: всю мою историческую коллекцію — музею… И онъ водилъ маленькаго старичка по комнатѣ, все любовно ему объяснялъ, все показывалъ и его удивляло немного, какъ слабо отзывается на все это знаменитый ученый, какъ, видимо, слабо цѣнитъ онъ все это, и это огорчало Юрія Аркадьевича. И не только его: и Андрей съ удивленіемъ посматривалъ на точно растеряннаго друга своего. А тотъ, дѣйствительно, былъ растерянъ: русская народная сказка, которую разсказывалъ ему на соломкѣ Васютка, саднила въ его душѣ злой занозой. И, наконецъ, маленькій старичекъ взялъ Юрія Аркадьевича за локоть и проговорилъ ласково: — Все это чрезвычайно интересно, глубокочтимый Юрій Аркадьевичъ, и мы займемся потомъ всѣмъ этимъ хорошенько, но… но мнѣ хочется использовать случай и побесѣдовать съ вами, какъ со старожиломъ, о…… современности… Ваше мнѣніе будетъ мнѣ чрезвычайно драгоцѣнно… И, разсѣянно прихлебывая чай и что-то закусывая — на кругломъ столѣ, тутъ же, въ кабинетѣ, было собрано обильное и вкусное провинціальное угощеніе, — профессоръ разсказалъ своимъ слушателямъ объ инцидентѣ на соломкѣ. — Что это такое? Откуда это? Давно ли? — говорилъ старичекъ своимъ слабымъ, похожимъ на вѣтеръ, голосомъ. — Какъ могли мы просмотрѣть такое важное и такое ужасное явленіе? Это положительно… непростительно! — Максимъ Максимовичъ, батюшка, хорошій мой, вы прямо, можно сказать, на любимую мою мозоль наступили! — сразу всполошился Юрій Аркадьевичъ. — Самъ я живу, благодареніе Господу, надо бы лучше, да ужъ некуда, а какъ только про это вотъ ночью вспомню, такъ до утра и не сплю… Вѣдь, во истину, положеніе-то народа нашего ужасное, дорогой Максимъ Максимовичъ! И не столько бѣдность его страшна мнѣ — у насъ, слава Богу, онъ живетъ въ относительномъ достаткѣ, — а это вотъ самое, на что вы изволите указывать. Какъ и когда это съ нимъ сдѣлалось, и понять не могу, а сдѣлалось что-то очень нехорошее. Фабрика? Солдатчина? Города? Вѣрно… Но почему же онъ оттуда приноситъ домой только глупость и грязь?.. Загвоздка!.. А гдѣ же церковь? А школа? А власть? Вотъ у меня сынъ есть, вы его видѣли… — вдругъ понизилъ онъ голосъ. — Большой онъ революціонеръ… Да и вся молодежь по этой дорожкѣ пойти норовитъ… И вотъ сотни разъ говорилъ я имъ: будьте осторожны, ребята! Нельзя изъ такого матеріала ничего путящаго выстроить… Опять, какъ въ 905, ничего у васъ не выйдетъ. Подумайте, разсудите!.. Нѣтъ, и ухомъ не ведутъ!.. Да что: старики, и тѣ правды знать не хотятъ!.. Вотъ какъ-то разъ раздумался я про все это ночью и рѣшилъ написать эдакую небольшую замѣточку о мужикѣ нашемъ, съ которымъ я бокъ-о-бокъ всю жизнь прожилъ: вѣдь покойный мой папаша священникомъ тутъ въ селѣ Устьѣ былъ… Пусть прочитаютъ, думаю, пусть знаютъ, какъ обстоитъ дѣло. И что же? — Юрій Аркадьевичъ покраснѣлъ стыдливо. — Ни здѣсь, ни въ столичныхъ газетахъ не удалось мнѣ помѣстить своей замѣточки! Вонъ сынъ мой что хочетъ печатаетъ, и ничего, а мнѣ нельзя. И меня же, какъ дурачка какого, — вотъ истинное слово! — высмѣяли… Хотите, я прочитаю вамъ эту замѣточку? — Сдѣлайте милость, Юрій Аркадьевичъ… — сказалъ профессоръ. — Очень обяжете…. Трясущимися отъ волненія руками Юрій Аркадьевичъ самъ зажегъ свою лампу, — уже смеркалось, — досталъ изъ стола жиденькую рукопись и обратился къ гостямъ стыдливо: — Вы ужъ не взыщите на старикѣ, господа…. Какой я писатель? Это только такъ, стариковскія думы ночныя… А только хотѣлось пользу принести, разъяснить… Ну, назвалъ я свою статейку: «Что такое нашъ дядя Яфимъ? — опытъ характеристики древлянскаго крестьянства»… Старикъ откашлялся смущенно и, далеко отставивъ отъ себя свою рукопись и замѣтно волнуясь, началъ читать. Сперва далъ онъ простое, но толковое описаніе хозяйственнаго положенія мѣстнаго крестьянства: торжество рутины въ его хозяйствѣ, тяжелая и вредная власть «міра», пьянство и вытекающее отсюда убожество среди обильнаго обезпеченія землей, попутно отмѣтилъ онъ деликатно и съ оговорками безпомощность земства въ его работѣ и враждебное отношеніе къ нему крестьянства, отмѣтилъ всю недостаточность правительственнаго попеченія о крестьянствѣ. «Безрадостная картина! — продолжалъ старичекъ своимъ мягкимъ говоркомъ на о. — Но еще безрадостнѣе будетъ впечатлѣніе, если мы заглянемъ повнимательнѣе въ душу дяди Яфима….» Онъ нарисовалъ широкую и жуткую картину неимовѣрнаго пьянства, безпробуднаго невѣжества народнаго — въ области общественной, даже въ области чисто земледѣльческой и въ особенности въ области религіозной — и вдругъ, прервавъ себя, зашепталъ горячо и боязливо: — И знаете что, дорогой мой Максимъ Максимовичъ? Я долженъ покаяться предъ вами чистосердечно: я словно въ ересь про себя, тайно начинаю впадать. Изъ году въ годъ твержу я въ гиманазіи мальчишкамъ, что принятіе христіанства и распространеніе въ старину монастырей по Руси содѣйствовало просвѣщенію ея, а какъ только приглядишься къ дѣлу поплотнѣе, такъ и начинаетъ одолѣвать сомнѣніе. Господи помилуй, вѣдь, почитай, тысячу лѣтъ просвѣщають батюшки народъ, а гдѣ же результаты? Послушаешь нашихъ мужичковъ-то — волосъ, вѣдь, дыбомъ становится!.. И, поглядѣвъ испуганными, вопрошающими глазами на своихъ смущенныхъ и притихшихъ собесѣдниковъ, Юрій Аркадьевичъ опять взялся за свою тетрадочку и дрожащимъ отъ сдержаннаго волненія голосомъ продолжалъ: «Но не это самое тяжелое и самое жуткое въ дядѣ Яфимѣ, — самое жуткое въ немъ это отсутствіе какой бы то ни было твердой вѣры, тѣхъ „устоевъ“, которые открыли въ немъ разные фантазеры-народники: онъ ставить свѣчку Миколѣ-угоднику, а черезъ десять минутъ издѣвается надъ попомъ, онъ подаетъ семитку нищему и бьетъ полѣномъ не только лошадь — по плачущимъ глазамъ, какъ сказалъ великій писатель нашъ, Ф. М. Достоевскій, — но и жену, а въ нашемъ древлянскомъ краѣ онъ самъ про себя говоритъ, что „нашъ народъ — невѣрный“, что онъ „отца съ матерью за грошъ продастъ да еще сдачи попроситъ“. Онъ чувствуетъ себя какимъ-то отпѣтымъ, и хвалится этимъ, и неустрашимо заявляетъ свое „право на безстыдство“, по выраженію того же Ф. М. Достоевскаго… Послушайте новыя сказки народныя, учтите ту гнуснѣйшую ругань, безъ которой онъ не умѣетъ ступить и шагу и которой не знаетъ ни одинъ народъ въ мірѣ, вслушайтесь въ его „частушки“, безсмысленныя и циничныя, которыя такъ быстро, такъ незамѣтно подмѣнили его старую поэтическую и прекрасную пѣсню, вглядитесь въ пьянство это безпробудное и у васъ волосъ дыбомъ станетъ…. Интеллигенція кричитъ объ ужасномъ положеніи народа, но она главное свое вниманіе сосредоточиваетъ на его матеріальномъ разореніи, между тѣмъ положеніе его въ сто разъ хуже, чѣмъ думаетъ интеллигенція, потому что онъ какъ-то душу свою человѣческую потерялъ. Но этого она не только не видитъ, но и не желаетъ видѣть. Она изображаетъ мужика то соціалистомъ, то анархистомъ, то толстовцемъ, а все это — ложь! Онъ не анархистъ, не соціалистъ, не толстовецъ, онъ — съ болью сердца пишу я это! — прежде всего пьяница, сифилитикъ, матерщинникъ и хулиганъ. Въ этомъ — самое страшное, а совсѣмъ не въ его матеріальной необезпеченности, какъ она ни тяжела, какъ она ни ужасна. И болѣзнь эта тѣмъ страшнѣе, что ее упорно замалчиваютъ, ея никто не хочетъ внать… Урокъ 905 для всѣхъ — и для правительства, и для культурныхъ классовъ, и для самого народа — прошелъ безрезультатно и всѣ снова изъ всѣхъ силъ вызываютъ духа тьмы. А я говорю: если шквалъ 905 повторится еще разъ, то, можетъ быть, мы и не выплывемъ. На видъ могучъ корабль россійскій, но я кричу всѣмъ: экипажъ корабля никуда не годится и бури онъ не выдержитъ… И вотъ, одинъ въ тишинѣ ночи, спрашиваю я себя: куда же идетъ нашъ народъ? Чего онъ хочетъ? Что съ нимъ и съ нами будетъ? И не нахожу отвѣта и чувствую, какъ меня охватываетъ страхъ, и хочется мнѣ крикнуть: ратуйте всѣ, кто еще въ Бога вѣруетъ, кто любитъ Россію, кто, наконецъ, просто не хочетъ гибели своимъ близкимъ и самому себѣ!» Юрій Аркадьевичъ, сильно взволнованный, замолчалъ. Наступило тяжелое молчаніе. — И я могу подтвердить, что нѣтъ въ этой картинѣ ни единой невѣрной черты… — сказалъ тихо Андрей. — И я тысячи разъ ломалъ себѣ голову; почему получилось то, что получилось, и не нашелъ достаточно убѣдительнаго отвѣта. Революціонеры винятъ во всемъ правительство. И я думаю, что во многомъ виновато оно, но все же мнѣ думается, что и мы какъ-то во всемъ этомъ виноваты… Весь вопросъ только въ томъ, былъ ли народъ раньше лучше?… Историческіе документы не очень въ этомъ убѣждаютъ… Юрій Аркадьевичъ одобрительно кивалъ головой — не одобрить хорошаго человѣка было бы прежде всего невѣжливо, — а Максимъ Максимовичъ что-то напряженно думалъ: неуютно ему было какъ-то въ XX вѣкѣ, не дома какъ-то былъ онъ въ немъ…. — Есть въ средѣ крестьянства одно явленіе, которое меня очень тревожитъ, — сказалъ Юрій Аркадьевичъ. — Все, что появляется среди мужика даровитаго, предпріимчаваго, дѣятельнаго, все это уходитъ изъ деревни или въ интеллигенцію, или въ круги торговые и промышленные и очень скоро порываетъ съ деревней всѣ связи. Происходитъ какое-то постоянное усѣкновеніе главы крестьянства… И какъ остановить этотъ исходъ «головки», я не знаю… — Во всякомъ случаѣ революція безсильна сдѣлать тутъ что-нибудь… — сказалъ Андрей. — И вообще попытки революціонеровъ поправить дѣло путемъ революціи меня смущаютъ… — продолжалъ онъ задумчиво. — Нашъ 905 напугалъ меня. Если революціи суждено побѣдить, то побѣдить она можетъ, только опираясь на нравственное начало, а у насъ она всегда и прежде всего стремится совсѣмъ освободить человѣка отъ власти нравственнаго начала. Вспомните не только Пугача или Разина, вспомните 905 съ его «все позволено»… Я понялъ бы и принялъ только ту революцію, которая цѣлью своей поставила бы поднятіе человѣка на до тѣхъ поръ невѣдомую нравственную высоту…. — Но развѣ безъ революціи это невозможно? — тихо сказалъ профессоръ Сорокопутовъ. — Я, пожалуй, не точно выразился: революція только и должна состоять въ этомъ подъемѣ человѣка на высшую нравственную ступень… Тихая бесѣда затянулась до глубокой ночи. — А вы знаете что, глубокоуважаемый Юрій Аркадьевичъ? — говорилъ, прощаясь, профессоръ. — Дайте-ка мнѣ ваше писаньице съ собой — я хочу помѣстить его въ столичныхъ газетахъ. Кое-какія связи у меня есть. И я думаю, что поставить этотъ важный вопросъ на обсужденіе общества было бы полезно… — Да съ радостью, дорогой Максимъ Максимовичъ, съ великой радостью! — отозвался старикъ. — Да, Господи помилуй, ну, какъ же намъ своего народа не знать? Премного обяжете… Пусть послушаютъ тамъ, въ столицахъ, голосъ человѣка съ мѣста… Но только… хе-хе-хе… — робко засмѣялся онъ. — Разрѣшите и мнѣ затруднить васъ своей просьбишкой, — нѣтъ, нѣтъ, я не для себя, я для музея нашего хлопочу!.. Вотъ вы сдѣлали великую честь нашему городу своимъ посѣщеніемъ, но надо это, такъ сказать, увѣковѣчить: батюшка, Максимъ Максимовичъ, пожертвуйте музею нашему черновичекъ какой вашъ или что-нибудь тамъ такое… — Да помилуйте… — совсѣмъ сконфузился профессоръ. — Я только очень скромный ученый и кому же это нужно?… Нѣтъ… это невозможно… — Нѣтъ, нѣтъ, ужъ вы будете милостивы, не сопротивляйтесь… — просилъ Юрій Аркадьевичъ. — Такъ страничку, другую… Или какую книжку записную старенькую… Помилуйте: ваше имя стоитъ въ ряду съ Василіемъ Осиповичемъ и другими свѣтилами нашими, какъ же можно, Господи помилуй? Мы понимаемъ… И вотъ завтра я буду показывать вамъ всѣ достопримѣчательности наши, такъ разрѣшите мнѣ захватить съ собой фотографа и пусть онъ сниметъ насъ… ну, скажемъ, около Божьей Матери-на-Сѣчѣ.. Тамъ мы съ вами фрески XII вѣка, недавно открытыя, осматривать будемъ, — архіерей, такая, прости Господи, балда, «подновлять» было вздумалъ, насилу я отстоялъ… Такъ вотъ и сняли бы мы васъ тамъ…. — Да, право, я не знаю… — Ну, Максимъ Максимовичъ, сдавайтесь… — поддержалъ старика Андрей. — Вы должны оставить намъ, вашимъ друзьямъ, память о вашемъ посѣщеніи… Уважьте древлянцевъ… — Ну, что же дѣлать… Извольте… — безпомощно развелъ профессоръ руками. — Извольте-съ… — И черновичекъ, черновичекъ какой для музея… — совсѣмъ осмѣлѣвъ, настаивалъ Юрій Аркадьевичъ. — Такъ, страничку другую, только чтобы память осталась… И на это Максимъ Максимовичъ согласился и, совсѣмъ счастливый, Юрій Аркадьевичъ проводилъ дорогихъ гостей до калитки…XVI. — НОЧЬ ПОДЪ ИВАНА КУПАЛУ
Подходилъ Ивановъ день. Петро переживалъ непріятныя колебанія: съ одной стороны хотѣлось ему подкараулить, какъ цвѣтетъ папоротникъ, а затѣмъ, съ завѣтнымъ цвѣткомъ въ карманѣ, пойти подъ Вартецъ поискать кладъ, а съ другой стороны было очень боязно. Петро совсѣмъ не былъ трусливъ: и съ медвѣдемъ встрѣчался носомъ къ носу не разъ, и на раненого матерого волка бросался безъ малѣйшаго колебанія, но тутъ было нѣчто большее, чѣмъ медвѣдь или волкъ: неизвѣстное, таинственное. Наконецъ, поколебавшись достаточно, Петро сказалъ себѣ: «Э, гдѣ наше не пропадало!» и, хотя въ словахъ этихъ не было, въ сущности, рѣшительно никакого смысла, колебанія Петро кончились: онъ рѣшилъ попытать счастья. Рѣшивъ попытать счастья, Петро сталъ фантазировать: что онъ сдѣлаетъ, когда найдетъ кладъ. Онъ рѣшилъ купить себѣ тогда серебряные часы съ цѣпочкой, тульскую централку двѣнадцатаго калибра и новый картузъ, непремѣнно съ блестящимъ козырькомъ. А Дуняшѣ — ахъ, и хороша дивчинка! — платье полушелковое, платокъ и колечко. А помимо всего этого онъ выпишетъ себѣ всякихъ прейскурантовъ прямо безъ числа, ворохами. Онъ такъ привыкъ наслаждаться изображенными въ прейскурантахъ богатствами платонически, что ему и въ голову не приходило увеличить, въ случаѣ удачи съ кладомъ, списокъ своихъ пріобрѣтеній… Наконецъ, подошелъ и завѣтный вечеръ. Все затихло — только гдѣ-то за наличникомъ все возился и ссорился со своей воробьихой Васька, старый воробей. Наконецъ, затихъ и онъ. Въ черно-бархатномъ небѣ затеплились, зашевелились звѣзды. Кое-гдѣ по деревнямъ, на выгонѣ, молодежь разложила костры и стала прыгать черезъ огонь, веселясь, но совершенно не зная, что это они, въ сущности, дѣлаютъ: они забыли, что тысячу лѣтъ тому назадъ это было вѣнчальнымъ обрядомъ… И тихо зажглись въ дремлющей травѣ зелененькіе огоньки свѣтляковъ, — точно кто изумруды на полянѣ растерялъ…. И жутко, тихо, точно насторожившись, стоялъ темный лѣсъ… Дуняша — она была чрезвычайно ревнива, — безпокойно заметалась: Петро куда-то исчезъ. Ни ей, ни кому другому онъ не сказалъ о своемъ предпріятіи ни слова и, снявъ крестъ, — онъ полагалъ, что такъ будетъ лучше, — съ замирающимъ сердцемъ, онъ быстро шагалъ съ лопатой на плечѣ едва видными въ свѣтѣ звѣздъ лѣсными дорогами и тропками къ далекому, сумрачному Вартцу, высокой, но пологой горѣ, которая хмуро поднималась надъ лѣсной пустыней… По окрестнымъ деревнямъ издавна ходило глухое преданіе, что въ старину держалась на Вартцѣ шайка разбойниковъ, которые и закопали гдѣ-то на горѣ свои несмѣтныя сокровища. Мужики говорили о закопанныхъ богатствахъ такъ, что если вся Древлянская губернія цѣлые десять лѣтъ ни пахать, ни косить, ни на заработки на сторону ходить не будетъ и будетъ подати всѣ исправно вносить, и будутъ всѣ мужики и бабы въ шелку ходить, то и тогда не прожить древлянцамъ разбойничьяго богатства! И не разъ, и не два, а многія сотни разъ пробирались смѣльчаки лѣсными тропами съ лопатой къ завѣтному Вартцу и пытали тамъ свое счастье. У подошвы горы, на полночь, лежалъ огромный, величиною съ добрую крестьянскую избу, валунъ, блестящій и гладкій, совершенно одинъ, — точно вотъ онъ съ неба упалъ. И вкругъ этого-то вотъ страннаго камня и рыли лѣсные люди землю — и на семь шаговъ, и на тринадцать, и на сто, и на полночь, и на восходъ, и на заходъ, и на красную сторону. И по ямкамъ этим видно было, что большимъ терпѣніемъ искатели не обладали и что тяжелая работа быстро отрезвляла и самыя пылкія головы: рѣдкая ямка и среди старыхъ, совсѣмъ заросшихъ, и среди совсѣмъ свѣжихъ была больше двухъ аршинъ… Но кладъ не давался никому, — старики говорили, что надо знать слово… И не только скрытое золото привлекало людей на Вартецъ: въ жуткомъ и глухомъ оврагѣ билъ тутъ изъ горы древлій, чистый и студеный Гремячій Ключъ, открывшійся, какъ говорило сѣдое преданіе, отъ громовой стрѣлы и отсюда протекавшій въ Ужву, въ которую и впадалъ онъ около Спаса-на Крови. Ледяная вода ключа помогала при всякихъ дѣтскихъ болѣзняхъ, въ особенности же отъ «кумохи»: такъ звали тутъ упорную дѣтскую лихорадку. И всякій разъ, какъ разныя домашнія средства не помогали заболѣвшему ребенку, мать, творя молитву, лѣсной тропой — звонкія, торныя были эти тропы, — несла его въ лѣсную глушь и купала его въ студеной, гремячей, святой водѣ, а, выкупавъ, чтобы отдарить незримый духъ святого ключа, она вѣшала на вѣковыхъ еляхъ, обступившихъ ключъ, — ихъ никто не осмѣливался срубить, или образокъ какой махонькій, или же ленточку яркую. Дѣти иногда и выздоравливали, а чаще помирали, но и такъ и эдакъ это была «развязка», облегченіе, милость Господа, прибравшаго въ селеніяхъ праведныхъ чистую дѣтскую душу. И потому крѣпко любили бабы Гремячій Ключъ и тысячами пестрѣли и сіяли ихъ дары на косматыхъ вѣтвяхъ старыхъ елей въ глубинѣ угрюмаго темнаго оврага… Тихо, осторожно, стараясь не шумѣть ногами по узловатымъ корнямъ, Петро шелъ по направленію къ Гремячему Ключу: тамъ по сырому оврагу росло много папоротника и тамъ онъ рѣшилъ выждать страшный и желанный моментъ его вѣщаго цвѣтенія. Онъ шелъ и зорко вглядывался въ темноту, и чутко, чутко вслушивался въ тишину лѣсную не только ухомъ, но какъ-то всѣмъ существомъ своимъ. Но ничего не было видно, кромѣ звѣздъ, которыя плыли надъ косматыми вершинами, и ничего не было слышно, кромѣ скораго біенія его сердца да тѣхъ неясныхъ лѣсныхъ шороховъ, которые Петро часто слышалъ на ночныхъ охотахъ и которые были жутки всегда, а теперь въ особенности. Но онъ крѣпко держалъ себя въ рукахъ и все шелъ и шелъ своимъ скорымъ, почти безшумнымъ охотничьимъ шагомъ… Вотъ, наконецъ, и Вартецъ, и густой, пряный запахъ болотной сырости, и жуткая, жуткая тишина, а среди этой тишины — серебристый, немолчный рокотъ, и плескъ, и звонъ Гремячаго Ключа. Нѣмые папоротники неподвижно застыли въ сумракѣ, точно готовясь къ великому таинству. Кое-гдѣ, какъ упавшія съ неба звѣзды, свѣтились огоньки ивановскихъ червячковъ. И слышались шорохи непонятные, и точно вздохи чьи-то осторожные, и шепоты, и мнилось, что смотрятъ изъ чащей глаза, жуткіе, свѣтлые, круглые лѣсные глаза, какихъ и не бываетъ, — и оттуда, и отсюда, и со всѣхъ сторонъ, а въ особенности сзади… И загнувшійся къ восходу хвостъ Большой Медвѣдицы показывалъ, что страшная полночь уже недалеко… Петро сѣлъ на поваленную бурей ель, приготовилъ чистый платокъ, въ который онъ завернетъ огненный цвѣтокъ папоротника, и сталъ ждать. Смерть хотѣлось свернуть собачью ножку и покурить, но было это почему-то страшно: надо было — и не надо, собственно, а иначе было нельзя, — слушать, смотрѣть, замирая душой, во всѣ стороны. Вотъ гдѣ-то въ оврагѣ громко заоралъ филинъ-пугачъ. Петро отлично зналъ, что это филинъ, да, но тѣмъ не менѣе такѣ же несомнѣнно чувствовалъ онъ, что въ дикихъ крикахъ зловѣшей птицы было сегодня что-то особенно значительное, точно предостерегающее… И послышался едва уловимый шелестъ вѣтвей, и потрескиваніе точно подъ чьей-то крадущейся ногой, старыхъ сучковъ и Петро, весь блѣдный и захолодавшій, чуть повернуль туда, на звуки голову и вдругъ по лѣсу что-то тяжело понеслось съ великимъ шумомъ. Что это? Лось? Но лоси ночью лежатъ, а, кромѣ того, и не шумитъ такъ осторожный лось никогда. Лѣшій? Господи, спаси и помилуй!.. Морозъ желѣзный, январскій сковалъ вдругъ всю душу Петро и волосы на головѣ его зашевелились… И вдругъ кругомъ все точно вспыхнуло золотисто-голубымъ огнемъ. Петро, задыхаясь, вскочилъ: зацвѣлъ! Нѣтъ: то звѣзда падучая съ неба туда, къ монастырю, скатилась… И что-то сразу сорвалось въ душѣ Петро и полный страха, блѣдный, съ круглыми глазами, онъ понесся лѣсомъ къ далекому дому… Что-то бросалось ему съ обѣихъ сторонъ подъ ноги, стараясь уронить его, что-то хватало его за руки, что-то кричало, звенѣло, ухало и свистѣло со всѣхъ сторонъ ему въ уши и онъ, едва переводя горячее, сухое дыханіе, только твердилъ: «Господи Исусе… Микола Угодникъ… Чуръ меня, чуръ… Матушка-заступница, чуръ меня… Онъ не помнилъ ни дороги, ни того, что съ нимъ это время было, а только какимъ-то звѣринымъ чутьемъ угадывалъ онъ въ жуткихъ лѣсныхъ чащахъ, гдѣ разгулялась въ ночи всякая нечисть, путь къ дому… Онъ изнемогалъ, онъ почти валился съ ногъ, еще немного и онъ задохнется… Но вотъ и знакомая широкая поляна, и смутные силуэты построекъ на звѣздномъ небѣ, и мягкій ровный свѣтъ синей лампы въ комнатѣ Сергѣя Ивановича, который всегда сидѣлъ за полночь… Петро, весь дрожа, облегченно вздохнулъ всей своей широкой грудью. Онъ едва на ногахъ держался, въ головѣ его стоялъ звонъ, какъ на Святой въ городѣ, и въ глазахъ расходились радужные круги. Нѣтъ, — стояло въ его головѣ, — нѣтъ, дудки! Никакихъ прискурантовъ больше не возьму, чтобы итти на такое дѣло!.. Да погоди… — говорилъ ему какой-то насмѣшливый голосъ разсудительно. — Что же случилось?.. Ничего страшнаго и не было, — такъ, самъ ты только дурака свалялъ…» Но Петро не слушалъ его: нѣтъ ужъ, извините, больше не проведешь!.. И днемъ-то теперь близко къ проклятому мѣсту не подойду, а не то что… На крылечкѣ господскаго дома неподвижно сидѣла какая-то тѣнь. Петро, оправившись, подошелъ поближе поглядѣть, кто это. И сердце тепло подсказало: Дуняша… — Ты что это тутъ полуношничаешь? — ласково сказалъ ей Петро. Дуняша молчала. — Хиба ты оглохла? А? Петро считалъ свой родной, хохлацкій языкъ «мужицкимъ» языкомъ и всегда говорилъ, какъ полагается, «по благородному», но въ минуты волненія онъ неизмѣнно срывался и выпускалъ словечки малороссійскія. Дуняшѣ эти словечки очень нравились, хотя и были иногда смѣшны, но теперь отвѣтомъ ему было молчаніе. Петро началъ сознавать свою вину. — Ну, что молчать-то?… Дуняшъ, а? Онъ попытался взять ее за руку. Она рванула въ сердцахъ руку назадъ и язвительно, сухо проговорила: — Идите разговаривать туда, гдѣ вы сичасъ были… Безсовѣстный! — жарко вдругъ вырвалось у нея. — Измѣншикъ! И Петро услышалъ звуки подавленнаго рыданья. Что-то точно оборвалось въ его душѣ. Онъ не выносилъ, когда кто говорилъ ему вы, а въ особенности Дуняша. И было совершенно ясно: онъ во всемъ виноватъ… — Да будетъ тебѣ… — съ ласковой укоризной протянулъ онъ. — Я… я… за папортникомъ ходилъ: завтра Ивановъ день, вѣдь… платье полушелковое сшить тебѣ хотѣлъ, и платокъ ковровый купить, и колечко… И сережки еще… — привралъ онъ для пушей важности. — За папортникомъ?! — подняла она къ нему свое блѣдное, искаженное страданіемъ лицо. — За папортникомъ?.. Это вы дурамъ мещерскимъ или вошеловскимъ разсказывайте, а я… а я… — задохнулась она. — Знаю я эти папортники!.. Ишь, какой тожа ловкачъ выискался: папортникъ! Но въ душѣ ея что-то точно смягчилось: если это и неправда, то правдоподобно, а это очень много значитъ. Но она, зло отвернувшись, молчала: не наказать Петро за свое безпокойство, за свою муку было бы непростительно. А онъ, почуявъ оттаиваніе, сѣлъ рядомъ съ ней, но ступенькой ниже, и ласково говорилъ ей всякія слова — какъ голубь дикій въ лѣсной чащѣ: турлы-урлы… урлы-турлы…, безъ конца. И Дуняша изъ всѣхъ силъ крѣпилась, чтобы не броситься ему на шею, но когда онъ осмѣлился взять ее за руку, она снова сердито рванула ее: — Идите къ вашимъ мещерскимъ! И опять, еще убѣдительнѣе, началъ Петро: турлы-урлы… урлы-турлы… И черезъ какіе-нибудь четверть часа темная парочка, обнявшись, тихо ушла по росистой травѣ за сараи, потомъ дальше, въ темный лѣсъ, гдѣ совсѣмъ не было ужъ такъ страшно, — развѣ чуть-чуть только, для того, чтобы покрѣпче прижаться одинъ къ другому… — Турлы-урлы… — убѣдительно говорилъ Петро тихонько. — Урлы-турлы-курлы… И въ необъятномъ, черномъ, усыпанномъ звѣздами чертогѣ, среди пахучихъ травъ, на теплой землѣ они шли и шли, сами не зная, куда…* * *
На другое утро за чаемъ съ горячими пирогами — было воскресенье, — Петро сталъ разсказывать Гаврилѣ, Маринѣ и принесшей пироги Дуняшѣ, которая никакъ не могла не улыбаться и глаза которой смущенно, но неудержимо смѣялись, сіяли и грѣли, о своихъ похожденіяхъ. Разсказывать о походѣ за папоротникомъ такъ, какъ все было, значило прежде всего разочаровать слушателей, значитъ, не доставить имъ никакого удовольствія, а, ежели такъ, то, стало быть, и разсказывать не за чѣмъ. И потому Петро разсказывалъ такъ: — Ну, иду, значитъ… А темь это, хоть глаза выколи… И словно волки гдѣ воютъ цѣлымъ табуномъ, да какъ-то эдакъ чудно, индо морозъ по спинѣ полозитъ… Ну, пришелъ я къ Вартцу, — тамъ папротнику-то сколько! — сѣлъ на пенекъ, сижу, жду, а сердце такъ вотъ и колотится, словно выпрыгнуть хочетъ. Засвѣтится это въ травѣ, бросишься, — нѣтъ, червячекъ этотъ самый… Отойдешь, въ другомъ мѣстѣ засвѣтится, туда бросишься — опять червячекъ! Обманываетъ, значитъ, пытаетъ… И вдругъ весь оврагъ какъ освѣтится, — точно вотъ ометъ соломы сухой загорѣлся! Оборотился, гляжу: на одномъ папротникѣ точно уголекъ вдругъ зардѣлся, такъ и горитъ вотъ, такъ и пышетъ… Подстелилъ я подъ него живымъ манеромъ платокъ, рванулъ его подъ корень, завернулъ кое-какъ, за пазуху сунулъ да ходу! А за мной какъ зареветъ на тысячи голосовъ: держи его, держи! Я еще пуще… И не оглядываюсь: потому оглянешься, такъ не только цвѣтокъ твой пропадетъ, а и самому не сдобровать… Н-ну, бѣгу… Вылетѣлъ это на дорогу — жарь! И вдругъ слышу, сзади тройка съ колокольцемъ летитъ, ажъ гудеть все кругомъ: «берегись… берегись!» Врешь, думаю, не обманешь, нечистая сила! Бѣгу, не оглядываюсь… А тройка вотъ такъ и настигаетъ: за самой спиной, слышу, лошади храпятъ, ажъ шеѣ жарко, и колокольчикъ такъ вотъ и захлебывается… Врешь, думаю, ни за какія не обернусь… Только подумалъ и пропала тройка, словно вотъ ея и не было. Тутъ изъ лѣсу волки выскочили, за мной пустились, — вотъ, вотъ схватятъ… Нѣтъ, выдержалъ и тутъ, не обернулся… И волки пропали… И такъ тихо вдругъ стало, точно и не было ничего. А я ужъ изъ силъ выбиваюсь, въ груди ровно вотъ молотомъ кто бьетъ, дыханіе спирается, въ глазахъ круги зеленые ходятъ… Неужели, думаю, отстала нечистая сила? Ну, сбавилъ я это рыси маленько, а потомъ и вовсе шагомъ пошелъ. Щупаю это платокъ за пазухой — тутъ! Что, думаю, взяла нечистая сила? И вдругъ… и вдругъ сзади гдѣ-то, съ Ужвы кричитъ словно кто. Остановился я, слушаю. «Ой, батюшки, помогите, тону! Ой, спасите!..» Такъ вотъ за сердце меня и ухватило: человѣкъ погибаетъ! Обернулся это я да бѣгомъ подъ берегъ… И только это обернулся я, какъ вдругъ на весь лѣсъ: ха-ха-ха-ха… — какъ захохочетъ!.. Ажъ волосъ на головѣ у меня дыбомъ сталъ, ей Богу, — до чего страшно!.. Хвать это я за пазуху, а цвѣтка и слѣдъ простылъ… Страхомъ нечистая сила не взяла, такъ жалостью взять ухитрилась…. У слушателей точно кто натянутыя струны въ душѣ спустилъ. Разсказъ имъ понравился чрезвычайно. Такъ пишется — всегда — исторія дѣяній человѣческихъ и всегда съ большимъ успѣхомъ. О второй половинѣ ночи подъ Ивана Купалу, когда онъ собственно кладъ нашелъ, Петро разсказывать не сталъ, — объ этомъ разсказывала его улыбка, которую онъ никакъ не могъ сдержать, да глаза сіяющіе, ласковые, счастливые. Но понимала эту улыбку и этотъ нѣмой языкъ глазъ только Дуняша одна и въ выраженіи ямочекъ ея было много нѣжнаго счастья… И Петро, наѣвшись пироговъ и напившись чаю, чтобы завершить блаженное состояніе свое достойнымъ образомъ, усѣлся на солнышкѣ и взялся за свои прискуранты: и на будильники, и на церковныя облаченія, и на охотничьи принадлежности, и на дамское бѣлье, и на велосипеды… А Дуняша, то и дѣло разсыпаясь счастливымъ смѣхомъ, разсказывала Марьѣ Семеновнѣ о томъ, какъ Петро искалъ сегодня ночью кладъ. Марья Семеновна неодобрительно слушала: въ ней жило врожденно-уважительное отношеніе къ нечистой силѣ и никакого легкомыслія она въ этой области не допускала. — А у тебя что юбка-то на солнышкѣ виситъ, чуть не до пояса мокрая? — вдругъ строго взглянула на разсказчицу Марья Семеновна. — Или и ты тоже клада по лѣсу искала? — Я?! — вспыхнула Дуняша. — Что это вы, Марья Семеновна? Я только кругъ дома разъ, другой обошла… Скажете тоже… Марья Семеновна выразительно погрозила ей пальцемъ: — Смотри у меня, дѣвка!XVII. — ЗМѢЙ
Въ знойномъ сіяніи быстро сгорали одинъ за другимъ лѣтніе, яркіе дни. Былъ уже августъ. Въ зелени деревьевъ уже мелькалъ мѣстами золотой листъ, улетѣли уже стрижи — они всегда убираются первыми, — и стабунились, готовясь къ отлету, ласточки. Тетерева взматерѣли и выпустили косицы. Вода посвѣтлѣла и стала холодной и прозрачной, небо поблѣднѣло и ярче стали звѣзды темными ночами. И вотъ разъ по утру явился къ окну Ивана Степановича чѣмъ-то взволнованный Гаврила и до ушей запачканный черной, пахучей болотной грязью Стопъ. — Ну, Иванъ Степанычъ, низвините, что мѣшаю, а только такой собаки, какъ Стопка, я еще не видывалъ… — сказалъ Гаврила восторженно. — Прямо одно удивленіе, истинный Господь: умна, позывиста, а чутье, чутье — индо глазамъ своимъ просто не вѣришь! Ну, и бекаса въ пойму много вывалило… Иванъ Степановичъ ласково смотрѣлъ на молодого красавца, такъ напоминавшаго ему его славнаго дѣда, Крака II: та же стальная мускулатура, тотъ же крупный ростъ, та же общая красота линій, та же тяжелая умная голова съ нѣсколько свѣтлыми глазами и даже то же темно-красное, немного съѣхавшее на бокъ сѣдло на спинѣ… И было рѣшено сегодня же взять вечернее поле по болотцамъ Ужвы. — Но только и Крака взять надо, — сказалъ Иванъ Степановичъ, которому не хотѣлось измѣнять своему старому испытанному другу. — А то старикъ обидится… Пусть такъ и работаютъ по очереди… — Такъ что… — согласился Гаврила, вполнѣ понимая своего стараго хозяина. — Только этотъ горячиться бы не сталъ… И тотчасъ же начались всегда немножко волнующіе даже старыхъ охотниковъ сборы. Ваня уперся, чтобы ему непремѣнно итти сегодня на охоту вмѣстѣ со всѣми, но такъ какъ въ бекасиныхъ мѣстахъ было топко, то дѣдушка, чтобы утѣшить внука, задумался, чѣмъ бы онъ могъ вознаградить его за отказъ. Чары сине-краснаго карандаша давно уже разсѣялись и огрызокъ его былъ затерянъ, уже погибла вслѣдъ за нимъ цѣлая баночка гумми-арабика въ безплодныхъ попыткахъ склеить удобообитаемый какими-то воображаемыми дядями домикъ, уже надоѣла вѣтряная мельничка, сооруженная Петромъ и безплодно вертящаяся теперь у палисадника, не возбуждая не только удивленія, но даже простого вниманія своего хозяина. Что же придумать еще? Старикъ былъ въ затрудненіи. И вдругъ геніальная мысль осѣніла его голову: какъ могъ онъ забыть такую штуку?! Только вотъ сумѣетъ ли?.. — Ну, идемъ… — рѣшительно сказалъ онъ, взявъ внука за руку. — Попробуемъ…. — А чего, дѣдушка? — Экій ты любопытный, братецъ!.. Увидишь, подожди… Забравъ послѣдній номеръ «Русскихъ Вѣдомостей» съ неснятой еще сѣрой бандеролькой, — Марья Семеновна не читала теперь газетъ, некогда было ей заниматься пустяками: она мариновала грибы, и доваривала варенье изъ яблоковъ, — и только что начатую баночку съ гумми-арабикомъ, дѣдъ съ внукомъ пошли къ Петро и заказали ему тутъ же выстрогать нѣсколько лучинъ поаккуратнѣе и надрать мочала. — Дѣдушка, а что это будетъ? — приставалъ Ваня. — А, дѣдушка? Но дѣдушка не слыхалъ его: онъ вспоминалъ, какъ дѣлается путля, и не могъ вспомнить. Но помнилъ, что это самое важное. — Что? — разсѣянно отвѣчалъ онъ. — Ахъ, братецъ, погоди и безъ тебя умъ за разумъ заходитъ… На тѣнистой терраскѣ, затканной нѣжнымъ розовымъ и лиловымъ вьюнкомъ, гдѣ въ тѣни дремалъ могучій Рэксъ, дѣдъ разложилъ на столѣ «Русскія Вѣдомости», отрѣзалъ отъ нихъ сколько было нужно, наложилъ на бумагу, какъ полагается, густо смазанныя клеемъ лучинки и, выставивъ сдѣланный щитокъ на солнышко, взялся налаживать хвостъ. — А ты чѣмъ канючить, бѣги къ Марьѣ Семеновнѣ, — сказалъ онъ внуку, — и попроси у нея суровыхъ нитокъ, да побольше… Я знаю, у нея ихъ много… Но только побольше, смотри… Взволнованный ожиданіемъ, ребенокъ убѣжалъ и скоро на террассу явилась сама Марья Семеновна, немножко недовольная: она не любила, когда у нея спрашивали изъ ея запасовъ чего-нибудь сразу много. — На что вамъ нитки понадобились? — спросила она, останавливаясь въ дверяхъ. — А вотъ мы змѣй хотимъ съ Иваномъ Сергѣевичемъ запустить… — отвѣчалъ занятый Иванъ Степановичъ. — А какъ онъ оборвется да унесетъ нитки? — У насъ не оборвется… — разсѣянно говорилъ Иванъ Степановичъ. — У насъ, братъ, на-совѣсть, крѣпко… Марья Семеновна недовольно помолчала, постояла, ушла и скоро вернулась съ крошечнымъ клубочкомъ нитокъ. — Да это курамъ на смѣхъ! — возмутился Иванъ Степановичъ. — Нѣтъ, ужъ вы будьте добры, Марья Семеновна, отпустите намъ ниточекъ по совѣсти… — А оборвется? — У насъ не оборвется… Будьте спокойны… Марья Семеновна поколебалась и подала большой клубокъ, который она прятала за спиной. — Вотъ это такъ, это дѣло… Но только вы ужъ оставьте намъ и тотъ, маленькій… — Еще чего вамъ?! — возмутилась Марья Семеновна. — Мнѣ надо мѣшки подъ картошку чинить… — Да вѣдь кы сегодня же возвратимъ вамъ все съ благодарностью…. — Да, возвратите… А если оборвется? — Говорю вамъ: не оборвется… Но Марья Семеновна не уступила и ушла. Щитокъ между тѣмъ уже высохъ на солнышкѣ, Изанъ Степановичъ приладилъ къ нему длинный и тонкій хвостъ и, какъ только взглянулъ онъ на скрещенныя лучинки, такъ вся тайна путли разомъ стала ясна ему. Онъ торопливо дрожащими руками завязалъ, гдѣ было нужно, нитки и змѣй былъ готовъ. Воробей Васька, чирикая на карнизѣ, внимательно смотрѣлъ на всѣ эти приготовленія: онъ былъ чрезвычайно любопытенъ. — А теперь пойдемъ на лужайку, другъ мой… — сказалъ дѣдъ, осторожно вынося свое произведеніе съ террассы и оглядывая небо. Вѣтерокъ былъ не сильный, но ровный… Но нѣкоторое сомнѣніе все же тревожило старика: такъ ли все онъ сдѣлалъ? Полетитъ ли? Если бы змѣй его не полетѣлъ, авторское самолюбіе его пострадало бы, можетъ быть, не меньше, чѣмъ, бывало, при чтеніи какой-нибудь кислой рецензіи на его книгу. — Ну, а теперь, братецъ ты мой, надо опять итти на поклонъ къ Петро… — сказалъ онъ, стоя весь залитый солнцемъ, посрединѣ луга, со змѣемъ въ рукахъ. — Я бѣгать ужъ не мастеръ, а ты, пожалуй, съ дѣломъ не справишься… Весь разгорѣвшійся отъ нетерпѣнія, Ваня съ крикомъ «Петро! Петро!.. Скорѣе!..» полетѣлъ къ службамъ и скоро улыбающійсяПетро уже держался за длинную нитку, Ваня набожно, съ испуганнымъ, ожидающимъ лицомъ поднялъ надъ головой змѣя, а Иванъ Степановичъ отдавалъ послѣднія распоряженія. — Ну… — торжественно поднялъ онъ руку вверхъ. — Разъ… два… три! Ваня отпустилъ щитокъ, Петро, громыхая сапогами, бросился впередъ и змѣй красиво и плавно поплылъ вверхъ. Иванъ Степановичъ заволновался. — Стой! Стой, Петро!.. — крикнулъ онъ. — Такъ… Не спускай нитку, — погоди, онъ вышины наберетъ… Постой я самъ…. Торопливо подошелъ онъ къ Петро, ревниво взялъ у него изъ рукъ нитку и сталъ постепенно отпускать ее. Вверху вѣтеръ оказался посвѣжѣе и змѣй, весело покачиваясь изъ стороны въ сторону, одновременно и отдалялся, и поднимался, пріятно натягивая нитку и унося ввысь, къ опаловымъ, тающимъ облакамъ и конецъ строгой передовицы по финансовымъ дѣламъ, и телеграммы, и два столбца фельетона, не говоря уже объ объявленіяхъ. Ласточки, куры, индѣйки, голуби, полагая что это какой-то новый, еще незнакомый врагъ, тревожно заметались по двору. Воробей Васька — хотя онъ своими глазами видѣлъ изготовленіе змѣя, — тоже чрезвычайно тревожился: онъ вертѣлся по карнизамъ и кричалъ: «живъ… живъ… живъ…», но видно было, что душа его уходитъ въ пятки…. Ваня, присѣвъ отъ восторга, пронзительно визжалъ, а на крыльцѣ, улыбаясь, стояла Марья Семеновна и Дуняша съ сіяющимъ мѣднымъ тазомъ въ рукѣ. Торжество было полное, тѣмъ болѣе значительное, что оно было нѣсколько неожиданно. — Дѣдушка, дай же мнѣ подержать!.. — нылъ Ваня. — Погоди, братецъ мой… — отвѣчалъ дѣдъ, пріятно испытывая напряженіе нитки, точь-въ-точь, какъ это было полвѣка назадъ… — Успѣешь… И смотри, не упусти, а то намъ Марья Семеновна такого перцу за нитки задастъ, что не возрадуешься… На, держи… Да крѣпче! Ваня восхищенными глазами смотрѣлъ на новое чудо жизни, возникшее изъ несложной комбинаціи «Русскихъ Вѣдомостей», лучины, клея и мочалъ, но еще болѣе восхищенъ онъ былъ, когда дѣдушка, вспомнивъ и это, послалъ змѣю по упругой дугѣ нитки перваго бьленъкаго «посланника». Но тутъ Марья Семеновна настойчиво позвала обѣдать: она неаккуратности не допускала. И, когда всѣ трое усѣлись за столъ и Иванъ Степановичъ, выпивъ обычную рюмку холодной водки, закусилъ маринованнымъ грибкомъ, Марья Семеновна простодушно спросила: — Ну, какъ свѣжіе грибки-то? Ничего? — Великолѣпны… весело отвѣчалъ Иванъ. — Великолѣпны — весело отвѣчалъ Иванъ Степановичъ, все еще переживая свое торжество со змѣемъ. — Лучше и желать грѣхъ… — А вы говорите: Лисьи Горы… — сказала Марья Семеновна, довольная. — А это все съ моихъ мѣстъ, съ ближнихъ… Какіе же они трухлявые? — Позвольте! Я не говорилъ «трухлявые»… — живо возразилъ Иванъ Степановичъ. — Не говорилъ! Я говорилъ, что тамъ, на горахъ, грибъ боровой, крѣпкій, а здѣсь низинный, слабый, — кто же этого не знаетъ?! А что эти замѣчательны, не спорю… Я даже по этому поводу еще рюмочку выпью… Марья Семеновна, довольная, не стала спорить. Она радовалась удачнымъ грибамъ и жалѣла, что мало только намариновала ихъ. Ну, да впереди еще много ихъ будетъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно будетъ и на «Лисьи Горы» еще съѣздить… Послѣ обѣда Ваня сразу ринулся къ змѣю, оставленному подъ охраной Петро, Марья Семеновна стала тутъ же, около мальчика, примащиваться варить яблочное варенье, Сергѣй Ивановичъ ушелъ къ себѣ дописывать свою статью для «Вѣстника Лѣсоводства» — что-то не ладилась она! — а Иванъ Степановичъ прилегъ отдохнуть. Въ три часа, оставивъ свое варенье, — а какое оно выходило! — Марья Семеновна начала, какъ обычно, усиленно передвигать стулья въ передней и ронять нечаянно щетку съ полки. Иванъ Степановичъ умылся, выпилъ наскоро два стакана чаю, съ помощью Марьи Семеновны облачился въ свои охотничьи доспѣхи и, взявъ своего стараго Франкотта, вышелъ на крыльцо, гдѣ его ждалъ уже совсѣмъ готовый сынъ съ «Гленкаромъ» и Гаврила съ «Краномъ» и «Стопомъ». Собаки, увидѣвъ стараго хозяина, засѣменили ногами, стали нервно и громко зѣвать, а «Стопъ» сердито залаялъ, что все идетъ такъ медленно. «Рэксъ» стоялъ на террассѣ и печально смотрѣлъ на эти сборы. Знакомая штука! Сейчасъ начнется бѣснованіе этихъ вертлявыхъ собаченокъ по грязному болоту, непріятный трескъ выстрѣловъ и опять бѣснованіе — придумаютъ же такую чепуху! И, вздохнувъ, «Рэксъ» печально побрелъ на свой половичекъ, покружился, легъ, почавкалъ губами и закрылъ глаза… Охотники, пріятно возбужденные, веселые, спустились къ рѣкѣ и на своей пахнущей смолой лодкѣ поѣхали на ту сторону. Собаки отъ нетерпѣнія дрожали мелкой дрожью и глаза ихъ уже загорѣлись зеленымъ огнемъ. А надъ задумчивой лѣсной рѣкой сіялъ золотой августовскій день и яркими свѣчечками горѣли вдали надъ зубчатой стѣной лѣса кресты монастыря. Лодка тупо ткнулась въ мокрый песокъ. — Ну, кто куда? — Вы идите направо, а я туда… — кивнулъ Сергѣй Ивановичъ въ сторону далекаго монастыря. — Лучше бы наоборотъ… — сказалъ отецъ. — Сюда бекаса больше будетъ, а я сталъ, братъ, уже стрѣлокъ горевой… Но Сергѣй Ивановичъ настаивалъ на своемъ: все равно, пусть «Стопъ» позабавится, какъ слѣдуетъ, а онъ, можетъ, въ «Угоръ» заглянеть. И какъ только, пожелавъ по обычаю другъ другу «ни шерсти, ни пера», охотники разошлись, Гаврила задумчиво замѣтилъ: — А у Сергѣя Иваныча на душѣ большая забота какая-то… — Ну? Почему ты такъ думаешь? — Да вы поглядите, то и дѣло съ охоты съ пустой сумкой приходитъ… Да и стрѣляли-то они развѣ раньше такъ, какъ теперь? Нѣтъ, что-то грызетъ ихъ… — Да что же у насъ въ лѣсу можетъ грызть? Живемъ, какъ въ скиту… — Можетъ, по супругѣ тоскуютъ… — тихо сказалъ Гаврила. Они подошли къ первой, узкой и длинной, мочежинѣ. — Надо спускать, Иванъ Степанычъ… — Съ Богомъ… Гаврила спустилъ «Стопа». «Иракъ» понялъ, что его еще не пустятъ теперь, подъ атласной кожей его прошла напряженная дрожь и лицо стало грустно. А «Стопъ» потрещалъ ушами, вывалялся въ травѣ и съ еще болѣе зелеными глазами снова сталъ лаять на хозяина. — Ну, что ты, дурачокъ, шумишь? — ласково говорилъ старикъ. — Начать хочется скорѣе? Ну, начинай… Впередъ! Неслышными машками, едва касаясь земли своими стальными ногами, Стопъ понесся по зеленому потному лугу, чуть поднявъ красивую голову, чтобы взять вѣтра. Воздухъ былъ полонъ цѣлыми потоками всякихъ запаховъ, но это были не тѣ запахи, которыхъ было нужно. И, круто завернувъ, онъ понесся въ другую сторону. Оба охотника восхищенно слѣдили глазами за прекраснымъ животнымъ. «Стопъ» летѣлъ, восторженный и буйный, летѣлъ, какъ на крыльяхъ и вдругъ его точно молніей съ яснаго неба сразило: въ одно мгновеніе въ воздухѣ онъ разомъ перемѣнилъ направленіе и точно вросъ въ землю, точно окаменѣлъ, чуть приподнявшись на переднихъ ногахъ, завернувъ правое ухо и зелеными горячими глазами глядя въ даль. — Надо поаккуратнѣе… — низкимъ голосомъ сказалъ Гаврила. — Что-то строгъ бекасъ, — должно, отава низка… Они осторожно подошли къ собакѣ. «Стопъ» испуганно покосился на нихъ своимъ раскаленнымъ взглядомъ, напряженная дрожь прешла по его батистовой кожѣ и онъ, едва переступая ногами, чуть не ползкомъ, то и дѣло замирая въ чуткихъ стойкахъ, двинулся впередъ и снова окаменѣлъ: онъ, волнующій безмѣрно, былъ совсѣмъ близко, — вонъ, должно быть, въ томъ кустикѣ травы… Иванъ Степановичъ, чувствуя какой-то клубокъ въ горлѣ и дрожь въ рукахъ, изготовился: — Ну, впередъ, впередъ, собачка… — ласково говорилъ онъ. — Впередъ!.. «Стопъ» отвѣчалъ только дрожью: онъ не могъ впередъ, очарованный, скованный, онъ зналъ, что сейчасъ тотъ порвется, но, чтобы сдѣлать удовольствіе хозяину, которому пріятно послушаніе, онъ поднялъ ногу, чтобы сдѣлать еще одинъ шагъ только, какъ вдругъ случилось то очаровательно-страшное, чего онъ и страшно желалъ и боялся: впереди, въ кустикѣ раздался шелковый шорохъ крыльевъ, что-то мелькнуло… Уйдетъ!.. «Стопъ» рванулся впередъ. — «Стопъ»! — строго окрикнулъ его Гаврила. Собака распласталась по землѣ и въ то же время надъ ней грянулъ выстрѣлъ, всегда пріятно завершающій эту гамму страстныхъ переживаній. И какой-то лохматый комочекъ впереди красиво и мягко кувырнулся въ траву. — Дупель! — радостный, сказалъ Гаврила: — Да. Слава Богу, что не промазалъ… — такъ же радостно сказалъ Иванъ Степановичъ, мѣняя патронъ. — Нѣтъ, а собака-то какова! — продолжалъ Гаврила, сіяя и восторженно глядя на своего ученика. — Вы вотъ погодите, какъ онъ себя по бекасамъ покажетъ, на глади… Вѣдь, по первому полю… Миліёна не взялъ бы за такую собаку, глаза лопни! Иванъ Степановичъ блаженно смѣялся. — Вотъ и его дѣдъ такой же былъ… — говорилъ онъ. — Такой же артистъ… Гаврила поднялъ жирнаго дупеля и «Стопу» разрѣшено было встать. Онъ съ наслажденіемъ потыкалъ носомъ и полизалъ еще теплую птицу и страстно гавкнулъ нѣсколько разъ на хозяина: не теряйте же времени! Его огладили, успокоили, снова пустили и снова черезъ нѣсколько минутъ онъ прихватилъ и повелъ — еще воздушнѣе, еще чище… И Иванъ Степановичъ, не спуская глазъ съ собаки, коротко приказалъ Гаврилѣ спустить и «Крака». Гаврила повиновался, хотя это и взволновало его: опытъ съ молодымъ былъ серьезный… Кракъ сразу прихватилъ и поплылъ къ сыну. Тотъ злобно покосился на него: «тише… все дѣло испортишь!..», и старикъ застылъ въ трехъ шагахъ сзади сына… Гаврила почувствовалъ, что его душатъ слезы восторга. Ему было стыдно самого себя, но онъ ничего не могъ съ собой подѣлать… Изъ кочекъ, сочно хрипнувъ, вырвалась одна бѣлая молнія въ одну сторону, другая въ другую, стукнули разъ за разомъ два выстрѣла и одна изъ молній взъерошеннымъ комочкомъ упала въ отаву, а другая съ короткимъ, отрывистымъ хрипомъ бѣшено заметалась въ лазури, исчезая. «Стопъ» уже не посмѣлъ посунуться при взлетѣ бекасовъ впередъ, онъ зналъ, что это строго запрещается, и могучимъ напряженіемъ воли онъ переломилъ свой буйный порывъ и, чтобы не соблазниться, быстро легъ. Онъ уже понялъ и повѣрилъ, что разъ чего отъ него требуютъ, то это къ лучшему и надо это дѣлать. «Кракъ», повеселѣвшій, оживленно вертѣлъ хвостомъ и глядѣлъ на охотниковъ, говоря глазами: «а, что? Вѣдь, и я молодецъ?.. То-то…» Иванъ Степановичъ приласкалъ его и велѣлъ подать бекаса. Старикъ мягко понесся за птицей, а «Стопъ» взволнованно и строго приподнялся: это еще что такое?! Гаврила строго остановилъ его и снова онъ легъ и только удивленно и немножко сердито смотрѣлъ, какъ отецъ съ важностью, немножко кокетничая, подносить хозяину птицу: онъ еще не видывалъ этого… А охотники влажными, радостными глазами смотрѣли другъ на друга, говорили оба вмѣстѣ что-то веселое и пріятное и чувствовали себя самыми закадычными друзьями на свѣтѣ, — этотъ молодой лѣсникъ, никогда не покидавшій лѣсовъ своей губерніи, и этотъ старый писатель, имя котораго было уже въ энциклопедическомъ словарѣ и портреты печатались на открыткахъ. — Нѣтъ, еще повоюемъ, видно… — говорилъ Иванъ Степановичъ и дребезжалъ старческимъ смѣхомъ. — Повоюемъ еще… — А у Сергѣя Иваныча еще ни одного выстрѣла… — замѣтилъ Гаврила. — Нѣтъ, грызетъ ихъ что-то, грызетъ… Батюшки, что это тамъ летитъ? Высоко въ вечерѣющемъ небѣ странно порхалъ какой-то огромный, бѣлый не то мотылекъ, не то птица. Дальнозоркій Иванъ Степановичъ всмотрѣлся. — А вѣдь это нашъ змѣй! — вдругъ испуганно ахнулъ онъ. — Значитъ, либо упустилъ, либо оборвался… И достанется же теперь намъ отъ Марьи Семеновны за нитки!.XVIII. — СКАЗКА ПРО БОЛЬШОГО ПѢТУХА
«Гленкаръ» потянулъ и сталъ. Опытный песъ отлично зналъ, что на мочежинѣ передъ нимъ цѣлая стайка бекасовъ и что хозяинъ сдѣлаетъ сейчасъ одинъ изъ своихъ великолѣпныхъ дублетовъ, отъ которыхъ всегда дѣлается такъ весело на душѣ и вся жизнь представляется широкимъ, солнечнымъ, зеленымъ и пахучимъ праздникомъ… Онъ осторожно покосился — хозяинъ съ ружьемъ на плечѣ, повѣсивъ голову и не обращая на него никакого вниманія, шелъ лугами дальше. Это было очень рѣдко, такое невниманіе къ дѣлу, но это было непріятно всегда. «Гленкаръ» понялъ, что надо доложить. Одно мгновеніе онъ поколебался, а потомъ неслышной красной тѣнью понесся къ хозяину, забѣжалъ впередъ и, усиленно вертя хвостомъ, ласково посмотрѣлъ ему въ глаза. Правда, Сергѣй Ивановичъ и всегда понималъ аннонсъ слабо — люди вообще часто бываютъ очень безтолковы, — и теперь онъ только разсѣянно поласкалъ собаку и пошелъ дальше. Нетерпѣливый «Гленкаръ» возмутился и, отлетѣвъ въ сторону, сдѣлалъ стойку такъ, впустую. Хозяинъ замѣтилъ на этотъ разъ и приготовился. «Гленкаръ» быстро повелъ туда, къ мочежинѣ, до которой, однако, было не меньше полутораста шаговъ. Сергѣй Ивановичъ недоумѣвалъ — что-то ужъ очень долго ведетъ… — Э-э, врешь, старикъ! — съ неудовольствіемъ сказалъ онъ. — Это ты по утреннимъ набродамъ, должно быть, ведешь… Стыдно, братъ, брось! И, закинувъ ружье за спину, онъ рѣшительно повернулъ обратно. «Гленкаромъ» овладѣло отчаяніе. Онъ понесся къ мочежинѣ, разогнало всѣхъ бекасовъ, но и этого хозяинъ не замѣтилъ. Тогда «Гленкаръ» споролъ дупеля, споролъ коростеля и съ лаемъ сталъ гоняться за жаворонкомъ. — Да ты что, сбѣсился, что-ли? — удивился хозяинъ. — Иди назадъ… «Гленкаръ», полный мрачнаго отчаянія, уныло повѣсивъ уши и хвостъ, поплелся за хозяиномъ. Все въ жизни опротивѣло ему… Не лучше было и на душѣ хозяина. Онъ не видѣлъ и не слышалъ ничего, — ни широкой, зеленой поймы, гдѣ такъ пряно пахло то старымъ листомъ, то болотомъ, то стогами, ни любимаго имъ лѣса, синей тучей затянувшаго всѣ горизонты, ни горя любимой собаки… Онъ видѣлъ только одно: тонкій овалъ склоненнаго милаго лица, всю эту закованную въ черную рясу стройную дѣвичью фигуру, это едва уловимое мерцаніе длинныхъ рѣсницъ, закрывшихъ прелестные глаза и — старинную, крѣпкую монастырскую стѣну, о которую безнадежно бились теперь волны его жизни. И черная мантія монахини, какъ холодная ночь, окутала собой весь солнечный, привольный міръ… Объ охотѣ онъ и не думалъ. Въ немъ жила смутная надежда, что онъ какъ-нибудь, хоть издали, хоть на мигъ одинъ, хоть глазами только скажетъ ей, какъ безгранично онъ любитъ ее. И было немножко жутко: а вдругъ замѣтятъ это другіе? Онъ сталъ такъ часто бывать въ этой сторонѣ… Даже не выстрѣливъ ни разу, дошелъ онъ до монастырскаго парома. Шураль, молча, чуть позванивая своими веригами, перевезъ его на ту сторону и онъ берегомъ пошелъ въ монастырскія пожни, гдѣ въ изобиліи водились тетерева. «Гленкаръ» оживился, сунулся безъ спроса въ мелоча, быстро отыскалъ выводокъ, — уже большіе, сильные, бѣгутъ… — но Сергѣй Ивановичъ опять не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія. Полный злобы на непонятное, полный отчаянія, «Гленкаръ» взорвалъ выводокъ. Громъ крыльевъ заставилъ Сергѣя Ивановича встрепенуться и схватиться за ружье. Одинъ молодой чернышъ съ наряднымъ бѣлымъ подхвостьемъ и съ красными бровями нарвался на него, отъ перваго выстрѣла коломъ пошелъ вверхъ, а отъ второго, сложивъ вдругъ крылья, красиво упалъ въ густой ягодникъ, гдѣ они только что кормились. Сергѣй Ивановичъ разсѣянно полюбовался нарядной птицей, положилъ ее въ сумку и, побранивъ «Гленкара» за сорванный выводокъ, приказалъ ему снова итти у ноги… И вдругъ Сергѣй Ивановичъ окаменѣлъ: на опушкѣ молодого березняка, въ десяти шагахъ отъ него, съ небольшимъ кузовкомъ въ рукахъ, изъ котораго теперь сыпались на траву грибы, въ черномъ платочкѣ, испуганная, прекрасная, стояла — Нина!.. Что дѣлать? Бѣжать? Поклониться и пройти?.. Сказать разомъ все, а тамъ будь что будетъ?.. У него закружилась голова… А чрезъ полянку сіяли на него милыя, голубыя звѣзды, испуганныя и — Боже мой, да не сонъ ли это?! — какъ будто зовущія!.. — Ау!.. — послышался на пожнѣ свѣжій дѣвичій голосъ. — Ау!.. — отозвался ему другой, дальше. Онъ понялъ, что, можетъ быть, года не представится ему такого случая, что въ эту минуту рѣшается, можетъ быть, вся его жизнь и онъ, не чувствуя себя, весь въ горячемъ туманѣ, шагнулъ къ ней. Она, точно защищаясь отъ удара, закрыла лицо руками. — Простите… Не пугайтесь… — умоляюще сказалъ онъ. — Это, конечно, страшная дерзость съ моей стороны… кощунство… но я не могу больше молчать… Я… измученъ… Я люблю васъ безумно… Я безъ васъ умру… — Ау! — раздалось въ перелѣскѣ. — Ау! — отозвалось дальше. — Боже мой!.. — прошептала она и, собравъ силы, крикнула: — Ау!.. Уйдите, уйдите, уйдите… — зашептала она, сжимая его руки и не пуская его. — Это ужасно… Уйдите… И, вдругъ откинувъ голову, она, въ упоеніи, мгновеніе, другое смотрѣла на него, оглушеннаго предчувствіемъ огромнаго счастья, и вдругъ обняла его, прижалась къ нему, точно ища у него защиты отъ него же… — Милая… радость моя… счастье мое… Нина… — Ау! — раздалось неподалеку. — Ау!.. — послышалось дальше. — Ау!.. Она оторвалась отъ него и зашептала: — Уходи, уходи скорѣе… Въ старой соснѣ… въ дуплѣ… надъ Гремячимъ Ключемъ… будетъ завтра письмо… У часовни… Иди, иди… — Ау!.. Она порывисто обняла его, исчезла со своимъ кузовкомъ въ кустахъ и тотчасъ же оттуда прозвенѣлъ ея чистый, дрожащій отъ волненія голосокъ: — Вотъ я… Ау!.. Неподалеку, среди бѣлыхъ березокъ, мелькнуло черное платье одной изъ сестеръ. Сергѣй Ивановичъ торопливо отступилъ въ чащу и, шатаясь, ничего не видя, пошелъ дальше. Оставаться тутъ было нельзя, но мучительно было и уходить, когда она вотъ тутъ, за этой зеленой стѣной. И вдругъ въ вешней грозѣ его души точно клочекъ лазури засіялъ: завтра… въ дуплѣ… около часовни… И онъ испугался: а вдругъ онъ этого дупла не найдетъ и снова оборвется этотъ зыбкій, только что наведенный чрезъ пропасть между нимъ и ею мостъ?! И онъ торопливо зашагалъ къ старой часовнѣ, а сзади его по веселой пожнѣ пѣвуче перекликались дѣвичьи голоса: ау… ау… ау… Старенькая, сѣренькая часовенка стояла поодаль отъ монастыря, надъ свѣтлымъ говорливымъ Гремячимъ Ключемъ, который, играя по каменистому дну, падалъ тутъ въ Ужву. Неподалеку отъ часовни стояла старая, обожженная молніей сосна, распластавъ свои опаленные, узловатые сучья по небу. И въ этой мертвой соснѣ и въ дикомъ, немножко сумрачномъ оврагѣ, и въ этой ветхой часовенкѣ со старинными суровыми образами было много какой-то тихой печали, но, должно-быть, за эту-то печаль и любили ихъ скорбящіе люди; отовсюду къ часовенкѣ змѣились лѣсомъ тропы… И какъ только вышелъ Сергѣй Ивановичъ изъ пожней къ старой соснѣ, такъ сразу увидалъ овальное отверстіе, которое выдолбила въ могучемъ стволѣ мертваго великана красноголовая желна. Онъ осмотрѣлся вокругъ и, видя, что никого нѣтъ, подошелъ къ соснѣ и, дѣлая видъ, что осматриваетъ ее, осторожно просунулъ руку въ дупло. Тамъ было сухо и пахло древесной прѣлью. Значитъ, завтра, здѣсь… И вспыхнуло въ немъ горячее желаніе еще и еще сказать ей о своей любви и онъ, снова отойдя въ лѣсокъ, сѣлъ на старый пень и, вырвавъ изъ записной книжки нѣсколько листковъ, сталъ торопливо покрывать ихъ узорнымъ, огневымъ бредомъ своей любви… И онъ положилъ ихъ въ дупло, и, снова отойдя въ лѣсъ, легъ и сталъ, не спуская глазъ съ монастырской тропки, ждать: а вдругъ она придетъ еще сегодня? Но часъ проходилъ за часомъ, а дѣвушки не было. Онъ представлялъ себѣ, какъ вошла она въ свою келійку, какъ… но онъ не зналъ хорошо чина монастырской жизни и путался, воображая себѣ, что въ данный моментъ она можетъ дѣлать. И скрылось солнце за лѣсомъ, и потухла яркая, по осеннему, заря, и четко вырѣзался въ темномъ небѣ алмазный серпикъ молодого мѣсяца, и печально прозвонилъ, вѣщая что-то, монастырскій старый колоколъ… Значитъ, до завтра… И, печальный, онъ медленно пошелъ лѣсомъ къ дому — того, что было въ пожняхъ, уже было мало ненасытному сердцу, хотя воспоминаніе объ этомъ и зажигало душу ослѣпительнымъ пожаромъ счастья. Онъ подошелъ въ темнотѣ къ избѣ Гаврилы и сдалъ ему ружье для промывки и совсѣмъ разстроеннаго «Гленкара». — Ну, какъ, Сергѣй Ивановичъ, съ полемъ? — Нѣтъ, плохо что-то… Вотъ только одного черныша и взялъ… — отвѣчалъ тотъ и пошелъ домой. Гаврила только головой покачалъ, — скушно ему было все это, — и, покормивъ «Гленкара», повелъ его на покой. Собаки встрѣтили его зѣвками и стукомъ хвостовъ по полу и по удовлетворенному сіянію ихъ глазъ въ сумракѣ, по самому запаху ихъ, «Гленкаръ» узналъ, какъ чудесно провели они этотъ день и, ложась на солому, онъ тяжело вздохнулъ: есть же вотъ, вѣдь, счастливыя собаки на свѣтѣ! Сергѣй Ивановичъ снялъ около кухни грязные сапоги и неслышно прошелъ къ себѣ. Въ столовой ждалъ его холодный ужинъ, но онъ лишь жадно выпилъ три стакана парного молока и, привернувъ лампу, прошелъ въ свою комнату. Онъ вернулся въ нее не тѣмъ человѣкомъ, какимъ вышелъ изъ нея нѣсколько часовъ тому назадъ. Прислушиваясь къ тому, что дѣлается у него въ душѣ, онъ остановился у широко раскрытаго окна. Изъ садика пахло доцвѣтающими на клумбахъ цвѣтами и съ терраски слышался голосъ отца, неторопливо разсказывающаго что-то внуку. — Нѣтъ, ты разскажи лучше, какъ ты былъ маленькимъ… — уже сонно проговорилъ мальчикъ. — Ну, это, братъ, музыка длинная… — сказалъ дѣдъ. — Ну, вотъ, на закуску разскажу я тебѣ, пожалуй, про большого пѣтуха… — Живого? — А вотъ слушай… — сказалъ дѣдъ и началъ: — Было это въ Москвѣ, когда мнѣ было лѣтъ пять-шесть, кажется, — такой же вотъ, какъ и ты, фруктъ былъ… А Москва, братецъ ты мой, это большущій городъ, все дома, дома, дома — конца-краю нѣтъ, а между домами, по каменнымъ улицамъ съ утра и до утра бѣгаютъ люди, бѣгаютъ и бѣгаютъ, безъ конца, безъ устали… — Зачѣмъ? — спросилъ Ваня. — Это, братъ, и сами они не всегда знаютъ, но бѣгаютъ… — отвѣчалъ старикъ. — Да… И не далеко отъ того дома, въ которомъ я жилъ, была крошечная, поганая лавченка въ одно окно. Тамъ продавался и линючій ситецъ, и тетради, и пуговицы всякія, и дешевыя гармошки, и булавки, и переводныя картинки, и наперстки, — прямо всего и не перечтешь… И часто, гуляя съ моей няней, Александрой Федоровной, проходилъ я мимо этого окна и подолгу, остановившись, разсматривалъ выставленныя тамъ сокровища. Но всего прекраснѣе казался мнѣ выставленный тамъ картонный, изъ папье-маше, пѣтухъ. Онъ былъ очень великъ, необыкновенно ярко раскрашенъ и имѣлъ видъ гордый и независимый. Имѣть такого пѣтуха казалось мнѣ верхомъ человѣческаго счастья, но по справкамъ, увы, оказалось, что стоитъ онъ тридцать пять копеекъ, сумма по тѣмъ временамъ огромная, которою мы съ няней не располагали. И я ходилъ къ моему пѣтуху на поклоненіе каждый день и одна только забота мучила меня: какъ бы кто его не купилъ. И вотъ разъ, дѣйствительно, какъ разъ наканунѣ моихъ именинъ, пѣтухъ мой съ окна исчезъ. Ударъ для меня былъ, братецъ ты мой, страшный, вся жизнь померкла для меня и даже завтрашнія именины не радовали меня. Д-да… Но когда я на утро проснулся, смотрю и не вѣрю своимъ глазамъ: у кроватки моей, на столикѣ, стоитъ мой желанный пѣтухъ, красный, синій, желтый, зеленый, всякій, гордый и независимый, какъ всегда. Я забылъ все и бросился къ нему. Онъ былъ совсѣмъ не тяжелъ, отъ него восхитительно пахло клеевой краской и, если прижать нижнюю дощечку, на которой онъ стоялъ, онъ кричалъ, коротко, совсѣмъ не по-пѣтушиному, но внушительно басисто. Я не помню, какъ я умылся, одѣлся, какъ шелъ въ церковь къ обѣднѣ. Я былъ полонъ мечтою о своемъ сокровищѣ, которое ожидало меня дома, и за обѣдней я, конечно, молился своей маленькой душой не столько Богу, сколько моему прекрасному пѣтуху. Я торопливо вернулся домой, разсѣянно выслушалъ скучныя поздравленія близкихъ и понесся къ своему пѣтуху. Меня чрезвычайно интересовало происхожденіе его баса. Я поковырялъ пальцемъ, гдѣ нужно, поковырялъ няниными ножницами, а потомъ отодралъ нижнюю дощечку: тамъ оказался какой-то дрянной пищикъ. Я и его расковырялъ. И въ немъ ничего такого особеннаго не было. Это меня озадачило. Очевидно, тайна этого осанистаго баса и вообще всего этого очарованія была внутри самого пѣтуха, — можетъ быть, въ этой молодецкой, сизо-багрово-пламенной груди. Я продолжалъ свое изслѣдованіе дальше, — въ груди оказалась пустота. Это меня еще болѣе поразило и я разломилъ петуха на-двое — в гордомъ, блистательномъ пѣтухѣ ничего не было! Онъ весь былъ пустой… — Ну, и что же дальше? — спросилъ мальчикъ соннымъ голосомъ. — Дальше? Ничего… Это все. Останки пѣтуха няня бросила въ печку, а меня долго бранила, называя и глупымъ, и неблагодарнымъ, и не знаю еще какъ… Ей было очень обидно, потому что пѣтухъ былъ ея подарокъ мнѣ. Такъ-то вотъ, братецъ ты мой… Мальчикъ молчалъ. Нѣтъ, сказки дѣда ему не нравились. Ему казалось, что дѣдъ разсказываетъ ихъ не столько ему, сколько себѣ. И убѣжденно онъ сказалъ: — Нѣтъ, Марья Семеновна разсказываетъ лучше… — А про что же она тебѣ разсказываетъ? — Про Ивана-царевича, про сѣраго волка, про жаръ-птицу… — Да вѣдь и я разсказывалъ тебѣ, братецъ, про жаръ-птицу, — только по другому немножко… — сказалъ дѣдъ. — Эхъ-ты, голова!.. Идемъ-ка лучше спать… О-хо-хо-хо… Да, вотъ когда я помру, а ты вырастешь большой, такъ иногда, когда встрѣтишь ты въ жизни какого-нибудь эдакого большого пѣтуха, вспомни, братъ, своего дѣда… Снаружи они всѣ, братъ, жаръ-птицы, а внутри — нѣтъ ничего… Такъ то вотъ… Пойдемъ… Рэксъ сталъ и благодарно лизнулъ руку стараго хозяина: такіе вотъ тихіе семейные вечера онъ любилъ. Правда, она понималъ не все, что говорили люди между собой, но такъ сладко было дремать въ прохладѣ подъ это тихое журчанье словъ человѣческихъ. А что онѣ значатъ, — не все ли это, въ концѣ концовъ, равно? Дѣдъ съ Ваней ушли. А Сергѣй Ивановичъ все стоялъ у темнаго окна, дышалъ душистой ночной свѣжестью и душа его была далеко: онъ не понялъ сказки про большого пѣтуха…XIX. — СХИМНИЦА
Ночью Иванъ Степановичъ спалъ своимъ обычнымъ легкимъ старческимъ сномъ, и сновъ никакихъ особенныхъ не виделъ, и ничего особеннаго не болѣло, и думъ никакихъ особенныхъ не было, но когда утромъ, на зорькѣ, онъ проснулся, онъ вдругъ съ несомнѣнностью почувствовалъ, что въ жизни его за ночь произошла какая-то огромная перемѣна. И вся такая обычная комната его, и портретъ любимой дочурки, которая улыбалась ему изо ржи, и его бумаги, надъ которыми онъ прожилъ всю свою жизнь, и эта милая синяя пустыня лѣса, все точно отодвинулось отъ него куда-то въ даль, точно стало уже чуть-чуть чужимъ, точно перешло въ какой-то другой, уже не его, міръ. Безъ словъ, но ясно онъ понялъ, что пружина его жизни, раскручиваясь, подошла къ концу. Онъ не испугался, не опечалился, а только весь исполнился какою-то новою, свѣтлой важностью. И когда изъ-за лѣса долетѣлъ до него чистый звукъ монастырскаго колокола, онъ подумалъ, что хорошо бы зажечь лампадочку… Онъ тихо умылся, одѣлся, но гулять, какъ обыкновенно, не пошелъ, а сѣлъ за столъ и сталъ перебирать свои бумаги, но вскорѣ отодвинулъ въ сторону и ихъ и написалъ коротенькое письмо Софьѣ Михайловнѣ, женѣ. Марья Семеновна услыхавъ, что хозяинъ проснулся, но не выходитъ, встревожилась, не нездоровъ ли онъ, и, осторожно постучавшись, вошла. Иванъ Степановичъ ласково поздоровался съ ней, успокоилъ, чтовсе у него въ порядкѣ, что съ удовольствіемъ выпьетъ онъ вотъ сейчасъ кофейку, но и въ глазахъ его, и въ звукахъ голоса, и во всемъ она почувствовала что-то новое, пугающее: точно онъ оторвался отъ всего, точно онъ куда-то пошелъ. И, едва выйдя отъ него, она горько расплакалась, а потомъ немного справилась съ собой и съ красными, то и дѣло туманящимися слезой глазами принялась за свои обычныя дѣла. Она никому ни слова не сказала о томъ, что она замѣтила, но весь домъ скоро исполнился тишины и торжественности… Она неслышно убрала его комнату, а потомъ принесла ему кофе и поставила его на обычное мѣсто. И Иванъ Степановичъ этимъ новымъ, спокойнымъ, точно матовымъ голосомъ, сказалъ ей: — Вотъ это письмо надо послать Софьѣ Михайловнѣ… А потомъ, когда Сережа позавтракаетъ, надо попросить его зайти ко мнѣ… А про письмо лучше ему не говорить… — Хорошо…. — тихо сказала Марья Семеновна и вдругъ лицо ея искривилось и изъ глазъ закапали слезы. Иванъ Степановичъ замѣтилъ это и спокойно, по новому, сказалъ: — Э-э, нѣть…. Зачѣмъ это, Марья Семеновна? Всякому овощу свое время… А вотъ лампадочку хорошо бы мнѣ зажигать каждый день — съ ней потеплѣе. А? Марья Семеновна взяла письмо, и, давясь рыданіями, вышла. А старикъ разсѣянно взялся за кофе, а потомъ снова сталъ перебирать бумаги, чтобы потомъ имъ было легче во всемъ разобраться. Скоро вошелъ Сергѣй Ивановичъ въ охотничьемъ снаряженіи — чтобы скоротать мучительный день, онъ рѣшилъ промять гончихъ. Утро было тихое, туманное, влажное — гонъ будетъ великолѣпный…. — Нѣть, Сережа, сегодня я ужъ не пойду… — сказалъ старикъ. — А ты вотъ присядь минутъ на десять — поговорить мнѣ съ тобой надо…. Да… Вотъ такъ… Видишь ли, милый, я уже старъ и надо мнѣ готовиться къ неизбѣжному, такъ вотъ и хочется мнѣ посвятить тебя въ мои послѣднія распоряженія. Нѣтъ, нѣтъ, не тревожься, я нисколько не боленъ и поживу еще съ вами немножко, но я всегда любилъ въ жизни аккуратность и порядокъ. Такъ вотъ, голубчикъ, въ этомъ конвертѣ мое духовное завѣщаніе. Въ немъ извѣстная сумма отчислена въ пользу Литературнаго Фонда — нельзя, надо своей братіи помогать. Затѣмъ кое-что въ пользу нашего монастыря, гдѣ я провелъ столько хорошихъ минутъ и гдѣ я буду отдыхать. Затѣмъ есть даръ Марьѣ Семеновнѣ, которая столько лѣтъ служила мнѣ и вамъ. И я очень прошу тебя оставить ее въ домѣ — мало ли въ жизни чего бываетъ? А человѣкъ она преданный, вѣрный… Это всегда большая рѣдкость… Затѣмъ, есть кое-что для всѣхъ нашихъ лѣсниковъ, а въ особенности для Гаврилы и Петро. Пусть поминаютъ… Да… Ну, а остальное мамѣ и всѣмъ вамъ поровну… Вы всѣ молодцы, работать умѣете, а мои книжки будутъ вамъ нѣкоторымъ подспорьемъ. Вотъ, кажется, и все… — Папа, милый, ты тревожишь меня…. — Зачѣмъ тревожиться? Неизбѣжное — неизбѣжно, а порядокъ, брать, хорошая вещь… Ничего, иди съ Богомъ, промни собачекъ… Да, только вотъ еще что: никакихъ телеграммъ въ газеты и никому, кромѣ близкихъ, голубчикъ. Я никогда не любилъ этой шумихи на похоронахъ: смерть дѣло, во всякомъ случаѣ, серьезное и зачѣмъ тутъ… баловаться? А пройдетъ недѣля, другая, пусть тогда нашъ милый Юрій Аркадьевичъ напечатаетъ мой некрологъ: онъ давно ужъ заготовленъ у него…. Ну вотъ…. Теперь, навѣрное, все. Иди, милый, — ни шерсти, ни пера…. Гдѣ думаешь набросить? — Да думалъ въ Ревякѣ… — Прекрасно… Я выйду на крыльцо, послушаю — гонъ сегодня будетъ чудесный…. Ну, иди съ Богомъ… Сынъ, взволнованный, вышелъ, но того, что почувствовала Марья Семеновна, онъ не почувствовалъ: женщины и вообще болѣе чутки въ этомъ отношеніи да и весь онъ былъ поглощенъ своимъ, такимъ неожиданнымъ, такимъ яркимъ и въ то же время такимъ еще неувѣреннымъ счастьемъ. И чувствовалъ онъ, что въ затишьѣ его любимаго лѣса на него вотъ-вотъ сорвется буря, но онъ не боялся ея, онъ звалъ ее… А объ отцѣ онъ подумалъ, что тотъ просто занемогъ немного…. За дверью въ корридорѣ послышалось нетерпѣливое повизгиваніе и этотъ сухой стукъ когтей по полу. Марья Семеновна чуть пріотворила дверь и весело сказала: — Гости пріѣхали къ вамъ, Иванъ Степановичъ… — Ну, ну, пустите… — догадываясь, сказалъ старикъ. Дверь отворилась и въ комнату, оскользаясь по полу, ворвались «Кракъ» и «Стопъ», и заюлили, и запрыгали вокругъ хозяина. «Стопъ» обнюхалъ книги, туфли, стойку съ ружьями, всѣ углы и, сѣвъ на задъ посрединѣ комнаты, уставился на хозяина своими орѣховыми, говорящими глазами. — Что, въ поле хочется? — ласково спросилъ тотъ. — А? «Стопъ» нетерпѣливо гавкнулъ. — Нѣтъ, ужъ сегодня не пойдемъ, хоть и хорошо бы вальдшнеповъ поискать…. Да, братъ, дѣлать нечего…. «Стопъ» жалобно завизжалъ. — Ну, ну, завтра, можетъ быть, и сходимъ… Да… А теперь идите, побѣгайте…. Онъ приласкалъ еще разъ своихъ собакъ и Марья Семеновна почувствовала, что ихъ надо увести: и эта давняя связь порывалась. Жутко было у нея на душѣ и, выманивъ собакъ въ корридоръ, она, стараясь подавить волненіе, сказала: — А въ газетахъ пишутъ, что въ Вѣнѣ, въ этой самой палатѣ-то ихней, опять депутаты страшенный шумъ подняли: кулаками стучали, свистѣли, въ кого-то чернильницей бросили… И что раззоряются эдакъ, не поймешь… — Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало…. — спокойно, не интересуясь, отвѣчалъ старикъ. И Марья Семеновна закрыла дверь, съ тревогой отмѣтивъ, что первый разъ въ жизни старикъ не спросилъ ее о внукѣ. По росистому двору прошли Сергѣй Ивановичъ съ Гаврилой и Петромъ. За ними, поднявъ крутые гоны, трусили на смычкахъ костромичи, черные съ багрянымъ, похожіе на волковъ… И вдругъ большая любовь и къ сыну, и къ лѣсникамъ, и къ собакамъ, и ко всему этому тихому туманному утру вспыхнула въ сердцѣ Ивана Степановича и онъ, умиленный, прослезился. Марья Семеновна снова вошла съ лампадкой и съ особеннымъ, умиротвореннымъ и сильнѣе человѣческимъ лицомъ, которое бываетъ у женщинъ, когда онѣ зажигаютъ лампаду, поставила ее къ образу. И ликъ Спасителя, кроткій, благостный, согрѣлся и сталъ какъ живой и не только комната, но и вся жизнь точно освѣтилась, согрѣлась и стала кроткой и торжественной. — А вы хотѣли собакъ послушать, Иванъ Степановичъ… — сказала она. — Идите, гонятъ… — А-а, это хорошо… — сказалъ онъ тихо. — Съ удовольствіемъ послушаю… Съ помощью ея онъ надѣлъ свой охотничій, на бѣличьемъ мѣху, тулупчикъ, шапку и вышелъ на крылечко. Тамъ его встрѣтилъ Ваня и «Рэксъ» и онъ обоихъ ихъ приласкалъ…. Утро было тихое, тихое, — ни одна вѣточка не шелохнется — и въ этой тишинѣ, внизу, у рѣки, въ туманѣ, стоялъ и не проходилъ какой-то новый, длинный, музыкальный, страстно-дикій стонъ: то паратая стайка костромичей шла въ доборъ по красному. «Рэксъ», прислушиваясь къ кипѣвшей внизу стаѣ, скашивалъ голову то въ одну, то въ другую сторону, и лицо его было строго, а на лицѣ его стараго хозяина выступила и не сходила слабая далекая улыбка: сколько разъ въ жизни волновалъ его до слезъ этотъ дикій, торжествующій лѣсной ревъ! И вдругъ вспомнилось сегодняшнее, ночное, новое; Иванъ Степановичъ сгорбился, точно забылъ все и, тихо задумчивый, вернулся въ свою осіянную лампадой комнату. Марья Семеновна, исподтишка наблюдавшая за нимъ, съ красными глазами ушла въ кладовку. Тамъ стояли ея безчисленныя, разноцвѣтныя, остро и вкусно пахучія баночки и кадушечки съ вареньями, соленьями, моченьями, маринадами, — въ созерцаніи этихъ своихъ богатствъ она всегда находила утѣшеніе, это было ея убѣжищемъ въ минуты смятенія души и скорби… А гончія варомъ-варили въ уже тронутой ржавью осени «Ревякѣ», среди тихихъ, точно остеклянѣвшихъ озеръ, и матерой, еще только что начавшій кунѣть, лисовинъ, распустивъ трубу и вываливъ красный языкъ, безшумно летѣлъ по кустамъ и еланямъ. Охотники не разъ видѣли уже его близко на перемычкахъ, но Сергѣй Ивановичъ приказалъ его не трогать до осени, пока хорошо выкунѣетъ. Сергѣй Ивановичъ лишь въ полъ-уха, не какъ раньше, слушалъ дикую, точно доисторическую, волнующую музыку гона, — его душа тоскующей чайкой вилась вокругъ старой часовни надъ Гремячимъ Ключемъ. И все властнѣе овладѣвала имъ неотвязная мысль: а вдругъ она вотъ сейчасъ, въ эту самую минуту подходитъ къ старой соснѣ — вѣдь онъ можетъ лишній разъ ее увидѣть, можетъ быть, даже говорить съ ней! И все вокругъ точно провалилось куда, онъ не видѣлъ и не слышалъ ничего и, полный смятенія, твердилъ себѣ только одно: нѣтъ, надо итти немедленно… И, наконецъ, глядя въ сторону, — точно ему было совѣстно чего… — онъ сказалъ лѣсникамъ: — Ну, пусть собаки погоняютъ, какъ слѣдуетъ, а потомъ собьете ихъ и къ дому. А я пройду, на питомники посмотрю да и вальдшнепковъ дорогой поищу. Должны бы быть… — Слушаю… — тоже глядя въ сторону, уныло отвѣчалъ Гаврила. — «Вальдшнепковъ поищу»… — уныло повторилъ онъ про себя. — Это безъ собаки-то? О-хо-хо-хо… И, закинувъ ружье за спину, Сергѣй Ивановичъ быстро скрылся въ туманѣ, мягко окутавшемъ лѣсъ. И въ сердцѣ его было только одно: мучительная боязнь опоздать. Скорѣе, скорѣе!.. И вотъ среди мокрыхъ стволовъ старыхъ сосенъ смутно обрисовались въ уже рѣдѣющемъ туманѣ стѣны монастыря. Чтобы не быть замѣченнымъ, онъ сдѣлалъ большой обходъ. И съ тяжкимъ напряженіемъ, мѣшая дышать, забилось въ груди его сердце: неподалеку стояла опаленная старая сосна. Забывъ всякую осторожность, онъ быстро подошелъ къ ней, сунулъ руку въ дупло — бумага! Онъ лихорадочно выхватилъ ее — нѣтъ, это его письмо къ ней! Значитъ, она еще не была… Сзади, у часовни, послышался легкій шорохъ. Онъ быстро обернулся — на порогѣ часовни стояла въ своей черной мантіи съ бѣлыми черепами и костями мать Евфросинія, схимница, и смотрѣла на него своими потухшими, всегда налитыми, какъ свинцомъ, тяжкою неизжитою скорбью глазами…. Онъ оторопѣлъ. — Подите сюда, — мнѣ надо говорить съ вами… — сказала схимница своимъ угасшимъ, шелестящимъ, какъ омертвѣвшая осенью трава, голосомъ и онъ, какъ провинившійся школьникъ, послушно подошелъ къ ней: въ этой черной, угасшей женшинѣ съ бѣлыми черепами на мантіи онъ чувствовалъ какую-то огромную, мистическую силу, которая внушала ему и почтеніе и какую-то жуть. — Бесѣдуя съ вами, я нарушаю данный мною обѣтъ невмѣшательства ни въ какія дѣла міра, — продолжала она. — Но я надѣюсь, что милосердный Господь проститъ мнѣ мой грѣхъ, такъ какъ дѣло идетъ о спасеніи души самаго мнѣ близкаго человѣка. Сядьте… Сергѣй Ивановичъ послушно сѣлъ на старенькую скамеечку у часовни. Она опустилась рядомъ съ нимъ. Отъ нея пахло храмомъ — ладономъ, воскомъ, старыми книгами, — и въ блѣдныхъ, какъ у мертвой, и высохшихъ рукахъ была черная, старая лѣстовка. — Она не придетъ… — тихо сказала схимница, не подымая глазъ. — И не старайтесь ее увидѣть, вы этого не достигнете… Я давно замѣтила тяжелое искушеніе, овладѣвшее ею. Вчера поздно ночью въ щель занавѣски я увидала, что у нея въ кельѣ горитъ огонь, я вошла къ ней; она писала вамъ, рвала написанное и опять писала… Она не могла таиться и открылась мнѣ во всемъ. Я провела съ ней всю ночь въ бесѣдѣ и молитвѣ, а съ утра жду васъ здѣсь, чтобы сообщить вамъ ея рѣшеніе не видѣть васъ больше… Подождите… Я еще не кончила… — безстрастно и печально продолжала монахиня, замѣтивъ его невольное движеніе недовѣрія, боли и протеста. — Можетъ быть, то, что я скажу вамъ, еще болѣе увеличитъ ваши страданія, но я должна сказать вамъ все. Она не приняла еще полнаго пострига, она могла бы совершенно свободно оставить монастырь и итти за вами, но… она сама рѣшила иначе… — Боже мой! — схватился онъ за голову. — И зачѣмъ вы это все сдѣлали? Она подняла на него свои налитые тяжелой скорбью глаза и холодно, размѣренно, точно ударяя по сердцу тяжелымъ молотомъ, сказала: — Нѣсколько лѣтъ тому назадъ пьяные люди, подкравшись ночью къ моему дому, какъ звѣри, подожгли этотъ домъ, въ которомъ былъ мой мужъ и мои дѣти, не сдѣлавшіе имъ никогда никакого зла. И пока домъ горѣлъ… изъ огня слышались крики о помощи… дѣтскіе крики… они бѣсновались вокругъ дома, какъ… я не знаю какъ кто… ни звѣрь, ни дикарь, ни дьяволъ, кажется, неспособенъ на это… И, когда я, какъ безумная, примчалась домой, я нашла отъ всего, что было, только… нѣсколько обгорѣлыхъ костей… Жизнь, въ которой это было, въ которой это можетъ быть всегда, — я такой жизни признать не могла. И я отказалась отъ всего и ушла вотъ сюда, чтобы молиться о нихъ, моихъ дорогихъ, милыхъ, такихъ радостныхъ, такихъ ласковыхъ, и чтобы молиться о тѣхъ, которые погубили ихъ. Да, я нашла въ себѣ силы на это — я молюсь, чтобы Господь помиловалъ ихъ, открылъ имъ глаза на содѣянное ими и привелъ ихъ къ спасенію… И Нину, единственнаго теперь мнѣ близкаго человѣка, отпустить въ этотъ страшный, звѣриный міръ?! И у нея можетъ быть любимый человѣкъ, и у нея могутъ быть дѣти и этихъ дѣтей могутъ у нея замучить, сжечь, убить, осквернить… Нѣтъ! Мы проговорили съ ней всю ночь и Господь укрѣпилъ ея заколебавшуюся душу и удержалъ ее отъ ложнаго шага… Вотъ ея письмо вамъ… И изъ складокъ своей пахучей мантіи она вынула бѣленькую бумажку. Съ болью въ сердцѣ, точно въ туманѣ, Сергѣй Ивановичъ прочелъ:Простите меня за тѣ страданія, которыя я причиняю вамъ. Между нами все кончено. Я навсегда отказываюсь отъ васъ, отъ всего міра, я отдаю себя Богу. Ради Бога, не старайтесь видѣть меня. Нѣтъ, я не могу больше! Простите, простите меня… — Н.Онъ вскочилъ, хотѣлъ закричать этой полумертвой старухѣ что-то злое, оскорбительное, но въ это мгновеніе старый колоколъ величаво пропѣлъ надъ лѣсной пустыней что-то суровое и значительное. Схимница истово перекрестилась. — Можетъ быть, придетъ время и вы будете благодарить меня и благословлять этотъ тяжелый теперь вамъ часъ… — сказала она. — Такъ не тревожьте же покой той, которую вы полюбили любовью земной — полюбите ее теперь любовью божественной! Съ сегодняшняго же дня она вступаетъ на трудный путь приготовленія себя къ пріятію сана иноческаго… Простите меня… — низко поклонилась она ему. — Знаю, больно, тяжело вамъ, но эти страданія скоро проходятъ… Подумайте крѣпко о томъ, что я вамъ сказала, и да хранитъ васъ Господь… И снова, въ поясъ поклонившись ему, она устало, тяжело опираясь на свой посохъ, пошла лѣсной тропинкой къ монастырю. Туманъ, цѣпляясь за мокрыя деревья, расходился. Старый колоколъ торжественно и грустно пѣлъ надъ лѣсной пустыней, точно вѣщая грѣшному міру о погребеніи молодой души…
XX. — НА КОСТРѢ
Стояли удивительные августовскіе дни, тихіе, хрустальные. Старый паркъ «Угора» одѣвался все пышнѣе и пышнѣе въ золото и багрянецъ. Въ поляхъ и лѣсахъ стояла тишина. И нѣжной грустью звучало курлыканье прощавшихся съ родными болотами журавлиныхъ стай въ посвѣтлѣвшемъ небѣ… А надъ «Угоромъ» точно черныя тучи сгущались и слышно было смятеннымъ душамъ людей, какъ кто-то роковой желѣзной поступью подходить все ближе и ближе. Левъ Аполлоновичъ все уединялся и тосковалъ. Андрей смятенными глазами смотрѣлъ въ загадочный ликъ жизни и впервые только почувствовалъ, какая это трудная задача жить, и боялся, и трепетно чего-то ждалъ. Поэма его остановилась: теперь его герой былъ вдвоемъ, его мечты златокудрой волшебницѣ исполнились, жизнь ихъ на пустынно-прекрасной землѣ была ясна, солнечна, но удивительно: въ ней какъ-то не было вкуса, какъ въ блюдѣ, которое забыли посолить, въ ней не стало содержанія и писать стало не о чемъ. Рѣзко сказались эти недѣли и на Ксеніи Федоровнѣ. Она совсѣмъ перестала смѣяться, лицо ея поблѣднѣло и между бровямизалегла страдальческая складка — точно она во что-то все мучительно всматривалась и чего-то никакъ не могла понять. То чувство къ Андрею, которое вызывало въ ней сперва только смѣхъ, которое она сперва, какъ и все «идеальное», пыталась по своему обыкновенію посадить, какъ наивную нарядную бабочку, на булавку насмѣшки, это чувство съ силой невѣроятной, какъ пожаръ, охватило вдругъ все ея существо. Она понимала всю невозможность счастья, но именно сознаніе-то этой невозможности и разжигало ее всю еще болѣе. И она перестала смѣяться и съ недовѣріемъ вглядывалась въ то, что полыхало теперь въ ея душѣ, и спрашивала себя, что же будетъ дальше, и не находила отвѣта… И горбунья Варвара ходила вокругъ и смотрѣла, и тяжело вздыхала и еще болѣе ѣла поблѣднѣвшую Наташу, разсѣянную, слабую, съ заплаканными глазами… Тихій, кротко ясный день догоралъ. Красное, огромное солнце спустилось за грандіозныя, сверкающія золотомъ и мѣдью облака. Въ природѣ все затаилось и молчало — только послѣдніе кузнечики едва слышно стрекотали въ увядающей уже травѣ. Надъ опустѣвшими ржаными полями, изъ-за старыхъ деревьевъ парка, вставала огромная, блѣдно-серебряная луна… Томимый душевной смутой, Левъ Аполлоновичъ уѣхалъ къ члену Государственной Думы Самоквасову, только что пріѣхавшему изъ Петербурга. Ксенія Федоровна мѣста себѣ не находила. Она и искала Андрея, и боялась его, и презирала его за то, что онъ такъ по-дѣтски прячется отъ нея, и желала его со всей страстью молодой любви. И то, что онъ такъ избѣгаетъ ея, такъ боится ея, говорило ей ясно, что онъ, въ сущности, уже весь ея, и сомнѣвалась она опять въ этомъ, и мучилась, и опять утверждалась, переживая всѣ тѣ терзанія, которыя переживались людьми милліоны разъ и которыя все же такъ пугаютъ и чаруютъ каждаго своей вѣчной новизной… Съ бьющимся сердцемъ, полная невыносимой тоски и горячихъ, какъ будто безпричинныхъ слезъ, съ холодными руками и пылающей головой, почти больная, она обошла весь паркъ, заглянула въ старую бесѣдку надъ Старицей, гдѣ молча блѣднѣли въ сумракѣ послѣднія бѣлыя лиліи и гдѣ такъ пряно пахло болотомъ. Нѣтъ, нигдѣ его нѣтъ и нѣтъ… Она устало опустилась на скамейку въ боковой аллеѣ, недалеко отъ Перуна, откуда открывался широкій видъ на поля и лѣса и въ то же мгновеніе уловила въ засыпанныхъ золотыми листьями аллеяхъ знакомые шаги. Она затаилась. И увидѣла его, жутко-чернаго въ сіяніи луны и мерцаніи зарницъ. Только лицо его, грустно поникнувъ къ землѣ, смутно бѣлѣло. — А… — смущенно уронилъ онъ, замѣтивъ ее. — Я не зналъ… Виноватъ… — «Виноватъ»… — съ нервнымъ смѣхомъ повторила она, чувствуя, что у нея кружится голова, что больше ждать она не можетъ и что все сейчасъ должно кончиться. — Идите сюда… — слабо сказала она. — Идите, я вамъ говорю… — повторила она настойчивѣе. Онъ, точно во снѣ, подошелъ ближе къ ней. Знакомый запахъ ея духовъ взволновалъ его. И она, точно сдаваясь на милосердіе его, взяла вдругъ его за руки и прижала ихъ къ своимъ горячимъ вискамъ и закрыла глаза, какъ птица, ослѣпленная грозой. Оба чувствовали, что всякія слова теперь излишни, что все вдругъ открылось въ потрясающей ясности. И хриплымъ голосомъ онъ проговорилъ испуганно: — Боже мой… Но что же дальше?! Ее точно ужалили эти испуганныя слова. — Не смѣй! — горячо прошептала она. — Не смѣй объ этомъ… ни говорить, ни даже думать! Дальше то, что будетъ, а что будетъ, никто не знаетъ. Это вы только воображаете, что вы идете въ жизни такъ, какъ вы себѣ намѣтили… — точно потерянная, горячо шептала она, какъ въ бреду, хотя именно Андрей этого никогда и не думалъ. — А въ жизни все неожиданно… все вопреки намъ… Будетъ то, что будетъ… Сядь сюда… ближе… не уходи… Но Андрей не сѣлъ, а вдругъ упалъ на колѣни и прижалъ лицо къ ея колѣнямъ, и безъ счета, жадно цѣловалъ ея руки холодныя, то трепетно ласкающія его голову, то какъ будто отталкивающія его, то притягивающія къ себѣ, зовущія. И изъ глазъ ея лились слезы, и изъ груди вдругъ серебристо вырвался счастливый смѣхъ: — Мальчикъ мой милый… мальчикъ мой… Какое это счастье!.. Краемъ парка, вдоль опустѣвшаго ржаного поля, надъ которымъ подъ звѣздами неслись, переговариваясь, стаи дикихъ гусей, шла, лѣниво позванивая бубенцами, пара Льва Аполлоновича, но они не слышали ни говора бубенцовъ, ни сердитаго покашливанія Корнѣя, не замѣтили широкой тѣни Льва Аполлоновича, который въ крылаткѣ и широкополой шляпѣ вышелъ вдругъ въ аллею. Въ невѣрномъ свѣтѣ луны онъ сразу увидалъ ихъ фигуры, услышалъ этотъ серебристый, счастливый смѣхъ, на мгновеніе замеръ на одномъ мѣстѣ, а потомъ тихонько, незамѣченный, скрылся въ главной аллеѣ и, понурившись, тихо прошелъ къ дому. — Какъ я тебя люблю!.. Я только тебя и любила… и тогда… давно, помнишь, когда мы впервые встрѣтились съ тобой на Троицынъ день, на любительскомъ спектаклѣ у князя Судогодскаго? — говорила она, блаженно задыхаясь подъ его сумасшедшими поцѣлуями и сама цѣлуя его въ глаза, волосы, губы, и смѣясь, и плача. — Эти послѣдніе дни безъ тебя я прямо задыхалась… я думала уже о смерти… — Но… но… — мучительно говорилъ Андрей. — Не смѣй!.. Нѣтъ никакихъ но!.. — горячо говорила она низкимъ голосомъ. — Никакихъ но! Всѣ эти но — проклятая ложь, отъ которой… нельзя человѣку жить! Что я «другому отдана»? Я не вещь! Я ошиблась и хочу поправиться… Я не раба… «Жена»? Ложь! Вчера жена, а сегодня не жена, только и всего… Вонъ въ твоихъ противныхъ книжкахъ я читала, что въ древности славяне вмѣстѣ съ умершимъ сжигали на кострѣ и его жену. Я была въ бѣшенствѣ, читая это! Если Левъ Аполлоновичъ взялъ отъ жизни все и если ему ничего уже не осталось, то я на его кострѣ сгорать не намѣрена! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Я хочу жить, я хочу взять отъ жизни все, что только въ моихъ силахъ взять… Я уже сейчасъ чувствую себя, какъ тѣ несчастныя, въ старину, на кострѣ, но я не хочу, не хочу, не хочу! Все ложь! Не ложь только одно: вотъ эта минута счастья! Она говорила точно въ бреду, точно горячіе угли изъ души она выбрасывала. И всѣ эти сумасшедшія слова рождались въ ней вдругъ, точно въ какомъ-то озареніи, точно кто подсказывалъ ихъ ей. — Мы всѣ трусы и воры, которые запутались во всякой лжи и сами себя обкрадываютъ! — говорила она горячо. — Мы лжемъ всегда! А я не хочу больше лжи. Правда жизни не въ словахъ громкихъ, не въ словахъ благородныхъ, не въ словахъ жалкихъ, а въ счастьѣ, хотя бы на одинъ мигъ только… А остальное все призраки… А потомъ? А потомъ видно будетъ… Только ты моя правда, только ты мое счастье… Луна поднималась все выше и выше и серебристый свѣтъ ея дѣлался все чище и свѣтлѣе. Надъ темными полями въ вышинѣ все неслись гусиныя стаи, И молитвенной торжественностью была исполнена тихая земля… И острая боль прорѣзала вдругъ душу Андрея. — Нѣтъ, нѣть… — хватаясь за голову, прошепталъ онъ. — А вдругъ онъ узнаетъ?! Подумай, какая мука будетъ это для него! Сразу два удара: и ты, и я… Вѣдь онъ мой пріемный отецъ… — Что дѣлать, что дѣлать! Я не виновата, ни въ чемъ не виновата… — горячо и какъ будто сердито даже, защищаясь, говорила она. — Это не то вотъ, что я взяла да и выдумала: дай-ка, я его огорчу, дай-ка, я полюблю другого… Это пришло само, незванное, непрошенное, и я — ничего не могу! Я боролась, но ничего не могла… А теперь и не хочу мочь… Быть счастливымъ — право человѣка! Онъ взялъ отъ жизни свое, а я беру свое, и на его костеръ я не хочу и не хочу! Почему мы съ тобой хуже его? Почему мы должны испугаться?!.. Я — нѣтъ! Я свое возьму… Отецъ! Это выдумка… Ты не сынъ его, а только пріемышъ, т. е., въ сущности, совершенно ему чужой человѣкъ… — Нѣтъ, это не вѣрно… — сказалъ Андрей. — Это не вѣрно… Пусть по крови, по паспорту онъ мнѣ чужой человѣкъ, но онъ всѣ эти годы былъ мнѣ самымъ настоящимъ отцомъ… — А-а… Ну, если ты хочешь самъ себѣ выдумывать препятствія… драмы всякія… если моя мука для тебя ничто… то, конечно… — Что ты говоришь? Что ты говоришь?! — перебивалъ Андрей. — Вѣдь ты же знаешь, что все это вздоръ, что я измученъ, что я безъ тебя дышать не могу… И плела любовь свои горячія сказки, и тихо дремалъ весь золотой, старый паркъ, и смутно бѣлѣлъ въ серебристомъ сумракѣ старый Перунъ… Старый домъ, казалось, спалъ. Всѣ окна были темны — только въ одномъ красной, кроткой звѣздой свѣтилась лампада: то предъ Владычицей, въ сердце которой было воткнуто семь окровавленныхъ мечей, изступленно молилась Наташа, прося ее дать ей силы, и плакала, и билась. Нѣтъ, конецъ — пусть тетка живетъ, какъ хочетъ, а она больше не можетъ… И среди темнаго моря лѣсовъ какимъ-то бѣло-золотымъ цвѣткомъ вставалъ въ ея воображеніи ея любимый монастырь Спаса-на-Крови. Съ его узкими окнами-бойницами, съ его высокими бѣлыми стѣнами онъ представлялся ей какою-то отрадной крѣпостью, въ которой она спрячется отъ скорбей міра. И изъ жидкихъ глазъ ея по бѣлому, съ синими жилками на вискахъ, лицу катились горячія слезы… А Левъ Аполлоновичъ такъ, какъ былъ, въ крылаткѣ и широкополой шляпѣ стоялъ у себя въ темномъ кабинетѣ, у окна и думалъ. Онъ никого не осуждалъ, онъ не протестовалъ, онъ только усталъ и хотѣлъ покоя… Но вдругъ, совсѣмъ неожиданно, въ немъ точно плотина какая прорвалась и старикъ затрясся и какъ-то странно заквохталъ, давясь судорожными рыданіями…XXI. — МЕРТВАЯ ЗЫБЬ
Была глухая ночь. Онъ сидѣлъ у своего письменнаго стола, въ старомъ привычномъ креслѣ и думалъ. Первый порывъ горя прошелъ и всталъ грозный вопросъ: что же дѣлать? И отвѣта не было. Все спуталось. Какъ на морѣ послѣ яркой вспышки бури еще долго катятся большіе, тяжелые, угрюмо-свинцовые валы мертвой зыби, такъ въ душѣ Льва Аполлоновича катились теперь одна за другой тяжелыя, угрюмыя мысли, и не было имъ конца, и не давали онѣ никакого результата. Да, тогда, на крейсерѣ онъ думалъ, что портъ, штиль, миръ это только подарокъ судьбы, а нормальное состояніе моряка это буря и бой, такъ и теперь въ тихомъ «Угорѣ» оказалось, что портъ, штиль миръ это только пріятная случайность, а нормальное состояніе человѣка это буря и борьба… Первымъ порывомъ его было: не они передъ нимъ виноваты, молодые, жадные до жизни и счастья, а скорѣе онъ передъ ними тѣмъ, что, поддавшись искушенію, иллюзіи, онъ невольно сталъ имъ поперекъ дороги. И какъ-то само-собой получалось рѣшеніе: слѣдовательно, надо ему уйти, устраниться. Ибо виноватъ — онъ. Но за плечами его стояла уже пятидесятилѣтняя жизнь и опытъ ея говорилъ ему ясно, что цѣна этому «счастью» очень невысока: можетъ быть, когда пылъ первой страсти пройдетъ, черезъ мѣсяцъ, черезъ годъ они станутъ непримиримыми врагами, врагами на всю жизнь. А если даже этого и не случится, то кто знаетъ, какъ приметъ его жертву впечатлительный и въ душѣ благородный Андрей? Очень возможно, что его жертва отравитъ навсегда его послѣдующую жизнь, а, можетъ быть, даже и ея жизнь, несмотря на весь этотъ ея эгоизмъ и жажду жизни… Нѣтъ, это не выходъ, не рѣшеніе… Рѣшеніе правильное можетъ быть построено только на нравственномъ началѣ, — твердо сказалъ онъ себѣ. Прекрасно. Но что же говорить ему въ данномъ случаѣ его нравственное начало? И это было неясно — опять-таки потому, что за плечами его стоялъ пятидесятилѣтній опытъ, вся жизнь, которую въ уединеніи «Угора» онъ успѣлъ основательно продумать. То, что раньше казалось совершенно яснымъ и безспорнымъ, въ послѣднее время, послѣ долгой и напряженной духовной работы, стало неяснымъ и часто очень сомнительнымъ. Вотъ въ послѣднее время онъ не разъ и не два продумывалъ, напримѣръ, свой поступокъ во время мятежа матросовъ на «Пантерѣ», который тогда представлялся ему и геройскимъ и правильнымъ. Какъ-то разъ ночью, точно нечаянно, онъ поставилъ себѣ вопросъ: «а что, если бы они, понадѣявшись на авось, не сдались бы тогда и не выдали мятежниковъ, — имѣлъ ли бы я, въ сущности, право взорвать судно?» Тогда, на крейсерѣ, отвѣтъ былъ ясенъ: да. И онъ, не колеблясь, взорвалъ бы корабль. А теперь вдругъ отвѣтъ получился совершенно иной: нѣтъ, взорвать тысячу человѣкъ, невѣжественныхъ и раздраженныхъ, онъ не имѣлъ никакого права, ибо они въ возмущеніи своемъ были правы. Они, живые люди, видѣли общій развалъ и страны, и флота подъ ударами безсмысленной войны, затѣянной кучкой преступниковъ-авантюристовъ, они видѣли страшную гибель эскадры адмирала Рождественскаго, которая была послана безумцами, засѣвшими у власти, на явную гибель, и ихъ, матросовъ, собственными головами эти безумцы играли такъ же безсовѣстно и беззаботно, — возставъ, они не только не дѣлали, въ сущности, ничего преступнаго, но какъ разъ наоборотъ: нравственное начало и предписывало имъ тогда поднять свой голосъ противъ беззаконниковъ и авантюристовъ. И онъ, капитанъ Столпинъ, долженъ былъ или возстать вмѣстѣ съ ними во имя справедливости и Россіи, или — застрѣлиться. А онъ могучимъ напряженіемъ воли снова подчинилъ ихъ гнилому, смердящему Петербургу и этимъ самымъ погубилъ своего сына, на котораго обрушилась темная месть покоренныхъ, но не смирившихся матросовъ… Да, жизнь много труднѣе и сложнѣе, чѣмъ казалась она тогда, съ командорскаго мостика «Пантеры»! Ну, а теперь? Возвратить ей свободу путемъ развода? Не говоря уже о совершенно невыносимой и совершенно недопустимой грязи всей этой процедуры, грязи, которой требуетъ отъ человѣка въ такихъ случаяхъ и государство, и церковь, это значитъ навсегда порвать связь съ Андреемъ и съ ней. И то, и другое тяжело и опять-таки, если эту жертву его приметъ Ксенія Федоровна — ему казалось, что она приметъ ее легко, — то приметъ ли ее Андрей?… И тяжелыя, свинцовыя, безрадостныя мысли, какъ валы мертвой зыби, прокатывались его душой, и не было рѣшенія, и ниже, ниже, ниже склонялся онъ на грудь усталой и печальной, сильно посѣдѣвшей головой. И вдругъ онъ насторожился: матросы съ озлобленными, упрямыми лицами всею своею тысячной массой бросились на штурмъ командирскаго мостика. Его рука невольно протянулась къ телефону, чтобы дать приказъ сыну въ крюйть-камеру, но — какая-то высшая сила сковала ее… И вотъ на его глазахъ были схвачены и перевязаны матросами всѣ офицеры крейсера. Его самого сильныя руки поволокли въ трюмъ и втиснули его, большого, тяжелаго, въ маленькую, тесовую клѣтку, въ которой обыкновенно держали куръ для офицерскаго стола. Ящикъ былъ не больше кубическаго метра размѣромъ и грубыя тесины больно рѣзали и напряженную спину его, и голову, и все тѣло ныло отъ тяжелаго, согнутаго положенія, и мучительно приливала кровь къ головѣ. Вокругъ него въ такихъ же клѣткахъ, какъ обезьяны, сидѣли другіе офицеры крейсера, а какъ разъ напротивъ его — сынъ, Володя, блѣдный, весь въ крови. И крейсеръ сдѣлался весь вдругъ какъ стеклянный и ему изъ клѣтки было видно все, что на немъ происходить. Въ кають-компаніи засѣдалъ военно-морской судъ, весь состоящій изъ матросовъ. И офицеровъ по очереди вводили въ каютъ-компанію и, издѣваясь надъ ними всячески, присуждали ихъ къ самымъ ужаснымъ наказаніямъ: однихъ вѣшали по мачтамъ, другихъ, привязавъ къ ногамъ ихъ снаряды, бросали черезъ бортъ въ море, третьихъ, связавъ по рукамъ и по ногамъ, швыряли въ раскаленныя, ревущія топки крейсера… И вдругъ дверь его кабинета — это было очень странно, но это было такъ: стеклянный крейсеръ «Пантера» и его кабинетъ, какъ оказывалось, было одно и то же, — отворилась и въ трюмъ-кабинетъ вошелъ его вѣстовой Юфимъ Омельченко, славный, добродушный хохолъ, который нѣкогда сбѣжалъ съ крейсера и пропалъ безъ вѣсти. Омельченко оглядѣлъ удовлетворенно измученныхъ людей-обезьянъ въ клѣткахъ и, мотнувъ головой, сказалъ: — Ну, вотъ и ладно… Въ самый разъ… Левъ Аполлоновичъ ужаснулся: что въ самый разъ? Эти клѣтки? Эти издѣвательства? Эти муки невѣроятныя? И, точно угадавъ его мысль, Омельченко повернулся къ нему и проговорилъ: — А какъ же? Вы тысячи лѣтъ держите людей въ такихъ клѣткахъ и хоть бы что… Попробуйте теперь сами, сладко ли это? Со всѣхъ сторонъ изъ клѣтокъ на Омельченко вопросительно, съ мукой смотрѣли налившіеся кровью глаза людей-обезьянъ, а онъ продолжалъ разсудительно и спокойно: — А нѣшто крейцеръ-то вашъ не клѣтка для насъ былъ? Вѣдь мы, люди все молодые, здоровые, веселые, жить хотѣли, а вы приковали насъ къ пушкамъ вашимъ, вы не позволяли намъ ни думать, ни чувствовать по своему, какъ намъ хотѣлось, а единственное слово человѣческое, которое вы отъ насъ требовали, было «такъ точно», хотя бы все было и не такъ, и не точно. А потомъ поведете вы насъ незнамо куда и незнамо зачѣмъ — вонъ какъ матросовъ Рождественскаго, — да и потопите въ морѣ чужомъ… И для того, чтобы сняли вы вашу власть съ людей и выпустили души ихъ изъ клѣтокъ опоганенныхъ, вотъ и дано вамъ испить чашу эту до дна — какъ слѣдоваить, по закону… И вдругъ сынъ, Володя, содрогаясь отъ ужасай дико вращая глазами завылъ, какъ волкъ въ капканѣ желѣзномъ, такъ страшно завылъ, что вся душа Льва Аполлоновича оледенѣла. И росъ этотъ звѣриный вой все больше, все страшнѣе… Левъ Аполлоновичъ бросился къ нему и — проснулся въ кабинетѣ на креслѣ. На стѣнѣ, надъ диваномъ, теплились, рдѣя, розовато-золотистые зайчики восходящаго солнца. Вокругъ тяжело воняло остывшей керосиновой копотью отъ потухшей лампы. Левъ Аполлоновичъ посмотрѣлъ вокругъ себя мутнымъ, усталымъ взглядомъ и первое, что ему рѣзко вспомнилось, былъ волчій, страшный вой сына въ клѣткѣ. Морозъ прошелъ широко по его душѣ, сотрясая все. — Слава Богу, слава Богу, что это былъ только сонъ!.. — подумалъ онъ съ облегченіемъ. — Слава Богу, что онъ уже умеръ и уже не можетъ пережить этого никогда… Все тѣло ныло отъ безсонной ночи въ креслѣ, но безконечная апатія сковывала волю Льва Аполлоновича и онъ, вмѣсто того, чтобы перейти на диванъ, снова склонилъ голову на грудь и закрылъ глаза. Но сонъ не пришелъ къ нему болѣе и снова въ душѣ его покатились сѣдыя волны мертвой зыби, мысли о томъ, что онъ не рѣшилъ, но что рѣшить было надо. — Можно? — раздался за дверью свѣжій голосъ Ксеніи Федоровны. — Да, да, пожалуйста… Она вошла, свѣжая, молодая, прелестная. Обыкновенно онъ при утренней встрѣчѣ цѣловалъ ее въ щеку, но теперь онъ сдѣлалъ видъ, что роется въ ящикѣ. Она замѣтила умыселъ и сердце ея тревожно забилось. — Чай готовъ… — сказала она только. — Пришлите мнѣ его, пожалуйста, сюда съ Варварой… — сказалъ онъ. — Я занятъ и мнѣ не хочется развлекаться… И вотъ что еще, Ксенія Федоровна… — вдругъ рѣшился онъ покончить разомъ все и — оборвалъ: онъ не зналъ, что ей сказать. — Ну, что же вы хотите сказать? — вспыхнула она, какъ огонь. — Нѣтъ, пока ничего… — смутился онъ. — Лучше потомъ… Онъ смущенно посмотрѣлъ на нее и она вдругъ съ ужасомъ поняла, что онъ знаетъ все. Она справилась съ собой и, пожавъ плечами, вышла. Все, что говорила она наканунѣ о кострѣ, о правѣ на счастье, о свободѣ, вдругъ потеряло всякое значеніе въ эту минуту: вся горящая, какъ въ огнѣ, пристыженно поникнувъ прекрасной золотистой головкой, ничего отъ волненія не видя предъ собой, она вышла на залитую утреннимъ, радостнымъ блескомъ террассу. Тамъ шумѣлъ на столѣ самоваръ, все было такъ чисто, уютно, привычно и въ то же время какъ-то уже чуждо. И нѣжился на солнышкѣ старый паркъ, весь въ парчѣ осени, и яркими фонариками горѣли пышные георгины, и изъ бѣлой вазы посрединѣ росистой клумбы неподвижнымъ огненнымъ водопадомъ падали косматыя настурціи… А передъ ней черной загадкой стояло ея будущее. Непобѣдимая любовь къ одному и это тяжелое, сложное, непобѣдимое чувство къ другому: тогда… онъ зналъ тогда о ея рискованномъ романѣ съ этимъ кирасиромъ и все же не остановился… И развѣ упрекнулъ онъ когда ее? Развѣ не поставилъ онъ ее твердо на ноги въ жизни?… И она безъ всякой мысли смотрѣла передъ собой въ какую-то черноту и на глаза просились слезы: нѣтъ, нѣтъ, красивыми и гордыми словами мучительныхъ вопросовъ жизни не разрѣшить, видно! — Баринъ приказали подать имъ чаю… — строго поджимая сухія губы, проговорила сзади горбунья. — Велѣли покрѣпче… И пока она, ничего не видя предъ собой, машинально наливала чай, Варвара, стоя сзади, съ ненавистью, съ отвращеніемъ смотрѣла на ея красивый затылокъ, весь въ путаницѣ прелестныхъ золотистыхъ волосъ. Варвара подозрѣвала, что изступленныя молитвы Наташи, ея мучительные порывы изъ «Угора» въ монастырь, ея безсонныя ночи и слезы находятся въ какой-то тѣсной связи съ этой «мишухой», которая вторглась, неизвѣстно зачѣмъ и какъ, въ тихую жизнь «Угора», и это было чрезвычайно противно ей. Варварѣ казалось, что главное въ «Угорѣ» это она, Варвара…XXII. — ЛѢСНЫЯ СТРАСТИ
И лѣсъ, и пойма разрядились въ пышныя ткани осени. Воды очистились и стали прозрачны и холодны, какъ стекло, пышнѣе горѣли зори, ярче блистали въ чистомъ, похолодѣвшемъ воздухѣ чернобархатными ночами звѣзды. Всюду тянулись нѣжныя, длинныя паутинки и къ утру, покрытыя росой, становились похожими на нитки матовыхъ жемчуговъ. Лѣсъ замѣтно просвѣтлѣлъ, затихъ и только по опушкамъ въ красно-оранжевой, уже прохваченной утренникомъ рябинѣ цокотали и трещали жирные дрозды… Гаврила съ Петро уже ходили нѣсколько разъ по вальдшнепамъ, караулили глухарей на осинѣ, ходили на послухи, не ревутъ ли уже лоси, но лѣсники чувствовали, что всегда интересная осенняя охота въ этомъ году пропадетъ… Какъ будто неожиданно пріѣхала въ лѣсную усадьбу Софья Михайловна съ Шурой. Иванъ Степановичъ тихо обрадовался имъ. Шура, худенькая женщина съ доброй улыбкой, съ тихой, нѣжной, беззащитной въ суровой жизни душой, какъ и Марья Семеновна, почувствовала вѣяніе близкой смерти надъ бѣлой головой любимаго отца, была съ нимъ особенно нѣжна и звала его, какъ и раньше, въ дѣтствѣ, «папикъ», а онъ не могъ смотрѣть на нее безъ слезъ, ласкалъ ее, старался сдѣлать для нея что-нибудь пріятное. И очень жалко старику было Софью Михайловну, маленькую, худенькую старушку, съ когда-то пышными бѣлокурыми, а теперь такими жиденькими, грязно-желтыми волосами, съ сердитыми глазами, — жалка была ему эта ея тонкая шея съ обвисшей кожей, жалко, что она такъ стара и слаба, жалка эта ея постоянная раздраженность. Въ молодости она знала и тюрьму и далекую ссылку, но теперь крестьянъ она звала мужичьемъ или сиволапыми, боялась крысъ, лягушекъ, пауковъ и даже кузнечиковъ и всюду и вездѣ чувствовала опасные сквозняки. И въ то время, какъ для Ивана Степановича все въ мірѣ стало источникомъ радованія и умиленія, для нея все было причиной огорченія, злобы или страха: онъ на росистой травѣ видѣлъ алмазныя розсыпи, она прежде всего боялась тутъ сырости, которая сейчасъ насквозь промочитъ ея башмаки, онъ любовался игрой голубей съ ихъ лазоревыми шейками, она требовала изгнать эту несносную птицу, которая все возится за наличниками и мѣшаетъ ей спать, отъ лампады она непремѣнно ожидала пожара и всячески старалась не дать Марьѣ Семеновнѣ газетъ, такъ, на зло: «вотъ еще! Что она тутъ понимаетъ!?» И вотъ это-то ея озлобленіе тамъ, гдѣ было столько радости, особенно печалило старика: голодный человѣкъ топталъ ногами хлѣбъ, жалкій нищій сидѣлъ на золотой розсыпи и не понималъ этого! У нихъ, какъ и у огромнаго большинства супруговъ, не все въ жизни было гладко, — ему хотѣлось теперь все это забыть, все простить отъ всей души, ему хотѣлось послѣдней ласки, но, вся занятая собой, въ постоянномъ страхѣ передъ сквозняками и крысами, эта маленькая старушка съ желтыми волосами и жалкими сердитыми глазами не замѣчала того, что происходить съ мужемъ и немножко ворчала, что онъ неизвѣстно зачѣмъ вызвалъ ее съ Шурой осенью, когда такъ легко простудиться, въ этотъ хмурый, противный лѣсъ… Невесело было въ лѣсной усадьбѣ, тѣмъ болѣе, что Сергѣй Ивановичъ, похудѣвшій, почернѣвшій, точно опаляемый внутреннимъ огнемъ, никакъ не могъ, несмотря на всѣ усилія, быть гостепріимнымъ, веселымъ, ласковымъ, какъ прежде. Его, видимо, тяготило все и всѣ, онъ безпрерывно курилъ, онъ часто задумывался въ разговорѣ и не слышалъ, что ему говорили; а то вдругъ встанетъ среди бесѣды, возьметъ ружье и исчезнетъ въ лѣсу. Всѣ женщины понимали, что причиной его страданій — женщина, но такъ какъ, по ихъ мнѣнію, въ лѣсномъ краю не было близко никого, кто могъ бы заставить его такъ мучиться, то всѣ рѣшили, что онъ тоскуетъ по когда-то такъ горячо любимой имъ женѣ. Иногда мелькала мысль: ужъ не Ксенія ли Федоровна? Но это было всѣмъ почему-то такъ непріятно и жутко, что предположеніе это тотчасъ же отбрасывалось… Даже Ваня, и тотъ, чувствуя, что вокругъ что-то неладно, замѣчая, что у тети Шуры и Марьи Семеновны глаза часто красны, что отецъ всегда молчитъ, хмурится и убѣгаетъ, притихъ. Пробовалъ онъ занимать дѣда своими новыми игрушками, которыя привезла тетя Шура, но хотя дѣдушка и дѣлалъ видъ, что все это очень занимаетъ его, Ваня несомнѣнно чувствовалъ, что дѣдушка уже гдѣ-то далеко, что онъ едва слышитъ его, и встревоженный мальчикъ смотрѣлъ на старика круглыми, недоумѣвающими глазами и убѣгалъ къ своему другу Петро, чтобы часами разсматривать вмѣстѣ съ нимъ прейскуранты… Потомъ пріѣхала на нѣсколько дней шумная, веселая, полная жизнью Лиза. Она усердно работала теперь при московскихъ клиникахъ, посѣщала всякіе рефераты, вотировала всюду, гдѣ можно только вотировать, и была убѣждена, что міръ идетъ впередъ и что идетъ онъ впередъ, только благодаря усиліямъ ея и ея пріятелей, которые открываютъ передъ человѣчествомъ такіе свѣтлые, безбрежные горизонты. А когда пріѣхала навѣстить Ивана Степановича мать Агнеса, игуменья, его старая пріятельница, Лиза говорила съ тихой старухой свысока… Важныя дѣла въ Москвѣ не позволили однако Лизѣ побыть въ лѣсу подольше, она перецѣловала всѣхъ, звонко смѣясь, закуталась въ халатъ Сергѣя Ивановича и унеслась изъ лѣсовъ, конечно, непремѣнно съ курьерскимъ, причемъ дорогой до станціи она старалась хоть немного развить Гаврилу, на прощанье на чай ему не дала, потому что это унизило бы его человѣческое достоинство, а пожала ему только руку, чѣмъ очень сконфузила его передъ станціонными сторожами… Въ этомъ же поѣздѣ уѣзжалъ и Алексѣй Петровичъ — Мэри Блэнчъ давно уже жила въ Москвѣ, въ «Славянскомъ Базарѣ», а онъ часто наѣзжалъ сюда по лѣснымъ дѣламъ, — но оба сдѣлали видъ, что не узнаютъ другъ друга. И, сѣвъ въ вагонъ, Лиза горько всплакнула. Она ѣздила въ «Угоръ», но Андрей былъ такъ далеко отъ нея, какъ будто бы онъ былъ на лунѣ. И онъ не замѣтилъ даже, какъ была она первые полчаса своего пребыванія въ «Угорѣ» кротка съ нимъ и со всѣми. Но потомъ Лиза вспомнила, что плакать сознательной личности стыдно, утѣшилась и стала просвѣщать своихъ спутниковъ по части политической, увѣряя ихъ, что въ Россіи все не годится ни къ черту… Сергѣй Ивановичъ видѣлъ всю жизнь, какъ во снѣ, какъ на приглядѣвшейся картинѣ, — онъ то уходилъ въ себя, сгорая въ этомъ бушевавшемъ внутри его пожарѣ, то, спрятавшись въ сырой, душистой чашѣ молодого ельника, горячими глазами смотрѣлъ на старыя монастырскія стѣны, стараясь хоть издали, хоть мелькомъ увидѣть тѣнь Нины. Но никакого намека на ея присутствіе въ монастырѣ не было. Изрѣдка проходили, низко кланяясь одна за другой, монахини, тащились рѣдкіе въ эту пору года богомольцы, уныло и гнусаво тянули у старинныхъ сводчатыхъ воротъ свои пѣсни слѣпые, просили милостыню калѣки, жертвы японской войны, пѣли надъ лѣсной ширью колокола, но ея не было, не было… Онъ понималъ, что все кончено, что надо побороть, сломить себя, что надо какъ-нибудь жить, работать, но ничего подѣлать съ собою онъ не могъ… Софья Михайловна рѣшила, что здѣсь, въ сыромъ лѣсу, она непремѣнно захвораетъ и собралась въ Москву, тѣмъ болѣе, что Капа, старшая, разорвала съ мужемъ и собиралась на зиму съ дѣтьми въ Крымъ, отдохнуть отъ пережитыхъ бурь. Шура, прощаясь съ отцомъ, рыдала, плакалъ старикъ, плакала Марья Семеновна. И Шура обѣщала устроить только дѣтей, приготовить имъ все тепленькое къ зимѣ, посмотрѣть, какъ они безъ нея живутъ, какъ началось ученье и снова пріѣхать къ старику. — Ничего не понимаю… — морщась болѣзненно, говорила Софья Михайловна. — Такой трагизмъ при обыкновенномъ прощаніи… И, когда тарантасъ подъ звонъ колокольчика скрылся въ лѣсу, Иванъ Степановичъ ушелъ къ себѣ и, сѣвъ къ рабочему столу, тихо заплакалъ надъ грустью жизни, а потомъ скоро опять затихъ: и это все вдругъ отошло куда-то назадъ, далеко. А Марья Семеновна несмѣло вошла къ Сергѣю Ивановичу. — Вы что, Марья Семеновна? — разсѣянно спросилъ онъ, надѣвая шведскую куртку. — Охъ, не знаю ужъ, какъ и сказать вамъ… — тихо сказала она. — Прокатиться бы вамъ куда, что-ли, Сергѣй Иванычъ. А то и вы извелись совсѣмъ да и Ивана Степановича тревожитъ это. А имъ бы теперь покой дороже всего… — Что такое? Что съ нимъ? — встревожился Сергѣй Ивановичъ. — Ничего такого особеннаго, а только… готовятся они. — То есть, какъ готовятся? — Къ смерти готовятся… — тихо пояснила Марья Семеновна. — И хорошо бы покой душѣ ихъ дать… Да и васъ вѣтеркомъ обдуло бы, можетъ, стало бы полегче… Сергѣй Ивановичъ разсѣянно — онъ уже снова ушелъ въ свое — взялъ ружье, надѣлъ шапку и на ходу сказалъ: — Да, да, хорошо… Я обдумаю… У меня, дѣйствительно, нервы немножко поразстроились… Онъ скрылся въ лѣсу, влажномъ, пахучемъ, тихомъ. И подумалъ онъ, что хорошо было бы ему, въ самомъ дѣлѣ, уѣхать отсюда, гдѣ каждый уголокъ былъ отравленъ неотвязной думой, злой тоской по ней… И нѣсколько дней онъ боролся съ собой: уѣхать хорошо, но не можетъ онъ уѣхать, не можетъ онъ оторваться отъ нея, отъ ея тѣни, отъ этого ею отравленнаго лѣса! И, наконецъ, онъ сдѣлалъ надъ собой героическое усиліе и, чтобы сразу сжечь за собой всѣ мосты, вошелъ къ отцу. — А что, папа, ты ничего не будешь имѣть противъ, если я прокачусь немного? — сказалъ онъ, стараясь казаться обыкновеннымъ. — Я что-то расклеился и отдохнуть немножко мнѣ было бы не вредно. Къ тому же мнѣ давно хотѣлось посмотрѣть хвойные питомники и посадки въ имѣніяхъ князя Шенбурга… — Великолѣпная мысль!.. — согласился старикъ. — А то ты, дѣйствительно, поосунулся что-то… Прокатись, прокатись… — А къ тебѣ Шура хотѣла пріѣхать погостить пока… — Обо мнѣ ты не безпокойся, голубчикъ… Мы здѣсь, въ лѣсу, въ тишинѣ проживемъ отлично… Поѣзжай съ Богомъ… Сергѣй Ивановичъ быстро собралъ свои чемоданы, но въ послѣдній моментъ у него снова опустились руки и онъ, бросивъ сборы, снова побѣжалъ въ сырую чащу ельника: авось, онъ увидитъ ее… авось, случится чудо какое, — не можетъ быть, чтобы все такъ кончилось!.. Но опять и опять ничего, кромѣ новаго яда, не нашелъ онъ у бѣлыхъ стѣнъ обители и, дождавшись темноты, пробрался къ опаленной соснѣ, обыскалъ ея пустое, пахнущее прѣлью дупло и вернулся, измокшій подъ осеннимъ дождемъ, домой и не зналъ, что ему дѣлать, ѣхать или не ѣхать. И раскрытые чемоданы терпѣливо выжидали его рѣшенія… — А какъ быки ревутъ, Сергѣй Ивановичъ, индо ужасти подобно! — сказалъ ему какъ-то на дворѣ совсѣмъ заскучавшій безъ охоты Гаврила. — Можетъ, сходимъ разокъ? Навѣрное одного заполюемъ… — Отлично… — согласился Сергѣй Ивановичъ: надо же, въ самомъ дѣлѣ, хоть что-нибудь дѣлать… — Сегодня и пойдемъ… А вечеръ будетъ тихій… Готовься… Обрадовавшійся Гаврила торопливо пошелъ готовить все необходимое для интересной охоты. Онъ ожилъ: авось, пронесетъ какъ Господь это навожденіе, авось, снова заживутъ они милой, мирной лѣсной жизнью! Онъ осмотрѣлъ свои пули, приготовилъ манокъ изъ бересты, попробовалъ его и снова сталъ объяснять Маринѣ, женѣ, какъ надо кормить сегодня вечеромъ собакъ. — А ну тебя!.. Отвяжись, смола! — отмахнулась она, блѣдная, преждевременно опустившаяся женщина. — Не знаютъ съ твое-то… — Главное дѣло, Ледьку покорми отдѣльной поменьше… — продолжалъ онъ. — Что-то заскучала собаченка и чутье горячее… Ужъ не чума ли, храни Богъ… — А параликъ всѣхъ ихъ расшиби! — раздраженно крикнула Марина. — И до чего осточертѣлъ мнѣ этотъ твой лѣсъ, и сказать не могу… — Прямо хушь въ петлю, истинный Господь!.. Гаврила всталъ и, безнадежно махнувъ рукой, вышелъ и взволнованно закурилъ собачью ножку: бѣда съ этими бабами! И по кой лѣшій понесло его жениться? Но, когда осторожно, будто мимоходомъ, заглянулъ онъ въ окно Сергѣя Ивановича и увидѣлъ, что онъ промазываетъ пиролемъ своего удивительнаго Себастіана Функа, на душѣ его опять повеселѣло. Въ три часа они вышли, чтобы до сумерекъ быть на мѣстѣ, на «Красной Горкѣ», неподалеку отъ «Журавлинаго Дола». Дорогой молчали: Сергѣй Ивановичъ все упорно думалъ свое и только односложно и разсѣянно отвѣчалъ на слова Гаврилы, и тотъ снова заскучалъ. Онъ показалъ Сергѣю Ивановичу «ямы», вырванную шерсть и кровъ на мѣстѣ побоища быковъ и тихонько, говоря едва слышнымъ шопотомъ, провелъ его съ подвѣтренной стороны на заранѣе намѣченное мѣсто, а самъ залегъ позади, поодаль, въ густомъ ельникѣ, чтобы «вабить». Багрово засвѣтился сумрачный вечеръ. Въ небѣ клубились косматыя тучи. И было въ лѣсу такъ угрюмо, какъ будто умерли на землѣ всѣ радости навсегда. И тишина, тишина стояла необыкновенная — только рѣзко прокричитъ иногда красноголовая желна, затинькаеть нѣжно стайка синичекъ да быстро и безпокойно стучитъ свое неугомонное сердце… И вотъ все замерло, и угасли надъ черными вершинами послѣдніе отсвѣты угрюмой, оранжевой зари и вдругъ гдѣ-то, не то далеко, не то близко, раздался какой-то странный, глухо-ревущій, короткій звукъ, точно кашель громаднаго лѣшаго. Сергѣй Ивановичъ вздрогнулъ, приготовилъ свой короткій тяжелый штуцеръ… Опять все тихо — только глухо и тревожно бьется сердце… И опять такой же грубый, дикій звукъ раздался сзади Сергѣя Ивановича и онъ вздрогнулъ отъ странной жути, хотя и зналъ, что это манитъ Гаврила. И въ третьемъ мѣстѣ раздался ревъ, нетерпѣливый, злой, вызывающій. Выждавъ нѣкоторое время, Гаврила взревѣлъ снова въ свою берестяную трубу и въ чуткой тишинѣ, тамъ, за оврагомъ, послышался чуть слышный трескъ сухихъ сучьевъ: то, принявъ вызовъ, шелъ онъ на смертный бой съ врагомъ невидимымъ, но ненавистнымъ… — А вдругъ все это обманъ? — ослѣпительно яркой ракетой взорвалась въ мозгу Сергѣя Ивановича новая мысль. — Обманъ и это письмо ея — вѣдь, онъ же не знаетъ ея почерка! Можетъ быть, это совсѣмъ и не она писала… — и все это вмѣшательство старой схимницы, и это близкое будто бы постриженіе, все?! Что, если она ждетъ только случая, чтобы дать ему знать о себѣ, вырваться хотя къ старой соснѣ только, позвать на помощь?! Снова сзади вызывающе заревѣлъ Гаврила. Трескъ вѣтвей былъ уже совсѣмъ недалеко, у самого края глухого оврага. Тишина точно вся напружинилась, затаилась точно вся лѣсная пустыня, но Сергѣй Ивановичъ не слышалъ уже ничего: и лѣсъ, и могучій звѣрь, ослѣпленно идущій на смертный бой съ предполагаемымъ соперникомъ, и Гаврила, и тяжелый штуцеръ на колѣняхъ, все разомъ пропало. Новая яркая надежда опьянила его и заставила все забыть… Гаврила ухнулъ въ сторону, тише, какъ бы уходя, но тотъ, слѣпо идущій во мракѣ на страданіе, можетъ быть, на смерть, уже не допускалъ отказа отъ боя, взревѣлъ яростно и, высоко поднявъ свою массивную съ раскидистыми рогами, голову, прекрасную во всемъ своемъ безобразіи, увѣренно и красиво шелъ на врага — близко, совсѣмъ близко… Но Сергѣй Ивановичъ не слышалъ уже ни сухого хруста сучьевъ подъ могучими ногами разъяреннаго звѣря: какъ могъ онъ позволить такъ одурачить себя?! Вѣдь, она, вѣроятно, измучилась вся, ожидая его помощи! Радость, спасенье, счастье, все, можетъ быть, въ его рукахъ, а онъ пришелъ въ отчаяніе, опустилъ руки и столько времени упустилъ, ничего не предпринимая!.. Потрясенный, онъ нервно сунулъ руку въ боковой карманъ, гдѣ всегда лежали наготовѣ папиросы, и чиркнулъ огнивомъ. Моментъ тишины и вдругъ по лѣсу точно вихрь понесся, съ шумомъ удаляясь, а сзади раздался, полный безконечнаго отчаянія, крикъ: — Сергѣй Иванычъ… да что же вы это? Да развѣ такъ можно?! Онъ пришелъ въ себя. — Извини, братъ… Я задумался… — неловко пробормоталъ онъ. — Я… пойду… И, не дожидаясь отвѣта, онъ невѣрными шагами пошелъ въ лѣсъ, къ монастырю. Растерянный, огорченный, испуганный, Гаврила не посмѣлъ послѣдовать за нимъ. А Сергѣй Ивановичъ, какъ только остался одинъ, сразу точно проснулся: Боже мой, да вѣдь это только тысяча первая надежда, это бредъ! И зачѣмъ онъ туда идетъ? Кончено — кончено… И никакихъ поѣздокъ никуда не надо: отъ себя никуда не спрячешься… Пулю въ лобъ и конецъ… А Ваня? А старикъ? И безсильными ногами, полный тоски, онъ шелъ знакомой дорогой къ дому, слушая безнадежный рэквіемъ истекающей кровью души… Начался сильный дождь, но онъ не замѣчалъ его… Вотъ засвѣтились уже, освѣщая мокрыя деревья, огоньки усадьбы… Уныло подошелъ онъ къ калиткѣ и въ бѣломъ снопѣ свѣта, падавшаго изъ столовой въ сырой мракъ, увидалъ какую-то закутанную, мокрую фигуру. Онъ удивился… — Кто это? — строго спросилъ онъ. Молчаніе. Онъ схватился за карманный электрическій фонарикъ — на него съ измученнаго блѣднаго лица смотрѣли полные страданія, мольбы и любви глаза… Ему показалось, что онъ съ ума сходитъ. — Нина?! Ты? Рыдая, она бросилась ему на шею… Черезъ нѣсколько минутъ лѣсники уже запрягли ему Буланчика. Гаврила предложилъ-было ему себя въ кучера, но онъ, возбужденный, сумасшедшій, только руками замахалъ: нѣтъ, нѣтъ, онъ самъ!.. И какъ былъ, въ шведской курткѣ и высокихъ сапогахъ, засунувъ халатъ подъ сидѣнье, онъ вскочилъ въ тарантасъ и скрылся подъ дождемъ во мракѣ. Никто не замѣтилъ, что на опушкѣ лѣса онъ остановился, кого-то посадилъ, бережно укуталъ въ халатъ и Буланчикъ, поглядывая чутко по сторонамъ, потащилъ усердно тарантасъ дальше… — Бѣда, Марина… — вздыхалъ Гаврила, перебуваясь. — Не въ себѣ баринъ. Господи помилуй: быкъ во, а онъ за папироску! Безпремѣнно свихнется… — Посиди вотъ еще въ лѣсу и ты свихнешься… — зѣвая, сердито отвѣчала Марина. — И развѣ ты не сумашедчій? Только и есть въ головѣ, что пичужки всякія да собаки… Охъ глазыньки мои на васъ, лѣшмановъ, не глядѣли бы!..XXIII. — НАДЪ ЧЕРТОЙ
Тяжелыя тучи все клубились надъ тихимъ «Угоромъ» и жизнь людей билась въ какомъ-то душномъ тупикѣ. Левъ Аполлоновичъ, подъ предлогомъ нездоровья, почти не выходилъ изъ своего кабинета, гдѣ онъ все рѣшалъ никакъ не рѣшающіеся вопросы, которые поставила передъ нимъ жизнь тогда, когда особенно хотѣлось прожить послѣдніе годы на землѣ спокойно и уединенно. Мучился и Андрей мукой безвыходной: уѣхать? Безполезно: какъ и лѣтомъ тогда, вся его душа, все равно, осталась бы здѣсь и, вѣроятно, онъ долго не выдержалъ бы разлуки и снова прибѣжалъ бы сюда, тѣмъ болѣе, что чрезвычайная страстность Ксеніи Федоровны очень пугала его: въ порывѣ страсти она могла надѣлать Богъ знаетъ чего. Не разъ и не два пробовалъ онъ забыться въ своей поэмѣ «Колокола», но изъ нея рѣшительно ничего не выходило: эта новая сказка объ Адамѣ и Евѣ какъ-то не завершалась. Имъ, очевидно, не хватало животной непосредственности ихъ прародителей, чтобы жить солнечной жизнью полевыхъ лилій и птицъ небесныхъ. Ихъ жизнь выходила прѣсна, травяниста и бездушна. И становилась все яснѣе мысль, что въ глубокой основѣ человѣческаго счастья всегда должна лежать какъ-то трагедія, а трагедія жизни человѣческой создается людьми. И, какъ это было и въ старомъ мифѣ объ Адамѣ и Евѣ, и въ его поэму стучались уже смутные образы человѣческіе — и въ особенности почему-то образъ Лизы, которая такъ очевидно была чѣмъ-то огорчена въ ея послѣдній пріѣздъ въ «Угоръ» осенью, — и нестройными еще толпами рвались они на опустошенную по капризу поэта землю, чтобы снова создать въ ней жизнь, въ которой неотдѣлимо переплеталось бы свѣтлое съ темнымъ, прекрасное съ безобразнымъ, нѣжное счастье съ горячими слезами, корчами страданія и даже кровью. И часто долгими часами сидѣлъ онъ надъ своей рукописью, исчерченной и перемаранной и, точно загипнотизированный, не отрываясь, созерцалъ прекрасно исковерканную страстью маску, которая была изображена на обложкѣ трагедій Эсхила… И замѣтно измѣнялась въ борьбѣ съ собой, съ Андреемъ, съ мужемъ, съ рокомъ Ксенія Федоровна. Это была уже не торжествующая побѣду женщина, а покорно затихшая, иногда даже безвольная жертва и всѣ ея дерзкія словечки, которыми она раньше сыпала, какъ горячими углями, теперь были похожи на привядшіе цвѣты, которыми она сама усыпала свой путь къ жертвеннику страсти, куда, покорная, она шла на закланье. И дерзкихъ словечекъ этихъ становилось все меньше и меньше… Была темная, почти черная, бархатная ночь, вся усыпанная алмазной пылью искрящагося неба. Андрей сидѣлъ у своего стола и машинально рисовалъ на поляхъ своей рукописи женскія головки. И вдругъ въ окно что то легонько стукнуло — точно кто бросилъ въ него снизу вѣтку. Онъ наклонился во мракъ, но было такъ черно, что онъ ничего не могъ разобрать. — Выйди ко мнѣ… — низкимъ груднымъ голосомъ, отъ котораго онъ весь затрепеталъ, сказала невидимая Ксенія Федоровна. Онъ выпрямился, заколебался, — было совершенно ясно, что дѣлать этого не слѣдуетъ, но страхъ за нее побѣдилъ и онъ неслышно спустился въ садъ. — Я не могу, не могу, не могу! — сразу бурно бросаясь ему на шею, залепетала она. — Я не могу! Лучше умереть… — Но выхода нѣтъ… — страстно прижимая ее къ себѣ, сказалъ онъ. — А я не могу больше! — прижималась она къ нему беззащитно. — Онъ… да, онъ необыкновенный, благородный человѣкъ… и я понимаю, что ты не можешь… не долженъ… поступать иначе, какъ ты поступаешь… но что же дѣлать, если я не могу?! Можетъ быть, намъ съ тобой бѣжать? Подумай: мы молоды и вся жизнь передъ нами, такая широкая, такая упоительная… И сколько всякихъ возможностей! А теперь здѣсь, въ этой дырѣ — вѣдь это только медленное умираніе…. И для него это, можетъ быть, было бы лучше, и для насъ: по крайней мѣрѣ сразу…. Или — разстаться?… — пролепетала она растерянно и тутъ же въ ужасѣ схватилась за голову. — Нѣтъ, тогда лучше въ Старицу!.. Они незамѣтно подошли къ старой бесѣдкѣ. Надъ ними въ черной тьмѣ смутнымъ пятномъ бѣлѣлъ Перунъ. И стоялъ старый паркъ, какъ заколдованный… И снова, и снова, лаская одинъ другого и страстно, и боязливо, повторяли они себѣ все, что каждый изъ нихъ въ отдѣльности и оба вмѣстѣ повторяли себѣ уже тысячи разъ: если бы даже онъ и не былъ пріемнымъ отцомъ, и то разбить такъ чужое гнѣздо было бы тяжело, но онъ былъ пріемнымъ отцомъ. Но что значитъ пріемный отецъ? Вѣдь тутъ, въ концѣ концовъ, гипнотизируетъ и страшитъ только слово отецъ. Но какой же онъ отецъ? И по крови, и даже по имени онъ совсѣмъ чужой человѣкъ. Да, но въ то же время что-то ясно и властно говорило, что онъ совсѣмъ не чужой человѣкъ, что онъ, дѣйствительно, почти отецъ, что чрезъ его честь, чрезъ его, можетъ быть, жизнь переступить они не имѣютъ права ни въ какомъ случаѣ…И Андрей невольно отмѣтилъ, что Ксенія Федоровна совсѣмъ уже не говорить больше о томъ, что онъ старъ, а она молода, не говорить о своемъ правѣ на счастье, не говорить о томъ, что она ничего не боится. Точно переломилось въ ней что и точно страсть пошла въ ней какимъ-то новымъ, мучительнымъ путемъ. И жалость къ ней — самое опасное — примѣшивалась къ его безмѣрной любви и терзался онъ безсильными муками, которыя были нестерпимы и былъ въ которыхъ такой сладкій ядъ, что не было силъ отъ него отказаться… Ночь — и эта! — не принесла имъ ничего, кромѣ еще болѣе обостреннаго сознанія, что выхода нѣтъ, что — думалъ Андрей и это было нѣчто новое, — и то уже, что они дѣлаютъ, встрѣчаясь тайно для слезъ, поцѣлуевъ и словъ безнадежныхъ, уже есть, если не преступленіе, то ложь. И Андрей почувствовалъ, что Ксенія Федоровна — она какъ-то сразу вся затихла, — какъ-то собралась вся въ себя точно для прыжка приготовилась, точно рѣшилась на что-то новое и большое. — Нѣтъ, я больше не могу, уже дѣйствительно не могу!., — тихо, но рѣшительно сказала она. — Прощай, милый, любимый!.. И они разстались…. И, когда, какъ всегда неспавшая, Варвара уловила настороженнымъ ухомъ — оно у нея всегда было, какъ и вся душа, насторожѣ, — едва слышный шелестъ платья возвращающейся къ себѣ Ксеніи Феровны, она чуть слышно прошептала испуганно и точно злобно: «что дѣлаютъ… что дѣлаютъ…» Горбунья была увѣрена въ томъ, что всѣ грани они уже перешагнули и что, мало того, все это люди дѣлаютъ вполнѣ добровольно. Слышала этотъ тихій шелестъ и Наташа и, обливаясь горячими слезами, она кусала подушки — только бы какъ не закричать… И Левъ Аполлоновичъ слышалъ осторожные, крадущіеся шаги Андрея наверху и не зналъ, что думать: немыслимымъ казалось ему, чтобы гордый и чистый Андрей его — да, да, его Андрей, сынъ его дорогого друга, замѣнившій ему погибшаго сына, — пошелъ на преступленіе, но съ другой стороны опытъ прожитой жизни говорилъ, что въ угарѣ страсти возможно все. И опять просидѣлъ онъ у стола всю ночь въ креслѣ, и опять мучили его страшные кошмары всю ночь, и опять мертвая зыбь мертвыхъ мыслей безрезультатно катилась въ его душѣ… У Ксеніи Федоровны тоже до самаго разсвѣта горѣлъ огонь. Она что-то все писала, перечитывала, рвала и опять писала. Лицо ея было блѣдно, зло и рѣшительно. Видно было, что она беретъ разбѣгъ для какого-то большого, головоломнаго прыжка. Въ обычное время изъ кабинета Льва Аполлоновича раздался звонокъ и горбунья, значительно поджимая губы, внесла ему чай. — А тутъ Липатка Безродный карасей съ Исехры принесъ, баринъ…. — сказала Варвара, степенно складывая руки на животикѣ. — Только я брать не хочу: хоша карась и крупный, хорошій на видъ, но только рыба съ Исехры всегда маленько болотомъ отдаетъ… — Ну, это тамъ какъ хотите… — разсѣянно отвѣчалъ Левъ Аполлоновичъ, чувствуя разбитость и крайнюю усталость во всемъ тѣлѣ. — И говорилъ Липатка, что схиномонахиня мать Афросинія наказывала вамъ безпримѣнно быть у нея севодни послѣ поздней обѣдни по очень важному дѣлу…. — Мать Ефросинія? Черезъ Липатку? — поднялъ слегка брови Левъ Аполлоновичъ. — По важному дѣлу? Что же, развѣ не могла она написать мнѣ? Тутъ что-то не такъ…. Онъ здѣсь? — На кухнѣ. Дожидается…. — Пошли его сюда… — Слушаюсь…. Черезъ три минуты въ дверяхъ кабинета робко остановился Липатка, сѣрый, корявый, со смущеніемъ въ дикихъ лѣсныхъ глазахъ. — Тебя прислала мать Евфросинія? — спросилъ Левъ Аполлоновичъ. — Да… То-ись не мать Афросинья, а Шураль, перевошикъ… — косноязычно спотыкаясь, съ усиліемъ заговорилъ Липатка. — Иду я это мимо землянки его, а онъ поклоны передъ образами бьетъ. Ты, говоритъ, куда это, Липатка? Я инда спужался: никто николи слова отъ него не слыхалъ, а тутъ вдругъ заговорилъ! Къ угорскому барину, говорю, иду, рыбу несу… А онъ эдакъ словно задумался маленько, а потомъ и говорить: скажи, гритъ, угорскому барину, что мать Афросинія, гритъ, его къ себѣ по важному дѣлу сегодня, гритъ, требоваитъ… Что безпримѣнно, грить, сегодни… Она, гритъ, мнѣ велѣла сбѣгать да, гритъ, перевозъ мнѣ покинуть не на кого, а то, грить, люди серчать будутъ, коли на берегу ждать кому придется… Ты ему, гритъ, передай, какъ я тебѣ сказалъ, гритъ. Ну-къ што, говорю, передамъ, чай мнѣ не трудно… Левъ Аполлоновичъ съ недоумѣніемъ слушалъ. — Ну, вотъ возьми это себѣ за рыбу… — сказалъ онъ, подавая Липаткѣ цѣлковый. — И скажи тамъ, что буду… Липатка даже перепугался: цѣлковый! И, нелѣпо кланяясь и за все задѣвая, онъ на цыпочкахъ прошелъ на кухню, сдалъ рыбу недовольной Варварѣ — она осуждала эту невыгодную покупку, — и сильными и ловкими ногами своими зашагалъ къ Устью. Цѣлый цѣлковый отвалилъ — вотъ такъ баринъ! Чести приписать… И онъ сладко предвкушалъ, какъ онъ сейчасъ за его здоровье раздавитъ полдиковинки… И Левъ Аполлоновичъ тотчасъ же послѣ завтрака, смутно тревожный, поѣхалъ въ монастырь: ему чудилось что-то зловѣщее въ этомъ странномъ посланіи…XXIV. — ШУРАЛЬ
— Э-эй, паромъ! — повелительно крикнулъ Корнѣй на монастырскій берегъ. — Жива! Изъ землянки Шураля показалась пожилая, крѣпкая, какъ мужикъ, мать Софья, монахиня, которая иногда смѣняла Шураля на перевозѣ, когда тому нужно было отлучиться куда. Мужики звали ее «мать Софья Премудрая» и боялись ея, какъ огня. Чуть что не такъ, мать Софья, не говоря худого слова, — это было ея любимое присловье — такъ отдѣлывала мужика, что тотъ въ другой разъ и ѣхать на монастырскій перевозъ не осмѣливался, а переправлялся подъ Устьемъ. И безъ всякаго стѣсненія мать Софья обирала съ проѣзжихъ семитки и пятаки: бѣсъ гортаннобѣсія владѣлъ ею издавна и никакъ не могла она совладать съ нимъ. И селедка съ лучкомъ, и малиновое варенье, и копчушки эти маленькія, и халва орѣховая, и многое другое составляло предметъ постоянныхъ мечтаній матери Софьи. Черезъ десять минутъ паромъ тупо ткнулся въ берегъ и Корнѣй осторожно свелъ свою пару на дощатый помостъ. — А гдѣ же Шураль? — спросилъ мать Софью Левъ Аполлоновичъ. — Отлучился куда-то, батюшка… Не знаю… — отвѣчала та. — Меня вотъ замѣсто его потрудиться поставили… Переѣхавъ черезъ Ужву, Левъ Аполлоновичъ пошелъ пѣшкомъ въ крутую монастырскую гору. Съ высокихъ деревьевъ сыпался послѣдній золотой листъ. И сѣро, и низко, и грустно было осеннее небо… Прозвонили уже «къ достойнѣ», когда Левъ Аполлоновичъ вошелъ въ церковь. Служба сразу захватила его встревоженную послѣдними событіями душу и тишина, полная бездонной грусти, спустилась на нее. И Левъ Аполлоновичъ началъ молиться тепло и проникновенно… Онъ и не замѣтилъ, какъ кончилась обѣдня. Богомольцы, шаркая ногами и сдержанно покашливая, двинулись къ выходу. «Къ Тебѣ прибѣгааааемъ…» торопился съ молебномъ въ глубинѣ церкви уставшій хоръ. На паперти нищіе жалобно просили о подаяніи… Левъ Аполлоновичъ нагналъ схимницу: — Вы изволили выразить желаніе видѣть меня, мать Евфросинія? — почтительно освѣдомился онъ. — Я? — удивленно уронила схимница, поднявъ на него свои скорбные, тяжелые глаза. — Нѣтъ… — Но… — удивился Левъ Аполлоновичъ. Онъ съ удивленіемъ оглядѣлся: народъ, вышедшій изъ церкви, не расходился, а становился широкимъ кругомъ неподалеку отъ лѣстницы храма. А запоздавшихъ богомольцевъ, которые, крестясь, выходили изъ церкви, Шураль, перевозчикъ, въ новыхъ лапоткахъ, съ орѣховымъ подожкомъ и съ холщевой сумочкой за плечами, совсѣмъ какъ странникъ, останавливалъ: — Не уходите, православные, сдѣлайте милость… Обождите маленько… Дѣло до васъ всѣхъ тутъ есть… Постойте маленько… И всѣ, удивленные и этой просьбой, и тѣмъ, что онъ заговорилъ, становились въ кругъ и, ничего не понимая, недоумѣвающе переглядывались. Наконецъ, Шураль, быстро оглядѣвъ всѣхъ, истово перекрестился и, весь бронзовый, точно опаленный, съ ярко сіяющими глазами и крѣпко сжатыми челюстями, рѣшительно шагнулъ навстрѣчу Льву Аполлоновичу: — Честь имѣю явиться, ваше высокородіе: бывшій матросъ съ крейцера «Пантера» Юфимъ Омельченко… — вытянувшись, обратился онъ къ Льву Аполлоновичу и было слышно, какъ звякнули его вериги. — Имѣю сдѣлать вашему высокородію важное донесеніе… Пораженный, Левъ Аполлоновичъ вглядѣлся въ бородатое, бронзовое, исхудалое, какое-то точно иконописное лицо и сквозь эти опаленныя, обострившіяся черты проступило что-то смутное, давно забытое: то молодое, наивное, полное жизни лицо, которое онъ еще недавно видѣлъ во снѣ. — Говори… — сказалъ Левъ Аполлоновичъ, чувствуя, что и его охватываетъ волненіе. Богомольцы, вытягивая шеи, безпорядочно надвинулись ближе. И было что-то непріятное въ этихъ жадно ожидающихъ глазахъ ихъ, въ этомъ стадномъ, тупомъ любопытствѣ… — Признаете ли вы меня, ваше высокородіе? — спросилъ Шураль тихо. — Я вѣдь недолго подъ вашимъ начальствомъ на крейцерѣ служилъ, ваше высокородіе… И трехъ мѣсяцевъ не выслужилъ и ушелъ въ бѣга… — Почему? — строго спросилъ Левъ Аполлоновичъ, въ которомъ вдругъ проснулся былой командиръ «Пантеры». — Дюже тяжко на суднѣ было, ваше высокородіе, ужъ вы извините… — отвѣчалъ Шураль. — Я человѣкъ степной, вольный, а крейцеръ-то былъ для насъ все одно, что клѣтка для птицы… Вѣдь, живые люди все, ваше высокородіе, а на службѣ, извините, не только лишняго не скажи, а и не подумай… Только одно и знали, что «такъ точно»… И бывало, идете вы по крейцеру-то, — ужъ извините, ваше высокородіе, — такъ у всей тысячи человѣкъ ноги трясутся: пронеси только, Господи… Ну, другіе, которые посмирнѣе, терпѣли, а я ушелъ… — Постой… — остановилъ его Левъ Аполлоновичъ. — Ты скажи мнѣ прежде всего, для чего тебѣ нужно было вызывать меня сюда? И для чего собралъ ты тутъ народъ? — Объ этомъ рѣчь впереди, ваше высокородіе… — отвѣчалъ почтительно Шураль. — Дозвольте все по порядку… Я понималъ, ваше высокородіе, что вся эта строгость для пользы дѣла… я видѣлъ, вѣдь, что и себя вы не жалѣете нисколько, — не то, что иные протчіе командеры… И здѣсь вотъ, кого ни спроси, всѣ въ одинъ голосъ скажутъ: строгъ угорскій баринъ, но справедливъ и милостивъ… Да… Я это очень понималъ, ваше высокородіе, а все таки вытерпѣть не могъ, потому сызмальства я къ степи, къ своей волѣ привыкъ. Ну, какъ убѣгъ я, показаться домой мнѣ было ужъ нельзя и я забосячилъ — вмѣстѣ съ голотой этой всякой безпашпортной: ихъ тысячи, вѣдь миліёны, по Расеѣ шатаются, гдѣ день, гдѣ два, сегодня сытъ, а завтра голоденъ… И озлобился я, ваше высокородіе: потому такіе же вѣдь люди, а житье имъ горе-горькое… Оно, правда, многіе отъ себя страдаютъ — больше все черезъ пьянство, — ну, я такъ полагаю, что ко всякому человѣку жалость имѣть надобно, ваше высокородіе… И вотъ болтался я разъ въ Сухумѣ городѣ, отъ небилизаціи противъ японцевъ прятался и вдругъ вижу, въ бухтѣ «Пантера» якорь бросила. А вечеромъ какъ-то съ матросами я повстрѣчался и разсказывали мнѣ они, что былъ у ихъ на борту бунтъ большой и что военный судъ разстрѣлялъ восемь человѣкъ. И были всѣ матросы какъ бы внѣ себя. И загорѣлся я, ваше высокородіе, такъ что хошь на ножъ… Ваше высокородіе, дѣло прошлое, но вотъ, какъ передъ Истиннымъ — онъ широко перекрестился на церковь и вериги его звякнули, какъ кандалы, — вы, человѣкъ справедливый, въ томъ дѣлѣ поставили себя неправильно. Ваше высокородіе! — стукнулъ онъ себя кулакомъ въ грудь и опять звякнули его вериги, — на убой гнали насъ тогда тысячами и не знамо за что, и не посовѣсти вели войну правители наши, и народъ возропталъ по закону, по Божьему. Вѣдь, и мы живые люди, ваше высокородіе, вѣдь, и намъ больно бываетъ… И вы, человѣкъ справедливый, замѣсто того, чтобы поддержать народъ въ правдѣ его, вы восемь человѣкъ разстрѣлять приказали!.. И загорѣлся я… И сговорились мы съ матросами, чтобы сосчитаться съ вами за кровь народную, невинно пролитую, и когда вашъ сынъ съ патрулемъ шелъ два дня спустя за городомъ, я… я… изъ колючки… я убилъ его… — едва выговорилъ онъ и, чуть звякнувъ веригами, поднялъ руку просительно и быстро добавилъ: — Подождите, ваше высокородіе: я кончу, тогда вы и прикажете связать меня… и отправить… Дайте только докончить: я не сбѣгу… я самъ же пришелъ къ вамъ, чтобы повиниться… Да… Ударился я на Волгу… А тамъ тоже народъ крѣпко зашумѣлъ: потому и тѣснота тамъ въ землѣ большая — все помѣщики подъ себя забрали, — и всѣхъ война съ японцами прямо на дыбы подняла: тысячи народику положили, а кромѣ страмоты на весь свѣтъ ничего не получилось… И попалъ я какъ-то по заходу въ одно село большое, Хороброво прозывается… Мать Евфросинія вздрогнула, выпрямилась и остановила глаза на Шуралѣ. — Да… И какъ разъ и тамъ народъ взбунтовался… — продолжалъ Шураль. — И я сталъ съ народомъ за одно… И прослышали мы, что на село къ намъ казачишки эти посланы — здорово они въ ту пору надъ народомъ озорничали, разбойники… Ну, и порѣшили мы всѣмъ міромъ посчитаться съ ними. И вотъ, какъ стемнѣло, разбились мы на двѣ партіи: одна должна была усадьбу княжескую громить итти, а другая собрала со всего села бороны желѣзныя и зубьями вверхъ стала выстилать ими улицу, къ въѣзду, откуда казаки скакать должны были… Ну, какъ дали намъ знать огнемъ изъ степи дозорные наши, что казаки близко, идутъ, ударили мы на селѣ въ набатъ и зажгли усадьбу княжескую. Казаки — а ночь была темная, хошь въ глазъ коли, — во весь апортъ спасать усадьбу кинулись, налетѣли въ темнотѣ на бороны и, почитай, всѣ перекалѣчились, а какіе и душу Богу отдали тутъ же, на зубьяхъ… А мы тѣмъ временемъ на усадьбѣ дѣло дѣлали… — обращаясь уже больше къ матери Евфросиніи, въ глубокомъ волненіи продолжалъ Шурал. — На шумъ сперва выбѣжалъ князь и я… и я… тутъ же топоромъ голову ему разсѣкъ… а другіе завалили всѣ двери и… зажгли… а подъ окнами съ вилами и топорами стали… И слышали мы, какъ… кричали въ домѣ… въ огнѣ… дѣти княжескія… — Такъ это… былъ ты?… — задохнулась, вся бѣлая, схимница. — Я, матушка… Только погодите… — опять поднялъ онъ руку. — Я же самъ пришелъ къ вамъ… Да, и бросился народъ… много тогда промежду насъ пьяныхъ было, и то надо сказать… — все ломать и жечь… овецъ тонкорунныхъ въ огонь табунами загоняли… жеребцамъ кровнымъ глаза выкалывали… бугаевъ дорогихъ такъ, зря, порѣзали всѣхъ и побросали… И отъ села къ селу и пошло, и пошло — пока не залили пожара кровушкой народной. Мнѣ уйти удалось, ну… не на радость только: кровь пролитая, какъ ржа, ѣла душу мою и ни въ чемъ не находилъ я себѣ спокою… И вотъ потянуло меня сюды… поближе къ вамъ, кого такъ изобидѣлъ я… и жилъ вотъ я тутъ, въ нищетѣ… въ трудахъ… и молился, но не нашелъ себѣ спокою ни въ чемъ, пока, наконецъ того, не повелѣлъ мнѣ Господь итти къ вамъ и повиниться во всемъ… И, звеня веригами, онъ рухнулъ на колѣни и поклонился схимницѣ до земли. Она едва на ногахъ держалась и была бѣла, какъ снѣгъ. — Матушка, прости меня, окаяннаго… — задохнувшись во вдругъ поднявшемся рыданіи, проговорилъ Шураль. — Прости ради Христа… И не затѣмъ о прощеніи прошу я, чтобы ты никому не говорила о грѣхѣ моемъ, — нѣтъ, вяжите меня, везите въ острогъ, я пострадать хочу… Ну, только ты первая сними съ меня грѣхъ кровавый… Судорожно сжавъ сухія руки, схимница свинцовыми глазами, изъ которыхъ падали на черную мантію крупныя слезы, долго смотрѣла на икону Богоматери надъ папертью — семь мечей было воткнуто въ сердце ея… — и, наконецъ, обернулась къ Шуралю и низкимъ, прерывающимся голосомъ тихо проговорила: — Богъ проститъ… А я… я… тебя прощаю… Рыданья снова бурно подняли грудь Шураля и онъ ударилъ головой въ ноги Льву Аполлоновичу. — Ваше высокородіе… ради Христа… — Встань! — повелительно сказалъ Левъ Аполлоновичъ, весь блѣдный, чувствуя себя во власти какой-то огромной силы. — Встань! И, когда Шураль, повинуясь, звеня веригами, поднялся, Левъ Аполлоновичъ, твердо глядя ему сіяющими глазами въ глаза, проговорилъ: — Не только я прощаю тебя въ грѣхѣ твоемъ, но… самъ прошу у тебя… у всѣхъ… прощенія… И онъ твердо протянулъ своему бывшему матросу руку. Тотъ быстро спряталъ руки за спину. — Не смѣю, ваше высокородіе… — съ дрожащей челюстью едва выговорилъ онъ. — Я прошу о прощеніи! — новымъ, высокимъ, странно звенящимъ голосомъ крикнулъ, не опуская руки, Левъ Аполлоновичъ. — Понялъ? Какъ же ты… можешь? Шураль несмѣло, плача, протянулъ корявую, натруженную руку Льву Аполлоновичу и тотъ, восторженно испуганный какимъ-то яркимъ свѣтомъ, вдругъ залившимъ всю его душу, притянулъ его къ себѣ и крѣпко обнялъ, и отвернулся, и судорожно всхлипнулъ… И странно: что-то теплое и свѣтлое пробѣжало по затаившейся толпѣ богомольцевъ. Лица людей согрѣлись, просвѣтлѣли, очеловѣчились… Шураль хотѣлъ-было такъ, какъ онъ обдумалъ это еще въ землянкѣ, сказать, чтобы его вязали и отправили, куда слѣдуетъ, но онъ вдругъ съ несомнѣнностью почувствовалъ, что сказать теперь этого нельзя. И онъ нерѣшительно спросилъ: — Какъ же прикажете мнѣ… поступить теперь? — Поступай такъ, какъ ты самъ находишь лучше… — отвѣчалъ старый морякъ. — Тебѣ виднѣе… — Мать Афросинья… — тихонько позвалъ Шураль скорбно задумавшуюся схимницу. — Что? А, да… — очнулась она. — И я скажу: поступай такъ, какъ велитъ тебѣ совѣсть… Шураль, потупившись, задумался. — Такъ я пойду, заявлюсь… — вдругъ рѣшительно тряхнулъ онъ головой и лицо его неудержимо просіяло. Шураль снова земно поклонился сперва имъ обоимъ, а потомъ потрясенной толпѣ и, не подымая глазъ, точно боясь расплескать что, поднялся. — Не надо ли тебѣ денегъ на дорогу? — справившись съ собой, проговорилъ тихо Левъ Аполлоновичъ. — Нѣтъ, покорно благодарю, ваше высокородіе… — дрогнулъ голосомъ Шураль. — Ничего не надобно… Такъ лутче… Богъ тамъ самъ укажетъ мѣсто всему… По крайности, душѣ спокой я нашелъ… Шураль еще разъ низко поклонился на всѣ четыре стороны и мягкимъ спорымъ шагомъ направился по дорогѣ въ городъ. Народъ точно проснулся и возбужденно и радостно загалдѣлъ. Нѣкоторые отошли отъ толпы въ сторону, думали что-то, молчали и глаза ихъ напряженно сіяли… — Здравствуйте, баринъ! — поклонился Льву Аполлоновичу бѣлобрысый парень. — Меня Марья Стегневна къ вамъ было послала, — вотъ какъ хорошо потрапилось, что я васъ здѣся встрѣтилъ… — А-а… — ласково отвѣчалъ Левъ Аполлоновичъ, признавъ Митюху, работника Бронзовыхъ. — Въ чемъ дѣло? — Такъ что хозяинъ нашъ Петръ Иванычъ приказалъ вамъ долго жить… — Какъ?! — встрепенулся Левъ Аполлоновичъ. — Когда?! — Въ ночь. Ударомъ… Съ вечера такой веселый былъ, чай съ Марьей Сгегневной пилъ, все, какъ слѣдоваитъ, а въ ночь и преставился… — сказалъ Митюха. — Сичасъ я на полустанокъ гонялъ, телеграмъ Лексѣю Петровичу подалъ, а оттедова сюда вотъ хозяйка велѣла заѣхать на счеть псалтыря, а потомъ къ вамъ наказывала побывать, чтобы на панифидку васъ звать… — Конечно, конечно… Кланяйся Марьѣ Стегнѣевнѣ и скажи, что буду… Онъ простился съ Митюхой и, взволнованный вѣстью о смерти Петра Ивановича, сѣлъ въ свою старенькую коляску и спустился къ перевозу. Мать Софья Премудрая переправила Льва Аполлоновича на тотъ берегъ и, получивъ отъ него двугривенный, все низко кланялась ему и благодарила. А онъ, снова сѣвъ въ коляску, все повторялъ себѣ слова Шураля: Богъ самъ свое мѣсто всему укажетъ… Да, да… — подумалъ онъ радостно. — Весь секретъ въ томъ, чтобы ни о чемъ не заботиться, а только свое дѣло исполнять… А въ чемъ мое дѣло, теперь я знаю навѣрное: въ жалости, въ состраданіи, въ любви, въ милосердіи… И снова все его существо залилъ радостный и пугающій свѣтъ и онъ долженъ былъ собрать всѣ свои силы, чтобы не заплакать отъ умиленія. И всегда торжественное извѣстіе о смерти — въ которомъ всегда кроется напоминаніе о смерти своей, — придавало и этому свѣту, и этому умиленію углубленное и торжественное значеніе. «Какъ все сразу стало ясно, просто и легко!» — думалъ онъ. — Вотъ онъ сейчасъ пріѣдетъ домой и позоветъ ихъ обоихъ, и скажетъ имъ мягко и ласково, что онъ имъ и не судья и не врагъ и что они могутъ поступать, какъ находятъ лучше… И въ головѣ его сами собой складывались эти новыя, мягкія, ласкающія слова и изъ взволнованной души все просились горячія слезы безграничной радости. Какъ все просто, какъ хорошо, какъ легко — только свести къ нулю себя! И нѣтъ, второй разъ такъ, какъ поступилъ онъ тогда на «Пантерѣ», онъ уже не поступитъ и крейсера не взорветъ! Не дисциплина, не порядокъ, не честь, не слава, не государство, — состраданіе, вотъ въ чемъ суть жизни! Со-страданіе — повторилъ онъ вполголоса внимательно, — страданіе съ кѣмъ-нибудь вмѣстѣ… Какое прекрасное и какое невѣрное слово! Какъ только является со-страданіе, такъ разомъ превращается оно въ этотъ ослѣпляющій свѣтъ радости… Коляска остановилась у крыльца. Горбунья Варвара, степенно уложивъ ручки на животикѣ и какъ-то особенно значительно поджимая высохшія губы, тихо доложила: — А барыня уѣхадчи въ городъ, баринъ… — Когда? — не понялъ сразу Левъ Аполлоновичъ. — Зачѣмъ? — Сичасъ же вслѣдъ за вами уѣхали… — пояснила Варвара. — Иванъ, сторожъ, тарантасъ имъ запрегъ… Говорили, что дня на три, на четыре въ городъ… Левъ Аполлоновичъ прошелъ въ кабинетъ и сразу на темнозеленомъ сукнѣ стола увидалъ бѣлый квадратикъ конверта. Письмо было отъ жены. Онъ разорвалъ душистый конвертъ, вынулъ бумагу и прочелъ: «Левъ Аполлоновичъ, я больше не могу жить съ вами. Я уѣзжаю совсѣмъ, Не ищите меня — это безполезно и ни къ чему не поведетъ. Благодарю васъ за все доброе, что вы для меня сдѣлали. Но — прощайте навсегда…»Надъ головой у себя Левъ Аполлоновичъ слышалъ быстрые, взволнованные, изъ угла въ уголъ, шаги Андрея. Левъ Аполлоновича тотчасъ же тихо поднялся къ нему. При видѣ его Андрей очень смутился, но тотчасъ же справился съ собой и подошелъ къ нему рѣшительными шагами. — Папа… — тепло дрогнулъ его голосъ. — Я знаю… ты знаешь все… И я не знаю: виноватъ я предъ тобой или нѣтъ? Въ томъ, что чувство это овладѣло мной, я не виноватъ… вѣдь это зависитъ не отъ насъ… Но я боролся и я… я… не… перешагнулъ черты… И Ксенія Федоровна уѣхала совсѣмъ — вотъ ея прощальное письмо ко мнѣ… — Андрей, я вѣрю тебѣ, голубчикъ, и такъ… — отстраняя письмо, ласково и печально сказалъ Левъ Аполлоновичъ. — Не надо… — А я прошу тебя, прочти… — Если ты хочешь… — сказалъ Левъ Аполлоновичъ и прочелъ: «Прощай, я уѣзжаю… И не ищите меня: это совершенно безполезно. Мнѣ отвратительна деревня, мнѣ противны эти всѣ книги твои, — хочу не читать про жизнь, а жить, и жить всѣми силами души и тѣла. Пусть онъ благородный человѣкъ, но я не хочу — не хочу, не хочу, не хочу! — сгорать на кострѣ даже самаго благороднаго человѣка на свѣтѣ. То, что я пишу тебѣ, можетъ быть, безтолково, но — все равно! Всякія слова опротивѣли мнѣ. Я больше не могу. И пожалуйста, не воображай, что я ѣду топиться: нѣтъ, жить, жить, жить буду я… Прощай и — разъ навсегда! Все кончено. — Ксенія.». Онъ опустилъ письмо и ласково и печально посмотрѣлъ на Андрея. И вдругъ лицо Андрея задергалось и онъ, закрывъ его руками, заплакалъ. — Но, Андрюша… — испытывая странную слабость и чувствуя опять въ себѣ этотъ разгорающійся свѣтъ, сказалъ Левъ Аполлоновичъ. — Я не стану вамъ на дорогѣ… Вы оба совершенно свободны… Андрей поднялъ къ нему свое исковерканное страданіемъ лицо. — Именно поэтому-то, можетъ быть… именно въ этомъ-то и узелъ всего… — едва выговорилъ онъ. — Но… но… я не… принимаю… Въ комнатѣ наступила глубокая тишина, — только тихія рыданія Андрея нарушали ее… Внизу горбунья жутко выжидала чего-то. Наташа не хотѣла вѣрить своему счастью и не могла не вѣрить: ея нѣтъ, ея нѣтъ, ея нѣтъ! И — развѣ принцы въ сказкахъ не любили простыхъ дѣвушекъ?!Ксенія.
XXV. — ГЛАВА ПРИНЦИПІАЛЬНАЯ
Поздно ночью Сергѣй Ивановичъ привезъ Нину въ Древлянскъ и, такъ какъ никакихъ бумагъ у нея не было да и вообще первое время хотѣлось избѣжать всякой огласки и шума, то сразу же всталъ вопросъ: куда же ему съ ней дѣваться? И сразу же самъ собой получился отвѣтъ: да, разумѣется, къ Юрію Аркадьевичу Утоли-моя-печали… Было поздно, около часу, было совѣстно тревожить старика, но что же дѣлать? Не оставлять же ее, иззябшую и уже перепуганную, на улицѣ… Они подъѣхали къ дому учителя — на ихъ счастье въ окнѣ свѣтилась еще лампа. Сергѣй Ивановичъ легонько постучалъ въ окно и тотчасъ же въ форточку послышался добрый голосъ старика: — Ну, кого тамъ Богъ принесъ? Онъ совсѣмъ не былъ удивленъ позднему гостю: къ нему шли и ѣхали со всѣхъ сторонъ и во всѣ часы дня и ночи. Но, когда изъ смущенныхъ объясненій Сергѣя Ивановича онъ узналъ, въ чемъ дѣло, онъ значительно вытянулъ губы и покачалъ головой: — Нда… Это надо обмозговать… — пробормоталъ онъ, но тотчасъ же спохватился: — Во всякомъ случаѣ въѣзжайте на дворъ… или нѣтъ, лучше вотъ какъ: спутница ваша переночуетъ у меня — у меня какъ разъ комната сына свободна, тепло и уютно, — а вы ужъ поѣзжайте ночевать на постоялый, что ли… Такъ будетъ поскладнѣе, голубчикъ… Сергѣй Ивановичъ быстро устроилъ смущенную и взволнованную Нину въ комнатѣ Константина Юрьевича. — Ну, а теперь подите-ка сюда, батенька… — позвалъ его къ себѣ старикъ. — По-стариковски вижу я, что надо намъ крѣпко совѣтъ держать, а для того, чтобы держать его толкомъ, вамъ ужъ придется выложить мнѣ все. Такъ-то… И потому садитесь и, что можно, разсказывайте… Разсказывать, собственно, было нечего: все было, какъ на ладони. — Тэкъ-съ, тэкъ-съ… Номерокъ довольно сурьезный, я вамъ доложу… — говорилъ старикъ задумчиво. — Но ясно одно: если вы не хотите скандала, если вы не хотите, можетъ быть, даже потери мѣста, то, конечно, о немедленной женитьбѣ и рѣчи быть не можетъ. Нужно, чтобы она пожила на свободѣ нѣкоторое время, пока ея выходъ изъ монастыря попризабудется, а тамъ можно и жениться будетъ. Но жениться, такъ сказать, на монахинѣ — дѣло немыслимое… Сергѣй Ивановичъ — хотя сердце его и требовало рѣшеній героическихъ, а тамъ хоть трава не расти, — понялъ, что старикъ правъ. — Согласны? Затѣмъ пунктъ второй: гдѣ же пока пристроить вашу невѣсту? Вы говорите, что Ахмаровы ближайшіе родственники ей? Знаю ихъ и думаю, что съ ними намъ каши не сварить: люди помѣшаны на своемъ высокомъ родѣ и носъ держатъ высоко. Взять меня? Радъ бы всей душой, но мое положеніе педагога обязываетъ меня къ большой осторожности: начальству это можетъ не понравиться. И потому, можетъ быть, слѣдуетъ намъ утречкомъ постучаться къ нашимъ толстовцамъ, къ Павлу Григорьевичу. Онъ живетъ хоть и сѣро, и неуютно, и съ большой натугой, но человѣкъ онъ совсѣмъ свободный и ни съ чѣмъ и ни съ кѣмъ не считается… А тамъ видно будетъ… Такъ и порѣшили. И Сергѣй Ивановичъ, горячо пожавъ руку старика, поплелся на постоялый дворъ Морозихи на Дворянской, гдѣ онъ всегда оставлялъ свою лошадь при рѣдкихъ пріѣздахъ въ городъ. Тамъ, въ жарко натопленной и закопченой комнатѣ для пріѣзжающихъ онъ продремалъ до утра и къ восьми, по уговору, былъ у Юрія Аркадьевича. Нина давно уже встала, тихо какъ мышка, прибралась въ своей комнаткѣ и теперь сидѣла, взволнованная, у окна въ ожиданіи рѣшенія своей судьбы. Горячо и стыдливо она обняла своего возлюбленнаго и, вся вспыхнувъ, торопливо отстранилась отъ него, когда за дверью послышался предупреждающій кашель старика. И поговоривъ немножко и нескладно. — всѣ были смущены, — Сергѣй Ивановичъ съ Юріемъ Аркадьевичемъ направились къ Павлу Григорьевичу, который жилъ совсѣмъ недалеко. Въ неуютной, неопрятной, нестерпимо унылой столовой, полной невоспитанной, горластой дѣтворы, вкругъ нечищеннаго самовара тотчасъ же началось совѣщаніе, въ которомъ приняла участіе и жена Павла Григорьевича, Вѣра Александровна, худосочная, неопрятная женщина съ жиденькими волосенками и дурно пахнущимъ ртомъ. Основныя положенія супруговъ — они были удивительно единогласны, — были очень ясны: съ одной стороны нужно, конечно, помочь ближнему, — разъ, важно вырвать молодую душу изъ монастырскаго застѣнка — два, но съ другой стороны Сергѣй Ивановичъ, поселяя Нину Георгіевну у нихъ, имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, сочетаться съ ней въ близкомъ будущемъ законнымъ бракомъ…. — То есть, другими словами, оказывая ей пріютъ у себя, мы тѣмъ самымъ будемъ сознательно способствовать законному браку, то есть, укрѣпленію тѣхъ суевѣрій, которыя такъ угнетаютъ человѣчество… — поднявъ на гостей свои унылые, унылые глаза, резюмировалъ Павелъ Григорьевичъ. — Да… — кивнула головой Вѣра Александровна. — И потому съ очень большимъ сожалѣніемъ, вѣрьте, но мы должны въ вашей просьбѣ вамъ отказать, — заключилъ Павелъ Григорьевичъ. — Ибо, поступить иначе значило бы прежде всего нарушить свои принципы, которыми мы такъ дорожимъ… — Но вы сами-то вѣнчаны, вѣдь? — спросилъ Сергѣй Ивановичъ, съ любопытствомъ глядя на нихъ обоихъ. — Да. Но это было сдѣлано тогда, когда мы оба блуждали во тьмѣ, какъ и всѣ… — отвѣчалъ Павелъ Григорьевичъ. — Идемъ, Сергѣй Ивановичъ, время-то не ждетъ… — сказалъ старикъ, поднимаясь съ тихимъ вздохомъ. — Извините, что побезпокоили… Ффу! — пыхнулъ онъ, когда оба снова вышли на улицу. — Ну, я вамъ доложу… Чисто вотъ я изъ бани, съ горячаго полка, право… Ну, вотъ что… — вдругъ легкомысленно рѣшилъ онъ. — Пусть Нина Георгіевна остается у меня, вотъ весь и разговоръ: у меня есть свободная комната — скажу, что сдалъ, ничего не подозрѣвая, только и всего… Въ глазахъ архіерея я, все равно, человѣкъ пропащій: «Русскія Вѣдомости» читаю, на стѣнѣ портретъ Толстого виситъ да опятъ же на дняхъ и схватка опять съ нимъ — вотъ, прости, Господи, балда! — изъ-за подновленія фресокъ была… Такъ что тутъ, все одно, хуже ужъ быть не можетъ… Ну, а если начальство гимназическое очень ужъ привязываться будетъ, — наплевать, голову не снимутъ же, Господи помилуй… Ничего, какъ-нибудь обойдется дѣло… Такъ, значитъ, на первое время пріютомъ вы обезпечены, а тамъ что Богъ дастъ… Идите и скажите это Нинѣ Георгіевнѣ, а мнѣ на урокъ въ гимназію поспѣвать надо… Сергѣй Ивановичъ едва удержался, чтобы тутъ же на улицѣ не обнять милаго старика. И долго и крѣпко жалъ онъ ему руку… — Ну, ну, ну… — протестовалъ тотъ сконфуженно. — Надо же войти въ положеніе, Господи, помилуй… Ну, я буду къ двѣнадцати… И онъ потрусилъ-было въ гимназію, но сейчасъ же обернулся: — Погодите-ка, какъ это онъ сказалъ? Содѣйствовать несчастному положенію человѣчества или какъ? Не удерживаетъ моя старая голова этого и шабашъ!.. Ну, прощайте, до двѣнадцати… Мать Евфросинія не только не предприняла никакихъ мѣръ для возврата Нины въ монастырь, но, наоборотъ, все свое вліяніе и всѣ связи употребила на то, чтобы сдѣлать ей путь въ новую жизнь полегче и поглаже. И только въ одномъ она осталась тверда: чтобы между сумасшедшимъ поступкомъ дѣвушки и свадьбой былъ промежутокъ, по крайней мѣрѣ, въ полгода. Ахмаровы и говорить даже не захотѣли объ этомъ дѣлѣ и Нина осталась пока что у Юрія Аркадьевича, почти никуда не показывалась, а Сергѣй Ивановичъ то и дѣло сталъ теперь являться съ докладами къ ревизору лѣсному, который жилъ въ Древлянскѣ. А отъ ревизора всегда можно было заглянуть и къ Юрію Аркадьевичу на часокъ. Весь точно оживившійся, окрыленный, онъ не замѣчалъ ни городской болтовни, ни того, что дѣлается дома, а между тѣмъ на тихой усадьбѣ лѣсничаго тоже назрѣвали всякія событія. Съ наступленіемъ осенней непогоды и холодовъ Дуняшѣ стало уже трудно видѣться со своимъ возлюбленнымъ и очень скоро случилось неизбѣжное: Марья Семеновна изловила-таки свою помощницу и воспитанницу на недозволенномъ. И на другой же день послѣ обѣда, когда Петро, будто по дѣлу какому, крутился около кухни, она вышла на крыльцо. — Ну-ка, ты, прискурантикъ… — тихо, но значительно позвала она его. — Пойди-ка сюда… Петро сразу струхнулъ и покорно пошелъ за домоправительницей, нервно покручивая свои золотистые усики и стараясь не громыхать сапогами. Марья Семеновна завела его въ свою теплую комнатку съ чудовищной постелью и массой образовъ и, сѣвъ сама и оставивъ его стоять, — она умѣла-таки garder les distances!.. — обратилась къ нему: — Ты это что съ Дуняшей-то надумалъ? А? Безстыжіе твои глаза… Что, если вотъ возьму да хозяину скажу, а? Похвалятъ тебя, верзилу? Ты поигралъ съ дѣвкой, собралъ свое лопотьишко да только тебя и видѣли, а что съ дѣвкой будетъ, а? Въ пролубь?… Ишь, наѣлъ морду-то… — Да помилуйте, Марья Семеновна… Да хиба я позволю себѣ… — заговорилъ Петро, весь въ поту отъ смущенія. — Да я съ моимъ полнымъ удовольствіемъ хоть сичасъ подъ вѣнецъ, а не то что… — Такъ чего жъ ты до сихъ поръ-то думалъ? — крикнула Марья Семеновна сердито. Петро опѣшилъ: онъ какъ-то, въ самомъ дѣлѣ, ничего не думалъ — счастливъ, и ладно, а тамъ что Господь дастъ… — Да я, Марья Семеновна… — Марья Семеновна, Марья Семеновна… — сердито передразнила она его. — Ты языкомъ-то у меня не верти, а покрывай свой грѣхъ сичасъ же, а то я не знаю, что съ тобой и сдѣлаю… Не угодно ли: вокругъ ракитова кусточка, по модному… У-у, идолъ несурьезный! Въ крѣпкихъ, хозяйственныхъ рукахъ Марьи Семеновны дѣло сразу закипѣло и было рѣшено сыграть свадьбу еще до филипповокъ. И вотъ, когда разъ Сергѣй Ивановичъ, счастливый, прилетѣлъ изъ Древлянска — опять случилось важное дѣло къ ревизору, — на стражу, онъ увидалъ, что вся усадьба полна народу — женскаго сословія, по словамъ Гаврилы. — Въ чемъ тутъ у васъ дѣло? — А Дуняшинъ дѣвишникъ справляемъ, Сергѣй Ивановичъ… — весело отозвалась Марья Семеновна. — Ужъ не взыщите, сегодня пошумимъ немножко… — Съ Богомъ, съ Богомъ… Въ жарко натопленной большой избѣ лѣсниковъ было полно дѣвушекъ — и мещерскія тутъ были, и вошеловскія, и съ Устья, и луговскія, всѣ, къ которымъ раньше Дуняша такъ ревновала Петро. Онѣ расчесывали красивые темнокаштановые волосы ея, чтобы убрать ея голову уже на бабій манеръ, и пѣли старинную пѣсню:Золотая трубонька трубить по росѣ,
А свѣтъ душа Дунюшка плачетъ по косѣ:
Какъ тебя я, косынька, ростила, плела, —
На первый годочекъ мамаша плела,
На второй годочекъ подружки плели,
Подружки-голубушки золотцемъ вили…
Пріѣхала свахынька съ чужой стороны,
Стала сваха косыньку рвати-порывать,
Рвати-порывать, на двѣ расплетать.
Положили косыньку поверхъ головы, —
Такъ тебѣ ужъ, косынька, вѣкъ весь вѣковать,
А тебѣ, свѣтъ Дунюшка, въ дѣвкахъ не бывать!
Ужъ отойди-ка ты, чужой чуженецъ,
Чужой чуженецъ, добрый молодецъ!
Не твою я хлѣбъ-соль кушаю,
Не тебя теперь я слушаю, —
Буду я твою хлѣбъ-соль кушать,
Буду и тебя тогда слушать…
XXVI. — КОНЕЦЪ ОДНОЙ СКАЗКИ
И потекли на Ужвинской стражѣ тихіе, сѣренькіе, зимніе дни. Марья Семеновна, узнавъ о бѣгствѣ Нины, теперь поняла все и очень боялась, какъ бы это не узналъ Иванъ Степановичъ: зачѣмъ безплодно волновать тихо угасавшаго старика? Много времени проводила она въ своей кладовкѣ: то выстилала полки свѣжими газетами, то вносила какую-то кадочку, то ставила мышеловки, то пересматривала всѣ свои запасы. И чего-чего тутъ не было: и рыжики — да какіе! — и грузди, и капуста, и брусника моченая, и пахучая антоновка, и окорока, а варенья, варенья всякаго, а бѣлыхъ грибовъ, и маринованныхъ, и сушеныхъ, а наливки какія! И когда видѣла она все это свое пестрое, вкусно-пахучее богатство, на душѣ ей становилось легче, покойнѣе, уютнѣе… И она садилась пить съ Ваней чай съ новымъ вареньемъ, и они въ сотый разъ обсуждали, какія именно привезетъ игрушки добрая тетя Шура, а то Марья Семеновна брала свое вязанье и разсказывала Ванѣ разныя сказки, которыя онъ много разъ слышалъ, но которыя отъ этого были не менѣе интересны, а въ особенности, когда онѣ вотъ такъ сопровождались этимъ чуть слышнымъ звукомъ вяжущихъ спицъ, отъ котораго въ теплой комнаткѣ и на душѣ дѣлалось такъ уютно. Изрѣдка Марья Семеновна надѣвала очки, которые подарилъ ей Иванъ Степановичъ и которые она носила, не мѣняя стеколъ — вотъ еще новости, и такъ сойдетъ… — и брала «Русскія Вѣдомости» и искала тамъ, нѣтъ ли чего новаго въ Вѣнѣ, въ Берлинѣ, въ Швейцаріи и всюду, гдѣ она побывала съ хозяевами тогда, послѣ бунта 905. И, если она что находила, то сообщала новость Ванѣ и авторитетно, какъ бывалый человѣкъ, объясняла ему прочитанную телеграмму… Иногда разсказывала она ему о тогдашнихъ скитаніяхъ ихъ по заграницамъ, причемъ къ жизни тамошней она относилась критически и считала, что въ Россіи все же лучше всего. — Правда, порядокъ тамъ во всемъ, а чистота такая, что иной разъ и глазамъ не вѣришь… — степенно говорила она. — Ну, а на счетъ пищи вотъ очень слабо, а въ особенности у нѣмцевъ: жидкая пища, несурьезная, а супы ежели взять, такъ и вовсе смотрѣть не на что: нашъ «Рэксъ» и нюхать не сталъ бы. Ну, не понравилось мнѣ тоже очень, что которые дѣтей до двѣнадцатаго году не хрестятъ. А такъ къ церкви усердны очень — какъ воскресенье, такъ всѣ у обѣдни, въ книжку смотрятъ и поютъ. Народъ вообще ничего, обстоятельный хорошій… А Иванъ Степановичъ все сидѣлъ въ одиночествѣ въ своей тепло натопленной, уютной комнаткѣ. Въ печкѣ урчать, прихлопывая заслонкой, березовыя дрова, кошка, пригрѣвшись на диванѣ, дремотно мурлыкаетъ и кротко, благостно смотритъ большеокій ликъ Спасителя, согрѣтый лампадой, а старикъ неторопливо проглядываетъ свои записки и вся его жизнь, потерявъ свои острые углы и рѣзкіе изломы, смягченная, осіянная, преобразившаяся, проходитъ передъ нимъ, и все ему въ ней равно дорого и мило, и не въ чемъ какъ будто раскаиваться, не о чемъ сожалѣть, ибо все на своемъ мѣстѣ, какъ хорошо выбранное слово въ красивомъ стихѣ… Иногда, въ ядреный, солнечный день лѣсники запрягали для него Буланчика и тихо возили его часокъ-другой лѣсными дорогами, и онъ замѣчалъ, что бѣлки въ этомъ году очень много, что вотъ тутъ перешли дорогу лоси, что въ Осиновомъ логу держится выводокъ волковъ… И случалось, увидитъ вдругъ Иванъ Степановичъсолнечный лучъ, тепло зардѣвшійся на золотомъ стволѣ сосны гдѣ-нибудь въ лѣсной чашѣ, и заплачетъ — такъ покажется ему это умилительно! А то пойнтерковъ своихъ выпустить велитъ и стоитъ въ шубкѣ на крыльцѣ, любуется, какъ они, воздушные, прекрасные, носятся по двору въ то время, какъ «Рэксъ», стоя рядомъ со своимъ старымъ хозяиномъ, смотритъ неодобрительно и печально на суету этихъ вертлявыхъ, легкомысленныхъ собакъ. Воробей Васька хлопотливо летаетъ вокругъ дома, вертится по карнизамъ и все подчеркиваетъ, что вотъ онъ живъ, живъ, живъ… И вотъ разъ утромъ, когда въ тихомъ, морозномъ воздухѣ съ яснаго, блѣдно-голубого неба порхали рѣдкія веселыя звѣздочки-снѣжинки и особенно четко и ярко алѣла по бѣлымъ опушкамъ рябина, въ звонкомъ лѣсу отдаленно запѣлъ колокольчикъ. Ваня, торопливо одѣвшись, выбѣжалъ на крыльцо: папа изъ города ѣдетъ, папа ѣдетъ!.. Дѣйствительно, земская пара завернула на усадьбу, но въ тарантасѣ сидѣлъ не папа, а какая-то дама, закутанная въ шаль — путь съ полустанка былъ не близкій. Еще нѣсколько минутъ, тарантасъ остановился у крыльца и Ваня завизжалъ и запрыгалъ отъ радости: тетя Шура, его любимая тетя пріѣхала!.. — Не могла вытерпѣть… — говорила тетя Шура, цѣлуясь и улыбаясь своей доброй улыбкой. — Устроила кое-какъ ребятишекъ съ няней и къ вамъ… Она у меня славная… Ну, а у васъ какъ?.. И тотчасъ же лицо Марьи Семеновны приняло умиленное выраженіе и глаза налились слезами. — Готовятся все… И до чего тихи, до чего тихи стали, прямо на удивленье… И тетя Шура заплакала потихоньку… Осторожно, безъ шума раздѣлась она въ передней, передала сразу племяннику игрушки, чтобы онъ шелъ играть и не шумѣлъ, — прежде всего чувствовалось, что нельзя въ домѣ шумѣть… — погрѣлась у печки и потихоньку постучалась къ отцу. Тихо — только слышно, какъ весело урчатъ въ печкѣ, похлопывая заслонкой, березовыя дрова… Она постучала еще, — отвѣта нѣтъ… Шура тихонько отворила дверь — Иванъ Степановичъ, какъ-то странно опустившись, сидѣлъ въ своемъ креслѣ, за рабочимъ столомъ, точно надъ работой какой глубоко задумался… И весело урчалъ огонь въ печи, и уютно мурлыкала кошка, и солнечный свѣтъ трогательно смѣшивался съ тихимъ сіяніемъ лампады и золотилъ бѣлую, пушистую голову старика… — Папикъ! — испуганно уронила Шура. Старикъ не шевельнулся. Обѣ въ тревогѣ бросились къ нему, уже зная, но не желая еще знать, что предъ ними. Но сомнѣнія не было: Иванъ Степановичъ былъ мертвъ. Шура, рыдая, опустилась передъ нимъ на колѣни, а Марья Семеновна, истово перекрестившись на образъ Спасителя, залюбовалась сквозь слезы на трогательно-кроткое лицо Ивана Степановича, — точно золотымъ лѣтнимъ вечеромъ слушалъ онъ тихій звонъ стараго лѣса… Потомъ, то и дѣло прорываясь рыданіями, она торопливо пошла за лѣсниками и Дуняшей: надо было прибрать стараго хозяина. И въ головѣ ея уже, несмотря на горе, возстанавливался строгій чинъ похоронъ: перво-на-перво на окнѣ надо будетъ поставить чашку съ чистой водой, чтобы передъ отлетомъ изъ родного дома душа покойнаго могла омыться, надо сейчасъ же послать къ Спасу-на-Крови на счетъ монахини читать псалтирь, надо приготовить и кутью, и поминки для всѣхъ… А Шура, полная тихой, но глубокой скорби, — она вспоминала, какъ особенно нѣженъ былъ съ ней отецъ въ ея послѣдній пріѣздъ сюда, — стояла около него и сквозь слезы машинально смотрѣла на ту страницу записокъ, надъ которой онъ умеръ. Тамъ неувѣреннымъ, старческимъ почеркомъ, какъ видно, совсѣмъ еще недавно, въ концѣ главы было приписано:«Да, мы слишкомъ, слишкомъ большое значеніе придаемъ всѣмъ этимъ писаніямъ нашимъ. Сегодня, шутя, я сказалъ Марьѣ Семеновнѣ, что не стоитъ такъ ужъ заботиться, если курица снесетъ хозяйкѣ однимъ яйцомъ меньше; на это она вполнѣ резонно возразила мнѣ, что не стоитъ такъ же заботиться и о томъ, если какой писатель напишетъ одной книжкой меньше… Вотъ воистину золотыя слова!»И, полная трепетнаго желанія уловить до конца послѣднюю мысль любимаго отца, Шура осторожно перевернула нѣсколько страницъ назадъ и глаза ея упали на совсѣмъ свѣжую, сдѣланную, вѣроятно, еще сегодня помарку: раньше глава эта называлась «Литературная и общественная дѣятельность за послѣдніе годы», — теперь это заглавіе было перечеркнуто, а сверху неувѣреннымъ, старческимъ почеркомъ было написано: «Сказка про большого пѣтуха»….
XXVII. — МЕДВѢЖЬЯ ОХОТА
Стояли тихіе, солнечные, морозные дни. Неподвижный воздухъ крѣпко жегъ лицо и веселилъ душу. Ужвинскіе лѣса превратились въ прекрасные, бѣлые чертоги: башни, арки, купола, минареты, огромныя бѣлыя залы, колонны и нѣтъ конца, нѣтъ конца этому прекрасному бѣлому городу… Деревни до коньковъ потонули въ снѣгу и по утрамъ золотисто-розовыми столбиками поднимался изъ избъ кудрявый, пахучій дымокъ. Ночью по синему снѣгу крутились свирѣпыя волчьи свадьбы и глаза звѣрей горѣли зеленымъ огнемъ и рвали они одинъ другого на смерть… Неподалеку отъ Вартца, подъ кобломъ, въ теплой ямѣ, отрѣзанная отъ всего міра непроходимыми снѣгами, лежала медвѣдица съ двумя крошечными медвѣжатами и, посасывая могучую лапу, тихонько урчала: ур-ур-ур-ур… ур-ур-ур-ур.. — Люди думаютъ, что медвѣди сосутъ лапу для того, чтобы жиромъ своимъ обманывать зимній голодъ, но это совершенно невѣрно: лапа для медвѣдя это то же, что для человѣка весело шумящій самоваръ морознымъ вечеромъ. Безконечное ур-ур-ур-ур… это только выраженіе, завершеніе чувства уюта и наслажденія тишиной жизни. И сладко грезились медвѣдицѣ овсы вошеловскіе, гдѣ провела она не одинъ пріятный часъ, и лѣсной пчельникъ артюшинскаго Вавилы, и любовныя встрѣчи съ другомъ своимъ, тамъ, на далекихъ Лисьихъ Горахъ… И вдругъ — она вся насторожилась…. Да, несомнѣнно: вокругъ что-то новое… Она посунулась къ оконцу. Черный, блестящій носъ ея глубоко втянулъ морозный воздухъ. Да, люди… Слышно осторожное шурканье лыжъ, низкіе, потушенные голоса, морозный скрипъ снѣга, — и здѣсь, и тамъ, и сзади. Она затаилась. Но было тревожно… Гаврила осторожно заводилъ по глубокому снѣгу облаву, набранную по окрестнымъ деревнямъ. Надъ закутанными во всякіе лохмотья фигурами мужиковъ и бабъ стояли столбики пара. Сергѣй Ивановичъ и возбужденный Петро разставляли по номерамъ чужеземныхъ гостей: чудесныя, невиданныя шубы, шапки съ ушами, ружья, которымъ нѣтъ цѣны, крѣпкій запахъ сигаръ… На лучшемъ номерѣ, на пятѣ, поставленъ былъ главный директоръ американской компаніи, высокій, сильный янки съ бритымъ лицомъ и стальными глазами. На сосѣднихъ номерахъ стояли его компаніоны, такіе же крѣпко сбитые, чистые, стальные. Сзади каждаго изъ нихъ поставленъ былъ лѣсникъ — они собраны были со всей Ужвинской дачи для услугъ важнымъ гостямъ. На одномъ изъ номеровъ стоялъ Алексѣй Петровичъ, который охоты, какъ и всякой вообще зряшной потери времени, не любилъ. За нимъ поставили исхудавшаго и печальнаго Андрея и послѣдній номеръ долженъ былъ занять самъ Сергѣй Ивановичъ…. — Ну, и бродно! — продираясь глубокимъ, мягкимъ снѣгомъ на лыжахъ, возбужденно прошепталъ Петро, то и дѣло отирая платкомъ потъ. — Прямо не пролѣзешь…. — А ты самъ провѣрялъ кругъ? — спросилъ Сергѣй Ивановичъ. — Будьте спокойны… — усмѣхнулся Петро. — Оба съ Гаврилой еще вечеромъ провѣряли… Ну, вотъ вы за этой елочкой станьте, Сергѣй Иванычъ, — толковъ большихъ тутъ ждать нельзя, ну, да на грѣхъ-то и изъ полѣна выстрѣлитъ, какъ говорится… И онъ, приглядѣвшись еще разъ къ расположенію цѣпи стрѣлковъ, осторожно двигая лыжами, направился въ глубь лѣса. Прямо передъ нимъ сквозь рѣдкій погонистый соснякъ, весь запушенный снѣгомъ, виднѣлся сумрачный Вартецъ. За послѣдніе мѣсяцы Петро, разсказывая о своихъ похожденіяхъ подъ Ивана Купала, чтобы понравиться слушателямъ, невольно насочинилъ столько новыхъ жуткихъ подробностей, что теперь и самъ онъ не могъ бы уже отличить Wahrheit отъ Dichtung и потому теперь, при взглядѣ на жуткое мѣсто, у него невольно дрожь прошла по спинѣ. Но впереди между деревьями замелькали люди: то былъ Гаврила съ загономъ. — Въ кругу? — весь дрожа, какъ въ лихорадкѣ, спросилъ тихонько Петро. — Въ кругу, — весь дрожа, отвѣчалъ Гаврила. Загонъ продвинулся еще впередъ, ближе къ Сергѣю Ивановичу, и сталъ. Мертвая тишина — только гдѣ-то попискиваютъ синички тихонько да за стѣной точно заколдованныхъ деревьевъ звенитъ и плещетъ и рокочетъ никогда не замерзающій Гремячій Ключъ. Бьются напряженно сердца и слеза застилаетъ глаза и сжимаютъ руки тяжелые штуцера… Американцы гордились уже достигнутыми въ дѣлѣ огромными результатами и предвкушали удовольствіе застрѣлить настоящаго русскаго медвѣдя. Алексѣй Петровичъ просматривалъ, разрушалъ и вновь собиралъ свои столбики цифръ и находилъ въ нихъ источникъ радости и гордости. Сергѣй Ивановичъ смутно чувствовалъ бѣду, которая грозитъ его милому лѣсу, и былъ сумраченъ: пока американцамъ удалось урвать еще немного, но кто знаетъ, что будетъ дальше? Андрей былъ блѣденъ и печаленъ и все звучала въ душѣ его вѣковѣчная пѣснь пѣсней, пѣснь о любви разбитой, пѣснь о любви желанной, Какъ это ни странно, и онъ, и Левъ Аполлоновичъ успокоились послѣ побѣга Ксеніи Федоровны значительно скорѣе, чѣмъ можно было ожидать: съ него точно навожденіе какое сразу вдругъ свалилось, а старикъ понялъ, что онъ былъ для нея только ступенью куда-то и — смирился. А отъ нея вскорѣ пришло письмо, въ которомъ она извѣщала, что поступила артисткой въ одно большое кинематографическое предпріятіе и просила выслать нѣкоторыя ея вещи. И ходили глухіе слухи, что молодой князь Судогодскій очень усидчивъ опять около нея… Вспомнилась вдругъ Андрею почему-то Лиза, которую онъ въ послѣдній разъ видѣлъ на похоронахъ Ивана Степановича. Какая странная враждебность въ этой дѣвушкѣ къ нему!.. Онъ вздохнулъ тихонько и сталъ думать о своихъ занятіяхъ въ тихомъ «Угорѣ», въ которыхъ онъ топилъ свою тоску… Въ глубинѣ лѣса стукнулъ сигнальный выстрѣлъ. — А-а-а-а-а… — заголосила вдругъ облава дикими голосами. — А-а-а-а… Пошелъ, пошелъ, косолапый, — не морозь господъ… Ну, вставай давай!.. А-а-а-а…. Встревоженная медвѣдица снова посунулась-было къ окну, но оглянулась на завозившихся дѣтей и осталась. Она темно чувствовала, что всѣ эти люди пришли за ней, и ей было и страшно, и злобно. И, рѣшивъ отлеживаться до послѣдняго, она мягкимъ, горячимъ языкомъ стала, успокаивая, лизать своихъ малышей…. — А-а-а-а-а… — надрывалась облава зяблыми голосами и паръ стоялъ надъ лохматыми фигурами этими. — Да ну, чертище!.. Оглохъ, что ли?.. А-а-а… — Надо итти въ кругъ ершить… — весь дрожа, какъ осиновый листъ, сказалъ Петро. — Не встаетъ… — Надо итти… — едва выговорилъ отъ волненія Гаврила. И, взявъ только топоръ, — охотничій обычай не позволяетъ обкладчикамъ, будящимъ медвѣдя, другого оружія, — оба увѣренно скрылись въ лѣсу. Берлогу узнать имъ было легко по инею, густо обсѣвшему ея чело. — Ну, Господи, благослови… Гаврила тутъ же вырубилъ погонистую, съ длинными голомянами сосенку, опустилъ ее подъ кобелъ и сразу нащупалъ мягкаго звѣря. — Да ну, вставай… Земерзли всѣ! — крикнулъ онъ трясущимся голосомъ. — Ну, подымайся… И онъ ударилъ звѣря. Медвѣдица рявкнула, однимъ движеніемъ могучей лапы переломила шестъ, но — не выходила… — Значитъ, дѣти… — сказалъ дрожа, Гаврила. Медвѣдицу уже ершилъ теперь Петро. Вотъ его шестъ, должно быть, больно задѣлъ звѣря, медвѣдица рявкнула, опять выбила шестъ изъ его рукъ, разомъ въ холодномъ облакѣ инея вылетѣла изъ берлоги и бросилась на Петро. Тотъ попятился, упалъ навзничь и медвѣдица была-бы на немъ, если бы Гаврила обломкомъ шеста не вытянулъ звѣря вдоль бока. Глухо рявкнувъ, она бросилась на Гаврилу. Но въ это мгновеніе облава, помѣтивъ мечущагося по сугробамъ чернаго звѣря, яростно заголосила, застучала палками по деревъямъ, забила въ «на смѣхъ» принесенные съ собой старые чугуны и разбитыя сковороды и медвѣдица, фыркнувъ, вздыбила, осмотрѣлась и — желая прежде всего отвести враговъ отъ дѣтей, — огромными машками пошла старымъ, осеннимъ слѣдомъ своимъ на-утекъ. За молоденькой елкой, едва видной подъ снѣгомъ, что-то шевельнулось, стукнулъ выстрѣлъ и что-то обожгло шею звѣря. Медвѣдица коротко рявкнула отъ неожиданности и, оставляя по сугробамъ длинныя, красныя бусы, яростными машками пошла вправо. Разъ-разъ…. — сверкнуло изъ-за другой елки. Мимо!.. Разъ… Ударъ въ ногу, но легко…. Скорѣе, скорѣе!.. Еще два торопливыхъ выстрѣла… «Что это? — думалъ, замирая, Сергѣй Ивановичъ. — Мажутъ? Ну, и слава Богу, Ты только сюда-то добирайся, а ужъ я тебя выпущу… — про себя обратился онъ любовно къ звѣрю. — Ну, выбирайся, выбирайся…». Онъ вообще очень любилъ звѣря и всячески старался щадить его. И медвѣдя онъ рѣшилъ отъ заморскихъ гостей укрыть — только бы дошелъ звѣрь до него…. Но послѣ нелѣпаго выстрѣла Алексѣя Петровича — было слышно, какъ защелкала пуля высоко по стволамъ, — медвѣдица повернула на облаву. Мужики и бабы, въ совершенно непонятномъ остервененіи, забывъ рѣшительно о всякой личной опасности, съ дикой яростью набросились на нее и, уже уставшая отъ прыжковъ по глубокому снѣгу, медвѣдица снова повернула на цѣпь стрѣлковъ въ надеждѣ быстрымъ настискомъ прорвать ее. Но съ перваго номера снова увѣренно стукнулъ выстрѣлъ и съ разбитымъ въ мелкіе куски черепомъ медвѣдица ткнулась носомъ въ холодный, разсыпчатый и пахучій снѣгъ…. Облава, радостно разстроивъ ряды, бросилась по глубокому снѣгу къ звѣрю. Шуркая лыжами, подходили съ номеровъ стрѣлки. Русскій возбужденный говоръ мѣшался съ увѣреннымъ птичьимъ говоромъ американцевъ. Прибѣжали оба обкладчика, блѣдные, какъ смерть, отъ пережитыхъ волненій, съ огромными сіяющими глазами и все трясущіеся съ ногъ до головы. И сейчасъ же нашлись охотники лѣзть подъ кобелъ, и вытащили изъ ямы двухъ крошечныхъ, черненькихъ, въ бѣлыхъ галстучкахъ, медвѣжатъ, которые безсильно загребали въ воздухѣ своими лапками и сердито орали. Здоровый мужицкій хохотъ стоялъ въ бѣлыхъ чертогахъ лѣса. — Во: ишь, какъ верезжитъ!.. — слышались голоса. — Сразу свою породу сказывать… А ногами-то, ногами-то, гляди, какъ загребать… А когтищи-то, а? — А very fine beast… — разглядывая убитую медвѣдицу, сказалъ директоръ. — Oh, yes, very fine indeed… — послышались голоса. — Is n’t it? — Ну-ка, Липатка, поговори-ка съ ними по мерикански-то… — пустилъ кто-то. — Кто? Липатка-то? Онъ у насъ на всѣ языки можетъ… Ну-ка, Липаткъ, а?… Чего ты, дура, скѣсняешься? Но Липатка, оборванный, въ лаптяхъ, съ дикими глазами, отмалчивался: потупившись, онъ смотрѣлъ на распростертую по взрытому, окровавленному снѣгу медвѣдицу и ему было жалко лѣсного звѣря-богатыря… И вспомнилось ему жаркое іюльское утро, когда онъ, за Исехрой, въ моховыхъ болотахъ налаживалъ пружки на глухарей и тетеревей, и вдругъ, почувствовавъ чью-то близость, вскинулъ глазами и обмеръ: неподалеку, среди бѣлыхъ кочекъ, стояла крупная, черная медвѣдица и недовѣрчиво смотрѣлъ на него. Затѣмъ, понявъ, что это свой, она удовлетворенно фыркнула и, не торопясь, потянула на боръ. И подсказало ему его дикое сердце, что это была она, и стало ему сумно… Хмурился и Сергѣй Ивановичъ: и ему это кровавое вторженіе чуждаго міра въ его лѣса было очень не по душѣ и, хотя начальствомъ и было ему вмѣнено въ обязанность оказывать высокимъ гостямъ всякое вниманіе, онъ смотрѣлъ на нихъ холодно и отдѣлывался только короткими, вѣжливыми фразами…. И гости по развороченному снѣгу пошли осматривать берлогу. — Oh, what is it? Надъ плещущимъ, рокочущимъ, звенящимъ среди бѣло-голубыхъ глыбъ льда Гремячимъ Ключемъ, на разубранныхъ снѣгомъ старыхъ еляхъ яркъ сверкали маленькіе образки и весело пестрѣли безчисленныя ленточки. Сергѣй Ивановичъ коротко объяснилъ это убранство Алексѣю Петровичу и тотъ перевелъ американцамъ. Они равнодушно посмотрѣли на столѣтнія ели — они ничего не поняли и даже и не желали понимать: что-то дикое, русское, что does not matter at all. Между тѣмъ лѣсники, по распоряженію Сергѣя Ивановича, обносили замерзшую облаву традиціоннымъ стаканчикомъ. Мужики хлопали шкалики, рычали отъ удовольствія и галдѣли все больше и больше. — Ну, Липаткъ… Чево-жъ ты?… — приставали они все къ Липаткѣ. — Переговори съ господами-то по-мерикански… А? Елды-булды — ишь, какъ наяриваютъ…. Сразу захмелѣвшій Гришакъ Голый, мещерскій обличитель, сдѣлалъ вдругъ ловкую «выходку» и плясовымъ говоркомъ пустилъ:Эхъ, мериканская мать,
Сабиралась памирать, —
Памереть не памерла,
Только время правела!..
XXVIII. — ЛИЗА
Лиза сидѣла въ своей рабочей комнаткѣ на Дѣвичьемъ Полѣ, неподалеку отъ клиникъ, и грустила. Грустила она, во-первыхъ, потому, что на дворѣ ослѣпительно сверкало солнце и брилліантами вспыхивала звенящая капель, а она вотъ одна, во-вторыхъ, потому, что до сихъ поръ никакъ не могла она простить себѣ, что зимой, послѣ похоронъ отца, она наговорила столько колкостей Андрею, а въ-третьихъ, и главнымъ образомъ потому, что въ душѣ ея все не угасалъ давній и тяжелый разладъ. Въ Лизѣ было собственно двѣ Лизы. Одна Лиза любила ходить по грибы, пѣть въ звонкомъ лѣсу русскія пѣсни, играть въ горѣлки, говорить всякія глупости и хохотать такъ, здорово живешь, безъ всякой причины, а другая Лиза считала непремѣннымъ долгомъ своимъ ходить на концерты Скрябина и мучиться и считать себя круглой дурой потому, что — если говорить по совѣсти — ничего она въ этой странной музыкѣ не понимала и никакого удовольствія она ей не доставляла; одна Лиза могла часами, съ увлеченіемъ, съ восторгомъ возиться съ Марьей Семеновной въ ея пахучей кладовкѣ, варить, солить, мочить, мариновать, увязывать, пробовать всякія съѣдобныя сокровища, а другая Лиза терзалась надъ разногласіями эсъ-эровъ и эсъ-дековъ и никакъ не могла взять въ толкъ, «почему сіе важно въ-пятыхъ»; одна Лиза могла искренно расплакаться, если дуракъ-гребень не хотѣлъ сразу расчесать ея красивыхъ, мягкихъ черныхъ волосъ и швырнуть его, идіота, къ черту въ уголъ, и плакать ночами потому, что никакъ она не можетъ не говорить Андрею дерзостей, а другая Лиза умирала отъ тоски надъ «Божественной Комедіей», изъ которой ея знакомый революціонеръ Константинъ Юрьевичъ съ такой легкостью цитировалъ «Lasciate ogni speranza», надъ «Потеряннымъ Раемъ», надъ Карломъ Марксомъ, который — вотъ проклятый! — написалъ цѣлыхъ три тома «Капитала», одинъ непонятнѣе другого, и шла на рефератъ Евдокіи Ивановны Кукшиной, и спорила съ курсистками и студентками о міровой революціи. Лизѣ кажется, что г-жа Кукшина несетъ плоскій и пошлый вздоръ отъ котораго уши вянутъ, но оглянется — вездѣ внимательныя лица, апплодисменты и на утро во всѣхъ газетахъ: Евдокія Ивановна… Евдокія Ивановна… Евдокія Ивановна, чтобы ее черти совсѣмъ побрали… И Лиза съ сіяющими глазами начинаетъ апплодировать тоже… И, естественно, Лизѣ кажется, что засѣдать, реферировать, сказать во время «Lasciate ogni speranza», поспорить про Маркса, попасть въ газеты чрезвычайно важно и значительно. И она никакъ не могла понять, какая же Лиза въ ней настоящая, печалилась и изнемогала подъ той, во-истину, непосильной ношей, которую она, подчиняясь чьей-то сторонней и странной волѣ, взваливала на свои молодыя плечи… И что всего хуже, одна Лиза хотѣла бы хоть разъ, но всѣмъ сердцемъ броситься на шею Андрею и, какъ лѣсная мавка-русалка, зацѣловать, заласкать его до смерти, а другая Лиза, Лиза Маркса, г-жи Кукшиной и «Lasciate ogni speranza», презрительно вздергивала кверху свой хорошенькій носикъ и совѣтовала ему, прежде чѣмъ спорить съ ней, прочесть книгу Бебеля о женщинѣ… — Можно? Весенняя печаль сразу слетѣла съ хорошенькаго личика. Лиза притворила дверь въ свою бѣлую спаленку, быстро напустила на себя выраженіе совершенно сознательной личности и сказала: — Пожалуйста! Въ комнату вошелъ развязно и нагло Константинъ Юрьевичъ. На его козлиномъ лицѣ нагло сіяло золотое пенснэ, а въ красивомъ, небрежно повязанномъ галстухѣ сказывался одновременно и кокетство, и презрѣніе къ буржуазному міру и его гнуснымъ предразсудкамъ. Его очень тянуло къ хорошенькой землячкѣ, но онъ считалъ бы для себя величайшимъ позоромъ обнаруживать какіе-то тамъ сантименты. Въ этомъ словѣ слышалось ему что-то такое отъ сантима, отъ всей этой буржуазной сволочи и вообще чепухи, какъ правильно замѣтилъ это Базаровъ и блестяще подтвердилъ Джонъ-Стюартъ-Милль. Онъ съ аффектированной небрежностью поздоровался съ Лизой, повалился въ кресло и сталъ нагло раскачивать ногой. Это раскачиваніе было неудобно ему, утомительно, но это говорило о его презрѣніи къ предразсудкамъ да, пожалуй, отчасти и къ жизни вообще, это было довольно шикарно… — Хотите чаю? — спросила Лиза. — Ну, вотъ… Какъ придешь, такъ непремѣнно чаю… — усмѣхнулся Константинъ Юрьевичъ. — Какъ еще крѣпко сидитъ въ васъ бабушка! А еще современная женщина… — Пожалуйста! — вздернула Лиза носикомъ. — Я люблю пить чай и безъ всякой бабушки… Хотите или нѣтъ? — Ну, что же, пожалуй, разъ это доставляетъ вамъ удовольствіе. А вы были вчера на рефератѣ Кукшиной? — Разумѣется! — Ну, что, какъ? — Чрезвычайно, чрезвычайно интересно! — Да, она бабецъ съ темпераментомъ… — снисходительно замѣтилъ Константинъ Юрьевичъ. — Хотя много еще въ ней сидитъ этой буржуазной маниловщины… Въ дверь осторожно постучали. — Войдите! На порогѣ стоялъ Андрей, исхудавшій и печальный. Лиза вспыхнула и мысленно быстро обратилась къ своему языку: «если ты и теперь мнѣ что напортишь, такъ и знай: исколю булавкой!» И ласково она проговорила: — А-а, Андрей Ипполитовичъ… Это очень любезно съ вашей стороны… Давно изъ «Угора»!? — Только вчера… Онъ замѣтилъ вдругъ развязную позу Константина Юрьевича и его нагло качающуюся ногу, по лицу его прошла тѣнь и въ душѣ потянуло холодкомъ. — Ну, садитесь… Сейчасъ будемъ пить чай… — говорила разрумянившаяся Лиза. — Но сперва только скажите: какъ у васъ тамъ? Все слава Богу? — Нѣтъ, не совсѣмъ… — Что такое? — Да это нашествіе иноплеменниковъ взбудоражило весь край… — отвѣчалъ Андрей, поздоровавшись съ Константиномъ Юрьевичемъ и садясь отъ него подальше. — Инженеры въ городъ понаѣхали, свои и американцы, лазятъ по лѣсамъ, все что-то вычисляютъ, записываютъ, измѣряютъ… А въ городѣ кутежи безъ конца, тройки, шампанское… Идетъ Капиталъ и — что-то будетъ? — Ну, и что же? И прекрасно… — поднялся кверху хорошенькій носикъ. — По крайней мѣрѣ край оживится… Не всѣ такіе медвѣди, какъ вы: лежитъ въ своей берлогѣ, сосетъ лапу и ни до чего ему дѣла нѣтъ… — И это міровой процессъ и бороться противъ него отдѣльному человѣку также безполезно, какъ безполезно комару пытаться остановить курьерскій поѣздъ… — важно вставилъ Константинъ Юрьевичъ, качая ногой. Андрей пропустилъ его замѣчаніе мимо ушей. Константинъ Юрьевичъ всегда раздражалъ его. Но онъ сдержался. — Почему же берлога? — обратился онъ къ Лизѣ. — Жизнь, если въ нее вдуматься поглубже, и тамъ также интересна, какъ и вездѣ… Возьмите хотя эту драму, которая начинаетъ теперь развертываться тамъ, эту борьбу боговъ, — развѣ это не интересно? Съ одной стороны въ лѣсныхъ пустыняхъ нашихъ живо еще древнее славянское язычество, этотъ свѣтлый пантеизмъ, съ которымъ вотъ уже тысячу лѣтъ безплодно борется враждебная ему мрачная византійщина, подмѣнившая собою Христа, теперь выступаетъ на сцену новый, желтый Богъ нашего времени, Капиталъ, и уже чуется въ воздухѣ, въ тысячѣ мелочей, ходъ бога новѣйшаго, Революціи, который идетъ вслѣдъ за Капиталомъ. Что побѣдитъ, когда, какъ?.. — Конечно, революція… — авторитетно усмѣхнулась Лиза. — Само собой разумѣется, она сотретъ и ваше дикое язычество, и противную византійшину, и гнусный капиталъ… — раскачивая ногой, презрительно сказалъ Константинъ Юрьевичъ. — Я не такъ увѣренъ въ этомъ… — стараясь удержать разговоръ въ мирныхъ рамкахъ, хотя что-то темное уже поднималось въ его сердцѣ, сказалъ Андрей. — Если вы присмотритесь къ исторіи человѣчества, то вы не можете не видѣть, что исторія человѣчества есть прежде всего исторія необыкновенныхъ приключеній, борьбы и смерти боговъ. И въ этой исторіи боговъ васъ поражаетъ какая-то фатальность: свѣтлый и ласковый въ началѣ къ человѣку пантеизмъ какъ-то постепенно, незамѣтно доходитъ до человѣческихъ жертвоприношеній и «обагришася холмы наша кровію»; Христосъ, говорившій о лиліяхъ солнечныхъ полей и радостныхъ птицахъ небесныхъ, чрезъ нѣсколько вѣковъ превращается въ грознаго Бога, который заставляетъ людей зарываться въ землю и тоже заливать эту землю морями человѣческой крови въ религіозныхъ войнахъ изъ-за словъ, утверждаетъ инквизицію и пр.; капиталъ очень склоненъ забывать, что его назначеніе служить человѣку, служить жизни — вѣдь, и бѣлка, собирая на зиму орѣхи въ дупло, собираетъ капиталъ, — и скоро начинаетъ пожирать людей, осквернять и опустошать природу, уродовать всю жизнь, какъ это дѣлаютъ и другіе идолы… И революція побѣдитъ только тогда, когда она будетъ помнить, что роль ея служебная; если же она забудетъ это и превратится въ нѣчто самодовлѣющее, — а опасность эта есть, — то и она станетъ, какъ и другіе боги, страшнымъ Вааломъ, безчувственнымъ, все пожирающимъ идоломъ. Не забывайте страшнаго факта: въ началѣ всякой революціи стоитъ святой, который хочетъ отдать людямъ все, даже жизнь свою, а въ концѣ всегда появляется шарлатанъ, который хочетъ взять у людей все, даже жизнь ихъ. Революція должна усилить нравственный элементъ въ жизни людей, а она разрушаетъ его… Задорно поднятый кверху носикъ опустился — это было и интересно, и какъ-то особенно задушевно, и совсѣмъ не похоже ни на Маркса, ни на Евдокію Ивановну Кукшину, ни на споры курсистокъ со студентами… Лиза не знала еще, что все, что онъ ни говорилъ бы, было бы для нея одинаково убѣдительно. — Все это… фантазіи… — сказалъ Константинъ Юрьевичъ и сильнѣе закачалъ наглой ногой. Носикъ поднялся кверху. — Позвольте… Въ чемъ же рѣшеніе вопроса?.. Это было угловато и совсѣмъ непонятно, но Андрей, какъ и всегда, понялъ ее. — Рѣшеніе вопроса, можетъ быть, въ томъ, чтобы помирить боговъ… — еще задумчивѣе сказалъ онъ: въ послѣднее время онъ много думалъ на эту тему. — Для этого нужно возвратить ихъ къ ихъ первоначальному состоянію, чистому и простому. Если вы отъ современной церкви съ ея золотыми митрами, которая охраняется отъ вратъ адовыхъ отрядами стражниковъ, подниметесь къ ея источникамъ, къ Христу, простому и ясному, то вы увидите, что онъ совсѣмъ не врагъ ни свѣтлому и теплому Дажьбогу нашему, ни благодатному Перуну, ни прекрасной Мокоши, но, наоборотъ, онъ, воспѣвшій лиліи полей и птицъ небесныхъ, такой же богъ любви, богъ жизни, богъ вѣчный, какъ и они. И если вы знаете, что въ началѣ капиталъ это горсть орѣховъ, спрятанныхъ бѣлкой въ дуплѣ, закромъ крестьянина, изъ котораго онъ будетъ кормить свою семью и нищаго-прохожаго, прекрасный лѣсъ, и звѣрь, и птица, которыхъ вашъ братъ свято блюдетъ для грядущихъ поколѣній, вы увидите, что и капиталъ это жизнь, тепло, радость. И если отъ липкой, вонючей гильотины и шарлатана, перевязавшаго себя краснымъ шарфомъ, вы пойдете къ источнику, вы найдете благородную, теплую мысль, въ которой сіяетъ и свѣтлый Сварогъ, и живетъ Христосъ, и дума мужика о нищемъ, — тепло, жизнь, свѣтъ, любовь… Рѣшеніе вопроса, какъ вы говорите, въ простотѣ, въ ясности, въ первоисточникѣ, ибо въ основѣ всѣхъ боговъ человѣческихъ покоится — Богъ, Единый, всюдусущій и присносущій… Опять опустился хорошенькій носикъ. Сколько въ его душѣ тепла! И почему онъ такъ печаленъ? Милый, милый… О чаѣ было совсѣмъ забыто… Нога нагло качалась и нагло было козлиное лицо… Что-то сжало сердце Андрея и ему захотѣлось уйти. Да, уйти совсѣмъ… Но только бы узнать: отчего въ ней столько враждебности къ нему? — Какой-то странный… мистицизмъ… — усмѣхнулся Константинъ Юрьевичъ. — Это совсѣмъ не по моей части… И вообще, я боюсь, что подобная проповѣдь не найдетъ отклика въ современномъ обществѣ… — Я ничего и не проповѣдую… — сказалъ Андрей тоскливо и снова обратился къ Лизѣ: — И знаете, что здѣсь у васъ, въ Москвѣ, особенно рѣжетъ глазъ деревенскому жителю? — Ну-съ? — сощурилась Лиза, желавшая показать, что растрогать ее совсѣмъ ужъ не такъ то легко. — Это интересно… — Блестящіе магазины, милліоны книгъ, рефераты, разговоры, театры, роскошь, а тамъ… Вотъ что случилось у насъ въ Вошеловѣ этимъ лѣтомъ, когда васъ на стражѣ не было. Замѣтили мужики, что у нихъ кто-то производить зажины… — Зажины? Это что такое? — У крестьянъ существуетъ повѣрье, что если на зорькѣ, въ одной рубашкѣ, безъ креста, нажать нѣсколько колосьевъ на чужой полосѣ и колосья эти повѣсить у себя надъ сусѣкомъ, то съ нихъ какъ бы невидимо потечетъ въ сусѣкъ зерно того, съ чьей полосы они сжаты. А у того, у хозяина, зерна будетъ соотвѣтственно убывать. Это очень распространенное у насъ повѣрье. И вотъ замѣтили вошеловцы, что у нихъ кто-то зажинаетъ. Два парня вызвались итти покараулить съ ружьемъ. Пошли… И дѣйствительно, на зорькѣ, видятъ, бѣжитъ полями какая-то баба въ одной рубашкѣ и все зажинаетъ, все зажинаетъ… Парни подпустили ее поближе и — выстрѣлили. Та закричала и упала на дорогу. Бросились они къ ней и Гараська, тотъ, что стрѣлялъ, видитъ вдругъ, что это — его мать! И привезли ее къ намъ на усадьбу: вся въ крови, грудь разворочена волчьей картечью, уже умираетъ… И она мучилась, безъ конца, а парней урядникъ увезъ въ острогъ… — Какая дикость! — презрительно вздернулъ плечами Константинъ Юрьевичъ. — Какое невѣжество! — Да. Но кто въ этомъ виноватъ? — сказалъ тихо Андрей. — Во всякомъ случаѣ не я! — нагло захохоталъ Константинъ Юрьевичъ. — И что же старуха? — тихо спросила Лиза. — Такъ у насъ на дворѣ и умерла, — до больницы, вѣдь, больше двадцати верстъ… — сказалъ Андрей. — Мой отецъ не разъ предлагалъ отвести подъ больницу нашъ большой флигель, давалъ освѣщеніе и отопленіе, но на содержаніе персонала у него средствъ не хватаетъ… Просили-было князей Судогодскихъ… — онъ только рукой махнулъ. — И народъ видитъ это пренебреженіе къ нему и озлобляется. Давно ли отшумѣлъ 905? И теперь успокоилось, вѣдь, только снаружи, а внутри охъ, какъ бродитъ… — Вотъ это какъ разъ то, что говорю и я… — замѣтилъ самодовольно Константинъ Юрьевичъ, особенно нагло раскачивая ногой. — Только вы, какъ я вижу, склонны опасаться, что ли, этого, а мы привѣтствуемъ этотъ новый и, надѣюсь, окончательный взрывъ… Андрею стало совсѣмъ тоскливо и онъ всталъ. — Ну, мнѣ пора итти… — сказалъ онъ. — Можетъ быть, забѣгу къ вамъ еще какъ-нибудь потомъ… Вы на Пасхѣ пріѣдете къ намъ? — Да, какъ всегда… — Ну, такъ пока до свиданія… — До свиданія… Да, кстати… — вспомнила она уже въ передней и хорошенькіе глазки ея впились въ его лицо. — А вы знаете… Ксенія Федоровна весьма преуспѣваетъ… Она смутно чувствовала, что эта женщина сыграла въ ея жизни тяжелую роль, и хотѣла свои подозрѣнія провѣрить. — Да? — сдержанно спросилъ Андрей. — Гдѣ же вы ее видѣли? — Въ кино… Вы слыхали объ Элла Стрэй? Это — она… — Да что вы говорите?! — Фактъ… Сходите въ кино или купите портретъ Эллы… Онъ простился и вышелъ. Лиза задумчиво опустила голову: нѣтъ, повидимому не Элла. И сегодня — надо отдать себѣ справедливость, — она сдерживалась много больше… Но все же этотъ глупый тонъ какого-то превосходства совершенно непозволителенъ! — Ну, что же нашъ чай? — спросилъ Константинъ Юрьевичъ. — Чай? — очнулась она. — Нѣтъ, у меня что-то голова разболѣлась, Константинъ Юрьевичъ… Вы лучше идите, а… чай въ другой разъ… Козлиное лицо криво усмѣхнулось и онъ всталъ. Онъ былъ оскорбленъ. Но — сантименты ни въ какомъ случаѣ! И онъ раскланялся небрежно и вышелъ, а Лиза, заперевъ за нимъ дверь, бросилась на свою бѣленькую кроватку и проплакала до самой ночи… Невесело было и на душѣ Андрея. Онъ задумчиво шелъ широкой Садовой. На Страстной площади на него чуть не налетѣлъ огромный и роскошный автомобиль. Оглушенный могучей сиреной его, онъ отпрянулъ назадъ, вскинулъ глаза и — остолбенѣлъ: въ автомобилѣ, развалившись на мягкихъ подушкахъ, вся укутанная въ драгоцѣнные мѣха, сидѣла Ксенія Федоровна съ подчеркнуто бѣлымъ лицомъ и ярко-красными, какъ какой-то цвѣтокъ, губами. А рядомъ съ ней сидѣлъ молодой красивый кирасиръ, князь Судогодскій, и, блестя своими золотыми зубами, разсказывалъ ей что-то. Она весело смѣялась въ свою огромную муфту изъ дорогихъ шиншилей…XXIX. — КРАСНЫЙ ЗВОНЪ
И надъ лѣснымъ краемъ ярче и жарче засіяло солнце. Отшумѣлъ веселый и пьяный мясоѣдъ съ его катаніями и шумными свадьбами и широкій крестьянскій міръ, празднуя возвращеніе добраго Солнца, пекъ круглые, какъ солнце, и жирные блины и передъ постомъ наѣдался ими до отказа. Въ послѣдній день масляницы по всѣмъ деревнямъ дѣти и подростки раскладывали огромные костры и торжественно сжигали на нихъ соломенное чучело зимы, и бѣснуясь вокругъ веселаго, золотого огня, пѣли:Ахъ, масляница.
Ты обманщица,
Ты сказала: семь недѣль.
Остается одинъ день!
Завтра чистый понедѣльникъ,
Дадутъ рѣдьки хвостъ
И гложи, какъ хошь!
На квасъ да на рѣдьку.
На сѣры щи, —
Сядь да хмыщи!
Ступай, мужъ, домой,
Ступай, голубчикъ м-о-ой!
Эхъ, я наслусился да ра…
Разныхъ птасича-а-а-акъ…
* * *
Была звѣздная и морозная, по весеннему, ночь. Широко и привольно разбросались по небеснымъ долинамъ безчисленныя стада Велесовы. Свѣтлая Мокошь смотрѣлась въ серебряное зеркало Ужвы. И шумѣлъ подъ обрывомъ высокимъ только что проснувшійся дѣдъ Водяной и плескались мавки-русалки. Разоспавшійся за зиму старый Лѣшій обходилъ въ первый разъ дремлющій лѣсъ. И запоздалый вальдшнепъ протянулъ, хоркая, надъ лѣсной усадьбой. Петро радостно разсматривалъ новые прейскуранты: дѣтскія игрушки, кружева, трости, будильники, чернильницы, духи въ граненныхъ флакончикахъ, кровати, умывальники, телескопы, лупы, очки, пенснэ — всего и не перечтешь! Гаврила усердно промывалъ и смазывалъ ружья: молодые господа съ невѣстами своими собирались послѣ полночи на шалаши на тетеревей, на «Лѣшиху», и надо было все произвести въ порядокъ. За однимъ изъ наличниковъ печально нахохлился воробей Васька: еще вечеромъ полетѣлъ онъ, — такъ, изъ любопытства больше — посмотрѣть на разливъ Ужвы, вернулся, а около не совсѣмъ еще и достроеннаго гнѣзда ихъ — лежитъ, поджавъ ножки и охолодавъ уже, его воробьиха. И сколько онъ ни вертѣлся кругъ нея, сколько ни кричалъ, что живъ онъ, живъ, живъ, та такъ и не шелохнулась и сизая пленка затянула ея такъ еще недавно живые и смышленые такіе глазки… Правда, она послѣдніе дни была настроена почему-то нѣсколько меланхолически, но все же такого конца Васька никакъ не ожидалъ… И онъ нахохлился и затосковалъ глубоко, какъ только можетъ тосковать воробей. Правда, онъ и раньше видалъ мертвыхъ воробьевъ, но то были совсѣмъ другіе воробьи, которымъ, можетъ быть, и свойственно умирать, но его, Васькина, воробьиха… Это было совсѣмъ непонятно и явно несправедливо… По темной дорогѣ, по-надъ рѣкой, шли, обнявшись, двѣ стройныхъ тѣни… Тонкій, нѣжный ледокъ, только что подъ ночь затянувшій всѣ лужи, пріятно хрустѣлъ и звенѣлъ у нихъ подъ ногами… — Но только если, милый другъ, ты еще разъ посмѣешь смотрѣть такъ на Нину и такъ улыбаться ей, то… — Да ты совсѣмъ сумасшедшая! Она же мнѣ завтра сестрой будетъ… Но въ душѣ Андрей былъ восхищенъ невѣроятно. — А я тебѣ говорю: не смѣй!.. Мое правило въ данномъ случаѣ такое: или я одна для тебя во всемъ свѣтѣ, или, какъ у Данте, «lasciate ogni speranza». И чтобы это было первый и послѣдній разъ! — Милая ты моя дѣвушка… Ты моя радость… Урлы-курлы-турлы-урлы… Лизѣ показалось это чрезвычайно логично и убѣдительно… А на темномъ крылечкѣ, въ тепломъ охотничьемъ тулупчикѣ, сидѣлъ, задумчиво глядя на звѣзды, Левъ Аполлоновичъ. Тихонько про себя онъ напѣвалъ пасхальную пѣсню и, всматриваясь любовно въ каждое слово ея, все поражался, какъ это прекрасно и глубоко…XXX. — ПЕРУНЪ ВЪ МОСКВѢ
Еще зимой въ одной изъ залъ историческаго музея въ Москвѣ собралось засѣданіе ученаго общества, чтобы обсудить вопросъ о перевозѣ въ музей обрѣтеннаго въ Древлянской губерніи Перуна. И былъ зеленый столъ, и яркій свѣтъ, и уважительная тишина, и учтивыя рѣчи ученыхъ старичковъ. Предсѣдательствовалъ профессоръ Максимъ Максимовичъ Сорокопутовъ. Знаменитый ученый былъ очень смущенъ: съ нимъ случилось нѣчто, чего не случалось съ нимъ за всю долгую ученую карьеру ни разу. Пріѣхавъ тогда изъ Древлянска, онъ передалъ статейку Юрія Аркадьевича въ одну ему близкую редакцію — статью напечатать отказались: русскій народъ — сказалъ ему редакторъ съ несовсѣмъ русскимъ именемъ, — обрисованъ слишкомъ мрачно, это можетъ оскорбить общественное мнѣніе и, главное, можетъ охладить пылъ революціонныхъ круговъ. Старичекъ изумился и передалъ статью въ другую редакцію — отказъ: совершенно немыслимо разсказывать о народѣ такія мрачныя вещи! Старичекъ разсердился, приказалъ статью переписать и, подписавъ ее собственнымъ именемъ, самъ отвезъ ее въ редакцію третьей газеты, гдѣ онъ былъ постояннымъ сотрудникомъ. Чрезъ три дня къ нему на квартиру пріѣхалъ самъ редакторъ, чрезвычайно смущенный, и извинялся, и извивался, и не зналъ, куда дѣваться отъ смущенія, но — статью помѣстить рѣшительно немыслимо! Да еще съ такимъ именемъ! Нѣтъ, нѣтъ, это рѣшительно невозможно… Пусть глубокочтимый Максимъ Максимовичъ проститъ его… дорогой Максимъ Максимовичъ знаетъ, какъ имъ дорожатъ въ редакціи… Но это — немыслимо! — Да почему? Почему? — стукнулъ о свой рабочій столъ маленькимъ кулачкомъ знаменитый ученый. — Почему? — Но, Боже мой… Выставлять крестьянство въ такомъ свѣтѣ… — разводилъ редакторъ, очень почтенный человѣкъ, руками. — Вѣдь, это же значить ставить крестъ на всемъ освободительномъ движеніи! Вѣдь, это же значитъ сказать намъ, работающимъ для освобожденія Россіи, что у насъ нѣтъ никакой почвы подъ ногами, что вся наша работа была одной сплошной ошибкой, что, словомъ, должно быть начато что-то совсѣмъ новое. Это — немыслимо! Пусть дорогой, безконечно уважаемый Максимъ Максимовичъ простить, но это — невозможно! Такъ и не удалось старику ничего сдѣлать. Это былъ первый его, профессора Сорокопутова, трудъ за сорокъ лѣтъ литературной дѣятельности, отвергнутый редакціями. Это его огорчило, испугало и, рѣшивъ, что онъ утратилъ всякое пониманіе современной жизни, старикъ нахохлился, отошелъ въ сторону и опустился опять въ глубь вѣковъ, гдѣ было ему все такъ ясно и такъ, главное, спокойно. Засѣданіе старичковъ шло тихо и чинно. И было рѣшено: перевезти Перуна въ историческій музей. Конечно, для выполненія этого дѣла было бы вполнѣ достаточно послать въ «Угоръ» толковаго дворника съ запиской къ Андрею Ипполитовичу и все было бы сдѣлано прекрасно, но и Максимъ Максимовичъ и всѣ старички чувствовали, — и вполнѣ основательно — что это было бы оскорбительно и для воскресшаго бога, и для всего прошлаго Россіи, и для науки, и для нихъ самихъ. И потому тихо и учтиво была выбрана комиссія изъ трехъ лицъ, которой и поручено было принять всѣ необходимыя мѣры для того, чтобы въ полной сохранности доставить Перуна въ Москву. Но такъ какъ была зима, было холодно, то цѣня — и вполнѣ справедливо — здоровье и удобства старичковъ изъ комиссіи, было рѣшено перевозку отложить до тепла… Наконецъ, наступила весна и старички изъ комиссіи собрались въ путь. Пріѣхавъ въ Древлянскъ, комиссія, по наказу профессора М. М. Сорокопутова, прежде всего посѣтила Юрія Аркадьевича. Счастливый такимъ высокимъ посѣщеніемъ, — старички изъ комиссіи были все люди съ именами — онъ жалъ имъ всѣмъ руки, и говорилъ ласковыя слова, и, бросивъ все, самъ водилъ ихъ посмотрѣть и отбитыя имъ у балды-архіерея удивительныя фрески, которыя тотъ все хотѣлъ «подновить», и показывалъ имъ трогательную старенькую церковку Божьей Матери на Сѣчѣ, а затѣмъ повелъ ихъ и въ музей, гдѣ обратилъ ихъ вниманіе и на перчатки нашего знаменитаго писателя И. С. Тургенева, и на возокъ Екатерины, и на позеленѣвшія стрѣлы татарскія, и на черновичекъ профессора Сорокопутова — выудилъ таки старичекъ! — и на зеленыя бусы дѣвушекъ вятскихъ… — А это вотъ, извольте посмотрѣть, послѣдняя, видимо, запись, въ ночь передъ смертью, нашего извѣстнаго писателя, Ивана Степановича, котораго я имѣлъ счастье и честь знать лично… — указалъ онъ на какую-то записочку, которая висѣла на стѣнѣ подъ стекломъ въ приличной рамочкѣ. — Пожертвована, по моей просьбѣ, сыномъ покойнаго писателя… И старички, надѣвъ поверхъ очковъ еще пенснэ, внимательно и уважительно прочитали листочекъ изъ того блокъ-нота, который висѣлъ всегда надъ кроватью Ивана Степановича для записыванія его ночныхъ думъ. На листочкѣ неувѣреннымъ почеркомъ, карандашемъ, стояло:«Жизнь людей постольку не имѣетъ смысла, поскольку ей тщетно пытаются придать какой-то особый смыслъ, иной, чѣмъ смыслъ жизни пріятеля моего, стараго воробья Васьки, жизни комариной, жизни полевого цвѣтка…»Старичкамъ было это не совсѣмъ понятно и, конечно, были они съ этимъ совершенно несогласны, но они отнеслись уважительно къ высказанному почтеннымъ писателемъ въ его послѣднюю ночь на землѣ, обмѣнялись нѣсколькими учтивыми замѣчаніями и прошли дальше, къ стариннымъ рукописямъ, собраннымъ трудами Юрія Аркадьевича… На другой день Юрій Аркадьевичъ показалъ имъ обитель Спаса-на-Крови, — тамъ въ этотъ день постригали въ ангельскій чинъ Наташу: сказочный принцъ такъ и не догадался о ея любви… — а изъ монастыря всѣ они проѣхали въ «Угоръ», къ поджидавшему старичковъ Перуну. Андрей Ипполитовичъ представилъ ученыхъ гостей и Льву Аполлоновичу, и своей молодой женѣ, которая, давъ старичкамъ время привести себя въ порядокъ, радушно пригласила ихъ подкрѣпиться. И старички учтиво кушали и пили, учтиво бесѣдовали съ любезными хозяевами, а когда послѣ трудной экспедиціи — отъ города до «Угора» было цѣлыхъ двадцать верстъ — они пришли въ себя, хозяева проводили ихъ къ Перуну. И старички долго — точно въ хороводѣ какомъ священномъ — ходили вкругъ Перуна, стоявшаго среди цвѣтущихъ, точно сметаной облитыхъ, черемухъ, во всемъ блескѣ вешняго солнца, и любовно осматривали его со всѣхъ сторонъ, и дѣлали учтивыя замѣчанія. А Перунъ, сжимая въ десницѣ своей пучокъ ярыхъ молній, взиралъ благосклонно — онъ на все взиралъ благосклонно — на этихъ лысыхъ, въ очкахъ, съ узкою грудью и на слабыхъ ножкахъ старичковъ и немножко удивлялся, что священный хороводъ ихъ такъ медлителенъ и спокоенъ: не такъ, не такъ кружились вкругъ него его дѣти въ старину!.. Затѣмъ при нихъ — тутъ подъѣхалъ проводить Перуна съ Ужвинской Стражи и Сергѣй Ивановичъ съ молодой женой, — Перунъ былъ снятъ съ пьедестала и съ величайшими предосторожностями, — такъ требовали старички — положенъ въ большой и крѣпкій ящикъ, заготовленный для этой цѣли Андреемъ по письму профессора М. М. Сорокопутова, и ящикъ былъ поднятъ на телѣгу. Старички при этомъ всѣ очень волновались и сдѣлали нѣсколько очень цѣнныхъ замѣчаній. И когда Корнѣй — которому старички заботливо дали нѣсколько основательныхъ указаній, какъ обращаться съ богомъ въ пути до полустанка, — выѣхалъ съ Перуномъ изъ воротъ, всей молодежи вдругъ стало почему-то очень грустно. За богомъ шелъ, изъ уваженія къ господамъ пѣшкомъ, Липатка Безродный, который служилъ теперь при усадьбѣ ночнымъ сторожемъ и былъ взятъ Корнѣемъ съ собой на станцію на всякій случай. Липатка темно недоумѣвалъ, для чего это господамъ понадобилось перевозить стукана съ одного мѣста на другое: стуканъ онъ стуканъ и есть, куда ты его ни вози, — думалъ онъ… На полустанкѣ бога взвѣсили и долго спорили, по какой рубрикѣ взять за его провозъ въ столицу: въ спискѣ тарифовъ не было указано платы за провозъ боговъ. Но Корнѣй съ медлительною важностью предъявилъ какую-то бумагу съ печатями и росчерками, споры разомъ всѣ кончились и бога тотчасъ же положили на платформу, что-то засвистало, загрохотало и съ невѣроятной быстротой Перунъ понесся въ невѣдомое… И вотъ примчали его въ огромный городъ, съ великимъ почетомъ вынули въ присутствіи озабоченныхъ и волнующихся старичковъ изъ ящика и водворили въ величественной, похожей на храмъ, залѣ. Въ огромныя окна виднѣлись кремлевскія башни старыя, много церквей и огромная красивая площадь, на которой суетились маленькіе, черненькіе человѣчки… Любопытные москвичи, узнавъ чрезъ газеты, что въ музей привезли какого-то стараго бога, толпами шли поглядѣть на него. Сперва странными, незнакомыми показались Перуну эти плѣшивые, слабогрудые, полуслѣпые потомки вятичей, которые приходили къ нему и смотрѣли на него удивленными, неузнающими глазами, но онъ очень скоро разобралъ, что это совершенно такіе же люди, какъ и тѣ которые нѣкогда плясали шумными хороводами вкругъ него среди величавыхъ лѣсовъ земли вятской, подъ вольнымъ небомъ, подъ звуки дикихъ пѣсенъ и лютенъ осьмиструнныхъ, и гусель яровчатыхъ, и свирѣлей звонкихъ, — они только притворялись для чего-то другими. А, можетъ, и просто маленько повылиняли… Къ вечеру москвичи всѣ разошлись. А на утро снова побѣдно засвѣтилъ надъ землей московской великій Дажь-богъ благодатный. Мысеичъ, одинъ изъ музейныхъ сторожей, приличный такой, тихенькій старичекъ въ потертомъ мундирѣ, вошелъ въ покой Перуна и, обмахивая бога пыльной тряпкой, по своей привычкѣ тихонько, фистулой напѣвалъ:
Эхъ, темной ноченькой не спится,
Я не знаю, почему…
Начато въ с. Булановѣ Владимірскаго уѣзда въ 1917 г. Кончено въ Рейхенгаллѣ, Верхн. Баварія, въ 1924 г.
ОТЗЫВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕЧАТИ о романѣ И. Ф. Наживина «Распутинъ»
Знаменитый датскій критикъ Георгъ Брандесъ пишетъ автору по поводу «Распутина»:
«…Я читалъ Вашу книгу съ величайшимъ интересомъ, а мѣстами и съ большимъ восхищеніемъ и въ настоящее время пишу о ней три большихъ статьи, которыя появятся въ одинъ и тотъ же день въ Даніи, Норвегіи и Швеціи…[4]) Около 30 лѣтъ не писалъ я уже рецензій… но Ваша книга чрезвычайно захватила меня… Я пишу о Васъ, чтобы дать удовлетвореніе самому себѣ. Вы совсѣмъ не должны благодарить меня. Я искренно восхищаюсь Вами… Я недурной критикъ и у меня есть нюхъ. Я умѣю оцѣнить вещь…»
Знаменитый германскій писатель Томасъ Маннъ въ своемъ письмѣ къ автору пишетъ:
«…Вы, вѣроятно, знаете о глубокомъ уваженіи и симпатіи, которую я издавна питаю къ литературѣ Вашей страны, и поэтому для меня было особенной радостью познакомиться съ русскимъ писателемъ Вашего ранга, писателемъ, который совершенно непонятнымъ образомъ до сихъ поръ ускользалъ отъ меня. Вашъ „Распутинъ“ монументальное произведеніе и былъ для меня во всѣхъ отношеніяхъ — въ историческомъ, культурномъ и литературномъ — большимъ выигрышемъ…»
Отзывъ о «Распутинѣ» знаменитой шведской писательницы Сельмы Лагерлофъ:
«…Прочитавъ Вашего „Распутина“, я чувствую себя исполненной величайшаго удивленія (Bewunderung) предъ той силой и знаніемъ, съ которыми Вы, картину за картиной, представляете русскій народъ… И Вамъ удалось достойнымъ всякаго удивленія образомъ заставить эти картины жить. За чтеніемъ Вашей книги почти забываешь, что это лишь поэтическій вымыселъ… Вы съумѣли, напримѣръ, такъ изобразить Распутина, что онъ возбуждаетъ интересъ, котораго я никогда раньше не испытывала къ этому человѣку. Неслыханныя страданія, которыми долженъ былъ пройти Вашъ народъ, въ Вашемъ разсказѣ захватываютъ… И, оставляя книгу, хочется пожелать, чтобы Вамъ даровано было поработать надъ возстановленіемъ новой, болѣе счастливой Россіи, которая, будемъ надѣяться, скоро встанетъ изъ теперешнихъ развалинъ…»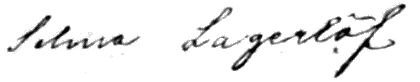
Gorlitzer Nachrichten, № 227, 22 Septemb. 1925.
…Романъ Наживина «Распутинъ» завоевываетъ себѣ въ Германіи кругъ друзей. Можно по совѣсти рекомендовать этотъ романъ, такъ какъ онъ принадлежитъ перу объективнаго человѣка и нельзя не признать за нимъ большой литературной цѣнности.Pforzhcimer Anzeiger, № 226, 29 Septemb. 1925.
…Автору удалась увлекательная картина цѣлой культуры, картина, на которую каждый долженъ обратить вниманіе…Krefelder Zeitung, № 502, 5 Okt. 1925.
…О Распутинѣ писалось столько, что, казалось бы, невозможно сказать о немъ что-нибудь новое. И тѣмъ не менѣе величайшій интересъ представляетъ собою романъ Наживина, который личность Распутина ставитъ въ центрѣ своего произведенія…Naumburger Tageblatt, № 241, 14 Septemb. 1925.
…Эта книга — ключъ для разумѣнія того, что случилось съ русскимъ народомъ. Безъ сомнѣнія, на книгу эту обратятъ въ Германіи большое вниманіе, ибо она даетъ отвѣтъ на важные и для насъ вопросы…Hamburg Neueste Nachr., № 267. 14 Novemb. 1925.
…Хвала писателю! Подумайте только: книга въ 1400 страницъ, исторія культуры и нравовъ великаго народа! Создано произведеніе, которое переживетъ нынѣшній день, произведеніе, въ которомъ авторъ проявляетъ себя, какъ могучая творческая сила. Необычайное искусство изображенія и художественная обработка огромнаго матеріала — вотъ что придаетъ этому русскому писателю его большое значеніе… Охватывая годы 1910–1920, Наживинъ, подобно Гоголю, даетъ бытовыя картины изъ всѣхъ круговъ русскаго народа. До этого Наживина въ Германіи едва знали — этотъ романъ однимъ ударомъ сдѣлаетъ его у насъ знаменитымъ.Oberöster. Tagesztg., № 260, 14 Nov. 1925
…Можно думать, что воспріемниками «Распутина» были красота, добро и правда. Или, можетъ быть, лучше сказать: Пушкинъ, Достоевскій и Толстой? «Распутинъ» созданъ для того, чтобы мы узнали, что путь небывалыхъ страданій пройденъ Россіей недаромъ. Незнающіе покоя Распутины распяты и за насъ…Gen. Anz. f. Stettin u. d. Prov. Pommern, № 302, 31 Oktob. 1925.
…Въ настоящемъ трудѣ своемъ Наживинъ вводить насъ въ самыя нѣдра жизни своего народа, въ политическія, религіозныя и соціальныя смуты, во всѣ классы общества, въ семейную, дѣловую и общественную жизнь и такимъ образомъ передъ взоромъ читателя развертывается широко задуманная картина великаго государства изъ эпохи 1910–1920 г. г., надъ которой художникъ работалъ съ самоотверженной, исполненной пониманія любовью, съ благотворнымъ спокойствіемъ, дѣловито, безъ прикрасъ, безъ пристрастія… Наживинъ не смотритъ на жизнь сквозь узкіе партійные очки, а обозрѣваетъ ее какъ бы съ вершины высокой сторожевой башни…Lübeckische Anzeigen, № 259, 3 November, 1925.
…Это книга, которую можно рекомендовать всякому, кто интересуется настоящимъ и прошедшимъ Россіи. Это своеобразнѣйшая книга россійской культуры…«Front Неіl» Stahlhelm-Ztschr., № 4, November, 1925.
…Романъ Наживина «Распутинъ» — широко задуманная картина всей Россіи 1910–1920 г. г. — изображаетъ въ мастерской формѣ всѣ слои общества, начиная съ царя въ его дворцѣ и кончая мужиками-сектантами въ приволжской деревнѣ… Психологическое и культурно-историческое значеніе его выходить далеко за предѣлы обычнаго и повседневнаго. Изображеніе чудовищныхъ страданій народа выполнено такъ мастерски, что я признаю эту книгу самымъ лучшимъ описаніемъ изъ всѣхъ тѣхъ, которыя я читалъ о русскихъ событіяхъ…Thüгіпдег Allg. Ztg., № 25, 15 Nov. 1925.
…Этотъ превосходно переведенный романъ скоро сдѣлаетъ Наживина извѣстнымъ и въ Германіи… Могучій, широко и стремительно несущійся потокъ его творчества съ необузданной неумолимой силой подымаетъ изъ глубочайшихъ безднъ истину и дѣйствительность и, грозно пѣнясь, съ ревомъ заливаетъ своими волнами прирученную душу и интеллектъ европейца. Въ Россіи свирѣпствуетъ ураганъ, символомъ котораго являлся Распутинъ. И перо Наживина, точно ведомое высшей силой, превращается въ могучій рѣзецъ, который среди грома и молній обрабатываетъ гигантскую, сѣрую, гранитную массу драматически и эпически., И съ жгучей болью Наживинъ кладетъ перо, а у насъ остается впечатлѣніе: это писалъ поэтъ кровью своего сердца…Hamburgisch. Korresp., № 256, 11 November 1925.
…Эти три тома показываютъ упадокъ русскаго общества и причины, приведшія его къ этому разложенію. Тутъ нѣтъ обвинительнаго стиля Кропоткина или Толстого. Романъ написанъ съ безконечной грустью, съ всепонимающимъ сочувствіемъ… Поэтъ стоитъ высоко надъ партійной грызней и одушевленъ лишь однимъ желаніемъ: служить бѣдной измученной Россіи. Глубокомысленно изображающее современность и опережающее ее, произведеніе это принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя образуютъ какъ бы вершины своего времени… Для Наживина слова, которыми такъ часто злоупотребляютъ, человѣчность и справедливость, не являются пустой фразой, но составляютъ задачу и содержаніе жизни…Münch. Xeueste Nachr., № 305, 4 November, 1925.
…Мастерскими штрихами и красками обрисована не только поверхность жизни, — Наживинъ дѣлаетъ глубокій взрѣзъ, обнажающій русскую душу до дна. И если это произведеніе бездоннымъ пессимизмомъ своимъ и дѣйствуетъ болѣзненно и удручающе, то въ то же время оно, перешагнувъ за предѣлы натуралистической безпощадности, уносится въ дали эпики. Въ этомъ романѣ мы получили культурно-историческій документъ особой цѣнности… Наживинъ настоящій поэтъ, разсказчикъ чарующей силы, одно изъ самыхъ могучихъ литературныхъ явленій въ тѣхъ поколѣніяхъ, которыя идутъ за Достоевскимъ, Лѣсковымъ и Толстымъ…Wormser Volkszeitung.
…Это великолѣпное повѣствованіе, захватывающее, увлекающее, строго подчиняющееся исторической правдѣ и формѣ романа… Это своеобразное произведеніе является для насъ цѣннымъ даромъ, за который надо взяться всѣмъ: никто объ этомъ не пожалѣетъ…Weser Zeіtung.
…Хотя нѣкоторые труды автора и появились уже въ переводахъ, но едва ли онъ извѣстенъ по сю сторону русской границы. Теперь, по выходѣ этого своего произведенія, онъ можетъ разсчитывать на извѣстность и здѣсь…Rigagche Rundschau, 10 Dezemb. 1925.
…Наживинъ широко воспользовался при написаніи своей книги мемуарной литературой… Но обработать все это, не впадая въ простое перечисленіе матеріаловъ, для этого, разумѣется, понадобился глазъ и рука художника. И то, и другое у автора есть…Der Jugenddeutsche, Berlin.
…Романъ Наживина въ рядѣ незабываемыхъ картинъ открываетъ намъ загадку таинственной русской души… Всякій, кто интересуется русскими событіями и людьми, кто достаточно серьезенъ, чтобы понять всю важность этихъ событій, пріобрѣтетъ эту чудесную книгу и въ часы размышленія будетъ снова и снова перелистывать ее. Это произведеніе, еще мало извѣстнаго у насъ истинно русскаго писателя является въ одно время и предостереженіемъ и поученіемъ, тайной и откровеніемъ…Augsburg. Neueste Nachr., 8 Dezember, 1925 въ большой статьѣ «Noch ein Russe» говоритъ:
…Въ русскомъ литературномъ мірѣ среди бурныхъ волнъ революціи всплыла новая фигура: Иванъ Наживинъ… Что дѣлаетъ романъ цѣннымъ съ литературной точки зрѣнія, это мудрое, одухотворенное господство автора надъ своимъ матеріаломъ, его нравственное чутье, его полная жизни сила выраженія, блестящая наблюдательность, превосходный стиль… Если кто ищетъ романа захватывающаго духъ, за чтеніемъ котораго забывается ночь, то въ «Распутинѣ» онъ найдетъ такой романъ. Если кто особенно цѣнитъ идиллическое и лирическое изображеніе природы, философское созерцаніе, то и это находитъ онъ въ романѣ Наживина. Произведеніе это особенно… увлекательно своей драматической силой и все овѣяно духомъ истинной поэзіи… Какъ только книга станетъ извѣстна въ болѣе широкихъ кругахъ, о ней безусловно заговорятъ…Nation. Rundschau, Bremen, 24 Dezember, 1925.
…Изъ-подъ пера Ив. Наживина вылилось превосходное трехтомное произведеніе о Россіи за послѣдніе двадцать лѣтъ — «Распутинъ»… Русская проблема схвачена мастерски… Мы рекомендуемъ эту книгу всѣмъ, которые серьезно интересуются русскими дѣлами…Elbinger Zeitung, 23 Dezember, 1925.
…Заглавіе романа нужно понимать символически, какъ обозначеніе того крестнаго пути, которымъ пошла Россія и который описанъ здѣсь великолѣпно, съ проникновенной любовью къ душѣ народа…Regensburger Anzeig., 24 Dezemb. 1925.
…Эта книга больше, чѣмъ романъ, это грандіозная картина всей Россіи… Мы, западно-европейцы, будемъ созерцать эти картины съ безграничнымъ ужасомъ, независимо отъ того, относятся ли онѣ къ времени царей или къ періоду революціи и, въ концѣ концовъ, свободно признаемъ, что, несмотря на все, что мы слышали отъ эмигрантовъ, то, что Наживинъ рисуетъ намъ, превосходитъ всякое воображеніе. Кто интересуется дѣлами востока, кто хочетъ проникнуть въ смыслъ его загадочныхъ смутъ, не можетъ пройти мимо этой книги, ибо она болѣе, чѣмъ все, что извѣстно намъ, вводить насъ въ самую душу русскаго народа… И не пройдетъ мимо этой книги никто, кто хочетъ изучить современную литературу…Seigener Zeitung, 2 Februar, 1926.
…выдающимся по своей пластикѣ языкомъ, съ захватывающей силой изображенія рисуетъ даровитый и своеобразный разсказчикъ всю русскую жизнь въ годы войны и революціи, въ тонкомъ психологическомъ углубленіи пытается разгадать загадку таинственной русской души. Пріобрѣтеніе этого не только исключительно захватывающаго, но и чрезвычайно информирующаго произведенія можно только рекомендовать.Blätter der Bücherstube am Museum (Wiesbaden) Dezember, 1925.
…Мы желаемъ этой книгѣ много читателей!Literarischer Handweiser, 5 Heft., 1925–1926.
…Извѣстный въ Россіи народный писатель Ив. Наживинъ, этой книгой своей завоюетъ заслуженную извѣстность и въ Европѣ. Авторъ развертываетъ колоссальную картину недавней Россіи, которая тѣмъ глубже дѣйствуетъ, что она изумительно объективна. Съ глубокой любовью къ своему народу, но не закрывая глазъ на его недостатки, Наживинъ… выясняетъ очень многое, что раньше было непонятно для европейцевъ. Съ точки зрѣнія общей концепціи противъ многаго можно возразить въ этомъ крупномъ произведеніи, но въ характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ, въ чудныхъ описаніяхъ природы и прежде всего въ живой изобразительности, это произведеніе выдающагося мастера, эпической мощью часто напоминающее Гомера.Greifswälder Zeitung, 11 Dezember 1925.
…Наживинъ видітъ свой несчастный народъ и родину такими, какіе они есть, и благодаря его необыкновенной творческой способности создавать живыхъ людей, изъ его рукъ выходитъ колоссальная картина культуры, пройти мимо которой не долженъ никто, кто дѣйствительно хочетъ понять сущность русскаго человѣка…Тіlsіter Allg. Zeіt., 10 Febr. 1926.
…Наживинъ не хочетъ итти избитыми дорогами, не ищетъ апплодисментовъ, какъ другіе писатели, которые или рисуютъ революцію, какъ вѣнецъ вѣковой борьбы съ рабствомъ — и пріобрѣтаютъ этимъ путемъ благорасположеніе большевиковъ, — или въ стилѣ контрреволюціонеровъ и царистовъ бичуютъ всѣ мѣропріятія новыхъ владыкъ, какъ порожденіе самого сатаны. Наживинъ разсматриваетъ событія послѣдняго десятилѣтія съ болѣе высокой сторожевой башни и подвергаетъ рѣзкой критикѣ, какъ старый режимъ, такъ и революцію…Koenigsberg Allg. Zeit., 26 Febr. 1926. въ большой статьѣ «Ein Roman der russisch. Gegenwart» пишетъ:
…Наживинъ въ своемъ большомъ романѣ «Распутинъ» такъ полно воплотилъ разрушеніе стараго порядка и сегодняшній хаосъ, далъ столько деталей изъ жизни всѣхъ слоевъ русскаго народа и такъ всѣ эти детали округлилъ въ одно цѣлое, какъ можетъ это сдѣлать только крупный писатель…Literarische Wochenschrift, 13 März 1926.
…Прямо съ потрясающей яркостью и удивительной силой изобразительности показываетъ Наживинъ, какъ разлагалась церковь, государство и семья, заблудившееся искусство, откровенно запутавшаяся наука, парламентаризмъ, соціализмъ… Можно только рекомендовать эту книгу всякому, кто хочетъ заглянуть въ глубину русской души…Wächter, тетрадь 8, Апрѣль 1926.
…Отнынѣ имя Наживина нужно ставить за Толстымъ и Достоевскимъ. Его крупное произведеніе принадлежитъ міровой литературѣ… И проф. А. Лютеръ въ своемъ предисловіи говоритъ не напрасно, что «Распутинъ» приближаетъ насъ къ разрѣшенію таинственной русской загадки. Не только въ литературной, но и въ національно-политической области книга эта выполнитъ свою миссію…Тамъ же, тетрадь 9|10 Май-Іюнь 1926.
Чего можемъ мы ждать еще отъ Наживина? Въ этой книгѣ говоритъ съ нами человѣкъ, стоящій надъ всѣми партіями… сынъ и внукъ Толстого, Пушкина, Достоевскаго, Гоголя, Тургенева, Лермонтова…Gelsenkirchner Allg. Zeitung, 4 März 1926.
…Романъ этотъ — глубоко схваченная картина жизни русскаго народа. Всѣ слои русскаго общества пестро перемѣшаны и именно тутъ-то и обнаруживаетъ авторъ свой непререкаемо большой талантъ. И великая любовь къ человѣку пронизываетъ весь романъ, какъ лучъ свѣта — долгая дружба автора съ Толстымъ сказывается въ этомъ…Hamburger Fremdenblatt, 19 Juni 1926.
…Въ своемъ «Распутинѣ» онъ разсказалъ опытъ и разочарованія послѣднихъ лѣтъ и развернулъ грандіозную картину. Книга эта — эпосъ…Vossische Zeitung, 20 Juni 1926.
…И получилась книга, хорошо задуманная, многосторонняя и полная мысли… которую нельзя оцѣнить слишкомъ высоко. И вся она носитъ такую русскую печать на себѣ, что кажется, читая, вдыхаешь ароматъ той страны…«Tagesbote», Brünn, 13 Juni 1926.
«…Эти три тома представляютъ изъ себя глубокій — школы Достоевскаго — анализъ русской души… Кто хочетъ понять современную Россію, тотъ не можетъ пройти мимо труда Наживина…»Bucherei und Bildungspflege, Heft 4, 1926.
«…Собственно, героемъ этого крупного — не только по объему — романа является весь русскій народъ, который представленъ въ почти необозримой полнотѣ всякихъ типовъ. И если есть произведеніе, которое можетъ быть названо крупнымъ вкладомъ въ дѣло познанія „загадки русской души“, то это именно „Распутинъ“. Поэтъ съ такимъ одушевленіемъ погружается въ духовныя и матеріальныя основы русскаго народа, что онъ, во истину, можетъ служить путеводителемъ къ историческому пониманію проблемы во всемъ ея комплексѣ. Книга эта такое произведеніе искусства, которое, не задумавшись, можно поставить рядомъ — я отдаю себѣ полный отчетъ въ томъ что, я говорю, — съ „Войной и Миромъ“ Льва Толстого».Старый голландскій журналъ «Boekzaal» посвящаетъ «Распутину» въ іюньскомъ № за этотъ годъ большую статью.
Складъ русскаго изданія «Распутина» находится при книжномъ магазинѣ «Москва»: 9, г. Dupuytren, Paris VI. Цѣна за три тома — 3 доллара 60 сент.
Последние комментарии
34 минут 16 секунд назад
35 минут 45 секунд назад
7 часов 18 минут назад
7 часов 26 минут назад
13 часов 38 минут назад
13 часов 42 минут назад