Вероника Тушнова
Мне в сердце смотрит вечная звезда...
«Любовь имеет множество примет...»
«...Затрудняюсь сказать, когда было написано мной первое стихотворение. Вероятно, в девять-десять лет. Помню, что в школе я постоянно писала, особенно в старших классах»,– считала нужным сообщить о себе Вероника Михайловна Тушнова в автобиографии, датированной 1947 годом.
То было трудное для нее время. Остро стоял вопрос: о чем писать? После выхода первого поэтического сборника Тушновой (он так бесхитростно и назывался – «Первая книга») один из руководителей Союза писателей Николай Тихонов в докладе на представительном совещании назвал ее среди тех авторов, в чьих стихах заметна «странная линия грусти». А тут как раз подоспело постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», в котором была подвергнута убийственной критике Анна Ахматова – «типичная представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии». В свете этого – обнаруженные рецензентом в стихах Тушновой «перепевы надуманных переживаний в духе салонной лирики Ахматовой» ставили под серьезное сомнение дальнейшее пребывание такого автора в советской литературе.
Что же подразумевалось под «надуманными переживаниями»? Нежели те, что с детства сохранила память о котенке, который «был некрасив и тощ, его жалела я мало»? Когда же вынесла его из дома, ночью пошел дождь, а утром котенка не нашли,– девочка так загоревала, что ее не утешил и подаренный родителями другой, который был «образец красоты и силы». Такие вот метаморфозы детской души, а точнее – самые нормальные человеческие чувства. Как и чувства взрослой женщины, переживающей разлуку с любимым:
Я позабыла все твои слова,
твои черты и годы ожиданья.
Забыла все. И все-таки жива
Та теплота, которой нет названья.
А как тепло приняли читатели «Комсомольской правды» опубликованный там еще в 1944 году цикл стихов, посвященный дочери Наташе! Неужели и это было надуманным?
Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь – ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...
Тысячи писем тогда получила Вероника Михайловна на адрес редакции. Чаще всего в них повторялось: «Хорошо, что вы написали о наших детях!» Глубоко личные переживания поэта оказались близкими и понятными людям. Какие же они надуманные? Но... Партия считала, что лучше разбирается в духовных потребностях народа. В чести были безудержный оптимизм, трудовой порыв, масштабность. Лирика Тушновой, заклейменная пренебрежительным, по мнению партийных идеологов, эпитетом «камерная», пришлась не ко двору (державному).
«И вот, чтобы как-то оправдаться за свою "камерность','– считает критик Лев Аннинский,– однажды, поднатужившись, она выполняет социальный заказ в официально первенствующем жанре – в поэме». Имеется в виду поэма «Дорога на Клухор», появившаяся в 1952 году и послужившая Тушновой, по мнению того же критика, «громоотводом на случай критических гроз».
В сборнике «Пути-дороги», изданном через девять долгих лет после первого, много такого, что кажется из XXI века просто «данью эпохе». Но на последних двадцати страницах, в разделе «Стихи о счастье», поэтесса, словно сбросив тяжкую ношу, вдруг стала самой собою: стихи зазвучали в полную силу! Возникло истинное лицо пишущей: любящей, томящейся, страдающей. Знавшие Тушнову находят его почти портретно точным, единственным в своей живой конкретности: «ресницы, слепленные вьюгой, волос намокшее крыло, прозрачное свеченье кожи, лица изменчивый овал». Но при этом едва ли не каждая из читательниц могла отождествить себя с лирической героиней, почувствовать в строчках Тушновой свою «вьюгу», свои счастливые и горькие минуты и только свое, но такое общее, понятное для всех, тревожное ощущение неумолимого бега времени, с упрямой, немного странной, обманчивой и наивной верой в счастье. Иначе не объяснить необычайно стойкую популярность стихотворения, а потом и песни «Не отрекаются любя...» – визитной карточки Тушновой.
Книга 1958 года «Память сердца» была уже чисто лирической. Главная тема поэтессы – любовь – вышла на первый план, потеснив все остальное.
Единственная – в счастье и в печали,
в болезни и здоровий – одна,
такая же в конце, как и в начале,
которой даже старость не страшна.
Не на песке построенное зданье,
не выдумка досужая, она
пожизненное первое свиданье,
безветрия и гроз чередованье!
Сто тысяч раз встающая волна!
Документальные подробности личной жизни Тушновой мало известны. Ведь в те времена в стране не было желтой прессы, зорко следящей за свадьбами-изменами-разводами популярных людей. Два брака ее распались, а потом она встретила человека, любовь к которому была разделенной, но тайной. Потому что, как писала сама Тушнова:
Стоит между нами
Не море большое –
1Ьрькое горе,
Сердце чужое.
Поэт Александр Яшин был женат третьим браком. Отец семи детей еще раз круто изменить свою жизнь на пороге пятидесятилетия не решался. Да Вероника его к этому и не подталкивала. Она доверяла малейшие оттенки и переливы своего чувства стихам. Часть из них составила последний прижизненный сборник Тушновой «Сто часов счастья».
Она болела долго, пыталась сопротивляться раку, но он ее съедал. В последние дни (умерла Тушнова 7 июля 1965 года) запретила Яшину появляться в больнице. Хотела, чтобы он запомнил ее красивой, веселой, живой.
Красоту Тушновой считали необходимым особо отметить почти все, кто писал о ней. В стихах своих она не всегда веселая. Но всегда – несомненно – живая.
Юрий Славянов
Из «Первой книги» (1945)

Я знаю – я клялась тогда...
Я знаю – я клялась тогда,
что буду до конца верна,
как ни тянулись бы года,
как долго бы ни шла война.
Что всё – с тобою пополам,
что ты один мне только люб,
что я другому не отдам
ни жарких слов, ни верных губ.
С повязкой влажной и тугой
в жару метался тот, другой.
И я, дежурная сестра,
над ним сидела до утра...
Он руку женскую к груди
тоскливо прижимал в бреду
и все просил: «Не уходи».
И я сказала: «Не уйду».
А после, на пороге дня,
губами холоднее льда,
спросил он: «Любишь ли меня?»
И я ему сказала: «Да».
Я поклялась тебе тогда, –
но я иначе не могла...
Обоим я сказала «да»
и никому не солгала.
РАЗГОВОР С МОСКВОЙ
В Москве тревога – это знали все,
и ждали долго, хмуро и упорно.
Врывались ветки в матовой росе
в открытое окно переговорной.
Уже светало. Где-то вдалеке
кричал петух. Людей ко сну клонило.
Телефонистка в вязаном платке
мой номер первым вызвала лениво.
В кабине было душно и темно.
Твой голос вдруг раздался где-то рядом.
Гнездо мое... Не тронуто оно,
с его окном, с его осенним садом.
Ты мне сказал: «Сейчас спустился вниз».
Я поняла: ведь я с тобой стояла
всю ночь, пока стучало о карниз
осколками горячего металла.
Но разговор был короток и сух.
Я не сказала ничего, что надо.
И как сумеешь передать на слух
тепло руки, касанье губ и взгляда!..
И все равно, я знала: ты живешь.
Пришел рассвет, умолкнули зенитки.
Одолевая утреннюю дрожь,
ты режешь хлеб и греешь чай на плитке.
А я иду по утренней росе,
за крышами – серебряная Волга,
грузовики грохочут по шоссе,
кричит буксир настойчиво и долго.
И это – жизнь. И мы пройдем по ней.
Наш путь один, и счастье наше – тоже.
В крови, в пыли – и тем еще родней,
в опасности – и тем еще дороже.

Да, ты мой сон. Ты выдумка моя...
Да, ты мой сон. Ты выдумка моя.
Зачем же ты приходишь ежечасно,
глядишь в глаза и мучаешь меня,
как будто я над выдумкой не властна?
Я позабыла все твои слова,
твои черты и годы ожиданья.
Забыла все. И все-таки жива
та теплота, которой нет названья.
Она, как зноя ровная струя,
живет во мне. И как мне быть иною?
Ведь если ты и выдумка моя –
моя любовь не выдумана мною.
НОЧЬ
(Зима 1942 г.)
Смеясь и щуря сморщенные веки,
седой старик немыслимо давно
нам подавал хрустящие чуреки
и молодое мутное вино.
Мы пили все из одного стакана
в пронзительно холодном погребке,
и влага, пенясь через край, стекала
и на землю струилась по руке.
Мы шли домой, когда уже стемнело
и свежей мглою потянуло с гор.
И встал до неба полукругом белым
морскою солью пахнущий простор.
От звезд текли серебряные нити,
и на изгибе медленной волны
дрожал блестящим столбиком Юпитер,
как отраженье крохотной луны.
А мы купались... И вода светилась...
И вспыхивало пламя под ногой...
А ночь была как музыка, как милость –
торжественной, сияющей, нагой.
..........................
Зачем я нынче вспомнила про это?
Здесь только вспышки гаснущей свечи,
и темный дом, трясущийся от ветра,
и вьюшек стук в нетопленной печи.
Проклятый стук, назойливый, как Морзе!
Тире и точки... точки и тире...
Окно во льду, и ночь к стеклу примерзла,
и сердце тоже в ледяной коре.
Еще темней. Свеча почти погасла.
И над огарком синеватый чад.
А воткнут он в бутылку из-под масла
с наклейкой рваной – «Розовый мускат».
Как трудно мне поверить, что когда-то
сюда вино звенящее текло,
что знало зной и пенные раскаты
замасленное, мутное стекло!
Наверно, так, взглянув теперь в глаза мне,
хотел бы ты и все-таки не смог
увидеть снова девочку на камне
в лучах и пене с головы до ног.
Но я все та же, та же, что бывало...
Пройдет война, и кончится зима.
И если бы я этого не знала,
давно бы ночь свела меня с ума.
СТИХИ О ДОЧЕРИ
Наташе
I
Душная, безлунная
наступила ночь.
Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».
Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.
Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!
Все такое синее,
на столе – цветы.
Думала о сыне я,
а родилась – ты.
Ты прости, непрошеный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.
Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...
Ну... а если серые –
маме все равно.
................
Утро твое первое
смотрится в окно.

II
Мне с каждым днем милее ты:
Все тверже взгляд, все звонче лепет.
Как будто новые черты
Рука невидимая лепит.
Ночник... И тени на стене...
Мне часто по ночам не спится.
Вот шевельнулись в полусне
Твои спокойные ресницы.
Ты просыпаешься. И где б
я ни была, зовешь в испуге.
И пух волос твоих нелеп,
как у нахохленной пичуги.
И так похожи на цветы
румянец щек, и мягкость лапок,
и пухлость губ, и милый запах
ребячьей сонной теплоты.
III
Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.
Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребяческая память.
И, милой резвости полна,–
как знать ребенку тяжесть ноши? –
ты слово новое – «война» –
лепечешь, хлопая в ладоши.
IV
Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
еще неясный первый час.
Казалось мне: за далью алой
гремят грядущие бои...
Но как бессильно я сжимала
ручонки пыльные твои!
А после ночь. Без искры света
свершался необычный путь.
Скажи, ответь – ты помнишь это?
И если помнишь – позабудь.
Живи, цветам и песням рада,
смеясь, горюя и любя,
а помнить этого не надо:
я буду помнить за тебя.
V
Тревога. Грусть. Приходит почтальон –
ни весточки о милом человеке...
А городок метелью занесен
до самых крыш. И, кажется, навеки.
Наш новый дом в сугробах под горой,
к нему бежит петлистая дорожка,
в нем есть окно за ледяной корой,
печурка есть, горячая картошка.
Есть девочка. Зеленые глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.
Она поймет. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой,–
ей рано знать печаль житейских тягот.
Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь – ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...
VI
Суровый год. В траве чернеют щели,
но дни июня ветрено свежи.
Опять шумят разлапистые ели,
и чертят небо легкие стрижи.
Орлы сидят за ржавою решеткой,
полуприкрыв окаменелый взгляд.
Кричит павлин, барсук ютится кроткий
среди смешных мохнатых медвежат.
Иду с тобой по парку не спеша я,
над нами листьев солнечная дрожь..
Когда-нибудь ты вырастешь большая
и эти строки снова перечтешь.
Как взмах крыла, как искра в синем дыме,
они опять пересекут твой путь.
Они тебе покажутся простыми,
далекими, наивными чуть-чуть.
И все-таки ты радостно и мило
лукавый свой на миг потупишь взгляд,–
совсем как та, которая ходила
по воскресеньям с мамой в зоосад.
VII
А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны;
упав, она не говорит, что больно.
Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая,–
мы с ней теперь хорошие друзья.
Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.
Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»
Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.

Помню празднество ветра и солнца...
Помню празднество ветра и солнца,
эти лучшие наши часы,
и ромашек медовые донца,
побелевшие от росы.
Помню ржавые мокрые листья
в полусвете угасшего дня.
Горьких ягод озябшие кисти
ты с рябины срывал для меня.
Помню, снежные тучи повисли,
их кружила седая вода.
Все улыбки, и слезы, и мысли
я тебе отдавала тогда.
Я любила и холод вокзала,
и огней исчезающий след...
Я, должно быть, тогда еще знала –
так рождается песня на свет.
У каждого есть в жизни хоть одно...

I
У каждого есть в жизни хоть одно,
свое, совсем особенное место.
Припомнишь двор какой-нибудь, окно,
и сразу в сердце возникает детство.
Вот у меня: горячий косогор,
в ромашках весь и весь пропахший пылью,
и бабочки. Я помню до сих пор
коричневые с крапинками крылья.
У них полет изменчив и лукав,
но от погони я не уставала –
догнать, поймать во что бы то ни стало,
схватить ее, держать ее в руках!
Не стало детства. Жизнь суровей, строже.
А все-таки мечта моя жива:
изменчивые, яркие слова
мне кажутся на бабочек похожи.
Я до рассвета по ночам не сплю,
я, может быть, еще упрямей стала –
поймать, схватить во что бы то ни стало!
И вот я их, как бабочек, ловлю.
И с каждым разом убеждаюсь снова
я в тщетности стремленья своего –
с пыльцою стертой, тускло и мертво
лежит в ладонях радужное слово.
II
Нельзя о слове, как о мотыльке!
Ты прав. Я вижу: на заре бессонной,
как золото, блестяще и весомо,
лежит оно в неверящей руке.

А после друг нагонит по следам
старателя с нежданною находкой,
оценит цвет и тяжесть самородка
и равнодушно скажет: «Колчедан».
III
Когда-то я любимого ждала,
единственного нужного на свете!
Тогда был май, черемуха цвела,
в окно влетал студеный горький ветер.
Был лунный сад в мерцающем снегу;
он весь дышал, смеялся веткой каждой,
а мне казалось – больше не смогу!
Но я тогда другой не знала жажды!
Он не пришел. Зазеленел рассвет.
Истлели звезды. Звякнула синица.
И вот теперь мне кажется... Но нет,
ничто с моей тоскою не сравнится,
когда слова теснятся в темноте,
уходят, кружат и приходят снова,
ненужные, незваные, не те,
и нет нигде единственного слова!
Нет, и это на правду совсем не похоже –
облетает пыльца, и уходят друзья.
Жить без бабочки можно,
без золота – тоже,
без любимого – тоже,–
без песни – нельзя.


РАЗЛУКА
I
В руке сжимая влажные монеты,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как в темноте, в слепом пространстве
где-то,
звонок смеется в комнате пустой.
Я опоздала. Ты ушел из дома.
А я стою – мне некуда идти.
На ветровой простор аэродрома
в такую ночь не отыскать пути.
И я шепчу сквозь слезы: «До свиданья!
Счастливый путь, любимый человек!»
Ничтожная минута опозданья
мне кажется разлукою навек.
II
Утром на пути в аэропорт
улицы просторны и пусты.
Горизонт туманом полустерт,
розовеют почками кусты.
Вся в росе, младенчески мягка
вдоль шоссе топорщится трава.
В сердце с ночи забралась тоска –
каждая разлука такова.
На перроне – голубой забор,
тени бродят, на песке скользя...
Дальше – ветер, солнце и простор.
Дальше провожающим нельзя.
В облаках, стихая, как струна,
«Дуглас» чертит плавный полукруг.
Радость встреч была бы не полна
без щемящей горечи разлук.
За разлукой есть далекий час.
Как мы станем ждать его с тобой!..
Он всегда приходит в первый раз,
заново подаренный судьбой.
Настойчивой стайки воспоминаний...
Настойчивой стайки воспоминаний
никак мне нынче не отогнать.
Глаза закрываю, а все в тумане
балтийской зари золотится прядь.
И тучи, курчавясь, несутся мимо...
И ветер крепчает, волну дробя.
Ты прежде всегда меня звал любимой,
а я не любила, помню, тебя.
Нет. Наши дороги легли не рядом.
Зачем же столько суровых дней
все чудится мне, как воют снаряды,
как свищут пули над жизнью твоей?
И мысль пробирается дымной чащей,
по скалам и топям, сквозь ночь и муть.
Я нынче бываю с тобою чаще,
чем прежде бывала когда-нибудь.
Все нынче другое – души и лица,
другая радость, другой покой...
Я так бы хотела тебе присниться не той,
не прежней... совсем другой.
Резкие гудки автомобиля...
Резкие гудки автомобиля,
сердца замирающий полет.
В облаках белесой крымской пыли
прячется нежданный поворот.
По́лны звона выжженные травы.
Ветром с губ уносятся слова.
Слева склоны, склоны, а направо –
моря сморщенная синева.
Ветер все прохладнее. Все ближе
дальних гор скалистое кольцо.
Я еще до сумерек увижу
ваше загорелое лицо.
Но когда б в моей то было власти,
вечно путь я длила б, от того
что минуты приближенья к счастью
много лучше счастья самого.
И знаю все, и ничего не знаю...
И знаю все, и ничего не знаю...
И не пойму, чего же хочешь ты,
с чужого сердца с болью отдирая
налегших лет тяжелые пласты.
Трещат и рвутся спутанные корни.
И вот, не двигаясь и не дыша,
лежит в ладонях, голубя покорней,
тобою обнаженная душа.
Тебе дозволена любая прихоть.
Но быть душе забавою не след.
И раз ты взял ее, так посмотри хоть
в ее глаза, в ее тепло и свет.

ОЖИДАНИЕ
От фонаря щемящий свет.
На тротуаре – листьев груда.
Осталась, верно, с детских лет
потребность эта – верить в чудо.
Твои дороги далеки,
неумолимы расстоянья,
а я, рассудку вопреки,
все жду случайного свиданья.
Чернеет глубина ворот,
и холод облегает плечи.
Мне кажется: кто та́к вот ждет,
когда-нибудь дождется встречи.

ОСЕНЬ
Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго, долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.
С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.
Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого...
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.
Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть... Но думать о беде –
я на это не имею права.
Нынче улетели журавли...
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли...
Я теплее девочку укрыла.
До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость...
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.
И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.

ТРОПИНКА
Ночами такая стоит тишина,
стеклянная, хрупкая, ломкая.
Очерчена радужным кругом луна,
и поле дымится поземкою.
Ночами такое молчанье кругом,
что слово доносится всякое,
и скрипы калиток, и как за бугром
у проруби ведрами звякают.
Послушать, и кажется: где-то звучит
железная разноголосица.
А это все сердце стучит и стучит –
незрячее сердце колотится.
Тропинка ныряет в пыли голубой,
в глухом полыхании месяца.
Пойти по тропинке – и можно с тобой,
наверное, где-нибудь встретиться.

Из книги «Пути-дороги» (1954)
В оцепененье стоя у порога...
В оцепененье стоя у порога,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как завывает первая тревога
над черною, затихшею Москвой.
Глухой удар,
бледнеющие лица,
колючий звон разбитого стекла,
но детский сон сомкнул твои ресницы.
Как хорошо, что ты еще мала...
Десятый день мы тащимся в теплушке,
в степи висит малиновая мгла,
в твоих руках огрызок старой сушки.
Как хорошо, что ты еще мала...
Четвертый год отец твой не был дома,
опять зима идет, белым-бела,
а ты смеешься снегу молодому.
Как хорошо, что ты еще мала...
И вот – весна.
И вот – начало мая.
И вот – конец!
Я обнимаю дочь.
Взгляни в окошко,
девочка родная!
Какая ночь!
Смотри, какая ночь!
Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.
Тебе ж видны одни потоки света...
Как жалко мне, что ты еще мала!

СТАНЦИЯ БАЛАДЖАРЫ
Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести...
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.
Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты...
Запыхавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.
Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков...
Нам опять разминуться негде
с горьким ветром солончаков.
Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы...
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.
Жизнь чужая, чужие лица...
Я на станции не сойду.
Улыбается проводница:
Поглядите, мой дом в саду! –
В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник...
(А она говорила – сад.)
Но унылое это место,
где ни кустика нет вокруг,
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,
взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой...
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.
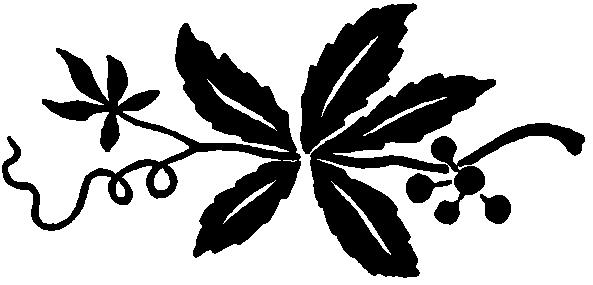
ПИСЬМА
Долго ли испытывать терпенье?
Долго ли –
опять,
опять,
опять –
пыльные, истертые ступени,
очередь к окошку «номер пять»?
Пачки писем в узловатых пальцах,
равнодушный шелестящий звук–
Письма – эти вечные скитальцы –
ждут других, гостеприимных рук.
И, быть может, долгими ночами,
за семью печатями, в тиши,
тяжело вздыхают от печали
чьей-нибудь непонятой души!
В семь часов окно должно закрыться.
Завтра в девять – отвориться вновь...
В белых треугольниках томится
невостребованная любовь.
Я взяла бы вас и отогрела,
обо всем бы выслушала я.
Только нету до меня вам дела,
если вы искали не меня!
...У окошка с полукруглой рамкой,
где от ламп зеленоватый свет,
седовласая азербайджанка
мне привычно отвечает: – Нет.–
Выхожу, иду на берег к морю,
где в мазутных лужицах земля,
и смотрю, смотрю, как за кормою
пенится дорога корабля,
как на мачте сонный парус виснет
и, спеша в далекие края,
мчатся чайки...
Белые, как письма.
Неручные, как любовь твоя!

ТИШИНА

Двое шли и ссорились.
А ночь голубела празднично и хрупко.
Двое шли и ссорились.
Уступка
не могла уже ни в чем помочь.
Их несправедливые слова
раздавались явственно и гулко.
А в несчетных лужах переулка
залегла такая синева,
словно небо в них перелилось...
В каждой синяя луна лежала,
в каждой облако, дымясь, бежало,
тонкое и светлое насквозь.
Пахло глиной и древесным соком,
холодом нестаявшего льда.
Шелестела зябкая вода,
торопясь по звонким водостокам.
Мир лежал торжественный такой
и необычайно откровенный.
Он бы выдал тайны всей вселенной,
но под равнодушною ногой
разлетелась вдребезги луна,
облако тонуло,
и на части
хрупкая дробилась тишина...
И никто не вспомнил, что она –
тоже счастье.
И какое счастье!
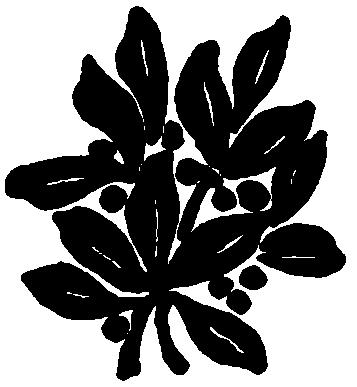
Мне сказали – ты в городе Энске живешь...
Мне сказали – ты в городе Энске живешь.
Очень занят работой и встречи не ждешь.
Я хожу по Москве, майским ветром дышу,
ни открыток, ни писем тебе не пишу.
И хотя ты расстался со мной не любя,
но молчанье мое огорчает тебя.
И представь – на булыжной чужой
мостовой
вдруг лицом бы к лицу мы столкнулись
с тобой
Ты подумал бы: чудо!
А вовсе и нет –
просто я на курьерский купила билет
или села во Внукове на самолет,
а до Энска четыре часа перелет.
Как тебя обняла бы я, друг дорогой!
Только в Энск никогда не ступлю я ногой,
никогда я на поезд билет не куплю,
никогда не скажу тебе слово «люблю».
Ты сейчас от меня так далек, так далек –
никакой самолет долететь бы не мог.

Биенье сердца моего...
Биенье сердца моего,
тепло доверчивого тела...
Как мало взял ты из того,
что я отдать тебе хотела.
А есть тоска, как мед сладка,
и вянущих черемух горечь,
и ликованье птичьих сборищ,
и тающие облака...
Есть шорох трав неутомимый
и говор гальки у реки,
картавый,
не переводимый
ни на какие языки.
Есть медный медленный закат
и светлый ливень листопада...
Как ты, наверное, богат,
что ничего тебе не надо!
ПРОЩАНЬЕ
Чемодан с дорожными вещами,
скудость слов, немая просьба рук...
Самое обычное прощанье,
самая простая из разлук.
На вокзалах плачут и смеются
и клянутся в дружбе и любви...
Вот и ты, стараясь улыбнуться,
говоришь:
– Смотри не разлюби!
Ну к чему, скажи, тревоги эти?
Для чего таким печальным быть?
Разве можно позабыть о свете
или, скажем, воздух разлюбить?
У тебя глаза совсем больные.
Улыбнись. Не надо так, родной...
Мне ведь тоже в ночи ледяные
нестерпимо холодно одной.
Шум, свистки, последние объятья,
дрогнули сцепленья, зазвеня...
До свиданья! Буду очень ждать я!
Только ты...
не разлюби меня.

Не отрекаются любя...
Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что́ там...
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно всё отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.

ЗЕРКАЛО
Все приняло в оправе круглой
нелицемерное стекло:
ресницы, слепленные вьюгой,
волос намокшее крыло,
прозрачное свеченье кожи,
лица изменчивый овал,
глаза счастливые... всё то же,
что только что
ты целовал.
И с жадностью неутолимой,
признательности не тая,
любуюсь я твоей любимой...
И странно мне,
что это... я.
Дремлет стужа, сок из веток выжав...
Дремлет стужа, сок из веток выжав,
в чащах спят, умаявшись, ветра.
Хочешь, завтра в лес пойдем на лыжах?
Хочешь, выйдем из дому с утра,
в час, когда еще нельзя вглядеться
в нерассветший дымчатый простор?..
Мы заглянем по дороге в детство,
на опушке разведем костер,
станем греться рядом, на снегу...
Ты не говори мне:
«Не могу».
Ты не вздумай намекать на старость –
слова нет такого в словаре...
Если вправду мало жить осталось,
надо выйти раньше...
На заре...

Из книги «Дорога на Клухор» (1956)
НОЧЬ
Как душно и тесно в вагонном плену!
Но я духоты, тесноты не кляну...
Срываются версты,
качаются звезды,
играет, гуляет гармошка в Клину.
Кивает огнями далекий уют,
кузнечики в поле спросонья куют,
ночная прохлада,
чужая отрада.
Нам здесь оставаться пятнадцать минут.
Нам колокол дважды прикажет:
«Пора!»
И лязгнут сомкнувшиеся буфера,
очнется граненый стакан в подстаканнике,
со звоном отчаянным затрепыхав,
кусты врассыпную шарахнутся в панике,
с обрывками пара на тонких руках...
И свист рассечет их ударом ножа,
а ветер закружит и бросит в пространство,
и примутся стекла –
пример постоянства –
в расшатанных рамах плясать, дребезжа.
Мой спутник молчит,
с головою укрыт,
наверное, спит,
а может, не спит,
а может, как я, с духотой не в ладах,
томится, с бессонницей не совладав.
Какое мне дело!
Мне знать ни к чему...
Своей я тревоги никак не уйму.
Что там за окошком:
платформы ли, дамбы ли,
мосты ли кидаются в дымную мглу?
В холодном, продутом, грохочущем
тамбуре
я лбом прислонюсь к ледяному стеклу.
Летят закругленья,
вагоны креня,
ночные селенья,
нигде ни огня,
ночные просторы,
нигде ни огня...
Как встретит твой город
назавтра меня?
Печаль или радость?
Любовь или ложь?
А вдруг не захочешь?
А вдруг не придешь?
А вдруг это просто придумано мной?
...В болотцах рассвет голубой пеленой...
Пусть мысли, как версты, уносятся прочь,
ведь что б ни случилось,
теперь не помочь.
О, только бы,
только бы,
только бы
длилась
вот эта на счастье похожая ночь!


А ведь могло бы статься так...
А ведь могло бы статься так,
что оба,
друг другу предназначены судьбой,
мы жизнь бок о бок
прожили б до гроба
и никогда не встретились с тобой.
В троллейбусе порой сидели б рядом,
в киоске покупали бы цветы,
едва отметив мимолетным взглядом
единственно любимые черты.
Чуть тяготясь весенними ночами,
слегка грустя о чем-то при луне,
мы честно бы знакомым отвечали,
что да,
мы в жизни счастливы вполне.
От многих я слыхала речи эти,
сама так отвечала, не таю,
пока любовь не встретила на свете
единственно возможную –
твою!
Улыбка, что ли, сделалась иною,
или в глазах прибавилось огня,
но только –
счастлива ли я с тобою? –
никто с тех пор не спрашивал меня.

Из книги «Память сердца» (1958)
ТВОЯ УЛИЦА
Мне каждый кустик мил на ней
и каждый камень...
А бывало,
я шла по улице твоей
и ничего не замечала.
Был сад как сад
и дом как дом,
а ты входил в его ворота,
обедал, спал, работал в нем,
кого-то ждал,
любил кого-то.
Да что лукавить!
Это я
тогда тебе ночами снилась.
Ты «фотокором» снял меня,
и я в столе твоем хранилась.
Ты мне натачивал коньки,
чинил ремни, забыв усталость,
все это смыслу вопреки:
я на коньках
с другим каталась.
С другим я шла на школьный бал,
сидела на футбольном матче,
а ты вздыхал, и ревновал,
и молча мне решал задачи.
А если в дождь являлась я,
ворчал, встречая на крылечке:
– С ума сошла! Промокла вся! –
И башмаки сушил на печке.
А наступал зеленый май,
ты, грустных глаз не подымая,
мне сухо говорил:
– Давай
сирени, что ли, наломаю.–
И мне огромный сноп вручал,
тугой, благоуханный, мокрый...
И улыбался.
И молчал,
опасливо косясь на окна.
......................
Был сад
как сад и дом как дом...
Крыльцо... Над крышею антенна...
Да, жаль, мы поздно узнаем
любви действительную цену.
Навряд ли кто любил меня
так бескорыстно,
так отважно...
Стоит, ступеньки накреня,
домишко твой
одноэтажный.
На днях его должны снести –
здесь будет здание вокзала.
Послушай,
ты меня прости!
Ах, если б юность больше знала!
А впрочем,
если бы и знать
и если б жить начать
опять,
все повторилось бы
сначала!


НЕПОГОДА
Нас дождь поливал
трое суток.
Три дня штурмовала гроза.
От молний ежеминутных
ломить начинало глаза.
Пока продолжалась осада,
мы съели пуды алычи.
За нами вдогонку из сада,
как змеи, вползали ручьи.
А тучи шли тихо, вразвалку,
и не было тучам конца...
Промокшая, злая чекалка
визжала всю ночь у крыльца.
Опавшие листья сметая,
кружились потоки, ворча,
лимонная и золотая
купалась в дожде алыча.
И, превознося непогоду,
от зноя живая едва,
глотала небесную воду
привычная к жажде трава.
Вот так мы и жили без дела
на мокрой, веселой земле,
а море свирепо гудело
и белым дымилось во мгле.
Домишко стоял у обрыва,
где грохот наката лютей,
и жило в нем двое счастливых
и двое несчастных
людей.
Ты мне в бесконечные ночи
с улыбкою (благо темно!)
твердил, что, конечно, на почте
лежит телеграмма давно.
Что письма затеряны, видно,
твердил, почтальонов виня.
И было мне горько и стыдно,
что ты утешаешь меня.
И я понимала отлично,
что четко работает связь,
что письма вручаются лично,
открытки не могут пропасть...
Однажды, дождавшись рассвета,
с последней надеждой скупой
ушла я месить километры
лиловой размякшей тропой.
Ушла я вдогонку за счастьем,
за дальней, неверной судьбой...
А счастье-то было ненастьем,
тревогой,
прибоем,
тобой.

МОЛНИЯ
На пасмурном бланке короткие строчки:
«Не жди. Не приеду. Целую. Тоскую».
Печатные буквы, кавычки да точки –
не сразу признаешь в них руку мужскую.
Обычно от молнии хочется скрыться,
бывает, она убивает и ранит...
Но это не молния – просто зарница.
За этакой молнией грома не грянет.
«Не жди. Не приеду»...
Какое мне дело!
«Целую. Тоскую»...
Какое мне горе!
И впрямь, вероятно, гроза отгремела,
ушла стороною за синее море.

ВОСПОМИНАНИЕ
Мне жаль голубого приморского дня
с персидской сиренью, горячей и пряной,
с бушующим солнцем,
соленой моряной;
мне жаль этой встречи,
короткой и странной,
когда ты подумал, что любишь меня.
Дымясь и блеща, закипали буруны,
чернели на рейде тела кораблей...
За нами пришла краснокрылая шхуна,
но мы не рискнули довериться ей.
Кричала сирена в порту, как тревога,
и стонущий голос по ветру несло...
Цыганка сказала: – Печаль и дорога...–
Такое у них, у цыган, ремесло.
Цыганка лукавая и молодая
взяла твою руку:
– А ну, погадаю! –
Но ты побоялся ее ворожбы,
ты думал, что можно уйти от судьбы!
Попробуй уйди...
Полустанок осенний,
печаль и смятенье последних минут...
Ни просьбы, ни слезы, ни ложь во спасенье
уже ни тебя, ни меня не спасут.
Но даже теперь, на таком расстоянье,
случается вдруг, и тебя и меня
в летящих ночах настигает сиянье
того голубого, приморского дня.

Вот это и есть настоящее, да?..
Вот это и есть настоящее, да?
Вот эта тоска, темнота и вода,
бегущая с крыш по ста желобам,
спросонок бормочущая в канавах,
где скорчившись спят нерожденные
травы,
где хлюпает глина со льдом пополам.
Весна по проселкам и городам
проходит, тяжелые слезы роняя...
Тоска, подступающая к губам,
тебя никому, ни за что не отдам,
на самое светлое не променяю.
Лежи до поры нерастаявшим льдом.
Я помню,
я знаю,
что будет потом!
И чего мы тревожимся, плачем и спорим...
И чего мы тревожимся, плачем и спорим,
о любимых грустим до того, что невмочь.
Большеглазые добрые звезды над морем,
шелковистая гладь упирается в ночь.
Спят прогретые за день сутулые скалы,
спит распластанный берег, безлюден и тих...
Если ты тишины и покоя искала,
вот они! Только нет, ты искала не их.
Спят деревья, мои бессловесные братья.
Их зеленые руки нежны и легки.
До чего мне сейчас не хватает пожатья
человеческой, сильной, горячей руки!


Слабеют выхлопы движка...
Слабеют выхлопы движка,
тускнеет свет...
Погас.
И ночь, бездонно глубока,
обрушилась на нас.
Под раскаленным пеплом звезд
деревья встали в полный рост,
слышнее стало, как ворчит
нагретый гравий под ногой,
и море,
светлое, как щит,
над бухтой выгнулось дугой.
А мы все шли,
в руке рука,
вдоль низких стен из плитняка,
вдоль темных маленьких домов,
где спят давно наверняка.
Сквозь пустыри
и сквозь сады,
где пыльный виноград вился́,
мы шли, молчание неся,
как чашу, полную воды.
Мы шли не глядя,
наугад,
и было так легко идти,
еще не зная, что назад
уже отрезаны пути.

У мокрых камней выгибает волна...

У мокрых камней выгибает волна
литую покатую спину.
Над черным хребтом Карадага
луна
истаяла наполовину.
Срываются звезды
с десятков орбит,
их росчерк мгновенен и светел.
Тревогу,
тревогу,
тревогу трубит
в ущельях полуночный ветер.
Пока фосфорящийся след не потух,
желанье
шепчу я поспешно.
Одно неизменное.
Ме́ста для двух
не стало в душе моей грешной.
К осеннему небу
прикован мой взгляд,
авось я судьбу переспорю!
...А звезды летят,
и летят,
и летят,
и падают в Черное море.
Я живу в постоянном предчувствии чуда...
Я живу в постоянном
предчувствии чуда,
и со мной происходят
иногда чудеса.
Воскресенье.
Сегодня здесь шумно и людно,
в пестрых тряпках
сырого песка полоса.
Ну, а море гремит,
и горит изумрудно,
и меняется каждые четверть часа.
Взад-вперед я брожу
неприкаянной тенью,
и волна замывает прилежно следы...
Значит, что же?
Сегодня у нас воскресенье?
Вечер, вечер субботний
у звездной воды!
Милый куст,
пропыленный,
жарой опаленный,
с чьей-то сохнущей майкой
линяло-зеленой,
до чего ты сейчас
неказист и уныл...
А каким ты поистине сказочным был!
Ты купался, в сиянье ночном трепеща,
ты струился листвой наподобье плаща.
И когда я на миг
открывала ресницы,
ты светился, как будто из синего льда,
и прохладною веткою трогал нам лица,
и на ветке, как птица,
качалась звезда...
Самолет на Москву улетел на рассвете.
Только б в небе его не застигла гроза!
Обнимаю шершавые пыльные ветви
и ладонью, смеясь, вытираю глаза.
На Святой – облаков ярко-белые груды,
и плывут они по небу,
как паруса...
Я живу в постоянном предчувствии чуда,
и со мной происходят
иногда чудеса!
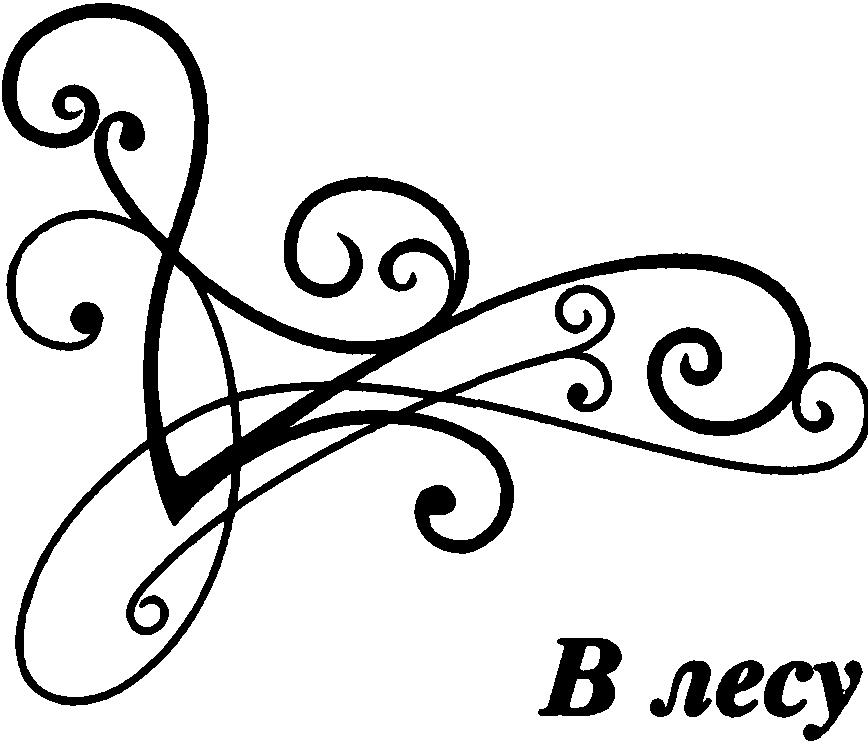
Осенний пожар полыхает в лесу,
плывут паутин волоконца,
тяжелые капли дрожат на весу,
и в каждой по целому солнцу.
Какой нерушимый сегодня покой,
как тихо планируют листья...
Хочу вороха их потрогать рукой,
как шкурку потрогала б лисью.
Как много их – рыжих, лиловых
почти,
коричневых и золотистых.
Слетают на плечи, лежат на пути,
трепещут на кронах сквозистых.
Торжественной бронзой покрыты дубы,
горят фонари-мухоморы...
Я нынче с рассвета пошла по грибы,
бродить по глухим косогорам.
Брожу –
и нет-нет
да присяду на ствол,
к осенней прислушаюсь речи.
Почудилось – кто-то по лесу прошел.
Не ты ли прошел недалече?
Брожу –
и нет-нет
да тебя позову,
молчанье лесное развею.
Мне эхо ответит, лукавя: ау...
А я вот возьму и поверю!
Вчерашний дождь...
Вчерашний дождь
последний лист багряный
сорвал с деревьев, рощи оголя́.
Я вышла через заросли бурьяна
в осенние пустынные поля.
Все шло своим положенным порядком,
заранее известным для меня:
ботва чернела по разрытым грядкам,
рыжела мокрой щеткою стерня,
блестели позолоченные утром
весенне-свежей озими ростки...
Их ветер трогал с нежностью,
как будто
на голове ребенка волоски.
А журавли,
печальные немного,
на языке гортанном говоря,
летели синей ветреной дорогой
в далекий край,
на теплые моря...
Ну, вот и все!
И нету больше лета,
когда друг друга отыскали мы.
Но мне впервые не страшны приметы
недальней неминуемой зимы.
Зимы, грозящей и садам и людям...
Ну, что она отнимет у меня?
Ведь мы с тобою
вместе греться будем
у зимнего веселого огня!
Прошло с тех пор...
Прошло с тех пор
счастливых дней,
как в небе звезд, наверное.
Была любимою твоей,
женою стала верною.
Своей законной чередой
проходят зимы с веснами...
Мы старше сделались с тобой,
а дети стали взрослыми.
Уж, видно, так заведено
И не о чем печалиться
А счастье...
Вышло, что оно
на этом не кончается.
И не теряет высоты,
заботами замучено...
Ах, ничего не знаешь ты,
и, может, это к лучшему.
Последний луч в окне погас,
полиловели здания...
Ты и не знаешь, что сейчас
у нас с тобой
свидание.
Что губы теплые твои
сейчас у сердца самого
и те слова – слова любви –
опять воскресли заново.
И пахнет вялая трава,
от инея хрустальная,
и, различимая едва,
звезда блестит печальная.
И лист слетает на пальто,
и фонари качаются...
Благодарю тебя за то,
что это не кончается.
Я тебя вспоминаю солидной и важной...
Я тебя вспоминаю солидной и важной,
с толстой мордочкой,
в капоре серого пуха...
Говорила ты басом, немного протяжно.
Отвечала, как правило, вежливо-сухо.
Дома ты становилась другою немножко
в полосатой своей бумазейной пижаме,
улыбалась, хихикала, мучила кошку,
приставала с вопросами разными к маме...
До чего я порой уставала, бывало,
от несчетных твоих «почему» и «откуда»,
говорила: – А ну, помолчи! –
и не знала,
что жалеть о твоем красноречии буду.
Верно, так уж устроено сердце людское.
Мне казалось, я очень нуждаюсь в покое,
а сейчас вот, когда это время далеко,
мне не горестно, нет,
но чуть-чуть одиноко.
Иногда мне хотелось бы теплого слова,
иногда мне бы маленькой ласки хотелось.
Но к родителям
юность особо сурова,
ей совсем не к лицу проявлять мягкотелость.
У нее есть на все
очень твердые взгляды,
есть на все «почему» и «откуда»
ответы.
Я такой же была...
Так, наверное, надо.
А потом... до чего кратковременно это!
Скоро жить начинаем мы как бы сначала;
понимаем, что сложно живется на свете,
что любимых любили мы плохо и мало
и что, в сущности, мы
те же самые дети.
Предстают по-другому все наши поступки...
Помню я,
по одной из московских улиц
мама,
мама моя
в старой плюшевой шубке
одиноко шагает, слегка сутулясь.
Мне догнать бы ее, проводить до трамвая,–
до чего бы, я знаю, была она рада.
Ах, как часто теперь я о ней вспоминаю...
Юность вечно спешит.
Так, наверное, надо?!
Из книги «Второе дыхание» (1961)
Воздух пьяный – нет спасения...
Воздух пьяный – нет спасения,
с ног сбивают два глотка.
Облака уже весенние,
кучевые облака.
Влажный лес синеет щеткою,
склон топорщится ольхой,
Все проявленное, четкое,
до всего подать рукой.
В колеях с навозной жижею,
кувыркаясь и смеясь,
до заката солнце рыжее
месит мартовскую грязь.
Сколько счастья наобещано
сумасшедшим этим днем!
Но идет поодаль женщина
в полушалочке своем,
не девчонка и не старая,
плотно сжав румяный рот,
равнодушная, усталая,
несчастливая идет.
Март, январь, какая разница,
коль случилось, что она
на земное это празднество
никем не позвана.
Ну пускай, пускай он явится
здесь, немедленно, сейчас,
скажет ей:
«Моя красавица!»,
обоймет, как в первый раз.
Ахнет сердце, заколотится,
боль отхлынет, как вода.
Неужели не воротится?
Неужели никогда?
Я боюсь взглянуть в лицо́ ее,
отстаю на три шага́,
и холодная, свинцовая
тень ложится на снега.

ИЮЛЬ
Пахнет липами на улице Воровского,
пахнет липами на площади Восстания,
льется запах волнами и всплесками,
медленной рекою
между зданиями.
Он везде и всюду пробивается,
к изголовью спящих проникает,
в сновидения их пробирается,
к их сердцам губами приникает.
Трудно женщинам разлюбленным
и вдовам
задыхаться в запахе медовом,
трудно девушкам,
влюбленным без ответа,
в это торжествующее лето.
Трудно мне –
любимой и влюбленной –
в час рассвета, под звездой зеленой,
о любви молчать...
Не потому ли,
что у сердца тоже есть свои июли,
и тогда оно цветет неудержимо
и само под этим сладким грузом мается.
...А звезда все выше подымается,
и еще один рассвет проходит мимо.

Тропа, петляя и пыля...
Тропа, петляя и пыля,
сбегает в темный буерак.
Там душно пахнет конопля,
там комарьем набитый мрак.
И, словно мраком порожден,
откуда-то изглубока́
стекляшек слабый перезвон,
несвязный щебет родничка.
Глухая, тихая пора,
вселяющая древний страх.
Перепела, перепела
одни кричат еще в полях.
Сквозь ветки светится мертво
налитый звездами бочаг.
Сознайся, ты ведь ничего
не знаешь о таких вещах?
А это я – любовь твоя,
по пояс вымокла в росе,
синеют шарики репья
в коротенькой моей косе,
в намокшем платьишке своем
иду, гадая о судьбе.
Иду и думаю о нем,
и это значит – о тебе.
Ты синеглаз, светловолос,
ты статен и бронзовокож,
и мне смешно теперь до слез,
как на себя ты не похож.
Сплошь заметён метелью звезд
полей торжественный покой.
А где-то там, за сотни верст,
не спит ребенок городской.
Трамваев гром в ночи слышней
фонарь качается в окне,
и мальчик думает о ней,
и это значит – обо мне.
А впереди петлистый путь,
десятилетий долгих мгла.
...Ну, расскажи когда-нибудь,
какая я тогда была?
ДВЕ ТЕНИ
Помнишь дом на пригорке?
В камне ступени?
Блеск фонарей
ледяной, голубой?
На мерцающем кварце
две черные тени.
Две четкие тени.
Наши с тобой.
Стекла в окнах черно
и незряче блестели,
сладко спали хозяева
в мягкой постели,
сны, наверно, смотрели
и ведать не ведали,
что сегодня
их двое прохожих
проведали.
Открывали калитку,
на лестницу лазали,
постояли
под черными влажными вязами,
заговорщицким шепотом говорили
и друг другу
тот маленький дом подарили,
и с собой увезли его
в поезде дальнем,
вместе с лестницей, садом,
хозяйскою спальней,
вместе с шепотом, взглядами,
тайным смятеньем,
что на веки веков
они, ночью любой,
на мерцающем кварце
две черные тени,
две четкие тени –
наши с тобой.
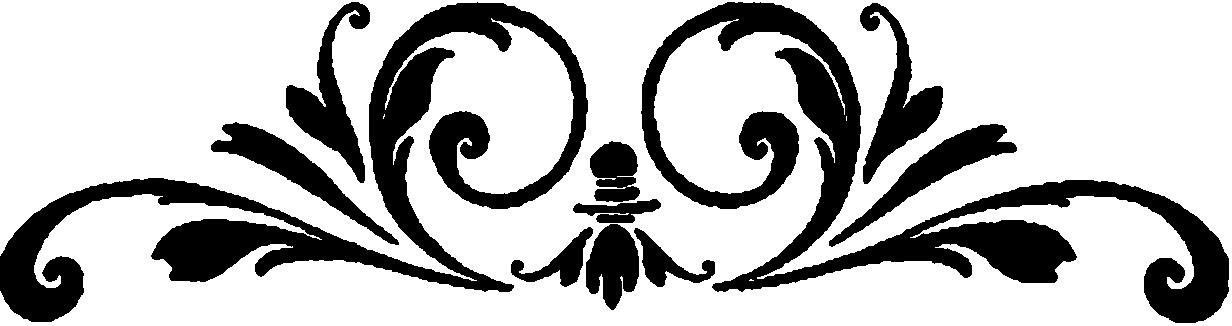
ВЕСЛО
Балалайка бренчала,
песни пела весна.
Прибежала я к причалу,
принесла два весла.
Мы с тобою плыли Волгой,
луговой стороной,
древесиной пахло волглой,
мгла легла пеленой.
Проглядела я излучину,
что лозой заросла,
утопила я уключину,
не сдержала весла.
Ты бранил меня недолго.
Тишина. Темнота.
Нас укачивала Волга,
шурша о борта.
Мы зажгли плавник наносный,
руки грели в золе.
Было холодно и звездно
на весенней заре.
Много было, да уплыло,
как по волнам весло,
было, было, много было,
да быльем поросло!
Всплески мерные...
Всплески мерные
за бортами,
посвист свежего ветерка,
смутно дизелей бормотанье
долетает изглубока.
Берега обступают тесно
темным ельником и сосной,
удивительны и прелестны
тишиною своей лесной.
После долгих просторов моря,
где и берега не видать,
очень ласковы
эти взгорья,
сел прибрежная благодать.
И на нашем пути пройденном
представляется это мне
часом праздничным,
проведенным
с кем-то близким
наедине.

ПРОЩАНЬЕ
У дебаркадеров лопочет
чернильно-черная вода,
как будто высказаться хочет,
да не умеет – вот беда!
Как будто бы напомнить хочет
о важном, позабытом мной,
и все вздыхает, все бормочет
в осенней теми ледяной.
Мой давний город, город детства
в огнях простерт на берегу.
Он виден мне, а вот вглядеться
в себя, былую, не могу.
Чувств неосвоенная область,
смятенных дум круговорот.
Напрасно старенький автобус
меня на набережной ждет.
Ах, если б не рассудка строгость
и не благоразумья власть!
Но тонко просвистела легость,
и связь, как нить, оборвалась.
И вот уже клубит сугробы
и за кормой шумит вода,
и город в ночь уходит, чтобы
не воротиться никогда.
И не сказать, как это грустно,
и взять бы кинуться вослед...
Но жизнь с трудом меняет русло,
когда тебе не двадцать лет.

УТРО
Снег не хлопьями падал –
комками
драгоценно и смутно блестел.
Снег над нами летел,
над веками,
снег из вечности в вечность
летел...
А река была черной и быстрой,
с чешуею на гибкой спине,
и костра одинокая искра
красным глазом
мерещилась мне...
Напрямик, без дорог, без указки,
сердца гром утишая в груди,
мы прошли по владениям сказки,
и остались они
позади.
Утро было безжалостно-трезвым,
ветер низкие гнал облака,
город был ледяным и железным,
снег был снегом,
рекою река.

ЗИМА, ЗИМА...
Полна зеленых, синих звезд
над миром ночь высокая.
Зима, зима – на сотни верст,
железная, жестокая.
Снега пронзительно блестят,
и по-стеклянному хрустят,
и нестерпимо грустно
от блеска и от хруста,
и оттого, что люди спят,
и оттого, что травы спят,
и спит земля, и спят дома,
и ты в каком-то доме спишь,
и у тебя там гладь да тишь.
Ты спишь с ладонью под щекой.
Пусть так! Бери себе покой!
Отныне мы разделены
не расстояньями страны,–
разделены стеной беды,
покою неугодной,
всем существом своим чужды,
как сытый и голодный,
как спящий и неспящий,
лежащий и летящий,
разделены с тобой,
как мертвый и живой...
Полна зеленых, синих звезд
над нами ночь высокая.
Зима, зима – на сотни верст.
Железная.
Жестокая.

В АЭРОПОРТУ
В холодном, неуютном зале
в пустынном аэропорту
слежу тяжелыми глазами,
как снег танцует на ветру.
Как на стекло лепя заплатки,
швыряет пригоршни пера,
как на посадочной площадке
раскидывает веера.
На положении беглянки
я изнываю здесь с утра.
Сперва в медпункте валерьянки
мне щедро выдала сестра.
Затем в безлюдном ресторане,
серьгами бедными блеща,
официантка принесла мне
тарелку жирного борща.
Из парикмахерской вразвалку
прошел молоденький пилот...
Ему меня ничуть не жалко,
но это он меня спасет.
В часы обыденной работы,
февральский выполняя план,
меня на крыльях пронесет он
сквозь мертвый белый океан.
Друзья мои, чужие люди,
благодарю за доброту.
...Сейчас вздохну я полной грудью
и вновь свободу обрету.
Как хорошо, что все известно,
что ждать не надобно вестей.
Благословляю век прогресса
и сверхвысоких скоростей.
Людской благословляю разум,
плоды великого труда
за то, что можно
так вот, разом,
без слов, без взгляда,
навсегда!

Ты не любишь считать...
Ты не любишь считать
облака в синеве.
Ты не любишь ходить
босиком по траве.
Ты не любишь
в полях паутин волокно,
ты не любишь,
чтоб в комнате
настежь окно,
чтобы настежь глаза,
чтобы настежь душа,
чтоб бродить не спеша
и грешить не греша...
Все бывало иначе
когда-то, давно.
Много власти
любовью мне было дано!
Что же делать теперь?
Помоги, научи.
На замке твоя жизнь,
потерялись ключи.
А моя на исходе –
улетают года.
Неужели не встретимся
никогда?
Еще не в состоянии войны,..
Еще не в состоянии войны,
но, наглухо замкнув уже границу,
живем, как две враждебные страны,
и каждая соседственной боится.
Мы, клявшиеся в верности до гроба,
теперь из опасения измен
давно уж ничего друг другу оба
не отдаем и не берем взамен.
Но облака не признают границы,
дожди одни и те же мочат нас,
воспоминанья – ветреные птицы –
взад и вперед летают по сто раз...
Противоречат принципам природы
любые пограничные столбы:
везде сочатся почвенные воды,
корнями разрастаются дубы...
Что может быть печальнее судьбы,
когда врагами делаются двое?
И неужели это мы с тобою –
тупого недоверия рабы?
Кто первым нашу жизнь разгородил,
траншею на лугу цветущем вырыл?
Кто по обочинам ромашки вырвал?
Кто наш ручей веселый запрудил?
Проходят дни, тревожны и пусты.
Страшны они в своем движенье мерном.
Так кто же первым уберет посты?
Кто полосатый столб повалит первым?

Шкатулка заперта...
Шкатулка заперта.
И ключ потерян.
И в общем в нем нужды особой нет:
союз двоих
испытан и проверен
и узаконен целым рядом лет.
Давно к листкам
никто не прикасается,
не беспокоит давнюю судьбу.
И спит любовь,
как спящая красавица
в своем отполированном гробу.

Всегда так было...
Всегда так было
и всегда так будет:
ты забываешь обо мне порой,
твой скучный взгляд
порой мне сердце студит...
Но у тебя ведь нет такой второй!
Несвойственна любви красноречивость,
боюсь я слов красивых как огня.
Я от тебя молчанью научилась,
и ты к терпенью
приучил меня.
Нет, не к тому, что родственно бессилью,
что вызвано покорностью судьбе,
нет, не к тому, что сломанные крылья
даруют в утешение тебе.
Ты научил меня терпенью поля,
когда земля суха и горяча,
терпенью трав, томящихся в неволе
до первого весеннего луча,
ты научил меня терпенью птицы,
готовящейся в дальний перелет,
терпенью всех, кто знает,
что случится,
и молча неминуемого ждет.

Ни в каких не в стихах, а взаправду...
Ни в каких не в стихах, а взаправду
ноет сердце – лечи не лечи,
даже ветру и солнцу не радо...
А вчера воротились грачи.
Не до солнца мне,
не до веселья.
В книгах,
в рощах,
в поверьях,
в душе
я ищу приворотного зелья,
хоть в него и не верю уже.
Я сдаваться сперва не хотела,
покоряться судьбе не могла,
говорила:
«Любовь улетела»,
а теперь говорю:
«Умерла».

Умерла, не глядит, и не дышит,
и не слышит, как плачу над ней,
как кричу ее имя,
не слышит,
бездыханных камней ледяней.
А грачи все равно прилетели
и возводят свои города...
Я ищу приворотного зелья,
а нужна-то
живая вода.

И вот опять со мною одиночество,..
И вот опять со мною одиночество,
которому конца уже не будет.
Любимый поцелуем не разбудит.
Ему бродить со мною не захочется,
рвать для меня кувшинки не захочется.
«Жарища нынче!» –
скажет и поморщится.
«Поедем завтра»,– скажет
и забудет.
...Ах, жизнь моя, как страшно ты поблекла.
...А где же золотая паутина?
А где же разноцветные волокна?
Ты стала пыльной, серой, узловатой...
Сама я, видно, в этом виновата.
Вокруг меня как будто бы ограда
чужих надежд, любви, чужого счастья...
Как странно – все без моего участья,
как странно – никому меня не надо.
Как странно – я со всем живым в разлуке...
Зачем же ноги сильные и руки?
И эта любящая солнце кожа?
Глаза, такие жадные до красок?
Зачем мое горячее, живое,
любовью переполненное сердце –
все сто даров прекрасных и напрасных?
О, как я ненавижу одиночество,
как презираю слабость и усталость!
Поэзия – подруга и помощница,
как хорошо, что ты со мной осталась!
Мы сядем рядом, близко... вечер длинный...
НЗ – запас откроем аварийный
соленых слез и сладостных улыбок,
достанем горький мед воспоминаний,
раздумья о грядущем хлеб насущный,
хмель поцелуев, ароматы детства...
Скажи: куда могло все это деться?
А никуда не делось. Все осталось.
Все роздано, раздарено...
И люди
все сберегут – любовь твою, усталость,
надежды, радость... даже одиночество,
которому конца уже не будет.

Счастливо и необъяснимо...
Счастливо и необъяснимо
происходящее со мной:
не радость, нет – я не любима –
и не весна тому виной.
Мир непригляден, бесприютен,
побеги спят,
и корни спят,
а я не сплю,
и день мой труден,
и взгляд мне горести слепят...
Я говорю с тобой стихами,
остановиться не могу.
Они как слезы, как дыханье,
и, значит, я ни в чем не лгу...
Все, что стихами, – только правда,
стихи как ветер, как прибой,
стихи – высокая награда
за все, что отнято тобой!
А знаешь, все еще будет!..
А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолеты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря...
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье – что оно? Та же птица:
упустишь и не поймаешь.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годится,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста...
Знаешь, как отпразднуем
встречу!

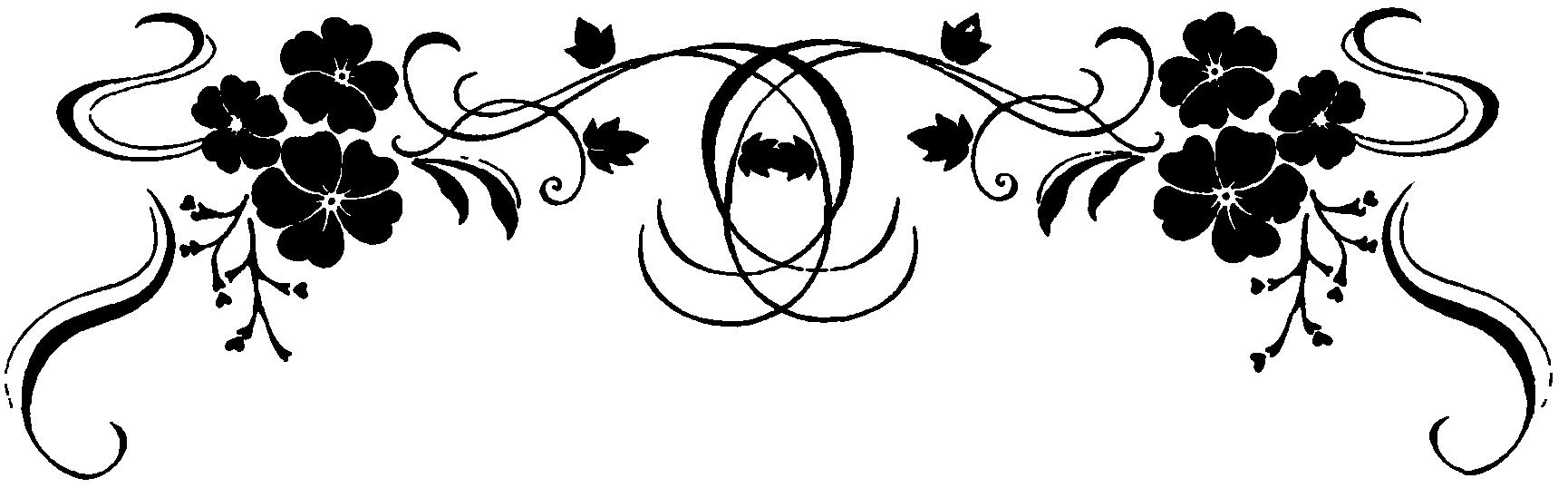
Жизнь обмелела...
Жизнь обмелела.
Медленна. Узка.
События среди ее покоя:
прилет скворца,
рождение листка...
Ну что же, с каждым
может быть такое.
А небо все синей и горячей,
и воздух полон распрями грачей.
Вот бабочка вспорхнула из-под ног,
как будто вспыхнул белый огонек.
А вот и прошлогодняя трава,–
она, оказывается, жива!
Красноголовый дятел на сосне
печатает приветствие весне.
Вот так я и живу.
А что, нельзя?
Пускай не беспокоятся друзья –
я просто отдыхаю от печали,
брожу по лесу, греюсь под лучами
и думаю...
И крепко сплю ночами,
и не спешу приблизить милый срок
ночных бессонниц
и счастливых строк.
Нет, для меня затишье чувств
не бремя,
я не страшусь молчания души,
все,
все придет,
когда настанет время.
Тогда спеши –
не спи!
Люби!
Пиши!

Сколько дней...
Сколько дней
не спалось,
неелось,
не плакалось мне,
не пелось,
не работалось,
не гулялось,–
все в душе своей
разбиралась.
Раздала что было хорошего,
что не нужно –
на свалку брошено,
подмела свою душу
дочиста,
настоящее одиночество.
Настежь окна,
свежо в груди...
Вот теперь давай
приходи!

САМОЛЕТЫ
Запах леса и болота,
полночь, ветер ледяной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.
Пролетают рейсом поздним,
рассекают звездный плес,
пригибают ревом грозным
ветки тоненьких берез.
Полустанок в черном поле,
глаз совиный фонаря...
Сердце бродит, как слепое,
в поле без поводыря.
Обступает темень плотно,
смутно блещет путь стальной...
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.
Я устала и продрогла,
но ведь будет, все равно
будет дальняя дорога,
будет все, что суждено.
Будет биться в ровном гуле
в стекла звездная река,
и дремать спокойно будет
на моей твоя рука...
Можно ль сердцу без полета?
Я ли этому виной?
Самолеты, самолеты
пролетают надо мной.


ПРОБУЖДЕНИЕ
Раскрываю глаза,
и сразу –
та, последняя фраза,
последнее то молчанье,
последний взгляд, на прощанье.
И сразу
горячей волною
сердце мое зальется,
и сразу
пол подо мною,
как на море, покачнется...
И опять я веки зажмурю,
и опять в дорогу отправлюсь,
благословляя бурю,
с которой никак не справлюсь.
Говорят, погибают в море
с волнами в рукопашной...
Ну и что?
Подумаешь, горе!
На свете одно мне страшно
страшно: а вдруг
ту полночь
ты по-другому
помнишь?

Я пенять на судьбу не вправе,..
Я пенять на судьбу не вправе,
годы милостивы ко мне...
Если молодость есть вторая –
Лучше первой она вдвойне.
Откровеннее и мудрее,
проницательней и щедрей.
Я горжусь, я любуюсь ею –
этой молодостью моей.
Та подарком была, не боле,
та у всех молодых была.
Эту я по собственной воле,
силой собственной добыла.
Я в ее неизменность верю
оттого, что моя она,
оттого, что душой своею
оплатила ее сполна!
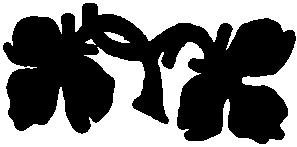
Морозный лес...
Морозный лес.
В парадном одеянье
деревья-мумии, деревья-изваянья...
Я восхищаюсь этой красотой,
глаз не свожу,
а сердцем не приемлю.
Люблю землею пахнущую землю
и под ногой
листвы упругий слой.
Люблю кипенье, вздохи, шелест,
шорох,
величественный гул над головой,
брусничники на рыжих косогорах,
кочкарники с каемчатой травой...
Труд муравьев, и птичьи новоселья,
и любопытных белок беготню...
Внезапной грусти,
шумного веселья
чередованье
по сто раз на дню.
Люблю я все, что плещется, струится,
рождается, меняется, растет,
и старится,
и смерти не боится...
Не выношу безжизненных красот!
Когда январским лесом прохожу я
и он молчит,
в стоцветных блестках сплошь,
одно я повторяю, торжествуя:
«А все-таки ты скоро оживешь!»
НОЧЬ ПОДМОСКОВНАЯ
Снегом одета,
молчаньем скована
зимняя, звездная ночь
подмосковная.
Только попробуй получше прислушаться –
сразу молчание ночи нарушится:
сразу возникнут
шелесты дальние,
скрипы морозные,
звоны хрустальные...
В воздухе носятся шорохи странные –
то ли гуляет Большая Медведица,
то ли за дело взялась гололедица,
ветки в чехольчики прячет
стеклянные?
Странные шорохи в воздухе носятся...
Слышишь, как иней с ресниц осыпается?
Слышишь, как сердце мое задыхается,
в руки твои горячие
просится?
НА РАССВЕТЕ
Не пришел ты.
Я ждала напрасно.
Ночь проходит... День на рубеже...
В окна смотрит пристально и ясно
небо, розоватое уже.
Кошки бродят у пожарных лестниц,
птица сонно голос подает.
На антенне спит ущербный месяц,
с краешка обтаявший, как лед.
Ты назавтра скажешь мне при встрече:
– Милая, пожалуйста, прости!
Я зашел с товарищем на вечер,
задержался и не смог прийти.
Ты не очень сердишься?
– Не очень.–
И уйду, попреков не любя.
...Все-таки мне жалко этой ночи,
что ее ты отнял у себя.

И живешь-то ты близко,..
И живешь-то ты близко,
почти что бок о бок,
в одной из железобетонных коробок,
а солнца не видим,
а ветром не дышим,
а писем любовных
друг другу не пишем...
И как это так получилось нелепо,
что в наших лесах мы не бродим вдвоем,
из ладони не пьем,
ежевику не рвем,
на горячей поляне среди курослепа
не делим по-братски ржаного куска,
не падаем в теплое синее небо,
хватаясь беспомощно за облака.
И в зное полуденном,
в гомоне смутном
не дремлем усталые в холодке
и не слышим, как птицы наши
поют нам
на понятном обоим нам
языке...
Мы солнца не видим
и ветром не дышим,
никуда мы не выйдем,
ничего не услышим,
лишь звонок телефонный
от раза до раза
и всегда наготове
стандартная фраза
для приветствия,
для прощания...
Да еще напоследок
мгновенье молчания.
Минута молчания.
Вечность молчания,
полная нежности
и отчаянья.

Все в доме пасмурно и ветхо,..
Все в доме пасмурно и ветхо,
скрипят ступени, мох в пазах...
А за окном – рассвет
и ветка
в аквамариновых слезах.
А за окном
кричат вороны,
и страшно яркая трава,
и погромыхиванье грома,
как будто валятся дрова.
Смотрю в окно,
от счастья плача,
и, полусонная еще,
щекою чувствую горячей
твое прохладное плечо...
Но ты в другом, далеком доме
и даже в городе другом.
Чужие властные ладони
лежат на сердце дорогом.
...А это все – и час рассвета,
и сад, поющий под дождем,–
я просто выдумала это,
чтобы побыть
с тобой вдвоем.
А знаешь ли ты? Когда мы...
А знаешь ли ты? Когда мы
расстались с тобой вчера,
следом за мною прямо
влетела в двери пчела,
и, кружась по комнате тесной,
гудела, пела она,
как из самого сердца леса
протянутая струна.
Поверишь ли ты, как странно,
такой был час колдовской,
что даже вода из крана
пахла ночной рекой.
Сквозь веки, сжатые плотно,
та река мне видна была,
и комната, словно лодка,
покачиваясь плыла.

Сияет небо снежными горами...
Сияет небо снежными горами,
громадами округлых ярких туч.
Здесь тишина торжественна,
как в храме,
здесь в вышине дымится тонкий луч.
Здесь теплят ели розовые свечи
и курят благовонную смолу.
Нам хвоя тихо сыплется на плечи,
и тропка нас ведет в густую мглу.
Все необычно этим летом странным:
и то, что эти ели так прямы,
и то, что лес мы ощущаем храмом,
и то, что боги в храме этом мы!
День был яркий, ветреный...
День был яркий, ветреный.
Шум кипел березовый.
В рощице серебряной
цвел татарник розовый.
Земля была прохладная,
влажная, упругая,
тучи плыли по небу
громоздкие, округлые...
Быть может, слишком часто я
зеленым брежу летом,
но если это счастье,
то как молчать об этом?
Если я такими
богатствами владею –
зачем же, зачем же
их спрячу от людей я?
Ссорятся влюбленные,
грустят, и невдомек им,
что есть края зеленые,
где все бывает легким.
А редко ли встречаются
хмурые, усталые,
вздыхают, огорчаются,
думают, что старые.
Ходят в поликлиники,
вздорят там с врачами...
А в чащах есть малинники,
овраги есть с ручьями.
Там есть трава и синева,
роса и запах тминный,
и стоит это целиком,
с водой, цветами, ветерком,
какой-нибудь полтинник.
И каждому, кто забредет
в лесное это царство,
от всех невзгод, от всех забот
отыщется лекарство.
Помнишь? День был ветреный,
шум кипел березовый,
в рощице серебряной
цвел татарник розовый...

ОСЕНЬ В КРЫМУ
I
Ранняя нынче
осень в Крыму,
смутное море,
горы в дыму,
пухлые тучи,
дождем налиты́,
переползают
через хребты.
Рыжий лишайник,
седая полынь,
ветки ломает
жгучий норд-ост,
только в ущельях –
тишь да теплынь,
свищет по-летнему
глупенький дрозд.
Впрочем, кто знает,–
глуп или нет,
кто разберет,
что у птиц на уме?
Может, и нам
не считать бы примет,
жить и не думать
о близкой зиме...
Ранняя нынче
осень в Крыму,
зябкое море,
дали в дыму...
Как мне живется
светло и легко,
а почему,
сама не пойму.
II
Норд-ост осенний с гор летел
и щеки жег румянцем.
Шиповник рыжий шелестел,
алея твердым глянцем.
И было гнездышко в кусте,
в колючей чаще ржавой.
Пять красных ягод
в том гнезде,
в сухой листве лежало...
Могли не верить лишь глупцы,
что совершится чудо,
что красноперые птенцы
проклюнутся оттуда.
Но мы с тобой не стали ждать
с надеждой и тревогой,
взглянули только
и опять
пошли своей дорогой.
Все представляю, как потом
снега на горы лягут,
как занесут в гнезде сухом
пять бездыханных ягод.
III
За валом вал
идет на берег,
бурля зеленым кипятком,
и каждый
в смерть свою не верит,
и каждый
падает ничком.
И, растекаясь пеной млечной,
сбегает медленно
с камней,
чтоб снова слиться
с глубью вечной
и обрести бессмертье
в ней.

Не сули мне...
Не сули мне
золотые горы,
годы жизни доброй
не сули.
Я тебя покину очень скоро
по закону матери-земли.
Мне остались считанные весны,
так уж дай на выбор,
что хочу:
елки сизокрылые, да сосны,
да березку – белую свечу.
Подари веселую дворняжку,
хриплых деревенских петухов,
мокрый ландыш,
пыльную ромашку,
смутное движение стихов.
День дождливый,
темень ночи долгой,
всплески, всхлипы, шорохи
во тьме...
И сырых поленьев запах волглый
тоже, тоже дай на память мне.
Не кори, что пожелала мало,
не суди, что сердцем я робка.
Так уж получилось, –
опоздала...
Дай мне руку!
Где твоя рука?

Я прощаюсь с тобою...
Я прощаюсь с тобою
у последней черты.
С настоящей любовью,
может, встретишься ты.
Пусть иная, родная,
та, с которою – рай,
все равно заклинаю:
вспоминай! вспоминай!
Вспоминай меня, если
хрустнет утренний лед,
если вдруг в поднебесье
прогремит самолет,
если вихрь закурчавит
душных туч пелену,
если пес заскучает,
заскулит на луну,
если рыжие стаи
закружит листопад,
если за полночь ставни
застучат невпопад,
если утром белесым
закричат петухи,
вспоминай мои слезы,
губы, руки, стихи...
Позабыть не старайся,
прочь из сердца гоня,
не старайся,
не майся –
слишком много меня!

Из книги «Сто часов счастья»
(1965)
Сто часов счастья...
Сто часов счастья...
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блестке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и березки...
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлета его настигала
на аэродроме,
обнимала его, согревала
в нетопленном доме.
Ворожила над ним, колдовала...
Случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье свое добывала.
Это зря говорится,
что надо счастливой родиться.
Нужно только, чтоб сердце
не стыдилось над счастьем трудиться,
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило «спасибо».
Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана...
Сто часов счастья!
Разве этого мало?


Не знаю – права ли...
Не знаю – права ли,
не знаю – честна ли,
не помню начала,
не вижу конца...
Я рада,
что не было встреч под часами,
что не целовались с тобой
у крыльца.
Я рада, что было так немо и прямо,
так просто и трудно,
так нежно и зло,
что осенью пахло
тревожно и пряно,
что дымное небо на склоны ползло.
Что сплетница сойка
до хрипу кричала,
на все побережье про нас раззвоня.
Что я ничего тебе
не обещала
и ты ничего не просил
у меня.
И это нисколько меня не печалит,–
прекрасен той первой поры неуют...
Подарков не просят
и не обещают,
подарки приносят
и отдают.
Одна сижу на пригорке...
Одна сижу на пригорке
посреди весенних трясин.
...Я люблю глаза твои горькие,
как кора молодых осин,
улыбку твою родную,
губы, высохшие на ветру...
Потому,– куда ни иду я,
и тебя с собою беру.
Все я тебе рассказываю,
обо всем с тобой говорю,
первый ландыш тебе показываю,
шишку розовую дарю.
Для тебя на болотной ржави
ловлю отраженья звезд...
Ты все думаешь – я чужая,
от тебя за десятки верст?
Ты все думаешь – нет мне дела
до озябшей твоей души?
Потемнело, похолодело,
зашуршали в траве ежи...
Вот уже и тропы заросшей
не увидеть в ночи слепой...
Обними меня, мой хороший,
бесприютные мы с тобой.
Почему говорится: «Его не стало»...
Почему говорится:
«Его не стало»,
если мы ощущаем его
непрестанно,
если любим его,
вспоминаем,
если –
это мир, это мы
для него
исчезли.
Неужели исчезнут
и эти ели,
и этот снег
навсегда растает?
Люди любимые,
неужели
вас
у меня не станет?

Небо желтой зарей окрашено...
Небо желтой зарей окрашено,
недалеко до темноты...
Как тревожно, милый,
как страшно,
как боюсь твоей немоты.
Ты ведь где-то живешь и дышишь,
улыбаешься, ешь и пьешь...
Неужели совсем не слышишь?
Не окликнешь? Не позовешь?
Я покорной и верной буду,
не заплачу, не укорю.
И за праздники,
и за будни,
и за все я благодарю.
А всего-то и есть:
крылечко,
да сквозной дымок над трубой,
да серебряное колечко,
пообещанное тобой.
Да на дне коробка картонного
два засохших с весны стебля́,
да еще вот – сердце,
которое
мертвым было бы
без тебя.

Без обещаний жизнь печальней...
Без обещаний
жизнь печальней
дождливой ночи без огня.
Так не жалей же обещаний,
не бойся обмануть меня.
Так много огорчений разных
и повседневной суеты...
Не бойся слов –
прекрасных, праздных,
недолговечных, как цветы.
Сердца людские так им рады,
мир так без них
пустынно тих...
И разве нет в них
высшей правды
на краткий срок цветенья их?

СИНЯЯ ПТИЦА

Ты на рынке
мне купил голубку.
Маленькую,
худенькую,
хрупкую,
рыжевато-палевой окраски
птицу,
прилетевшую из сказки.
Вытащил помятую рублевку,
чтобы за покупку расплатиться...
Боже, как давно
и как далеко
я разыскивала
эту птицу.
Позади, без малого, полсвета,
скоро жизнь мою оденет иней...
А она была
совсем не синяя,–
рыжевато-палевого цвета.
ВАЛЬДШНЕП
Влетел он в полымя заката
и замелькал, и зачернел,
и не слыхал,
как в два раската
гром над поляной прогремел.
Свинца горячие крупицы
ударили наперерез,
и люди радовались птице,
упавшей на́ землю
с небес.
Среди осин и елей мрачных,
зарывшись в прошлогодний лист,
лежал крылатый неудачник,
весны подстреленный связист.
И длинный клюв
торчал, как шильце,
из горстки пестрого пера...
Кто знал, что этим завершится
весны любовная пора?
Какая радость им владела,
как жизнь была ему легка,
и как бы я его жалела,
когда б не гордость
за стрелка!

Бывают весны разными...
Бывают весны разными:
стремительными, ясными,
ненастными и грустными,
с облаками грузными...
А я была бы рада
всякой,
любой,
только бы, только бы, только бы
с тобой.
Только б ветки влажные,
талая земля,
только хоть однажды бы:
«Хорошая моя!»
Только хоть однажды бы
щекой к щеке
да гудки протяжные
вдалеке...

МАЯК

Море мое пустынно,
на море тишь да гладь...
Может быть, это стыдно –
так безнадежно ждать?
Напрасный огонь лучится,
виден издалека...
Я не могу отлучиться
с забытого маяка.
Я не могу отлучиться
ни на единый час:
вдруг что-нибудь случится
с тобой...
А огонь погас!
ЛЕТО
Как пахнет пыль, прибитая дождем,
как поле дышит
сладостно и вольно...
А в мире существуют смерть и войны,
тоска и одиночество вдвоем.
Разлука тоже существует в мире:
гудок... три красные огня вдали...
И телефон журчит в пустой квартире,
как будто где-то на краю земли.
Звонит – и ни ответа, ни привета.
Слой пыли на столе. Дверь заперта.
Какое нескончаемое лето...
Какая духота и маета...
Наверное, клянут меня соседи
за эти бесконечные звонки.
Пыль на столе. Хозяева в отъезде.
А где-то – жаворонки, васильки...
Быть хорошим другом обещался...
Быть хорошим другом обещался,
звезды мне дарил и города.
И уехал,
и не попрощался.
И не возвратится никогда.
Я о нем потосковала в меру,
в меру слез горючих пролила.
Прижилась обида,
присмирела,
люди обступили
и дела...
Снова поднимаюсь на рассвете,
пью с друзьями, к случаю, вино,
и никто не знает,
что на свете
нет меня уже давным-давно.

ДОМ МОЙ – В СЕРДЦЕ ТВОЕМ
I
Знаешь ли ты,
что такое горе,
когда тугою петлей
на горле?
Когда на сердце
глыбою в тонну,
когда нельзя
ни слезы, ни стона?
Чтоб никто не увидел,
избави Боже,
покрасневших глаз,
потускневшей кожи,
чтоб никто не заметил,
как я устала,
какая больная, старая
стала...
Знаешь ли ты,
что такое горе?
Его переплыть
все равно что море,
его перейти
все равно что пустыню,
а о нем говорят
словами пустыми,
говорят:
«Вы знаете, он ее бросил...»
А я без тебя
как лодка без весел,
как птица без крыльев,
как растенье без корня...
Знаешь ли ты, что такое горе?
Я тебе не все еще рассказала,–
знаешь, как я хожу по вокзалам?
Как расписания изучаю?
Как поезда по ночам встречаю?
Как на каждом почтамте
молю я чуда:
хоть строки, хоть слова
оттуда... оттуда...
II
Мне казалось, нельзя,
чтоб «Выхода нет».
А вот оказалось, случается.
На́ год,
на́ два,
на десять лет
выхода нет!
А жизнь не кончается.
А жизнь не кончается все равно,
а люди встречаются,
пьют вино,
смотрят кино,
в автобусах ездят,
ходят по улицам
вместе... вместе...
Называют друг друга:
«Моя!»
«Мой!»
Говорят друг другу:
«Пойдем домой!»
Домой...
А ты мне: «Куда пойдем?»
У бездомных разве бывает дом?
III
Дом – четыре стены...
Кто сказал, что четыре стены?
Кто придумал, что люди
на замок запираться должны?
Разве ты позабыл,
как еловые чащи темны
и какие высокие звезды
для нас зажжены?
Разве ты позабыл, как трава луговая
мягка,
как лодчонку рыбачью
качает большая река,
разве ты позабыл
полыханье и треск
сушняка?
Неужели так страшно,
если нет над тобой
потолка?
Дом – четыре стены...
Ну, а если у нас их нет?
Если нету у нашего дома
знакомых примет,
ни окон, ни крыльца,
ни печной трубы,
если в доме у нас
телеграфные стонут столбы,
если в доме у нас,
громыхая, летят поезда?..
Ни на что, никогда
не сменяю я этой судьбы,
в самый ласковый дом
не войду без тебя
никогда.
IV
Помню первую осень,
когда ты ко мне постучал,
обнимал мои плечи,
гладил волосы мне
и молчал...
Я боялась тебя,
я к тебе приручалась с трудом,
я не знала, что ты
мой родник,
хлеб насущный мой,
дом!
Я не знала, что ты –
воскресение, родина, свет!..
А теперь тебя нет,
и на свете приюта мне нет!
Ты не молод уже,
мой любимый?
А я молода?
Ты устал, мой любимый?..
А я? – хоть бы день без труда,
хоть бы час без забот...
Все равно –
в самый ласковый дом
без тебя не войду...
Дом мой – это с тобою вдвоем,
дом мой – в сердце твоем!
Ты не думай, я смелая,
не боюсь ни обиды, ни горя,
что захочешь –
все сделаю,–
слышишь, сердце мое дорогое?
Только б ты улыбнулся,
только б прежним собой
становился,
только б не ушибался,
как пойманный сокол не бился...
...Знаешь ли ты,
что такое горе?
Его переплыть
все равно что море,
его перейти
все равно что пустыню,
да ведь нет другой дороги
отныне,
и нашлась бы – так я не пойду
другою...
Знаешь ли ты,
что такое горе?
.........................
А знаешь ли ты,
что такое счастье?

ПИСЬМО
Просто синей краской на бумаге
неразборчивых значков ряды,
а как будто бы глоток из фляги
умирающему без воды.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Почему так медлила безбожно
почта, избавление неся?
Наконец-то отдохну немного.
Очень мы от горя устаем.
Почему ты не хотел так долго
вспомнить о могуществе своем?

КОСТЕР
Ни зяблика, ни славки, ни грача.
Стволы в тумане.
Гаснет день короткий.
Лесной костер
грызет сушняк, урча,
и греет нас – услужливый и кроткий.
Рожденное от хищного огня,
с орешником заигрывает пламя...
Ну, что молчишь? Что смотришь на меня
такими несчастливыми глазами?
Как много раз ты от меня бежал,
как много раз я от тебя бежала...
Мы жгли костер.
Гудит лесной пожар.
Не поздно ли спасаться
от пожара?
Не о чем мне печалиться...
Не о чем мне печалиться,
откуда же
слезы эти?
Неужели сердце прощается
со всем дорогим на свете –
с этим вечером мглистым,
с этим безлистым лесом...
А мне о разлуке близкой
ничего еще не известно.
Все еще верю:
позже,
когда-нибудь...
в марте... в мае...
Моя последняя осень.
А я ничего не знаю.
А сны все грустнее снятся,
а глаза твои все роднее,
и без тебя оставаться
все немыслимей!
Все труднее!

Глаза твои хмурятся...
Глаза твои хмурятся,
горькие, мрачные,
тянется, курится
зелье табачное,
слоятся волокна
длинные, синие,
смотрится в окна
утро бессильное.
Сердце не греется,
дело не ладится,
жизнь драгоценная
попусту тратится.
Может быть, кажется,
может быть, чудится,
что ничего уже в жизни
не сбудется...
Думаю с грустью:
чего я сто́ю?
На что гожусь я? –
Место пустое!
Чего я сто́ю
с любовью моею,
если помочь тебе
не умею?
Гонит ветер...
Гонит ветер
туч лохматых клочья,
снова наступили холода.
И опять мы
расстаемся молча,
так, как расстаются
навсегда.
Ты стоишь и не глядишь вдогонку.
Я перехожу через мосток...
Ты жесток
жестокостью ребенка –
от непонимания жесток.
Может, на день,
может, на год целый
эта боль мне жизнь укоротит.
Если б знал ты подлинную цену
всех твоих молчаний и обид!
Ты бы позабыл про все другое,
ты схватил бы на руки меня,
поднял бы
и вынес бы из горя,
как людей выносят из огня.
Не охладела, нет...
Не охладела, нет,
скрываю грусть.
Не разлюбила,–
просто прячу ревность.
Не огорчайся,
скоро я вернусь.
Не беспокойся,
никуда не денусь.
Не осуждай меня,
не прекословь,
не спорь
в своем ребячестве
жестоком...
Я для тебя же
берегу любовь,
чтоб не изранил насмерть
ненароком.

Так уж сердце у меня устроено...
Так уж сердце у меня устроено –
не могу вымаливать пощады.
Мне теперь – на все четыре стороны...
Ничего мне от тебя не надо.
Рельсы – от заката до восхода,
и от севера до юга – рельсы.
Вот она – последняя свобода,
горькая свобода погорельца.
Застучат, затарахтят колеса,
вольный ветер в тамбуре засвищет,
полетит над полем, над откосом,
над холодным нашим пепелищем.

Ты болен...
Стоит туман и не движется,
плотной стоит стеной...
Трудно сегодня дышится,
плохо тебе, родной!
Тягостно человеку
без воздуха и лучей...
Я побегу в аптеку,
я соберу врачей.
Туман – ничего не видно,
в лесу туман и в степи...
Мы тебя не дадим в обиду,
помоги нам,
перетерпи!
Думай о том, что все же
вёдру придет черед,
что на заре погожей
последний лед
уплывет.
Ведь все на земле
осталось –
осталась рыба в реке,
птица в лесу осталась,
осталась сила в руке,
осталось море большое,
осталось небо большое,
на небе звезд не счесть...
Худо ли, хорошо ли –
я у тебя есть.
Ветер задует вешний,
вольно задышит грудь...
Непогодь не навечно,
перетерпи чуть-чуть!
Опять утрами – лучезарный иней...
Опять утрами – лучезарный иней
на грядках, на перилах, на траве.
Оцепененье.
Воздух дымно-синий.
Ни ласточки, ни тучки в синеве.
Сияющая обнаженность рощи,
лиловых листьев плотные пласты.
Наверно, нет
пронзительнее, проще
и одухотворенней красоты.
Все чаще думается мне с тоскою,
что впереди не так уж много дней.
Я прежде не любила Подмосковья.
Кого винить мне
в бедности моей?
А это все существовало. Было.
Лес. Первый иней. Талая вода.
Шел дождь.
Шиповник цвел.
Метель трубила.
...Я и тебя когда-то не любила.
Где я была?
Кто я была тогда?
Помнишь, как залетела в окно...
Помнишь, как залетела в окно
синица,
какого наделала переполоху?
Не сердись
на свою залетную птицу,
сама понимаю,
что это плохо.
Только напрасно меня ты гонишь,
словами недобрыми ранишь часто:
я недолго буду с тобой,–
всего лишь
до своего последнего часа.
Потом ты плотнее притворишь двери,
рамы заклеишь бумагой белой...
Когда-нибудь вспомнишь,
себе не веря:
неужели летала,
мешала,
пела?
Не боюсь, что ты меня оставишь...
Не боюсь, что ты меня оставишь
для какой-то женщины другой,
а боюсь я,
что однажды станешь
ты таким же,
как любой другой.
И пойму я, что одна в пустыне,–
в городе, огнями залитом,
и пойму, что нет тебя отныне
ни на этом свете,
ни на том.

Ты не горюй обо мне, не тужи...
Ты не горюй обо мне, не тужи,–
тебе, а не мне доживать во лжи,
мне-то никто не прикажет «молчи!».
Улыбайся, когда хоть криком кричи.
Не надо мне до скончанья лет
думать – да, говорить – нет.
Я-то живу, ничего не тая,
как на ладони вся боль моя,
как на ладони вся жизнь моя,
какая ни есть, вот она – я!
Мне тяжело,
тебе тяжелей...
Ты не меня,– ты себя
жалей.

РАСКАЯНИЕ
Я не люблю себя такой,
не нравлюсь я себе, не нравлюсь!
Я потеряла свой покой,
с обидою никак не справлюсь.
Я не плыву,– иду ко дну,
на три шага вперед не вижу,
себя виню, тебя кляну,
бунтую, плачу, ненавижу...
Опамятуйся, просветлей,
душа! Вернись, былое зренье!
Земля, пошли мне исцеленье,
влей в темное мое смятенье
спокойствие твоих полей!
Дни белизны... чистейший свет...
живые искры снежной пыли...
«Не говори с тоской – их нет,
но с благодарностию – были».
Все было – пар над полыньей,
молчанье мельницы пустынной,
пересеченные лыжней
поляны ровности простынной,
и бора запах смоляной,
и как в песцовых шубах сучья,
и наводненное луной
полночной горницы беззвучье...
У всех бывает тяжкий час,
на злые мелочи разъятый.
Прости меня на этот раз,
и на другой, и на десятый,–
ты мне такое счастье дал,
его не вычтешь и не сложишь,
и сколько б ты не отнимал,
ты ничего отнять не сможешь.
Не слушай, что я говорю,
ревнуя, мучаясь, горюя...
Благодарю! Благодарю!
Вовек
не отблагодарю я!
Тяжело мне опять и душно...
Тяжело мне опять и душно,
опустились руки устало...
До чего же не много нужно,
чтобы верить я перестала.
Чтобы я разучилась верить,
чтобы жизнь нашу стала мерить
не своею – чужою меркой,
рыночной меркой, мелкой.
Если счастье от слова злого
разлетается, как полова,
значит, счастье было пустое,
значит, плакать о нем не стоит...
Ты прости меня, свет мой ясный,
за такой разговор напрасный.
Как все было, так и останется:
вместе жить нам
и вместе стариться.

Наверно, это попросту усталость...
Наверно, это попросту усталость,–
ничто ведь не проходит без следа.
Как ни верти,
а крепко мне досталось
за эти неуютные года.
И эта постоянная бездомность,
и эти пересуды за спиной,
и страшной безнадежности бездонность,
встававшая везде передо мной.
И эти горы голые,
и море
пустынное,
без паруса вдали,
и это равнодушие немое
травы и неба,
леса и земли...
А может быть, я только что родилась,
как бабочка, что куколкой была?
Еще не высохли, не распрямились
два беспощадно скомканных крыла?
А может, даже к лучшему, не знаю,
те годы пустоты и маеты?
Вдруг полечу еще
и засверкаю,
и на меня порадуешься ты?

Ну пожалуйста, пожалуйста...
Ну пожалуйста, пожалуйста,
в самолет меня возьми,
на усталость мне пожалуйся,
на плече моем усни.
Руку дай, сводя по лесенке,
на другом краю земли,
где встают, как счастья вестники,
горы дымные вдали...
Ну пожалуйста, в угоду мне,
не тревожься ни о чем,
тихой ночью сердце города
отопри своим ключом.
Хорошо, наверно, ночью там –
темнота и тишина...
Мы с тобой в подвале сводчатом
выпьем местного вина.
Выпьем мы за счастье трудное,
за дорогу без конца,
за слепые, безрассудные,
неподсудные сердца...
Побредем по сонным дворикам,
по безлюдным площадям,
улыбаться будем дворникам,
будто найденным друзьям.
Под платанами поблекшими
будем листьями шуршать,
будем добрыми, хорошими,
будем слушать осень позднюю,
радоваться и дышать!

ЗВЕЗДА
Река текла
тяжелая, как масло,
в ней зарево закатное
не гасло,
и я за блеском неба и воды
не разглядела маленькой звезды.
Померкла гладь
серебряная с чернью,
затихла птичья сонная возня,
зажгли костер...
И звездочки вечерней
не разглядела я
из-за огня.
Истлели угли,
теплый и густой,
распространился сумрак по откосу...
Я за багровой искрой папиросы
звезды не разглядела
золотой.
Потом окурок горький затоптали,
погас последний уголь,
и тогда
я увидала, что из дальней дали
мне в сердце смотрит
вечная звезда.

Как часто лежу я без сна в темноте...
Как часто лежу я без сна в темноте,
и все представляются мне
та светлая речка
и елочки те
в далекой лесной стороне.
Как тихо, наверное, стало в лесу,
раздетые сучья черны,
день убыл – темнеет в четвертом часу,–
и окна не освещены.
Ни скрипа, ни шороха в доме пустом,
он весь потемнел и намок,
ступени завалены палым листом,
висит заржавелый замок...
А гуси летят в темноте ледяной,
тревожно и хрипло трубя...
Какое несчастье
случилось со мной –
я жизнь прожила
без тебя.
«Приобщена к твоей судьбе...»
Где-то по гостиничным гостиным...
Где-то по гостиничным гостиным
изводилась я тоской по доме,
самолет ждала твой
на пустынном,
солнцем выжженном аэродроме.
Отсылала письма почтой спешной,
спешные ответы получала...
Дни любви преступной и безгрешной,
испытаний будущих начало.
Прилетел ты злой и запыленный,
с добрыми покорными глазами.
Городок, от зноя полусонный,
раем простирался перед нами.
Ты любил,
и я тебя любила...
По ночам черно и душно было,
и скрипели ставни неустанно,
и шумели старые платаны.
Ты любил,
и я тебя любила...
А совсем не нужно это было,
зря мы ревновали и страдали,–
нас другие счастья в жизни ждали.
Только, друг мой, стоит ли лукавить?
Разве можно жить, как строчки
править?
Ты любил,
и я тебя любила...
Это нужно, неизбежно было!
Отчего ж иначе сердце полнит
нежность, неподвластная забвенью?
Я тебя не помню,– губы помнят,
я тебя не помню,– руки помнят
каждое твое прикосновенье...
Ни в каких грехах я не повинна,
мне не надо опускать ресницы,
жизнь моя зашла за половину,–
поздно в ней вычеркивать страницы!
Ничего я не прошу обратно,
помню грустно, жадно, благодарно.
...На подушке солнечные пятна...
На тарелке – виноград янтарный.
Как часто от себя мы правду прячем...
Как часто от себя мы правду прячем,
мол, так и так,– не знаю, что творю...
И ты вот притворяешься незрячим,
чтобы в ответе быть поводырю.
Что ж, ладно, друг, спасибо за доверье,
в пути не брошу, в топь не заведу...
Но всё тесней смыкаются деревья,
и вот уж скоро ночь, как на беду.
Я и сама лукавлю,– не отважусь
признаться, что измаялась в пути.
А если б на двоих нам
эту тяжесть,–
насколько легче было бы идти.

А я-то тебе поверила...
А я-то тебе поверила,
я-то к тебе приехала,
прилетела, пришла пешком,
с великой радостью в сердце,
с кошелкою за плечами,
с березовым посошком...
Ты меня встретил милостиво:
– Здравствуй, гостья столичная! –
дверь отворил в рай.
– А что у тебя в кошелке?
Вещи твои личные?
Ну, что же – сказал – отлично,
все с собой забирай!
Отдаю тебе все, чем владею,
занимай любую скамью,
только очень прошу,–
за дверью
душу оставь свою.–
Семь дней и ночей скиталась
по лесу моя душа,
в окошко твое стучалась,
от стужи ночной дрожа.
Ночевала где приходилось,
в речном тальнике ютилась,
у омутов да яров,
по болотным мыкалась кочкам,
свертывалась клубочком
за поленницей дров...
Простила? Конечно, простила.
Только очень простыла,
только очень устала,
только все ей постыло.
Отчего же она все чаще
улетает опять в те чащи,
возле дома пустого вьется,
в забитые окна бьется?
Видно, что-то она узнала,
с чем-то сроднилась кровно,
что дороже радости стало,
нужнее ласки и крова.

Не опасаюсь впасть в сентиментальность...
Не опасаюсь впасть в сентиментальность,
для нас с тобой такой угрозы нет.
Нас выручает расстояний дальность,
число разлук, неумолимость лет.
Нам ничего судьба не обещала,
но, право, грех ее считать скупой:
ведь где-то на разъездах и причалах
мы все-таки встречаемся с тобой.
И вновь – неисправимые бродяги –
соль достаем из пыльного мешка,
и делим хлеб, и воду пьем из фляги
до первого прощального гудка.
И небо, небо синее такое,
какое и не снилось никому,
течет над нами вечною рекою
в сплетеньях веток, в облачном дыму.
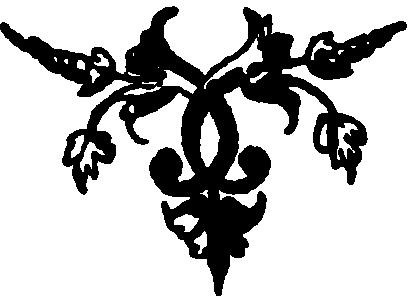
В чем отказала я тебе...
В чем отказала я тебе,
скажи?
Ты целовать просил –
я целовала.
Ты лгать просил,–
как помнишь, и во лжи
ни разу я тебе не отказала.
Всегда была такая, как хотел:
хотел – смеялась,
а хотел – молчала...
Но гибкости душевной есть предел,
и есть конец
у каждого начала.
Меня одну во всех грехах виня,
все обсудив
и все обдумав трезво,
желаешь ты, чтоб не было меня...
Не беспокойся –
я уже исчезла.
А может быть, останусь жить?..
А может быть, останусь жить?
Как знать, как знать...
И буду с радостью дружить?
Как знать, как знать?
А может быть, мой черный час
не так уж плох?
Еще в запасе счастья часть,
щепотка крох...
Еще осталось: ночь, мороз,
снегов моря
и безнадежное до слез –
«Любимая!».
И этот свет, на краткий миг,
в твоем лице,
как будто не лицо, а лик
в святом венце.
И в три окна, в сугробах, дом –
леса кругом,
когда февраль, как белый зверь,
скребется в дверь...
Еще в той лампе фитилек
тобой зажжен,
как желтый жалкий мотылек,
трепещет он...
Как ночь души моей грозна,
что делать с ней?
О, честные твои глаза
куда честней!
О, добрые твои глаза
и, словно плеть,
слова, когда потом нельзя
ни спать, ни петь.
Чуть-чуть бы счастья наскрести,
чтобы суметь
себя спасти, тебя спасти,
не умереть!
Тебе знаком сумбур ночей...
Тебе знаком сумбур ночей,
бессонницы знакомы,
тебе знаком язык вещей,
подводных дум законы...
Что мы с тобою колдуны –
узнала в первый день я;
чернели в море валуны,
как лежбище тюленье.
Меж ними лунная вода
безжизненно сверкала,
светилась облаков гряда
и пепельные скалы.
И влага лунная лилась
сквозь перистые листья
на ту пору, где в первый раз
с тобою обнялись мы.
Теперь-то ясно – неспроста
в полночном мире в этом
светилась даже темнота
потусторонним светом...
Мы не стары, и не мудры,
и счастливы едва ли,
но сколько же мы с той поры
с тобой наколдовали!
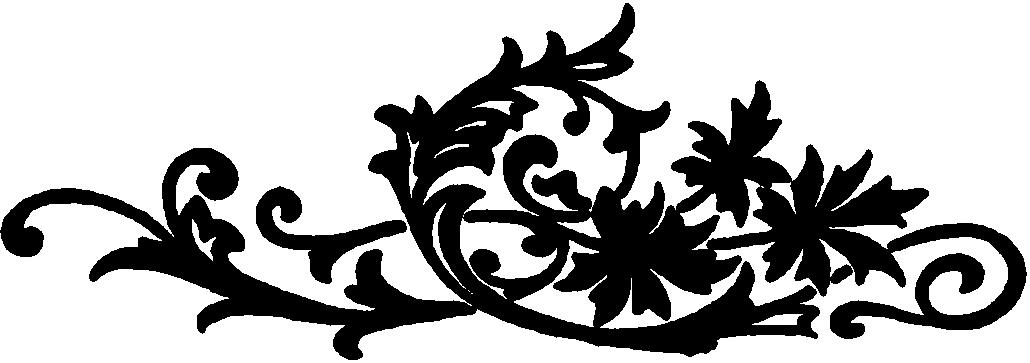
Летит, как подбитая птица...
Летит, как подбитая птица,
оранжевый парус косой.
Взрывается, блещет, дымится
морская гремучая соль.
Все море в холмах и оврагах,
зеленое, словно трава...
И вздумал же хвастать отвагой
какой-то сорвиголова!
Камней ослепительный глянец,
сверканье воды и небес...
В нем, словно летучий голландец,
оранжевый парус исчез.
Но снова, как рыжее пламя,
возник из лиловых пучин...
Наверно, тягаться с валами
надумал он не без причин.
Наверно, беда приключилась,
наверно, загрызла тоска.
Наверно, девичья немилость
и вправду страшит рыбака.
Он сутки бы, может, проплавал,
промок и продрог бы насквозь,
чтоб только услышать:
– У, дьявол!
Смотрела, так сердце зашлось!

За водой мерцает серебристо...
За водой мерцает серебристо
поле в редком и сухом снегу.
Спит, чернея, маленькая пристань,
ни живой души на берегу.
Пересвистываясь с ветром шалым,
гнется, гнется мерзлая куга...
Белым занимается пожаром
первая осенняя пурга.
Засыпает снег луга и нивы,
мелкий, как толченая слюда.
По каналу движется лениво
плотная, тяжелая вода...
Снег летит спокойный, гуще, чаще,
он летит уже из крупных сит,
он уже пушистый, настоящий,
он уже не падает – висит...
Вдоль столбов высоковольтной сети
я иду, одета в белый мех,
самая любимая на свете,
самая красивая на свете,
самая счастливая из всех!
ЗВЕЗДА
Было, было – ночи зимние,
черных сосен купола...
Невообразимо синяя,
надо всем звезда плыла.
На путях преград не ведая,
навсегда себе верна,
над обидами, над бедами,
над судьбой плыла она.
Над холмами, над пригорками,
над гудроном в корке льда,
над бессонницами горькими,
над усталостью труда,
опушенная сиянием,
в ледяной пустынной мгле,
добрым предзнаменованием
утешая душу мне.
Не сбылись ее пророчества,
но прекрасней, чем тогда,
над последним одиночеством
синяя плывет звезда.
Над скалистой серой кручей...
Над скалистой серой кручей
плавал сокол величаво,
в чаще ржавой и колючей
что-то сонно верещало.
Под румяною рябиной
ты не звал меня любимой,
целовал, в глаза не глядя,
прядей спутанных не гладя.
Но сказать тебе по чести,
я ничуть не огорчалась,–
так легко нам было вместе,
так волшебно тень качалась,
так светло скользили блики,
так вода в камнях сверкала...
Уж такой ли грех великий,
чтобы нам такая кара?
День беспечный, быстротечный...
Так ли мы виновны были,
чтоб друг к другу нас навечно
за него приговорили?
Просторный лес листвой перемело...
Просторный лес листвой перемело,
на наших лицах – отсвет бледной бронзы.
Струит костер стеклянное тепло,
раскачивает голые березы.
Ни зяблика, ни славки, ни грача,
беззвучен лес, метелям обреченный.
Лесной костер грызет сушняк, урча,
и ластится, как хищник прирученный.
Припал к земле, к траве сухой прилег,
ползет, хитрит... лизнуть нам руки тщится...
Еще одно мгновенье – и прыжок!
И вырвется на волю, и помчится...
Украдено от вечного огня,
ликует пламя, жарко и багрово...
Невесело ты смотришь на меня,
и я не говорю тебе ни слова.
Как много раз ты от меня бежал.
Как много раз я от тебя бежала.
...На сотни верст гудит лесной пожар.
Не поздно ли спасаться от пожара?
Ты ножик вынул не спеша...
Ты ножик вынул не спеша,
гордясь своим искусством,
и с маху сталь в кору вошла
с тугим и сочным хрустом.
Береза белая была,
как тоненькое пламя.
Я сок березовый пила,
к стволу припав губами.
Еще несладкий ранний сок
из треугольной раны тек
капельками светлыми,
частыми, несметными...
По каплям жизнь ее текла,
лесная кровь сочилась...
Но чем помочь я ей могла
в беде, что приключилась?
Лишь помня о судьбе своей,
своей полна печали,
я чувствовала вместе с ней
мертвящий холод стали.
Все равно ведь, поздно или рано...
Все равно ведь, поздно или рано,–
чем позднее, тем нужней вдвойне,–
ты отправишь мне радиограмму
на известной нам двоим волне.
Все равно ведь, поздно или рано,
времени не тратя на ответ,
в очередь к билетной кассе встану
и кассирша выдаст мне билет.
Все равно – на море или суше,
пусть еще не знаем – где, когда,
все равно – «спасите наши души!»,
песни, самолеты, поезда!

ДАГЕСТАНСКАЯ НОЧЬ
Желто-тусклые фары,
рек невидимых гул,
в черной бездне –
янтарный,
словно соты,
аул...
В чьем-то доме ночевка,
тишина... темнота –
Монотонно, как пчелка,
песню тянет вода.
Ядра завязей плотных
холодны и тверды:
гордость сердца чьего-то,
чьей-то жизни труды...
Сонно листьями плещет
сад, незримый в тиши,
но не лечит, не лечит
горный ветер души,
только хуже тревожит,
память мне бередя...
Нет, не будет...
Не может
счастья быть без тебя.
Поздно, поздно,
ах, поздно!
Все равно не помочь.
Раскаленные звезды...
Дагестанская ночь...
Саманный дымок завился над трубой...
Саманный дымок завился над трубой,
а мы и на час не сумели прилечь.
И вот расстаемся надолго с тобой,
и в будущем нам
не обещано встреч.
Давно собираться пора
на вокзал.
Все явственней
краски осеннего дня...
Спасибо, что ты ничего не сказал,
ни словом одним
не утешил меня.
Ну что ж, поцелуй меня, добрый мой друг.
Еще мою руку чуть-чуть подержи.
Любовь не боится
огромных разлук.
Любовь умирает
от маленькой лжи.
Спор был бесплодным...
Спор был бесплодным,
безысходным...
Потом я вышла на крыльцо
умыть безмолвием холодным
разгоряченное лицо.
Глаза опухшие горели,
отяжелела голова,
и жгли мне сердце, а не грели
твои запретные слова.
Все было тихо и студено,
мерцала инея слюда,
на мир глядела удивленно
большая синяя звезда.
Березы стыли в свете млечном,
как дым клубясь над головой,
и на руке моей
колечко
светилось смутной синевой.
Ни шороха не раздавалось,
глухая тишь была в дому...
А я сквозь слезы улыбалась,
сама не зная почему.
Светало небо, голубело,
дышало, на землю сойдя...
А сердце плакало и пело...
И пело...
Бог ему судья!
Я хотела по росе...
Я хотела по росе,
чтоб измокли ноги,
ты сказал:
– Пойдем, как все,
по прямой дороге...
Я сказала:
– Круче путь,–
значит, дали шире...–
Ты ответил:
– Ну и пусть,
мы же всё решили...
– У меня одна душа! –
я сказала плача,
повернулась и ушла,
не могла иначе.
Оказались не просты
спуски и подъемы,
разводить пришлось костры,
залезать в солому,
вброд идти через ручей,
ежиться от ветра,
злые шорохи ночей
слушать до рассвета.
Все равно благодарю
свой характер вздорный
за чистейшую зарю
на вершине горной,
за цветов умытых дрожь,
за простор огромный...
Где-то ты сейчас идешь
по дороге ровной?

Того, наверно, сто́ю...
Того, наверно, сто́ю,–
осталось мне одно
кольцо не золотое,
слезами залитое,
как дни мои – темно.
Подарено с любовью,
поругано в тоске...
Ношу его по-вдовьи –
на левой руке.
Нет, нет, мне незачем бояться...
Нет, нет, мне незачем бояться
осенней, стынущей воды...
А помнишь, мы пришли расстаться
на Патриаршие пруды?
Вода была, как небо, черной,
полночный сквер безлюден был,
кленовый лист
позолоченный,
слегка покачиваясь, плыл...
И отчего-то все молчало...
Какая тягостная тишь!
А сердце билось и стучало,
кричало:
– Что же ты молчишь?! –
Кричало и теряло силы,
но я не выдала его,
я ни о чем не попросила
и не сказала ничего.
Верна одна из истин старых,
что как ни дорог,
как ни мал,
но если выпрошен подарок,
он быть подарком перестал.
А ты со мною и поныне,
и вот уже прошли года,
и счастье наше – навсегда.
А где-то стынет,
где-то стынет
ночная черная вода.

Я бывала в аду...
Я бывала в аду,
я бывала в раю,
четверть века
искала я душу твою.
Отыскала ее
на такой вышине,
что взгляну я –
и сердце холодеет во мне.
Не затем, что дорога
долга и трудна,–
я готова идти к тебе
тысячу лет...
Только вот, понимаешь ли,
в чем беда,–
лет у меня
нет!

Здесь никто меня не накажет...
Здесь никто меня не накажет
за тягу к чужому добру.
Худого слова не скажет,–
хочу и беру!
Беру серебро,
и лебяжье перо,
и рафинад голубой,
бисер и бирюзу,–
все увезу
с собой.
Всю красоту,
всю чистоту,
всю тишину возьму,
крыши в дыму,
морозной зари
малиновую тесьму
Берез кружева крученые,
черное вороньё,
все купола золоченые
возьму я в сердце мое,
пусто, пусто в нем, обворованном..
Все я спрячу в нем, затаю,–
маленький город,
небо огромное,
молодость,
нежность,
душу твою.
Лес был темный, северный...
Лес был темный, северный,
с вереском лиловым,
свет скользил рассеянный
по стволам еловым,
а в часы погожие
сквозь кусты мелькало
озеро, похожее
на синее лекало.
И в косынке беленькой,
в сарафане пестром,
шла к тебе я берегом,
по камушкам острым.
И с тобой сидела я
на стволе ольховом,
ночь дымилась белая
сумраком пуховым.
Сети я сушила
за избой на кольях,
картошку крошила
в чугун на угольях.
До восхода в сенцах
не спала, молчала,
слушала, как сердце
любимое стучало.
Тебе бы одарить меня...
Тебе бы одарить меня
молчанием суровым,
а ты наотмашь бьешь меня
непоправимым словом.
Как подсудимая стою...
А ты о прошлом плачешь,
а ты за чистоту свою
моею жизнью платишь.
А что глядеть тебе назад? –
там дарено,– не крадено.
Там все оплачено стократ,
а мне гроша не дадено.
А я тебя и не виню,
а я сама себя ценю
во столько, сколько стою,–
валютой золотою!
А за окном снега, снега,
зима во всю планету...
...Я дорога́, ах дорога́!
Да только спросу нету.

СОН
Мне все это снилось еще накануне,
в летящем вагоне, где дуло в окно...
Мне виделся город в дыму полнолунья,
совсем незнакомый, любимый давно.
Куда-то я шла переулком мощеным,
в каком-то дворе очутилась потом,
с наружною лестницей
и освещенным
зеленою лампой
чердачным окном.
И дворик, и облик старинного дома –
все было пугающе, страшно знакомо,
и, что-то чудесное вспомнить спеша,
во мне холодела от счастья душа.
А может, все было не так, а иначе,
забыто, придумано...
Будем честны:
что может быть неблагодарней задачи
невнятно и длинно рассказывать сны?
Коснись – и от сна отлетает дыханье,
с мерцающих крыльев слетает пыльца.
И – где оно, где оно? – то полыханье,
которое в снах озаряет сердца?
Но жизнь мне послала нежданную помощь:
я все отыскала – и город, и полночь,
и лестницу ту, и окошко в стене...
Мне память твердила: теперь-то ты помнишь?
А мне все казалось, что это во сне.

Там далёко, за холмами синими...
Там далёко,
за холмами синими,
за угрюмой северной рекой,
ты зачем зовешь меня по имени?
Ты откуда взялся?
Кто такой?
Голос твой блуждает темной чащей,
очень тихий,
слышный мне одной,
трогая покорностью щемящей,
ужасая близостью родной.
И душа,
как будто конь стреноженный,
замерла, споткнувшись на бегу,
вслушиваясь жадно и встревоженно
в тишину на дальнем берегу.
ГОЛУБКА
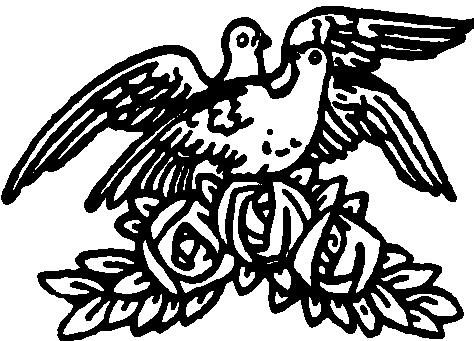
Она хрупка была и горяча
и вырывалась, крыльями плеща.
А у меня стучало сердце глухо,
и я ему внимала не дыша,
и мне казалось – это не голубка
на волю рвется, а моя душа.
Разжав ладонь, я выпустила птицу
в осеннем парке, полном тишины,
и отперла душе своей темницу:
– Лети на все четыре стороны!
Еще не веря в то, что совершилось,
растерянная, робкая еще,
она взлетела к небу,
покружилась
и опустилась на твое плечо.
Надо верными оставаться...
Надо верными оставаться,
до могилы любовь неся,
надо вовремя расставаться,
если верными быть нельзя.
Пусть вовек такого не будет,
но кто знает, что суждено?
Так не будет, но все мы люди...
Все равно – запомни одно:
я не буду тобою брошена,
лгать не станешь мне, как врагу,
мы расстанемся как положено,–
я сама тебе помогу.

Нынче долго я не засну...
Нынче долго я не засну,
мне приснятся плохие сны;
ты хотел мне отдать
весну,
отказалась я
от весны.
А она поет да поет
песню тоненькую в ночи,
а она заснуть не дает,
не прикажешь ей:
замолчи!
Ты хотел мне отдать весну,
горечь ветра,
капель в лесу,
ветки
с каплями на весу,
снега хрупкую бирюзу...
Не смогла я взять,
не
умею я быть в долгу.
Я люблю выдумывать страшное...
Я люблю выдумывать страшное,
боль вчерашнюю бережу,
как дикарка,
от счастья нашего
силы темные
отвожу.
Не боюсь недоброго глаза,
а боюсь недоброго слова,
пуще слова – недоброго дела...
Как бояться мне надоело!
Хоть однажды бы крикнуть мне,
как я счастлива на земле.
Хоть однажды бы не таиться,
похвалиться,
да вот беда –
сердце, сердце мое
как птица,
уводящая от гнезда.
Я, видно, из графика выбилась где-то...
Я, видно, из графика выбилась где-то,
нелегкое время пришло для меня:
любое желанье под знаком запрета,
от красного света
до красного света
тащусь я по жизни, помехи кляня.
Я к дьяволу все светофоры послала б,
но только рискну напрямик, напролом –
встает на дороге, не слушая жалоб,
судьба с полосатым бесстрастным жезлом.
И я посреди суматохи и шума
гляжу убегающей радости вслед
и, сжав кулаки, дожидаюсь угрюмо
когда, наконец, переменится свет.

Поблескивает полотно...
Поблескивает полотно
прогретой сталью рельс...
Давным-давно,
давным-давно
мы шли сквозь этот лес.
Он от дождя тогда намок,
но, ветерком гоним,
пыльцы мерцающий дымок
уже всплывал над ним.
День был янтарно золотист,
и птичий свист
в ушах звенел,
и первый стебель зеленел,
буравя прошлогодний лист.
Шел по верхам тяжелый гуд,
и нарастал,
и гас...
...А ландыши-то отцветут
без нас на этот раз!
Без нас, без нас
завяжут плод
черемуха и терн,
и земляника отойдет,
и пожелтеет дерн.
Не буду я считать недель,
не стану ждать вестей..
А та раскидистая ель
все ждет к себе гостей.
Все ждет, все ждет
под хвойный свод...
Не позабудь примет:
за балкой – первый поворот,
четвертый километр.
ЛЕС
Розоватой берёсты матовый блеск,
коры осиновой зелень яркая...
Весь заплаканный,
теплый спросонья лес
полон шороха капель,
вороньего карканья.
Полон жизни,
незримой для чуждых глаз –
торопливых, рассеянных и незорких.
А для нас
мошкара, как дымок, затолклась,
и закат загорелся для нас
и погас,
и трава проросла для нас
на пригорках...
Мы с тобою, наверно,
чего-то сто́им:
лес не прятал от нас свои чудеса,
он в туман одевался на полчаса,
а потом, оказалось, –
это роса,
допьяна он поил нас
этим настоем.
Так что кру́гом у нас голова пошла,
и ноги подкашиваются устало.
И тогда нам с тобою
понятно стало,
что у нас и у леса –
одна душа.
Он был такой же, как мы, хмельной,
мы слыхали – он пел
в темноте вечерней,
он играл
то холодной, то теплой волной
своих воздушных тайных течений.
Он делился с нами
чем только мог,
был в забавах и выдумках неутомимым,
На пути он зажег для нас костерок,
чтобы мы надышались
бродяжьим дымом...
Никогда мы друг друга
так не любили,
когда мы сами с тобою были
лесом
дождем
весной...
БЕССОНИЦА
Ночи... ночи... пустынные, синие...
Мыслей вспененная река.
А слова – до того бессильные,
что за горло берет тоска.
Обжигает подушка душная,
и вступает рассвет в права,
и тяжелая, непослушная,
в дрему клонится голова.
И когда уж глаза слипаются,
где-то около четырех,
воробьи в саду просыпаются,
рассыпаются как горох...
Скачут, мечутся, ошалелые,
жизнерадостно вереща.
Пробивается солнце белое
из-за облачного плаща.
Зашуршали дворники метлами,
и, прохладой цветы поя,
шланг над брызгами искрометными
извивается как змея.
Не заснуть, как я и предвидела...
Все слышней за окном шаги.
Ночь сегодня меня обидела.
Утро доброе, помоги!

И вот ты купе закрываешь...
И вот ты купе закрываешь,
включаешь ночник голубой...
Ты знаешь,
ты только скрываешь,
что еду я вместе с тобой.
То колкий, то мягкий не в меру,
то слишком веселый подчас,
ты прячешь меня неумело
от пристальных горестных глаз.
Названья полуночных станций
дежурные сонно твердят...
О если бы выйти, остаться,
пропасть, воротиться назад...
Но вместе, да, вместе мы выйдем
на утренний влажный перрон,
и бледное небо увидим
с оравой орущих ворон,
дорогой, подернутой дымкой,
мы в хвойные дали пойдем,
и стану я жить невидимкой
в неласковом доме твоем,
и будут недели молчанья
медлительны и горьки,
и буду я плакать ночами
на бревнышке возле реки.

Нам не позволено любить...
Нам не позволено любить.
Все, что с тобою связано,
мне строго-настрого забыть
судьбой моей приказано.
Но помню я всему назло
любви часы беспечные,
и встречи памятной число –
мое. На веки вечные!
И низко стелющийся дым
с мерцающими искрами,
и поле с деревом седым
под облаками низкими...
Вагон, летящий в темноту,
покачиванье мерное...
И гаснут искры на лету,–
ты помнишь их, наверное?
Так каждый миг, и час, и год
мои. На веки вечные,
пока наш поезд не придет
на станцию конечную!
Я так хочу, чтобы ладони, губы...
Я так хочу, чтобы ладони, губы...
Все голубое... Ясная вода...
И мне все снятся поезда – к чему бы?
Чужие пасмурные города,
чужие люди,
грузчики, старухи...
Тебя в базарной толчее ищу,
твой голос гаснет
в телефонной трубке,
и я «постой, постой, постой!» кричу...
На полчаса, на полминуты – рядом!
Но сны опять бессмысленны, грустны.
Как жалко, что не доставляют на дом
заранее заказанные сны!
Уже заголубел проем оконный,
сочит сквозь штору пасмурную мглу...
Я жду тебя безропотно. Спокойно.
Я жду
Я жду.
Я больше не могу.
Сто раз помочь тебе готова...
Сто раз помочь тебе готова,
любую ложь произнести,
но нет же, нет такого слова,
чтобы сгоревшее спасти.
Не раздобыть огня из пепла
и костерка не развести...
Все так печально, так нелепо,–
ни отогреть, ни увести.
Привыкла я к унынью ночи
и к плачу осени в трубе...
Чем ты суровей, чем жесточе,
тем больше верю я тебе,
тем все отчаяннее, чище
любовь моя и боль моя...
Так и живем на пепелище,
так и бедуем – ты да я.
Храню золу, латаю ветошь,
приобщена к твоей судьбе...
Все жду – когда меня заметишь,
когда забудешь о себе.
Очень тягостно, очень плохо...
Очень тягостно, очень плохо,–
некрасива, нехороша,
зарастает чертополохом,
засыхает моя душа.
Сердце, сердце,
гнездо без птицы,
пыль, да мусор, да тишина...
Неужели не возвратится,
не запоет она?

Я стою у открытой двери...
Я стою у открытой двери,
я прощаюсь, я ухожу.
Ни во что уже не поверю,–
все равно
напиши,
прошу!
Чтоб не мучиться поздней жалостью,
от которой спасенья нет,
напиши мне письмо, пожалуйста,
вперед на тысячу лет.
Не на будущее,
так за прошлое,
за упокой души,
напиши обо мне хорошее.
Я уже умерла. Напиши!
Примечания
Литературно-художественное издание
Вероника Михайловна Тушнова
Мне в сердце смотрит вечная звезда...
Редактор С. Бочаров
Художественный редактор Е. Шамрай
Макет издания и компьютерная верстка С. Шаповалова
Корректор Л. Северова
Подписано в печать 20.09.10. Формат 60X84/32.
Усл. печ. л. 7,44. Доп. тираж 4000 экз. Заказ N° 7761
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
N° 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.
ООО «Издательство ACT»
141100, Россия, Московская область,
г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
www.ast.ru
E-mail:
astpub@aharu
ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва,
проезд Ольминского, д. ЗА
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
Оглавление
«Любовь имеет множество примет...»
Из «Первой книги» (1945)
Я знаю – я клялась тогда...
РАЗГОВОР С МОСКВОЙ
Да, ты мой сон. Ты выдумка моя...
НОЧЬ
СТИХИ О ДОЧЕРИ
Помню празднество ветра и солнца...
У каждого есть в жизни хоть одно...
РАЗЛУКА
Настойчивой стайки воспоминаний...
Резкие гудки автомобиля...
И знаю все, и ничего не знаю...
ОЖИДАНИЕ
ОСЕНЬ
ТРОПИНКА
Из книги «Пути-дороги» (1954)
В оцепененье стоя у порога...
СТАНЦИЯ БАЛАДЖАРЫ
ПИСЬМА
ТИШИНА
Мне сказали – ты в городе Энске живешь...
Биенье сердца моего...
ПРОЩАНЬЕ
Не отрекаются любя...
ЗЕРКАЛО
Дремлет стужа, сок из веток выжав...
Из книги «Дорога на Клухор» (1956)
НОЧЬ
А ведь могло бы статься так...
Из книги «Память сердца» (1958)
ТВОЯ УЛИЦА
НЕПОГОДА
МОЛНИЯ
ВОСПОМИНАНИЕ
Вот это и есть настоящее, да?..
И чего мы тревожимся, плачем и спорим...
Слабеют выхлопы движка...
У мокрых камней выгибает волна...
Я живу в постоянном предчувствии чуда...
Вчерашний дождь...
Прошло с тех пор...
Я тебя вспоминаю солидной и важной...
Из книги «Второе дыхание» (1961)
Воздух пьяный – нет спасения...
ИЮЛЬ
Тропа, петляя и пыля...
ДВЕ ТЕНИ
ВЕСЛО
Всплески мерные...
ПРОЩАНЬЕ
УТРО
ЗИМА, ЗИМА...
В АЭРОПОРТУ
Ты не любишь считать...
Еще не в состоянии войны,..
Шкатулка заперта...
Всегда так было...
Ни в каких не в стихах, а взаправду...
И вот опять со мною одиночество,..
Счастливо и необъяснимо...
А знаешь, все еще будет!..
Жизнь обмелела...
Сколько дней...
САМОЛЕТЫ
ПРОБУЖДЕНИЕ
Я пенять на судьбу не вправе,..
Морозный лес...
НОЧЬ ПОДМОСКОВНАЯ
НА РАССВЕТЕ
И живешь-то ты близко,..
Все в доме пасмурно и ветхо,..
А знаешь ли ты? Когда мы...
Сияет небо снежными горами...
День был яркий, ветреный...
ОСЕНЬ В КРЫМУ
Не сули мне...
Я прощаюсь с тобою...
Из книги «Сто часов счастья»
(1965)
Сто часов счастья...
Не знаю – права ли...
Одна сижу на пригорке...
Почему говорится: «Его не стало»...
Небо желтой зарей окрашено...
Без обещаний жизнь печальней...
СИНЯЯ ПТИЦА
ВАЛЬДШНЕП
Бывают весны разными...
МАЯК
ЛЕТО
Быть хорошим другом обещался...
ДОМ МОЙ – В СЕРДЦЕ ТВОЕМ
ПИСЬМО
КОСТЕР
Не о чем мне печалиться...
Глаза твои хмурятся...
Гонит ветер...
Не охладела, нет...
Так уж сердце у меня устроено...
Ты болен...
Опять утрами – лучезарный иней...
Помнишь, как залетела в окно...
Не боюсь, что ты меня оставишь...
Ты не горюй обо мне, не тужи...
РАСКАЯНИЕ
Тяжело мне опять и душно...
Наверно, это попросту усталость...
Ну пожалуйста, пожалуйста...
ЗВЕЗДА
Как часто лежу я без сна в темноте...
«Приобщена к твоей судьбе...»
Где-то по гостиничным гостиным...
Как часто от себя мы правду прячем...
А я-то тебе поверила...
Не опасаюсь впасть в сентиментальность...
В чем отказала я тебе...
А может быть, останусь жить?..
Тебе знаком сумбур ночей...
Летит, как подбитая птица...
За водой мерцает серебристо...
ЗВЕЗДА
Над скалистой серой кручей...
Просторный лес листвой перемело...
Ты ножик вынул не спеша...
Все равно ведь, поздно или рано...
ДАГЕСТАНСКАЯ НОЧЬ
Саманный дымок завился над трубой...
Спор был бесплодным...
Я хотела по росе...
Того, наверно, сто́ю...
Нет, нет, мне незачем бояться...
Я бывала в аду...
Здесь никто меня не накажет...
Лес был темный, северный...
Тебе бы одарить меня...
СОН
Там далёко, за холмами синими...
ГОЛУБКА
Надо верными оставаться...
Нынче долго я не засну...
Я люблю выдумывать страшное...
Я, видно, из графика выбилась где-то...
Поблескивает полотно...
ЛЕС
БЕССОНИЦА
И вот ты купе закрываешь...
Нам не позволено любить...
Я так хочу, чтобы ладони, губы...
Сто раз помочь тебе готова...
Очень тягостно, очень плохо...
Я стою у открытой двери...
Примечания













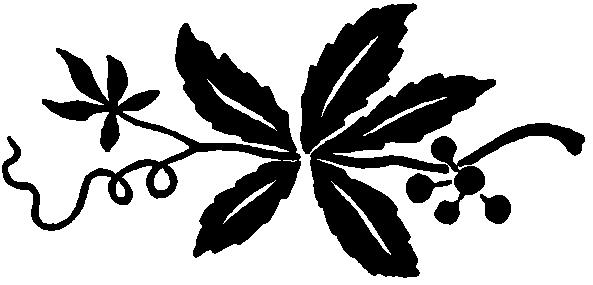


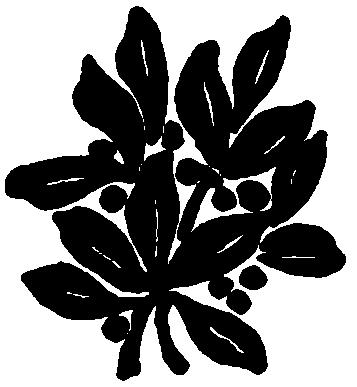
















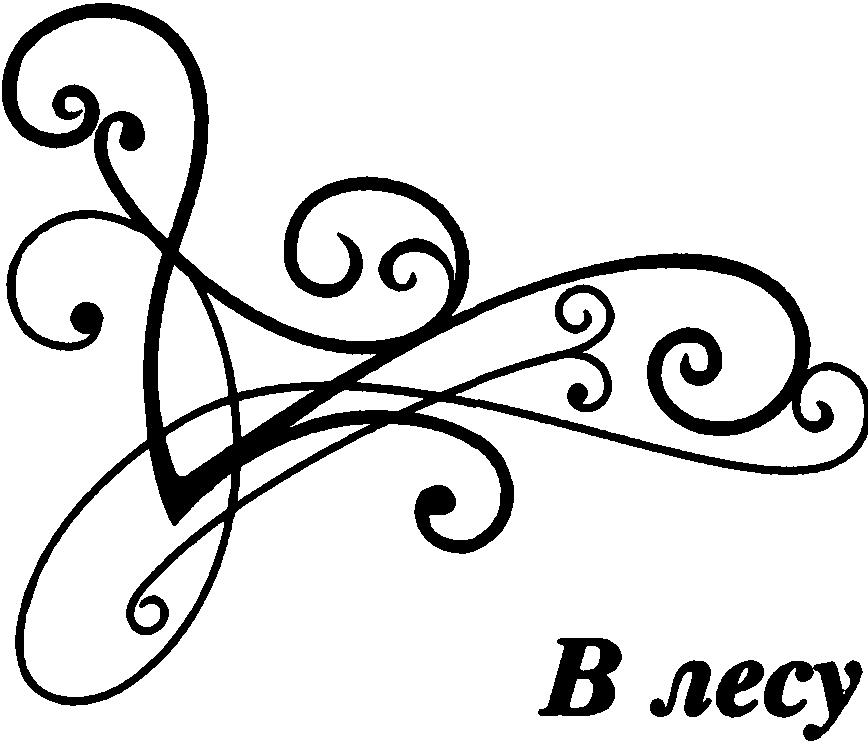


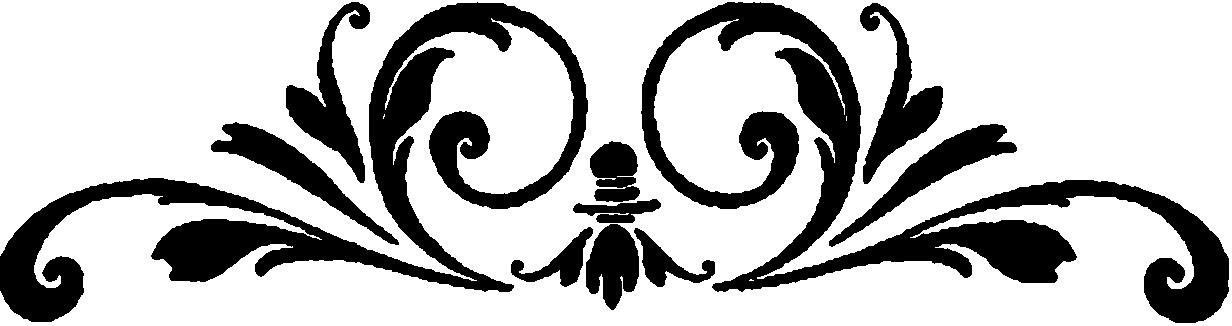








 Умерла, не глядит, и не дышит,
и не слышит, как плачу над ней,
как кричу ее имя,
не слышит,
бездыханных камней ледяней.
Умерла, не глядит, и не дышит,
и не слышит, как плачу над ней,
как кричу ее имя,
не слышит,
бездыханных камней ледяней.



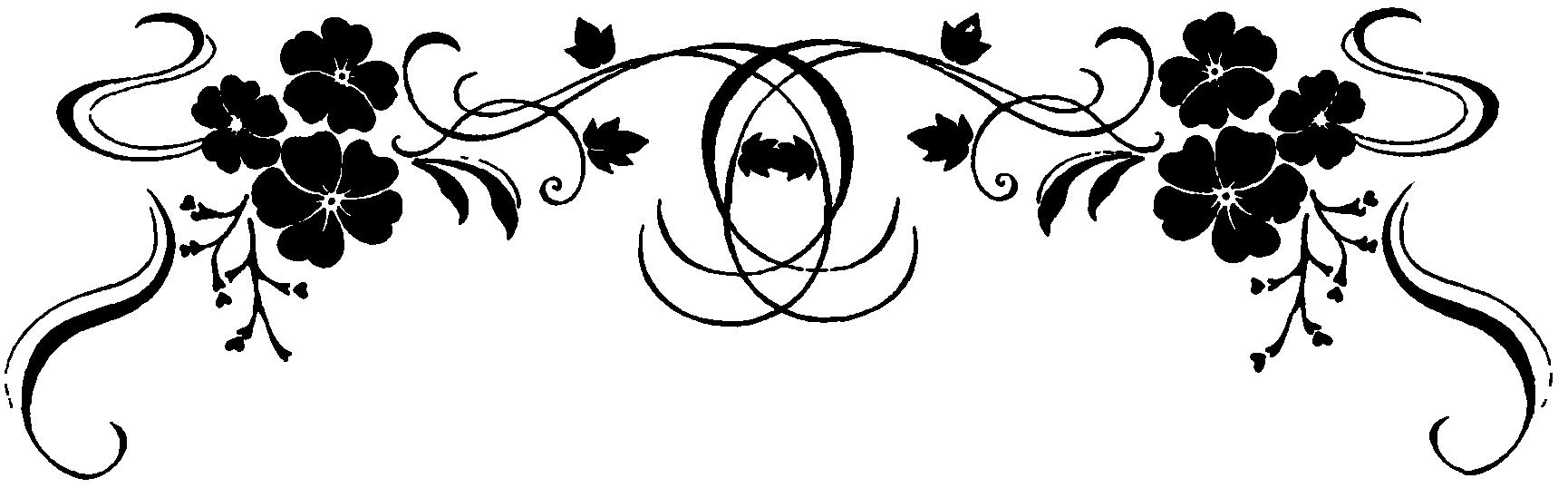





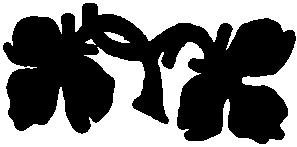






























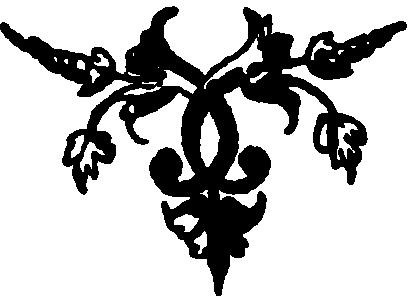
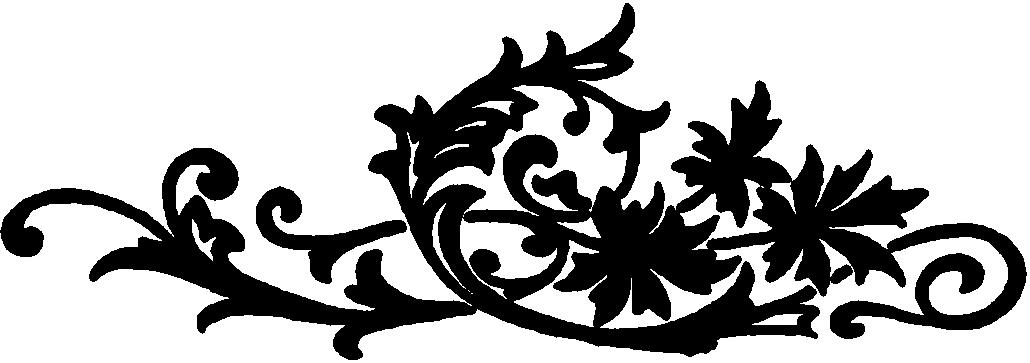







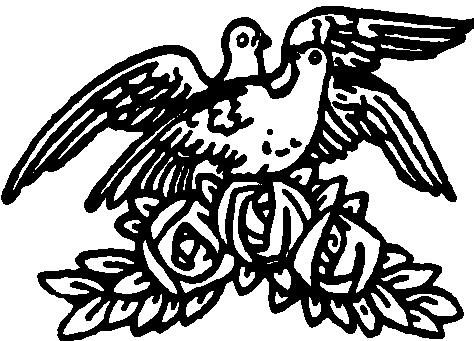





Последние комментарии
3 часов 12 секунд назад
11 часов 51 минут назад
11 часов 54 минут назад
2 дней 18 часов назад
2 дней 22 часов назад
3 дней 24 минут назад