Георгий Астахов
Бамбуковый меч

Автор этой книги — Георгий Астахов ряд лет посвятил изучению истории языка, литературы нашего дальневосточного соседа — Японии.
Материалы Георгия Астахова дают живую панораму сегодняшней жизни Японии, позволяют увидеть страну и в крупном историческом плане, и в житейских подробностях, в противоборстве политических страстей, выявляют в какой–то мере социальный, исторический смысл происходящего.
Автор глубинными фактами японской действительности обнажает язвы и жестокие нравы буржуазного общества с его античеловеческими нормами и жесточайшей эксплуатацией трудящихся масс.
В книге показано, как правящие круги Японии под давлением империализма США осуществляют курс на милитаризацию, на усиление международной напряженности.
Известно, что Япония — государство, граничащее с СССР. Это обстоятельство не может не вызвать к очеркам Г. Астахова интереса читателей, особенно пограничников. Книга, несомненно, расширит их познания о сопредельной стране, поможет лучше осознать свой долг по надежной охране государственной границы.
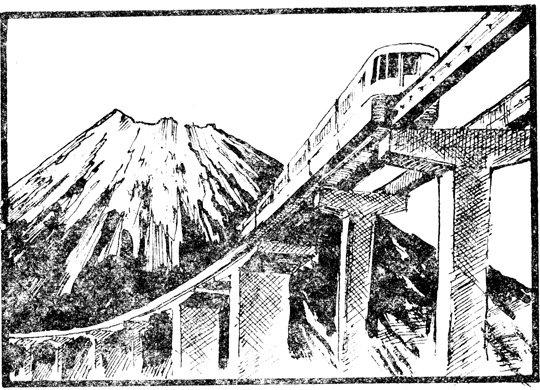
Родителям моим посвящаю
Откровения студента

Закусочная, приютившаяся на углу тихой улицы, была сумрачна и тесна. Под запыленным стеклом маленькой витрины блестели пластмассовые китайские пельмени, коричневый соевый суп с твердыми ракушками и длинная, тонкая лапша. На самой верхней стеклянной полке возлежала пузатая рыба в соусе. Рыба была дорогой, ее вряд ли заказывали часто, и она красовалась больше для придания солидности заведению…
Раздвинув шаткие двери, я пробрался между тесно расставленными стульями и сел за свободный стол.
Рядом сидел усталый человек лет двадцати и рассказывал что–то своему соседу. Тот рассеянно слушал, сонно прищурив глаза. Лишь отдельные слова долетали до слуха:
— Да вот, занимались "арбайто" (арбайт (немецк.) — работа.), недавно возвратились… Всего пятьдесят тысяч иен… За квартиру надо заплатить…
Оба собеседника, истинные японцы, не забывали поминутно кивать головами: говоривший — словно подтверждая этим правоту слов, а слушавший — в знак заранее готового согласия со всем, что будет сказано.
На головах приятелей красовались огромные голубые панамки, какие надевают на младенцев. Перед каждым стояла глубокая чашка, полная дымящейся лапши.
В закусочную то и дело входили новые посетители. С грохотом раздвигая стулья, к столам протискивались плотные здоровяки, а с другого края неслышно подсаживались хилые, измученные зубрежкой студенты. Казалось, присутствовавших объединяла лишь лапша, которую они ели. Кто–то заказывал ее с мандаринами, кто–то — с коричневой соевой жидкостью, а кто–то и с острым индийским соусом карри, но никто не останавливал свой выбор на мясе…
— Чего изволите? — раздался над ухом тихий, почтительный, но очень знакомый голос… Я поднял глаза и обомлел. Передо мной в угодливой позе стоял Уда, бог и гроза каратэистов. Сэмпая (сэмпай — бог) каратэ словно подменили: его мощные плечи опущены, в глазах не играет искра превосходства…
— Ты что же, бросил университет?..
— Наоборот, я работаю здесь для того, чтобы меня не выгнали из университета: ведь учеба стоит немалых денег. Во время каникул так подрабатывают многие студенты…
В темном углу маленького зала томилось от безделья несколько официантов. Одетые в дешевые длиннополые пиджаки и чистые белые рубашки, они ничем не отличались от Уды: такие же короткие, по–солдатски стриженые волосы, такой же потухший взгляд… Неожиданно громко щелкнула дверь, ведущая в кухню, и на середину вышла аккуратная девушка в черной юбке и громко объявила:
— Арбайто но Уда–сан! Дэнва дэс! Господин Уда, нанятый временно, вас вызывают к телефону…
Лицо девушки было холодным и неприступным. Казалось, откажись Уда повиноваться ей, и она превратит его в лед…
Уда напряженно поклонился, тихо произнес: "Прошу прощения!" — и убежал…
Слова секретарши звучали странно–унизительно: в самом деле, стоило ли подчеркивать, что Уда — лишь временный гость в недружной компании официантов?..
Вскоре Уда возвратился, держа в руках маленький поднос, полный чашек с новой лапшой. Осторожно пробираясь между столами, он снимал чашки с подноса и ставил перед гостями, слегка кланяясь.
— Спасибо, бой–сан (бой–сан — господин мальчик), — уважительно говорили ему люди.
Его походка была угодливой и торопливой, а глаза прищурены — и это придавало лицу такое выражение, словно он удивлялся тому, что никто здесь не знает, как грозен он на самом деле…
Поднос тускло блеснул, опустев, и Уда прижал его к груди.
— Рабочий день кончился, — шепнул он, проходя мимо, — не хочешь ли зайти ко мне в гости?..
Я ждал Уду у закусочной. На душе не было радости: Томили смущение и чувство неловкости. Скрипнула дверь, и на жаркую улицу выбежал Уда в неизменных бархатных брючках и майке с номером на спине. Лицо его было усталым.
— Сегодня мы с тобой вступили в новые отношения заказчика и слуги, — усмехнулся он. — Но ведь никому не стыдно зарабатывать деньги: жизнь есть жизнь… Знакомо ли тебе слово "арбайто"? Пришедшее из немецкого языка, где оно обозначало любую работу, слово приобрело у нас иной смысл: временный заработок. Чаще всего его стремятся получить студенты, и поэтому слово "арбайто" стало символом студенческой жизни.
— Что греха таить, — продолжал Уда, — хозяева охотно принимают нас на временную работу. — Нам не положены ни пособия при несчастных случаях, ни дополнительные выплаты при увольнении, ни бонусы — денежные наградные, которые выдают на фирмах раз в полгода, ни пенсии…
Уда замедлил шаг и низко поклонился маленькому старичку, шедшему навстречу. Тот ласково кивнул в ответ.
— Научно–технический прогресс не затронул традиционных общественных устоев, — продолжал Уда. — Поступив в японскую фирму, человек не просто нанимается на работу. Обычай на всю жизнь привязывает его к ней, как некогда бывало с самураем, влившимся в клан феодального князя… Как бы мала — или велика — ни была фирма, она безраздельно присваивает будущую судьбу новичка. Если он изменит ей или захочет перейти на другую работу, его сочтут чужаком и ненадежным человеком, оттолкнувшим пригревшую его руку. Только в своей первоначальной фирме человек может рассчитывать на продвижение. Поэтому так усердны наши чиновники…
Предприниматели легко соглашаются нанимать искателей "арбайто" еще по одной причине. Например, если я проработаю в этой закусочной до седых волос, я так и останусь в ней чужим: каинова печать пришельца, однажды нанятого временно, всю жизнь будет жечь меня… Впрочем, я и не смогу задерживаться в закусочной надолго. При малейшем изменении рыночной конъюнктуры хозяин просто не откроет мне дверь, и я никуда не смогу пожаловаться на несправедливое увольнение: ведь меня брали лишь на время…
Рабочие, служащие и студенты, ищущие желанное "арбайто". — это спасительный балласт капиталистической экономики, и когда начинается буря, их безжалостно выбрасывают за борт!..
Уда тяжело вздохнул и посмотрел по сторонам. Извилистая песчаная дорожка, по которой мы шли, сверкала зеленью изгородей. Сквозь жесткие глянцевые листья виднелись, белея квадратами, маленькие дома. Стены их были тонки, двери сделаны из картона, а окна из бумаги, — но, казалось, они были тверже стали, наглухо скрывая от мира тревоги и печали людей, живших за их шатким заслоном…
Навстречу нам шагала толпа студентов, юношей и девушек, сжимавших в руках газетки. "Вестник арбайто", — было напечатано на них. Ребята спешили на электрички. В толпе молодых людей торопливо семенила старушка, старательно кивая седой головой. Бедняжка! Она тоже искала "арбайто"!..
За поворотом показался дом, где жил Уда. Низкий и сильно вытянутый, он напоминал казарму.
— Почему многие здешние дома так похожи на бараки?
— Да потому, что земля слишком дорога. Ведь по закону домовладелец обязан купить и часть площади вокруг здания. Обычно несколько хозяев соединяют свои одноэтажные дома и сообща покупают один участок земли: каждый ловчит как умеет, ведь жизнь немилосердна…
Мы вошли в темную прихожую, по скрипучей лестнице поднялись на второй этаж и остановились у дверей.
Уда достал из кармана медный ключ. Замок щелкнул.
И замок, и ключ казались ненужными: тонкую фанерную дверь мог без труда разбить любой злоумышленник. Но дверь была цела: охотников попасть в комнату Уды пока не находилось…
В игрушечной прихожей размером в полметра можно было снять обувь только одному человеку. В дверь мы входили поочередно, потому что вдвоем просто не уместились бы в прихожей.
Пол, сплетенный из тугой соломы, упруго вибрировал, когда ступали на него. Все помещение комнаты можно было пересечь двумя небольшими шагами. У двери тускло поблескивала раковина из серого цинка, рядом была привинчена к стене другая, пониже, предназначавшаяся для мытья ног и стирки. У подрагивающего от ветра бумажного окна стоял низкий письменный стол. Рядом примостился железный стул, на спинке которого висели смятые брюки.
На полу оставалось небольшое свободное пространство. Наверное, его занимал сам хозяин, когда спал ночью, расстелив матрац.
— А это электрическая батарея для обогревания воздуха! — указал Уда на маленький железный предмет в углу. — Рано утром, едва взойдет солнце, я машинально просыпаюсь на секунду и выключаю электроприбор: ведь тепло стоит немалых денег… А вообще я плачу за комнату по 40 тысяч иен в месяц. Сколько это выходит в пересчете на ваши деньги?
— Около ста рублей…
— Почти столько же приходится тратить на учебу в университете… А на остальное остаются гроши… Ты помнишь секретаршу хозяина в закусочной, которая вызывала меня к телефону? — улыбнулся Уда. — Ее лицо было настороженным и холодным, не правда ли? Капитализм рождает множество характерных выражений лиц. Среди них и самодовольная, тупая физиономия полицейского, хитрые, горящие затаенным блеском глаза дельцов, нередки и открытые, искренне улыбающиеся лица… Существует сила, которая вмиг делает серьезными смеющиеся лица, а глаза — расчетливыми и сухими. Это — деньги. Отнять, выманить, украсть их как можно больше — вот конечная цель жизни, которую навязывает нам само общество! — Уда глубоко вздохнул:
— Тяжело жить на скудные студенческие средства. Но труднее всего удержаться в зыбком море ежедневных расходов… Для того чтобы сберечь последние серебряные монеты, студенты в свободное время стараются не выходить из дому. Скорчившись на соломенных полах тесных комнат, они подолгу смотрят маленькие дешевые телепередачи или читают книги. Иностранцы часто спрашивают о том, как проводят досуг японские студенты.
Каждый по–своему: богатые играют в гольф и теннис, веселятся в ночных клубах, летают на заграничные курорты на очаровательных тропических островках Тихого океана. А остальные просто сидят дома…
Уда достал из ящика письменного стола две белые чашки, насыпал в них кофейного порошка, добавил сухих сливок и налил кипятка из термоса…
— У многих ребят этим ограничивается весь ужин! — грустно усмехнулся Уда. — Ведь еда — самое дорогое. Верный способ сохранить деньги — это сэкономить их на еде… Заметил ли ты, что заказывали сегодня студенты в закусочной? Одну лапшу, потому что мясо им не по карману. Вот почему происходит сейчас удивительное, страшное и позорное явление, о котором так мало пишут газеты: вновь возродилась средневековая болезнь "бери–бери", которая возникает от недостатка витамина B1. В старину ею болели матросы, которые подолгу плавали на утлых парусных кораблях, и голодные крестьяне. И те и другие не видели ни мяса, ни яиц. После мрачного всплеска в послевоенные годы эта болезнь — символ голода и нищеты — исчезла, но в наши дни появилась снова, на сей раз у студентов. "Бери–бери" сейчас — одна из грустных примет студенческой жизни… Недавно врачи со страниц газет обратились к студентам с призывом продумать рацион, чтобы избежать опасной болезни. Врачей легко понять: ведь они не могут обратиться к торговцам мясными продуктами с бесполезной просьбой снизить цены.
Мы сидели на полу, попивая кофе. Уда замолчал, закрыв глаза и устало прислонился к ножке письменного стола…
— Пожалуй, я лягу спать, — произнес он сонным голосом. — А ты — постарайся больше не приходить в ту закусочную…
* * *
В большой круглой столовой университета два просторных этажа, и подают в них одни и те же блюда: рис, лапшу с мандаринами, котлеты и коричневый соевый суп. Правда, на втором этаже они стоят гораздо дороже, чем на первом. Наверху официантки улыбаются и вручают студентам тарелки и чашки, а внизу — хмуро суют их стоящим в очереди. На втором этаже — чистые столы и мягкие стулья, на первом стулья — жесткие, шаткие, а покрытые клеенкой столы, всегда грязны. Наверху обедают те студенты, чьи аккуратные автомобили стоят рядком у университетской ограды, а внизу торопливо съедают лапшу те, кто работает в выходные дни, кто худ, и чья тонкая одежда не согревает тело промозглой зимой. Высокие цены преграждают им путь на благонравный и тихий второй этаж…
Тягостно смотреть на пожилых людей, пришедших в дешевую студенческую столовую.
Среди гибких юношей с непокрытыми черными шевелюрами, склоняющимися над тарелками, легко можно было заметить кряжистый лысый затылок. Он чувствовал на себе удивленные взгляды присутствующих и потому был напряжен. Но дешевая еда стоит и унижения! Взгляд старого человека был безучастным, а короткие пальцы судорожно сжимали палочки для еды…
Сердце дрогнуло от тоски и боли… Но счастливы ли те, кто гордо восседает за столом на верхней веранде, словно забравшись на верхний этаж жизни?..
* * *
"Кастелянша Ониси будет уволена!" — разошелся по общежитию для иностранцев тревожный слух. Скрытная, всегда внимательная и напряженная, Ониси не была нашим другом, но ее все равно было жаль: как–то сложится теперь ее судьба?.. Да и за что могли уволить кастеляншу, такую серьезную и исполнительную? Должно быть, нашлись люди, кого прельстила ее бесплатная кукольная квартирка на первом этаже общежития: ведь жилье стоит так дорого!
Предположения оправдались: однажды в дверь к Ониси постучал чиновник университета и по–хозяйски осмотрел две крошечные комнаты. Отныне здесь будет жить он, а кастеляншей станет его жена.
После визита чиновника сдержанную красотку Ониси словно подменили.
— Мерзавец! — кричала она, выбегая в коридор и потрясая то рубашкой, то брюками, которые она укладывала в чемодан. — Мы еще посмотрим, кто из нас окажется счастливее! Пока ты будешь гнить в этом чертовом университете, мой муж откроет собственное дело!
Как и подобает настоящей японке, Ониси боготворила своего мужа. Хотя он всегда говорил ей "ты", она неизменно обращалась к нему только на "вы". Когда супруги выходили на улицу, он шагал впереди, а она робко семенила следом. Не раз, когда мы угощали мужа Ониси блинами с медом, он с достоинством откусывал кусочек, а остальное молча совал жене, и та покорно съедала блин, или незаметно отставляла тарелку подальше…
Мы редко видели мужа Ониси, потому что он уходил из дому рано утром, а возвращался глубокой ночью. Чем он занимался днем, никто не знал.
— А мой супруг вчера открыл лавочку! — с гордостью сообщила Ониси однажды утром, шелковой кисточкой обмахивая щёгольские мужские ботинки. — Теперь мы как–нибудь проживем! Нас прокормит маленькая закусочная в соседнем городке!..
Через несколько дней она, радостно напевая, протянула мне местную газетку:
"Ах, как очаровательна закусочная "Отдых души", которую содержит господин Ониси! — начиналась статья, помещенная на самом видном месте. — Даже соевый творог здесь стоит всего триста иен!.."
— Вы представляете, — воскликнула Ониси, — эта статья обошлась нам совершенно бесплатно, ее написал товарищ мужа!
Радость переполняла ее.
— Сообщу вам по секрету, что соевый творог мы продаем даже не за триста, а за двести иен, хотя это запрещено законом, потому что ниже допустимого минимума цен. Это мы делаем для начала, чтобы привлечь покупателей. А вообще пачка соевого творога стоит в магазине всего пятьдесят иен, в закусочных ее разрезают пополам и уже эту половинку продают за несколько сотен иен… Ведь должны же и мы на что–то жить!
Однажды Ониси вышла в коридор грустная и озабоченная. Глаза ее были полны тоски.
— Муж заболел от переутомления! У него всю ночь текла кровь из носа, — пожаловалась она. — Уже целый месяц он не знает ни суббот, ни воскресений: торговое дело не терпит отдыха. Ведь пока мы не можем нанять работника, и муж сам готовит еду, прислуживает гостям и моет посуду…
Через полчаса из комнаты вышел сам Ониси. Он был бледен, и под хмурыми глазами отчетливо выделялись синие пятна. Расслабленной походкой он подошел к маленькому автомобилю, стоящему во дворе, медленно открыл дверь, бросил свое тело на сиденье — и укатил в свою закусочную. Бизнес не может долго ждать! Был ли он счастлив?
— Что вы! — рассмеялась мадам Ониси. — На раздумья об этом у нас нет времени! Нам лишь бы прожить…
Через несколько дней к общежитию подъехал маленький грузовик, и в его кузов муж и жена Ониси сложили последние вещи. К машине подошли аккуратные обитатели соседних домиков и поклонились супругам. Те молча отвесили им на прощание ответный поклон и забрались в кабину; оттуда они в последний раз взглянули на свои прежние окна…
Их взгляд был спокойным и жестким. Такими же были и глаза провожавших, потому что каждый думал только о себе…
Опыт десятков ушедших поколений буржуа научил их быть готовыми ко всему.
* * *
Молодой токийский лавочник Хироси Симидзу решил сломать свой маленький магазин, в котором торговал пивом, а на его месте построить четырехэтажный дом: четыре низкие коробочки, поставленные друг на друга. В верхнем этаже он рассчитывал вновь открыть магазин, в нижнем собирался разместить семью, а два остальных предназначил для жильцов. У мелких предпринимателей редко водятся свободные деньги, и Хироси занял в банке большую сумму на строительство дома. Деньги возместят жильцы, которые станут снимать квартиры! — решил Хироси; но в стране уже который год бушевал ледяной ветер экономической депрессии, и никто не шел жить в его дом. Страшная тяжесть неоплатного долга навалилась тогда на плечи Хироси.
— Ах, как я устал! — сказал он жене однажды вечером, вышел на балкон своего чистого, еще пахнущего краской дома — и бросился вниз.
Капитализм не сулит счастья никому: сама основа его лишена гуманизма. Богатства природы и достижения современных наук, сила и ум множества людей уходят на то, чтобы еще больше упрочить власть нескольких десятков семей. Но богатство не доставляет душевного покоя, и их жизнь полна тревог и сомнений. Да есть ли у кого–нибудь счастье в этой растерзанной противоречиями капиталистической стране?
Воспитанные советским строем, мы давно знали это, и жизнь в капиталистической Японии лишь подтвердила и усилила наши убеждения.
* * *
В один из осенних дней ветер разнес по широким аллеям университетского парка тучу листовок, — маленьких, как конфетные бумажки. На каждой краснели иероглифы: "Японцы! прекратите загрязнять природу Южной Кореи!". Очевидно, листовки написал кто–то из южнокорейских студентов, обучающихся в университете.
Уже много лет раздаются голоса в защиту окружающей среды от засорения ее отходами химии. Вода и воздух Японии и соседних с нею небольших стран, где, как грибы, разрослись заводы японских фирм, отравлены и засорены настолько, что не счесть болезней, порожденных этим плачевным обстоятельством. Болезнь Минамата была одной из первых, и весть о ней облетела страницы газет двенадцать лет назад, взволновав все японское общество. Страшный недуг, разрушающий кости, расшатывающий нервы и резко ослабляющий зрение, был назван по имени городка Минамата, жители которого вынуждены были пить речную воду, отравленную отходами производства химической компании "Тиссо".
Сейчас слово "Минамата" вновь появилось нa газетных страницах, потому что недавно болезнь обнаружили в другой части света, среди индейцев Канады. Как видно, ни дьявольская неизлечимая болезнь, ни многолетние протесты людей не тронули сердец владельцев компании "Тиссо". Построив новые заводы в Канаде, они стали выпускать отравленную воду в индейские резервации: сострадание чуждо капитализму.
Традиционно японское искусство упаковывать, завертывать и завязывать товар. Продавцы заворачивают каждую покупку в несколько бумажек, а все продукты питания поблескивают на прилавках, запечатанные в мягкую прозрачную пленку. Недавно было установлено, что красивая пленка выделяет вредный газ, вызывающий раковые заболевания. Сигналом тревоги явились болезни и смерть рабочих на заводах, где производят поливинилхлорид, из которого изготавливается пленка. При исследовании выяснилось, что постоянному отравлению подвержены все живущие вблизи заводов. Возмущение охватило людей: демонстрации трудящихся гремят одна за другой, делегации неутомимо обивают пороги правительственных учреждений, — но заводы по–прежнему невозмутимо дымят, а владельцы гастрономов продолжают упаковывать продукты в ядовитую пленку — на вид ее не отличишь от безвредной, но более дорогой… Недавно депутация покупателей пригласила на встречу владельцев крупнейших магазинов, чтобы потребовать отказаться от использования вредной пленки. Явилась лишь одна треть приглашенных, да и те только пообещали внимательно рассмотреть пожелания покупателей.
Все привычное, доброе и надежное — вода, воздух, пища- отказывается служить людям и вместо желанного покоя и удовлетворения несет грозную опасность. Инфляция и страх потерять работу усиливают чувство безысходности, и кажется, что сама почва уходит из–под ног. Отчаяние и тоска охватывают душу. Бежать, бежать немедленно! Но куда?.. И как?..
* * *
Иллюзорное бегство от жизни начинается с наркотиков. Часто в токийских парках, на вокзалах и в узких переулках можно встретить группы неестественно возбужденных молодых ребят. В руках у них матово блестят прозрачные пакеты, на дне которых виднеется что–то темное. Это — наркотик. Ребята то и дело подносят пакеты ко рту и полной грудью вдыхают ядовитые испарения. Однажды я подошел к одному из них и спросил, зачем он это делает. Он обернулся, посмотрел бессмысленным взглядом мимо меня и залился истерическим смехом…
В последнее время наркомания все глубже проникает в жизнь японского общества. Недавно газеты писали о двадцатитрехлетнем молодом рабочем, который после несправедливого увольнения впервые попробовал наркотики и в невменяемом состоянии совершил за полтора часа двенадцать бессмысленных ограблений. Вскоре после того как его задержала полиция, бедняга умер.
Категорически запрещен въезд в страну для всех, кто когда–либо был замешан в скандалах, связанных с наркотиками. Японская полиция воспрепятствовала гастролям английского ансамбля "Роллинг стоунз", один из членов которого — наркоман, и не дала въездной визы певцу Полу Маккартни, бывшему "битлзу", потому что он раньше имел отношение к производству марихуаны. Все больше появляется и коротких пропагандистских фильмов, призывающих к отказу от наркотиков, — но усилия останутся бесплодными до тех пор, пока не исчезнет социальная база, не устранятся объективные условия, порождающие наркоманию.
…Днем тихи токийские улицы. В лавках томятся один–два покупателя, закусочные стоят полупустые, а в кинотеатрах почти никого нет. Но в залах, где стоят автоматы для игры в пачинко, победно играет музыка. Там всегда многолюдно: ведь пачинко — одно из популярнейших развлечений в Японии. Родившееся в Монте—Карло, стране азартных игр, оно на японских островах приобрело вторую родину. Когда входишь в зал для игры в пачинко, то кажется, что вся страна уселась в ряд на высоких стульях и зачарованно следит за падающими стальными шариками. Вот женщина с грудным ребенком за спиной; рядом — шумная компания школьников; невдалеке — пожилой рабочий, группа молчаливых студентов. Никто не смотрит по сторонам: как и в жизни, люди безразличны друг другу, и каждый играет сам с собой. Игра проста: покупаешь десяток шариков и бросаешь их один за другим в отверстие автомата. Проскакивая через хитроумные заграждения, шарик иногда застревает в лунке, и тогда вас ждет выигрыш — шоколадка, пачка дешевого печенья или новая партия шариков. Что же влечет сюда людей?
"После работы меня охватывает чувство одиночества. — пишет в газете "Майнити" известная актриса Дзюнко Миядзоно. — Я необщительна, и ноги сами несут меня в пачинко".
Пачинко завораживает, словно слабый наркотик. Оно как нельзя лучше отвечает самому духу капитализма. Можно отсыпать часть шариков в лунку, и получится сбережение. Можно одолжить часть шариков соседу, и получится дочернее предприятие. Каждый чувствует себя маленьким бизнесменом. Эта игра в жизнь, игра в капитализм — только везет здесь почаще, чем в реальной действительности. Неудачник может вкусить иллюзию победы, а измотанный на фирме клерк — сам немного побыть хозяином. Тем более, что нужно для этого так мало: всего сто иен.
Но подчас выдуманный побег от тягот жизни приобретает реальные черты. Отравление окружающей среды и инфляция, бешеный темп работы и холод людских отношений ассоциируется в сознании многих с дымящей громадой Токио.
В памяти горожан еще живет образ родной деревни и, как воспоминания детства, они ласкают и манят. Кажется, там по–прежнему спокойно и безопасно, а отношения людей исполнены добра и суровой простоты. Уверовав в грезы, все больше сейчас людей бросает опостылевшую работу, распродает небогатое свое добро — и уезжает в деревни и крошечные городки, откуда в старину переселились в Токио их предки.
Если этот путь поколений условно изобразить на бумаге, то получится линия, напоминающая английскую букву "Ю", и поэтому журналисты из газеты "Асахи" окрестили новое социальное явление "поворотом Ю". Как говорит статистика, больше семидесяти процентов тех, кто совершил полный надежды поворот, составляет молодежь в возрасте от двадцати до тридцати лет: ведь в капиталистическом городе ей приходится тяжелее всего.
Однако тоскливое разочарование подстерегает их и здесь. Оказывается, что на сельских фабриках давно уже заняты рабочие места, и пришельцы оказываются не у дел. Мало у кого остались родственники в деревнях, а подчас выясняется, что родство стало таким далеким, что крестьяне отказываются признавать родными незваных городских однофамильцев. Безработные, не нужные никому, пришельцы из города вдвойне испытывают давно знакомый мороз человеческих отношений. Разочарованные, духовно сломленные, молодые люди с горечью убеждаются, что бежать им некуда!
Однажды я встретил Уду в гастрономе. Стоя у витрины, он с недовольным видом разглядывал выставленные там мандарины, ярко–оранжевые и крупные.
— Знаешь ли ты, — спросил он, — что эти мандарины выращены с помощью химических ускорителей роста, и не содержат почти никаких витаминов? А лежащее на том прилавке неестественно–красное мясо разве не фальшиво? Ведь в пищу коровам и свиньям подмешивают гормональные препараты, и животные растут не по дням, а по часам, словно чудовища… Да и вся наша жизнь лицемерна и ненадежна и мало осталось в ней истинных человеческих ценностей!
Уда обреченно махнул рукой и пошел к кассе. Оранжевые мандарины по–прежнему сверкали на прилавке. На вид они были сладкими, сочными и нежными. Кто же мог знать, что они поддельны?..
Сила привычки
Кончился горячий летний дождь, и внутри деревянного буддийского храма стало жарко и душно, как в парнике. Пружинистый пол источал терпкий запах разогретой соломы, росписи на стенах, полные глубокого смысла, грозили расплавиться и стечь вниз, как кисель, и даже увесистый медный Будда, казалось, в изнеможении закатил глаза…
Но несколько фигур в распаренном сумраке храма оставались неподвижны, усевшись на полу в неудобных церемониальных позах. Это были студенты, снимавшие помещение храма для занятий чайной церемонией и собравшиеся на тренировку.
Одетые в вытертые джинсы и длинные модные платья до пят, они были босы. Взгляд прищуренных глаз — загадочен и непреклонен. Их модернистские одежды и смелые прически утратили в эти минуты всякий смысл.
Поочередно ребята поднимались с колен, делали несколько размеренных шагов, скользя босыми подошвами по полу и прижав руки к бедрам; потом садились вновь и передвигались на коленях, с каждым ползком перекладывая маленький белый веер: сложенный, он лежал перед каждым.
Один из студентов без устали взбивал бамбуковой кисточкой зеленый чай в глиняной чаше, и ребята торжественно передвигали ее по кругу, понемногу отпивая, — с поклонами и приговорками. Опустев, чаша тихо возвращалась руководителю церемонии.
Они пили чай медленно и напряженно, словно постигая таинственный смысл самой жизни. Недаром в название чайной церемонии, как и в слова "дзюдо" и "каратэ–до", входит древний иероглиф "путь" — символ бесконечной дороги жизни. "Садо" — так называется ритуал.
Когда церемония закончилась, ее руководитель, студент третьекурсник, подполз ко мне:
— Ну что, видали вы раньше чайную церемонию?
Я утвердительно кивнул.
— Неужели? Так знайте: вас обманывали! Все, что вы видели прежде, — жалкая пародия на чайную церемонию. Подлинным искусством вы можете насладиться только у нас. Потому что только наши последователи, приняв чашу с чаем, ставят ее справа, а не слева от себя! — говоривший со значением поднял палец вверх…
Я не смог сдержать улыбку, невольно вспомнив старые споры остроконечников и тупоконечников о том, с какого конца правильнее разбивать вареное яйцо.
Студент подошел к чаше, уселся на пол и стал снова и снова демонстрировать магический жест, с жаром объясняя его значение. Скоро речь стала сбивчива, а голос задрожал от волнения; глаза покраснели, и их взгляд стал испуганным и бегающим. Его волнение казалось удивительно знакомым, но что же напоминало оно?
Пожалуй, оно вызвало бы и смех, но я, историк, знал, что над традициями шутить нельзя. Вспомнилось, что усердно внушал нам знакомый каратэист Уда:
— Все остальные школы каратэ, кроме нашей, способны только на позорные ужимки, — говорил он. — Наша школа- единственно правильная!
— Но в чем же ее главная, характерная черта, выгодно отличающая ее от других? — спросил я тогда Уду.
Не медля, он пустился в торопливые объяснения, но разница между школами каратэ оказалась столь же мала и непринципиальна, сколь и между школами чайной церемонии. Однако чем незначительнее была разница, тем бессвязнее, взволнованнее и жарче становились речи Уды. Чувствовалось, что не любовь к чистоте спорта и красоте искусства двигает им и третьекурсниками в храме, — а иная, глубинная и пока непонятная мне сила делает их глаза отчужденными и непримиримыми.
Новые вопросы тревожили нас. Почему политическая борьба среди буржуазных партий ведется здесь так яростно, экспрессивно, даже жестоко? Почему преследует лишь ограниченные, узкофракционные цели? Почему крупные политические босы перед выборами в торжественной обстановке едут в гости к своим бывшим наставникам, давно ушедшим на покой старикам, и почтительно выслушивают их советы? Рассуждения польщенных вниманием стариков, правда, остаются не известны никому, но почему газеты сопровождают эти встречи победным звоном литавр?
Почему так удивительно много здесь крошечных фирм, которые гордятся собой? И наконец, почему здесь нет отраслевых учебных институтов, а существуют только университеты?
Эти вопросы не давали нам покоя. Казалось, они находятся в таинственной связи с проблемой правильной постановки на пол чайной чаши и манерой завязывания каратэистского пояса…
* * *
Однажды, во время занятий, преподавательница Като раздала нам большие листы шелестящей бумаги.
— Японское общество можно уподобить флоту, — говорила она, — только в отличие от настоящей флотилии в нем нет согласованности и порядка. По безбрежному океану жизни гордо мчатся мощные миноносцы, и робко жмутся к их бортам неуклюжие, устаревшие катера. Допотопные фрегаты тщатся догнать их, распустив слабые паруса, но не замечая, как сзади их настигают молодые, сильные шхуны и безжалостно разбивают ветхие доски их бортов… На волнах равнодушного моря там и здесь качаются обломки кораблей, иногда мелькают и головы тонущих мореходов, — но никто не спешит спасать их, а все, зажмурив глаза, проносятся мимо. Ведь корабли — соперники и чужаки друг другу. Для каждого их матроса и капитана внешний мир холоден и враждебен; к нему он оборачивает свое настороженное лицо.
Тут Като сузила глаза в непроницаемые щелочки, упрямо сжала губы, — и ее лицо стало таким же, как у полицейского, стоящего на посту, или как у солидного чиновника за металлическим столом на фирме, или как у политического лидера, стоящего перед толпой фотографирующих его журналистов.
— Каждый корабль — это клан! — повысив голос, произнесла Като. — Клановая раздробленность общества — наша давняя традиция. Издревле феодальные князья собирали вокруг себя замкнутые группы самураев. У них не было земельных наделов, и повелитель содержал самураев на свои деньги. Рыцарь всецело зависел от господина, и выработанный в веках кодекс чести "Бусидо" обязывал самурая быть беззаветно преданным своему повелителю и всему клану. Грех, совершенный предводителем клана, становился грехом целого клана, и все самураи до единого несли коллективную ответственность за него. Недаром тема самурайского фанатизма и групповой ответственности была ведущей в средневековой литературе и искусстве! Независимые друг от друга, но преследующие одни и те же цели, — кланы стали непримиримыми соперниками.
— Но ведь это же дела минувших дней, — улыбнулась Като, — и вы можете спросить, как смогла ужиться реакционная клановая структура господствующего класса, феодальная по происхождению, с новейшим капитализмом, который с самого рождения своего разоряет барские поместья и превращает в пустой звук пышные дворянские титулы. Должно быть, японское средневековье самой природой было подготовлено к восприятию капиталистических отношений: тогдашняя буржуазия была слаба, немногочисленна, и многие князья сами занялись торговым делом, а их кланы легко превратились в фирмы, привнеся в них дух суровой преданности господину и бешеной ненависти к соперникам.
— И кто знает, — хитро улыбнулась Като, — может быть, здесь сокрыта одна из причин "экономического чуда" Японии? Тогда, в шестидесятых годах, многие кланы решили перегнать друг друга, и некоторые достигли неплохих результатов в беге…
Каждая из фирм, как и подобает клану, может надеяться только на свои силы, — продолжала Като. — Поэтому до сих пор у нас нет институтов, а есть только университеты: множество факультетов помогают им обрести устойчивость в неустанной борьбе за жизнь. До сих пор к любому служащему концерна "Мицубиси" или мощной фирмы "Мицуи" знакомые относятся с нескрываемым почтением: ведь они — представители могущественных кланов, и неважно, кто они в этих фирмах, начальники отдела или ночные сторожа… До сих пор даже бандиты у нас объединены в кланы; во главе каждого стоит добропорядочный джентльмен, который если и ограбил кого–нибудь, то лишь на заре туманной юности. Клан и носит его имя, и его иероглифы с гордостью вышивают на кимоно. Бандитские кланы то и дело воюют друг с другом, и тогда газетные страницы пестрят сообщениями о таинственных исчезновениях людей и уличных потасовках.
— Мы называем свое общество "вертикальным", — заключила Като. — Среди кланов не бывает равных. Нет их и внутри клана: только старшие и младшие, сэмпаи и кохаи, обитают в нем.
* * *
Зал маленького ресторана был ярко освещен и наполовину пуст. За одним из столов молча сидело несколько чиновников, и в лацкане пиджака у каждого поблескивал один и тот же фирменный значок. Время от времени они вяло переговаривались или, подцепив палочками кусок сырой рыбы, нехотя отправляли его в рот: очевидно, все ждали кого–то.
Но вот за перегородкой послышались громкие, уверенные шаги, и чиновники вытянули шеи. Распахнулась дверь, и в зал вошел плотный человек с холодными, жесткими глазами. Чиновники вскочили со своих стульев, поклонились вошедшему и, стоя, вступили с ним в почтительный разговор. При каждом слове они виновато потирали руки. Но один из них остался сидеть за столом. Он также принял участие в общем разговоре, — но его голос был громким, уверенным; разговаривая сидя, он не переставал чавкать, с аппетитом прожевывая кусочек мяса, зажаренного в вине. Наконец новый гость сел за стол, следом за ним робко присели остальные, воровато оглядываясь по сторонам; их беседа стала приглушенной, почти неслышной. Очевидно, собеседники были членами одного клана, скорее всего, небольшой торговой фирмы, — но все они были старшими или младшими друг для друга. Их поведение, и, должно быть, вся манера мышления, были проникнуты самурайской истиной: "слабый в отношении сильного, сильный в отношении слабого".
"Если говорить о том, что стало с самураями, — пишет прогрессивная художница Таэко Томияма в газете "Майнити", — то во время войны они превратились в солдат, а после войны — в торговцев. Раньше они разрезали свой живот ради князя, потом — за императора, а ныне — ради своей фирмы. Но сами они не изменились".
Небольшая аудитория была полна народу. Озорные студенты и аккуратные чиновники, решившие изучать русский язык для дела; бойкие художники и добродушные домашние хозяйки — все смотрели на лектора строгими, внимательными глазами.
Когда лекция закончилась, высокий студент встал, тряхнув черной копной волос, и слегка поклонился; — Прошу уточнить, чем отличаются вечерние школы от техникумов!
— Как я уже имел честь почтительнейше отметить ранее, — начал было лектор, повинуясь этикету японских публичных выступлений, как быстрая волна смеха пронеслась по аудитории! Лектору стало неловко: ведь слова были сказаны только потому, что были единственно возможны в данной ситуации. Неужели они могли вызвать смех?
— Да вы не обижайтесь! — сказал, улыбаясь, высокий студент, подойдя к лектору в коридоре. — Ведь это был смех одобрения! Нам было приятно услышать в речи иностранца знакомую ноту восточной самоуничижительной вежливости: ведь оратор должен быть подчеркнуто учтив с теми, кто согласился слушать его. Равенство чуждо нашей традиции!
В средневековом японском обществе существовало пять типов отношений: между отцом и сыном, господином и подданным, мужем и женой, старшим и младшим, и, наконец, между равными. Отношения между старшим и младшим стали господствовать внутри клана. Этому немало способствовала и философия конфуцианства, расставлявшая всех людей по ступеням взаимного подчинения: когда наверху говорят, внизу склоняются!
Впрочем, внутри клана могут встретиться два человека, статус которых одинаков, и нельзя определить, кто из них старший. Их называют "дорё" — "коллеги" или "товарищи", — но их товарищество непрочно и слабо, а в душе у каждого нет покоя до тех пор, пока их отношения не уложатся в традиционную схему: "сэмпай — кохай". Лишь тогда уйдет напряженность и воцарятся согласие и покой. А пока — "дорё" стараются даже не встречаться на людях.
Средневековая традиция перешагнула и в капиталистические фирмы. Так буржуазный класс — продукт социального размежевания общества капитализма — оказался подразделенным еще и по средневековому, типично дальневосточному, конфуцианскому принципу. Самураи стали торговцами, но торговцы остались самураями…
* * *
В университетском общежитии для иностранцев жила молодая датчанка Мэри, беловолосая, высокая добродушная женщина. Она давала частные уроки английского языка, облегчая себе плату за учебу в университете.
Часто она возвращалась с уроков поздно вечером, усталая и поникшая, и нехотя готовила дешевый ужин.
Однажды среди ее знакомых отыскался японский студент, пожелавший брать уроки не английского, а датского языка, хотя он сложен и малоприменим. Мэри была очень рада этому.
Отныне раз в неделю в прихожую общежития входил двадцатилетний японец и привычным движением сбрасывал кеды. Босиком он проходил в шумную кухню, где, громко переговариваясь, готовили пряные блюда индусы, китайцы, негры, и где, разложив учебники на обеденном столе, ждала его строгая Мэри.
На потрепанном портфеле студента болталась, привязанная на резинке, маленькая пластиковая акула. В ее спину вонзился крошечный гарпун, и акулья кровь застыла на нем яркими химическими пятнами. Игрушечная рыбка не казалась нам признаком незрелости мышления; мы знали, что японцы с давних пор любят привязывать к одежде миниатюрные украшения. Даже носовые платки они не полностью засовывают в карман, чтобы они болтались на ходу: такова сила привычки!
Когда студент сталкивался в коридоре общежития с другими обитателями, его лицо становилось неподвижным и надменным, словно он проходил мимо щетки, прислоненной к стене. За долгие месяцы он ни с кем не обмолвился ни словом.
Но вот пришел день, когда Мэри возвращалась на родину. На прощание она устроила небольшой обед; там–то мы и разговорились с молчаливым студентом.
— Ах, как жаль, что я не познакомился с вами раньше! — вздохнул он.
— Но что же мешало это тебе сделать?
— Я боялся подойти к вам и заговорить: а вдруг вы засмеетесь? И все сочтут меня несерьезным? И это мнение дойдет до моих сотоварищей и сохранится на всю жизнь? Мой клан — это университет. За его чугунными стенами все безразличны ко мне, но внутри их каждый мой шаг внимательно оценивается, чтобы заслуженно поставить меня именно на ту ступень, которой я достоин. Поэтому японцы так боятся испортить мнение о себе среди коллег… Вы, иностранцы, часто сетуете на то, что вам редко приходится бывать в японских домах. Но и с нами это случается не чаще: мой дом — моя крепость! Так возникает невидимая стена осторожности и недоверия вокруг каждого из нас. И никому не сокрушить ее!
Студент горестно замолчал. Больше мы не встречались.
Тройственная структура "сэмпай — кохай — дорё" порождает убийственное
единообразие слов, поступков и претензий каждого, входящего в клан. Кохай не может быть талантливее сэмпая, а суждение старшего не может быть ошибочным. Тот, кто старается вырваться за пределы жесткой тройственной схемы, противопоставляет себя другим членам клана. А это — самое страшное! Печальна судьба изгоя: изгнанный из клана перестает быть личностью. Отныне его мысли, заботы и тревоги никому не интересны, а советы не нужны. Отвергнутый кланом становится чужим для всего мира: никто и никогда не примет его на постоянную работу, потому что в каждом клане все места заняты лишь своими, надежными, верными людьми.
Недаром усердие, почтительность и прилежание ценятся, здесь выше, чем ум, а премии выдаются не за успехи, а за выслугу лет, в течение которых прочно доказана преданность клану. Только в том клане, где начат жизненный путь, чиновник и учитель, ученый и журналист могут рассчитывать на продвижение и успех.
Все кланы чужды друг другу, и каждый человек в них соподчинен, обособлен, замкнут и насторожен. Но вне своего клана он еще более одинок! Таков традиционный социальный механизм, из глубины веков перекочевавший в современное буржуазное общество.
"Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых, — писал К. Маркс. — И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто небывалое, — они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории" (К. Маркс. Сочинения, т, 8, стр. 120–121.).
Торпеда в храме Ясукуни
Итак, музейный арсенал храма Ясукуни пополнился еще одним экспонатом–проржавевшей торпедой, поражавшей в годы второй мировой войны американские авианосцы. Торпеда была передана в храм бывшими противниками на поле брани, а ныне самыми близкими военными партнерами — заправилами Пентагона. Акт возвращения торпеды "на круги своя" глубоко символичен, ибо в нем ясно просматривается стремление американцев возродить былую военную мощь Японии, подняв опасное для дела мира сотрудничество на новую высоту…
В последнее время телеграфные агентства многих стран приносят все новые свидетельства того, что американская администрация старается резко усилить значение военного альянса с Японией. Ныне американцы не ограничиваются прежними требованиями к Японии о непрерывном наращивании вооружений, но ставят перед ней новую задачу — распространить военное сотрудничество с США на зону всего мира. Не желая довольствоваться пассивной ролью Японии в рамках "договора безопасности", Вашингтон домогается ее перехода на роль прямого соучастника в своих международных авантюрах.
Особая роль в планах американских стратегов отведена японскому острову Окинава — многострадальному клочку суши, уже несколько десятилетий подряд содрогающемуся от лязга гусениц. Окинава рассматривается как трамплин для переброски американской морской пехоты в другие районы мира. Как писала газета "Правда" в январе 1980 года, "в последнее время происходит наращивание американского военного потенциала на Окинаве. Маневрам, которые здесь проводятся почти ежедневно, уже не пытаются даже для видимости придавать оборонительный характер" ("Правда", 17 января 1980 г.).
Соединенные Штаты добиваются, в частности, того, чтобы Япония резко увеличила военные расходы, расширила закупки новейшего оружия за океаном и взяла на себя часть, функций американской армии по защите "интересов США" в районе Азии и Тихого океана.
Эти требования, в числе других, были лейтмотивом переговоров японского министра иностранных дел Окиты с американскими руководителями в марте 1980 года в Вашингтоне. Особые усилия на переговорах американская сторона прилагала к тому, чтобы обеспечить более широкую политическую и моральную поддержку Японией агрессивного внешнеполитического курса США в Юго—Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Из заявлений Окиты, сделанных в ходе переговоров, легко уяснить, что нынешнее японское руководство, пусть с некоторыми оговорками, готово принять роль, отводимую ему американской администрацией. Министр иностранных дел Японии выразил готовность последовательно увеличивать военные расходы страны, хотя по темпам роста военных ассигнований Япония давно занимает первое место среди империалистических государств. Окита также сообщил о намерении японского правительства качественно совершенствовать свою армию, оснащать ее новыми типами оружия и боевой техники.
Выступая в марте 1980 года в американском конгрессе, тогдашний государственный секретарь Вэнс, как отмечают иностранные наблюдатели, по сути стремился заставить Японию пересмотреть основы своей политики в области безопасности и удовлетворить стремление Соединенных Штатов к "расширению поддержки Японией американских действий, направленных на то, чтобы приспособиться к новой обстановке в мире"… Как сказал представитель японского МИД, в основе заявления Вэнса лежало стремление выразить надежду Соединенных Штатов на то, что они будут сотрудничать со своими союзниками и в других районах мира, и что Япония будет сотрудничать с Соединенными Штатами в глобальном масштабе. Однако министерство иностранных дел и другие правительственные учреждения утверждают, что Япония не намерена расширить применение или давать новое толкование японо–американскому "договору безопасности".
Постоянно растущее сопротивление японской общественности встречает попытки Соединенных Штатов превратить Японию в американскую марионетку. Она является самостоятельной державой, и ее национальные интересы во многом не совпадают с-устремлениями США. Как пишет газета "Асахи симбун", все оппозиционные партии страны отмечают опасность превращения Японии в одно из звеньев мировой стратегии США.
Выступая на сессии японского парламента, заместитель председателя ЦК Компартии Японии Кураками решительно осудил агрессивный курс американской внешней политики и потребовал ликвидации японо–американского "договора безопасности", а также роспуска военных блоков и проведения страной политики самостоятельности, неприсоединения и нейтралитета. Генеральный секретарь социалистической партии Тагая указывает, что Соединенные Штаты ставят Японию перед выбором — следовать ли ей курсом беспредельной гонки вооружений и усиления реакции, или же идти путем неприсоединения и нейтралитета. Генеральный секретарь партии Комэйто Яно подчеркивает, что мировая стратегия США и политика обеспечения безопасности Японии в корне несовместимы, и Япония ни в коем случае не должна менять своего курса.
Однако руководители американской политики не оставляют планов создания в Азиатско—Тихоокеанском регионе планеты гигантского военного альянса, действующего под эгидой США.
Переданная американцами старая японская торпеда ныне бережно хранится в храме, ставшем центром милитаристской пропаганды. Когда–то в теле торпеды сидел моряк–камикадзе, направляющий ее ход изнутри. Опьяненный духом шовинизма, фанатически преданный своим начальникам, он шел на верную смерть, зная, что не спасется. Как много горя принесли японскому народу те, кто толкнул его на путь войны, искалечив нe только судьбы, но и души!
Обманчивая реклама
Реклама со всех сторон окружала нас. Стоило выйти на улицу, как в руках оказывался ворох разноцветных рекламных объявлений, которые насильно совали вам бойкие студенты, специально нанятые для этого. Вначале я сохранял листки, чтобы потом внимательно прочитать их на досуге, но вскоре их оказалось так много, что стало ясно: эту рекламу не прочесть уже никогда.
Когда я включал телевизор и смотрел художественный фильм, то в самые интересные моменты он прерывался, и по экрану, спеша захватить волнение зрителей, торопливо бежал короткий фильм рекламы и гремел своими песнями, не трогающими души.
Но наутро эти песни громко распевали дети, идущие в школу, а лавочники, толкуя с покупателями, щеголяли рекламными шутками.
В парфюмерной лавке щекотал ноздри стойкий запах жасминного мыла.
— Почем оно у вас? — спросил я у лавочника.
Вместо ответа он понимающе улыбнулся и продекламировал:
Как приятно летней ночью
Погрузиться в сон!
В этом вам поможет очень…
— Мыло "Эмерон"!
— машинально закончил я невзыскательное стихотворение, не зная, откуда пришли на ум эти слова.
Скрипнула входная дверь, и в лавку вошел новый покупатель. Я обернулся и увидел полную женщину, очевидно, домашнюю хозяйку, одетую в теплый жакет. Приятельски кивнув знакомому лавочнику, она дружески обратилась к нему:
— Как приятно летней ночью
Погрузиться в сон!
В этом вам поможет очень…
— Мыло "Эмерон"
— громко произнес лавочник и выложил на прилавок пачку душистого мыла. Женщина спрятала его в сумку и достала кошелек, зазвеневший серебряной мелочью.
И тут я вспомнил наконец, что впервые услышал этот нехитрый стих не далее как вчера вечером, в телевизионной рекламе. Но удивительно было то, что уже сегодняшним утром люди знали его наизусть.
Велосипеды и губная помада, ботинки и книги, о которых говорила реклама, вдруг оказывались самыми лучшими, и люди начинали покупать именно их. Результаты рекламы были видны всем, но она, несомненно, оставляла еще и другие, невидимые следы в душах людей. Но каковы были они, я не знал.
С давних пор японцы любят рекламу. Неразлучный спутник торговли, она зародилась здесь уже в средние века. Главным средством рекламы тогда были девушки, которые стояли у входа в лавку и зазывали покупателей, громко хлопая для этого в ладоши и декламируя веселые куплеты. Хотя с тех пор миновали столетия, бурные события не раз волновали страну, и изменились людские вкусы, — "девушки–вывески" существуют и по сей день. Они стоят у зеркальных дверей больших магазинов и все так же кланяются, смеются и хлопают в ладоши.
В годы, когда родилась реклама, купцы считались низшим из четырех сословий Японии. Феодальные правила запрещали им носить шелковые халаты и есть дорогую пищу, но, как это часто бывает в жизни, никакие законы не смогли остановить роста торговли и помешать веселому разгулу рекламы.
В 1729 году японские торговцы впервые в мире начали вешать на стены домов раскрашенные рекламные рисунки, — и стали изобретателями цветовой рекламы. Всем известны старинные японские гравюры с четкими, таинственными и плавными линиями. Мало кто знает, что в те годы и гравюры служили рекламой.
В наши дни Япония занимает второе место в капиталистическом мире по насыщенности рекламой, уступая лишь Соединенным Штатам. Реклама — это материальное выражение открытого К. Марксом товарного фетишизма, культа вещей в капиталистическом обществе. Отчасти такую экономическую роль рекламы передает и старинная пословица: "Реклама — двигатель торговли". Но ведь поговорки и крылатые слова так быстро отстают от жизни!
Рекламу передают по радио и телевидению, печатают в газетах и журналах; она взирает на прохожих с воздушных шаров и фасадов домов; шелестящим водопадом цветных листков она обрушивается на пол из развернутой утренней газеты. Для авторов рекламы главное состоит в том, чтобы она как можно чаще попадалась на глаза людям, и чтобы ее легко запоминали. Поэтому самую дорогую рекламу разносят по свету аристократы прессы — газеты и телевидение.
Японские газеты выходят сразу на двенадцати — двадцати страницах. Газета имеет неоценимую возможность, раз зацепив внимание читателя, не отпускать его уж до конца и заставить просмотреть всю помещенную в ней рекламу. Например, домашняя хозяйка, только что проводившая мужа на работу и решившая почитать утреннюю газету, наверняка не пропустит объявления о новой губной помаде. Но ее внимание привлечет и напечатанная рядом статья о книге для женщин, по соседству с которой красуется реклама модных туфель. Разумеется, такую цепь рекламы можно тянуть до бесконечности.
Некоторые японские газеты, такие, как "Майнити" или "Иомиури", имеют давнюю историю и поэтому пользуются давно заработанным непререкаемым авторитетом. Одно лишь упоминание товара в таких газетах служит ему лучшей рекламой.
Любая реклама очень дорого обходится фирме–заказчику, но использование газет и телевидения стоит дороже всего. Однако находятся и такие поклонники рекламы, которые, стараясь привлечь внимание лишь к своим объявлениям, покупают часть драгоценной площади газетного листа — и оставляют его пустым. Широкая белая полоса вокруг рекламной картинки в газете — это знак огромного богатства заказчика…
Реклама, помещаемая в журналах, также сулит большие выгоды, если она хорошо продумана и напечатана там, где нужно. Каждый из японских журналов имеет четкий круг Давнишних читателей, и нужно лишь суметь правильно определить их нужды и интересы. Поэтому в научных журналах рекламируют книги и авторучки, а в спортивных — мячи и кегли.
Но никакая печатная реклама не может сравниться по силе воздействия на человека с рекламой, передаваемой по телевидению. С помощью зрения люди получают 65% информации, а слух доставляет им еще 25%. Телевидение, соединив изображение и звук, стало обладателем привилегии полностью поглощать внимание человека и распоряжаться им.
Разнообразна телевизионная реклама, но основной ее вид — это полуминутный фильм–ролик. Ролики кратки, продуманны и красивы. Для того чтобы создать фильм о бубликах и показать румяный кружок теста на необычном фоне, операторы опускаются в морские глубины и блуждают по душным джунглям, дрожат на ледяном ветру Антарктиды и прячутся в настороженной толпе настоящих королевских приемов. Разумеется, все это обходится фантастически дорого, но деньги не пропадают зря. Фильм должен поразить воображение человека и запомниться ему, и эта цель оказывается вполне достижимой.
Краткий, как телеграмма, текст фильма еще более облегчает запоминание. В увлекательном фильме о бубликах предусмотрено всего два слова: "Вот это!". Их произносит улыбающаяся девица, высоко подняв над головой повидавший виды бублик. Впрочем, постоянные улыбки рекламных фильмов и плакатов время от времени надоедают всем, и тогда со страниц и кинокадров рекламы на вас взирают грустные лица. Но потом приедаются и они, и их место вновь занимают лучезарные улыбки.
Но если назначение рекламы быть двигателем одной лишь торговли, то как же объяснить плакаты, которые в июле и декабре неожиданно появляются на каждом шагу? В эти месяцы служащие получают бонус — традиционные денежные вознаграждения. Их размеры зависят от богатства самой фирмы и от занимаемой в ней должности. Для одних бонус — это несколько неновых синих бумажек, а для других — небольшой конверт солидных купюр. Но все получившие бонус стремятся сохранить его на долгие годы.
В эти дни на ветру улиц и в потоках воздуха, раздуваемых вентиляторами метро, раскачиваются рекламные плакаты банков. На многих из них изображена девушка–секретарша, сидящая за уставленным телефонами письменным столом и задумчиво почесывающая карандашом свой напудренный нос. "Как же мне сохранить свой бонус? Не вложить ли его в банк Сумитомо?" — написано под картиной.
Чтобы реклама не надоела окружающим и не превратилась поэтому в свою противоположность, в одну из ночей плакаты срывают — и приклеивают другие. Там девушка красуется в другом платье и мечтательно чешет карандашом уже не нос, а ухо…
Может быть старинную пословицу нужно уточнить: "Реклама — это двигатель торговли, а также банковского дела"… Но будет ли исчерпывающей такая характеристика? А вдруг реклама двигает еще что–нибудь? Или роль ее состоит уже не только в том, чтобы служить двигателем?
Что–то подсказывало, что роль рекламы в современном обществе безмерно широка, что реклама глубоко пронизала всю его жизнь, — но какова эта роль, я не знал.
Незаметно и я стал пленником рекламы. На шумных улицах внимательные глаза рекламных портретов властно притягивали взор. Рассеянно слушая радио, занятый другим, я настораживался и забывал все, когда передача прерывалась, и из приемника неслись песни и вздохи, плеск морских волн и артистический смех, вскрикивания и плач. Непостижима реклама! Ее язык то поражал грубостью, то удивлял выразительностью и талантом. От фельетонов и статей меня неудержимо тянуло к раскинувшемуся внизу газетного листа роскошному царству рекламы. Я рассматривал его, вникал в текст, испытывая при этом новые, неизвестные доселе ощущения, какие не доставляли ни сами газеты, ни журналы. Неуловимое чувство покоя и призрачного счастья охватывало меня…
Заветная дверь
Мускулистый спортсмен, одетый в костюм с галстуком, пробежал по гаревой дорожке, оттолкнулся от нее с помощью длинного шеста и высоко подпрыгнул над перекладиной. Фалды его одежды картинно разлетелись в стороны, и прекрасный яркий галстук блеснул на солнце. Через мгновение камера застыла, и некоторое время эта сцена неподвижно смотрела с экрана, чтобы глубже отпечататься в памяти зрителей и намекнуть на то, что хороший галстук — удел лишь очень сильных людей.
Но что общего имеет галстук и сила? Ведь если повязать на шею хоть десять галстуков, от этого вряд ли станешь сильнее, не правда ли?
На обложке популярного журнала мечтательно раскинула руки женщина в платье из модного нового материала. Через всю глянцевитую светлую фотографию бежали столбцы иероглифов: "Ласковыми пальцами он трогает мои волосы, мои щеки, мои губы. К тому же, к тому же бесконечно он наслаждается моим мягким изящным платьем. Мое прекрасное платье! Мой прекрасный теторон!"
Неужели в этой рекламе хотят объединить возлюбленного с синтетическим материалом, словно галстуки с силой? Но вместо теторона можно подставить и что–нибудь еще и так же слить с образом любимого человека.
Неутомимый мультипликационный человечек быстро взбирался вверх по облакам и ловил ускользающий от него небольшой рулон бумаги. Вдруг рулон оказался веселым старичком с бородой и в белой хламиде.
— Ты хочешь бумагу? Но ведь я бог! — сказал он.
На японском языке это звучит каламбуром, потому что и "бог", и "бумага" произносятся почти одинаково: "Ками" и "ками". Потом, в другом фильме, это сходство обыгрывалось другим, не менее смешным способом. А на газетном листе с немым удивлением обнаружилось, что это созвучие можно преподнести еще и в новом варианте. Судя по фривольным рисункам, он также был очень остроумен и нов… Как ни смешон этот каламбур, он никак не относится к бумаге: писчей или оберточной, рисовой или химической. Почему же не говорит реклама о бумаге, а вместо этого наводит на игривые мысли о боге?
В вагоне электрички я увидел объявление, и оно поразило меня: "Торговый квартал "Солнечный парк" просим больше не называть так. Теперь он зовется "Городом Счастья"… Неужели владельцы лавок и магазинов специально договаривались о том, чтобы изменить название городка? Но что это даст им? Разве можно придать аромат новизны залежавшимся товарам, не меняя их? Да и вообще, какое отношение к ним может иметь название места, где их продают?
Вопросы эти не давали покоя. Иногда казалось, что реклама идет по ложному пути, пропагандируя совсем не то, что нужно, но умом мы понимали, что это невозможно: ведь тогда никто не стал бы вкладывать в нее свои деньги.
Но однажды в нашем общежитии для иностранных студентов раздался телефонный звонок. Я поднял трубку.
— Моси–моси! Аллё! — послышался в ней смущающийся, веселый и знакомый голос.
Наконец–то он дал о себе знать, этот никогда не открывающий своей души никому, смеющийся над долгими поклонами японцев и стесняющийся свободных манер европейцев, бывший студент Сисино Киёси. Несколько месяцев назад он закончил университет — и пропал неизвестно куда. Впрочем, я догадывался, почему он перестал встречаться.
— Я не звонил, потому что долго не мог найти работу, и я чувствовал бы себя униженно перед тобой, имеющим все необходимое для жизни. Но сейчас я обрел место и вновь могу заявить о себе.
— Но где же ты находишься сейчас?
— Здесь! — последовал лаконичный ответ. Я выглянул в окно — и за стеклом увидел Киёси. На расстоянии вытянутой руки от меня он переминался с ноги на ногу у голубого уличного телефона.
Киёси был все таким же длинным и нескладным, как и в недавние годы студенчества, но неуловимая перемена уже чувствовалась в нем. Тонкие губы его теперь были сжаты, а в глазах появился сухой блеск делового человека. Но это был и одновременно блеск долгожданной победы.
Вместо прежней свободной студенческой одежды на его широких плечах неловко и уныло висел синий пиджак. Темный галстук был завязан тщательно, но также неумело, и потому сбился набок.
Через минуту Киёси вошел в прохладный вестибюль общежития и нагнулся, развязывая шнурки ботинок. На лацкане его пиджака блеснул значок фирмы, где он работал. Эмблема была незнакома.
— Наша фирма еще невелика, и поэтому ты о ней и не слышал! — сказал Киёси.
— Так ты работаешь в рекламной фирме?
— А что, механизм рекламы непонятен тебе?
— Наверное… Мне кажется, что реклама порой усердно превозносит совсем не то, что нужно. Как странно: мыло обещает не чистоту, а красоту, хотя всем ясно, что это невозможно; галстук сулит силу, бумага наводит на мысли о боге, шоколад волнует сердце романтическим дыханием старины, а зубная паста манит ушедшим детством…
— Да потому что иначе не найти путей к человеческому сердцу! — рассмеялся Киёси. — Главная цель рекламы состоит не просто в том, чтобы заставить человека купить что–нибудь. Цель эта гораздо сложнее: реклама должна убедить человека в том, что ему необходима новая вещь несмотря на то, что она у него уже есть. А для этого нужно заронить в его душу зерно желания. Ты ведь знаешь новый лозунг коммерсантов: "От бизнеса сборщика урожая — к бизнесу сеятеля!" В сознании покупателя реклама должна создать новые психологические связи для того, чтобы образ товара вызывал ассоциации со счастьем, добротой и покоем. Ведь жизнь тяжела, и люди стремятся к празднику души.
И Киёси посоветовал почитать один из номеров газеты "Асахи". Я взял его в библиотеке, раскрыл на нужной странице — и увидел статью, написанную управляющим одного из самых больших токийских универмагов "Исэтана". Статья называлась: "Что покупают в городе экономической депрессии".
"В наши дни люди все реже останавливают свой взгляд на синтетических и искусственных товарах, — писал управляющий. — Конечно, не все могут купить мех норки, но зато многим по карману кроличья шкурка, и ее покупают. Люди стремятся к настоящему, подлинному. Может быть, к этому тянет их жажда гармонии и спокойствия в самой жизни?"
В годы экономического застоя жизнь становится тягостной и беспокойной. Сокращается рост производства, разоряются маленькие фирмы, неумолимо повышаются цены, распространяются наркомания и преступность.
"Но в грустное время, как всегда, большим спросом пользуется женская косметика, — продолжает управляющий "Исэтана", — она стоит недорого, но позволяет испытать чувство призрачного покоя, удовлетворенности и новизны. Косметика еще доставляет и радость творчества, поэтому, нанося новую помаду и тушь, многие женщины подсознательно радуются так, словно они надели новое платье, даже если его нет".
В Японии издается много бюллетеней и статистических таблиц из различных областей бизнеса. Рассматривая их кривые линии и круги, я поразился: в годы депрессии фантастически поднялось производство помады оранжевого цвета! Неужели причиной явился лишь короткий рекламный текст: "В окружении жестокого общества этот цвет почему–то приносит облегчение и сообщает присутствие духа…"
Но почти столь же стремительно возросла и продажа красной помады! Ее реклама гораздо короче: "Женственность в движении и порыве". Несмотря на всю их лаконичность, эти слова тонко учитывают очень распространенное сейчас настроение упадка. Психологам хорошо известна его двойственность: ввергая человека в апатию и грусть, оно и заставляет в глубине души нетерпеливо ожидать спасительного, нового и прекрасного, что резко изменит жизнь.
Но ведь такой же настрой сообщает и реклама розовой помады: "Живая красота весны вашей жизни". Наверное, она вполне могла бы служить и красной помаде, и едва ли кто заметил бы перемену… Но тогда и все три образца рекламной лирики можно несколько раз поменять местами, и эта вольность также будет не видна?.. Но почему?
— Да потому что эта реклама никак не связана с эстетической ценностью помады! — ответил Киёси. — На рекламу мы тратим столько денег и сил для того, чтобы она смогла затронуть больные и слабые струны человеческой души. И лучше сделать это так, чтобы сам человек продолжал быть уверенным в том, что тайные двери его души по–прежнему закрыты для всех. Видишь, как хорошо удалось это авторам рекламы помады? Но, впрочем, это было не так трудно. А вот скажи, можно ли телефонным кабелем вызвать у человека воспоминания о чем–то близком, теплом и родном?
— Не знаю, — ответил я, — живя в этой стране, я уже давно ничему не удивляюсь.
— Тогда посмотри сегодня вечером рекламные фильмы!
* * *
Как всегда, короткие фильмы рекламы гремели и сверкали, но я сразу же определил тот, о котором утром говорил мне Киёси.
В полуминутном фильме четверо симпатичных молодых рабочих тянули кабель. Повиснув на столбах на фоне радостного восходящего солнца, они перекидывались шутками. Хотя они и были неслышны, почему–то сразу становилось ясно, что остроты их нехитры и доброжелательны. Днем, когда солнце устанавливалось в зените, и кинооператоры умело ловили его блики на листьях деревьев и тихой воде, рабочие дружно усаживались в кружок и устало съедали небогатый свой обед. По вечерам, одевшись с наивным щегольством, они спешили на свидание, а в их глазах светились волнение и доброта. Тихая мелодия, звучавшая в фильме, была грустной и простой.
— Видишь, — сказал на следующий день Киёси, — телефонный кабель приобрел в сознании покупателей совершенно новый, сентиментальный образ. У нас он зовется английским словом "имедж"… — Голос Киёси при этом оставался громким и не выражал никаких эмоций. Как видно, у него самого реклама давно уже не вызывала никаких чувств.
Часто реклама использует уже готовые "имеджи" и приспосабливает к ним свои товары.
Японцы с большим уважением относятся к традициям, — и своим, и чужим.
То, что дышит живой стариной, как подернутая благородной паутиной времени древняя китайская чаша с ее потрескавшимся тусклым лаком, окружено здесь всеобщим уважением и нерушимым авторитетом. Все товары, имеющие хоть какое–то отношение к традиции, также считаются надежными и солидными, словно они освящены веками, проверены временем.
Мимо известных всему миру ярко–зеленых и ровных английских лужаек для гольфа бегут подростки, одетые в школьную форму прошлого века. По множеству признаков видно, что эти удивительные теперь сюртуки и белые чулки они надели не для того, чтобы позировать кинооператорам, они носят их каждый день. Через несколько мгновений видно, как ученики сидят за высокими партами и слушают, что рассказывают им, картинно жестикулируя, учителя в длинных черных мантиях и в плоских шапочках с кистью на боку. А потом ученики играют с учителями в гольф. Фильм завершает голос диктора:
— В Англии до сих пор сохраняются традиционные старинные школы. А тот, кто любит традиции, пьет кофе "Максвелл"!
Какова связь этого сорта кофе с традициями — неизвестно, да это и не интересует никого.
Как и для многих народов Востока, цвета для японцев наполнены глубоким смыслом. Белый цвет символизирует чистоту и искренность, черный — надежность и силу, желтый — богатство, а сиреневый — элегантность, благородство и красоту, и все, что обозначают другие цвета. До сих пор придворные халаты во дворце императора и мантии иерархов буддийской церкви переливаются сиреневым шелком.
Каждую осень в толчее метро, на улицах, в магазинах и в лавках можно видеть странных, похожих друг на друга людей. Пожилые, одетые в одинаковые блеклые костюмы, они были модны в начале века, или в нелепые кургузые фраки, они кажутся выходцами с того света. Желтыми пальцами они сжимают свертки нежного сиреневого шелка. В них покоятся свадебные подарки, а странные люди эти направляются на свадьбу, потому что осень — давнишняя их пора в Японии.
В старину все земледельческие народы устраивали свадьбы осенью, после сбора урожая, но, пожалуй, одни лишь японцы сохранили эту традицию до сих пор.
В дни осени реклама поет свадебные гимны и горит радостными улыбками невест. Молодые супруги, в национальных кимоно или европейских фраках и платьях, красуются рядом с товарами, подчас не имеющими никакого отношения к браку: сапожными щетками, строительным щебнем или новыми мусорными ведрами. Но сейчас и они объявлены неразлучным другом свадьбы.
В вагонах метро колышется на ветру свежий плакат, на котором изображена многозначительно улыбающаяся девица. "Хотя ни я, ни мой жених — не христиане, но все ж…" — написано на плакате, который рекламирует новую манеру праздновать свадьбы — по католическому обряду. Казалось бы, ничего нового в этом нет, скорее наоборот. Но здешние бракосочетания проходят не в католических соборах, — которых, кстати, не так много в этой стране, — а в ресторанах, где создается интерьер католических храмов. Это сомнительное новшество не получило бы распространения ни в одной капиталистической стране, но в Японии оно не вызывает удивления. Любители торжественных и эффектных церемоний, японцы с готовностью перенимают чужие обычаи, однако не вникают в их суть и не верят им. Весело шумят свадьбы в ресторанных залах с бархатными скамейками вместо стульев, и где напротив входа красуется подобие алтаря…
Издавна церковь не принимала в Японии участия в бракосочетании. Главенствующий здесь буддизм освящает лишь рождение и смерть. Не устраивал свадебных церемоний и синтоизм, — сохранившийся до наших дней конгломерат древних культов. Но не из синтоизма ли восприняли японцы свою удивительную способность подражать другим, не изменяясь при этом самим? В средние века синтоизм воспринял у буддизма часть его утонченной теории и даже свое название, но от этого только выиграл, оформившись и приняв современное обличье. А в наши дни синтоизм перенимает у католической церкви ее пышный обряд венчания, и на многих свадьбах теперь красуется белым одеянием молодой синтоистский жрец в черном колпачке и всеми своими жестами и телодвижениями удивительно напоминает католического пастора.
В эти дни на улицах городов внимание прохожих неизменно привлекает красивый и сложный рекламный плакат. Жених и невеста неподвижно возвышаются в центре его, облаченные во множество халатов, украшенных дворянскими гербами. Стоящие рядом воины задумчиво смотрят вдаль и сжимают в руках древние копья. У ног новобрачных примостились два синтоистских жреца и дуют в длинные архаичные флейты, на каких не играют и нынешние жрецы. По лицам жрецов видно, что мелодия их флейт резка и однообразна, но она волнует сердце ароматом давно минувших времен. Волнение читаем мы и в глазах жрецов, благословляющих прекрасный обряд… Но в ту древнюю пору семьи в нынешнем понимании не существовало, и, значит, не мог возникнуть такой обряд. И все–таки грустно играют флейты, украшая своей музыкой обычай, которого никогда не было…
— А это не имеет значения, существовал такой обычай, или нет. Мы здесь историей не занимаемся! — объяснил мне Киёси. — Наша цель одна, и мы достигаем ее так, как считаем нужным.
В одной из новейших рекламных кинолент девушка надевает белую мужскую рубашку, элегантные черные брюки, широкий бальный пиджак и в довершение приклеивает себе длинные рыжие усы. После этого она выходит на улицу и грациозно шагает, помахивая тростью, а прохожие оглядываются ей вслед в немом и неподдельном восторге.
— В чем смысл этой рекламы? — спросил я однажды у Киёси.
— В том, — ответил он, — что истинная красота уравнивает и мужчину, и женщину. А кроме того, этот ход мыслей близок японскому сердцу. Был ли ты в знаменитом храме, где в сумраке мерцает тысяча позолоченных статуй Будды? Когда проходишь мимо них босиком по каменному полу, то видишь фигуры и стариков, и молодых, изображения и мужчин, и женщин. Однако все они — образы вечного Будды, который не имеет ни возраста, ни пола.
И еще заметил ли ты, что девушка в мужском костюме не японка, а европейка? Это также усиливает воздействие рекламного фильма на японскую аудиторию, ибо он затрагивает сразу две чувствительные струны в душе японца: любовь к традициям и уважение к европейцам.
История рассудила так, что все новое и прогрессивное — мысли и книги, станки и товары, — привозили в Японию из Европы. Первые европейцы появились здесь не так уж давно, — позже, чем в большинстве других стран Азии. Они очень удивили всех окружающих своим высоким ростом и громкими голосами, буйной "растительностью" на лице и раскованным, свободным поведением. Почтительное удивление давно превратилось в традицию, и отзвуки его живы до сих пор. Поэтому вызывает несказанное уважение и образ европейски–респектабельного товара.
В рекламных фильмах то и дело звучит сладостная старинная музыка клавесинов и флейт, звенят рыцарские доспехи, а добродушные английские лорды попивают зеленый японский чай, выражая при этом истинное удовольствие. Безымянные молодые люди, обладающие прекрасными каштановыми бородами, — со страхом хватаются за них при виде новых бритвенных лезвий и басовитыми голосами расхваливают другие товары, — хотя и на японском языке, но с артистически подчеркнутым, бархатистым английским акцентом.
В то же время в определенной части японского общества растет яростный национализм, и все иностранное объявляется лишним и примитивным, вредным и враждебным.
— Но ведь это же противоречие! — заявил я Киёси.
— Ну и что? — улыбнулся он. — Ведь в человеческой голове мирно уживаются и куда более разительные противоречия и несообразности, а люди подчас и не подозревают об этом. Но зато об этом хорошо знаем мы, мастера рекламы, и умело используем в своем деле. Недаром считается особым шиком рекламирование европейским артистом предметов национального японского обихода: деревянных сандалий и кимоно, палочек для еды и зеленого чая. Рекламные дельцы надеются на такую, приблизительно, реакцию зрителей: "Даже непонятные европейцы начали есть нашими палочками и носить кимоно. Должно быть, и деревянные сандалии и кимоно, и правда, очень хороши, особенно те, что произведены фирмами, указанными в фильме".
Разумеется, сама реклама этих вещей не была столь многословной. Язык ее был краток и непостижим.
— Никогда не изучайте японский язык по рекламе! — строго предупреждали нас в университете профессора. — Ее язык неправилен и вульгарен. Ее мастера упражняются в оригинальности, чтобы сомнительные шедевры их врезались в память невзыскательных людей. Но мы–то с вами должны говорить на правильном японском языке!
Однако неправильный язык рекламы неудержимо влек. Часто он напоминал знаменитую мысль А. П. Чехова о том, что писать надо так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, и что краткость — сестра таланта. Многие годы это чеховское выражение не было понятно мне до конца. И лишь терпеливо разбирая иероглифы японской рекламы, понял наконец, какой смысл вкладывал великий писатель в свое изречение, ставшее крылатым. Несколько кратких слов должны лишь намекать на многогранный образ, заставляя читателя самого завершить его…
Все больше мы убеждались в том, что в наши дни социальная роль рекламы выходит далеко за рамки непоэтичного торгового дела.
Современная реклама — это уже не столько двигатель торговли, сколько новое и своеобразное средство пропаганды. За столетия своей бурной жизни реклама выработала множество тонких, мощных и безотказных приемов воздействия на человеческую психику. Они и отличают рекламу от других пропагандистских средств — прессы, телевидения и радио, потому что никто из них не может так глубоко и незаметно проникать в интимные уголки и запретные двери души, как неутомимая реклама.
"Он уважает всех спортсменов!.."
— Человека очень трудно переубедить, — сказал мне однажды Киёси. — Ведь для этого ему пришлось бы отказаться от своих прежних мыслей, решений, от своего жизненного опыта. Не каждый способен на это… Гораздо легче внушить человеку что–нибудь новое, и он примет это как само собой разумеющееся.
В отличие от ораторов и газет, реклама никогда не спорит. Ведь в споре многие слушают только самих себя, готовы пойти на любые компромиссы, лишь бы оставить нетронутым мир привычных представлений. Поэтому даже если вы победили в споре, вы все равно проиграли: поверженный человек никогда не простит потери своего внутреннего равновесия… Наши методы легки, неназойливы и надежны, поэтому многие, в том числе и политики, перенимают их у нас.
…На жаркой улице колыхалась огромная афиша: "Конечно, вы можете прожить и без нашего стирального порошка. Но хороша ли будет такая жизнь?.." Рядом с этим полотнищем дрожал на ветру маленький листок: "Конечно, вы можете прожить и без нашего кандидата на выборах Мория Итиро. Но хороша ли будет эта жизнь?".
Признаться, такое использование рекламы удивило. Неужели не имеет никакого политического значения предвыборная программа этого Мория Итиро? Или он сам считает, что целесообразнее стать известным, создав себе любыми средствами выгодный престиж! Очевидно, Мория больше склонялся ко второму… Если бы Мория Итиро был одинок!
Задолго до парламентских или местных выборов на улицах появляется множество таких плакатов. Они висят на деревьях или уныло развеваются на ветру деревенских полей. Надпись на одном из них поразила меня: "Кунио Симодзаки — прекрасный спортсмен, и очень уважает всех спортсменов!".
Спорт популярен в Японии, здесь считает себя спортсменом, наверное, каждый третий. В этом заявлении без труда можно было узнать рекламный прием: польстить как можно большему числу людей, понравиться им. Первоначальный смысл предвыборного призыва, наверное, таков: "Граждане! Я очень уважаю всех вас… Уважьте и вы меня!".
Было раннее утро, и маленькие дома еще спали, прикрывшись картонными ставнями. По узкой улочке медленно двигалась розовая машина, украшенная цветами. Рядом с шофером сидела молодая женщина, и хотя на улице не было ни души, она высунула в окошко руку в белой перчатке и без устали помахивала ею. В правой руке женщина держала маленький микрофон и приятным голосом говорила в него:
— Господа, проживающие на этой улице! Доброе утро! Просим извинить за беспокойство! Кандидат Мори Нориёси! Мори Нориёси вместе с вами будет создавать удобный и красивый город! Большое спасибо за внимание!..
Такие речи звучали часто, и к ним давно привыкли. Редкие в ранний час прохожие даже не оборачивались, когда мимо них проплывал разукрашенный розовый автомобиль, и от этого радостные интонации дикторши казались нелепыми. Становилось жаль и ее и уставшие махать руки. Я обернулся и стал читать иероглифы, написанные на машине.
— Доброе утро, господин иностранец! — сказала женщина в микрофон.
Пухлое и напыщенное лицо Мори Нориёси надменно взирало почти со всех предвыборных плакатов. Его имя чаще всего поминали микрофоны разукрашенных розовых автомобилей, всем было ясно, что он и станет мэром городка. Так и случилось.
Наивно было бы думать, что вся мощь утонченных рекламных приемов тратится лишь на то, чтобы ввести людей в заблуждение. Существует и социально–полезная реклама, которая не сулит прямых денежных выгод никому. Каждый день в телепередачи вторгается рекламный фильм, который пугает зрителей гнетущей музыкой и перепутанными цветами: небо в нем белое, а лица людей черные. Так изображается кошмарное видение человека, больного наркоманией. После этого румяный старичок в кимоно, задумчиво кивая седой бородой, предлагает изгнать наркоманию из общества, как ведьму. В другом фильме этот же старичок убедительно просит зрителей измерить себе кровяное давление. "Давайте измерим давление!" — говорит он. Несколько красивых и поучительных фильмов призывают оказать помощь слепым. Наконец, целая серия фильмов посвящена борьбе за "чистую Японию", их цель — остановить загрязнение природы в стране. Не знаю, насколько эффективна такая реклама, но она существует, и это хорошо, не правда ли?..
Многие журналисты, заканчивая писать статьи о западной рекламе, неизменно "вспоминают известное изречение бывшего американского президента Франклина Рузвельта о том, что если бы он не был президентом, то посвятил бы себя рекламе. Этот образ и в самом деле очень удачен, потому что отражает все богатство, мощь, динамику и красоту рекламы. Но в них же кроется и другой смысл: если бы их автор и в самом деле не был президентом, целиком посвятив себя рекламному делу, — он не приобрел бы безграничных административных полномочий, — а имел бы иную власть: над чувствами, желаниями и душами людей.
И кто знает — мала ли такая власть?..
Секрет молодости
"Найдены два старых фильма режиссера Кинугасы!" — сообщили рекламные листки, расклеенные на улицах. Им вторили бодрые голоса дикторов радио:
"Старый режиссер случайно обнаружил киноленты на чердаке своего дома пару дней назад! Нетронутые, пленки пролежали там пятьдесят лет, а ведь все мы были уверены в том, что они сгорели во время знаменитого землетрясения двадцатых годов! Но нам с вами повезло: завтра мы увидим их на экранах!.."
Вместо ожидаемого восторга голоса дикторов вызывали улыбку: "Знаем, знаем ваши штучки!".
Все это напоминало проверенный торговый способ придать новизну тому, что давно и прочно забыто. Вскоре фильмы и вправду вышли на экраны, и молодежь толпами устремилась в кинотеатры, не обращая внимания на тайные пружины коммерции.
Длинные очереди веселых людей в дешевых куртках выстроились около касс. Это было удивительно: из соседних кинотеатров доносились хлопки пистолетов, крики о помощи и шум угоняемых машин, но никто не входил в открытые двери, хотя там не было и намека на очередь…
В залах, где бесшумно светились на экране два старинных фильма, часто объявляли перерыв, и тогда из репродукторов звенела сложная
средневековая музыка клавесинов, но молодые лица сидевших на стульях студентов, рабочих и клерков оставались серьезно–задумчивыми.
Кажется, эти фильмы, "Перекресток" и "Сумасшедшая страница", созданы не полвека назад, а в наши дни, — такой новизной и свежестью веет от них. Наивно и просто рассказывая о беззащитности бедняка перед стихией жизни, они волнуют сердце, пробуждая в нем сострадание и доброту.
Японские художники давно научились видеть красоту в обыденности, которая окружает их. Архитекторы любовно предлагают нашему взору холодную красоту железобетона и теплый, глянцевый блеск пластмасс, а кинорежиссер Кинугаса заставил тишину, — неизбежный и досадный спутник немого кино, — сообщать фильму настроение безысходности и тоски; плохое качество тогдашней пленки он умудрился сделать образом мрачности и безысходности самой жизни. Не удовлетворясь тусклостью кинопленки начала века, Кинугаса снимал фильмы только по ночам, — и добился своего: впечатление стало более удручающим. Когда актеры беззвучно произносят страстные монологи, их дыхание превращается в белое ледяное облачко, живой символ холода людских отношений в мире наживы.
— Немало жестоких, отталкивающих сцен тщательно рассматривает камера режиссера: любование неприятными явлениями свойственно традиционной японской культуре. И светлые, и темные стороны бренной жизни одинаково важны и интересны для изучения человеческой души, — учит видавший виды буддизм. И не случайно в наши дни даже утонченная и призванная учитывать вкусы всех реклама — подчас необдуманно предается древней страсти, и в минутной киноленте о бритвах молодой самурай отрезает своему врагу ухо, а на объявлении о выставке южноамериканских древностей в универмаге Мицукоси красуется огромная фотография безобразной мумии индейца–инка…
Классическая для японской культуры тема сумасшествия также оказалась частым гостем в фильмах. В средневековом восточном обществе, где каждый человеческий поступок замечался, проверялся и тщательно оценивался, где староста каждых пяти домов раз в месяц писал доносы на своих подопечных, и где нельзя было доверять даже родственникам, — притворное сумасшествие нередко бывало единственной дорогой к свободе. Впрочем, многие запуганные и нравственно сломленные люди по–настоящему сходили с ума…
Японцы издавна славились умением делать куклы, похожие на живых людей, и маски, которые столь естественны, что кажутся лицами просыпающихся людей. В конце одного из фильмов главный герой надевает старинные маски на изможденные лица больных, — и они становятся счастливыми… Сладостное, необъяснимое чувство охватывает вас: здесь и волнение, и тоска, и радость, и бессильные слезы. Невозможно запомнить его, это чувство, оно непостижимо и быстротечно, словно облетающие лепестки сакуры. Лишь старинные шелковые картины да призрачные китайские пейзажи могут вскользь напомнить о нем. На каждом из них вдалеке маячат облака: перистые, они кажутся кучевыми, если отступить на шаг; подойдя слева, вы увидите их розовыми, а справа — прозрачными и голубыми. Облака — древний символ непознаваемой человеческой души. И эпизод со старыми масками ласкает души японских зрителей, нежно нажимая на уголок памяти, в котором живет древнее облако.
Звучащая за кадром струнная музыка театра Кабуки необычно и тонко подчеркивает душевное состояние героев, и казалось, что сидящим в зале зрителям можно и не знать японского языка, — фильмы ведь немые, — все равно они по–настоящему понятны и близки…
Они заставляют всех людей, на каком бы языке они ни говорили, страдать одинаковой болью и плакать от сострадания и доброты. Что–то близкое, понятное и дорогое почудилось в этих фильмах. Постойте, а не тот ли это Кинугаса, который поставил первый советско–японский фильм "Маленький беглец"?..
* * *
Хорошо бы познакомиться с самим Кинугасой! Мечта эта казалась неосуществимой: ведь Кинугасе должно быть не меньше восьмидесяти лет. Но мне посчастливилось — и на следующий день я набирал на красном телефонном диске полученный из третьих рук номер Кинугасы…
Раздался громкий щелчок, и в трубке послышался молодой голос:
— Моси–моси! Аллё!
— Позовите, пожалуйста, господина Кинугасу!
— Это я, — деловито ответил голос.
— Наверное, это господин сын господина Кинугасы?
— Нет, мой сын живет в другом месте. Это я…
Договориться о встрече оказалось просто, и в условленный день старый режиссер ждал меня у подъезда огромного отеля. Рядом с толстым, сердитым швейцаром Кинугаса казался маленьким и тщедушным. Черты лица, круглые и мягкие, делали его похожим на европейца, но орлиный нос грозно напоминал о том, к какой нации принадлежал старик. На носу красовались большие, неудобные и круглые очки, какие носили в начале века. Они наводили на мысль о том, что их хозяин неспроста продолжает столетнюю моду. Впрочем, я сразу забыл об очках, удивленный взглядом их обладателя.
Во взгляде Кинугасы не было стариковской жесткости и недоброго прищура. Сквозь старинные очки на вас смотрели наивные, удивленные глаза подростка, и казалось, тяготы жизни так и не коснулись его…
— Давайте зайдем в этот китайский ресторан! — предложил Кинугаса после обмена приветственными комплиментами, — там и поговорим.
В ресторане он с довольным вздохом уселся на мягкий стул и, немедля, начал рассказ.
— Итак, я родился в Киото восемьдесят лет назад, мой отец был самураем, — быстро заговорил он, прищурив один глаз, а другим с интересом рассматривая расписную китайскую чашку, стоявшую на столе. Фразы рождались одна за другой и с готовностью укладывались на бумагу, словно старик рассказывал кому–то свою биографию каждый день.
— Как и большинство братьев по классу, — говорил Кинугаса, — мой отец был очень беден. Пасынки феодализма, нищие дети дворян–многоженцев, самураи были слишком многочисленны для того, чтобы их могло прокормить новое буржуазное государство. Судите сами: если в необъятной России на сто тридцать миллионов тогдашнего населения приходилось меньше миллиона потомственных дворян, то в маленькой Японии их было в два с половиной раза больше, и это при тридцати пяти миллионах общего населения страны! Каждый шестнадцатый японец гордо именовал себя самураем! Пришедший к власти расчетливый буржуазный класс лишил их денежных пенсий, а государственный аппарат не смог впитать самурайский океан. Так образовался новый слой людей, обладавших некоторой культурой, кровно связанных с прежней властью — и не нашедших места в новой государственной структуре. Это были люди "на переломе", японские разночинцы…
Многие из них становились учителями, врачами, почтмейстерами. Ко времени моего рождения отец служил мелким чиновником. В мечтах он успешно боролся с бедностью и удовлетворял ущемленное самолюбие: каждый раз, когда у него рождался сын, отец торжественно записывал в семейной книге, кем обязан стать младенец в будущем. Моему старшему брату предписывалась карьера дипломата, среднему приказано было стать генералом, ну а мне — адмиралом… Ни одному из тщеславных желаний отца не суждено было сбыться. Его морально сломило то, что в юности я ушел из дому и стал артистом…
Предполагал ли отец, что я буду одним из знаменитых артистов Японии?.. Он проклял меня… И даже мать, запуганная и униженная им, ни разу не пришла в театр Кабуки посмотреть на мою игру!
Кинугаса горестно тряхнул головой и задумался. Ему было восемьдесят лет, мне — двадцать два, но я не чувствовал разницу в возрасте.
— Как и всякий начинающий артист, — продолжал Кинугаса, — я выбрал себе звучный псевдоним. У нас, японцев, псевдоним порою несет глубокий иносказательный смысл, но зачастую ничего не значит, пустой звук — и все: мы не любим придерживаться в этом строгих правил! Например, псевдоним известного писателя — националиста Юкио Мисима, публично совершившего харакири несколько лет назад, был зашифрованным названием горы Фудзияма, символа японской нации:
Мисима — это название городка, откуда эта гора кажется особенно торжественной и величественной. А знаменитый поэт средневековья Басё избрал такой псевдоним потому, что рядом с его хижиной рос банан: "басё" — так назывались бананы на старом языке… Я пошел по легкому пути — и назвал себя именем пологой горы Кинугаса, видневшейся из окна нашего бедного дома…
Как и всякий молодой артист, в Кабуки я играл женские роли. Судьба ненадолго удержала меня там: собрав небольшую группу друзей, я решил попытать счастья в новой тогда кинематографии. Этот шаг был необдуманным, рискованным и незрелым. У нас не было денег, и мы сами рисовали декорации, шили костюмы и сколачивали шаткие лестницы и двери. Мы и ночевали в сарае, нанятом под студию. Это лишь сейчас критики восхищаются тем, что изо рта актеров идет ледяной пар, а тогда это было печальной неизбежностью, ведь зимы в Киото так холодны! Перед съемками я занял немного денег — и это привело меня на грань банкротства. Со дня на день в наш сарай должны были заявиться равнодушные полицейские и разъяренные кредиторы. Поэтому, как только была готова первая пленка, я завязал ее в платок и побежал на вокзал, чтобы быстрее попасть в Токио, скрыться подальше от долгов. В поезде я закрывал лицо шляпой.
В столице "Перекресток" был показан в одном из кинотеатров и имел оглушительный успех. Впервые в жизни я держал в руках столько глянцевых бумажек с портретами отцов государства. На них я купил оборудование для съемки "Сумасшедшей страницы", второго фильма, который принес мне признание и известность.
Вы спрашиваете, когда я впервые прикоснулся к гуманной и великодушной русской культуре? В годы ранней юности, прочитав книги Льва Толстого…
Ведь в переломные исторические эпохи людям свойственно обращаться к культуре других народов: может быть, сквозь призму их опыта удастся разглядеть и то, что происходит в собственной стране. Для японцев учителем новой жизни явилась русская литература прошлого века, растревоженная совесть человечества. Пушкин и Гоголь, Чехов и Достоевский учили нас доброте, любви и состраданию. Но самым близким и ясным стало творчество Льва Толстого. Презрение к духовному убожеству богачей и отказ от роскоши в обыденной жизни, вера в противоестественность власти сильных мира сего и призывы к моральному самосовершенствованию, — все это знакомой струной отзывалось в японском сердце. Темы толстовских произведений, актуальные для России, оказывались острыми и больными и в Японии: растлевающая власть денег в деревне, кризис традиционных семейных отношений, бедность и разорение простых людей волновали умы передовых японцев. Почитание ими русского писателя было по–восточному полным преданности и восторга. Мы привыкли обожествлять гениальных старцев и, наверное, образ Льва Толстого соединялся в сознании многих с седобородым Конфуцием и мудрым, улыбающимся Лаоцзы. Немало людей мечтало лично познакомиться со Львом Толстым: литераторы стремились получить от него отеческие наставления сэмпая, а простые люди хотели лишь увидать его своими глазами и почтительно побеседовать с признанным всеми сэнсэем. Для того чтобы из Японии добраться до далекой Ясной Поляны, они совершали настоящие кругосветные путешествия, которые именовали паломничеством, словно ехали на свидание с богом…
Японский паломник был не столь редкой фигурой в доме Толстых, и не случайно знаменитый писатель Токутоми Рока так и назвал свой рассказ о Толстом: "Японский паломник". С характерной японской тщательностью Токутоми любовно описал в нем привычки, типичные манеры и жесты, даже голос Льва Толстого: гениальный писатель был по–человечески дорог ему.
Писатель Мусякодзи Санэацу в юности решил посвятить жизнь учению Толстого. В 1918 году он основал на острове Кюсю первую толстовскую коммуну, а вскоре число их достигло тридцати! Все члены коммуны работали в поле, добывая скромный урожай, а в свободное время каждый занимался любимым делом. Создание толстовских коммун было прекрасной и бескорыстной попыткой преобразовать общество на началах справедливости и гуманизма. И разве виноваты их создатели в том, что эта попытка не удалась? Она ведь и не могла удасться…
Так и я оказался воспитанным на творчестве русского писателя. С тех пор прошло много лет, сменились поколения людей, — а популярность Толстого не угасает! Вы же бываете в книжных лавках?..
И Кинугаса задумчиво посмотрел в широкое окно. Начинался дождь, в ресторане стало сумрачно, и причудливые китайские украшения на потолке казались декорациями к восточной сказке.
"Торусутой" — четкими буквами азбуки катаканы было написано на корешках книг на полках магазинов и в руках пассажиров метро. Каждый раз, когда мы видели эти буквы, наши сердца наполнялись гордостью и удовлетворением.
Это слово красовалось и в списке жильцов общежития для иностранцев в университете Токай. Фамилия принадлежала Александру Толстому, студенту из Дании, изучавшему биологию и борьбу дзюдо. Веселый и белобрысый, с типично русским широким лицом, он был дальним родственником великого писателя. Узнав об этом, мы засыпали его вопросами об огромной семье Толстых, но он не смог ответить почти ни на один. Тогда мы рассказали ему о бурной истории России, но наши рассказы не взволновали его. Мы говорили с ним только по–английски, потому что он упорно отказывался запоминать русские слова.
— Поймите, я датчанин! — с виноватой улыбкой повторял он…
Благословенны японцы, ценящие чужих гениев!..
* * *
Кинугаса взял маленький разноцветный кувшин и налил в фарфоровые рюмки вина, цветом похожего на чай. Зачерпнув сахару, он посыпал его в вино и стал неторопливо размешивать… Взволнованный рассказом старика, я посмотрел в глубь зала, где из черной двери выбегали стриженые официанты и строго покрикивали друг на друга. Вздрогнув, я ощутил на себе чужой взгляд: это Кинугаса внимательно наблюдал за мной своими добрыми, глазами. Отпив вина, он широко улыбнулся:
— Однако мое нынешнее, зрелое увлечение Россией началось не с Толстого. Я специально рассказал вам про него для начала, чтобы посмотреть, как вы будете слушать. А истинная причина лежит гораздо глубже!
Вы замечали, как удивительно напоминают друг друга японские и русские народные песни? Недаром русские песни с их задушевностью и широтой духа так популярны у нас. Может быть, характеры и судьбы наших народов объединяет невидимое сходство?
Много общего имели исторические судьбы наших стран в девятнадцатом веке. Отмену крепостного права в России можно смело уподобить революции Мэйдзи. Ведь у них была общая цель — сломать перегородки, мешающие развитию капитализма. Кто знал тогда, дорогой каких слез, несбывшихся надежд, горечи и отчаяния окажется этот путь! Сельское хозяйство играло ведущую роль в обеих странах, и поэтому крестьяне, принужденные платить за землю кабальный выкуп, пострадали от реформ больше всего…
Простой народ каждой из стран оказался под двойным гнетом: холодной, бездушной эксплуатации капитализма и грубого принуждения, оставшегося от феодализма. И русская, и японская буржуазия была молода, неопытна, продажна — и так же придавлена феодальными пережитками. Она была неспособна даже укрепить свое ложе, и за нее это сделали другие. Сейчас в это трудно поверить, но ведь революция Мэйдзи, выгодная и нужная только буржуазии, была совершена длинными мечами реакционных самураев! Более того, в этой схватке японская буржуазия поддерживала сторону абсолютистской власти — того, кто угнетал ее жестче всех!
Кинугаса был прав. Часто повороты исторической жизни приводят к самым удивительным парадоксам. "История вовсе не идет таким простым и гладким путем, — писал В. И. Ленин, — чтобы всякое исторически назревшее преобразование означало тем самым достаточную зрелость и силу для проведения этого преобразования тем именно классом, которому оно в первую голову выгодно" (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, с. 152–153.).
Слабость буржуазии России и Японии, рабски покорной аппарату власти, и генетически связанной с ним, явилась причиной специфического общественного устройства, которое Ленин назвал "военно–феодальным империализмом". Он писал, что и в Японии, и в России, "монополия военной силы, необъятной территории или особого удобства грабить инородцев… отчасти восполняет, отчасти заменяет монополию современного, новейшего финансового капитала" (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, с. 174.). Примечательно, что при написании книги "Империализм, как высшая стадия капитализма", Ленин воспользовался примером именно Японии для того, чтобы в условиях цензурных ограничений рассказать русским читателям о России: "чтобы в цензурной форме пояснить читателю, как бесстыдно лгут капиталисты и перешедшие на их сторону социал–шовинисты… я вынужден был взять пример… Японии! Внимательный читатель легко подставит вместо Японии — Россию, вместо Кореи — Финляндию, Польшу, Курляндию, Украину, Хиву, Бухару, Эстляндию и прочие не великороссами заселенные области" (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, с. 302.).
— Незрелость японской буржуазии была столь вопиющей, — улыбнулся Кинугаса, — что отчаявшиеся от голода самураи легко оттесняли ее и сами начинали заниматься торговым делом. Именно так возник самый мощный в современной Японии концерн Мицубиси…
Сходство социально–экономических структур наших стран имело два важных последствия, — продолжал он. — Первое состояло в том, что к концу прошлого века ни Япония, ни Россия не вкусили плодов буржуазной демократии, как бы приторны и неполноценны ни были эти плоды…
Еще бы, в тогдашнем японском языке не нашлось слова, чтобы обозначить им новое понятие "свобода"! Ведь раньше это слово было никому не нужным в обществе, где главной моральной ценностью считалась покорность старшим. После долгих дебатов конфуцианские ученые решили позаимствовать в китайском языке слово "самоопределение"… Согласитесь, что это не одно и то же!..
Однако новые сюрпризы ожидали философов. Выяснилось, что в мире существуют и любовь, сострадание, человечность, доброта, иногда происходят революции. Где найти столько новых слов? Отчаявшиеся мудрецы не придумали ничего лучшего, чем обозначить революцию иероглифами "какумэй", которыми в древнем Китае записывалась смена царствующих династий. Слово это и поныне существует в японском языке…
Но вскоре возникла острая нужда еще в одном слове, и даже в спасительном Китае не нашлось его.
Тогда нужное слово решили взять у малоизвестного тогда русского языка. Это было слово "интеллигенция"… Первое русское слово в японском языке, оно до сих пор живет в нем.
Но ведь оно существовало и в других европейских языках, почему же именно из русского позаимствовали его японцы? Потому что волновали сердца японских разночинцев тургеневские "Отцы и дети", "Подпольная Россия" Степняка—Кравчинского. Они видели, что под иноземным названием скрываются люди, историческая судьба которых во многом напоминает их собственную.
Выходцы из распавшихся, переродившихся социальных групп, русские разночинцы оказались лишними в послереформенном русском обществе. Дети дьячков, крестьян и обнищавших помещиков, они не могли найти места приложения сил в царской России…
Итак, вторым следствием сходства общественных структур наших стран стало рождение в них одинакового социального слоя — угнетенного по положению близкого к простому народу, динамичного — и готового к восприятию прогрессивной идеологии.
И Кинугаса довольно улыбнулся, словно это рождение произошло на его глазах…
— Прогрессивное учение не замедлило появиться, — продолжал старик. — Оно пришло из России, одной из самых философских стран мира.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови -
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!..
Слова Некрасова, возвестившие приход учения русских народников, всколыхнули души японских разночинцев, вызывая слезы любви к угнетенному народу и восторг самопожертвования ради него… Так родилась народническая группа "Хэйминся" во главе со знаменитым революционером Котоку Сюсуй.
Под абстрактным понятием "народ" и русские, и японские разночинцы одинаково подразумевали бедное крестьянство и были крестьянскими революционерами. Воспринимая капитализм как шаг назад, они не сомневались в его скором падении. Уверенные в высшей справедливости законов природы, народники хотели привнести их в человеческое общество. Японской культуре вообще свойственно упование на естественный ход вещей, круговорот явлений в природе. Японские народники, логически продолжив эту веру, по–новому взглянули на нее: нельзя ли и само общество подчинить свободному и равноправному укладу природной жизни? К этому привело их изучение идей русского народничества. "Не могут ли быть отношения между людьми устроены так, чтобы соответствовать потребностям человеческой натуры?" (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. сочинений. М., ГИХЛ" т. 5, с. 608.) — писал русский философ Н. Г. Чернышевский. Его мысль явилась откровением для японских единомышленников.
Разбудить простой народ для борьбы — в этом заключалась первоочередная задача японских народников, но мрачным и тоскливым было поразительное неведение масс, грустно веривших всему, что говорили им власти. Подчас вера была необъяснимой: бедные люди считали себя богатыми, и самодовольно покачивали головами, думая о жалкой участи народов в других государствах. Газеты, изо дня в день грубо обманывавшие их, люди называли вершиной правды и с хитрой усмешкой отвергали любую весть извне. Жестокий полицейский режим, систему поголовных доносов они считали единственно правильными и разумными, уверенные в том, что скоро рухнет порядок в других, неумелых и наивных странах. Стране, ценой народного голода собравшей большую армию, люди прочили великое будущее и с готовностью затягивали пояса кимоно, считая собственное благополучие неважным, несущественным: интересы государства превыше всего! Когда после русско–японской войны министр иностранных дел Комура вернулся на родину, заключив в Портсмуте мирный договор с Россией, в порту его встретили градом камней: предатель, остановивший победу Японии, не давший армии дойти до Петербурга! Но могла ли маленькая страна поглотить огромную мировую державу? Конечно, могла! — так считали многие…
У нас бывают жаркие споры,
И наши глаза горят не меньше,
Чем у юношей России полвека назад.
Мы бесконечно спорим: "Что делать?"
Но никто из нас не ударит вдруг
Кулаком о стол и не крикнет: "В народ!"
— писал на рубеже веков народнический поэт Исикава Такубоку (Русский текст по: "Исикава Такубоку. Избранная лирика". М., "Молодая гвардия", 1971, С. 70.). В те годы началось японское хождение в народ. Нужно ли говорить о том, что оно окончилось неудачей?
Тогда японские народники, подобно русским предшественникам, решили изменить общественное устройство другим способом: убить императора, после чего прогнившая иерархия должна развалиться сама, и тогда среди людей восторжествуют порядок и справедливость…
Общественные теории никогда не возникают на пустом месте. Самая прогрессивная из них не приживется, если не созрела для нее социальная база. В десятые годы нынешнего века учение народников, которое в России уже утратило актуальность и уступило место самому прогрессивному, — марксизму, — в Японии вполне отвечало задачам дня. Поэтому и для подготовки покушения на императора в 1910 году японские народники взяли план убийства Александра II деятелями "Народной воли".
Он был скопирован в японском духе, вплоть до мелочей. Убить императора предполагалось тем же способом, что и русского царя, — бомбой, брошенной в карету. По примеру Софьи Перовской, революционерка Канно Суга должна была подать сигнал, увидев приближающуюся карету, а Фурукава, подобно Желябову, с силой бросить бомбу…
Заговор провалился еще раньше, чем все участники были оповещены о нем… Развитая и окрепшая в веках машина повального шпионажа сработала автоматически, заговорщики были схвачены и вскоре казнены. Канно Суга, в юности очарованная образом Софьи Перовской и давшая обет продолжить ее дело, писала в предсмертных записках: "Наш народ искренне верит в императорский дом, и это делает невозможным продолжение социалистического движения. Поэтому я решила во что бы то ни стало разрушить эту веру. Для этого нужно было изготовить бомбу, бросить ее в императора и показать, что он — такой же человек, как и все мы, и из него так же может течь кровь…" (Цит. по: Акияма Киёси, "Нихон–но хангяку симо" — "Идеология японского революционаризма", Токио, изд–во "Гэндай ситё", 1973, с. 43.).
С высоты исторического опыта нам хорошо видны наивность и беспочвенность народнической борьбы. Значит, жизни их прожиты зря? Нет, они породили новые поколения революционеров, более образованных и зрелых. Воспринимая явления истории с точки зрения нравственной ценности, народники были людьми совестливыми и чистыми. "Кровь мучеников не пропадает даром, — писал русский народник Соколов, — она смывает толстый слой нравственной грязи". В народниках, и японских, и русских, мы должны ценить удивительную душевную чистоту, ежечасную готовность принесения себя в жертву ради народа, и взволнованную веру в то, что обязательно наступит на земле царство любви!..
Кинугаса устало закрыл глаза, откинулся на спинку стула и замолчал…
На столе дымилась, источая аромат, острая китайская еда. Вздохнув, Кинугаса взял было палочки, но тут же положил их на скатерть.
— Эти события произошли в годы моего детства. Я помню то время так, словно оно было вчера. Душевный подвиг народников сладким грузом лег на мою душу. Тогда я дал обет претворять в жизнь их любовь к обиженным и слабым, — и обязательно побывать в стране, подарившей миру народников и Льва Толстого…
— А знаете ли вы, сэнсэй, что во время русско–японской войны деятели "Хэйминся" узнали о борьбе РСДРП и начали поддерживать контакт с В. И. Лениным? К этому привела их логика действия…
И я рассказал Кинугасе о двух письмах.
Во время войны народническая газета "Хэймин симбун" была единственной, выступавшей за мир. Статья Ленина "К русскому пролетариату" была напечатана в ней уже через два месяца после своего появления на свет. В рекордно короткий срок она была доставлена в Японию и переведена, хотя контакты с внешним миром были ограничены до предела. 6 ноября 1904 года в газете появилось сообщение: "Недавно от находящегося в Швейцарии секретаря Социалистической партии России с пожеланием распространить среди пленных русских солдат было прислано несколько экземпляров книг и журналов по социализму, и пацифизму. Отправленные материалы послали в Мацуяма, но в первый раз их приняли, а во второй отвергли: как раз в те годы у нас, в Японии, жили и боролись сами русские народники.
В начале нынешнего века среди иностранцев, прибывавших в международный порт Нагасаки, русские занимали первое место по численности. Русских путешественников, коммерсантов и ссыльных революционеров осело в Нагасаки так много, что им отвели для жительства небольшой городок Инаса. Все вывески и рекламы в нем были написаны на русском языке, а местные японцы, даже дети, умели объясняться по–русски.
Незадолго до войны там, на улице Кударимацу, образовалась крошечная колония народников–семидесятников, бежавших из сибирской ссылки. Живя скромно и дружно, они воздерживались от многих жизненных благ, чтобы сэкономить средства для борьбы. Для руководства народнической группой в Нагасаки прибыл знаменитый народник–семидесятник, член первой марксистской группы "Освобождение труда" Николай Константинович Судзиловский, известный под псевдонимом "Россель". Человек удивительной судьбы, участвовавший в становлении революционного движения многих стран мира, лично знавший К. Маркса и Ф. Энгельса, Россель всю жизнь оставался народником–семидесятником. Уехав в эмиграцию во время разгрома "Народной воли", Россель оставался верен её идеям. Когда народничество исчерпало себя, раздробилось на группировки, Россель, присоединившись к борьбе пролетарских революционеров — марксистов, все старался помирить между собой народнические группировки. Понимал ли он, что это было невозможно?
В Японии Россель организовал издание газеты "Воля". Как и многие народнические предприятия, оно держалось только на упорстве и самоотверженности активистов. Вначале предназначенная лишь для революционной пропаганды среди русских пленных, "Воля" начала распространяться и среди японцев: ведь движение японских народников уже зародилось! Несомненно, идейное влияние, оказанное на них Росселем и другими членами группы "Воля", было неоценимым.
Истинные народники, члены группы "Воля" оставались патриотами, и даже в эмиграции не прерывали связи с родиной. Однажды Россель узнал, что какой–то русский, бежавший с Сахалина, собирается продать японцам прихваченную с собой точную карту военных укреплений Владивостока. "Японцы не должны получить ее!" — решил Россель. Один из народников, бывший офицер, организовавший солдатский бунт на Дальнем Востоке, силой отнял карту у незадачливого владельца и принес ее Росселю, который немедленно сжег документ на свече. Через несколько часов в квартиру Росселя ворвались полицейские и тщательно просмотрели все его бумаги. Несомненно, они искали карту укреплений… Тяжело больной, лежа в постели, Россель сквозь сощуренные веки наблюдал за работой полицейских и удовлетворенно улыбался: секреты родины не должны доставаться никому! После русско–японской войны Росселя вынудили покинуть Японию…
Начало смеркаться. "Воздух за окнами стал синим, ярко загорелись в нем огни реклам, а в зале появились группки прилизанных толстяков с хитрыми глазками. Это были дельцы больших и малых фирм, пришедшие в ресторан с клиентами, такими же ловкачами, чтобы свободно поговорить начистоту и заодно что–нибудь выведать. Они чинно рассаживались за столы, потом притворялись пьяными, начинали громко смеяться и хлопать друг друга по плечу, но их глаза оставались трезвыми и напряженными… Как далек был Кинугаса от их мира! Он посмотрел по сторонам, задумчиво улыбнулся и продолжал:
— В 1927 году моя мечта осуществилась. Скопив нужные деньги, я поехал в Советский Союз. В поездке еще одна цель руководила мною: я хотел посмотреть известные на весь мир, но запрещенные в Японии фильмы Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", "Мать" и "Октябрь". Прошу понять меня. У нас, в капиталистической стране, даже самый богатый человек не станет тратить деньги на то, чтобы поехать за границу посмотреть там кино. Такой поступок сочтут мальчишеством и духовной незрелостью, — а это как раз и презирала молодая буржуазия в дворянах на заре капитализма. Я потратил почти все свои деньги: жажда увидеть Россию была сильнее обычного желания посмотреть талантливые советские фильмы.
Наконец–то я увидел Москву, Ясную Поляну, русские равнины и луга! Мое сердце отдыхало от старой боли…
Маленький японец, я забирался в коляску извозчика вместе с громоздкой кинокамерой, ездил по московским улицам и снимал. Москвичи удивленно оглядывались на меня.
Часто я бродил по Москве, вдыхая запах времени, которое стало частью моей души. Солнечным днем на краю узкого тротуара сидел голубь и пил воду, капавшую из трубы, глубоко засунув в нее свой клюв и для равновесия растопырив крылья. Прохожие быстро перешагивали через пьющую птицу и не обижали ее. Голубь пил спокойно, и это обрадовало меня. Невдалеке, у красной стены монастыря, прогуливался высокий старик с собакой. Она подбежала ко мне и горячим языком облизала руки. Пользуясь моим небольшим ростом, собака положила лапы мне на плечи — и вмиг облизала все лицо, радостно виляя хвостом.
— Вы ему очень понравились! — сказал старик, подходя (я немного понимал по–русски), — наверное, вы добрый человек!..
Конечно же, я очень смутился. В знак симпатии старик объяснил мне, что недалеко отсюда сохранилась старая стрелецкая церковь.
Я легко нашел ее. Маленькая и белая, она робко возвышалась среди окружавших ее каменных громад, словно попала в осаду…
Москва взволновала меня. Ее миниатюрные церкви, похожие на пряники, тихие особняки, беззащитно прижавшиеся друг к другу, казались остатками заколдованного города. Переулки были узки и малы, а дома доверчивы и неровны, словно стены комнаты детства. Неизвестное ранее чувство восторга охватывало меня, а к глазам подступали невольные слезы. Были ли это слезы радости от удовлетворенной мечты и прикосновения к дорогой для меня истории России? Или это голос ушедшего детства манил и влек меня?
Бродя по переулкам, носящим известные мне имена, я шагал по каменным, стершимся и прогнувшимся от времени ступеням, и думал о том, сколько людей некогда проходили по ним. Тут были и Достоевский, и Чехов, и Лев Толстой, и Чайковский, но едва ли кто из прохожих останавливался в изумлении при виде их… Таков закон жизни! — Кинугаса загадочно сверкнул глазами. — Покосившиеся стены домов молчаливо напоминали о слезах и радостях живших в них людей. Целых поколений… Казалось, время наложило благородный лоск на тенистые переулки и старомодные украшения зданий. И сердце мое трепетало, слушая голос минувшего.
Кинугаса задумчиво улыбался. Новыми глазами смотрел я на маленького старичка, сидящего рядом. Человек, ездивший в Россию потому, что она дала миру народников и Толстого, он помнит отзвуки их голосов, он знает их дела, хотя давно и тени их не осталось на земле… Я вдруг ощутил, что рядом со мной — сама живая история!
И тут припомнился другой старик, русский, из подмосковной деревни Крёкшино. У пруда на ее окраине, за густой липовой аллеей белеет старый дом. Его узорчатые ограды покосились, но недвижимы и суровы остаются тяжелые плиты крыльца. В этом доме, принадлежавшем известному издателю Черткову, несколько лет прожил Лев Толстой. Среди тихих прудов и шелестящих рощ долго искал я человека, который помнил бы великого писателя, и наконец нашел.
Седой и высокий, бодрый старик долго рассказывал мне, как в Крёкшино приезжали крестьяне из Ясной Поляны в гости к Толстому, которому полиция временно запретила проживать в Тульской губернии, как зимой писатель катался на коньках по замерзшему пруду, а летом далеко уезжал верхом на коне…
Этот старик тоже был живой историей.
— Прошлое не уходит никуда; незаметное, оно продолжает жить в нас, — так же, как тихо дремлют в каждом сердце невидимые никому годы детства.
Удивительны свидания с ожившим прошлым! Однажды студенты–археологи прошли по знойным, однообразным южным степям, никто еще не знал, что лежит под ними. Наконец в донских степях первокурсники Московского университета раскопали могилу гунна. Бедный, он молча лежал перед ними. На его груди возвышалась небольшая глиняная чаша. Она треснула, истончилась за века, и была так детски–беззащитна, что становилось грустно, глядя на нее.
Неожиданны и странны встречи с живой стариной.
* * *
— В Москве я познакомился с Сергеем Эйзенштейном, — продолжал Кинугаса, — встревоженно поглядывая на часы. —
Бывая у него в гостях, я рассказывал знаменитому советскому режиссеру о законах японского искусства, о сценических приемах театра Кабуки, столь дорогого мне. После наших разговоров Эйзенштейн даже приступил к изучению японского языка, лелея мечту увидеть в Японии театр Кабуки и понять его действие. Но, к счастью, в тот год Кабуки сам приехал в Москву, и мы с Эйзенштейном ходили смотреть каждое представление. Резкая и волнующая струнная музыка Кабуки поразила Эйзенштейна своей кинематографичностью…
Когда много лет спустя на экраны вышел фильм Эйзенштейна "Иван Грозный", я с удивлением узнал во многих интонациях, движениях и позах актеров знакомый почерк Кабуки!
Так начиналось благотворное взаимодействие советского и японского искусства. Но какая мощная духовная основа скрывалась под ним! Из Советского Союза я вернулся обновленным, душа моя стала более чуткой и доброй к людям. Печать русского духа в ней стала отчетливее и глубже. Теперь никто не в силах поколебать ее.
Прошли годы. Много событий прогремело на земле, вновь сменилось несколько поколений, а я стал стариком. И вдруг однажды я узнал, что кинокомпания "Дайэй" собирается поставить первый советско–японский фильм "Маленький беглец!" Я решил, что никто другой, кроме меня, не должен стать его режиссером. Хотя в нашем обществе вовсе не считается зазорной столь эгоистичная мысль, все равно, прошу не счесть меня нескромным: ведь я и так был известен и, честно говоря, даже богат. Но я не мог упустить прекрасного шанса создать первый в истории советско–японский фильм. Весь ход моей жизни был подготовкой к этому шагу, и любовь к России должна была получить высшее выражение. Тогда мне исполнилось 70 лет, я собирался на покой, и директор фирмы согласился поручить мне съемки фильма лишь в качестве прощального дара. Вскоре фильм "Маленький беглец" появился на экранах и приобрел известность.
С тех пор миновало целое десятилетие, мальчик, игравший маленького беглеца, успел вырасти и стать взрослым скрипачом, — а я все не ухожу из творчества… За всю мою жизнь я отснял 1135 кинолент, а сейчас приступаю к новой. Фильм будет посвящен охране окружающей среды. Во время съемок я наряжу кинокамеру, включу ее — и сброшу с огромного небоскреба! Она будет падать, кувыркаться в воздухе — и снимать!.. Какие кадры!..
Кинугаса радостно потер руки и застенчиво прищурил глаза…
Смущенно кашлянув, он полез в портфель, достал оттуда тонкую пачку листков и протянул мне.
Это оказались статьи о нем из иностранных газет, аккуратно вырезанные, размноженные и тщательно переплетенные. Во всем этом угадывалось тайное тщеславие, присущее большинству пожилых японцев.
Бегло просмотрев американские статьи, я обнаружил, что в одной из них Кинугаса был назван Кинугавой, в другой — Кинусакой, а в третьей — Кимурой. Очевидно, их писали люди, не знавшие режиссера, и его образ совсем не волновал их.
— Сэнсэй! — сказал я. — Не исключено, что вскоре к этим статьям прибавится еще одна, из "Комсомольской правды", я напишу ее.
Размягченное, мечтательное выражение на секунду исчезло с лица Кинугасы. Он посмотрел на меня холодным взглядом "сиккари" — и промолчал. Наверное, он не поверил мне…
Через месяц заметка была опубликована. Она называлась "Перекресток" возвращается на экран" и была длинной и узкой, как китайская картина. Написав поверх ее дарственный иероглиф, я преподнес газету Кинугасе.
Внимательно рассмотрев заметку, он попросил перевести напечатанное на японский язык. Закрыв глаза, он приготовился слушать — и через секунду старческие слезы полились по его щекам. Торопливо вытерев глаза, Кинугаса серьезно посмотрел перед собой. Это был взгляд активного и спокойного человека средних лет, и только морщинистые складки шеи молча говорили о том, что их обладатель не так уж молод.
— Вы спрашиваете, как мне удается не стареть? — рассмеялся Кинугаса. — А очень просто. Я стараюсь не отягощать душу мелкими житейскими неприятностями. Буддизм учит, что они просто неизбежны, а раз так, незачем обращать на них внимание. Нужно лишь механически, без участия души, постараться устранить их, или устраниться самому…
Но это не главное. Мой старый друг Кавабата Ясунари, классик японской литературы, первый японец, получивший Нобелевскую премию, однажды понял, что становится стариком, — и отравился газом, чтобы навсегда остаться молодым… Его решение было глубоко японским, но ведь и я японец, однако мое отношение к старости иное, хотя тоже японское по духу. Не верите? — И Кинугаса рассказал мне отрывок из записок средневекового монаха Кэнко–хоси:
"В пятый день луны, когда мы пришли посмотреть камоские бега, перед нашей повозкой стояла толпа, загораживавшая зрелище. Из–за нее не было видно ничего, поэтому каждый из нас, сойдя с повозки, устремился к краю ограды, но там стояло особенно много людей, и между ними нельзя было протиснуться.
По этому случаю какой–то монах взобрался на сандаловое дерево, стоявшее напротив, и, устроившись в развилке, стал наблюдать за бегами. Крепко зажатый между сучьями, монах несколько раз засыпал, но всегда, едва только начинало казаться, что он вот–вот свалится, он просыпался. Те, кто видели его, изощрялись в насмешках:
— Какой несусветный болван! Вот ведь сидит на такой хрупкой ветке и преспокойно себе засыпает!
Внезапно мне в голову пришла мысль, которую я тут же высказал:
— Смерть любого из нас, может быть, наступит сию минуту, не так ли? Мы же забываем об этом и проводим время в зрелищах. Это глупость почище всякой другой!
И тут люди, стоявшие впереди, откликнулись:
— Воистину так оно и есть, совершеннейшая глупость"(Русский текст цит. по: Кэнко–хоси, "Записки от скуки", перевод В. Н. Горегляда, М., "Наука". 1970, с. 63–64.).
— Так зачем же думать о старости и смерти, — воскликнул Кинугаса, — если можно умереть в любую минуту? Поэтому я и не думаю о них, не подпускаю их к себе, а тщательно сохраняю душу такой, какой она была в юности…
Когда старый Кинугаса торопливой походкой бежит по токийской улице, полы его пальто нетерпеливо разлетаются в стороны, и издали его можно принять за молодого, начинающего поэта. Поравнявшись с ним, вы почувствуете его внимательный, добрый взгляд, — и не заметите ни морщин, ни слабых старческих пальцев. Душою слившись с будущим, он стал неподвластен времени, и в награду получил вечную молодость…
Бамбуковый меч
"Япония — это страна удивительной национальной чистоты. Здесь нет никого, кроме самих японцев!" — повторяют так многие.
Но до сих пор в Японии живут и древние айны, пришельцы из Австралии, ныне оттесненные на самый холодный, северный остров Хоккайдо. Они скорбно прячутся в его глубине, не видные и не слышные никому. Чистых айнов в наши дни насчитывается лишь пара тысяч…
Когда вы приезжаете на просторный остров Хоккайдо, на каждом шагу вам попадаются красноречивые знаки, легко принимаемые за следы живущих здесь айнов. Огромные изображения их возвышаются, красуясь, на перекрестках улиц. На стульях и скатертях выделяется плавный айнский орнамент, восходящий к протоавстралийскому лабиринту. И, наконец, на прилавках сувенирных лавок поблескивают грудой наваленные там деревянные айнские фигурки медведей и молитвенные палочки с завитками стружек. Нет лишь одного: самих айнов. На ступеньках магазинов вы очень скоро заметите молодых японцев,
деловито вырезающих из дерева наивные айнские поделки…
Хотя длинные, непривычные японскому слуху географические названия раскиданы по всему острову Хоккайдо, — живые айны обитают лишь в нескольких городках, и нужно долго ехать на старом, обшарпанном поезде, чтобы добраться до них.
Состав везет маленький, закопченный паровоз. В его существование в стране скоростных поездов и юрких автомобилей трудно поверить, — но вагоны медленно движутся, а едкий дым ест глаза, влетая в раскрытые окна. За ними проплывают синие леса, пустынные поля и луга, столь нехарактерные для Японии, и трудно понять, в какой стране вы находитесь.
В конце пути ждет маленькая станция, и ржавые таблички точно укажут путь к резервации айнов, а из–за горы вскоре покажутся островерхие соломенные крыши их домов. Честно говоря, сами айны давно не живут в них, но их японские дома с бумажными стенами столь же бедны и неуютны, как и соломенные хижины.
У ворот резервации стоит сгорбленная старушка и продает маленькие коробочки, сплетенные из бересты. Синий и чистый айнский халат с нарядными узорами лабиринта висит на худых плечах неловко и жалко. Глаза ее — круглые и черные, кожа белая, и лицо кажется совсем европейским, если бы не широкие губы, исколотые синей татуировкой, покрывающей и щеки, и подбородок. За тысячелетия пути из жаркой Австралии кожа айнов успела побелеть, но свойственный народам Океании обычай татуировки не изменился, оказавшись тверже, чем кожа, и устойчивее, чем многолетние привычки. Есть ли сила, способная сокрушить невидимую мощь традиций?
Старушка говорила небольшой группке обступивших ее японских туристов:
— Такую коробочку я сплетаю за два дня, а продается она за две тысячи иен. Получается по тысяче иен на день. Это очень, очень мало! — она горестно качала головою.
От ворот тянулся ряд круглых, островерхих хижин, сплетенных из свежей соломы. Самая большая возвышалась в середине. В ней было сумрачно, а на земляном полу, подстелив тонкие циновки, сидели женщина и старик с огромной, иссиня–черной бородой.
В хижину то и дело входили новые посетители. Их нельзя было назвать бесцеремонными: жесты их и голоса были тихи и учтивы, — но и они вряд ли были приятны хозяевам. Лица айнов были усталы и безучастны.
Губы женщины были украшены татуировкой, и во мраке казалось, что на лице у нее выросли огромные, раскидистые усы. Должно быть, так возникло в средние века нелепое, существующее до сих пор представление о том, будто у айнских женщин, единственных в мире, вырастает борода. Даже в энциклопедиях можно иногда прочитать об этом…
Опустив голову, женщина ткала на грубом ручном станке, а старик вырезал деревянные фигурки порядком приевшихся уже медведей. Кончив ткать, айнка вынула из станка готовый узорчатый пояс для халата.
— Продай его мне! Я буду носить этот пояс на кимоно! — воскликнула стоявшая рядом японка средних лет, наблюдавшая за работой.
— Восемь тысяч пятьсот иен! — хмуро отрезала айнка.
— А ровно за восемь не уступишь ли?
— Нет!..
Японка обиженно замолчала.
— А я вот купила свисток в соседней лавке! — продолжала она. — Объясни, как свистеть! — И она вынула из сумочки деревянный свисток, в который дуют, дергая за тугой шнурок.
— А я не знаю! — бросила айнка.
— Дедушка! — обратилась японка к безмолвно сидящему старику. — Научи, как свистеть!
— Вот пусть вам объяснят это те, кто продал свисток! — ответил старик, не поворачивая головы.
Айны явно не хотели отнимать друг у друга скудный хлеб…
— Ну что, хозяйка, будет покупать пояс? — нахмурилась айнка и сделала движение рукой, словно собираясь убрать его.
— Да я и не знаю! — с досадой отвечала японка.
Мне так хотелось, чтобы пояс был куплен, а старик и женщина заработали бы восемь тысяч, и я посоветовал японке не упускать редкую возможность приобрести айнский пояс ручной работы.
— Ну что ж, — вздохнула она, поколебавшись, — вот восемь с половиной тысяч! — и достала кошелек из–за пояса кимоно.
Айнка стала сворачивать пояс.
— Большое спасибо! — сквозь зубы сказала она.
На улице толпа айнских женщин, громко вскрикивая и притоптывая, танцевала магический танец, и по равнодушным лицам танцорок видно было, что он давно перестал быть для них священным.
На стене большой хижины висело два увеличенных фотографических портрета. На одном была изображена старушка- сказительница, запомнившая все айнские легенды и пересказавшая их для записи. На другом — молодой ученый–айн, который не только записал, обработал, но и перевел на японский язык и издал древний эпос своих предков. Оба снимка сделаны в тридцатые годы. Старушка была одета в грубо сшитый айнский халат, и широкая татуировка скрывала ее губы. А молодой айн был коротко острижен, одет в кимоно, а на его европейском лице притаилась застенчивая улыбка японского интеллигента… Приобщившись к культуре, он стал японцем! Да и другие айны, бесцельно расхаживавшие между хижин, казалось, лишь играли самих себя. Должно быть, такова судьба всех отсталых народов, если вовремя не помочь им сохранить легко ранимую культуру.
Из–за ограды раздался басовитый медвежий рык. Раньше айны считали себя медведями, и медведь был их тотемическим богом. Около деревень в бревенчатых клетках всегда жили медвежата; раз в году, в день ритуального праздника, их убивали из луков, съедали всем племенем, а черепа украшали бусами и поклонялись им.
Вот и сейчас в резервации живет несколько медведей, запертых в железные клетки, но ныне никто не собирается есть их, а айны уже и не верят в то, что они медведи.
К одной из клеток подошла маленькая айнская старушка в расписном халате, налила в таз пойла и просунула его в медвежью клетку. Зверь стал жадно есть, а старушка стояла рядом и что–то приговаривала, ласково кивая седой головой. На каком, интересно, языке говорила она с медведем, своим поверженным богом?..
Я подошел и прислушался.
— Кушай, кушай, милый, потом еще принесу! — шептала старушка на ломаном японском языке. Наверное, только по–японски теперь могли разговаривать ее татуированные уста. Да и остальные айны в резервации говорили друг с другом только по–японски!
Пошел мелкий моросящий дождь, и синие айнские халаты набухли, стали серыми, а шкура запертых медведей потемнела от воды.
Тягостное, гнетущее чувство овладело мною.
Бедные, бедные медведи!
* * *
В дни весны телевизионные передачи начинаются с самой "важной" новости: нынешней ночью цветы сакуры распустились еще в одном городе, еще в одной префектуре! После этих слов на экран наплывает увеличенная до невероятных размеров древесная почка с проклюнувшимся розовым лепестком. Кажется, одна и та же зацветшая ветка, что ни день, появляется на экране, — но всякий раз она вызывает новое удивление и бурную радость.
— Завтра сакура расцветает в Токио! — наконец, разносится заветная весть. Улицы украшаются бумажными розовыми цветами, привязанными к фонарным столбам, играющим роль сакуры в день ее праздника.
И вот ветер разносит свежие, белые лепестки по дымному Токио. Особенно много сакур посажено в парке большого синтоистского храма Ясукуни. Он построен в последней четверти прошлого века, в пору военного расцвета Японии, и ритуальные ворота храма, сделанные из каменных бревен, возвышаются неумолимо и грозно, словно бастионы. В дни праздника сакуры его просторные лужайки и сады усыпаны фантастическим бело–розовым снегом, мерцающим от дуновений весеннего ветерка.
— Куда пойдем смотреть цветение сакуры? — Конечно, в храм Ясукуни! — говорят токийцы.
Но почему же именно в этом храме посажено так много этих бесплодных вишен?..
Есть несколько магических слов; услышанные однажды, они сразу вызывают в твоем воображении Японию: каратэ, гейша, самурай… Но сакуру можно поставить, пожалуй, впереди всех.
Стилизованные изображения розового цветка можно увидеть и на обертках японских товаров, и на куртках спортсменов: сакура давно стала неофициальной эмблемой Японии. Иностранцы, наверное, воспринимают ее как образ весны, чистоты и юной свежести… Но сакура — это символ смерти.
Не успев расцвести, она увядает. Тучи лепестков, оторвавшиеся от свежих почек, летают в воздухе, носимые порывами ветра. Умереть, рождаясь — вот высшее проявление жизни, — считает философия буддизма. Но за последние сто лет, со времени революции Мэйдзи, которая дала простор развитию капитализма и возродила императорскую систему, — абстрактно–философское понимание образа нежных лепестков изменилось. Сакура стала воплощением принесения в жертву самого себя во славу императора. "Погибнуть, словно опавший лепесток сакуры", — эта формула усердно насаждалась пропагандистским правительственным аппаратом в годы войны. Жива она и по сей день…
Писатель Юкио Мисима был больным и хилым в детстве. Самоотверженные занятие каратэ и фехтование мечами помогли ему довести свое тело до совершенства. "Мне надлежит умереть, не достигнув пятидесяти лет, и мое тело должно быть красивым", — говорил он.
Сетуя на недостаток жестокого воинского духа "бусидо" в нынешней японской молодежи, он решил подать ей пример для подражания и в конце шестидесятых годов основал "Общество щита". По замыслу Мисимы, общество должно было стать волшебным щитом, который прикроет возрождающуюся военную мощь Японии.
Облачившись в элегантную красочную военную форму, активисты "Общества щита" подолгу тренировались в лагерях вместе с солдатами регулярных сил самообороны. Оказывается, они охотно допускают в свои лагеря для воинской учебы любую организацию, стоит ей лишь попросить об этом…
В ноябре 1970 года Мисима решил перейти к активным действиям, замыслив государственный переворот. В день окончания своего последнего романа он уединился вместе с друзьями в одном из токийских отелей. Там он написал короткий стих: "Муж чести слишком долго ждал, вынашивая меч на груди. Но кончается нынешний год, и скоро ударят морозы…". Потом он поехал на военную базу и выступил перед солдатами со страстной речью, призывая к перевороту, который возродит величие Японии. В ответ он услышал возгласы. Может быть, это были крики протеста… Затем Мисима прошел в служебное помещение базы, снял форменную куртку, опустился на колени, достал меч и вонзил его в свой живот… Вряд ли Мисима надеялся на успех своей безрассудной идеи переворота. Скорее, наоборот: он был убежден в неминуемом провале, потому и приготовил фамильный меч. Недаром так много сакур цветет в храме Ясукуни! Всколыхнуть сердца молодых — вот главная цель самоубийства писателя–националиста…
Созданное Юкио Мисимой "Общество щита" существует и поныне. В марте 1977 года оно вновь проявило себя. Четверо молодых террористов ворвались в кабинет Тэцуя Сэнга, управляющего "Кэйданрэн", могущественной организации японских промышленников, и четыре часа держали в заложниках его самого и секретаршу, требуя возрождения императорской военной системы в стране. Какие–то новые сюрпризы замышляет коварный щит?..
Медленно кружатся белые лепестки над шумными лужайками Ясукуни. На газонах и тропинках поблескивают высокие бутылки сакэ, а вокруг них сидят, скрестив ноги, лежат, поют и неловко танцуют грузные пожилые люди. Закроешь глаза — и погружаешься в характерные звуки японского застолья: ритмичные хлопки в ладони и нестройное пение. Все песни — военные, есть среди них и та, что повествует о летчике–камикадзе, который вонзился в большой миноносец, блеснув в воздухе, словно лепесток сакуры. Невдалеке, рядом с узловатыми корнями вишневого дерева, прибит щит, на котором написано предсмертное письмо камикадзе.
В годы войн в этом храме молились за победы, объявляя святыми всех, кто принес себя в жертву, завоевывая чужие земли. Раз в год, в день праздника сакуры, бывшие вояки приходят сюда и вспоминают былое. Но не мечтают ли они и о будущем?..
У нас иногда читал лекции веселый, добродушный преподаватель. Ему было около пятидесяти лет. Рассеянный и неторопливый, он то и дело опаздывал на лекции, которые читал сбивчиво и неинтересно. Зато он всегда ставил хорошие отметки на экзаменах. Однажды, попивая кофе в перерыве между занятиями, он произнес задумчиво:
— Как я жалею, что не родился тремя годами раньше… Ведь я мог бы стать камикадзе!..
С того дня новым смыслом наполнились серые токийские переулки и неподвижные лица старых японцев. Неслышную песню запели, синея вдали, тихие горы. И нужно уметь вслушаться в нее, чтобы понять то, чего не договаривают люди о своей удивительной, молчаливой стране.
В современных напевах здесь слышен мощный голос старины; жители проникнуты чувством коллективизма, но в душе каждый одинок; ширмы и занавески не скрывают ничего, но бумажные стены тверже гранита. Иероглифы непослушны и полны иносказаний, а в грозном храме Ясукуни тихо летают белые лепестки…
Каратэ — не только спорт!
Какие необычные порядки заведены в каратэ! Все кланяются японскому государственному флагу, опускаясь на колени; спортсмены делятся на старших и младших, и на белой одежде носят знаки отличия, словно солдаты; иероглифические изречения, развешанные по стенам спортивного зала, призывают не только к прилежанию и терпению, необходимым в спорте, но и к послушанию, к уважению вышестоящих… Младшие спортсмены безропотно повинуются старшим, а те отвешивают им подзатыльники и пощечины, но никого вокруг это не удивляет. Да спорт ли это?..
Впрочем, эти черты свойственны не только одному каратэ, но и другим японским национальным видам спорта. И сумо–борьба тяжеловесов, и дзюдо, и даже невинные на вид шахматы "сёги" — все отдает сильным "неспортивным" духом, — социально реакционным и националистическим. Их поклонника очень редко можно встретить в рядах демонстрантов, протестующих против эксплуатации, роста вооружений, усиления милитаристского союза с Соединенными Штатами. Наоборот, этих спортсменов чаще видишь по другую сторону баррикад. Многие из них охотно идут служить в полицию, жандармерию, в "силы самообороны".
Всем своим образом жизни они привыкли демонстрировать уважение к традициям прошлого, среди которых не последнее место занимают традиции милитаристские. Значительное число приверженцев национальных видов спорта тяготеет к крайне правым политическим группировкам.
Как и многие атрибуты обыденной жизни в буржуазном обществе, спорт здесь также наполнен в первую очередь классовым содержанием. Некоторыми из видов спорта, например, могут позволить себе заниматься лишь очень богатые люди. Это гольф, большой теннис, увлечение которыми считается признаком хорошего тона в среде буржуазии, потому что такие спортивные занятия требуют больших денежных затрат и могут служить явным признаком устойчивости финансового положения человека. Легкая атлетика, плавание, бейсбол обходятся дешевле и оттого доступны более широкому кругу лиц.
Занятия в каратэистских клубах также не требуют больших денежных затрат, и бывает нелегко определить, из каких слоев общества происходит большинство каратистов. Не выяснишь этого и в разговорах с ними самими, потому что вопросов о личной жизни человека, его родителях и доходах здесь не задают никогда, разве что по служебной обязанности. Однако отчетливо видно, что среди поклонников каратэ мало и представителей "золотой молодежи" и парней -с рабочих окраин. Складывается впечатление, что основную массу тех, кто ежедневно по многу часов проводит в изнурительных тренировках, составляют юноши из мелкобуржуазных и непролетарских слоев населения. Как известно, эта среда отличается нечеткостью социального мировоззрения и склонна к политической реакционности, национализму. Она же служит благодатной почвой и для распространения идеологии фашизма…
Среди остальных студентов каратэисты держатся особняком. Рядом с пышными прическами, которые обычно носит большинство студентов, выделяются каратэисты остриженные по–солдатски.
— Ос! Ос! — хрипло кричат каратэисты, издалека узнавая друг друга в густой толпе студентов.
Ныне студенческие черные мундиры со стоячими воротниками мало кто носит, ибо они архаичны и неудобны, но поклонники каратэ и других национальных видов спорта не расстегивают ни одной медной пуговицы на глухих кителях даже в жестокую жару, демонстрируя не только уважение к традициям, но и приверженность к твердой власти…
— Почему ты не занимаешься каратэ? — спросил я у одного из знакомых студентов.
— Потому что мне не по праву их порядки! — скептически улыбнулся он. — Ведь в основе нынешнего обихода каратэистов лежит пример старой императорской армии с ее несправедливостью, жестокостью и издевательствами старших над младшими. В наше время разве может вызвать симпатии культ безраздельного господства силы?.. Каратэ — не npocтo комплекс спортивных упражнений. Одна из задач каратэ состоит в воспитании нерассуждающего, бездумно преданного власти и фанатичного человека! Таким людям можно поручить все! Может быть, именно поэтому популярность каратэ, как и других национальных видов спорта, поддерживается всеми средствами разветвленного и мощного пропагандистского аппарата…
— Спорт играет в истории нашей страны специфическую роль, — продолжал студент. — Он не только развивает ловкость и силу, как везде в мире, но и используется для воспитания и сплочения людей в тех или иных целях, чаще всего имеющих правую политическую направленность. Не случайно японская императорская армия, разгромленная в годы второй мировой войны и запрещенная послевоенной конституцией, но беззастенчиво пропагандируемая ныне, — эта армия вначале тайно восстанавливалась именно под прикрытием спортивных клубов. И сейчас, когда по всей стране раздуваются милитаристские настроения, когда политика Японии все больше смыкается с политикой США, — задача борьбы за мирную Японию приобретает особую важность для всех честных людей. От- того–то я, как и многие другие ребята, не занимаюсь каратэ, а отдаю свое время европейским видам спорта. В этом проявляется наше неприятие национализма и милитаризма, глубоко чуждых нам!..
И студент грустно замолчал, а потом рассказал историю, которая показалась мне весьма поучительной.
В школьные годы у него был друг по имени Хироси. Мой знакомый увлекся биологией, мечтая стать врачом, а Хироси любил читать исторические романы и еще не знал точно, кем он хотел быть.
По характеру Хироси был мечтательным и тихим. В букинистической лавке, принадлежавшей его отцу, Хироси подолгу простаивал перед полками, тесно уставленными книгами. Особенно влекли его те из них, в которых говорилось о воинственном прошлом страны.
Хироси был худым и слабым. На занятиях физкультурой он выполнял упражнения хуже всех, ребята смеялись над ним, и это заставляло его страдать. Когда уроки заканчивались, Хироси бежал в физкультурный зал, заново повторял там все упражнения, но и это не помогало. И хотя ответы Хироси на уроках истории и литературы были лучше всех, уязвленное самолюбие не находило удовлетворения…
Тогда отец посоветовал ему поступить в клуб каратэ, И Хироси начал каждый день ходить туда, возвращаясь домой лишь поздним вечером.
В одни из дней он пришел в школу остриженным наголо. Ребята удивленно заулыбались.
— Меня остриг сэмпай, мой наставник, — пояснил Хироси, с вызовом взглянув на ребят. — Ему показалось, что мои волосы слишком длинны…
Потом он рассказал, что тех новичков, у кого долго не выходит то или иное упражнение, старшие каратэисты заставляют долгие часы неподвижно сидеть в буддийской позе лотоса, скрестив ноги так, что колени не касаются пола. Не раз Хироси так сильно избивали "наставники", что по ночам он не мог уснуть.
Вскоре Хироси показал своему другу багровый след от удара на руке.
— Это сэмпай ударил меня бомбуковой палкой за то, что я не успел поклониться ему! — объяснил Хироси, и это было сказано с гордостью!..
— Может быть, тебе стоит уйти из клуба? — осторожно посоветовал друг.
— Нет! — твердо ответил Хироси, и на его лице появилось неприятное, жесткое выражение, какого никогда не бывало прежде. — Я должен воспитать свою волю!..
После этого друг стал замечать, что и характер Хироси начал меняться. Его взгляд сделался холодным и пустым. Исчезла мечтательность, пропала прежде богатая фантазия… Не слишком ли дорогой платой это было за появившуюся у него теперь сильную волю?..
Его суждения стали кондовыми, ограниченными, прямолинейными. Он начал сторониться товарищей, взирая на них с чувством непонятного превосходства, словно ему было известно то, чего нельзя знать больше никому…
Давно прошла пора блестящих ответов по истории! Теперь они стали краткими, но насквозь проникнутыми крайним национализмом!
Пролетели школьные годы, и пришла пора выбирать жизненный путь.
— Я решил поступать в военную академию! — сообщил Хироси, и его круглое лицо засияло в самодовольной улыбке. — Так хочет мой сэмпай, и я должен выполнить его волю!
Друг замолчал, зная всю неоспоримость такой мотивировки
— Вот почему я не стал каратэистом! — с грустной улыбкой заключил он.
В наши дни каратэ быстро распространяется по свету, вербуя себе новых приверженцев. Пришло оно и к нам. И это неудивительно, ибо каратэ воспитывает в людях ловкость, волю, умение владеть собой. Но все же хотелось бы предостеречь от некритического восприятия его, бездумного переноса на нашу почву. Противоречивую оценку, например, вызывает безоговорочное следование в каратэ законам слепой природы. Ведь природа не знает жалости! Наша гуманистическая культура выработала много этических норм, имеющих целью защитить слабого. Они являются краеугольными камнями и в социалистической морали. Истины о том, что лежачего не бьют, что нечестно бить в спину, потому и кажутся нам закономерностью, что глубоко вошли в наше сознание и стали естественной нормой в поведении советских людей. Но в каратэ, как и в царстве природы, можно без зазрения совести бить и лежачего, нанося удары и ниже пояса, и в бровь, и в глаз. Стоит ли нам перенимать это?..
Каратэ — не только спорт. Это образ жизни. Не менее важную роль, чем сами приемы борьбы, играет для каратэистов сложный комплекс связанных с ними жизненных правил и установок. Все они соответствуют нормам жизни, принятым в буржуазном обществе. Но тем, кто занимается каратэ в иных социальных условиях, следует брать из него лишь самое лучшее, безжалостно отбрасывая то, что бесполезно или вредно.
Оглавление
Откровения студента
Сила привычки
Торпеда в храме Ясукуни
Обманчивая реклама
Заветная дверь
"Он уважает всех спортсменов!.."
Секрет молодости
Бамбуковый меч
Каратэ — не только спорт!
 Автор этой книги — Георгий Астахов ряд лет посвятил изучению истории языка, литературы нашего дальневосточного соседа — Японии.
Материалы Георгия Астахова дают живую панораму сегодняшней жизни Японии, позволяют увидеть страну и в крупном историческом плане, и в житейских подробностях, в противоборстве политических страстей, выявляют в какой–то мере социальный, исторический смысл происходящего.
Автор глубинными фактами японской действительности обнажает язвы и жестокие нравы буржуазного общества с его античеловеческими нормами и жесточайшей эксплуатацией трудящихся масс.
В книге показано, как правящие круги Японии под давлением империализма США осуществляют курс на милитаризацию, на усиление международной напряженности.
Известно, что Япония — государство, граничащее с СССР. Это обстоятельство не может не вызвать к очеркам Г. Астахова интереса читателей, особенно пограничников. Книга, несомненно, расширит их познания о сопредельной стране, поможет лучше осознать свой долг по надежной охране государственной границы.
Автор этой книги — Георгий Астахов ряд лет посвятил изучению истории языка, литературы нашего дальневосточного соседа — Японии.
Материалы Георгия Астахова дают живую панораму сегодняшней жизни Японии, позволяют увидеть страну и в крупном историческом плане, и в житейских подробностях, в противоборстве политических страстей, выявляют в какой–то мере социальный, исторический смысл происходящего.
Автор глубинными фактами японской действительности обнажает язвы и жестокие нравы буржуазного общества с его античеловеческими нормами и жесточайшей эксплуатацией трудящихся масс.
В книге показано, как правящие круги Японии под давлением империализма США осуществляют курс на милитаризацию, на усиление международной напряженности.
Известно, что Япония — государство, граничащее с СССР. Это обстоятельство не может не вызвать к очеркам Г. Астахова интереса читателей, особенно пограничников. Книга, несомненно, расширит их познания о сопредельной стране, поможет лучше осознать свой долг по надежной охране государственной границы.
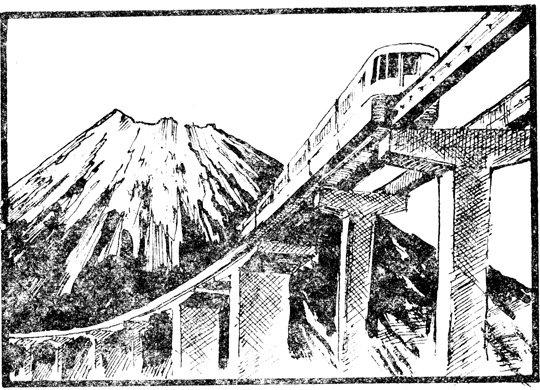
 Закусочная, приютившаяся на углу тихой улицы, была сумрачна и тесна. Под запыленным стеклом маленькой витрины блестели пластмассовые китайские пельмени, коричневый соевый суп с твердыми ракушками и длинная, тонкая лапша. На самой верхней стеклянной полке возлежала пузатая рыба в соусе. Рыба была дорогой, ее вряд ли заказывали часто, и она красовалась больше для придания солидности заведению…
Раздвинув шаткие двери, я пробрался между тесно расставленными стульями и сел за свободный стол.
Рядом сидел усталый человек лет двадцати и рассказывал что–то своему соседу. Тот рассеянно слушал, сонно прищурив глаза. Лишь отдельные слова долетали до слуха:
— Да вот, занимались "арбайто" (арбайт (немецк.) — работа.), недавно возвратились… Всего пятьдесят тысяч иен… За квартиру надо заплатить…
Оба собеседника, истинные японцы, не забывали поминутно кивать головами: говоривший — словно подтверждая этим правоту слов, а слушавший — в знак заранее готового согласия со всем, что будет сказано.
На головах приятелей красовались огромные голубые панамки, какие надевают на младенцев. Перед каждым стояла глубокая чашка, полная дымящейся лапши.
В закусочную то и дело входили новые посетители. С грохотом раздвигая стулья, к столам протискивались плотные здоровяки, а с другого края неслышно подсаживались хилые, измученные зубрежкой студенты. Казалось, присутствовавших объединяла лишь лапша, которую они ели. Кто–то заказывал ее с мандаринами, кто–то — с коричневой соевой жидкостью, а кто–то и с острым индийским соусом карри, но никто не останавливал свой выбор на мясе…
— Чего изволите? — раздался над ухом тихий, почтительный, но очень знакомый голос… Я поднял глаза и обомлел. Передо мной в угодливой позе стоял Уда, бог и гроза каратэистов. Сэмпая (сэмпай — бог) каратэ словно подменили: его мощные плечи опущены, в глазах не играет искра превосходства…
— Ты что же, бросил университет?..
— Наоборот, я работаю здесь для того, чтобы меня не выгнали из университета: ведь учеба стоит немалых денег. Во время каникул так подрабатывают многие студенты…
В темном углу маленького зала томилось от безделья несколько официантов. Одетые в дешевые длиннополые пиджаки и чистые белые рубашки, они ничем не отличались от Уды: такие же короткие, по–солдатски стриженые волосы, такой же потухший взгляд… Неожиданно громко щелкнула дверь, ведущая в кухню, и на середину вышла аккуратная девушка в черной юбке и громко объявила:
— Арбайто но Уда–сан! Дэнва дэс! Господин Уда, нанятый временно, вас вызывают к телефону…
Лицо девушки было холодным и неприступным. Казалось, откажись Уда повиноваться ей, и она превратит его в лед…
Уда напряженно поклонился, тихо произнес: "Прошу прощения!" — и убежал…
Слова секретарши звучали странно–унизительно: в самом деле, стоило ли подчеркивать, что Уда — лишь временный гость в недружной компании официантов?..
Вскоре Уда возвратился, держа в руках маленький поднос, полный чашек с новой лапшой. Осторожно пробираясь между столами, он снимал чашки с подноса и ставил перед гостями, слегка кланяясь.
— Спасибо, бой–сан (бой–сан — господин мальчик), — уважительно говорили ему люди.
Его походка была угодливой и торопливой, а глаза прищурены — и это придавало лицу такое выражение, словно он удивлялся тому, что никто здесь не знает, как грозен он на самом деле…
Поднос тускло блеснул, опустев, и Уда прижал его к груди.
— Рабочий день кончился, — шепнул он, проходя мимо, — не хочешь ли зайти ко мне в гости?..
Я ждал Уду у закусочной. На душе не было радости: Томили смущение и чувство неловкости. Скрипнула дверь, и на жаркую улицу выбежал Уда в неизменных бархатных брючках и майке с номером на спине. Лицо его было усталым.
— Сегодня мы с тобой вступили в новые отношения заказчика и слуги, — усмехнулся он. — Но ведь никому не стыдно зарабатывать деньги: жизнь есть жизнь… Знакомо ли тебе слово "арбайто"? Пришедшее из немецкого языка, где оно обозначало любую работу, слово приобрело у нас иной смысл: временный заработок. Чаще всего его стремятся получить студенты, и поэтому слово "арбайто" стало символом студенческой жизни.
— Что греха таить, — продолжал Уда, — хозяева охотно принимают нас на временную работу. — Нам не положены ни пособия при несчастных случаях, ни дополнительные выплаты при увольнении, ни бонусы — денежные наградные, которые выдают на фирмах раз в полгода, ни пенсии…
Уда замедлил шаг и низко поклонился маленькому старичку, шедшему навстречу. Тот ласково кивнул в ответ.
— Научно–технический прогресс не затронул традиционных общественных устоев, — продолжал Уда. — Поступив в японскую фирму, человек не просто нанимается на работу. Обычай на всю жизнь привязывает его к ней, как некогда бывало с самураем, влившимся в клан феодального князя… Как бы мала — или велика — ни была фирма, она безраздельно присваивает будущую судьбу новичка. Если он изменит ей или захочет перейти на другую работу, его сочтут чужаком и ненадежным человеком, оттолкнувшим пригревшую его руку. Только в своей первоначальной фирме человек может рассчитывать на продвижение. Поэтому так усердны наши чиновники…
Предприниматели легко соглашаются нанимать искателей "арбайто" еще по одной причине. Например, если я проработаю в этой закусочной до седых волос, я так и останусь в ней чужим: каинова печать пришельца, однажды нанятого временно, всю жизнь будет жечь меня… Впрочем, я и не смогу задерживаться в закусочной надолго. При малейшем изменении рыночной конъюнктуры хозяин просто не откроет мне дверь, и я никуда не смогу пожаловаться на несправедливое увольнение: ведь меня брали лишь на время…
Рабочие, служащие и студенты, ищущие желанное "арбайто". — это спасительный балласт капиталистической экономики, и когда начинается буря, их безжалостно выбрасывают за борт!..
Уда тяжело вздохнул и посмотрел по сторонам. Извилистая песчаная дорожка, по которой мы шли, сверкала зеленью изгородей. Сквозь жесткие глянцевые листья виднелись, белея квадратами, маленькие дома. Стены их были тонки, двери сделаны из картона, а окна из бумаги, — но, казалось, они были тверже стали, наглухо скрывая от мира тревоги и печали людей, живших за их шатким заслоном…
Навстречу нам шагала толпа студентов, юношей и девушек, сжимавших в руках газетки. "Вестник арбайто", — было напечатано на них. Ребята спешили на электрички. В толпе молодых людей торопливо семенила старушка, старательно кивая седой головой. Бедняжка! Она тоже искала "арбайто"!..
За поворотом показался дом, где жил Уда. Низкий и сильно вытянутый, он напоминал казарму.
— Почему многие здешние дома так похожи на бараки?
— Да потому, что земля слишком дорога. Ведь по закону домовладелец обязан купить и часть площади вокруг здания. Обычно несколько хозяев соединяют свои одноэтажные дома и сообща покупают один участок земли: каждый ловчит как умеет, ведь жизнь немилосердна…
Мы вошли в темную прихожую, по скрипучей лестнице поднялись на второй этаж и остановились у дверей.
Уда достал из кармана медный ключ. Замок щелкнул.
И замок, и ключ казались ненужными: тонкую фанерную дверь мог без труда разбить любой злоумышленник. Но дверь была цела: охотников попасть в комнату Уды пока не находилось…
В игрушечной прихожей размером в полметра можно было снять обувь только одному человеку. В дверь мы входили поочередно, потому что вдвоем просто не уместились бы в прихожей.
Пол, сплетенный из тугой соломы, упруго вибрировал, когда ступали на него. Все помещение комнаты можно было пересечь двумя небольшими шагами. У двери тускло поблескивала раковина из серого цинка, рядом была привинчена к стене другая, пониже, предназначавшаяся для мытья ног и стирки. У подрагивающего от ветра бумажного окна стоял низкий письменный стол. Рядом примостился железный стул, на спинке которого висели смятые брюки.
На полу оставалось небольшое свободное пространство. Наверное, его занимал сам хозяин, когда спал ночью, расстелив матрац.
— А это электрическая батарея для обогревания воздуха! — указал Уда на маленький железный предмет в углу. — Рано утром, едва взойдет солнце, я машинально просыпаюсь на секунду и выключаю электроприбор: ведь тепло стоит немалых денег… А вообще я плачу за комнату по 40 тысяч иен в месяц. Сколько это выходит в пересчете на ваши деньги?
— Около ста рублей…
— Почти столько же приходится тратить на учебу в университете… А на остальное остаются гроши… Ты помнишь секретаршу хозяина в закусочной, которая вызывала меня к телефону? — улыбнулся Уда. — Ее лицо было настороженным и холодным, не правда ли? Капитализм рождает множество характерных выражений лиц. Среди них и самодовольная, тупая физиономия полицейского, хитрые, горящие затаенным блеском глаза дельцов, нередки и открытые, искренне улыбающиеся лица… Существует сила, которая вмиг делает серьезными смеющиеся лица, а глаза — расчетливыми и сухими. Это — деньги. Отнять, выманить, украсть их как можно больше — вот конечная цель жизни, которую навязывает нам само общество! — Уда глубоко вздохнул:
— Тяжело жить на скудные студенческие средства. Но труднее всего удержаться в зыбком море ежедневных расходов… Для того чтобы сберечь последние серебряные монеты, студенты в свободное время стараются не выходить из дому. Скорчившись на соломенных полах тесных комнат, они подолгу смотрят маленькие дешевые телепередачи или читают книги. Иностранцы часто спрашивают о том, как проводят досуг японские студенты.
Каждый по–своему: богатые играют в гольф и теннис, веселятся в ночных клубах, летают на заграничные курорты на очаровательных тропических островках Тихого океана. А остальные просто сидят дома…
Уда достал из ящика письменного стола две белые чашки, насыпал в них кофейного порошка, добавил сухих сливок и налил кипятка из термоса…
— У многих ребят этим ограничивается весь ужин! — грустно усмехнулся Уда. — Ведь еда — самое дорогое. Верный способ сохранить деньги — это сэкономить их на еде… Заметил ли ты, что заказывали сегодня студенты в закусочной? Одну лапшу, потому что мясо им не по карману. Вот почему происходит сейчас удивительное, страшное и позорное явление, о котором так мало пишут газеты: вновь возродилась средневековая болезнь "бери–бери", которая возникает от недостатка витамина B1. В старину ею болели матросы, которые подолгу плавали на утлых парусных кораблях, и голодные крестьяне. И те и другие не видели ни мяса, ни яиц. После мрачного всплеска в послевоенные годы эта болезнь — символ голода и нищеты — исчезла, но в наши дни появилась снова, на сей раз у студентов. "Бери–бери" сейчас — одна из грустных примет студенческой жизни… Недавно врачи со страниц газет обратились к студентам с призывом продумать рацион, чтобы избежать опасной болезни. Врачей легко понять: ведь они не могут обратиться к торговцам мясными продуктами с бесполезной просьбой снизить цены.
Мы сидели на полу, попивая кофе. Уда замолчал, закрыв глаза и устало прислонился к ножке письменного стола…
— Пожалуй, я лягу спать, — произнес он сонным голосом. — А ты — постарайся больше не приходить в ту закусочную…
* * *
В большой круглой столовой университета два просторных этажа, и подают в них одни и те же блюда: рис, лапшу с мандаринами, котлеты и коричневый соевый суп. Правда, на втором этаже они стоят гораздо дороже, чем на первом. Наверху официантки улыбаются и вручают студентам тарелки и чашки, а внизу — хмуро суют их стоящим в очереди. На втором этаже — чистые столы и мягкие стулья, на первом стулья — жесткие, шаткие, а покрытые клеенкой столы, всегда грязны. Наверху обедают те студенты, чьи аккуратные автомобили стоят рядком у университетской ограды, а внизу торопливо съедают лапшу те, кто работает в выходные дни, кто худ, и чья тонкая одежда не согревает тело промозглой зимой. Высокие цены преграждают им путь на благонравный и тихий второй этаж…
Тягостно смотреть на пожилых людей, пришедших в дешевую студенческую столовую.
Среди гибких юношей с непокрытыми черными шевелюрами, склоняющимися над тарелками, легко можно было заметить кряжистый лысый затылок. Он чувствовал на себе удивленные взгляды присутствующих и потому был напряжен. Но дешевая еда стоит и унижения! Взгляд старого человека был безучастным, а короткие пальцы судорожно сжимали палочки для еды…
Сердце дрогнуло от тоски и боли… Но счастливы ли те, кто гордо восседает за столом на верхней веранде, словно забравшись на верхний этаж жизни?..
* * *
"Кастелянша Ониси будет уволена!" — разошелся по общежитию для иностранцев тревожный слух. Скрытная, всегда внимательная и напряженная, Ониси не была нашим другом, но ее все равно было жаль: как–то сложится теперь ее судьба?.. Да и за что могли уволить кастеляншу, такую серьезную и исполнительную? Должно быть, нашлись люди, кого прельстила ее бесплатная кукольная квартирка на первом этаже общежития: ведь жилье стоит так дорого!
Предположения оправдались: однажды в дверь к Ониси постучал чиновник университета и по–хозяйски осмотрел две крошечные комнаты. Отныне здесь будет жить он, а кастеляншей станет его жена.
После визита чиновника сдержанную красотку Ониси словно подменили.
— Мерзавец! — кричала она, выбегая в коридор и потрясая то рубашкой, то брюками, которые она укладывала в чемодан. — Мы еще посмотрим, кто из нас окажется счастливее! Пока ты будешь гнить в этом чертовом университете, мой муж откроет собственное дело!
Как и подобает настоящей японке, Ониси боготворила своего мужа. Хотя он всегда говорил ей "ты", она неизменно обращалась к нему только на "вы". Когда супруги выходили на улицу, он шагал впереди, а она робко семенила следом. Не раз, когда мы угощали мужа Ониси блинами с медом, он с достоинством откусывал кусочек, а остальное молча совал жене, и та покорно съедала блин, или незаметно отставляла тарелку подальше…
Мы редко видели мужа Ониси, потому что он уходил из дому рано утром, а возвращался глубокой ночью. Чем он занимался днем, никто не знал.
— А мой супруг вчера открыл лавочку! — с гордостью сообщила Ониси однажды утром, шелковой кисточкой обмахивая щёгольские мужские ботинки. — Теперь мы как–нибудь проживем! Нас прокормит маленькая закусочная в соседнем городке!..
Через несколько дней она, радостно напевая, протянула мне местную газетку:
"Ах, как очаровательна закусочная "Отдых души", которую содержит господин Ониси! — начиналась статья, помещенная на самом видном месте. — Даже соевый творог здесь стоит всего триста иен!.."
— Вы представляете, — воскликнула Ониси, — эта статья обошлась нам совершенно бесплатно, ее написал товарищ мужа!
Радость переполняла ее.
— Сообщу вам по секрету, что соевый творог мы продаем даже не за триста, а за двести иен, хотя это запрещено законом, потому что ниже допустимого минимума цен. Это мы делаем для начала, чтобы привлечь покупателей. А вообще пачка соевого творога стоит в магазине всего пятьдесят иен, в закусочных ее разрезают пополам и уже эту половинку продают за несколько сотен иен… Ведь должны же и мы на что–то жить!
Однажды Ониси вышла в коридор грустная и озабоченная. Глаза ее были полны тоски.
— Муж заболел от переутомления! У него всю ночь текла кровь из носа, — пожаловалась она. — Уже целый месяц он не знает ни суббот, ни воскресений: торговое дело не терпит отдыха. Ведь пока мы не можем нанять работника, и муж сам готовит еду, прислуживает гостям и моет посуду…
Через полчаса из комнаты вышел сам Ониси. Он был бледен, и под хмурыми глазами отчетливо выделялись синие пятна. Расслабленной походкой он подошел к маленькому автомобилю, стоящему во дворе, медленно открыл дверь, бросил свое тело на сиденье — и укатил в свою закусочную. Бизнес не может долго ждать! Был ли он счастлив?
— Что вы! — рассмеялась мадам Ониси. — На раздумья об этом у нас нет времени! Нам лишь бы прожить…
Через несколько дней к общежитию подъехал маленький грузовик, и в его кузов муж и жена Ониси сложили последние вещи. К машине подошли аккуратные обитатели соседних домиков и поклонились супругам. Те молча отвесили им на прощание ответный поклон и забрались в кабину; оттуда они в последний раз взглянули на свои прежние окна…
Их взгляд был спокойным и жестким. Такими же были и глаза провожавших, потому что каждый думал только о себе…
Опыт десятков ушедших поколений буржуа научил их быть готовыми ко всему.
* * *
Молодой токийский лавочник Хироси Симидзу решил сломать свой маленький магазин, в котором торговал пивом, а на его месте построить четырехэтажный дом: четыре низкие коробочки, поставленные друг на друга. В верхнем этаже он рассчитывал вновь открыть магазин, в нижнем собирался разместить семью, а два остальных предназначил для жильцов. У мелких предпринимателей редко водятся свободные деньги, и Хироси занял в банке большую сумму на строительство дома. Деньги возместят жильцы, которые станут снимать квартиры! — решил Хироси; но в стране уже который год бушевал ледяной ветер экономической депрессии, и никто не шел жить в его дом. Страшная тяжесть неоплатного долга навалилась тогда на плечи Хироси.
— Ах, как я устал! — сказал он жене однажды вечером, вышел на балкон своего чистого, еще пахнущего краской дома — и бросился вниз.
Капитализм не сулит счастья никому: сама основа его лишена гуманизма. Богатства природы и достижения современных наук, сила и ум множества людей уходят на то, чтобы еще больше упрочить власть нескольких десятков семей. Но богатство не доставляет душевного покоя, и их жизнь полна тревог и сомнений. Да есть ли у кого–нибудь счастье в этой растерзанной противоречиями капиталистической стране?
Воспитанные советским строем, мы давно знали это, и жизнь в капиталистической Японии лишь подтвердила и усилила наши убеждения.
* * *
В один из осенних дней ветер разнес по широким аллеям университетского парка тучу листовок, — маленьких, как конфетные бумажки. На каждой краснели иероглифы: "Японцы! прекратите загрязнять природу Южной Кореи!". Очевидно, листовки написал кто–то из южнокорейских студентов, обучающихся в университете.
Уже много лет раздаются голоса в защиту окружающей среды от засорения ее отходами химии. Вода и воздух Японии и соседних с нею небольших стран, где, как грибы, разрослись заводы японских фирм, отравлены и засорены настолько, что не счесть болезней, порожденных этим плачевным обстоятельством. Болезнь Минамата была одной из первых, и весть о ней облетела страницы газет двенадцать лет назад, взволновав все японское общество. Страшный недуг, разрушающий кости, расшатывающий нервы и резко ослабляющий зрение, был назван по имени городка Минамата, жители которого вынуждены были пить речную воду, отравленную отходами производства химической компании "Тиссо".
Сейчас слово "Минамата" вновь появилось нa газетных страницах, потому что недавно болезнь обнаружили в другой части света, среди индейцев Канады. Как видно, ни дьявольская неизлечимая болезнь, ни многолетние протесты людей не тронули сердец владельцев компании "Тиссо". Построив новые заводы в Канаде, они стали выпускать отравленную воду в индейские резервации: сострадание чуждо капитализму.
Традиционно японское искусство упаковывать, завертывать и завязывать товар. Продавцы заворачивают каждую покупку в несколько бумажек, а все продукты питания поблескивают на прилавках, запечатанные в мягкую прозрачную пленку. Недавно было установлено, что красивая пленка выделяет вредный газ, вызывающий раковые заболевания. Сигналом тревоги явились болезни и смерть рабочих на заводах, где производят поливинилхлорид, из которого изготавливается пленка. При исследовании выяснилось, что постоянному отравлению подвержены все живущие вблизи заводов. Возмущение охватило людей: демонстрации трудящихся гремят одна за другой, делегации неутомимо обивают пороги правительственных учреждений, — но заводы по–прежнему невозмутимо дымят, а владельцы гастрономов продолжают упаковывать продукты в ядовитую пленку — на вид ее не отличишь от безвредной, но более дорогой… Недавно депутация покупателей пригласила на встречу владельцев крупнейших магазинов, чтобы потребовать отказаться от использования вредной пленки. Явилась лишь одна треть приглашенных, да и те только пообещали внимательно рассмотреть пожелания покупателей.
Все привычное, доброе и надежное — вода, воздух, пища- отказывается служить людям и вместо желанного покоя и удовлетворения несет грозную опасность. Инфляция и страх потерять работу усиливают чувство безысходности, и кажется, что сама почва уходит из–под ног. Отчаяние и тоска охватывают душу. Бежать, бежать немедленно! Но куда?.. И как?..
* * *
Иллюзорное бегство от жизни начинается с наркотиков. Часто в токийских парках, на вокзалах и в узких переулках можно встретить группы неестественно возбужденных молодых ребят. В руках у них матово блестят прозрачные пакеты, на дне которых виднеется что–то темное. Это — наркотик. Ребята то и дело подносят пакеты ко рту и полной грудью вдыхают ядовитые испарения. Однажды я подошел к одному из них и спросил, зачем он это делает. Он обернулся, посмотрел бессмысленным взглядом мимо меня и залился истерическим смехом…
В последнее время наркомания все глубже проникает в жизнь японского общества. Недавно газеты писали о двадцатитрехлетнем молодом рабочем, который после несправедливого увольнения впервые попробовал наркотики и в невменяемом состоянии совершил за полтора часа двенадцать бессмысленных ограблений. Вскоре после того как его задержала полиция, бедняга умер.
Категорически запрещен въезд в страну для всех, кто когда–либо был замешан в скандалах, связанных с наркотиками. Японская полиция воспрепятствовала гастролям английского ансамбля "Роллинг стоунз", один из членов которого — наркоман, и не дала въездной визы певцу Полу Маккартни, бывшему "битлзу", потому что он раньше имел отношение к производству марихуаны. Все больше появляется и коротких пропагандистских фильмов, призывающих к отказу от наркотиков, — но усилия останутся бесплодными до тех пор, пока не исчезнет социальная база, не устранятся объективные условия, порождающие наркоманию.
…Днем тихи токийские улицы. В лавках томятся один–два покупателя, закусочные стоят полупустые, а в кинотеатрах почти никого нет. Но в залах, где стоят автоматы для игры в пачинко, победно играет музыка. Там всегда многолюдно: ведь пачинко — одно из популярнейших развлечений в Японии. Родившееся в Монте—Карло, стране азартных игр, оно на японских островах приобрело вторую родину. Когда входишь в зал для игры в пачинко, то кажется, что вся страна уселась в ряд на высоких стульях и зачарованно следит за падающими стальными шариками. Вот женщина с грудным ребенком за спиной; рядом — шумная компания школьников; невдалеке — пожилой рабочий, группа молчаливых студентов. Никто не смотрит по сторонам: как и в жизни, люди безразличны друг другу, и каждый играет сам с собой. Игра проста: покупаешь десяток шариков и бросаешь их один за другим в отверстие автомата. Проскакивая через хитроумные заграждения, шарик иногда застревает в лунке, и тогда вас ждет выигрыш — шоколадка, пачка дешевого печенья или новая партия шариков. Что же влечет сюда людей?
"После работы меня охватывает чувство одиночества. — пишет в газете "Майнити" известная актриса Дзюнко Миядзоно. — Я необщительна, и ноги сами несут меня в пачинко".
Пачинко завораживает, словно слабый наркотик. Оно как нельзя лучше отвечает самому духу капитализма. Можно отсыпать часть шариков в лунку, и получится сбережение. Можно одолжить часть шариков соседу, и получится дочернее предприятие. Каждый чувствует себя маленьким бизнесменом. Эта игра в жизнь, игра в капитализм — только везет здесь почаще, чем в реальной действительности. Неудачник может вкусить иллюзию победы, а измотанный на фирме клерк — сам немного побыть хозяином. Тем более, что нужно для этого так мало: всего сто иен.
Но подчас выдуманный побег от тягот жизни приобретает реальные черты. Отравление окружающей среды и инфляция, бешеный темп работы и холод людских отношений ассоциируется в сознании многих с дымящей громадой Токио.
В памяти горожан еще живет образ родной деревни и, как воспоминания детства, они ласкают и манят. Кажется, там по–прежнему спокойно и безопасно, а отношения людей исполнены добра и суровой простоты. Уверовав в грезы, все больше сейчас людей бросает опостылевшую работу, распродает небогатое свое добро — и уезжает в деревни и крошечные городки, откуда в старину переселились в Токио их предки.
Если этот путь поколений условно изобразить на бумаге, то получится линия, напоминающая английскую букву "Ю", и поэтому журналисты из газеты "Асахи" окрестили новое социальное явление "поворотом Ю". Как говорит статистика, больше семидесяти процентов тех, кто совершил полный надежды поворот, составляет молодежь в возрасте от двадцати до тридцати лет: ведь в капиталистическом городе ей приходится тяжелее всего.
Однако тоскливое разочарование подстерегает их и здесь. Оказывается, что на сельских фабриках давно уже заняты рабочие места, и пришельцы оказываются не у дел. Мало у кого остались родственники в деревнях, а подчас выясняется, что родство стало таким далеким, что крестьяне отказываются признавать родными незваных городских однофамильцев. Безработные, не нужные никому, пришельцы из города вдвойне испытывают давно знакомый мороз человеческих отношений. Разочарованные, духовно сломленные, молодые люди с горечью убеждаются, что бежать им некуда!
Однажды я встретил Уду в гастрономе. Стоя у витрины, он с недовольным видом разглядывал выставленные там мандарины, ярко–оранжевые и крупные.
— Знаешь ли ты, — спросил он, — что эти мандарины выращены с помощью химических ускорителей роста, и не содержат почти никаких витаминов? А лежащее на том прилавке неестественно–красное мясо разве не фальшиво? Ведь в пищу коровам и свиньям подмешивают гормональные препараты, и животные растут не по дням, а по часам, словно чудовища… Да и вся наша жизнь лицемерна и ненадежна и мало осталось в ней истинных человеческих ценностей!
Уда обреченно махнул рукой и пошел к кассе. Оранжевые мандарины по–прежнему сверкали на прилавке. На вид они были сладкими, сочными и нежными. Кто же мог знать, что они поддельны?..
Закусочная, приютившаяся на углу тихой улицы, была сумрачна и тесна. Под запыленным стеклом маленькой витрины блестели пластмассовые китайские пельмени, коричневый соевый суп с твердыми ракушками и длинная, тонкая лапша. На самой верхней стеклянной полке возлежала пузатая рыба в соусе. Рыба была дорогой, ее вряд ли заказывали часто, и она красовалась больше для придания солидности заведению…
Раздвинув шаткие двери, я пробрался между тесно расставленными стульями и сел за свободный стол.
Рядом сидел усталый человек лет двадцати и рассказывал что–то своему соседу. Тот рассеянно слушал, сонно прищурив глаза. Лишь отдельные слова долетали до слуха:
— Да вот, занимались "арбайто" (арбайт (немецк.) — работа.), недавно возвратились… Всего пятьдесят тысяч иен… За квартиру надо заплатить…
Оба собеседника, истинные японцы, не забывали поминутно кивать головами: говоривший — словно подтверждая этим правоту слов, а слушавший — в знак заранее готового согласия со всем, что будет сказано.
На головах приятелей красовались огромные голубые панамки, какие надевают на младенцев. Перед каждым стояла глубокая чашка, полная дымящейся лапши.
В закусочную то и дело входили новые посетители. С грохотом раздвигая стулья, к столам протискивались плотные здоровяки, а с другого края неслышно подсаживались хилые, измученные зубрежкой студенты. Казалось, присутствовавших объединяла лишь лапша, которую они ели. Кто–то заказывал ее с мандаринами, кто–то — с коричневой соевой жидкостью, а кто–то и с острым индийским соусом карри, но никто не останавливал свой выбор на мясе…
— Чего изволите? — раздался над ухом тихий, почтительный, но очень знакомый голос… Я поднял глаза и обомлел. Передо мной в угодливой позе стоял Уда, бог и гроза каратэистов. Сэмпая (сэмпай — бог) каратэ словно подменили: его мощные плечи опущены, в глазах не играет искра превосходства…
— Ты что же, бросил университет?..
— Наоборот, я работаю здесь для того, чтобы меня не выгнали из университета: ведь учеба стоит немалых денег. Во время каникул так подрабатывают многие студенты…
В темном углу маленького зала томилось от безделья несколько официантов. Одетые в дешевые длиннополые пиджаки и чистые белые рубашки, они ничем не отличались от Уды: такие же короткие, по–солдатски стриженые волосы, такой же потухший взгляд… Неожиданно громко щелкнула дверь, ведущая в кухню, и на середину вышла аккуратная девушка в черной юбке и громко объявила:
— Арбайто но Уда–сан! Дэнва дэс! Господин Уда, нанятый временно, вас вызывают к телефону…
Лицо девушки было холодным и неприступным. Казалось, откажись Уда повиноваться ей, и она превратит его в лед…
Уда напряженно поклонился, тихо произнес: "Прошу прощения!" — и убежал…
Слова секретарши звучали странно–унизительно: в самом деле, стоило ли подчеркивать, что Уда — лишь временный гость в недружной компании официантов?..
Вскоре Уда возвратился, держа в руках маленький поднос, полный чашек с новой лапшой. Осторожно пробираясь между столами, он снимал чашки с подноса и ставил перед гостями, слегка кланяясь.
— Спасибо, бой–сан (бой–сан — господин мальчик), — уважительно говорили ему люди.
Его походка была угодливой и торопливой, а глаза прищурены — и это придавало лицу такое выражение, словно он удивлялся тому, что никто здесь не знает, как грозен он на самом деле…
Поднос тускло блеснул, опустев, и Уда прижал его к груди.
— Рабочий день кончился, — шепнул он, проходя мимо, — не хочешь ли зайти ко мне в гости?..
Я ждал Уду у закусочной. На душе не было радости: Томили смущение и чувство неловкости. Скрипнула дверь, и на жаркую улицу выбежал Уда в неизменных бархатных брючках и майке с номером на спине. Лицо его было усталым.
— Сегодня мы с тобой вступили в новые отношения заказчика и слуги, — усмехнулся он. — Но ведь никому не стыдно зарабатывать деньги: жизнь есть жизнь… Знакомо ли тебе слово "арбайто"? Пришедшее из немецкого языка, где оно обозначало любую работу, слово приобрело у нас иной смысл: временный заработок. Чаще всего его стремятся получить студенты, и поэтому слово "арбайто" стало символом студенческой жизни.
— Что греха таить, — продолжал Уда, — хозяева охотно принимают нас на временную работу. — Нам не положены ни пособия при несчастных случаях, ни дополнительные выплаты при увольнении, ни бонусы — денежные наградные, которые выдают на фирмах раз в полгода, ни пенсии…
Уда замедлил шаг и низко поклонился маленькому старичку, шедшему навстречу. Тот ласково кивнул в ответ.
— Научно–технический прогресс не затронул традиционных общественных устоев, — продолжал Уда. — Поступив в японскую фирму, человек не просто нанимается на работу. Обычай на всю жизнь привязывает его к ней, как некогда бывало с самураем, влившимся в клан феодального князя… Как бы мала — или велика — ни была фирма, она безраздельно присваивает будущую судьбу новичка. Если он изменит ей или захочет перейти на другую работу, его сочтут чужаком и ненадежным человеком, оттолкнувшим пригревшую его руку. Только в своей первоначальной фирме человек может рассчитывать на продвижение. Поэтому так усердны наши чиновники…
Предприниматели легко соглашаются нанимать искателей "арбайто" еще по одной причине. Например, если я проработаю в этой закусочной до седых волос, я так и останусь в ней чужим: каинова печать пришельца, однажды нанятого временно, всю жизнь будет жечь меня… Впрочем, я и не смогу задерживаться в закусочной надолго. При малейшем изменении рыночной конъюнктуры хозяин просто не откроет мне дверь, и я никуда не смогу пожаловаться на несправедливое увольнение: ведь меня брали лишь на время…
Рабочие, служащие и студенты, ищущие желанное "арбайто". — это спасительный балласт капиталистической экономики, и когда начинается буря, их безжалостно выбрасывают за борт!..
Уда тяжело вздохнул и посмотрел по сторонам. Извилистая песчаная дорожка, по которой мы шли, сверкала зеленью изгородей. Сквозь жесткие глянцевые листья виднелись, белея квадратами, маленькие дома. Стены их были тонки, двери сделаны из картона, а окна из бумаги, — но, казалось, они были тверже стали, наглухо скрывая от мира тревоги и печали людей, живших за их шатким заслоном…
Навстречу нам шагала толпа студентов, юношей и девушек, сжимавших в руках газетки. "Вестник арбайто", — было напечатано на них. Ребята спешили на электрички. В толпе молодых людей торопливо семенила старушка, старательно кивая седой головой. Бедняжка! Она тоже искала "арбайто"!..
За поворотом показался дом, где жил Уда. Низкий и сильно вытянутый, он напоминал казарму.
— Почему многие здешние дома так похожи на бараки?
— Да потому, что земля слишком дорога. Ведь по закону домовладелец обязан купить и часть площади вокруг здания. Обычно несколько хозяев соединяют свои одноэтажные дома и сообща покупают один участок земли: каждый ловчит как умеет, ведь жизнь немилосердна…
Мы вошли в темную прихожую, по скрипучей лестнице поднялись на второй этаж и остановились у дверей.
Уда достал из кармана медный ключ. Замок щелкнул.
И замок, и ключ казались ненужными: тонкую фанерную дверь мог без труда разбить любой злоумышленник. Но дверь была цела: охотников попасть в комнату Уды пока не находилось…
В игрушечной прихожей размером в полметра можно было снять обувь только одному человеку. В дверь мы входили поочередно, потому что вдвоем просто не уместились бы в прихожей.
Пол, сплетенный из тугой соломы, упруго вибрировал, когда ступали на него. Все помещение комнаты можно было пересечь двумя небольшими шагами. У двери тускло поблескивала раковина из серого цинка, рядом была привинчена к стене другая, пониже, предназначавшаяся для мытья ног и стирки. У подрагивающего от ветра бумажного окна стоял низкий письменный стол. Рядом примостился железный стул, на спинке которого висели смятые брюки.
На полу оставалось небольшое свободное пространство. Наверное, его занимал сам хозяин, когда спал ночью, расстелив матрац.
— А это электрическая батарея для обогревания воздуха! — указал Уда на маленький железный предмет в углу. — Рано утром, едва взойдет солнце, я машинально просыпаюсь на секунду и выключаю электроприбор: ведь тепло стоит немалых денег… А вообще я плачу за комнату по 40 тысяч иен в месяц. Сколько это выходит в пересчете на ваши деньги?
— Около ста рублей…
— Почти столько же приходится тратить на учебу в университете… А на остальное остаются гроши… Ты помнишь секретаршу хозяина в закусочной, которая вызывала меня к телефону? — улыбнулся Уда. — Ее лицо было настороженным и холодным, не правда ли? Капитализм рождает множество характерных выражений лиц. Среди них и самодовольная, тупая физиономия полицейского, хитрые, горящие затаенным блеском глаза дельцов, нередки и открытые, искренне улыбающиеся лица… Существует сила, которая вмиг делает серьезными смеющиеся лица, а глаза — расчетливыми и сухими. Это — деньги. Отнять, выманить, украсть их как можно больше — вот конечная цель жизни, которую навязывает нам само общество! — Уда глубоко вздохнул:
— Тяжело жить на скудные студенческие средства. Но труднее всего удержаться в зыбком море ежедневных расходов… Для того чтобы сберечь последние серебряные монеты, студенты в свободное время стараются не выходить из дому. Скорчившись на соломенных полах тесных комнат, они подолгу смотрят маленькие дешевые телепередачи или читают книги. Иностранцы часто спрашивают о том, как проводят досуг японские студенты.
Каждый по–своему: богатые играют в гольф и теннис, веселятся в ночных клубах, летают на заграничные курорты на очаровательных тропических островках Тихого океана. А остальные просто сидят дома…
Уда достал из ящика письменного стола две белые чашки, насыпал в них кофейного порошка, добавил сухих сливок и налил кипятка из термоса…
— У многих ребят этим ограничивается весь ужин! — грустно усмехнулся Уда. — Ведь еда — самое дорогое. Верный способ сохранить деньги — это сэкономить их на еде… Заметил ли ты, что заказывали сегодня студенты в закусочной? Одну лапшу, потому что мясо им не по карману. Вот почему происходит сейчас удивительное, страшное и позорное явление, о котором так мало пишут газеты: вновь возродилась средневековая болезнь "бери–бери", которая возникает от недостатка витамина B1. В старину ею болели матросы, которые подолгу плавали на утлых парусных кораблях, и голодные крестьяне. И те и другие не видели ни мяса, ни яиц. После мрачного всплеска в послевоенные годы эта болезнь — символ голода и нищеты — исчезла, но в наши дни появилась снова, на сей раз у студентов. "Бери–бери" сейчас — одна из грустных примет студенческой жизни… Недавно врачи со страниц газет обратились к студентам с призывом продумать рацион, чтобы избежать опасной болезни. Врачей легко понять: ведь они не могут обратиться к торговцам мясными продуктами с бесполезной просьбой снизить цены.
Мы сидели на полу, попивая кофе. Уда замолчал, закрыв глаза и устало прислонился к ножке письменного стола…
— Пожалуй, я лягу спать, — произнес он сонным голосом. — А ты — постарайся больше не приходить в ту закусочную…
* * *
В большой круглой столовой университета два просторных этажа, и подают в них одни и те же блюда: рис, лапшу с мандаринами, котлеты и коричневый соевый суп. Правда, на втором этаже они стоят гораздо дороже, чем на первом. Наверху официантки улыбаются и вручают студентам тарелки и чашки, а внизу — хмуро суют их стоящим в очереди. На втором этаже — чистые столы и мягкие стулья, на первом стулья — жесткие, шаткие, а покрытые клеенкой столы, всегда грязны. Наверху обедают те студенты, чьи аккуратные автомобили стоят рядком у университетской ограды, а внизу торопливо съедают лапшу те, кто работает в выходные дни, кто худ, и чья тонкая одежда не согревает тело промозглой зимой. Высокие цены преграждают им путь на благонравный и тихий второй этаж…
Тягостно смотреть на пожилых людей, пришедших в дешевую студенческую столовую.
Среди гибких юношей с непокрытыми черными шевелюрами, склоняющимися над тарелками, легко можно было заметить кряжистый лысый затылок. Он чувствовал на себе удивленные взгляды присутствующих и потому был напряжен. Но дешевая еда стоит и унижения! Взгляд старого человека был безучастным, а короткие пальцы судорожно сжимали палочки для еды…
Сердце дрогнуло от тоски и боли… Но счастливы ли те, кто гордо восседает за столом на верхней веранде, словно забравшись на верхний этаж жизни?..
* * *
"Кастелянша Ониси будет уволена!" — разошелся по общежитию для иностранцев тревожный слух. Скрытная, всегда внимательная и напряженная, Ониси не была нашим другом, но ее все равно было жаль: как–то сложится теперь ее судьба?.. Да и за что могли уволить кастеляншу, такую серьезную и исполнительную? Должно быть, нашлись люди, кого прельстила ее бесплатная кукольная квартирка на первом этаже общежития: ведь жилье стоит так дорого!
Предположения оправдались: однажды в дверь к Ониси постучал чиновник университета и по–хозяйски осмотрел две крошечные комнаты. Отныне здесь будет жить он, а кастеляншей станет его жена.
После визита чиновника сдержанную красотку Ониси словно подменили.
— Мерзавец! — кричала она, выбегая в коридор и потрясая то рубашкой, то брюками, которые она укладывала в чемодан. — Мы еще посмотрим, кто из нас окажется счастливее! Пока ты будешь гнить в этом чертовом университете, мой муж откроет собственное дело!
Как и подобает настоящей японке, Ониси боготворила своего мужа. Хотя он всегда говорил ей "ты", она неизменно обращалась к нему только на "вы". Когда супруги выходили на улицу, он шагал впереди, а она робко семенила следом. Не раз, когда мы угощали мужа Ониси блинами с медом, он с достоинством откусывал кусочек, а остальное молча совал жене, и та покорно съедала блин, или незаметно отставляла тарелку подальше…
Мы редко видели мужа Ониси, потому что он уходил из дому рано утром, а возвращался глубокой ночью. Чем он занимался днем, никто не знал.
— А мой супруг вчера открыл лавочку! — с гордостью сообщила Ониси однажды утром, шелковой кисточкой обмахивая щёгольские мужские ботинки. — Теперь мы как–нибудь проживем! Нас прокормит маленькая закусочная в соседнем городке!..
Через несколько дней она, радостно напевая, протянула мне местную газетку:
"Ах, как очаровательна закусочная "Отдых души", которую содержит господин Ониси! — начиналась статья, помещенная на самом видном месте. — Даже соевый творог здесь стоит всего триста иен!.."
— Вы представляете, — воскликнула Ониси, — эта статья обошлась нам совершенно бесплатно, ее написал товарищ мужа!
Радость переполняла ее.
— Сообщу вам по секрету, что соевый творог мы продаем даже не за триста, а за двести иен, хотя это запрещено законом, потому что ниже допустимого минимума цен. Это мы делаем для начала, чтобы привлечь покупателей. А вообще пачка соевого творога стоит в магазине всего пятьдесят иен, в закусочных ее разрезают пополам и уже эту половинку продают за несколько сотен иен… Ведь должны же и мы на что–то жить!
Однажды Ониси вышла в коридор грустная и озабоченная. Глаза ее были полны тоски.
— Муж заболел от переутомления! У него всю ночь текла кровь из носа, — пожаловалась она. — Уже целый месяц он не знает ни суббот, ни воскресений: торговое дело не терпит отдыха. Ведь пока мы не можем нанять работника, и муж сам готовит еду, прислуживает гостям и моет посуду…
Через полчаса из комнаты вышел сам Ониси. Он был бледен, и под хмурыми глазами отчетливо выделялись синие пятна. Расслабленной походкой он подошел к маленькому автомобилю, стоящему во дворе, медленно открыл дверь, бросил свое тело на сиденье — и укатил в свою закусочную. Бизнес не может долго ждать! Был ли он счастлив?
— Что вы! — рассмеялась мадам Ониси. — На раздумья об этом у нас нет времени! Нам лишь бы прожить…
Через несколько дней к общежитию подъехал маленький грузовик, и в его кузов муж и жена Ониси сложили последние вещи. К машине подошли аккуратные обитатели соседних домиков и поклонились супругам. Те молча отвесили им на прощание ответный поклон и забрались в кабину; оттуда они в последний раз взглянули на свои прежние окна…
Их взгляд был спокойным и жестким. Такими же были и глаза провожавших, потому что каждый думал только о себе…
Опыт десятков ушедших поколений буржуа научил их быть готовыми ко всему.
* * *
Молодой токийский лавочник Хироси Симидзу решил сломать свой маленький магазин, в котором торговал пивом, а на его месте построить четырехэтажный дом: четыре низкие коробочки, поставленные друг на друга. В верхнем этаже он рассчитывал вновь открыть магазин, в нижнем собирался разместить семью, а два остальных предназначил для жильцов. У мелких предпринимателей редко водятся свободные деньги, и Хироси занял в банке большую сумму на строительство дома. Деньги возместят жильцы, которые станут снимать квартиры! — решил Хироси; но в стране уже который год бушевал ледяной ветер экономической депрессии, и никто не шел жить в его дом. Страшная тяжесть неоплатного долга навалилась тогда на плечи Хироси.
— Ах, как я устал! — сказал он жене однажды вечером, вышел на балкон своего чистого, еще пахнущего краской дома — и бросился вниз.
Капитализм не сулит счастья никому: сама основа его лишена гуманизма. Богатства природы и достижения современных наук, сила и ум множества людей уходят на то, чтобы еще больше упрочить власть нескольких десятков семей. Но богатство не доставляет душевного покоя, и их жизнь полна тревог и сомнений. Да есть ли у кого–нибудь счастье в этой растерзанной противоречиями капиталистической стране?
Воспитанные советским строем, мы давно знали это, и жизнь в капиталистической Японии лишь подтвердила и усилила наши убеждения.
* * *
В один из осенних дней ветер разнес по широким аллеям университетского парка тучу листовок, — маленьких, как конфетные бумажки. На каждой краснели иероглифы: "Японцы! прекратите загрязнять природу Южной Кореи!". Очевидно, листовки написал кто–то из южнокорейских студентов, обучающихся в университете.
Уже много лет раздаются голоса в защиту окружающей среды от засорения ее отходами химии. Вода и воздух Японии и соседних с нею небольших стран, где, как грибы, разрослись заводы японских фирм, отравлены и засорены настолько, что не счесть болезней, порожденных этим плачевным обстоятельством. Болезнь Минамата была одной из первых, и весть о ней облетела страницы газет двенадцать лет назад, взволновав все японское общество. Страшный недуг, разрушающий кости, расшатывающий нервы и резко ослабляющий зрение, был назван по имени городка Минамата, жители которого вынуждены были пить речную воду, отравленную отходами производства химической компании "Тиссо".
Сейчас слово "Минамата" вновь появилось нa газетных страницах, потому что недавно болезнь обнаружили в другой части света, среди индейцев Канады. Как видно, ни дьявольская неизлечимая болезнь, ни многолетние протесты людей не тронули сердец владельцев компании "Тиссо". Построив новые заводы в Канаде, они стали выпускать отравленную воду в индейские резервации: сострадание чуждо капитализму.
Традиционно японское искусство упаковывать, завертывать и завязывать товар. Продавцы заворачивают каждую покупку в несколько бумажек, а все продукты питания поблескивают на прилавках, запечатанные в мягкую прозрачную пленку. Недавно было установлено, что красивая пленка выделяет вредный газ, вызывающий раковые заболевания. Сигналом тревоги явились болезни и смерть рабочих на заводах, где производят поливинилхлорид, из которого изготавливается пленка. При исследовании выяснилось, что постоянному отравлению подвержены все живущие вблизи заводов. Возмущение охватило людей: демонстрации трудящихся гремят одна за другой, делегации неутомимо обивают пороги правительственных учреждений, — но заводы по–прежнему невозмутимо дымят, а владельцы гастрономов продолжают упаковывать продукты в ядовитую пленку — на вид ее не отличишь от безвредной, но более дорогой… Недавно депутация покупателей пригласила на встречу владельцев крупнейших магазинов, чтобы потребовать отказаться от использования вредной пленки. Явилась лишь одна треть приглашенных, да и те только пообещали внимательно рассмотреть пожелания покупателей.
Все привычное, доброе и надежное — вода, воздух, пища- отказывается служить людям и вместо желанного покоя и удовлетворения несет грозную опасность. Инфляция и страх потерять работу усиливают чувство безысходности, и кажется, что сама почва уходит из–под ног. Отчаяние и тоска охватывают душу. Бежать, бежать немедленно! Но куда?.. И как?..
* * *
Иллюзорное бегство от жизни начинается с наркотиков. Часто в токийских парках, на вокзалах и в узких переулках можно встретить группы неестественно возбужденных молодых ребят. В руках у них матово блестят прозрачные пакеты, на дне которых виднеется что–то темное. Это — наркотик. Ребята то и дело подносят пакеты ко рту и полной грудью вдыхают ядовитые испарения. Однажды я подошел к одному из них и спросил, зачем он это делает. Он обернулся, посмотрел бессмысленным взглядом мимо меня и залился истерическим смехом…
В последнее время наркомания все глубже проникает в жизнь японского общества. Недавно газеты писали о двадцатитрехлетнем молодом рабочем, который после несправедливого увольнения впервые попробовал наркотики и в невменяемом состоянии совершил за полтора часа двенадцать бессмысленных ограблений. Вскоре после того как его задержала полиция, бедняга умер.
Категорически запрещен въезд в страну для всех, кто когда–либо был замешан в скандалах, связанных с наркотиками. Японская полиция воспрепятствовала гастролям английского ансамбля "Роллинг стоунз", один из членов которого — наркоман, и не дала въездной визы певцу Полу Маккартни, бывшему "битлзу", потому что он раньше имел отношение к производству марихуаны. Все больше появляется и коротких пропагандистских фильмов, призывающих к отказу от наркотиков, — но усилия останутся бесплодными до тех пор, пока не исчезнет социальная база, не устранятся объективные условия, порождающие наркоманию.
…Днем тихи токийские улицы. В лавках томятся один–два покупателя, закусочные стоят полупустые, а в кинотеатрах почти никого нет. Но в залах, где стоят автоматы для игры в пачинко, победно играет музыка. Там всегда многолюдно: ведь пачинко — одно из популярнейших развлечений в Японии. Родившееся в Монте—Карло, стране азартных игр, оно на японских островах приобрело вторую родину. Когда входишь в зал для игры в пачинко, то кажется, что вся страна уселась в ряд на высоких стульях и зачарованно следит за падающими стальными шариками. Вот женщина с грудным ребенком за спиной; рядом — шумная компания школьников; невдалеке — пожилой рабочий, группа молчаливых студентов. Никто не смотрит по сторонам: как и в жизни, люди безразличны друг другу, и каждый играет сам с собой. Игра проста: покупаешь десяток шариков и бросаешь их один за другим в отверстие автомата. Проскакивая через хитроумные заграждения, шарик иногда застревает в лунке, и тогда вас ждет выигрыш — шоколадка, пачка дешевого печенья или новая партия шариков. Что же влечет сюда людей?
"После работы меня охватывает чувство одиночества. — пишет в газете "Майнити" известная актриса Дзюнко Миядзоно. — Я необщительна, и ноги сами несут меня в пачинко".
Пачинко завораживает, словно слабый наркотик. Оно как нельзя лучше отвечает самому духу капитализма. Можно отсыпать часть шариков в лунку, и получится сбережение. Можно одолжить часть шариков соседу, и получится дочернее предприятие. Каждый чувствует себя маленьким бизнесменом. Эта игра в жизнь, игра в капитализм — только везет здесь почаще, чем в реальной действительности. Неудачник может вкусить иллюзию победы, а измотанный на фирме клерк — сам немного побыть хозяином. Тем более, что нужно для этого так мало: всего сто иен.
Но подчас выдуманный побег от тягот жизни приобретает реальные черты. Отравление окружающей среды и инфляция, бешеный темп работы и холод людских отношений ассоциируется в сознании многих с дымящей громадой Токио.
В памяти горожан еще живет образ родной деревни и, как воспоминания детства, они ласкают и манят. Кажется, там по–прежнему спокойно и безопасно, а отношения людей исполнены добра и суровой простоты. Уверовав в грезы, все больше сейчас людей бросает опостылевшую работу, распродает небогатое свое добро — и уезжает в деревни и крошечные городки, откуда в старину переселились в Токио их предки.
Если этот путь поколений условно изобразить на бумаге, то получится линия, напоминающая английскую букву "Ю", и поэтому журналисты из газеты "Асахи" окрестили новое социальное явление "поворотом Ю". Как говорит статистика, больше семидесяти процентов тех, кто совершил полный надежды поворот, составляет молодежь в возрасте от двадцати до тридцати лет: ведь в капиталистическом городе ей приходится тяжелее всего.
Однако тоскливое разочарование подстерегает их и здесь. Оказывается, что на сельских фабриках давно уже заняты рабочие места, и пришельцы оказываются не у дел. Мало у кого остались родственники в деревнях, а подчас выясняется, что родство стало таким далеким, что крестьяне отказываются признавать родными незваных городских однофамильцев. Безработные, не нужные никому, пришельцы из города вдвойне испытывают давно знакомый мороз человеческих отношений. Разочарованные, духовно сломленные, молодые люди с горечью убеждаются, что бежать им некуда!
Однажды я встретил Уду в гастрономе. Стоя у витрины, он с недовольным видом разглядывал выставленные там мандарины, ярко–оранжевые и крупные.
— Знаешь ли ты, — спросил он, — что эти мандарины выращены с помощью химических ускорителей роста, и не содержат почти никаких витаминов? А лежащее на том прилавке неестественно–красное мясо разве не фальшиво? Ведь в пищу коровам и свиньям подмешивают гормональные препараты, и животные растут не по дням, а по часам, словно чудовища… Да и вся наша жизнь лицемерна и ненадежна и мало осталось в ней истинных человеческих ценностей!
Уда обреченно махнул рукой и пошел к кассе. Оранжевые мандарины по–прежнему сверкали на прилавке. На вид они были сладкими, сочными и нежными. Кто же мог знать, что они поддельны?..
Последние комментарии
14 часов 25 минут назад
23 часов 16 минут назад
23 часов 19 минут назад
3 дней 5 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 11 часов назад