20 000 лет подо льдом [Мор Йокаи] (fb2) читать онлайн
- 20 000 лет подо льдом (пер. Любовь Алексеевна Мурахина-Аксенова) (и.с. polaris: Путешествия, приключения, фантастика-303) 1.57 Мб, 143с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Мор Йокаи
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Мор Йокаи 20 000 ЛЕТ ПОДО ЛЬДОМ Роман Забытая палеонтологическая фантастика Т. XXIII



 I
Покинутый матрос
I
Покинутый матрос
В честь наших знаменитых путешественников к Северному полюсу было дано в обеих столицах нашего соединенного государства Австро-Венгрии несколько торжественных пиров.
На последнем из них один из чествуемых, под влиянием разверзающего сердце и уста виноградного сока, сознался, что на оставленном в полярных льдах корабле «Тегетгоф» был нечаянно покинут матрос по имени Пьетро Галиба, родом венгерец.
Дело произошло следующим образом.
Пожелав поскорее утишить боль в отмороженных руках и ногах, Пьетро Галиба так обильно натер их наркотическим бальзамом нашего славного соотечественника доктора Кепнеса, что заснул, должно быть, как камень в каком-нибудь углу корабля.
К несчастью, на следующее утро корабль уже двинулся в обратный путь, и при перекличке никто не обратил внимания на то, что одним человеком отозвалось меньше.
Недостающего человека хватились лишь на шестой день, и то только благодаря следующему обстоятельству.
У начальника экспедиции был запас колбасы длиною ровно в метр. Эту колбасу делили между матросами таким образом, что каждому из них позволялось откусить по куску от нее. Откусить сразу более четырех сантиметров никто не смел; поэтому, при известном числе матросов, одной колбасы должно было хватить без остатка на всех. Так всегда и было на «Тегетгофе»; но, когда пересели на лодки, капитан стал замечать, что от колбасы каждый раз оставался кусок в четыре сантиметра. Вот этот-то плюс колбасы и привел к открытию минуса человека.
После продолжительного совещания об этом обстоятельстве, пришли к заключению, что возвращаться назад из-за забытого матроса будет совершенно бесполезно. Ведь в течение пяти суток он неминуемо должен был уже умереть от голода и жажды, так как на корабле не было оставлено никаких припасов.

Решили объявить Пьетро Галибу умершим и назначить его вдове пенсию. Так и было сделано по возвращении в отечество. Вдова бедного матроса, сделавшегося жертвой злоупотребления наркотическим веществом, так обрадовалась пенсии, что даже не полюбопытствовала узнать, когда именно, отчего и как умер ее муж. Тем бы, казалось, и делу конец, но… Впрочем, это до следующей главы.
II Таинственные рукописи
Всем известно, что дикие гуси имеют удивительную страсть к путешествиям. Эти пернатые существа шныряют буквально по всему свету, не исключая и обоих полюсов, с чисто гусиным упорством преодолевая всевозможные препятствия.
Недель шесть тому назад один буканиец, в квебекской провинции, застрелил дикого гуся. Принявшись ощипывать свою добычу, он очень изумился, заметив, что все хвостовые перья птицы были с двойными стволами. Он снял верхний ствол и увидал в нем тонкую, свернутую трубочкой пленку грязновато-коричневого цвета. Убежденный, что имеет дело с гусем особого рода, добросовестный буканиец снес его в Квебек и подарил живущему там знаменитому естествоиспытателю, доктору Смоллису. Наш славный ученый тотчас же понял, что этот гусь играл роль почтальона и что пленки, находившиеся в верхних, свободно насаженных стволах хвостовых перьев, представляют собою тоненькие листочки коллодиума, покрытые сильно уменьшенными фотографическими снимками с какой-то рукописи. Не теряя даром времени, доктор Смоллис немедленно же воспроизвел эти снимки на белой бумаге, для чего послужил ему солнечный микроскоп, увеличивающий в две тысячи раз. Но кто опишет отчаяние почтенного ученого, когда он открыл, что рукописи были написаны на языке, не похожем ни на один из известных ему языков цивилизованных народов! Первые строчки изображали собою следующее: «Питилитиетелететрополото Гаталаталитилитибаталас» и т. д…. Это могло быть написано, вероятно, на языке индийцев: только в Восточной Индии и употребительны такие непомерно длинные слова! Лишь с большим трудом удалось доктору Смоллису найти человека, который, за сравнительно громадную плату, взялся переписать непонятную рукопись. Эту копию знаменитый ученый скопировал, в свою очередь, и послал один экземпляр ученому обществу в Калькутте, а другой — обществу языкознания в Рио-де-Жанейро. Но оба эти общества не добились никакого толка от этих бумаг, а потому послали их на рассмотрение академии в Иедо и в Пекин. Тут тоже долго возились с загадочными рукописями, но тоже безуспешно. Одни из глубоко ученых языковедов уверяли, что они написаны по-санскритски, а другие утверждали, что это какое-нибудь иное, еще не известное наречие. Как бы то ни было, но никто не понял ровно ничего из этих бумаг. Тогда их отправили в Санкт-Петербургскую академию. Та решила, что это язык бисбариба и передала рукописи в Гельсингфорскую академию, откуда они, в силу родства финского языка с венгерским, и были препровождены в Будапешт, в Венгерскую академию наук. Там они будто бы пролежали три года. То есть они пролежали всего месяц, но, для придания этому делу большей важности, после говорили, что, мол, с этими рукописями возились лучшие светила венгерской науки ровно три года! Наконец, желая покончить со спорными документами, послали их в классы языковедении. Оттуда они и попали в наши руки. Достаточно налюбовавшись на них, мы выставили их в редакции нашей газеты, рассчитывая на то, что, может быть, кто-нибудь из публики и поймет язык, на котором они составлены. Однако, сколько ни являлось языковедов, даже таких, которые свободно разбирали и понимали и рунные письмена, и клинообразные каракули, — никто не мог понять того таинственного языка! Но вот однажды полюбопытствовал взглянуть на эту тарабарщину, причинившую почти всем ученым мира столько головоломки, наш Стефан, игравший в редакции роль человека на все руки: он и сапоги нам чистил, и мелкие поручения наши исполнял, и заведовал отоплением и освещением редакции, готовил нам выпивку и закуску, а в свободное время успевал и репортерством заниматься. Этот самый Стефан, как взглянул на рукописи, так и захохотал во все свое здоровое горло. — Эх, господа ученые! — сказал он, когда хохот у него поулегся. — А ведь это написано на птичьем языке! — Как на птичьем языке?! — изумились мы. — Да разве существует такой язык? И ты понимаешь его? — Конечно, существует, если на нем написано, и, стало быть, я понимаю его, если могу перевести вам эту рукопись, — с сознанием своего превосходства над нами объявил Стефан. Он перевел нам интересную рукопись построчно. Автором этой замечательной рукописи оказался оставленный на Северном полюсе Пьетро Галиба. Почему ему пришла фантазия написать свои интересные записки не на человеческом языке — это осталось его тайной. Обработав перевод Стефана настолько, чтобы сделать его годным к печати, мы теперь имеем честь и удовольствие поделиться <им> со своими читателями.
III Укрощение белых медведей
Проснувшись, — пишет Пьетро Галиба, — я увидал, что нахожусь один на корабле. Я звал своих товарищей, доктора, капитана, но никто не отвечал мне. Нет более сомнения — я покинут один на Северном полюсе! В глубоком отчаянии я бродил по всему кораблю, обшаривая все его углы и закоулки — нигде ни одного сухаря, ни одной жестянки с мясными консервами, даже ни одной капли вина. Я подвергался двойной опасности: умереть от недостатка пищи и получить цингу за неимением вина, стало быть — опять-таки смерть. Кроме того, они изволили забрать с собою и все огнестрельное оружие, которым я мог бы защищаться против диких зверей и добыть себе пропитание. Положим, остались пушки; но не могу же я стрелять в медведей из пушек! Однако оно, пожалуй, и недурно, что пушки остались, я выстрелю из них всех по очереди. Может быть, мои товарищи еще не успели отплыть далеко, то есть не настолько далеко, чтобы не услыхать пушечного выстрела. Ведь в этой местности звук разносится гораздо дальше, чем там… Быть может, услышат мою пальбу и возвратятся за мною. Занятый этой заманчивой мечтой, я вошел в пушечное отделение. Но там ожидал меня такой сюрприз, что мое почтение! Когда я отворил дверь, меня встретил громадный медведь. Полагаю, что он проник на корабль сквозь бойницу… Это была великолепная белая медведица, с которой я уже раньше имел честь познакомиться. Неделю тому назад я убил ее детеныша. В то мгновение, когда моя пуля уложила медвежонка, горящий пыж от заряда упал на спину матери и прожег там, в белой шкуре, дыру. По этому клейму я и узнал ее. Я съел сыночка этой неуклюжей четырехлапчатой дамы; теперь она съест меня. Это очень естественно, но, тем не менее, очень скверно! Я был совершенно беззащитен и безоружен. Не помня себя, я кинулся в находившийся против меня физический кабинет и поспешно заложил за собой дверь всем, что только попадалось мне под руку. Но этим путем мудрено было спастись. Медведица одним взмахом своей могучей лапы разобьет дверь, и тогда я погиб. Да, я погиб; неоткуда мне ждать спасения! Ну, пусть так!.. Однако, постараюсь хоть облегчить предстоящую мне мучительную смерть. Но каким образом?.. А вот как: попробую применить то самое средство, которым доктора усыпляют своих пациентов перед болезненной операцией. Благо, это средство тут… Да, я буду вдыхать хлороформ. Запаса здесь хватит на целую армию… Только что я успел пропитать большую губку этим опасным усыпительным снадобьем, как медведица уже изволила продавить верхнюю доску двери, просунуть в образовавшееся таким образом отверстие громадную голову и оскалить зубы по направлению ко мне.
«Э! — подумал я. — Зачем же я-то стану вбирать в себя эту гадость?.. Лучше я угощу ею госпожу медведицу!» Сказано — сделано. Губка полетела прямо в нос лохматому чудовищу. В то же мгновение медведица лишилась чувств, замерев в крайне неудобном положении: голова и передние лапы находились по эту сторону двери, а остальное туловище с задними лапами обреталось на той стороне. Она точно заснула и видела интересные сны, судя по улыбающемуся выражению ее морды и по движениям лап, которыми она как будто гладила кого-то. — Вот видишь! — проговорил я, подойдя к ней в упор. — Я мог бы теперь преспокойно перерезать тебе горло, стянуть с тебя шкуру и заготовить впрок твое мясо, которого хватило бы мне месяца на два. Но я этого не сделаю. Не сделаю, потому что я венгерец. Я крепко сижу здесь, хотя и не приведен сюда нашим родоначальником Арпадом, и мы с тобою поневоле стали земляками. Оба мы живем на земле Франца-Иосифа, и потому должны дружить… Ведь если я теперь съем тебя, то явится сюда вся твоя шайка, а так как я составляю меньшинство, то и меня живо съедят. А это будет очень скверно!.. Вот поэтому мы с тобою лучше войдем в мирное соглашение. Ты меня не трогай, а я тебя не трону, и мы совместно поищем третьего, которым оба и насытимся. Поняла? Знаменитый укротитель лошадей Рарей обладал секретом, после него ставшим достоянием всех и каждого. Он умел превращать в какие-нибудь десять минут самую дикую лошадь в кроткую, послушную овечку. Весь секрет состоял в том, что он давал животному нюхать хлороформ. Этим оно мгновенно усыплялось, а пробудившись, снова становилось неузнаваемым и позволяло делать с собою все что угодно, пока слышало запах хлороформа. Этот самый способ и я применил к медведице. Пользуясь ее бесчувственным состоянием, я надел ей на передние лапы и крепко привязал две громадные кожаные рукавицы, употреблявшиеся матросами при маневрах. Теперь она не могла пустить в дело свои когти — и то хорошо. Мой опыт удался как нельзя лучше. Когда хлороформированная медведица пришла в себя, она более не напоминала дикое чудовище, каким явилась предо мной. Открыв глаза, она начала потихоньку тявкать, как делают собаки, когда просят впустить их, а когда я подошел к ней, она лизнула мою руку, протянула мне лапу и терлась носом о мое колено. Я даже не удивился этому. Если можно превратить страшного кабана в ручную свинью, то отчего ж не сделать из дикого медведя тоже ручного? Я уже предвижу в недалеком будущем, как мой способ укрощения медведей произведет переворот во всем мире. Представляю себе такую картину. Прекрасные медведи стадами пасутся в лесах, а вечером, под звуки барабана и флейты, они будут возвращаться домой, по деревням, ласково поглядывая на своего любимого пастуха. Летом им будут остригать шерсть, а зимой станут откармливать их картофелем и пшеном. В «Пештском Ллойде» введут постоянную рубрику, в которой будет значиться: «Первострижная медвежья шерсть в спросе. Медвежий жир — в сильном повышении. Медвежьи шкуры — в большом требовании…» И в экипажи можно будет впрягать их. Настоящим солидным помещиком будет считаться только тот, который приедет в город на четверке белых медведей. А скотницы будут доить медведиц… Ба, какая мысль!.. Какая мысль, в самом деле! Отчего бы и мне, бедному, брошенному в ледяной пустыне матросу, не покормиться медвежьим молоком? Я сделал опыт, и он отлично удался: медведица охотно позволила мне воспользоваться ее молоком. Белая медведица приняла меня на место своего детеныша — такого волшебного действия хлороформа еще никто никогда не представлял себе! Однако, укрощен-то только один медведь. Что же я поделаю со всеми остальными, которые ревут, как сумасшедшие, там, на льду, вокруг корабля?.. Я слышу, они уже на палубе и обрабатывают опускные двери. Моя медведица трепещет. Она, очевидно, боится за мою жизнь. Я на скорую руку прозвал ее «Бэби» и сказал: — Успокойся, Бэби! Авось, я как-нибудь полажу и с твоими соплеменниками. Бэби кинула мне взгляд, полный искреннего сочувствия. Я действительно надеялся, что полажу хоть с целой сотней белых медведей. В нашем кабинете редкостей стоял длинный ряд больших стеклянных сосудов с широкими отверстиями. Все они были доверху полны спиртом. В некоторых плавали различные препараты и редкости, которые наши ученые собирали для европейских музеев, да, очевидно, забыли здесь впопыхах вместе со мной. Между прочим, тут находился и розовый тюлень, о котором шло столько толков в научном мире. Я взял две большие корзины, наполнил их банками и прикрепил к спине Бэби. Сам же я окутался шкурой белого медведя, несколько времени тому назад убитого одним из моих товарищей, опрыскал ее хлороформом, завязал себе нос и рот платком, пропитанным уксусом — без этой предосторожности я бы сам унаркотился до степени осла — и отворил дверь на палубу, показывая Бэби знаками, чтобы она двинулась вперед. Она покорно пошла наверх. Я рассчитывал, что медведи тотчас же завладеют корзинами, то есть, главным образом, банками с их лакомым содержимым. При этом я надеялся узнать их короля. Ведь, по всей вероятности, он выберет себе самый лучший кусок, то есть розового тюленя; этим он выдаст свое достоинство, и я поспешу подружиться с ним. Остальных тогда нечего будет бояться. Действительно, все произошло так, как я предвидел. Корзины, принесенные Бэби на палубу, мгновенно были опустошены. Могучий медведь, 7 1/2 футов вышины, первым выбрал себе львиную долю. Несколько других, немного поменьше его — очевидно, приближенные — присвоили себе другие лакомства, а то, что было похуже — разные крысы и мыши, — досталось на долю обыкновенным медведям. Штук двадцать из них с громким ворчанием забрались на такелаж, выражая тем свое неудовольствие. За это оставшаяся внизу партия стала швырять в них пустыми банками и разной валявшейся у них под лапами мелочью. Наконец, когда все было съедено и выпито, медвежий король начал что-то нежно ворчать моей Бэби, которая, в свою очередь, еще с большею нежностью лизала ему голову, слегка сжимая, в знак любви, лохматую шкуру зверя зубами. Я понял, что Бэби была супругой великого могола медвежьего царства! Вот так штука! оказывается, я позаимствовался молоком у самой королевы полярных медведей!
IV Провиантский склад северного полюса
Медвежьему королю, очевидно, казались чрезвычайно подозрительными рукавицы, надетые на лапы его супруги. Он долго косился на них и сердито бурчал что-то. Бэби пустила в ход все свойственные женскому полу уловки, которыми они стараются успокоить расходившихся мужей, но ничто не помогало. Убедившись в этом, она подбежала к двери, из-за которой я делал свои наблюдения, и закивала головой, очевидно, желая, чтобы я вышел к ней. Я смело шагнул на палубу. Завернутый в опрысканную хлороформом медвежью шкуру, я ничего не боялся. Дикие бестии кинулись ко мне со всех сторон, но, очутившись возле меня, все повалились, как снопы, не причинив мне ни малейшего вреда. Ужаснувшись при виде этого низкопоклонства со стороны своего придворного штата, медвежий король поднялся в свою очередь и замаршировал ко мне с очевидным намерением немедленно же истерзать мою особу собственными зубами. Но, приблизившись ко мне, он тоже зашатался и грохнулся бы на пол, если б верная и любящая супруга не подхватила его в свои могучие объятия. Возле главной мачты лежал сверток якорного каната. Королева опустила на него тело супруга и положила его благородную голову к себе на колени. Я поспешно достал лежавшую у меня в кармане пастушечью свирель и заиграл на ней грустный напев, зная, что медведи — большие любители такой музыки. Не прошло и нескольких минут, как усыпленные медведи начали пробуждаться при звуках свирели. Король, которого я прозвал «Марципаном», сперва задрыгал ногами и зашевелил ушами в такт музыке, а потом вскочил и заплясал на задних лапах, очень изящно размахивая передними. Его пример подействовал заразительным образом и на остальных медведей. Все они вскочили на задние лапы, закружились и завертелись не хуже любых столичных плясунов. Когда я кончил играть, все подошли ко мне, очевидно, изъявляя пламенное желание познакомиться и подружиться со мною. Будь у них хвосты, они, наверное, замахали бы ими. Медвежий король простер свое благоволение ко мне до того, что даже обнял меня, причем затрещали все мои ребра. Хлороформ уже улетучился, и потому меня можно было безнаказанно обнимать, обнюхивать и даже облизывать. После этого он пригласил меня сесть между ним и Бэби на импровизированном троне — канатном свертке. Но я вовсе не жаждал подобных отличий. В голове у меня была совершенно другая мысль. Я соображал следующее: на Северном полюсе обитает, наверное, несколько десятков тысяч медведей — не живут же они одним воздухом! Такие же животные, которые годятся им в пищу, очень редко попадают в эту страну. Три месяца в году они, положим, обеспечены, так как китоловы оставляют им все мясо убитых китов, годное в пищу лишь одним медведям; но чем же питаются они в остальные девять месяцев? Природа, одинаково заботящаяся о всех своих детях, наверное, устроила для них где-нибудь неистощимый запас. Быть может, есть громадная ледяная пещера, в которой допотопные животные целиком сохранились до сего времени между ледяными пластами. Красноречивым подтверждением моего мнения служит огромный скелет мамонта, хранящийся в Петербургском естественно-историческом музее. Этот мамонт также был открыт белыми медведями в одной из сибирских ледяных пещер. В то время он еще весь был покрыт мясом. Медведи успели съесть его только наполовину, когда люди увидали это чудовище. Говорили, что мясо этого гиганта было совершенно снежно, как у только что убитого животного. «Постараюсь, — думал я, — так приручить всех этих медведей, чтобы они привели меня в пещеру, где хранятся их запасы». До сих пор целым поколениям медведей приходилось добывать себе эти запасы из-подо льда лишь с большим трудом. Я же, имея в своем распоряжении топоры, ломы и несколько бочек пороха, несравненно легче буду доставать провизию и для них и для самого себя; запаса, наверное, хватит нам до скончания века, да и другим еще останется. Да, призрак голодной смерти навсегда был бы изгнан с земли Франца Иосифа (конечно, только с той, которая находится у Северного полюса; прошу не смешивать ее с одноименной землей, заключенной между Дунаем и Тисой), если только удастся открыть кому-либо еще доступ в эту допотопную кладовую. Медведи обязательно должны провести меня туда. А может быть, они даже снесут или свезут меня? Разве не попробовать ли мне запрячь их в сани? Эти сильные звери домчат меня скорее и лучше всякой железной дороги, и вдобавок, за это путешествие мне не придется заплатить ни гроша. Я приступил к выполнению своего замысла с тонкостью настоящего дипломата. Когда имеешь дело с медведями, необходимо уверить их, что делаешь им то или другое предложение исключительно для споспешествования общему благу, но отнюдь не для личных своих целей. Сообразно с этой великой истиной я и стал поступать. Прежде всего, я нагрузил большие сани, в которых наши ученые совершили свою двухмесячную экспедицию, всем, что могло мне пригодиться. На корабле была оставлена масса всевозможных инструментов, новоизобретенных приспособлений, химических составов, снадобий и т. п. В моих хлопотах немало мешало мне любопытство новоприобретенных друзей, которые страшно были заинтересованы каждым новым предметом. Король Марципан во что бы то ни стало хотел разгрызть зубами репетиционный теодолит[1], принятый им за орех. Когда же я притащил большой телескоп, все почтительно отошли от меня. Король Марципан от ужаса и страха даже собственнолично забрался на марс. Бэби хотела было последовать за ним, но не могла, так как этому препятствовали рукавицы на передних лапах. Когда все нужное было уложено, дошла очередь до вопроса, как бы мне теперь впрячь господ медведей.
«Тегеттоф» стоял на вершине громадной ледяной горы вышиною с знаменитый Блоксберг[2]. С поднятым кверху носом, корабельная палуба образовала наклонную плоскость вроде катка, по которому сани легко могут скользить. От этого катка шел другой, по самой горе, очень гладкий, некрутой и удобный. Сани, очевидно, пойдут сами собой, — надо только кому-нибудь сидеть на передке и управлять ногами. Я знал, что у медведей сильно развиты любопытство и страсть к подражанию, чем они удивительно напоминают обезьян. Поэтому я был уверен, что как только спущусь в санях с корабля, то мои почтенные товарищи тотчас же последуют за мной и займут сани. Так и случилось. Едва добравшись до нижнего борта корабля, сани уже были набиты битком седоками. Его медвежья светлость сидел за мной, положив мне голову на плечо. Рядом с ним помещалась Бэби, которая визжала от удовольствия, когда сани с быстротою стрелы полетели по гладкой наклонной поверхности. Однако вдруг сани остановились и но хотели двигаться далее. Его светлость вообразили, что сопутствующие нам его подданные препятствуют дальнейшему движению, и поспешил прогнать их с саней несколькими ударами лапы. Я не раз имел случай заметить, что стоять на стороне сильного и помогать ему, когда он гневается на кого-нибудь и наказывает его, — дело самое благодарное. Схватив одного медведя из наиболее поколоченных его светлостью, я придержал его за ухо и начал изо всех сил обрабатывать его арапником. Когда медведь, весь дрожа и не смея ни пошевельнуться, ни пикнуть, весь съежился в комок, я накинул ему на шею недоуздок и впряг его в сани. Точно так я поступил и с пятью другими его товарищами. Составилась великолепная медвежья шестерня. Я сел на передок, махнул арапником — и мы снова помчались по льду с быстротою ветра. Его светлость ревел от радости и восторга, между тем как Бэби томно потявкивала, грациозно вытянувшись во всю длину саней. Быстрая езда, очевидно, кружила ей голову. Остальные медведи рысью бежали за нами, как и подобает настоящей свите. Мой расчет был совершенно верен; медведи должны были прямо привезти меня к себе домой. Где-нибудь да жили же они! По всей вероятности, в одной из тех ледяных пещер, о которых я уже упоминал. С быстротою двадцати английских миль в час приближались мы к мысу Цихи и прибыли в медвежью столицу при чудном северном сиянии. Около нее пришлось втащить сани на довольно порядочную высоту, и я добросовестно спешу заявить, что моя оригинальная шестерня выполнила эту трудную задачу мастерски.
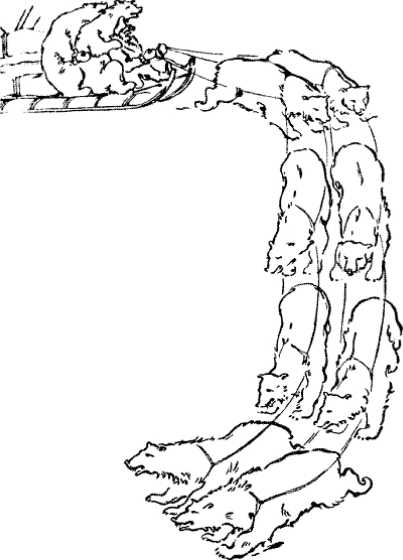
Взбираться вверх по скользкой поверхности только и можно было с помощью когтей полярных, привычных ко льду зверей; всякое же другое животное неминуемо сломало бы себе тут шею. Наконец, мы добрались до ледяной скалы, в которой зияло полукруглое отверстие едва в вышину человека, как раз такого размера, что сани могли пройти в него. Дорога, ведущая к этому месту, подтверждала мое мнение, что тут живет весь медвежий народ, а взгляд на разветвляющуюся отсюда долину доказал, что я нашел именно то, чего искал. Вся эта долина была густо усеяна вытащенными из пещеры костями допотопных животных. Я узнал между ними скелеты зубра и лося. Прежде, чем ввести уважаемых читателей в пещеру, я постараюсь объяснить, каким образом могла очутиться тут ледяная пещера со своими мертвыми обитателями. Что в ледяных горах Северного Ледовитого моря находятся мамонты — это факт, не подлежащий никакому сомнению. Но, так как этот допотопный слон может обитать только в жарком поясе и питаться лишь травой не ниже бамбукового тростника, здесь же имеется только лед вместо какой бы то ни было травы, то само собой является вопрос, как мог попасть в лед мамонт или как мог образоваться лед вокруг мамонта. Вот как я решил этот замысловатый вопрос. В периоде плиоцена (Plyocene)[3], как известно, поверхность земли попеременно то поднималась, то опускалась, почему на земле происходили большие изменения. Еще в сравнительно недавнее время был случай, когда наблюдали изменение поверхности остывшей земной коры: храм Юпитера Сераписа в Пуццуоле сначала совершенно погрузился в море, а потом снова поднялся из него на большую высоту, чем прежде. Вгнездившиеся в стены и колонны храма модиолы, раковины фола (Phola) и прочие штофаги доказывали, как глубоко он сидел в море. При подобных волнообразных движениях земной коры все живое в паническом ужасе спешило убраться с места катастрофы и инстинктивно забиралось в мрак пещер. Ну, а как они попали именно в ледяные пещеры или как попал к ним в пещеры лед? А вот как. Одновременно с волнообразными движениями земной коры некоторые слои ее местами трескались и отрывались. Из глубоких трещин вырывалось пламя горевшего внутри земли огня, между тем как морские воды наполняли образовавшиеся провалы и углубления. Последствием этого явилось массовое испарение воды. По закону же физики, при мгновенном переходе жидкого тела в газообразное состояние связывается много теплоты и развивается много холода. Кто желает в этом удостовериться, тот пусть посетит завод, где производится искусственный лед посредством жарко натопленных печей. Таким образом, вследствие внезапно наступившего испарения сразу образовался лед. Под трещинами поднимавшейся вверх земной коры просочившаяся вода превращалась в лед. Когда же, через некоторый промежуток времени, поднявшийся было слой снова вдруг опадал, то пещеры мгновенно наполнялись водой и обитатели их тонули. Раньше же проникнувшая под этот слой вода уже была превращена в лед. Как известно, лед, благодаря своему весу, не может опускаться ни под каким давлением. В силу этого, образовавшийся во время растрескивания земли лед в свою очередь поднялся вверх со всем находившимся на нем слоем, и таким образом создался плавучий остров, покоящийся на льду. Известно, что и у моря есть течение, стремящееся с юга к северу. В те давние времена это течение было гораздо сильнее настоящего. Доказано, что Флоридские острова, обязанные своим происхождением беспрерывной деятельности кораллов, понемногу дали заливу другое направление. Это течение овладело плавучим островом и привело его к ледяным горам Северного Ледовитого моря, между которыми он и застрял. Таким путем вот и очутились тут мамонты вместе с своим убежищем — пещерой. Я уже ранее был убежден, что наша твердая земля покоится тут на ледяном фундаменте, под которым находится настоящее море; мнение мое блестяще оправдалось последующими событиями. Пред входом в пещеру сторожил старый медведь. При нашем появлении он испустил короткий, отрывистый звук — сигнал тревоги, за которым последовал страшный рев как изнутри, так и снаружи. Навстречу выбежали с десяток медвежат. Узнав, очевидно, в сидящей в санях парочке своих родителей, они от радости начали кувыркаться друг через друга. Я остался один в санях и начинал слегка тревожиться относительно исхода моего рискованного предприятия. В пещере так и кишело медведями — дикими, неукрощенными чудовищами… Дело плохо! Но вот моя шестерня, как бешеная, помчалась со мной в пещеру. Остановить ее не было никакой возможности. К сожалению, я не догадался продеть им в нос кольца. В то мгновение, когда я уже окончательно считал себя погибшим, у меня явилась блестящая мысль. Я достал лампу, устроенную по системе Друммонда и, приводя в действие механизм, зажег ее и с триумфом влетел в пещеру при ослепительном электрическом освещении! Результат вышел поразительный. Моя великолепная шестерня, ошеломленная внезапным ярким сиянием, разом упала на колени, а все обитатели пещеры вдруг замолкли и, съежившись, ползком спешили попрятаться по тенистым углам. Но и сам я был очарован представившимся мне зрелищем. Я находился как бы в громаднейшем соборе, выше базилики св. Петра в Риме; весь он со своими стенами, сводами и колоннами состоял изо льда. При свете кислородной лампы все кажется сделанным из чистого серебра, а тени мерцают цветами изумруда. Повсюду виднеются ультрамариновые фантастические украшения. Сверху спускаются роскошные сверкающие фестоны. Сквозь целый ряд разнообразных арок виднеется боковая пещера… Там, в высоте, тянутся смело перекинутые через пространство галереи с изящной балюстрадой, а над зияющей по самой середине пещеры пропастью тянется «чертов мост» из прозрачной, как кристалл, ледяной массы. С задней стены спускается как будто громадная белая завеса, прикрывающая титанический церковный орган, образовавшийся из ледяных сосулек, не уступающих в длине самым высоким соснам. Там же, в глубине пещеры, возвышается точно жертвенник, а пред ним — гигантский призрак, идол, — снежно-белый, блестяще-отполированный зубами животных скелет стоящего на задних ногах мамонта. Очевидно, медведи могли только счистить мясо с этого скелета, но растащить его самого они были не в состоянии. Над ним же, примороженное к блестящему своду, как бы реет в воздухе чудовищных размеров художественное создание: сажен в двадцать длиной плезиозавр, то есть одетый в природный панцирь крокодил с длинной лебединой шеей, страшными зубами в разинутой пасти и с чешуйчатым хвостом. Лед покрыл его всего серебряной корой, так что, глядя на него, невольно вспоминается мифический левиафан. Я вовсе не удивился, что эта картина произвела такое потрясающее действие даже на медведей. До сих пор они работали тут в темноте, и потому знали свои сокровища лишь по чутью. Какие же еще неисчерпаемые сокровища находятся в этой пещере? Повсюду обрисовывались сквозь лед очертания первобытных зверей допотопного мира, зверей, еще не разобранных на виды и классы. У некоторых виднеются только одни чудовищные головы удивительно странных форм. Остальные же части скрыты подо льдом. И мясо всех этих животных, хранившись двадцать тысяч лет подо льдом, вполне съедобно!

То, что до сих пор было истреблено медведями, не составляло заметной убыли в этих громадных запасах. Но каждый кусочек доставался бедняжкам лишь с величайшим трудом: им приходилось слизывать лед с добычи. А так как этот лед очень толст, то слизывать его понемногу составляет труд чисто каторжный. Ну, теперь дело пойдет несравненно скорее: я в несколько минут сделаю им то, на что у них тратились целые часы. Господа медведи только что занялись было вылизываньем тучного мастодонта из массивного льда. К счастью, они еще не добились своей цели, а то бы мне не спастись никакими фокусами. Ведь даже домашние животные злятся и рычат на своих лучших друзей, когда те мешают им во время еды. Самое же дикое животное, между тем, становится податливым, когда видит, что его хотят накормить. Прежде всего, я оградил свои сани от нападений, поставив в них треножную сковороду с горящими угольями. Огонь держал здешних граждан ледяного царства в почтительном отдалении. Затем я взял топор и лом, повесил себе лампу на спину и принялся за освобождение мастодонта из ледяного пласта. Благодаря моим крепким и острым орудиям, мне было нетрудно пробить брешь во льду и достать ногу чудовища. Двухсотвековой окорок! Зная, что самый вкусный кусок у слоновых пород составляет подошва, я отпилил ее для себя. Одна она весила по крайней мере двадцать пять фунтов. Ломом я отделил бедро. Мясо, действительно, было совершенно красное, свежее и сочное. Вся медвежья шайка расположилась вокруг меня, с благоговейным страхом глядя на мои действия и уже заранее облизываясь в ожидании лакомой трапезы. Ждать им пришлось-таки довольно долго. Когда я замечал в них признаки нетерпения, я наводил на них луч лампы, и они сразу успокаивались. Сосредоточенный яркий свет укрощает даже самое дикое животное. Сначала я попробовал крохотный кусочек подошвы. Вкус был недурен, но мясо напоминало своею жесткостью каучук. Убедившись таким образом, что мне неудобно будет столоваться заодно со здешними почтенными обитателями, я отдал подошву королевской медвежьей чете. Потом я отрезал столько больших кусков мяса, сколько было уже укрощенных медведей. Особенно щедро наделил я свою шестерню, желая вполне привязать ее к себе. Кожаные недоуздки оставили заметные следы вокруг их шеи, и поэтому я отлично узнавал их в громадной медвежьей стае. Оставшееся было отдано «черни». Одной ноги мастодонта с избытком хватило на всех. Пока медведи насыщались, я спокойно мог привести в исполнение задуманный мною во время работы план. Благодаря врожденной смелости, мне раньше всегда удавалось выходить целым и невредимым из опасности. Но тут, посреди нецивилизованного варварского племени, нужна была особая изворотливость ума, чтобы удержаться на высоте положения. Не мог же я серьезно полагаться на шаткую дружбу этих грозных владык северных льдов! Каждую минуту кому-нибудь из них могло прийти в голову неодолимое желание снести с меня череп и живьем содрать шкуру. Примеру же одного наверняка последовали бы все его собратья. План мой состоял в следующем. Посреди пещеры, как я уже говорил, зияла глубокая пропасть. Над нею тянулся сводообразный, солидный ледяной мост. С большими усилиями втащил я сани на этот мост, любуясь на роскошные прозрачные пилястры, местами тянувшиеся вверх из пропасти. У меня был, между прочим, захвачен с собой аппарат вроде того приспособления, которым городские каменщики снаружи поднимаются до верхних этажей зданий. Этот аппарат я прикрепил, посредством вбитой в лед железной полосы, к середине моста, и затем, собрав с собой часть своих пожитков, сам спустился в бездну. Я хотел прежде всего отыскать себе, для постоянного местопребывания, укромное, недоступное для других местечко. В пещере было теплее, чем где-либо. На «Тегетгофе», когда перестали отапливать его, мороз доходил до 28 градусов. На открытом же воздухе доходило до 32 градусов, а в пещере термометр показывал всего 12. Когда же я спустился во вторую пещеру, оказывалось только 8 градусов. Это очень удивило меня. Обыкновенно теплый воздух всегда стремится вверх, здесь же было как раз наоборот. Причина этого странного явления выяснилась впоследствии. Я начал искать себе подходящее помещение. Две наклоненные одна к другой ледяные плиты образовали прекрасный шатер, под которым я и уложил все, что было в санях. Для этого я должен был раз двадцать подниматься и спускаться на аппарате. Наконец, все благополучно было доставлено вниз и убрано. Теперь я в буквальном смысле слова мог сказать, что все мое предприятие основано на льду или, вернее, во льду. Второй главный вопрос состоял в том, как бы мне наготовить себе мясных консервов. У меня был папинский паровар, в котором даже самые жесткие кости превращаются в мягкую кашу. Паровар имел крепкие широкие ножки, так что я мог поставить его на любом месте ледяной поверхности и безопасно раскладывать на нем огонь. Но откуда же мне взять топливо? О, его тут сколько угодно! Небольшой напас дров и каменного угля, имевшийся у меня, должен был служить для растопки, а настоящим топливом могло прекрасно служить допотопное мясо. Наиболее пригодные в пищу части мяса я буду варить, а все остальное пойдет на топку. Захватив лампу, я пошел осматривать мясные запасы. Пещера, представлявшая невообразимо обширную залу, имела полом совершенно гладкую и ровную ледяную поверхность. Под этой зеркальной поверхностью скрывался необозримый музей допотопных зверей, нагроможденных друг на друга безобразными массами. В каком положении застигла их вода, ворвавшаяся в пещеру во время геологического переворота, в таком они и остались на вечные времена. Целый хаос разнообразных чудовищ представился тут моим изумленным взорам при ярком свете лампы! Бесформенные, неуклюжие массы с птичьей головой и туловищем крокодила, уродливые произведения природы: толстокожие, чешуйчатые, покрытые панцирями чудища, великаны весом в четыреста центнеров, с двухсаженными клыками и громаднейшими рогами, образуют целые горы. Вперемешку с ними таинственные двойные существа животного мира, летавшие по воздуху и карабкавшиеся по деревьям, бывшие птицами и имевшие четыре ноги; <они> были покрыты шкурой, с густой шерстью и, кроме того, обладали крыльями. Тут же виднелись змеевидные чудовища с рогами на голове и копытами на передних ногах, черепахи с длинными хвостами и лягушки с челюстями, вооруженными острыми зубами. Меня интересовало, собственно, не это собрание редкостей, но богатейший выбор различного рода мяса, представившийся мне в этом складе. О самых крупных животных я нисколько не заботился; я знал заранее, что мясо динотерия и англотерия может быть разжевано разве только медвежьими зубами; мне же, быть может, пригодится детеныш этих великанов, если он попадется. Положим, этот детеныш, даже в самом нежном возрасте, будет величиной с нынешнего взрослого вепря. После некоторого колебания я выбрал себе наиболее жидкое и стройное животное — допотопного оленя. Для удаления толстой ледяной коры я пустил в ход порох и бикфордские патроны. Когда олень, наконец, попал мне в руки, я вырезал кусок из его груди. Голод погонял меня. Спеша обратно в свой ледяной шалаш, я невольно должен был остановиться, заинтересовавшись новым открытием — подо льдом виднелся замечательный экземпляр птеродактиля. Нельзя сказать, чтобы он обладал привлекательной наружностью. У него птичья голова, но клюв его снабжен зубами, напоминающими зубы крокодила. Шея у него длинная, туловище голое, как у йоркширской свиньи, а четыре ноги вооружены птичьими когтями и связаны между собой перепонками. Это чудовище пернатое и, кажется, оно — единственный представитель вида допотопных животных, имевших жир. Без жира же, как известно, не может быть хорошего жаркого. Я достал его из-подо льда. Уже одно ощупывание пальцами доказывало, что оно было приспособлено к образованию жира. Кожа у него была тонкая и поддавалась обыкновенному ножу. Вся спина представляла из себя толстый слой чистого жира. Я попробовал его. Вкус напоминал отчасти рыбий жир, отчасти же прогоркшее масло. Может быть, при варке будет немного вкуснее. Теперь уж я без оглядки поспешил к своей кухне, желая поскорее насладиться своей стряпней из мяса двухсотвековых животных. Я разрубил оленью грудь на части. Что было похуже, пошло в огонь, а что получше — в котелок, вместе с нарезанным тонкими ломтями жиром птеродактиля. В качестве топлива моя добыча оказалась превосходной, но в пищу она не годилась. Когда я, спустя некоторое время, открыл котелок, из него вырвался такой сильный, одуряющий запах мускуса, что я чуть не лишился чувств. Это был специфический запах допотопного жаркого. Но какой отвратительный, тошнотворный запах! Я зажал нос и попробовал проглотить кусочек. Насильно спроваженный в желудок, он, однако, и там еще протестовал против нежелательного для него водворения, а второй кусок так и не удалось мне одолеть. В эту минуту со мною было то же самое, что с потерпевшими кораблекрушение: они лучше умрут от жажды, нежели согласятся выпить хоть каплю морской воды. Кстати сказать, мясо всех допотопных животных отдает мускусом. Только полярный медведь и может есть его. Надо было поискать в музее какую-нибудь птицу. Положим, в допотопные времена было очень мало птиц, но и те немногие отличались особенно прекрасными свойствами.

Если бы мне удалось найти динорниса, его хватило бы на год. В лондонском хирургическом музее есть скелет этой «птички» вышиной в восемнадцать футов! Долго я бродил по моему новоприобретенному царству, не находя ничего подходящего. Я уже начал думать, что птичья порода была храбрее других и потому во время земных катастроф не пряталась в пещеры, но я вскоре убедился в неосновательности моей догадки. Я увидал подо льдом яйцо. Но какое яйцо! Оно было во много раз больше страусового яйца, с красновато-коричневым острием и зелеными пятнами на тупом конце. Да, это «яичко» превосходило размерами даже находящееся в парижском музее яйцо эпиорниса, хотя и последнее заключает в себе шестьсот обыкновенных куриныхяиц! Я недоумевал, как это яйцо, наверное, принесенное водой издалека, не разбилось. Само яйцо разрешило мое недоумение, когда я достал его из-подо льда. Для того, чтобы вскрыть его скорлупу в четыре миллиметра толщиной и вдобавок еще эластичную, надо было изо всех сил рубить ее топором. Содержимое яйца составляла твердая сыровидная масса, которую я тотчас же попробовал. Оно было недурно и вкусом напоминало свежеизготовленный сыр. Правда, оно немного отзывало мышью, но это еще была не беда. Мы знаем, что китайцы считают лакомством только такие яйца, которые пролежали в земле три года и превратились в сыровидную массу. Лакомство это даже так дорого, что доступно лишь богачам. Я старался утешить себя этим сведением. Одного этого яйца могло хватить мне на три месяца! Но раз тут очутилось яйцо, то недалеко должна быть и птица. Я продолжал свои поиски. Мне пришла в голову мысль приблизиться к гигантскому ледяному органу, стоявшему в глубине пещеры. Действительно, когда я стал озарять моей лампой эту массу сверкающих и переливающихся всеми цветами радуги гигантских пилястров и труб, мне бросился в глаза вытянувшийся во весь рост динорнис мрачным, но величественным призраком. Птица эта была вышиной в три сажени! Короткокрылая, с массивными ногами, она поспешила укрыться от внезапно надвигавшейся массы воды на возвышенном месте и, пребывая там неподвижно, дождалась того, что ее со всех сторон охватил лед. Это был прекрасный экземпляр. Верхняя часть его вооруженных тремя когтями ног имела толщину мужского бедра; все туловище покрывалось черной щетиной, жесткой и толстой, как проволока, а голова и шея украшались белыми перьями. Над клювом находился толстый мясной нарост, простиравшийся, подобно шлему, до головы. Более всего заинтересовала меня грудь птицы, шириной в пять футов: из нее можно было нарезать роскошнейшие куски для жаркого. Однако, добраться до птицы было далеко не легко. Трогать ледяной орган можно было лишь с величайшей осторожностью. Он напоминал собой построенную в готическом стиле соборную башню вершиной вниз, а основанием вверх. Стоило стронуть лишь один из пилястров, чтобы разрушить все здание. Тогда бы и я, в свою очередь, мог прождать десятки веков, прежде чем меня откроют подо льдом. Порох отнюдь нельзя было тут употребить в дело, а следовало с помощью лома и молотка пробить брешь во льду, чтобы добраться до груди динорниса и вырезать из нее пробный кусок. Надо же было предварительно узнать, годится ли еще это мясо, прежде чем трудиться доставать всю птицу. Когда я ударял молотком по ледяным столбам, они издавали звуки, подобные звону с колокольни Ивана Великого в Москве. Во время этого торжественного гула, отражавшегося сводами пещеры, у меня было такое ощущение, точно мозг и сердце сжимались железными тисками. Наверху все умолкло. Медведи оставили пещеру. Но вот предо мной открытая грудь динорниса. Мясо его было не так волокнисто, как у допотопных млекопитающих, — мягкое, коричневого цвета. С яйцом динорниса и куском его мяса я пошел обратно в свою кухню. Я выполоскал папинский котелок, — воду я, конечно, приготовлял себе изо льда, — разрезал мясо динорниса на мелкие кусочки и поставил на огонь, разведенный мной снова из оленьего мяса. Когда предполагаемое кушанье должно было, по моим расчетам, увариться, я снова открыл котелок и со страхом стал втягивать в себя струи поднимающегося пара. Запах оказался прекрасным, возбуждающим аппетит, а навар казался обыкновенным хорошим мясным бульоном. Достав ложку и заранее наслаждаясь, я принялся пробовать новую многообещающую стряпню. Но едва успел я проглотить один глоток, как вскочил на ноги и завертелся, точно дикарь в пляске, судорожно подергиваясь всем телом. Суп мой по вкусу был сварен как будто из исландского мха с сильной порцией хинина. Запах хотя и был хорош, но вкус прямо невозможен. Нет, и из этого мяса нельзя было делать консервы, по крайней мере для моего употребления. Из всего добытого мною годилось лишь яйцо динорниса и жир птеродактиля. Часть мяса птеродактиля издает отвратительный запах лягушки, а часть его отзывает рыбьим жиром, и потому оно могло бы понравиться разве только эскимосу. Если весь животный мир допотопного периода был вроде попробованных мною экземпляров, то неудивительно, что современные им люди придерживались вегетарианства. Впрочем, может быть, в то время и желудок наших предков был совершенно другой. Последний опыт я сделал с первобытным медведем, ursus palans. Мясо этих животных, а в особенности подошвы, считаются и теперь лакомствами. Огромная медвежья нога, разрубленная на мелкие части, тоже отправилась в папинский котелок, где она и разварилась буквально в кашу. По крайней мере, это мясо не было противно, не внушало отвращения, и потому я спокойно мог положить его в жестянки, которые тут же и запаял. Но какая же, собственно, была у меня причина принимать такие предосторожности и готовить впрок? Ради чего старался я обеспечить свою горемычную жизнь посреди полярных льдов и диких полярных животных? Ведь мне мог предстоять длинный ряд годов такого жалкого прозябания, и чего же можно было ждать в конце этого ряда? Какая надежда была у меня? Какой инстинкт руководил мной? Инстинкт потерпевших кораблекрушение. Я надеялся, что мои друзья благополучно вернутся домой, что рассказы их возбудят в другом желание снарядить новую полярную экспедицию, которая и отыщет затертый во льдах «Тегетгоф». Наверное, тогда найдут бутылку с письмом, в котором я написал, что еще жив, а не погиб, как того можно было ожидать. Понятно, что тогда бросятся искать меня, найдут и… о, сколько еще хорошего могло быть для меня в будущем! Теперь же, прежде всего, я хотел жить и видеть то, что много веков было недоступно человеческому взору.
V Медвежьего короля нельзя съесть
Я и не предвидел, какую возбужу беду своим пароваром. Из всех хищных зверей медведь обладает наиболее тонким чутьем. Он чует на расстоянии нескольких миль, где работают китоловы, приготовляя ему добычу. Понятно, что он должен был совсем взбеситься, слыша, как я, так близко от него, готовлю такие соблазнительные обеды, разящие мускусом да рыбьим жиром на весь полярный полюс. Предаваясь усиленной деятельности на пользу человечества, единственным представителем которого являлась тут моя хотя и ничтожная, но тем не менее крайне дорогая мне особа, я вдруг заметил, что наверху вспыхнул бунт между медведями. Пока каждый из них в отдельности должен был сам в поте своей морды промышлять себе ежедневную пищу, они были смирны и покорны своей судьбе; но раз их накормили без всякого труда с их стороны, и они заметили, что есть надежда на постоянное, так сказать, даровое угощение, они вдруг оказались неспособными к поддержанию в своей среде общественного порядка. Мне бы вовсе не следовало волноваться по поводу медвежьего бунта. Ко мне бунтовщики не могли пробраться живьем. Пропасть, отделявшая их от меня, была глубиной в пятьдесят метров, а стены этой пропасти были совершенно отвесны и снабжены остриями. Тем не менее, мне почему-то понадобилось попытаться усмирить моих расходившихся сограждан. Я вообразил, что буду в состоянии восстановить между ними прежний порядок с помощью хлороформа, лампы и того же мяса. Под влиянием этой дерзкой уверенности, я поднялся вверх до моста. Однако, достигнув его и увидав то, что творится там, наверху, я понял, что мне лучше и не вмешиваться. Сотни белых медведей отчаянно дрались, а под их ногами вертелось множество наглых песцов. Кавардак был страшный. Укрощенные мной медведи являлись опять в своей первобытной дикости и неистовствовали не хуже остальных. Лились потоки крови, летела клочьями шерсть, слышалось неумолкаемое бешеное рычание. Всюду — искаженные зверской злобой морды, налитые кровью глаза и оскаленные зубы. Свет лампы уже не производил на них прежнего действия. Брошенные мною куски оставались без внимания, — медведи всецело были поглощены жаждой хорошенько помять друг друга. Но одна особа из числа медвежьего племени все-таки узнала меня. Это была бедная Бэби.
Она не могла принять участия в свалке, так как этому препятствовали рукавицы, и спряталась за высокой глыбой льда, на вершине которой стоял сам храбрый король Марципан, отражая взбиравшихся к нему мятежников. Увидав меня, Бэби вышла из своей засады и окольной дорогой, скользя по самому краю пропасти, поспешила ко мне.

Заметив это, Марципан пустился вслед за нею. Бунтовавшие граждане кинулись, в свою очередь, за ними, и таким образом все медвежье общество столпилось вокруг моста. «Эге! — подумал я. — Это может окончиться очень худо. Лучше всего мне убраться восвояси». И я поспешно спустился вниз. Но не успел я пролететь еще и пяти метров, как Бэби жалобно замычала наверху. Оглянувшись, я увидал ее склонившейся над пропастью и глядевшей на меня такими молящими глазами, что я невольно остановился и позвал ее к себе. Она радостно тявкнула и прыгнула ко мне, причем я добросовестно помогал ей, видя, что мешают рукавицы. Ну, теперь надо было спускаться как можно поспешнее. Попади на мой аппарат хоть еще один медведь, канат не выдержал бы этой тяжести, и мы разбились бы вдребезги. Нетрудно было предвидеть, что найдутся подражатели отважного прыжка Бэби. От угрожавшей мне опасности спасла, однако, геройская самоотверженность Марципана, чем он, на мой взгляд, вполне заслуживал титула медвежьего короля. Увидав, что Бэби воспользовалась случаем укрыться от мятежников в бездну, он стал на мосту и один против всех стал защищать этот пункт. Вытянувшись во весь свой громадный рост на задних лапах, он во все стороны наносил тяжеловесные удары своими могучими передними лапами. Мост был так узок, что нападающие могли подойти к нему только спереди, а он лишь медленно уступал их соединенному натиску. Заметив, что враги уже были близки к тому месту, где виднелся укрепленный мною канат аппарата, Марципан с геройской решимостью сам накинулся на них. Он обхватил одного из них лапами, вцепился зубами в горло другого и вместе с ними кинулся в бездну, подобно славному Титу Дюговицу. Продолжая еще во время падения ожесточенную борьбу, скатившаяся в один чудовищный клубок масса трех медведей промчалась мимо меня.

Бедный, мужественный Марципан! Он помог моему побегу. Только что я очутился внизу, как слетели канаты аппарата, перегрызенные вверху рассвирепевшими зверями. Случись это минут на пять раньше, я неминуемо сломал бы себе шею. Таким образом, путь вверх быль мне навсегда отрезан. Положим, запас вполне пригодной и даже лакомой пищи образовался сам собой у меня под рукой в виде трех разбившихся насмерть медведей. Двое из них весили по двести килограммов, а в короле Марципане было даже на сотню больше. Вот, наконец, было и свежее мясо. Приготовив его впрок, я мог питаться одним им в течение трех лет. Я тотчас же приступил к делу. Мне и в голову не пришло, что может встретиться препятствие в лице Бэби. Когда верное животное узнало между мертвыми соплеменниками своего супруга, оно легло возле него и с жалобным визгом начало облизывать ему голову. При моем приближении к нему Бэби сердито рычала и скалила зубы. Надо было уважить ее горе. Бэби права: медвежьего короля нельзя съесть. Я должен почтить память героя, самоотвержению которого обязан своим спасением. Я оттащил в сторону двух других, снял с них шкуру и разделил их на части но всем правилам искусства. С этой минуты я зажил без горя и забот в своем ледяном царстве. В доме погибшего короля я, конечно, не решался предложить <Бэби> мясо ее соотчичей и родственников. Не дикарь же я! Я угощал Бэби лучшими кусками первобытного оленя, птеродактиля и динорниса. Все равно же я сам не мог есть их. Но как только я подносил убитой горем вдове избранное допотопное лакомство, она сейчас же тащила все мертвому супругу и ожидала, чтобы он отведал их, не решаясь сама без него приступить к трапезе. Я стал опасаться, что она умрет с голоду. В этом ужасающем одиночестве я был рад даже обществу животного, которое, очевидно, привязалось ко мне и могло хоть слушать меня, когда я говорил, да и отвечать по-своему, конечно. Я так дрожал за ее жизнь, точно она была мне ближайшей и дорогой родственницей. Для того, чтобы положить конец ее тревоге, я усыпил ее снова хлороформом и во время ее сна кое-как стащил труп Марципана к отвесно стоявшей ледяной плите, под которой я выдолбил просторный саркофаг. Уложив туда медведя, я подрыл снизу плиту, так что она прикрыла собой вплотную медвежью гробницу. Когда Бэби очнулась и после долгих поисков убедилась, что ее супруга более не видно нигде, она подняла горестный вой. Я тихо взял ее за загривок и повел к гробнице. Сначала она попробовала сдвинуть лапами плиту, но, видя, что ей это не удается, она легла на нее и долго не отводила глаз от ясно видневшегося сквозь прозрачную массу льда трупа. При этом она все время раздирающим душу голосом визжала, выла и стонала. Я погасил лампу. Оставался только огонь в папинском кухонном аппарате, но его не хватало туда, где покоился вечным сном бедный Марципан. Когда он стал невидим для Бэби, она пришла ко мне и уж без дальних околичностей воспользовалась моим угощением. Пищи она более не стала таскать Марципану. Она только по временам посещала его гробницу, которую облизывала со всех сторон. Ко мне она привязалась буквально как собака. Когда я ложился, она растягивалась возле меня, что мне было очень приятно, так как она посреди вечных льдов служила мне источником тепла.
VI Тюрьма нового образца
Никто еще никогда не примирялся с мыслью быть заключенным пожизненно. Каждый заключенный день и ночь думает лишь одну неотвязную думу: как бы ему пробить стены своей тюрьмы и вырваться на свободу. Один приступает к делу с разбитой подковой, другой с подпилком, а третий так просто-напросто с кусочком хрупкого стекла в руках. У меня к услугам всевозможного рода орудия, но стены моей тюрьмы помассивнее других; да если я и выберусь из них, то куда же мне держать путь? Времени для обдумывания было много. Авось, и додумаюсь до чего-нибудь дельного. Огонь я поддерживал мясом, так что он не горел только во время моего сна. Бэби я приучил быть мне полезной кое в чем. Она притаскивала нагруженные мясом сани, доставала лапами из груды этого необычайного топлива по куску и аккуратно подбрасывала в огонь. После нескольких дней мне стоило только сказать ей, чтобы она привезла топлива и следила за огнем, — все исполнялось ею вполне добросовестно. Пока она возилась с этим, сам я ходил на разведку. Надежды мои открыть путь к выходу из пещеры на вольный воздух основывались на бесчисленном множестве ледяных сосулек, спускавшихся со сводов пещеры. Для того, чтобы могли образоваться ледяные сосульки, лед должен таять; а для того, чтобы он таял, температура должна быть выше нуля. Теплый воздух проникает откуда-нибудь извне, чем и объясняется то явление, что в нижней пещере на четыре градуса теплее верхней, между тем как, по законам природы, должно быть наоборот. Я решил, что теплый воздух пробирается в пещеру из-за органа. Есть ледяные пещеры и в Венгрии. В них интересно то, что лед держится только летом, зимой же, растаивая, совершенно исчезает. Тут же лед вечен, но вместе с тем постоянно тает. Спускающиеся сверху сосульки, разнообразнейшей длины и толщины, представляют собой поистине фантастический вид. Местами они образуют целые своды, как будто из бесчисленных острых трубочек, которым соответствует внизу одинаковое количество тонких столбиков. От медленного таяния верхнего слоя льда отростки одинаково увеличиваются как сверху, так и снизу. В конце концов они встречаются, — и вот готов ряд легких, воздушных, но тем не менее очень крепких колонн. Я то и дело прибегал к самому тяжелому молотку, чтобы проложить себе путь посреди этой ледяной колоннады. Наконец, случай натолкнул меня на то, чего я искал. Лед проломился подо мной, и я свалился в углубление. К счастью, все обстоятельства, сопровождавшие мое падение, были благоприятны, а то иначе я бы расшибся в пух и прах. Во-первых, вокруг меня была обвязана веревка, прикрепленная другим концом к ледяному столбу; во-вторых, стенки провала, куда я попал, были не отвесны, а отлоги, так что я скорее скользил по ним, чем летел, да вдобавок еще на них не было никаких выступов или расщелин с острыми краями; лучше же всего было то, что я не имел при себе друммондовской лампы, которая несомненно разбилась бы. Вместо нее у меня висела на поясе лампа по системе Дэви, так как я имел в виду, что могу попасть в область взрывчатых газов. Кроме нее, я захватил два фунта магниевой проволоки, которая светит не хуже лампы Друммонда и требует меньше приспособлений. Мягкий воздух доказывал, что я нахожусь во входе в туннель, ведущий в третью пещеру, расположенную несравненно ниже второй. При свете лампы Дэви я мог рассмотреть, что узкое отверстие усажено вверху сталактитовыми формациями. Веревка мешала моему дальнейшему спуску, и потому я вскарабкался по ней обратно наверх. Пока мне было достаточно знать, что существует сообщение с другой пещерой и, как я успел заметить, уже не ледяной, но обыкновенной горной. Эта пещера может быть очень обширной и длинной, как, например, пещера Гумород-Алмазер в Зибенбюргене, которая тянется на две мили. В виду этого мне следовало запастись для обозрения ее провизией и различными орудиями. Бэби я ничего не сообщил о своем предприятии, но она, тем не менее, так глядела на меня своими зеленоватыми глазами, точно хотела сказать: «И ты можешь покинуть меня здесь?» Но я надеялся возвратиться к ней, потому что я оставлял под ее охраной все свое имущество и вообще — свою главную квартиру. Я привязал обитые железными гвоздями подошвы, вооружился топором и ломом, обвязался веревочной лестницей и при входе в туннель сбросил свой меховой костюм. Затем я начал осторожно спускаться по отлогой стенке шахты, причем держался за прикрепленную вверху веревку. Когда спуск кончился, я очутился пред входом в коридор, упиравшийся в меловую скалу. Вдоль этого коридора тянулся молочно-белый ручей. Это был продукт таяния верхней пещеры, смешанный с мелом. Рудокопы называют это горным молоком. Меловой поток исчезал в боковом отверстии, где почва поднималась опять отлого вверх. Я направился туда и открыл там по стенкам наслоения силурийских формаций. В этом месте мой термометр показывал уже восемь градусов выше нуля. Согласно указанию магнитной иглы, этот ход шел на северо-запад, по направлению к долине возле мыса Цихи. Чем было объяснить это сильное повышение температуры? Действуют ли тут причины химические или какие другие? Ведь центральный земной огонь тут уж не может иметь влияния. Пока я ломал себе голову над этими интересными вопросами, ход кончился. Передо мной открылось обширное, неопределенной формы пространство, которого моя лампа не была в состоянии осветить всего, а под моими ногами зияла бездна, очевидно, очень глубокая. Я зажег магниевую проволоку и при ее ярком сиянии заметил, что нахожусь в ограниченном со всех сторон пространстве, имевшем в продольном разрезе форму буквы Д, а в поперечном — воронкообразную. Левую черту Д образовала стена диоритовой скалы, местами выказывавшей присутствие сланца и сернистой окиси. С другой стороны я увидал ход в новую пещеру. Полукруглая стена над этим отверстием представляла волшебный вид. Она вся состояла как будто из искусно подобранной мозаики, составленной горными духами для своего короля.
Основанием служили слои сланца, покрытого белым алебастром и зелеными малахитовыми пластинками. Там и сям сланец, однако, прерывался уже целыми громадными глыбами великолепнейшего, испещренного жилками малахита, весом в несколько сот центнеров. Одна из этих глыб на простой глазомер была в три раза больше знаменитого монолита, вывезенного из нижнетагильской малахитовой шахты и весившего шестьсот центнеров. Она одна могла бы доставить материал на целую часовню. Как будто с целью еще более выделить красоту этих драгоценных каменных глыб, вокруг них лег бархатистым слоем густой осадок темно-синей медной лазури. А эта бархатная рамка усеяна сверкающими звездообразными крапинками красной меди, мерцающими жилками висмута и нежными кобальтовыми розетками персикового цвета. В одном месте тянется серебристая лента асбеста; там и сям сияют чудные кристаллы меди, поражающие прелестью своих очертаний, образуя фантастические деревья и кусты. В глубине этой роскошной тронной залы стоит и сам трон подземного короля — массивная глыба красной меди, вышиной в двадцать, а шириной в девять метров, превосходящая размерами найденную в Англии гигантскую глыбу того лее металла. Да эта, на которую теперь любовался я, и гораздо ценнее той, потому что по ее темно-красному, местами отливающему всеми цветами радуги основанию вьются прихотливые темно-синие арабески чистого серебра и белые, розоватые завитушки чистой же селенистой меди. К этому трону ведут ступеньками нагроможденные друг на друга малахитовые глыбы, весом от десяти до двадцати центнеров. Предо мною находились сокровища ценностью в несколько сот миллионов! Будь гора Цихи на пятнадцать градусов ближе к экватору, то лет двадцать спустя на простиравшейся над моей головой долине появился бы город с златоглавыми церквами, какой был выстроен возле Тагила под названием Нижнетагильска — предков нынешней русской княжеской фамилии Демидовых-Сан-Донато. В этом городе кормится работами, связанными с горным промыслом, 25 000 человек, а потомки его основателя имеют многомиллионное состояние. Все это сделалось благодаря только тому, что Демидов случайно попал в такую же пещеру, в какой находился я. Но я вовсе не радовался этим неисчерпаемым сокровищам. Для меня эта пещера представлялась только новой тюрьмой. Интересовало меня во всем этом волшебном дворце лишь то отверстие в стене, которое могло быть началом хода куда-нибудь, откуда бы можно было выбраться на поверхность земли. Я вступил в саму залу и начал обходить ее кругом. Прозрачные массы колчедана уступами вели к красивой полукруглой каменной галерее. Во многих местах колчедан образовал точно виноградные кисти; в других он был перемешан с агатом. Полукруг легко было обойти. Я взобрался сперва на малахитовую глыбу, потом на медную, но попасть в расщелину стены никак не мог. Посреди воронкообразного пространства было озеро, через которое надо было переправиться, чтобы достигнуть расщелины. Это озеро отличалось темно-синим цветом. В неподвижном воздухе и при сиянии магниевой проволоки оно представлялось громадным черным зеркалом. Когда я бросил в него камень, кверху поднялись брызги точно расплавленного сапфира, между тем как все более расширявшиеся на поверхности его круги сверкали чудной синевой. Я убедился, что смело могу перейти озеро вброд, так как погружусь в него только до бедер. Все оно состояло из цельного купороса. Но мне не хотелось выкраситься на долгое время в синий цвет. К тому же, я хотя и знал, что купорос не обладает ужасными свойствами серной кислоты, но все-таки не вполне доверял ему. Надо было заняться постройкой какой-нибудь лодки или, еще лучше — плота. Но из чего же я сделаю то или другое? Дерева тут не было. Есть камни. И я отважусь пуститься на каменном плоту по озеру? Отчего же и нет? Ведь в этом озере не вода, но купорос, на поверхности которого плавает как пробка даже глинистый сланец.
VII Каменные светляки
Необходимость делает изобретательным. Открытие асбестового слоя навело меня на прекрасную мысль. Где есть каменный шелк, поддающийся прядению, там бывают и другие виды асбестовых кристаллов. Каждый из этих видов представляет род тремолита. Один из этих видов называется горной пробкой; он так легок, что отлично плавает на воде. Я отправился на поиски. Мной оставлялись без внимания великолепные амиантовые наслоения, мягкие, как шелк. Из них можно делать роскошные несгораемые платья; может быть, со временем и займусь этим. Рядом с амиантом был какой-то слой, покрытый тонкой малахитовой корой. Я снял эту кору и увидал раковинный известняк, весь состоящий из миллиардов милиотолитов — крошенных раковинок. Между ними были прекрасные прялковидные церитии и шапковидные, островерхие турбы, на которых местами сиял перламутр. Посреди раковинного известняка лежала плотными слоями родственная асбесту горная пробка. Я высвободил ее топором из мягкого известняка, что было не трудно. За известняком следовал слой глины серовато-голубого цвета, богато усеянной раковинками. Весь поглощенный радостью по поводу открытия горной пробки, я упустил из виду необходимую при таких работах осторожность. Донельзя увлеченный интересным делом, я принялся изо всех сил обрабатывать глину топором. Последствием этого было то, что моя лампочка мгновенно погасла, и сам я, точно пораженный ударом, без чувств свалился с ног. Так, вероятно, я и остался бы на вечные времена, если б ко мне не подоспела неожиданная помощь. В перемешанной с раковинами глине образовалось значительное количество угольной кислоты. Когда открывается выход этой кислоте, то неосторожный рабочий, находящийся близ него, лишается сознания на более или менее продолжительное время, а то и совсем может умереть. Когда я немного очнулся, то мне представилось, что я нахожусь в своей обычной домашней обстановке на родине. Какой-то самозваный цирюльник, вероятно, из числа бродячих кузнецов, отделывал мне лицо ни более ни менее, как терпугом, и по временам потрясающим образом чихал мне прямо в глаза. Когда нее мне удалось окончательно очнуться, я убедился, что я вовсе не у себя на родине, а лежу себе на дне пещеры, и что надо мною возится вовсе не цирюльник, а моя Бэби, язык которой играет роль терпуга, производя одинаковое с ним ощущение. Не будь Бэби так расположена ко мне, и при этом расположении не будь у нее такого, можно сказать, железного языка, да не умей она вдобавок еще чихать так ужасно, — жизнь моя была бы окончена. Удушающий воздух, вследствие своей тяжести, опускается вниз, но такой могучей натуре, вроде Бэби, не может повредить. В ней он вызвал только чиханье и фырканье, спасшие мне жизнь, так как она этим отделяла от меня вредный газ. Умное и мягкосердечное животное, соскучившись обо мне, отправилось искать меня и таки разыскало. Я вскочил, откашлялся и отчихался в свою очередь, потом бросился к Бэби на ее толстую шею и поцеловал ее за ухом, за что она так усердно принялась облизывать мне шею, что содрала кожу, и у меня потекла кровь. Но как же я мог видеть все это? Ведь я давеча сказал, что моя лампа погасла. Да, она действительно погасла, но несмотря на это было светло. Оказалось, что повсюду светились одиночные камни. Свет был слабый, вроде того, какой испускается гнилушками или светляками, летающими у нас летом, но тем не менее его было достаточно для того, чтобы различать окружающее. Эти камни носят название световых магнитов; к ним принадлежат болонские кремни, которые, пробыв хоть несколько минут на солнце, потом светятся в темноте. Это свойство возбуждается в них, однако, не только солнечным светом, но и искусственным. Им лишь нужно, так сказать, пропитаться светом, а каким именно — это безразлично. Мое магниевое освещение было причиной того, что находившиеся в этой подземной пещере камни начали мерцать. Для меня в данную минуту эти светящиеся магниты были ценнее всяких брильянтов и изумрудов, потому что без них я ни за что не ориентировался бы в окружавшем меня непроницаемом мраке и не нашел бы моего верхнего платья и ранца, заключавшего, между прочим, мои приспособления для добывания огня. Все это было сложено где-то мной перед началом работы. Теперь же я взял в руки большой светящийся кремень, нашел, при его мерцании, свои пожитки и тогда вновь зажег лампочку. Бэби очень обрадовалась свету. Она весело оскалила все свои страшные зубы и, в порыве неподдельного восторга, изо всех сил начала тыкать меня носом в ребра, так что я с трудом удержался на ногах. Но вот у нее начался новый усиленный припадок чиханья и фырканья. Поняв, наконец, что это действует так возбуждающе на ее дыхательные органы непривычная ей атмосфера, в которую она попала, моя умница забралась на малахитовую глыбу и с ее вершины следила за моими действиями. Выходило великолепное гигантское пресс-папье: полярный медведь, весом в три центнера, на подставке тяжелее в три с половиной раза! Обогащенный опытом, я возобновил работу уже осторожно. Взяв два лома, я ими широко раздвигал слои глины; при этом вырывавшийся наружу газ лишь постепенно опускался и, вместо того, чтобы сгущаться внезапно внизу, понемногу смешивался с наличной атмосферой. После шестичасовой работы мне удалось освободить шесть кусков горной пробки, стиснутой между глиной и известняком. Каждый кусок был диаметром в полтора метра, а толщиной в двадцать пять сантиметров. Сначала я произвел опыт с небольшим кусочком, величиной в ладонь. Я бросил его в озеро, но он, чуть-чуть погрузившись, немедленно поднялся на поверхность и поплыл. Теперь оставалось только составить из шести плиток плот. Веревки у меня были, багор тоже имелся — более ничего и не требовалось. Сам-то я, конечно, мог отлично переправиться через озеро на этом плоту, но я сомневался, вынесет ли он еще тяжесть тех орудий, которые я хотел взять с собой. Когда плот был устроен, я выбрал на берегу отлогое место и с него спустил мое произведение; оно тихо раскачивалось на синей поверхности, не выказывая ни малейшего поползновения опуститься на дно. Когда я сложил на плот свои пожитки, которые могли весить около двадцати пяти килограммов, он погрузился в жидкость на семь сантиметров. Я вместе с топором и ломами весил килограммов семьдесят пять — эта тяжесть заставит плот погрузиться настолько, что на поверхности останется его всего шесть сантиметров. Это немного, но все же достаточно.
Бэби я никак не мог взять с собой. Я объяснил ей, что скоро возвращусь, и попросил терпеливо ожидать меня. Она поняла меня, проворчала что-то и, улегшись поудобнее, сунула голову между передних лап. Призвав имя Божье, я пустился в путь. Надо было проплыть метров триста, по крайней мере. Будь у меня руль, дело было бы пустячное. С помощью его я погнал бы плот прямо поперек озера и остановился бы как раз против расщелины. Но имея под рукою только багор, я должен был окружить весь берег, цепляясь за его выступы, причем следовало соблюдать величайшую осторожность, чтобы не перевернулся плот. Лишь с большим трудом скользил я этим путем, по временам наталкиваясь на выдающиеся из жидкости массивные куски красной меди. Моя маленькая лампочка освещала лишь небольшое пространство, а зажигать магниевую проволоку мне не хотелось. После долгих усилий я, наконец, достиг того места, где виднелась прельщавшая меня горная расщелина. Под нею находился выступ, шириною приблизительно в пятьдесят сантиметров. По нему я надеялся докарабкаться до отверстия. Плот я спокойно мог оставить: не было ни ветра, ни течения, которые могли бы унести его от берега. Поднявшись на выступ, я оглянулся. Волшебная тронная зала вся была окутана мраком; лишь там и сям виднелось мерцание самосветящихся камней, этих звезд подземного мира. Все они отражались в зеркально-гладкой поверхности темно-синего озера. Взвалив на плечи весь свой багаж, я прошептал молитву и проворно взобрался в расщелину. Предо мною, как я и ожидал, была новая пещера. Я смело двинулся по ней вперед, но, не успев сделать и десяти шагов, остановился как вкопанный. До моего слуха донеслось глухое рычание, и вслед за тем я увидал какое-то чудовище, идущее ко мне навстречу… Смело полагаю, что ни один человек никогда еще не видал такого рода животных и потому он не удостоился еще чести попасть на страницы ученых сочинений Кювье, Бюффона или Окена. Чудовище это было вышиной 6 1/2 футов, и шкура его отличалась великолепнейшим васильковым цветом! Зверь поистине баснословный! Может быть, это царь подземных гномов, и для него устроена та роскошная тронная зала?.. Ворча и рыча, это страшилище приближалось ко мне, крепко прижимаясь к стене. Ужас и изумление совершенно сковали меня. Неподвижно устремив глаза на чудовище, я вытянул пред собой руку с лампочкой, точно эта маленькая штучка могла спасти меня от страшной опасности! Оружия у меня не было с собой, а мои ломы этот дикий зверь наверняка перешибет лапой с одного удара. Яркого света лампы он тоже нисколько ни боится — преспокойно продолжает подвигаться ко мне все ближе и ближе… Вот это ужасное чудовище приблизилось ко мне почти вплотную… Холодный предсмертный пот выступил у меня на лбу и лице… Я закрываю глаза и поручаю душу свою Богу… И вдруг слышу радостный визг, а затем чудовище толкает меня в бок носом… Я открываю глаза и… узнаю свою милую Бэби! Точно желая помочь мне разрешить загадку относительно цвета ее шкуры, она отряхивается, так что в мою физиономию летит целый ливень купоросных брызг. Появление ее объяснилось очень просто. Заметив, что я стремлюсь к противоположному берегу, бедная медведица прыгнула в купоросное озеро, переплыла его прямым путем и потому обогнала меня. Вот она и очутилась тут так неожиданно предо мною, выкрашенная в чудный васильковый цвет. Странно только, что я вовсе не слыхал шума, когда она барахталась в озере!

Должно быть, ей было стыдно своего нового, непривычного для нее наряда, почему она и терлась возле стены, надеясь, очевидно, стереть с себя эту прелестную краску. Ну, да трись — не трись, а от этой краски не скоро избавишься! Но как мне теперь ответить перед природой за то, что по моей милости животный мир обогатился новым видом? Ведь теперь, пожалуй, может развестись племя медведей василькового цвета! Бедная Бэби! Ее привязанность ко мне была просто даже трогательна!
VIII Рождение базальта
Подземный коридор, открывшийся предо мной, образовался из двух лежащих одна над другой каменных пород — диорита и дилорита; последний, видимо, старался вытеснить первый. Пока что, соединение этих двух минералов образовывало тот коридор или, вернее, длинную узкую пещеру, тянувшуюся горизонтально, но со множеством извилин. Эта пещера то и дело прерывалась поперечными пещерами разных величин. Некоторые из них шли вглубь, так что мне в моем движении вперед приходилось то опускаться, то вновь подниматься. Дружба Бэби приходилась мне и вообще-то очень кстати, а тут и подавно. Утомившись прыганьем и лазаньем, я сел к ней на спину и указывал ей направление.
С замечательной быстротой и ловкостью карабкалась она со мной на скалы, спускалась с них опять вниз и перепрыгивала глубокие пропасти. Все время я освещал путь магниевой проволокой. Таким образом она в час промчала меня через такое пространство, которое я пешком одолел бы только в день. Наконец я захотел отдохнуть и поесть. Мы устроили привал. Бэби отказалась есть. Быть может, она поняла, что мои консервы состоят из медвежьего мяса! Известно, что медведи едят сразу помногу, а потом могут голодать долгое время: их питает собственный слой жира в несколько центнеров весом. Это — верблюды ледовитых пустынь и прямо были бы незаменимы при путешествиях по их холодному царству. В промежуточных пещерах я не видел ничего особенно интересного. Одно только поражало меня: чем дальше я подвигался вперед, тем сильнее опускалась ртуть в термометре. Наконец, она стала показывать только четыре градуса над нулем. Я объяснил себе это явление тем, что теплота в малахитовой пещере образовывается вследствие беспрерывных химических процессов, происходящих в купоросном озере. По мере же удаления от этого источника тепла, сжатый между двумя льдами слой земли постепенно поглощал теплоту. Я очень жалел, что не взял с собой меховой одежды. Спасибо, хоть Бэби грела меня, сколько могла. Пропутешествовав еще несколько времени, я заметил новую странность: моя магнитная игла, с помощью которой я отыскивал направление по извилистому пути, вдруг перестала действовать. Она запрыгала во все стороны, нахально утверждая, что север внезапно стал обретаться в любом пункте. Я понял, что вблизи должны находиться или железная руда, или же базальтовые массы. Окружающие меня скалы состояли из долорита, который хотя и является составной частью базальта, но все же не обладает магнитной силой. Дальше мне стали попадаться на глаза сверкающие кристаллы лабрадора, тоже входящего в состав базальта. Я остановился, чтобы достать себе один из этих кристаллов, прельщавших меня роскошью своих цветов. Плоскости кристалла лабрадора отсвечивают зеленым, красным, голубым и желтым цветами, а ребра отливают черным. Иногда же, при перемене направления падающих на них световых лучей, плоскости являются черными, ребра же сверкают всеми цветами радуги. Я путешествовал, выключая время отдыха, уже третьи сутки, как вдруг заметил, что дальше некуда будет двинуться. Опять я очутился в громадной пещере. Она была не особенно высока, но очень длинна и широка. В ней царствовал положительно непроницаемый мрак. Стены ее состояли из магнитного железняка и авгита, казавшегося издали зеленым, но вблизи радужным. Свод был весь из долорита. Все дно пещеры занимало озеро, гладкое и неподвижное, как зеркало. Несмотря на яркий свет магниевой проволоки, я только после двухчасовых поисков открыл в черной железной стене отверстие. Это отверстие можно было счесть за продолжение того подземного входа, по которому я добрался сюда. Вокруг озера шли выступы скалы. Между некоторыми из них расстояние было очень велико, и вообще, прыгать по гладкому железняку представлялось крайне неудобным. Путь этот был очень рискованный, а между тем, другого не было. Или возвращайся назад ни с нем или скачи с выступа на выступ по самому краю озера, может быть, бездонного, — и только при этом условии можно рассчитывать попасть в видневшееся отверстие, ведущее Бог весть куда. Я стал совещаться с Бэби, как нам быть. Не лучше ли будет попытаться переплыть озеро? Раз Бэби не задумалась переправиться через купоросное озеро, то отчего бы ей не переплыть и это? Конечно, она теперь должна будет взять меня с собой и избавить этим от необходимости сооружать новый плот. Бэби, очевидно, соглашалась. Я сел на нее и предложил ей показать свое искусство в плавании.

Она стала на один из выступов и пристально начала всматриваться в озеро. Не знаю, что заговорило в ней — женское ли тщеславие, что ей вдруг жаль стало перекрашиваться из василькового цвета в черный, или инстинкт, часто оказывающийся вернее всяких человеческих расчетов, — но только Бэби не хотела спускаться в озеро. Положим, вид его вызывал и во мне ужас своей мертвенной неподвижностью и чернотой, но отдаться совсем этому ребяческому чувству мне не хотелось. Как я ни убеждал Бэби прыгнуть в озеро, она не соглашалась. Она энергично мотала головой; но видя, что это не помогает, то есть не избавляет ее от моих понуканий, взяла да и села на задние лапы. На, мол, вот: буду тут сидеть хоть до скончания века, а в озеро ни за что не полезу. Делать нечего! Пришлось покориться. Но если не угодно ей плыть, то, быть может, она соблаговолит доставить меня к месту назначения сухим путем? Я повернул голову Бэби по направлению к ущелью и предложил ей переправиться туда по выступам стен пещеры. С этим она вполне была согласна, и мы отправились в путь. Это путешествие, вернее — прыганье с одной глыбы железняка на другую — было невообразимо трудно. Бэби должна была напрягать все свои силы, чтобы вместе со своим всадником делать громадные прыжки и успевать вцепиться когтями в следующую глыбу. Она прекрасно сознавала трудность своей задачи и отдыхала после каждого прыжка. На полпути она начала задыхаться и высунула язык. Я достал фляжку с водой и уксусом и дал несколько глотков своей доброй, храброй и умной подруге. Она точно ожила после этого и снова энергично продолжала свои сальто-мортале. Но вот вдруг прекратились выступы, а между тем, до ущелья оставалось приблизительно метров пятьдесят. Бэби опять уперлась глазами в озеро; она, очевидно, соображала, уж не пуститься ли ей вплавь. Но нет. Пошевелив некоторое время ушами, она вдруг с дрожью отвернулась от озера, затявкала, глядя на крутую стену перед собой, и попробовала, не удастся ли ей вскарабкаться на нее. Я угадал ее мысли. Сняв с себя веревочную лестницу, я обвязал концы ее вокруг Бэби и знаками показал ей, чтобы она взбиралась наверх. Бэби была удивительно ловким гимнастом. Просто завидно было смотреть, как она карабкалась, точно муха, по гладкой скале, пользуясь незаметными для человеческого глаза трещинами! Наконец она добралась до верха. Теперь мне осталось только подниматься вслед за ней по лестнице, привязанной к ней. Бояться было нечего. Опора была надежная: ведь в прелестной Бэби было веса не менее пятисот килограммов! Взобравшись в свою очередь, я очутился на довольно большой площадке, ведущей прямо к ущелью. Несмотря на низкую температуру, я весь был мокрый. Это произошло не столько от усилий, сколько от страха во время наших перелетов через бездны. Достигнув нового коридора, я захотел немного подкрепиться. Кое-как мне удалось уговорить мою Бэби полакомиться жиром птеродактиля. Она совала лапу в банку и потом, свернув ее в комочек, преграциозно облизывала. В том и состоял ее обед. Потом мы улеглись спать и проспали подряд часов десять. Затем мы продолжали свою экскурсию. Но меня ожидало горькое разочарование: коридор оказался очень коротким и оканчивался тупиком. Авгитовые и долоритовыескалы кончались поперечной стеной слюдистого сланца. В этой стене уж не было никакого прохода дальше. Тонкие слои слюдистого сланца свободно лежали друг над другом, точно карты в колоде. Между этим сланцем могло быть пустое пространство только в том случае, если в нем образовался так называемый погреб из горного кристалла. Рудокопы открывают эти погреба тем, что, наткнувшись в сланцевых образованиях на кварцевую жилу, начинают стучать молотком по стене и слушают, не раздастся ли ясного, гулкого звука. Некоторые из этих погребов заключают в себе сокровища ценой в несколько сот тысяч. Но стены моей тюрьмы издавали только глухие, тупые звуки. Следовательно, предо мною находилась сплошная стена, Бог весть во сколько метров толщиной. Таким образом, наши громадные усилия с Бэби попасть сюда оказались бесплодными. Я наконец озлобился, решив, что навсегда остался пленником в этом подземном царстве, и что мне остается только пробраться обратно в мою ледяную пещеру и просуществовать в ней столько времени, насколько хватит у меня запасов. Выйдя опять из ущелья и очутившись снова на краю проклятого черного озера, я взял валявшийся у меня под ногами камень и сердито швырнул его в эту зеркальную поверхность. Тут случилось нечто, для описания чего нет соответствующих выражений на человеческом языке, даже на самом богатейшем. Это озеро оказалось огромным скопищем базальта в мягком состоянии, но уже настолько насыщенного, что он был готов к кристаллизации. Недоставало лишь падения ничтожного камешка в эту массу, чтобы совершилась кристаллизация. Быть может, этот камешек ожидался уже много веков! Когда брошенный мною камешек коснулся поверхности озера, пещера внезапно наполнилась ослепительным сиянием, которое всегда предшествует кристаллизации; а когда оно угасло, раздался страшно оглушительный грохот. Он звучал безостановочно, все постепенно усиливаясь и разрастаясь, как бывает перед вулканическими извержениями. Через секунду перед моими изумленными глазами внезапно поднялись из бездны новые великаны, которых я невольно вызвал к существованию. Это были шестиугольные колонны окружностью в два метра с лишком. Все они были одинаковой величины и возникали одновременно густыми, тесно сплоченными рядами. Не останавливаясь перед сводом, базальтовые колонны пробили его с такой силой, какая не поддается человеческому вычислению. Только что родившийся базальт полминуты тому назад представлял из себя совершенно мягкую массу вроде студня, а теперь прорезал твердый и массивный каменный слой с такой же легкостью, с какой острый нож режет бумагу. Вероятно, это новообразование теперь уже красовалось на поверхности мыса Цихи в виде гигантского гребня или чего-либо подобного. Вследствие громадного трения и давления, вся масса долорита, через которую проложил себе путь базальт, раскалилась докрасна, а там, где базальт еще соприкасался с долоритом, он тоже пламенел. Наконец, все колонны, в свою очередь, засияли огнем и сделались точно прозрачными. Вся пещера казалась наполненной пламенем. Вдруг сделалась такая адская жара, что все живое тут неминуемо должно было погибнуть. Положим, единственными представителями всего живого были только мы с Бэби. Когда жидкое тело переходит в состояние кристаллизации, то уже само собой, вследствие освобождения скрытой теплоты, является сильное повышение температуры. Тут же, от невообразимо страшного трения, жар сделался настоящий вулканический. Я и моя верная спутница уцелели лишь благодаря новому геологическому перевороту, бывшему последствием описанного новообразования. Оба мы полетели кувырком. Хорошо еще, что я попал на медведицу, а не наоборот, а то бы от меня и следа не осталось. При падении у меня было такое ощущение, точно меня крутило вихрем. Вместе с тем, мне казалось, что я вижу звуковые волны, как видят искры, выскакивающие из электрической машины. Эти волны так и мелькали перед моими глазами, как будто разноцветное сияющее море. В следующую секунду я как бы ослеп и оглох. Недоставало лишь мне изжариться живьем! Но этого, к счастью, не случилось. Страшное давление воздуха откинуло меня на несколько метров в тупик, и там вдруг подуло на меня холодной струей, точно морозным ветром. И этот ветер сопровождался ужасным ревом. Откуда брался он? Я не мог пошевельнуться, хотя и был в полном сознании. Меня сковывало любопытство. Мне хотелось еще поглядеть на величественное зрелище, не предназначавшееся для глаз смертного; хотелось подсмотреть падающий с свода огненный дождь, расплавленные, вероятно, уже обратившиеся в яшму каменные обломки; подсмотреть, как начнут гнуться возникшие последними базальтовые колонны и будет трескаться их поверхность, причем каждая трещина, при своем возникновении, издаст такой звук, точно бросаются в море гигантские колокола. Бэби, однако, схватила меня за ворот и оттащила еще глубже в проход. Но, однако, пребывание в этом коридоре было тоже не особенно приятно. Когда я захотел подняться на ноги, это оказалось невозможным. Поднимаясь спиной к базальтовой пещере, я падал навзничь; желая подняться лицом к ней, я летел ничком. Какая-то непонятная сила тянула мою голову к югу, а ноги — к северу. Этой силой оказалось двойное воздушное течение. Из пещеры несся сирокко в восемьдесят градусов тепла, а из прохода тянулся борей в четыре градуса холода. Наконец, я догадался лечь на спину Бэби, где оба течения сравнительно уравновешивались. Но и могучая Бэби должна была собрать все силы, чтобы противостоять напору ветра. Моя лампочка каким-то чудом не погасла. Но откуда же брался холодный ветер? Ведь этот проход был тупой. На этот вопрос скоро получился удовлетворительный и радостный для меня ответ. Сила базальтового превращения совершила большие перемены и в заслонявших мне путь сланцевых наслоениях. Аккуратно нагроможденные одна на другую сланцевые плиты теперь лежали в хаотическом беспорядке, с обращенными друг к другу острыми ребрами и краями. В одном месте, между поднявшимися горизонтально плитами, образовалось треугольное, метра в три вышиной, шатровидное отверстие, откуда проникал холодный воздух, который превращался в настоящий ураган при встрече с горячей атмосферой, которая неслась из базальтовой пещеры. Из всего этого я вывел заключение, что за сланцем должно находиться свободное пространство, непременно обширное, судя по силе давления воздуха.
IX Лабиринт и его обитатели
Но здесь меня ожидало новое разочарование. Горный обвал хотя и проломил поперечную сланцевую стену прохода, но не в прямом, горизонтальном направлении, а лишь так, что беспорядочно разбросанные плиты составляли разветвляющийся лабиринт. Направо и налево, вверху и внизу зияли передо мной отверстия, когда я дошел до конца тупика. У меня не было иного путеводителя, кроме ветра: из малого пустого пространства он дул тише, из большого — сильнее. Отверстия были так малы, что нам с Бэби приходилось проползать в них на четвереньках. Медведица ползла впереди. В качестве пещерной жительницы, она отлично видела в темноте. Пробираясь наудачу туда, откуда дует ветер, изображая из себя своеобразную пару пресмыкающихся, мы с Бэби рисковали застрять в этом каменном хаосе. Ведь могло случиться, что, чего доброго, и назад уж не найдем дороги, да и вперед некуда будет двинуться. Но мы, как истинные герои, не унывали. Вдруг Бэби испустила громкий рев ужаса и стала задом ретироваться через меня. Но я мужественно продолжал ползти вперед и очутился, так сказать, лицом к лицу с призраком, так испугавшим Бэби. Меня он не испугал. Я преспокойно осветил его лампочкой и признал в нем скелет прекрасного чудовища, уже знакомого мне. — Иди назад, Бэби, — уговаривал я мою верную спутницу. — Эта особа теперь не причинит тебе никакого вреда. Это только кости самого удивительного гигантского животного, жившего во дни оны под землей. Известен еще только один экземпляр его. Да, это пресловутый мозазавр, первый представитель которого был открыт ученым Гофманом и назван в честь его мозазавром Гофмана.
Скелет стоял в длинном узком пространстве, стены которого были усеяны кристалловыми формациями. Мозазавр — ящерица в двадцать пять метров длиной, с громадной головой, глазными впадинами с большую тарелку и спинным хребтом в сто тридцать позвонков. Хвост изумительного устройства: он имеет вид широкого корабельного руля с обращенным вверх краем и продолжается гигантской пилой вдоль спины. Конечно, и от ног остались лишь одни кости, но по отпечаткам на камне, бывшем еще мягким в то время, когда его тут замуровало, видно, что они были снабжены плавательными перепонками. Когда же было это время? О, задолго еще до потопа, положившего конец существованию мамонта! И это сокровище теперь мое. К сожалению, я не могу взять его с собой. Оно даже мешает мне, заграждая путь, и по его милости я должен искать себе другого выхода из лабиринта.

Наконец, я стал слепо полагаться на тонкий инстинкт моей лохматой спутницы, которая зашныряла тут что-то уж очень самоуверенно. Нам опять заградила дорогу хелония титанических размеров. Это — черепаха с длинной змеиной шеей. Панцирь ее и посейчас покрыт баланами. Из обломков третьего хода выделялась только голова игуанодона, очевидно, родоначальника крокодила. Кроме двух рядов страшных зубов, у него еще два длинных прямых рога на передней части головы. Мы то и дело наталкивались на разных чудовищ. На раскиданных сланцевых плитах виднелись ясные оттиски листьев, ветвей, жуков и стрекоз допотопного мира. Попадались окаменевшие рыбы, птицы и ящерицы. Кто снес сюда эту необозримую коллекцию? Кто смешал ее в такой пестрый хаос? Как попали бок о бок обитатели суши, пресной воды и морского дна? Каким ветром занесло растения, птиц и стрекоз? Кто разрешит эти вопросы? Слюдистый сланец часто хранит в себе и благородные металлы. Во многих местах я натыкался между слоями и на богатые серебряные жилы. В них были целые полосы чистого серебра. Раз мне попались на глаза даже массивные слитки чудного золота, ярко обрисовывавшиеся на черном фоне. Но я отвертывался и от серебра, и от золота. Я искал воздуха и воды.
X Пещера горного кристалла
Наслоения слюдистого сланца не содержат в себе воды, а в моей, хотя и объемистой, фляжке оставалось уж очень мало живительной влаги. Я ведь не рассчитывал, что так долго буду «в дороге», и вначале обходился очень расточительно со своими запасами. Ну, где я тут найду водяную жилу? Ведь надо мной, на поверхности того места, где я находился, не бывает осадков. Образоваться тут ручьям и источникам не из чего: нет дождя и вечные льды не тают. А все-таки я надеялся наткнуться на воду. Производит же теплота медного рудника осадки из ледяной пещеры; тем более от высокой температуры, образовавшейся вследствие прорыва базальта, должна была так раскалиться часть скалы, что лежавший на ней лед не мог не таять. А раз произойдет таяние льда, то, конечно, появится и вода. Да мне только и осталось надеяться на это. Я бы мог возобновить свой запас воды, возвратившись назад в ледяную пещеру, но этому возвращению мешала теперь базальтовая пещера. Пройти через это раскаленное докрасна пространство не было никакой возможности. Надо переждать, когда она прохладится струями холодного воздуха, проникавшего из других пещер. Ну, а когда еще дождешься этого? Лучше всего продолжать путь вперед. Один из новообразовавшихся ходов между развороченными слоями сланца шел сначала отлого вниз, потом постепенно делался все круче и круче, так что, наконец, его стены стали совершенно вертикальными и, вдобавок, гладкими. Видя, что мне не за что будет цепляться при спуске по этому ходу или, вернее сказать, по этой трубе, я опять обвязал Бэби веревочной лестницей. Пока я спускался по лестнице, медведица неподвижно стояла наверху, а потом медленно следовала за мной, искусно пользуясь когтями вместо тормозов. Если придется возвратиться назад, она взберется впереди меня вверх и потащит за собой лестницу. Вообще, мне с ней было очень удобно. Она выручала меня во всех затруднительных случаях. Всего более возни было мне с моим багажом, который иногда только с трудом протискивался в узкие расщелины. Пока я спускался вниз по трубе метров в двадцать длиной, мне все дул навстречу холодный ветер. Когда же я очутился на дне новой пещеры, движение воздуха вдруг прекратилось. Мы с Бэби попали в пространство до того узкое, что едва могли двигаться по нему. Выхода оттуда нигде не было видно. Бэби боязливо глядела на меня, навострив и выгнув вперед уши. — Не бойся, Бэби, — сказал я, постучав молотком по стенам скалы: все благополучно. Слышишь, как гулко тут звучит? Избавление близко. Мы проломим эту стену, будь покойна, Бэби, и тогда будем спасены. Только предварительно мы отдохнем. Ведь мы не спали уже целых тридцать шесть часов. Итак, мы сделали привал. Ночь была тройная — в силу сна, в силу подземного мрака и в силу того, что Северный полюс в это время находился как раз в периоде полугодовой ночи. Первая ночь, наконец, прошла; я проснулся бодрым и оживленным. Моя спальня, показывавшая во время моего прибытия в нее всего два градуса тепла, теперь показывала 10. Это я приписал испарениям ночлежников — меня и Бэби. Между тем, и воздух сделался удушливее, так как во время сна наши легкие поглотили весь наличный кислород. Надо было поспешить с расширением нашей темницы. Однако, это было несравненно легче сказать, чем сделать. При постукивании молотком в поперечную стену слышался звонкий гул, что доказывало существование за ней пустого пространства. Когда же я начал проламывать ее топором, топорище при каждом ударе хватало меня по руке, точно я обрабатывал кремни. Из этого я заключил, что за сланцем следует слой кварца.
Я проработал подряд несколько часов, чтобы проломить такое отверстие, в которое было бы можно просунуть руку. Нет, очевидно, топором и ломом ничего путного не добьешься. Надо было прибегнуть к более сильным и действенным мерам. У меня были нитроглицериновые патроны. Один из них я и вложил в проломанную мною брешь. Патрон был снабжен часовым механизмом и мог взорваться только в определенное время. Между тем, я спрятался с Бэби в каменной трубе, чтобы избежать последствий взрыва. Раздался звук, точно от ружейного выстрела, а за этим последовал сильный, долгий и протяжный гул и невообразимый грохот распадавшейся горной массы. Я вышел из трубы. Дым от патрона тянулся не в нее; значит, он нашел себе другой исход. Я зажег магниевую проволоку и осветил ею образовавшееся круглое отверстие, окружностью метра в два с половиной. То, что я увидал, живо напомнило мне знаменитую сказку из «Тысячи и одной ночи». Передо мной находилось совершенно круглое, шарообразное пространство — «кристалловый погреб». Он превосходил своим богатством и роскошью те погреба этого рода, которые открыты при Курте, под Монбланом и в ледниках Тетро и при Наносе в Верхнем Валлисе. Верхний свод был ослепительно белый и весь усеянный маленькими, тоже белыми кристаллами, происходившими, вероятно, от испарений кварцевой жилы. Чем ниже, тем свод гуще был усажен шестиугольными кристаллами, сверкавшими, как алмазы. На боковых же стенах виднелись группы призм длиной в 50 сантиметров. Дно же все состояло из скопища кристалловых столбиков, шестиугольных пирамид и двойных конусов длиной в 4–5 метров, а шириной в метр. Во многих местах эти кристаллы, принадлежавшие к самым драгоценным породам, были раскиданы в пестром, живописном беспорядке. Кое-где две колонки скрещивались, составляя одно целое. На крупных кристаллах лепились мелкие. Вся пещера так и сверкала, мерцала, сияла и переливалась миллиардами разноцветных искр. Радужные лучи перекрещивались во всех направлениях. Нигде не видно было ни малейшего темного пятнышка. Картина была поистине волшебная!

Тут нет никаких побочных каменных или металлических пород. Здесь царит только кристалл, пользующийся названием единственного. И к нему не примешивается ни одного зернышка цветных видов: ни желтого цитрина, ни коричневого топаза, известного под именем дымчатого, ни черного кориона. Нет, кроме совершенно бесцветного, прозрачного, как вода, кристалла, тут нет ничего. Диаметр, этой пещеры был но меньшей мере в сто метров. Я вошел в эту чудную сокровищницу с таким благоговением, точно вступал в храм божества. Да и не было ли это, в самом деле, храмом, превосходившим своим великолепием все те соборы и храмы, созданные руками человеческими? Никогда смертным существам не создать ничего подобного! Посреди пещеры, прямо против устроенного мной входа, шла галерея. На ней стоял точно церковный орган, как в моей ледяной пещере, а за ним шли снизу вверх четырнадцать гигантских колонн.
XI Первобытный человек в кристалле
Я прикрепил магниевую проволоку к одному из сверкающих конусов и пошел обозревать пещеру во всех подробностях.
Колонны, заинтересовавшие меня грандиозностью своих размеров, были выше самого высокого человеческого роста и толщиной в полтора обхвата. Я подошел к ним и залюбовался их прямизной и безукоризненностью линий. Обойдя кругом одну из этих колонн, я приблизился к другой, задней, и вдруг в сильнейшем испуге отскочил: в середине кристалловой призмы стоял… человек! Как в маленьких кристаллах и кусках янтаря часто попадаются допотопные жуки, кузнечики и стрекозы, так и в этой громадной призме был заключен допотопный человек, стоявший во весь рост! Да, это было не четверорукое существо, не допотопная обезьяна, но настоящий homo primogenius, первобытный, допотопный человек. Человек этот, мужчина почти шести футов ростом, стоял с немного приподнятыми руками и сжатыми кулаками. У него был высокий гладкий лоб, поражавший тем, что представлял во всей фигуре единственное место, не покрытое растительностью. Известно, что первобытный человек снабжался природным одеянием до тех пор, пока он не выучился убивать животных и прясть шерсть. А будучи травоядным, он очень долго не имел повода учиться убийству, по крайней мере, с утилитарными целями. То, что в настоящее время является на человеческом теле лишь в виде пушка или едва заметных волосиков, прежде составляло пушистую шерсть, защищавшую от непогод. Грудь, шея, плечи, руки, и ноги — все было покрыто шерстью. Это было животное, только с человеческими формами, с высоким выпуклым черепом, большим выгнутым носом и с подбородком, образующим с профилем прямую линию. Это был старик, судя по белизне его курчавых волос, бороде и всей его шерсти. Как попал этот человек в кристаллическую массу? Да так же точно, как попал бы и я в базальтовую колонну, если б инстинкт животного не превосходил человеческий разум. Только Бэби избавила меня от этой опасности! Вероятно, и этот человек, спасаясь от страшной катастрофы, перевернувшей часть земного шара (а может быть, и весь), попал в пещеру как раз в то время, когда все дно ее было покрыто готовившейся к кристаллизации кварцевой кислотой. Эта кислота показалась ему водой. Быть может, он хотел переплыть ее, а то просто пожелал напиться, и в тот момент, когда он коснулся ее поверхности, родился кристалл.

Какой роскошный гроб создала ему природа! Самородный, цельный кристалл, предохранивший его даже от разложения. В этот великолепный гроб не мог проникнуть ни один из деятелей, производящих разрушение органического тела. И смерть и заключение в гроб произошли одновременно, что тоже способствовало сохранению тела. Образование горного кристалла не вызывает тех явлений, которые сопровождают рождение базальта: не было ни трения, ни прорыва, а потому не было и каления. Ведь попадись я в базальт, то не только испепелился бы, но из моего праха образовался бы, при данных условиях, какой-нибудь новый минерал или металл! Рождение горного кристалла могло разве только вызвать такую степень тепла, которая не могла допустить человеческой крови спуститься ниже нуля в течение неисчислимого ряда тысячелетий. Температура эта должна была сохраниться на вечные времена в кристалловой коре, служащей, как известно, самым дурным проводником тепла. — Здравствуй, праотец! — проговорил я, почтительно обнажая голову перед этой своеобразной антикварной редкостью. Он не отвечал. Очевидно, он не был знаком с венгерским языком. А в самом деле, на каком же языке говорили тогда? Я стал продолжать обход. Быть может, я найду еще несколько его современников в подобном же положении. Но не все колонны оказались такими прозрачными. Да и этот гроб был с двух сторон покрыт слоем мелких кристаллов, не позволявших глазу проникнуть внутрь. Некоторые из колонн сплошь были одеты такой непроницаемой корой. Я пробуравливал окошечки и смотрел в них. Мной руководило при этом особого рода соображение: где есть мужчина, там должна быть и женщина. У этого Мафусаила, наверное, были внучки; быть может, он одну из них и привел с собой… Но вот я дошел до призмы, пять сторон которой были покрыты толстым слоем маленьких кристалликов, но шестая совершенно прозрачна. Чистая, ровная поверхность сильно преломляла лучи, переливавшиеся в ней всеми цветами радуги. И в этой чудной призме лежала… нет — стояла молодая, вполне сохранившаяся женщина. У нее было гладкое лицо оливкового цвета, как будто малайского типа, овальной формы. Выпуклый лоб, тонкий красивый нос, прелестно очерченный рот. В момент катастрофы, когда образовывавшийся кристалл обхватывал ее, она в ужасе подняла вверх руки.

В таком положении она и осталась. Ладони рук были сложены как бы для молитвы… Как долго она молится!.. А почему она не была измята кристаллической массой? О, кристалл очень бережно обходится с попавшими в него посторонними телами; даже тоненькие крылышки стрекозы в нем сохраняются так, как будто они живые, и шелковистые волосики попавшего в него эпидота даже не покороблены. У этой женщины не было такой природной женской одежды, как у старика, но, тем не менее, она не была и обнажена. Это хотя и странно, но все-таки верно. Она имела золотисто-рыжеватые волосы, и они своей массой совершенно покрывали ее. Вы видали, как тоненькие корни некоторых растений выбиваются из глиняного горшка и покрывают его весь? Точно так же, и у этой допотопной красавицы волосы не только покрывали ее, но прямо заткали тело с головы до пят. Казалось, она вся, за исключением лица и рук, была плотно завернута в золотистую ткань. Судя по этому, волосы у нее не переставали расти с момента заключения ее в кристалловый гроб, то есть в течение двухсот веков. А из этого следует, что допотопная девица (мне сдается, что она девица: уж очень молода она) должна жить и по сие время! Положим, говорят, что волосы обладают способностью расти и после смерти. Может быть, и так, но не думаю, чтобы этот рост мог продолжаться до бесконечности, а уж в кристалле они никак не могли бы расти на мертвом организме. Кристалл плотно обхватывал все тело: кожа мертвеца суха и тверда. Значит, волосы могли расти в этом футляре лишь при условии, чтобы кожа была мягка и эластична, как в живом состоянии, то есть могла бы поддаваться напору волос. Если же волосы могли так оплести тело, то не только жили волосы, но жило и само тело. Неужели же в этих допотопных людях до сих пор тлеется искра жизни! Что же в этом необычайного? Не находили разве в каменном угле живых лягушек? А ведь каменный уголь — это такой земной продукт, для образования которого нужны сотни тысяч лет! Каким же образом сохранилась в нем жизнь? Таким, что она не могла исчезнуть: не происходило никакого испарения. Между индийскими факирами есть такие, которые морят себя голодом, затем их зарывают живыми в могилу. После нескольких недель их откапывают и пробуждают снова к жизни. Отчего же не могло произойти того же самого с этими допотопными людьми? Кристалловая масса в одну секунду одела их герметическим покровом. Дыхание, тепло и электричество — все условия жизни моментально были отрешены от внешнего мира, но тело не успело отрешиться от них. С тех пор кристалловая оболочка отдаляла от тела все факторы того прекращения обмена веществ, который мы называем смертью. Кровь не могла застыть в жилах, но и не могла больше циркулировать; нервы ослабли, мозг заглушался, каждая часть тела в отдельности и все вместе прекратили свои действия, поры кожи более не способствовали выделениям, но… все-таки жизнь не исчезла, а только… заснула. И эту жизнь можно было снова возбудить. При подобных мыслях меня попеременно бросало то в жар, то в холод. Я радовался неописуемой радостью, когда додумался до того, что вот я, заброшенный на краю света человек, могу вызвать себе из скалы сотоварищей, — существ, подобных мне, которые разделят мое одиночество. Радовался тому, что снова услышу голоса людей и увижу глаза, в которых горит сознание и сочувствие человека к человеку… Да, эти люди доисторических времен или выучатся моему языку или же научат меня своему. И сколько они порасскажут мне о тех давным-давно канувших в вечность периодах, следы которых сохранились только в раковинах, глине, песчанике, сланцевых слоях и меловых отложениях — в виде различных остатков и оттисков, а иногда в виде целых первобытных форм! Дороже всех сокровищ, хранящихся в земле, были бы мне люди, которые могли бы в понятных мне звуках передать о том, что происходило несколько десятков веков тому назад. Я бы узнал, какой вид имела тогда земля, какое положение занимал на ней человек и что вообще делалось в те времена. Да, я бы узнал то, чего никогда не постигнут ученые всего мира, и поведал бы этому миру о всех тех тайнах, если б угодно было Богу возвратить меня снова на землю из недр ее. Но меня охватывал и трепет ужаса, когда я спрашивал себя, дозволено ли смертному вмешиваться в великое дело восстания из мертвых, — дело, присущее только одному Творцу? Смею ли, дерзну ли я отворять гробы и пробуждать людей, спящих в них целые тысячелетия и в этом вековом сне дожидающихся суда Божия, и сказать им: «Живите снова до следующей смерти»? И что, если эти люди взглядами и словами спросят меня: «Где же мир? Раз ты пробудил нас к жизни, то возврати нам наш мир! Где наши поля, над которыми простиралось светящееся и ночью небо? Где источники света и тепла? Где наши обильные плодами леса? Где те деревья, из коры которых тек мед, и внутренность которых заключала в себе сладкую муку, а корни давали молоко? Где те деревья, с листьев которых лился ароматный, освежающий напиток? Где четвероногие великаны, расчищавшие нам дорогу в наших первобытных лесах и спасавшие нас от гиен? Где те могучие птицы „моа“, которых мы отгоняли камнями, чтобы взять их громадные вкусные яйца? Где вечнозеленая трава, в которой мы строили себе гнезда, подобно птице „латами“? Где же, где тот мир, в котором были только две смены года — весна и осень, вечные и нераздельные?..» И я поведу их на поверхность земли, укажу им на настоящий мир и скажу: «Вот он, мир! Тут вечные льды, вечные снега и вечная ночь! А северное сияние — вместо утренней зари!..»
XII Двадцатитысячелетняя невеста
Сомнения мои основывались не только на метафизических и психиатрических соображениях, смущали меня затруднения и чисто физического свойства. Если я оставлю в стороне все соображения высшего порядка, а последую лишь своим, так сказать, инстинктивным побуждениям, то как я, прежде всего, открою эти гробы? Вскрыть кристалл в полтора обхвата толщиной — не то, что взломать какие-нибудь гнилые доски! Не без причины кристалл называется вечным камнем. Кристалл — продукт гидрохимический, возникший из химических процессов воды. Но он никогда, ни при каких условиях, не может опять сделаться тем, чем был, — растворенной в воде студенистой массой. Положим, я мог бы его разбить. Надо только сильно ударить молотком по вершине кристалла, там, где сходятся все грани, чтобы он распался на большие куски. Но такой удар подействовал бы на заключенного внутри кристалла человека так, как будто бы я его самого хватил по темени. Если он еще и жив, то неминуемо должен умереть от этого. Есть, впрочем, и еще одно средство разрушить кристалл. Если тереть ту поверхность кристалла, которая покрыта шероховатой кварцевой корой, другим куском кристалла, то вся призма наэлектризовывается, накаляется и начинает светить. Тут следует сразу полить его ледяной водой, и тогда весь он начнет трескаться по всем направлениям, так что отдельные куски распадутся от легких ударов чем-нибудь металлическим. В то время, когда производятся трещины, кристалл звенит и поет, точно цитра. Да, это все прекрасно, но откуда же я возьму воду? Этот вопрос особенно смущал меня. Если я пробужу этих людей от их векового сна, то сделаю большую глупость, хотя бы только по тому одному, что мне нечего дать им есть и пить. Запас воды у меня истощается, а пища моя состоит из проперцованного медвежьего мяса. Допотопных же людей мне пришлось бы поить молоком, как новорожденных младенцев. Пожалуй, и уход за ними понадобится такой же, как за теми пискунами… Нет, лучше спите с Богом! Вам ведь безразлично, какое бы время ни заключалось между вчера и завтра. Ведь для вас существует только одна длинная, вечная ночь! Мне же нужно найти выход отсюда. Я был уверен, что из этой пещеры можно пробраться прямо на волю. Сообщение с внешним миром должно было, по моим расчетам, находиться сзади кристалловых гробов. Кристаллизация совершилась в то мгновение, когда оба эти человека коснулись жидкой кварцевой кислоты. Откуда-нибудь да пришли же они. Вход мог быть только со стороны, противоположной той, откуда спустился я по новообразовавшемуся пути. Наверное, этот вход закрылся мгновенно возникшей кристалловой массой, но его можно будет найти посредством постукиванья молотком: звук выдаст его. Возле гроба женщины лежал какой-то круглый предмет. При ближайшем осмотре он оказался скорлупой яйца динорниса.
Эта птица-великан жила еще в прошлом столетии и составляла на острове Новозеландии единственную пищу маорисов. Съев последнюю птицу, они стали съедать уже друг друга. Первобытные люди могли овладеть только яйцами динорниса: гигантская птица устраивала настоящие правильные сражения даже тогда, когда люди начали нападать на нее уже с оружием в руках. Скорлупа яйца динорниса, наверное, служила допотопным людям сосудом для сбережения пищевых продуктов. Я хотел перевернуть яйцо, но это оказалось невозможным: оно сплошь было покрыто кристалловой корой, слившейся с дном пещеры. Я уже говорил, что в одном месте грота шла галерея, на которой и помещалось то дивное сооружение природы, походившее на церковный орган. Вся эта галерея тоже была покрыта кристалловым ковром, белым как снег и сверкавшим радужным блеском бриллианта. Местами, однако, виднелись группы кристаллов цвета ржавчины, разветвлявшиеся в обе стороны. Я понял, что это были следы человека, принесшего на ногах грязь, содержавшую железо. Это-то железо и дало некоторым из кристаллов ржавую окраску. Почему же остались следы только одною человека, когда тут оказывалось двое? Вероятно, дед нес сюда свою утомившуюся внучку на руках. Быть может, она была его любимицей или последним отпрыском его рода, который он хотел спасти во что бы то ни стало, когда все гибло вокруг. Чем более я всматривался в эту молодую красавицу, тем тоскливее сжималось мое сердце. О, если бы я мог вдохнуть ей жизнь!.. Да, если я сам останусь жив, то непременно вернусь к ней, и тогда из-за нее поспорю со смертью. Я тут же обручился с двадцатитысячелетней, но тем не менее такой молодой девушкой и обещался никогда не любить другую ни под землей, ни на земле. Мне показалось, что она при этом улыбнулась. Бедная, добрая Бэби! Заметив, с какой грустью я всматривался в прелестную мертвую или, вернее, спящую красавицу, она принялась старательно облизывать кристалловый гроб, в том предположении, что это лед, который можно слизать языком! И вот я стал женихом допотопной красавицы! Самая богатая фантазия не могла бы предвидеть ничего подобного. Если бы мне кто-нибудь предсказал подобную вещь, я бы счел его за сумасшедшего. А между тем, это была правда, это был факт. Да, у меня редкостная невеста, — одних лет с горным кристаллом и динорнисом… И я мог еще шутить при таких грустных обстоятельствах? А разве я шутил? Нет! Напротив, я относился ко всему крайне серьезно. Я хочу жениться на этой девушке, с которой так неожиданно столкнула меня судьба. Да, но для этого мне необходимо предварительно озаботиться, чтобы я мог не только прокормить ее, но и доставить ей всевозможные удобства, чтобы она не пожалела о своем пробуждении от многовекового сна. Будем же продолжать нашу экскурсию, Бэби! Быть может, мы и найдем все то, что нам нужно. До свидания, обворожительная допотопная девица!.. А вдруг это царская дочь? Да — наверное, так: у нее такое благородное лицо. Ах, как страстно хотелось мне, чтобы она открыла глаза!
XIII Дворец кита
Я пошел по кристалловым следам, и они привели меня к новой группе колонн; основания их вместе со стеной составляли острый угол, что заставило меня призадуматься. Осветив лампочкой эти углы, я увидал, что за ними скрывается узкий проход; это-то мне и нужно было. Кое-как протиснулись мы с Бэби сквозь это отверстие и попали в новый коридор, состоявший тоже из долоритовых и железняковых масс. При первых же шагах меня радостно поразило присутствие… грязи. Где есть грязь, там обязательно должна быть вода. Значит, в этих скалах есть водяные жилы! Да, со стен бежали тонкие нити воды. Бэби останавливалась и с наслаждением лизала их. Ход круто спускался вниз. Согласно показаниям моего барометра, мы находились не выше двадцати метров над уровнем моря. Мы беспрерывно двигались вперед уже три часа. Наконец, ход начал расширяться. Он становился все выше и просторнее. По временам встречались глубокие пропасти и боковые гроты. Еще немного — и мы очутились в обширной пещере, метров полтораста в окружности, сплошь выложенной простым коричневым камнем. Невзрачная это была пещера, а между тем, она заключала в себе неоцененное сокровище. Посреди нее находилось озеро, беспрерывно пополнявшееся тонкой струйкой воды, бившей из противоположной стены. Вокруг озера шла широкая галерея. Без галереи не обходится тут, очевидно, ни одна пещера. При своих постройках люди многое могли бы позаимствовать у мудрой природы! Плеск воды был для моего слуха прекраснейшей музыкой. Наконец-то я нашел воду, настоящую воду! Я кинулся с фляжкой к озеру. Бэби предупредила меня и жадно принялась лакать воду, вступив в нее передними лапами. Но после двух-трех глотков она вдруг отскочила назад, повесила голову и гневно зарычала, глядя на меня. — Что такое, Бэби? — с испугом спросил я. — Разве вода нехороша? Я сам отведал воды… Бррр! да это горькая вода! Та самая, которая употребляется при расстройстве желудка. Но у нас с Бэби вовсе не расстроены желудки, и мы нуждаемся не в лекарствах, а только в чистой, хорошей воде. Я начал было роптать на судьбу, так жестоко обманувшую нас, но вдруг мне пришла одна мысль. — Стой, Бэби! — воскликнул я. — Может быть, для питья годна та струйка, которая падает прямо из скалы. Вероятно, вода делается горькой только в этом бассейне от свойств его дна… Пойдем, Бэбешечка, попробуем. Моя умная спутница поняла меня.
Я опять сел к ней на спину, и она перетащила меня через озеро прямо к той стене, из которой струилась вода. — Слава Тебе, Господи! — закричал я, едва помня себя от восторга, когда глотнул прямо из струи. — Вот это уж, действительно, чистая, настоящая вода! Пока я наполнял мою объемистую фляжку, Бэби утоляла свою жажду. Вода, обильно насыщенная кислородом, была совершенно прозрачна, свежа и холодна до того, что просто жгла руки. Наполнять фляжку мне пришлось очень долго. Узким отверстием было очень трудно ловить струю, а Бэби ни минуты не стояла спокойно, чем еще более затрудняла эту процедуру. Покончив, наконец, с этим важным делом, я велел Бэби перенести меня обратно на тот берег. Вода была; теперь следовало поесть. Меня давно уже морил голод. Может быть, и Бэби теперь не откажется составить мне компанию в еде. Достигнув берега, я хотел достать банки с консервами… Увы! моего багажа более не оказалось: он исчез, испарился как туман. Но как это могло случиться? Я отлично помнил, что оставил его на берегу, вместе с моими железными орудиями, которые тоже пропали. Что это значит? Разве тут бродят горные духи? Бэби угадала мое горе. Скорее моего додумалась она и до причины исчезновения вещей. Она, очевидно, не останавливалась на предположении о существовании горных духов, а смотрела вверх, обнюхивая воздух, потом с тихим, успокаивающим рычаньем толкнула меня носом в бок. Я посмотрел, куда глядела она, и увидал на вершине глыбы в пять метров вышиной все мое движимое имущество, включая и орудия. Но как попало оно туда? Сам я не мог этого сделать, если бы даже и захотел. Ставши на цыпочки и вытянув руки, насколько было возможно, я все-таки не мог достать до такой высоты. Кто же снес туда мои вещи? Никто не сносил: я сам положил их на глыбу, а потом очутился на пять метров ниже ее. Но как же это случилось? Кто произвел такое чудо? — отлив, вот кто! Пока я стоял в озере, наполняя фляжку водой, уровень озера опустился на пять метров. Но в таком случае, это озеро должно составлять часть свободного моря. Вот почему и вода в нем такая горько-соленая, настоящая морская. Мое предположение оказалось совершенно верным: тут под материком находится еще слой льда, а под ним — море. Ледяной слой держит землю на поверхности моря. Впоследствии эта моя догадка подтвердилась еще более. Я стал ломать себе голову над решением интересного вопроса, как бы мне теперь достать мои вещи. Бэби постыдно покинула меня. Она возвратилась в озеро и там что-то все нюхала и фыркала. Кое-как я один вскарабкался на глыбу, достал консервы и принялся утолять свой голод. В течение двух лет я был лишен свежей воды, и теперь я пил ее с таким наслаждением, точно это был райский напиток. Благодаря этому и обед показался мне удивительно вкусным… Но Бэби и на этот раз не разделила моей трапезы: она ела что-то в озере, отчаянно чавкая и по временам повизгивая от удовольствия. Я вгляделся и понял, какое она нашла себе угощенье. Из озера выступала небольшая серая скала, и она сплошь была усажена большими тарелковидными раковинами. Эти слизняки очень вкусны, но лепятся так крепко к камню, что их с трудом можно снять. Впрочем, Бэби, как знакомая с морскими обитателями, очень ловко и быстро снимала их когтями. Закусив хорошенько, я спустился к озеру и сам достал себе пару раковин. Съев их, я захотел достать еще про запас. Для этого мне надо было пройти немного дальше. Дорогой я наткнулся на большие куски какой-то зеленоватой массы. Это оказалось амброй, тем драгоценным благовонным веществом, которое находится только во внутренности кашалота. Как попало оно сюда? Ведь амбра никогда не опускается на дно воды, но всегда плавает на поверхности. Странно! Ну да ладно, доберусь и до этого. Главное то, что у меня теперь есть вода, есть и устрицы, хотя и не те, которыми объедаются наши великосветские лакомки. Быть может, найдутся в воде и циприноды — маленькие белые рыбки. Их очень много в североамериканской Мамонтовой пещере, находящейся на глубине двенадцати метров под землей и состоящей из нескольких отделений. Да, это очень интересная пещера. Одно из ее отделений называется Залой гигантов, вследствие ее громадных размеров, другое — Залой привидений, потому что в нем содержится множество мумий ацтеков. Там же есть большое озеро, названное Мертвым морем; в нем-то кишмя кишат белые циприноды, что, в сущности, сильно противоречит его названию «мертвого». Все это я рассказал Бэби, которую начинающий вновь прилив погнал обратно ко мне. Она вполне насытилась раковинами и потому, спокойно расположившись у моих ног, внимательно слушала мои геологические замечания. Волны прилива сильно ударялись о берег. Подземное озеро волнуется… Вот это для меня ново! Обыкновенно такие озера лежат тихо и неподвижно, как зеркало. А это шумит и плещется!.. Наверное, в наружном море бушует буря и отзывается здесь, в этом мрачном подземелье. Я решил лечь спать, а проснувшись, предполагал опустить в озеро рыболовную сеть, — может быть, и попадутся рыбы, если они водятся здесь. Нужно сознаться, что, кроме ципринодов, я ни на что не рассчитывал, а между тем, судьба послала мне такую рыбку, что мое почтение! Долго ли я спал — не знаю, но вдруг мой сон был нарушен таким ужасным храпеньем, что я вскочил, пораженный ужасом… Правда, Бэби тоже имела обыкновение прилежно храпеть во сне, но она тотчас же прекращала эту музыку, как только я ударю ее но носу. В данную же минуту храп производился не моей спутницей, да по-моему, даже и сто медведей не могли бы храпеть так сильно. Мало того, пожалуй, и целый полк самых усердных солдат не мог бы испускать таких поразительных звуков! Казалось, что в течение нескольких минут грохочет гром, который прерывается затем, чтобы возобновиться еще с большей силой! Сначала втягивался воздух, потом выпускался. В первом случае напоминало начинающуюся бурю, во втором — свирепствующий ураган. По временам мотив этой чудовищной музыки изменялся вставкой нескольких более высоких нот, которые оканчивались невообразимой какофонией… Что ж этозначит?.. Уж не попали ли мы в пещеру Полифема? Только этот сказочный великан и мог так храпеть. Перед сном я всегда тушил лампу, чтобы не сгорало зря масло. Тем не менее я мог все видеть. Вода светилась. Сквозь волны пробивался фосфорический свет, образуя на гребешках их сплошное, хотя и слабое сияние. Брызги, летевшие на берег, казались огненными искрами. Посреди этого светящегося маленького моря лежала какая-то громадная бесформенная масса… Это был кит! Я рассчитывал найти крохотных рыбок, и вдруг судьба мне послала целого кита! В нем было по меньшей мере сорок метров. Да, такого размера бывают дунайские пароходы! Голова его наполовину выделялась из воды. Волны свободно переливались по огромной пасти. Под густыми рядами гигантских зубов, доставляющих так называемый китовый ус, виднелся могучий жирный язык. Глаза были полузакрыты. Кит изволил почивать и при этом своим богатырским храпом потрясал все своды пещеры… Оказывается, что я попал в спальню кита! Вернее сказать, это была китиха, судя по тому, что на хвосте этого чудовища покоился детеныш — прелестная миленькая крошка… величиной превосходившая взрослого буйвола! Но этот буйвол, по понятиям господ китов, был маленькое, хрупкое и беспомощное существо…

Двумя плавниками, которые, подобно человеческой руке, были снабжены пятью пальцами, этот прелестный китеночек крепко обхватил материнский хвостик и качался на нем, как в люльке. — Вот бы нам с тобою, Бэбушечка, лакомый кусочек жаркого! — шептал я медведице. Она разинула пасть и облизалась в предвкушении роскошного блюда. — Нет, погоди! Нечему еще радоваться! — продолжал я, щелкая ее по носу. Она заворчала: ей не понравились мои слова или же обидел незаслуженный щелчок по носу. — Что делать, немного потерпи, дружок! — уговаривал я ее. — Нам не следует причинять этому киту никакого вреда: это важный капиталист, которым надо пользоваться умело и осторожно. Понимаешь, Бэби? Но она ничего не поняла и продолжала сердито ворчать. Впрочем, это мало смущало меня. Я знал, что мне было нужно. Придумав план действия, я начал вычищать и выполаскивать мои банки для консервов. Я мог бы очень легко убить кита. Случайно у меня было с собой несколько китоловных острог, из тех, которые начинены взрывчатым веществом. Эти остроги или выпускаются из ружей, или же прямо рукой бросаются в кита. Как только они проникнут в его шкуру, патрон взрывается и убивает животное на месте. Ведь этот гигант, в котором будет, пожалуй, около полутора тысяч центнеров, обладает очень слабой жизненной силой. Он труслив, как щенок, и достаточно маленькой раны, чтобы убить его. Мне не хотелось этого делать уже потому, что труп его никак не мог бы быть съеден одной Бэби (мясо кита только и годится в пищу медведям), а стал бы гнить и распространять такой смрад, что мне пришлось бы раньше времени бежать из этой пещеры. Между тем, храп мало-помалу прекращался… Началось сопение и фырканье. Из ноздрей кита поднимались кверху две струи, вернее — столба воды. При этом так шумело, как будто выпускали пар из пароходного котла! Затем китиха зевнула и зашевелила хвостом и разбудила китенка. «Крошка» очнулся, спустился с своего ложа и неуклюже завертелся вокруг матери, которая издавала что-то вроде нежного хрюканья. Потом эта «счастливая мама» высунула бочкообразный язык. Китенок крепко обхватил его, мать втащила сынка на языке в свою пасть и опять вытолкнула его, не роняя, однако, в воду. Это повторилось несколько раз подряд. Вероятно, таким образом производилось утреннее умывание молоденького кита. Этим способом мать очищала своего детеныша от впившихся в него баланов — морских пиявок. Не производи она этой процедуры, баланы пробрались бы под кожу китенка и там преспокойно угнездились бы. Теперь настала очередь действия, которое я давно уже ждал. Как известно, киты выбирают самые укромные места, чтобы кормить детенышей. Они не любят, когда им мешают в этом важном деле. Кормление у этих млекопитающих сопряжено с большими хлопотами. У самки на каждой стороне брюха есть по одному вымени, которые отстоят одно от другого метра на два. Так как молодое животное не может держать голову в воде во время сосания, то мать должна ложиться на спину и таким образом кормить детеныша. Подсмотреть эту картину редко кому удается… Когда настает время кормления, китиха прячется в безопасное место по той причине, что, лежа на спине, она должна держать голову под водой. В таком неудобном положении самка, конечно, не может ни видеть, ни слышать, и тогда любой из многочисленных сухопутных и морских врагов кита может легко справиться с великаном. Только благоприятный случай помог мне наблюдать вблизи это редкостное зрелище. Впрочем, я должен сознаться, что вовсе не был расположен ограничиваться одной скромной ролью наблюдателя. Когда китиха перевернулась и стала ловить хвостом китенка, чтобы поднять его до вымени, я обратился к чудовищной, но не лишенной приятности «крошке» со следующей речью: — Не угодно ли вашей морской светлости благосклонно выслушать меня? Я полагаю, вам совершенно безразлично: исполнится ли ваше совершеннолетие годом раньше или годом позже. У вас мог бы быть братец-двойничок, и тогда вам пришлось бы делиться с ним материнским сладким молоком. Почтительнейше прошу вас уступить мне один из имеющихся в вашем распоряжении источников жизни. Проговорив все это самым вежливым и успокоительным тоном, я взял большое ведро и подплыл с ним к китихе. Добравшись как можно осторожнее до молочного источника, я улегся рядом с китенком. Молодой морской барин немного поворчал, но прогнать меня не мог; когда он замахивался на меня хвостом, я толкал его ногой. Это продолжалось до тех пор, пока он серьезно не поверил, что я ему братец. При этом я преспокойно вытягивал каучуковой трубочкой (на всякий случай прихваченной мной из лаборатории) молоко из второго вымени. Ведро наполнилось наполовину. Я окончил свое дело раньше китенка. Он еще продолжал сосать, а я уже давно находился на берегу. Дележ совершился великолепно. У меня оказалось восемь литров вкусного жирного молока, превосходящего питательностью коровье. Большую часть я вылил в жестянки, которые опять герметически закупорил. Бэби не обратила никакого внимания на молоко: она жаждала только мяса кита. Я сказал ей, что она напрасно предается обманчивой надежде: кит будет жить, чтобы заменить мне корову. — Впрочем, — добавил я, — быть может, судьба поблагоприятствует и тебе. Если из открытого моря попал сюда кит, то очень вероятно, что могут пожаловать к нам и тюлени, и морские кони. Ты ведь умеешь ловить их без всяких приспособлений, — значит, дело будет за тобой. Когда китиха накормила своего детеныша, она опять перевернулась на брюхо, втянула его вместе с водой в пасть и исчезла под водой. Если бы эта солидная дама вздумала пожаловать сюда еще несколько раз, я бы мог запастись молоком чуть не на целый год. У меня было медвежье мясо и китовое молоко. Охотники говорят, что кто питается мясом полярного медведя, тот быстро седеет, принимая цвет этого животного. Я этому не верил, а если бы и верил, то не огорчался бы такими пустяками. Китиха возвращалась через ровные промежутки в шестнадцать часов. Каждый раз производилась кормежка, и я не пропускал случая воспользоваться роскошным молоком. Наконец, у меня набралось его столько, что больше девать было некуда. Тогда я решил делать из него сыр, но предварительно хотел вернуть к жизни мою невесту с ее дедом. Затем я возвратился бы в ледяную пещеру за остальными моими хозяйственными предметами, между которыми находились и приспособления для выделки сыра. Милая, прелестная китиха! Ты — настоящая царица моря, потому что носишь в себе источники жизни!
XIV Борьба великанов
Пещера, в которой я нашел воду и молоко, сделалась моим любимым местопребыванием. Запас осветительного материала быстро шел к концу. Приходилось обходиться с ним очень бережно и экономно. Спасибо еще, что озеро светилось в определенные периоды. Должно быть, это электрическое сияние воды находилось в связи с северным сиянием над поверхностью земли. Было еще одно явление, доказывавшее общение «моего» озера с открытым морем: в озере температура никогда не бывала ниже нуля, — все время стояла одним градусом выше. Это холодно, но я уже свыкся с такой температурой. Во время бодрствования я постоянно находился в усиленном движении, а спать ложился возле Бэби, которая своим огромным телом представляла для меня настоящую печку. Она испускала тепло во сто градусов по Фаренгейту. За последнее время Бэби стала очень много спать, предчувствуя приближение зимней спячки. Я мог разбудить ее теперь единственно тем, что изо всех сил кричал ей в ухо. Впрочем, я редко прибегал к этому: мне не было особенной надобности тревожить мирный сон моей подруги… Однажды случилось событие, которое доставило мне большое развлечение и надолго заняло меня. Озеро вдруг засветилось необыкновенно ярким блеском. Вместе с тем начался усиленный прибой волн, всегда служивший предвестником приближения могучей морской царицы. На этот раз озеро волновалось гораздо сильнее обыкновенного, точно по нему хлестала буря… Это явление скоро объяснилось. Из взбудораженных водяных масс вдруг показалась голова китихи. В пасти у нее сидел детеныш… И следом за моей «кормилицей» на поверхности озера появился другой кит — кашалот. Это то самое чудовище, из которого добывается амбра. Говорят, что кашалот — родственник кита. Замечательные родственники, которые не имеют почти ничего общего! Между тем, как обыкновенный кит — самое безобидное существо в мире, питающее свое громадное тело исключительно одними слизняками и летающими улитками, его родственник, кашалот, питается мясом и особенно предпочитает акулу и кита. Когда кашалот нападает на акулу, она от ужаса прячется в тину или выскакивает на берег. Как акула может одним ударом зубов разрезать пополам человека, так точно кашалот сразу убивает акулу, обхватывая ее поперек челюстью. Вообще, кашалот — самый страшный враг акулы и кита. Последнего он убивает единственно ради его языка, которым очень любит лакомиться. Так поступает он с большими китами, а маленьких съедает целиком, и потому ожесточенно гонится за ними. У кита нет настоящих зубов; в его пасти — пластинки, которыми он даже не может кусать. Кашалот же обладает сорока восемью зубами; все они сидят в нижней челюсти, а в верхней есть соответственное количество отверстий. Эти зубы расположены правильным полукругом; спереди самые длинные, а затем по бокам все меньше и меньше. Своей формой они напоминают огурец; самый маленький зуб кашалота весит килограмм, а большой — вдвое. Одним этим рядом зубов кашалот может раздробить большую парусную лодку. Кашалот наполовину меньше простого кита, но голова у него почти одинаковой величины с последним и составляет третью часть всего его тела. На спине у него горб; шкура его напоминает черный бархат с зеленым и синим отливом. Язык кровяного цвета и хорошо виден, когда он открывает пасть… Это настоящий дьявол! Кит — животное чувствительное, пожалуй, даже нежное. Малейшее повреждение, причиненное ему, бывает для него смертельно. Удар пикой, часто едва заметный для человека, моментально убивает кита. Кашалот же, напротив, уязвим только в двух местах: где голова соединяется с туловищем, возле восьмого шейного позвонка, и в брюхе. Череп его крепок, как булыжник, и когда он злится, то может проломить им бок корабля. Вот это-то чудовище и напало на мою китиху, желая воспользоваться ее детенышем, а кстати, если удастся, и ее собственным языком. Несчастная мать в испуге кинулась в свое тайное убежище. Но кашалот последовал за ней и туда, пролетая сквозь ледяные пещеры и каменные туннели. Таким образом, в «моей» скромной пещере, на ограниченном пространстве, готовился смертельный бой! Китиха в ужасе фыркала и хрипела; из ноздрей ее густыми столбами валил пар. В общем, она приняла довольно выгодное оборонительное положение, спрятав свою большую голову в узкое ущелье, так что с этой стороны враг не мог коснуться ее. У кита нет другого оружия, кроме хвоста; но это единственное оружие поистине ужасно. Кто интересуется знать, какие подвиги кит совершает хвостом, тот пусть читает записки китоловов. Лодку с двенадцатью людьми он швыряет хвостом на воздух как простую щепку и одним ударом хвоста перешибает пополам небольшое судно. Когда кашалот приближался к китихе с явным намерением распороть ей брюхо своими чудовищными зубами, она хвостом отбрасывала его к противоположной стене. Но враг ни на йоту не смутился такой пощечиной; его ребра и шкура могли вынести и не такой шлепок. Не задумываясь ни на секунду, он храбро продолжал нападение. — Вставай, Бэби! — кричал я в ухо медведице, ударяя ее при этом по носу. — Вставай! У нас дело плохо! Если кашалот убьет нашу «коровушку», то конец и нашей молочной экономии. Пока Бэби проснулась и пока принялась соображать, по какому случаю я прервал ее сладкий сон, я быстро зажег магниевую проволоку и достал мои взрывчатые остроги, намереваясь решительно ввязаться в борьбу морских гигантов. Что это была за грандиозная морская дуэль! Теперь только, при полном освещении, я в первый раз имел удобный случай подробно разглядеть мою милую «коровушку». Яркий свет нисколько не смущал сражающихся; киты вообще обладают очень слабой зрительной способностью. Моя китиха отличалась коричневой спиною и белым брюхом. Вокруг краев пасти шли тоже широкие белые полосы; пластинки, занимающие место зубов, все были черные. От шеи до брюха шкура была в толстых складках, отливавших в глубине цветом крови. При быстрых движениях животного эти ярко-красные полосы удивительно красиво змеились на снежно-белом фоне. Вообще, я думаю, эта китиха слыла между своими «красавицей»… Однако, борьба между великанами не прерывалась ни на одну минуту. Движениями своих хвостов они устраивали настоящий ливень; вокруг них поднимались волны метров в 20 вышиной, и соленая вода ежеминутно заливала мне все лицо. Но вот китиха не выдержала — начала реветь, как свинья под ножом, но в тысячу раз сильнее. Кашалот же только отчаянно фыркал и отдувался, но когда противник ударял его хвостом по голове — раздавалось нечто вроде громовых раскатов. А китиха все время не выпускала из пасти своего детеныша. — На помощь, Бэби! — кричал я. — Если мы победим, то нам надолго хватит жаркого! Мне уговаривать долго не пришлось. К таким случаям медведи привыкли вековой практикой, переходящей из рода в род. Они отлично плавают, ныряют и убивают, например, моржа даже под водой. Бэби тотчас же кинулась в озеро и, хорошо поняв свою роль, стала выжидать, когда кашалот будет увертываться от хвоста кита и постарается зайти с другой стороны. Я видел по глазам умной медведицы, что она рассчитывала на мою помощь. Ей, конечно, уже не раз приходилось участвовать в бое китов с китоловами. Между тем, кашалот ловким маневром приблизился к голове китихи — гибель моей «коровушки», кажется, была близка. Но в эту минуту Бэби, сидевшая на подводной «устричной» скале посреди озера, одним могучим прыжком очутилась на спине кашалота. Вонзивши все свои острые когти в его тело, она сразу прокусила ему горло там, где у него позвонки тонки как бумага. Да, Бэби отлично умела справляться с морскими чудовищами!.. Теперь настала очередь кашалота трепетать за свою жизнь. Он понял, что его ранили в самое чувствительное, а потому и наиболее опасное место.
Из раны вдруг брызнула густая струя драгоценного масла, составляющего главную ценность кашалота. В сгущенном состоянии это масло известно под названием «спермацета». Дальше я увидал собственными глазами то, что я до тех пор считал выдумкою моряков: кашалот прыгнул из воды на высоту пятнадцати метров и вслед за тем кинулся назад, перевернувшись на спину. Этим мгновением надо было воспользоваться. Я быстро швырнул острогу и попал чудовищу прямо в брюхо. От взрыва патрона животное должно было умереть. Но тут произошло нечто неожиданное. Чудовище судорожно забилось и наполнило всю пещеру густым облаком мелкой водяной пыли, охватившей меня с головы до ног. Когда я открыл глаза, кашалот уже исчез под водой. Но вместе с ним пропала и моя бедная Бэби! Я уже думал, что умирающий кашалот убил мою верную спутницу. Однако через несколько минут я увидал над водой ее умную голову, напоминавшую овчарку; она быстро приближалась ко мне. Взобравшись на берег, Бэби долго неподвижно смотрела в воду, поводя ушами и нюхая воздух. Борьба была кончена. Теперь моя «коровушка» спокойно лежала на поверхности озера. Ее глаза, усаженные ресницами, как у человека, глядели на меня — как показалось мне — с благодарностью. Быть может, она поняла, что я вполне был на ее стороне. Наконец, она даже заплакала (киты ведь тоже могут плакать). И вслед за тем китиха, измученная борьбой, заснула сладким сном.
XV Путешествие в ките
Прошло с полчаса, и вот на поверхности воды показался неподвижный и мертвый кашалот. — Ну, теперь он наш! — сказал я Бэби, указывая на гигантский труп, качавшийся на волнах. Я сел на спину Бэби и подплыл к чудовищу. Кашалот был метров 20 длиной, и на него, даже мертвого, страшно было смотреть. Самые большие из его зубов были длиной в десять сантиметров, следовательно, длиннее ужасных клыков кабана; притом, они имели окружность в восемь сантиметров и отличались гладкостью слоновой кости. Самая ценная часть кашалота — его голова; в ней между шкурой и костями есть особые углубления, в которых и заключается спермацет. Я оставил голову напоследок; для меня важнее всего было туловище, потому что, если оставить его невскрытым хотя на день, то жир у него начинает портиться и затем лопается сам собой, распространяя страшное зловоние, невыносимое даже для самого крепкого обоняния.
Я обвязал челюсти кашалота толстой веревкой, и таким образом мы с Бэби втащили его на берег, где мне, конечно, удобнее было возиться с ним. Прежде всего, я вспорол шкуру; снять ее могла и Бэби. Верхняя шкура кашалота вполне годится для устройства подошв, непромокаемых палаток и т. д. Под ней находится вторая, гораздо тоньше, похожая на полотно; из нее гренландские девушки шьют себе сорочки. Я невольно подумал о своей допотопной невесте, отпарывая и складывая это посланное мне Богом полотно. Она сошьет себе из него всю одежду: индузий, тунику и пеглий. Но вот я добрался и до жира, лежащего на спине кашалота слоями толщиной от десяти до двадцати сантиметров. Я нарезал его большими ломтями и побросал в озеро, откуда легко будет достать их. Под жиром находилась твердая, как бы костяная ткань, сравнимая разве только с мышечными связками ноги индюка. Она облегала все тело настоящим панцирем, до того плотным, что самый острый топор едва мог разрубить его. Весь этот панцирь состоит из крепко переплетенных между собой перекрещивающихся костяных связок. Под этой сеткой у кашалота находилось красное мясо, тогда как у обыкновенного кита мясо черное. Бэби до такой степени обрадовалась доставшейся на ее долю богатой добыче, что даже забыла о своей спячке. Теперь дошла очередь и до головы кашалота. Но прежде, чем вскрыть костяные коробки, сотообразно сидящие в голове и заключающие в себе столько масла, что его можно черпать целыми ведрами, — надо было озаботиться о том, куда бы слить эту драгоценную жидкость. Для этой цели всего пригоднее желудок и кишки самого кашалота. Но, чтобы добраться до этих вместилищ, следовало войти в кашалота. Это было нетрудно: пасть у него такая широкая, что хоть в экипаже проезжай через нее. Нижняя челюсть длиной и шириной с хорошую доску; особенно она кажется широкой от торчащего кверху ряда гигантских зубов. В этой челюсти лежит кроваво-красный язык с зубчатыми краями. Просоленный и прокопченный, он составляет прекрасное лакомство. Я намеревался заняться им впоследствии. Под сводчатым нёбом взрослый человек свободно может пройти, не сгибаясь. Все оно усажено густой щетиной. Ноздри, соединяющиеся снаружи в одно отверстие, находятся в прямой связи с легкими, а горло ведет прямо к той каучукообразной твердой массе, которая издает ревущие звуки, когда кашалот сражается с другими, или же когда он… влюблен. А разве кашалот способен влюбляться? О, несомненно! Его сердце в величине может поспорить с моей спиной; яйцевидное отверстие в него всегда открыто. Из пасти, сквозь горло, есть проход, по которому (немного сгорбившись) можно пройти в первый желудок. Первый желудок у кашалота, снабженный множеством железок, служит лишь подготовительным органом: выделения железок делают проглоченную пищу годной для дальнейших процедур. Не раз замечали, что кашалот снова выбрасывал проглоченную добычу; это означает, что первый желудок еще не может справиться с ней, и потому надо пережевать ее хорошенько. Так, например, один кашалот, на глазах изумленных китоловов, раз проглотил, выплюнул и опять проглотил целую акулу! Войдя во внутренность кашалота, я должен был пользоваться магниевым освещением. Температура в первом желудке доходила до пятидесяти восьми градусов по Фаренгейту. Желудок был совершенно пуст; из этого я заключил, что кашалот был голоден и долгое время гнался за китихой, не имея времени заняться более мелкой добычей. Узкое отверстие, по которому я мог пробраться лишь ползком, вело во второй желудок — химическую лабораторию кашалота. В этом желудке лежала масса мелких каракатиц и остатки акулы, еще не переваренные настолько, чтобы попасть в третий желудок. Второй желудок находился в непосредственной связи с печенью. Отдельного желчного пузыря нет у кашалота. Третий желудок представляет из себя настоящую двигательную силу. Он самый маленький из всех. Его круглые стенки сплошь усажены живыми, подвижными шероховатыми связками и чашечками. Эти приспособления вполне перерабатывают предоставленные им пищевые вещества до тех пор, пока они не будут окончательно превращены в кашицу. Просунув голову в третий желудок, я немедленно с испугом отдернул ее назад… И вообще-то атмосфера в этом чудовище была не из особенно приятных, но из этого отделения несло таким резким аптечным запахом, да вдобавок еще смешанным с обыкновенным зловонием от разных отбросов, что я не в состоянии был войти в него. Пришлось удовольствоваться освещением его снаружи, чтобы, по крайней мере, рассмотреть все хорошенько. Этот желудок, по-видимому, продолжал еще жить и работать: бесчисленные нервные пучки двигались, и всасывающий аппарат еще обрабатывал находившуюся в нем большую бесформенную массу. Распоров подряд все желудочные мешки, я вытащил через пасть эту массу и узнал в ней огромного полипа, способного задушить и человека своими гигантскими, усаженными неисчислимым множеством сосков разветвлениями, которых у него восемь. Но каков кашалот? Значит, он в состоянии проглотить даже такое почти неуязвимое чудовище! Положим, проглотить полипа еще можно, но переварить его в себе очень трудно, потому что в нем находятся очень твердые составные части, не поддающиеся никакому желудочному соку. (От этого-то непереварившегося полипа и происходило, главным образом, страшное зловоние). Я наполнил третий желудок камнями и опустил его на дно, и тогда можно было продолжать работу. Но затем я побросал в воду сердце и селезенку, которые никуда не годились. Почки же я оставил; они имели форму виноградных кистей и были очень вкусны. Печень я тоже оставил. Почки я нашел в четвертом желудке в конце «двенадцатиперстной» кишки. Моя взрывчатая острога проникла как раз сюда, в четвертый желудок, и причинила смерть разрушением части главной артерии. Четвертый желудок самый поместительный. Его стенки чисты и гладки; здесь пункт распределения химической сортировки; отсюда идут к местам своего назначения пищевая кашица, вода, отбросы и твердые части. В желудке кашалота производится еще одно вещество, которое не принадлежит ни к одной из вышеперечисленных категорий. Я говорю об амбре, являющейся только в желудке кашалота. Это — самое ценное благовоние и вместе с тем врачебное средство; унция его продается в Англии по восьми фунтов стерлингов. Я нашел в желудке кашалота кусок этого вещества фунтов в 50! Оно приросло к стенке желудка и было обтянуто тонкой пленкой. Я предположил, что амбра производится желудком кашалота из остатков каракатиц, тоже не вполне перевариваемых им. Это мое мнение подтверждалось тяжелым запахом, свойственным амбре в сыром состоянии и напоминающим запах именно каракатиц. Превосходный аромат приобретается амброй лишь в сухом виде. Я вытащил слиток амбры ценой в шесть тысяч фунтов стерлингов и положил его на берег для просушки. Из отпоротых желудков я устроил вместилища для масла. Необыкновенно длинные и толстые кишки вполне могли служить для той же цели. Мышцы я думал употребить для выделки веревок. Совершенно вычистив внутренность кашалота, я освободил громадное пустое пространство. Все описанные мной действия заняли много часов. О днях я уже не говорю: время делилось единственно на часы работы и отдыха. Обыкновенно я работал подряд шесть часов, а отдыхал два часа. Пока я возился с кашалотом, моя «коровушка» все продолжала являться в определенные промежутки для кормежки своего «дитяти». Работа, производимая мной над ее страшным врагом, нимало не смущала китиху. Это объясняется очень просто тем, что киты видят плохо, слышат еще хуже, а обоняния у них совершенно нет никакого. Я перестал пользоваться магниевым освещением, вследствие чего китиха и не могла ничего видеть. О том же, что у нее в этой пещере происходила битва со страшным врагом, она, кажется, совершенно забыла. Память у китов тоже весьма слабая. Мозг в их громадной голове не более коровьего. Поэтому я совершенно спокойно мог черпать из костяных коробок головы кашалота драгоценное масло. Источник этого вещества казался неистощимым. Вычерпаешь все до последней капельки, глядишь — через шесть часов все коробки опять полнехоньки. Причина этого на первый взгляд странного обстоятельства заключается в том, что спермацет вырабатывается из каждого атома этого гигантского тела. Из головы до самого хвоста идет нерв в виде толстого рукава, разветвляющегося во все части тела. По этому рукаву масло и доставляется в коробки черепа. Из головы мне понадобились еще глаза. Они у кашалота больше, чем у обыкновенного кита, и равняются величиной шестифунтовому пушечному ядру. Они имеют продолговатый зрачок и снежно-белую сосудистую оболочку с зелеными и синими жилками. Эти глаза могут служить чашами, завидными даже для богача. Кроме того, я достал из воды и челюсти. Они представляли собой прекрасную лестницу в двадцать четыре ступени, которой хватало как раз до верха узкого отвесного ущелья, сообщавшегося с кристалловым гротом. Почти во все время моих работ Бэби пировала. Она оставляла свою лакомую добычу единственно для того, чтобы попить. Наглотается свежей холодной струи, бившей из скалы, и снова за еду. Кашалота хватило бы ей на целый год, если бы только он оставался на месте. Но по мере исчезновения слоя жира он все глубже погружался в озеро, чем я был очень доволен ввиду того, что он начал уже распространять смрадный запах. В одну прекрасную минуту тяжелый труп весь исчез под поверхностью. Это чрезвычайно огорчило Бэби, которая никак не ожидала, что так внезапно лишится своего запаса. Ну, да она лакомилась им в течение целого месяца, и в ней за это время прибыло центнера два весу! Я теперь на вечные времена был обеспечен осветительным материалом. Спермацета, почерпнутого мной из головы кашалота, было двенадцать кварт. Вместе же с растопленным жиром набралось столько, что я мог бы наполнить сорок бочек. К сожалению, у меня не было достаточно вместилищ для всей этой массы. Да и растапливать такое громадное количество жира не в чем было. Но нужда делает людей изобретательными. Я отыскал на берегу углубление, сообщавшееся узеньким желобком с озером. В этом углублении я положил ломти жира крестообразными слоями, в виде костра, и разложил под ними огонь из тонко нарезанных кусков шкуры. Вскоре весь костер разгорелся гигантским пламенем. К счастью, дыму был полный простор в обширной и высокой пещере, а то бы я неминуемо задохся. Вот была иллюминация! Пламя поднималось до самого свода пещеры; там снова разгорался столб дыма, и таким образом создавалось огненное море. Растопленный жир ручьем лился в озеро. Я был настолько благоразумен, что не трогал его в горячем состоянии. Зная, что он тут не пропадет, я спокойно давал ему остыть на поверхности воды. Из сложенной вшестеро кашалотовой шкуры я устроил себе плот, на котором мог разъезжать по озеру и собирать остывший жир, разлившийся по всей поверхности, вследствие чего исчезла даже малейшая рябь воды. Меня очень интересовало, как отнесется госпожа китиха ко всему этому — не испугается ли она костра и жира. Но нет! Иллюминация нисколько не удивила ее, а разлившийся по воде жир даже прямо понравился ей. Должно быть, она приняла его за специально изготовленный для нее бульон: сама с видимым наслаждением поела его и заставила своего маленького принца отведать, а затем начала от удовольствии кувыркаться по озеру… Впрочем, виноват: кувыркаться ей при ей внушительных размерах было, конечно, не совсем удобно, и она только перевертывалась с боку на бок. Лишив меня таким образом части жира, она вознаградила меня тем, что в следующий раз дала мне двадцать семь литров молока, из которого я приготовил сыр.

В моих заметках я написал под рубрикой «Хозяйство» следующее: «Если желаешь, чтобы кит давал много жирного молока, то корми его рыбьим жиром». Растапливание жира принесло мне еще и ту выгоду, что вся пещера постепенно нагрелась до шестнадцати градусов Реомюра, что было совершенно достаточно. При свете костра я шил различные принадлежности дамского туалета из тонкой, почти прозрачной кожи, вынутой мной из кашалота. Да, кто захочет, тот и собственными руками, из самим же добытых материалов может сшить своей невесте приданое. Целые дни я кроил и шил сорочки и пеплумы. Впрочем, в последних очень мало шитья: все дело в кройке. А во время этой работы с иглой я мечтал, мечтал и мечтал, строя всевозможные заманчивые планы!
XVI Воспламенение вулкана
Между прочим, я мечтал вот о чем. В моем уме гнездились два предположения. Первое предположение состояло в том, что материк, на котором я обретался, покоится на громадной ледяной массе, принесшей его сюда. Стало быть, что было принесено, то может быть и унесено обратно. Появление китов в пещере поддерживало меня в этом предположении. Они могли пожаловать или из Гренландского океана, или же из открытого Пареем Северного ледовитого моря, которые, по всей вероятности, недалеко отсюда. Материк сдерживается лишь расположенным кругом льдом. Если ему удастся прорвать это кольцо, он уплывет дальше. Но куда и как далеко может он уплыть? Он может переправиться через Северный полюс в Америку. Морское течение снесло бы его этим путем. А что могло бы помочь материку освободиться? Помогло бы великое землетрясение! Но как же устроить этот выход из ледовитых масс? Вот над этим-то вопросом я и ломал себе голову. В данном случае я вполне сходился в намерениях с Наполеоном III, когда он, в сопровождении одного орла, отправлялся на покорение Франции, или с графом Беньовским, пожелавшим с одной только пушкой занять остров Мадагаскар. Да, я носился с мыслью сдвинуть с места част земли! Ведь я был тут наместником с неограниченной властью, и смело мог сказать про себя: «L’etat c’est moi!» (государство — это я!). Я и народ и государь почти в одном, по крайней мере, человеческом лице. Я обладаю неисчислимыми сокровищами под землей, и у меня нет ни копейки государственных долгов. Я с успехом вел войны как на суше, так и на море. Побежденный враг всегда платил мне военную контрибуцию. Подданных у меня немного — двое: одного из них я мог оседлать, другого доить. Кроме этого, я обручен с царской дочерью. Я уверен, что девица в кристалле — дочь допотопного царя. Второе предположение основывалось на том обстоятельстве, что в пещере очутились первобытные люди. Раз они попали сюда с поверхности земли, то должен быть и выход обратно на землю. Этот выход я уже давно искал. Побочных пещер, служивших продолжением той, в которой я находился, было много. Вопрос был в том: в которую из них мне направиться? Одна вела вверх, другая — вниз. После долгих размышлений, я однажды собрался и прошел во вторую. Это была, впрочем, не пещера, а только узкая щель, едва-едва позволявшая двигаться по ней. Сначала она шла сквозь слои сланца, смешанного с песчаником, но потом стал преобладать один песчаник. Щель — или шахта, как хотите — спускалась все более и более вглубь. В одном месте сильно запахло вонючим камнем. Во мне блеснул луч надежды: где есть вонючий камень, там неподалеку должен находиться каменный уголь, а где каменный уголь, там и нефть. Теперь надо было двигаться с крайней осторожностью: в каменноугольных залежах всегда развиваются смертоносные газы. При одном повороте шахты до ушей моих вдруг донеслись звуки, точно от живых существ. Что это такое? — пчелиное жужжание?!.. Тут, под землей?! Тут, выше восемьдесят пятого градуса северной широты, где уже нет никаких насекомых, и вдобавок еще — в каменноугольной залежи, в эпоху образования которой, говорят, еще и не было вовсе летающих насекомых?! А пчела так и гудела впереди меня, как бы желая предупредить, чтобы я не шел далее, а то она ужалит меня. Это не сон, не галлюцинация слуха: когда я закрываю уши, жужжания не слышно, а когда открою, оно снова ясно раздается. Я все-таки двинулся далее. Стало звучать так, как будто пчела запуталась в ткани паука и тщетно бьется, чтобы освободиться. Жужжание было такое болезненное, отчаянное. Я стал светить вокруг себя лампой, желая узнать, в чем дело. Но вот, вдруг, жужжание превратилось в пронзительный крик совы. Проволочный цилиндр дэвийской лампы наполнился синим пламенем и накалился докрасна.
Теперь я понял, что это была за пчела! Если бы она ужалила меня, я бы живо очутился на том свете. Откуда-то струился нефтяной газ — вероятно, из крохотного, тонкого, как игла, отверстия в скале. Это-то и производило такое грустное жужжание. Тут нехорошо оставаться! Запах нефти становился очень ощутительным. Моя лампочка могла лишь указать мне опасность, но не предохранить от нее. Я остановился, как вкопанный. Какая, однако, могла быть причина тому, что воздух в цилиндре лампы воспламенился только тогда, когда я уже подошел к опасному отверстию? Стоило нефтяному газу выходить из незаметного отверстия в течение лишь одной ночи, чтобы наполнить весь проход, и тогда лампа должна была указать мне это еще в самом начале, а унылая песенка нефтяного газа звучала тут, вероятно, уже десятки тысяч лет, — значит, он находил же себе исход наружу… Я не стал возвращаться назад. Сам же я искал то, что здесь так напугало меня. Я поставил лампу на дно пещеры, — она перестала пылать. Затем я попробовал двинуться вперед, насколько хватало ее света. Мною руководило какое-то предчувствие. Однако, я удалился гораздо дальше света и тщетно бродил ощупью в темноте. Вдруг у меня появился новый путеводитель: своеобразный шум, как будто от подземного водопада. С каждым моим шагом вперед шум становился все сильнее и сильнее. Передо мной должна была находиться большая пещера, в которой струилась вода. Но отчего же это вода, будучи сжатой с двух сторон ледяными слоями, сама не превращается в лед? Не могла же сюда проникнуть теплота, возбужденная новообразованием базальта? Конечно, нет. Я инстинктивно продолжал идти дальше. Наконец появился еще и третий путеводитель — свет. Да, в отдалении как будто начинало рассветать! Рассвет! Луч неба, находящегося над землей! Положим, это небо в течение целого полугодия не посещается солнцем, а все же оно светлее сводов подземелья!. Избавление было, по-видимому, близко. Я уже не двигался более ощупью, не шел, а летел на крыльях надежды. Я уже не чувствовал окружающего меня тяжелого запаха, но видел только все усиливавшееся впереди мерцание. Вместе с тем рос и шум водопада. Но вдруг я должен был остановиться: проход, медленно поднимавшийся вверх, был пересечен глубокой отвесной пропастью. А немного дальше, в вышине, было разодранное зубчатое отверстие, в которое и проникало загадочное мерцание… А, вот оно и само небо!.. Небольшой клочок его виднеется сквозь расщелину, а на этом клочке сияет луна! Луна светила мне в глаза! Да, но это была не та луна, которую мы все привыкли видеть и которая всегда так апатично-спокойна и величественно-неподвижна в несущих ее волнах эфира. Нет, эта луна была совсем другая, какая-то удивительно странная и смешная. Она прыгала там, вверху, и скакала то направо, то налево, взад и вперед. Ее круглое лицо то вытягивалось в длину, принимая выражение печали и грусти, то раздавалось в ширь, точно ухмыляясь. Края ее находились в беспрерывном волнообразном движении, а иногда казалось, что она разрывалась на два полушария, которые через мгновение снова соединялись в одно. Что же это такое? Я скоро нашел объяснение и этому необычайному явлению. В освещенной мерцанием бездне (там точно прыгала и паясничала вторая луна) я разглядел каменноугольные наслоения, составлявшие стену метров в тридцать вышины. В одном месте этой черной блестящей стены вырывался поток, привлекший меня сюда своим шумом. Поток этот был совершенно черен, а там, где он падал стремглав в бездну, образовывалась широкая лента пузырчатой, вздутой пены тоже черного цвета. Этот поток был смешан с горным маслом! Очевидно, часть воды и горного масла проходит где-нибудь в открытое море, часть же летучей нефти испаряется. Вот в этой-то беспрерывной струе газа, идущего волнистыми линиями, и преломляется изображение луны, искажаясь до неузнаваемости. Предо мной находился нефтяной вулкан, еще не воспламенившийся. На дне бездны пузырился асфальт, происходящий из нефти. Одна пустячная спичка могла бы произвести здесь катастрофу, способную перевернуть все вверх дном! Я твердо решил вызвать эту катастрофу, оградив себя, конечно, от ее последствий. Взрыв вулкана поопаснее акта формировки базальта! Но что же я выиграю от катастрофы? Выиграю то, что взрыв громадного скопления нефти даст материку такой сильный толчок, вследствие которого он непременно должен будет оторваться от связывавших его ледяных масс. Это еще не все. Неизмеримое количество горного масла, уходившее в продолжение незапамятных времен в море, должно и посейчас оставаться во льдах, так как масло остается на поверхности воды, а лед препятствует испарению. Когда вспыхнет вся эта разлившаяся кругом под ледяным слоем масса нефти, то ледяная кора будет разбита и обломки ее вышвырнутся на далекое расстояние в открытое море, где они, снизу пропитанные горным маслом, будут продолжать гореть на поверхности моря.

Огненное море соприкоснется с ледяным! Увидим, кто окажется сильнее: огонь или лед! Я же проплыву между обоими враждующими элементами. А как мне устроить эту сцену? И как я сам уберегусь от опасности? Первое было нетрудно. Я принес с собой нитроглицериновых патронов, снабженных бикфордским зажигателем, и двести метров серной нити. Этими слабыми на вид орудиями я и надеялся взорвать на воздух ледяные горы! Я прикрепил динамитный патрон к серной нити, а последнюю привязал к выступу под бездной, так что патрон спускался на один метр в глубину. Потом, постепенно отступая назад по ущелью, я развернул весь свой запас нити. Так я дошел опять до того места, откуда исходил грустный пчелиный звук. Нити хватало еще шагов на сто. Я прошел и их. Теперь конец натянутой нити был у меня в руке. Но я не решился прямо зажечь ее даже на таком большом расстоянии от вулкана. У меня был еще один патрон, употребляющийся для воспламенения пороховых мин; в нем есть часовой механизм, который можно поставить так, чтобы взрыв произошел лишь в определенное время. Ведь мне надо же было успеть отыскать себе безопасное убежище. Взрыв будет так силен, что перебудоражит все на расстоянии десяти миль в окружности. Со сводов подземных пещер оторвутся громадные глыбы камня, которые погребут под собой все, что очутится вблизи них. Вполне безопасно будет лишь в кристалловом гроте. Он весь шарообразный, состоит из кристаллизованного кварца и не поддастся никаким влияниям. Земля может вся разрушиться, а этот кристалловый шар останется цел и самостоятельно будет двигаться вокруг солнца, подобно настоящей планете. Следовало поспешить укрыться туда. Бэби уже искала меня и прибежала вслед. Затем, когда я позвал ее, она визжала, ворчала и выла, предчувствуя, что готовится что-то недоброе. Я сам трепетал, вдумываясь в ту страшную операцию, которую задумал с такой дерзостной отвагой. Ведь я — ни много, ни мало — покушался нарушить права дремавшего духа земли!
XVII Чудесное пробуждение
Метр зажженной серной нити горит четверть часа. Следовательно, у меня оставалось полных пятьдесят часов для обратного переселения из пещеры кита в кристалловый «погреб», или грот. Понятно, я хотел перетащить туда и все свои вещи и запасы: воду, рыбий жир для освещения и те части кашалота, которые годились в дело. Воды надо было брать как можно более: ее требовалось очень много для вскрытия кристалловых гробов. Переселение продолжалось подряд тридцать часов. За все это время я не отдыхал ни одной минуты. Положим, в кристалловой пещере и негде было предаваться отдыху: вся она, включая и дно, была усажена острыми призмами, на которых мог бы сесть или лежать разве только один анахорет. Перебравшись в нее окончательно, я устроил себе постель из шкуры кашалота, мягкой, как бархат и очень толстой. Наполненные воздухом тонкие кишки послужили прекрасными подушками. Такой роскошной спальни нет даже у китайского императора! Стены ее целиком составлены из кристалловых призм ценой в много тысяч таэлов, и в ней распространяет чудное благовоние кусок амбры весом в пятьдесят фунтов, за который сингапурский магараджа охотно заплатил бы мне пятьсот лакрупий. Отдал же он такую сумму за гораздо меньший кусок китолову, капитану Гукслею! Оставалось еще двадцать часов. И это время я не спал: напряженное ожидание рокового события, предуготовленного мной, отогнало от меня сон. Даже Бэби не давал покоя инстинкт, говоривший ей, что в скором времени должно произойти нечто необычайное, страшное, еще, вероятно, небывалое на ее глазах. Она. как маятник, безостановочно двигалась взад и вперед, из одного места в другое. Видимо, ей хотелось забиться куда-нибудь в угол, за колонну, но ни один из углов ей не нравился. Испуская отрывистый, беспокойный рев, она все возвращалась ко мне, точно спрашивая у меня защиты. Да мне, впрочем, и некогда было спать. Немногие оставшиеся мне часы были слишком драгоценны, чтобы напрасно тратить их. Не самому мне следовало спать, а разбудить других от векового сна. Начну же свое отважное предприятие! Мой первый опыт состоял в том, что я начал тереть свободно лежавшим на дне куском кристалла поверхность большой призмы, заключавшей в себе девушку. Этим я хотел возбудить в призме электричество. Опыт удался. Трением возбудилось электричество до такой степени, что вся она начала светиться, и из вершины ее стали выскакивать искры. Зато вторая часть опыта оказалась неудачной. Поливание наэлектризованной призмы холодной водой не оказывало ни малейшего действия. На зеркально-гладкой поверхности не появилось даже и следа трещины. Надо было попытаться сделать по-другому. Где не действует вода, там может подействовать огонь. Я достал один из тех толстых, крепких нервов, которые тянутся у кашалота от головы до хвоста, разрезал его пополам и обвязал этими двумя концами в основании обе призмы, в которых лежали люди. Потом я облил их, тоже внизу, рыбьим жиром и заткнул промежутки между ними пучками несгораемого асбеста. Затем я зажег жир. Голой рукой я следил за тем, чтобы жар от горящего жира не слишком раскалял верхнюю часть гробов. Пока могла терпеть моя рука, не было опасности и для почивавших. Кристалл — плохой проводник тепла; пока нижняя часть его накаливается, верхняя может оставаться надолго совершенно холодной. Когда жир почти совершенно сгорел, я быстро облил нагревшиеся места холодной водой. Вслед за тем раздались нежные певучие звуки, точно от нескольких цитр — и кристаллы дали трещины во всех направлениях. Да, удивительные звуки издавали гробы первобытных людей! Я поспешно стер копоть с одной из колонн и с очень смешанным чувством рассматривал результат моих стараний. Кристалл, бывший до сих пор прозрачным, вдруг сделался матовым, не пропускающим лучей света. Мерцая, точно черный опал, покрытый сетью мелких трещин, он представлялся глыбой каменной соли. Фигуры, скрытой в кристалле, я уже не мог разглядеть. Следовательно, я всеми своими операциями достиг только того, что лишился возможности лицезреть свою невесту. То же самое было и со вторым кристалловым гробом: он переливался всеми цветами радуги, но заключенной в нем фигуры человека не было видно. Я попытался отколоть несколько кусков от растрескавшейся поверхности второй призмы — той, в которой лежал старик; в случае чего, — думал я, — пусть лучше пострадает он, нежели моя невеста. Но это был напрасный труд. Трещины не шли вглубь, и кристалл все-таки продолжал оставаться сплошной, неделимой массой. Казалось, никакая человеческая сила не в состоянии сладить с этой твердой массой. Но ведь я обладал более чем человеческой силой! От пятидесяти часов оставалось всего около часа! Открыв крышку своего хронометра, я сел возле гробов и стал следить за минутами. Серная нить должна была догорать. Как только огонь дойдет до выступа, вокруг которого обмотана нить, тяжесть висящего патрона оборвет ее… Наступали последние минуты! Того и гляди, сгорит последний вершок нити, динамитный патрон полетит в бездну, взорвется при первом ударе о какой-нибудь острый край скалы, и в то же мгновение вспыхнет нефть; загорится подо льдом и все необъятное пространство, залитое горным маслом; обратятся в пламень миллионы миллионов гектолитров этого масла; распадутся земля, скалы и ледяные глыбы; разразится страшный ураган; перевернется кверху дном море, а я так покойно слежу за минутной стрелкой! Но нет, чем ближе наступала роковая минута, тем беспокойнее билось мое сердце, тем сильнее давила меня тяжесть сознания, что я дерзновенной рукой вмешиваюсь в дело Творца. А может быть, я, следуя инстинктивному желанию, служу лишь орудием для совершения Его воли? Может быть, и так, а все-таки мне становилось страшно. Я готов был бежать к бездне и погасить нить, от которой теперь зависела судьба целой части Северного полюса. Но — увы! — было уже поздно. Смертельный ужас смешался у меня с тем безумным желанием, которое, собственно, и побудило меня на это страшное дело. Я прижался к холодной призме, заключавшей в себе женщину, и воскликнул: — Если суждено мне сейчас умереть, то пусть я буду погребен вместе с тобой! Каждая секунда стала казаться мне вечностью. Бэби свернулась у моих ног и даже не решалась более визжать. Она вся трепетала, глаза ее беспокойно бегали и уши стояли настороже. Я тоже, притаив дыхание, напряженно вслушивался. Может быть, серная нить погасла? Может быть, испортился зажигательный механизм в патроне, и взрыва не произойдет? Но вот кристалловый грот вздрогнул. Сотрясение сообщилось сюда скорее звука взрыва. Удар следовал за ударом, все усиливаясь и учащаясь. Меня брала одурь. Сообразить я уже ничего не мог и лишь механически воспринимал внешние впечатления. От толчков все звучало вокруг меня. Звуки были тихие, необъяснимые, призрачные, если можно так выразиться. Они напоминали тот странный нежный звон, который слышится иногда при северном сиянии и издается, при восходе солнца, колоннами Мемнона в Египте; звуки отчасти походили и на свист, предшествующий буре, и на шум полета больших птиц. Эти звуки исходили из пробуждавшихся к жизни мертвых кристаллов; каждый в отдельности был бы незаметен, подобно шелесту одинокого листика, но все вместе они постепенно разрастались в громкую и грозную музыку. Через несколько мгновений эта музыка заглушилась страшными громовыми раскатами сверху и снизу. Наверное, вспыхнула вся масса нефти в каменноугольной пещере, и поднявшийся вверху из отверстия кратера огненный столб оспаривает первенство у северного сияния и в одну секунду растопит горы вечного льда. Образовавшиеся потоки польются на низменные места, вынесут на поверхность остатки допотопных животных и затем снова перетасуют их, как было и прежде при каждом земном перевороте. Весь материк должен был задрожать от подземных ударов. Пещера кита, понятно, наполнилась доверху морской водой; ледяные массы разносятся в осколки, и твердая земля отделяется от сковывавшего ее в течение многих веков кольца. Нефть горит на воде, разрушая ледяные дворцы и крепости с их зубчатыми стенами и башнями — эти чудные создания не рук человеческих, а самой природы. Все трещит, грохочет, гудит и летит в море, возмущая его до самого дна и заставляя яростно подбрасывать к небу горы волн. Нефтяной вулкан воет, пещеры ревут, море бушует, лед и базальтовые массы с гулом трескаются и осыпаются. Сжатые между огнем и льдом моржи и киты тоже ревут в смертельном ужасе, а кристалловые призмы гудят и звенят. Известно, что от сильных звуковых волн иногда лопается стекло, в особенности, если оно перед тем внезапно было охлаждено. Но вот вдруг и кристалловая призма, в которой спала моя невеста, распалась целым дождем искрящихся и звенящих мелких осколков. Я расставил руки и на лету подхватил выкинутую силой сотрясения из осколков кристалла девушку. Она была цела и невредима, то есть в том виде, в каком она, двести веков тому назад, заснула в кристалле. Я забыл все, что происходило вокруг меня, забыл о гигантской работе разнузданных сил природы и всецело предался восторгу, вызванному во мне удачей моего безумного предприятия и подтверждением моих догадок. Девушка, действительно, была не мертвая, судя по гибкости ее тела. Да, эта девушка, заснувшая здесь до начала всемирной истории, была еще жива! Я подумал, что старик, спавший рядом, быть может, не кто иной, как патриарх Ламек, а та, с которой я обручился без ее ведома — Нагама, дочь прекрасной Циллы. Так я и прозвал их Ламеком и Нагамой. Древние венгерцы верили в существование дев, возвращавшихся с того света. Вот одна из таких дев и была теперь у меня на руках.
Я снес ее на мою постель. К счастью, у меня было средство, которым еще в древние времена пробуждали мнимоумерших. Это средство — амбра. Уже халдеям она была известна в качестве вещества, служащего для продолжения жизни. Маги не раз возвращали, посредством амбры, к жизни людей, считавшихся умершими. Таким образом была пробуждена спавшая целый год мертвым сном дочь Югурты. Барух Гагеб боялся, что брат Сейм овладеет его троном, и потому приказал заживо похоронить Сейма. Маги, однако, только усыпили его на продолжительное время, а по смерти Баруха Гагеба выкопали из могилы, пробудили амброй и посадили на трон. При осаде Сцигетвара улемы амброй же оживили мертвого султана Солимана, чтобы ободрить его видом оробевшее войско. Клеопатра была обязана своей вечной молодостью амбре. Ришелье до последних дней своей жизни ежедневно съедал по нескольку пастил из амбры; оттого он так долго и прожил, несмотря на его болезнь. Вообще, амбра увеличивает жизненную силу и возрождает к новой жизни все то, что хотя и кажется мертвым, но еще не перешло в разложение и не лишилось, следовательно, скрытой жизненной энергии. Употреблять амбру, в качестве жизненного эликсира, могут только очень богатые люди. Для натирания взрослого человека потребно не менее четырех унций амбрового масла, а это количество добывается лишь из ста унций амбры. У меня же, как я уже говорил не раз, было под рукой это драгоценное вещество в количестве восьмисот унций. Одним легким давлением пальца я мог выжать масла, сколько было нужно. Прежде, чем натереть лежавшее передо мной тело, я должен был распутать окутывавшие его волосы. Я сделал это не без труда. Обнажилась как будто античная статуя, но статуя, облаченная мягкой, бархатистой кожей. Сначала я, по правилам искусства, принялся натирать подошвы ног. После усиленного трения они покраснели и приняли жизненный цвет. Понемногу я добрался до головы и лица. Под влиянием амбры я не чувствовал усталости, хотя и напряг сразу все свои силы. Без этого средства я скоро утомился бы. Между тем, вокруг меня все начало изменяться. От беспрерывных сотрясений кристаллы наэлектризовались и стали издавать свет. Всеобщее лучеиспускание миллиона кристалловых призм стало образовывать радужные концентрические круги, все более и более расширявшиеся. Из вершин кристаллов выскакивали молнии, а посреди этой ослепительной игры света и радужных сияний медленно плыло белое облако — дым сгоравшего жира, то поднимавшийся, то опускавшийся, не находя себе выхода, попеременно притягиваясь и отталкиваясь стенками наэлектризованного и намагнетизированного кристаллового шара. А музыка кристаллов все продолжалась, — музыка таинственная, грустная, полная неизъяснимой гармонии, но едва выносимая для слабого смертного. По временам все еще раздавались из недр вулкана громовые раскаты, до того ужасные, что я сам, вызвавший их, невольно трепетал как осиновый лист. Все тайны вековых работ природы раскрылись предо мной уже не в теории, а на практике — как тут было не трепетать! Прежде я только знал из книг, как все делается, а теперь увидал все воочию. — Пробудись! — вне себя кричал я спящей красавице. — Открой глаза и взгляни на чудеса мира! Я прижался ухом к левой стороне груди девушки, и мне показалось, что я слышу как бы слабый отголосок биения сердца. Когда я натер ей лицо и веки амбровым маслом, она вдруг открыла немного рог. Так раскрывается почка розы под жгучим дыханием солнца. Я громко вскрикнул от восторга. Продолжайте свою таинственную музыку, кристаллы! Грохочите, громы подземные и надземные — человек победил! Я продолжал натирание поднятых кверху рук, после чего они тихо опустились — как раз на мою склоненную голову. Восторгу моему теперь не было границ! Минута эта была так торжественна, что даже горы, казалось, перестали трястись в своей бессильной злобе, точно любопытствуя узнать, как просыпается жизнь после многовекового сна! Я прижался губами к губам девушки, чтобы вдохнуть в ее легкие воздух и возбудить понемногу дыхание, и вместе с тем приложил руку к сердцу. Вот забилось и сердце. Дрогнул первый ясный удар! Не доверяя руке, я снова приложил к груди ухо. Еще удар. Я стал считать минуты. После пяти минут новый удар. Каждые пять минута по удару! Сложенные как бы для молитвы руки теперь спокойно лежали у нее на груди. Губы все более и более раскрывались, вбирая воздух; грудь начала слегка подниматься и опускаться. Я растворил немного амбры в воде со спиртом и влил девушке в рот, положив се на бок, чтобы язык не препятствовал прохождению жидкости в горло. Немного спустя она медленно открыла глаза. Это были большие темно-голубые глаза с сильно расширенными зрачками. Пока еще они смотрели бессознательно, — очевидно, не видя ничего перед собой. Левой рукой я приподнял ей голову, а правой продолжал тереть грудь. Она опять закрыла глаза, но зато начала еще заметнее дышать. Тело стало делаться теплым, хотя и оставалось все еще недвижным. Мне осталось прибегнуть еще к одному средству. Я обмочил руку в холодной воде и брызнул ей в лицо. Это подействовало, подобно гальваническому току. Руки и ноги спящей зашевелились. Она вторично открыла глаза и окончательно проснулась от векового сна. Лицо ее чуть-чуть порозовело, и инстинктивным движением она накрылась своими роскошными волосами.

Вслед за тем она задрожала с головы до ног и моментально свернулась клубочком — она уже озябла. Я поспешно устроил над ней балдахин, растянув кусок кашалотовой шкуры на вершинах двух кристалловых призм, и потом приказал Бэби лечь возле нее. Медведица, видимо заинтересованная пробуждением красавицы, ласково проворчала что-то на своем языке и обвилась вокруг нее, согревая ее и одним прикосновением передавая ей часть своей теплоты. О, Бэби была умница и очень добра! Потихоньку потявкивая и что-то ворча и осторожно облизывая только что ожившее существо, она добилась полного доверия моей Нагамы, которая признала в ней кормилицу и воспользовалась ее молоком. Этого я и ожидал. Одно только молоко, непосредственно извлеченное из организма, и могло годиться ей; всякая же другая пища убила бы ее снова — и уже навсегда. Глядя на эту дружбу, я подумал, что до изобретения Тубалкайном — старшим братом Нагамы — оружия, люди и животные, наверное, не враждовали так, как враждуют теперь, и я вполне поверил легенде о волчице, вскормившей Ромула и Рема. Насытившись молоком своей ласковой кормилицы, На-гама зарылась головою в ее пушистую шерсть и заснула. А кристаллы снова загудели и зазвенели. Я же сидел и думал: на каком языке заговорит моя невеста?!
XVIII Тесть в кристалловом гробу
Нагама была удивительное существо: смесь новорожденного младенца, робкой девушки и дикого животного. В ной выражались совместно и доверие, и пугливость, и кротость, и дикое упрямство. Я мог сделать из нее и злое, гадкое животное и прелестную, послушную и разумную женщину. Говорить она долго не могла, а выражала все свои желания, ощущения и капризы плачем, хныканьем и визгом. И все это я должен был стараться понять! Задача нелегкая, но все-таки я кое-как справился с ней. С Бэби она освоилась очень быстро, ласкалась к ней и подражала ее звукам. Когда же я приближался к своей новорожденной невесте, она в первое время делала сердитое лицо и не хотела слушать меня. Зато я сильно возбудил ее любопытство. Иногда я ложился с другого бока Бэби и притворялся спящим. Тогда Нагама осторожно перегибалась через медведицу и долго смотрела на меня. Раз я зажег спичку. Увидав, как мгновенно вспыхнул в моих руках огонь, она кинулась передо мной ничком. Должно быть, она приняла меня за какое-нибудь высшее существо. Я дал ей поиграть моими железными и медными инструментами, а сам заиграл веселую песенку на флейте. То и другое понравилось ей, и она засмеялась. Прошло уже несколько недель <после> ее возвращения к жизни. Провизии было много: сыра, копченого языка, консервированных почек, но Нагама все еще кормилась исключительно одним молоком Бэби. Выйти из кристаллового грота было еще опасно, судя по продолжавшимся подземным толчкам, хотя слабым и редким. Постепенно Нагама привыкла ко мне настолько, что позволяла мне брать себя за руки и даже остричь ее ногти, превратившиеся в течение веков в когти ужасающих размеров. Надо было занять ее чем-нибудь так, чтобы соединить для нее приятное с полезным. Я достал амиант (асбест) и показал ей. Роскошный блестящий каменный шелк, являющийся в сыром виде пучками ниток, заслужил ее благосклонное внимание. Потом я сделал из костей кашалота прялку и веретено и научил Нагаму прясть. Работа понравилась ей, и она в несколько дней спряла весь мой запас. Тогда я устроил из китового уса пять спиц и научил ее вязать чулки. Кстати, мы все (считая и спавшего еще старика) сильно нуждались в асбестовых чулках. Когда подземные толчки стали уменьшаться, я вышел из грота, чтобы посмотреть, не отрезал ли я сам себе все пути по внутренностям гор. Проходы между сланцевыми слоями стали многочисленнее и шире, так что я достиг базальтовой пещеры кратчайшим и более удобным путем. Наверху образовалось большое отверстие, в которое проникал снаружи холодный воздух. Несмотря на это, базальтовая масса все еще не охладилась настолько, чтобы по ней безнаказанно мог пройти человек. Между тем, часть колонн разрушилась от сотрясения и легла мостом поперек пещеры. Для того, чтобы пройти через эту пещеру, необходимо нужно было перебраться по вновь созданному мосту, а это было возможно разве только Бэби, едва касавшейся почвы лапами. Люди же, имеющие обыкновение крепко надавливать ступней, обязательно прожгли бы себе ноги. Предохранить от этого могли единственно асбестовые несгораемые чулки. Поэтому-то я и выучил Нагаму вязать их.
Мне было очень жаль, что старый Ламек все еще продолжал лежать в своем кристалловом гробу. Я употребил все силы, чтобы заставить и этот гроб распасться, как распался первый, но ничто не помогало. «Значит, не судьба», — думалось мне. Так прошло еще с месяц. Однажды, когда мы все трое преспокойно заснули, послышался новый подземный удар, до такой степени сильный, что вся наша пещера пришла в колебательное движение и нас буквально разбросало во все стороны. Когда мало-помалу все поуспокоилось, я зажег свою лампочку, желая удостовериться, не поврежден ли наш кристалловый шар. Картина, представившаяся мне при свете, превзошла все мои ожидания. Призма, заключавшая в себе старого Ламека, переломилась пополам, и на месте перелома я увидел старика, но уже не стоящим, как прежде, и не лежащим, а сидящим. К сожалению, распалась не вся призма, а лишь ее верхняя часть, превратившаяся в мелкие осколки. Нижняя же половина так и осталась цельным куском, в нем старик сидел, как в капкане, не будучи в состоянии освободить из него ног. — Смотри! — сказал я Нагаме, указывая ей на старика. Она пронзительно вскрикнула и кинулась к старику. Схватив его сжатые в кулак руки, она покрыла их поцелуями и со слезами начала кричать какие-то непонятные мне слова. Судя по тону, я догадался, что она выражает радость свидания со стариком, хотя он и не подавал признаков жизни. Я подошел к ней и спросил, поясняя слова жестами: — Хочешь, я оживлю его? Она поняла меня и обхватила мои колени. — Хорошо, так помогай мне, — сказал я, поняв ее в свою очередь. Спеша обрадовать Нагаму, я даже не подумал, какую сделаю глупость, если пробужу к жизни человека, которого, быть может, никогда не удастся вполне высвободить из кристалла. Я опять прибегнул к амбре. На этот раз я стал применять уже не масло ее, но всю ее, растворенную в спирту. В таком виде она лучше могла проникнуть сквозь шкуру, которую, впрочем, для большего успеха, <я> еще проколол во многих местах булавками. Влив старику часть раствора в рот, я стал поднимать и опускать его руки, чем хотел вызвать процесс кровообращения и дыхания. В конце концов я облил его голову холодной водой. Я обращался с ним не так бережно и деликатно, как с Нагамой; употреблял более грубые и сильные приемы, но результаты получились те же, хотя и видоизмененные. Старик начал чихать и чихал без конца. Пока он таким образом доказывал свое возвращение к жизни, Нагама поклонилась мне в ноги и принялась целовать меня всего: руки, плечи, лицо и голову. От волнения она вся дрожала и плакала, как говорится, в три ручья. Наконец-то я вполне угодил ей!
XIX Сватовство по допотопному образцу
Воскресший патриарх сразу заговорил, хотя и настоящим замогильным голосом: слабым, хриплым, похожим на воронье карканье. — Амхаарец! — произнес он, глядя на меня. Я обрадовался этому слову. Оно доказывало мне, что эти допотопные люди говорят на знакомом мне отчасти языке. Когда-то я был в университете, готовясь к ученой карьере, и там я усвоил кое-что из древнего еврейского языка. Слово амхаарец было именно древнееврейское и означало дурак. Как видите, господа, обращение далеко не лестное, но тем не менее, оно привело меня в восторг. Но этим не ограничилось. Не успел старик хорошенько отрешиться от своего мумиеобразного состояния, как тотчас же начал выказывать свои прежние наклонности человека, очевидно, привыкшего повелевать. Он так и сыпал ругательствами. Между прочим, он называл меня нессиерим (раб) и кераим (неверный). Раз даже прохрипел слово мамссер, что было уже очень крупным оскорблением. Вперемежку с бранью, он колотил себя кулаками в грудь и говорил, что он коген. Слово это означало, вероятно, правоверный. Должно быть, соображал я, он так гневается на меня за то, что со мною обращается так дружески его дочь. Наконец, она уже пришла мне на помощь. Положив одну руку на мое плечо, а другой указывая на мой лоб, она проговорила: — Горе деа! (ученый). — Шад! — каркнул старик в ответ. — Эд! (свидетель) — продолжала девушка, указывая на себя. — Маккот-мардот! — с озлоблением кинул патриарх те роковые слова, которые в старину говорились только непослушным девушкам. Оно означает угрозу высечь розгами. — Маккот-мардот! — прохрипел он вторично. Девушка нагнулась, подняла кусок китового нерва и покорно хотела подать ему, чтобы он наказал ее. Я взял у нее этот предполагаемый бич и сам подал старику, но отвел, однако, Нагану в сторону. В бессильной злобе старик принялся колотить кристалл, в котором сидел. Этому я не препятствовал — колоти, сколько хочешь! Я захотел показать, что знаю его язык и, указывая на себя, сказал: — Неах! (князь). Взяв за руку девушку, я добавил: — Же кохта! (хочу жениться на ней). — Меахссов! — быстро сказала Нагана, крепко сжимая мою руку. — Алманат! — бормотал старик. — Меахссов! — настойчиво повторила она. — Алманат! Раз пять или шесть перебрасывались они этими словами, которыми определяется свадьба немедленная и свадьба отдаленная. Меахсхов значит «с сего дня», алманат же — «после». Наконец, у почтенного патриарха разыгрался настоящий допотопный гнев. Я подошел в упор к старику и с храбростью человека XIX века взглянул ему в глаза. Он злорадно усмехнулся, скривив все лицо, и хрипло процедил сквозь зубы: — Катланнет! Услыхав это страшное слово, Нагама упала на колени, несколько раз ударила себя рукой по лицу и разразилась горькими слезами и жалобами. Катланнет — значит девушка, имевшая уже несколько женихов, которые все умерли до свадьбы. Буквальный перевод этого выражения — «убийца мужчин». Заклейменная этим названием не может более обручаться. — Что мне за дело, умирали твои прежние женихи или нет, — сказал я на своем родном языке Нагаме, поднимая ее с колен. — Мы тут только вдвоем. Для нас здесь нет допотопных законов и обычаев. Я желаю жениться на тебе и женюсь, если только ты согласна. Должно быть, и Нагама, и старик догадались, что я говорю. Нагама сквозь слезы улыбнулась мне и закивала головой. Патриарх же, в свою очередь, заплакал чисто по-ребячески и, ударяя рукой по кристаллу, повторил несколько раз подряд: — Галош! (плен).
Смысл этого слова был тот, что Нагаме нельзя выходить замуж, пока глава семьи находится в плену. Бедный старикашка! Он боялся, что я покину его заключенным в кристалле, когда женюсь. Я поспешил успокоить его. Принеся молоток и лом, я показал ему эти орудия и отколол ими маленький кусок кристалла, чем желал доказать свое желание освободить его окончательно, если он согласится на нашу свадьбу. Это тронуло его, и он благословил меня словами: Боар гетибб (радостная весть), дававшими согласие на брак. Нагама подошла ко мне и, вся сияя радостью, положила мне руку на плечо. Пользуясь тем, что мы стояли близко к нему, старик схватил Нагаму за руку, усадил рядом с собою на край призмы и прошептал: — Кессуба! Кессуба! Вот тебе и раз! Я воображал, что люди до потопа были не так алчны, как нынешние, а тут оказывается другое. — Кессуба! Кессуба! — повторял патриарх, протягивая мне открытую ладонь и энергически потрясая головой. Он потребовал выкупа невесты. Я разыскал в своих вещах прекрасный лабрадоровый кристалл и дал ему. Он, видимо, обрадовался подарку и крепко сжал его в руке. Достаточно налюбовавшись на кристалл, он сначала сказал: — Каимли! «Ого! — подумал я. — Раз тебе известно это понятие, то ты, по-моему мнению, вовсе не допотопный человек. Слишком уж, я вижу, ты просвещен!» Каимли — говорится, когда желают оставить лично себе полученный в обмен за невесту дар. Однако, немного погодя, старик с присвистом выговорил и парнасса, — значит, он решился уступить драгоценный кристалл Нагаме. И действительно, он завернул его в край хламиды невесты, но зато обратился ко мне со словами секуким. Час от часу не легче! Теперь он требовал уж серебра. Что мне было делать? Кроме серебряной часовой цепочки, у меня не было ничего подходящего. Я снял ее с себя и надел старику на шею. Он радостно улыбнулся, поглядел на цепочку, подробно оценил все ее достоинства и потом одним быстрым движением снял ее и обмотал вокруг руки девушки. Все-таки хорошее начало брало в нем верх над дурным. Вслед за этим он потребовал от меня устройства балдахина, без которого у евреев немыслимо совершение брачного обряда. Сделать это было нетрудно и недолго, имея под рукой кашалотовую шкуру и созданные самой природой роскошные колонны. Я быстро выкроил ножницами из шкуры кашалота что было нужно и устроил балдахин. Вид этого полезного орудия (ножниц) и способ их употребления очень удивили старика и девушку. При прежней жизни этого патриарха, очевидно, еще не знали употребления ножниц; поэтому и волосы моей невесты остались целы. Но вот старик совершил над нами брачную церемонию, назвал нас мужем и женой — и я сделался членом древнейшего рода на земле. Теперь я должен был напоить своего тестя. «Понятно, он захочет пить только из собственного сосуда, — думалось мне. — Ведь так всегда водилось в древние времена». Ввиду этого, я ломом отбил приросшую ко дну пещеры скорлупу яйца динорниса и стал очищать ее внутренность. В ней находилась масса коричневых зерен, похожих на булавочные головки. Думая, что это какая-нибудь негодная дрянь, я высыпал ее, не подвергая даже расследованию. Однако, Нагама подбежала и терпеливо собрала все эти зерна в подол своей одежды. Я наполнил скорлупу свежей водой, примешав немного китового молока и амбры, разведенной в спирту, и поднес старику. Он жадно выпил все, обращая благодарные взоры к тому месту в «потолке», в котором надлежало быть небу.

Потом я должен был выпить за здравие его и Нагамы, а затем я вторично наполнил ему чашу. Осушив ее до дна, он с силой швырнул ее об «пол», исполняя и этим обычай, сохранившийся от первобытных времен еще и до наших дней. К счастью, скорлупа яйца динорниса не бьется, подобно нашей стеклянной посуде, а то бы мне не из чего более было поить моего многоуважаемого тестя. К моей оловянной посуде он питал неодолимое отвращение, так же, как и к моей пище. Сколько я ни предлагал ему медвежатины, кашалотового языка, китового сыра из молока китихи, он только брезгливо отмахивался и плаксиво твердил: — Парперот! Это слово означало традиционную растительную пищу, без которой у ветхозаветных людей не справлялось ни одной свадьбы. По их убеждению, без парперота не будет благополучным супружеский союз; из него возникнет безбожное потомство, и в семье будет вечный раздор. Но откуда же мне было взять парперот? Я даже не знал, какого он вида, а если бы и знал, то ведь все равно в моем царстве не было никакой растительности, за исключением мха и папоротника, да и те находились, конечно, не в пещерах. «Э! — думалось мне. — Если ты будешь упорствовать в вегетарианстве, то умрешь вторично — с голоду!» А между тем, старик выказывал все признаки нетерпения. Должно быть, он некогда действительно был царем, и для него не существовало понятия о невозможном. Он бранился, угрожал всеми карами небесными и земными и отчаянно размахивал бичом. К нашему счастью, он так крепко был пригвожден к своему сиденью, что не мог сойти с него. Нагама молча подняла небьющуюся чашу, наполнила ее вполовину водою, взяла щепотку того, что я определил негодной дрянью, и взболтала в воде. Я с удивлением смотрел, как крохотные зерна постепенно начали разбухать. Достигнув величины обыкновенного ореха, они всосали в себя всю воду и, наконец, превратились в прозрачную массу голубоватого цвета. Став на колени, Нагама обеими руками поднесла старику чашу, улыбаясь так приветливо и ласково, как умеют улыбаться только женщины, когда захотят. Патриарх радостно потряс бородой, зажмурился от наслаждения и с благодарностью принял поднесенную ему пищу. Это была манна! Да, теперь я узнал этот студень. Манна (ессапога osculenta) покрывает все откосы Арарата, и бур я уносит с собой громадные массы ее семян в отдаленные пустыни. Крохотные зерна разбухают в сыром воздухе и уже в виде студня падают на землю, где и находит ее голодный путник. Да, это и есть небесная манна! Ученый Тенар, в одном из заседаний Парижской академии наук, недавно еще читал доклад о том, что и до сего времени целые полосы земли покрываются этой ветхозаветной пищей. И мы, современные люди, оставляем без внимания этот продукт, одной горсти которого вполне достаточно для насыщения целого корабельного экипажа! Я попробовал эту знаменитую манну. Вкус у нее довольно приятный, хотя немного горьковатый. Не без благоговения насытился я этой пищей, которую Провидение сохранило в кристалловой пещере в течение двухсот веков.
XX Свадебная поездка под землей
Современный обычай требует, чтобы молодые тотчас же после свадьбы совершали путешествие. Я был вполне согласен с этим, но не мог же покинуть в таком беспомощном положении одинокого старика. Надо было возобновить попытку окончательно высвободить его из кристалла. — Вот видишь, старик, — говорил я, возясь около него с молотком и ломом, — я приношу тебе большую жертву, стараясь освободить тебя из плена. Ведь если бы мне когда удалось возвратиться в обитаемые страны, то, показывая тебя сидящим по колени в кристалловой массе, я дал бы неопровержимое доказательство правдивости моего рассказа, и все бы убедились, что ты настоящий первобытный человек, сохраненный мудрой природой в виде образца. Теперь нее, если я освобожу тебя, ученые скептики прямо признают мой рассказ пустой болтовней, и мне нечем будет доказать, что вы с Нагамой происходите из допотопного периода, что, следовательно, моя жена принадлежит к древнейшему роду, и что не может подлежать никакому сомнению все то, что вы сообщите о допотопном состоянии земли. После долгих усилий мне удалось раздробить настолько кристалл, что можно было извлечь из него старика. Во внутренности кристаллового обломка ясно отпечатлелись следы ног — могло бы и это послужить красноречивым доказательством. Старик, однако, был так слаб, что не мог идти, и мы решили, что он будет разъезжать на спине Бэби. Кстати сказать, он долго боялся нашей доброй и услужливой Бэби, которую почему-то считал за иевама (соперника). Необходимо нужно было возвратиться в ледяную пещеру, где была оставлена мной большая часть моих запасов и откуда я мог бы выбраться опять на поверхность земли. Моя надежда основывалась на устройстве ледяной пещеры. Вследствие вулканического взрыва ледяные массы, спускавшийся там с верхней части пещеры, неминуемо должны были свалиться вниз. Ледяной орган, со всеми его фантастическими украшениями, наверное, разрушился, и его обломки расположились так, что нам, с помощью Бэби, было теперь можно пробраться на верхнюю галерею. Я был уверен, что медведи все до одного покинули пещеру. Землетрясение согнало их, должно быть, даже вовсе с материка, и они удалились на ледяные поля. Интереснее всего мне было также узнать, что сделалось с «Тегетгофом». Если материк оторвался от льдов, то остался ли корабль на том же месте, где находился, или был увлечен льдом? Мы отправились в путь. Когда мы выступали из пещеры, старик запел благодарственный гимн. Пение его нельзя было назвать приятным для слуха, так как он, очевидно, лишился голоса еще до потопа. Судя по одеянию, в котором я нашел патриарха с Нагамой, следовало предположить, что они попали в кристалловую жидкость еще в те времена, когда эта полоса земли составляла часть жаркого пояса. Если у них сохранилась память, то как они должны удивиться при виде незнакомой им зимней картины и отсутствию солнца! В ледяной пещере оставались две медвежьи шубы — они должны были спасти мое новое семейство от замерзания. До самой пещеры не было необходимости в шубах: на пути туда было прямо жарко благодаря работе вулкана. Когда я посадил старика на спину Бэби, он пробормотал что-то о саббате. Конечно, благочестивый еврей не должен путешествовать по субботам, но я кое-как растолковал ему, что в здешних местах полгода тянется ночь, а полгода день; следовательно, суббота бывает только раз в семь лет, и что сегодня был еще только четверг. Это астрономическое объяснение, по-видимому, успокоило его, и наш караван продолжал путь.
Впереди шла Бэби, таща вцепившегося в нее обеими руками патриарха. За ней следовала Нагама с чашей из яйца динорниса, а затем и я со всем своим багажом.

Проход до базальтовой пещеры был гораздо удобнее прежнего. Плотно сжавшиеся слои сланца образовали такие широкие и высокие коридоры, что мы могли двигаться по ним совершенно беспрепятственно. По мере приближения к базальтовой пещере температура поднималась все выше и выше. Немного не доходя до пещеры, мы остановились отдохнуть и закусить. Бэби служила нам всем диваном. Крепко заснув, я видел во сне, что нахожусь в раю. Пробудившись, мы стали собираться перейти через базальтовую пещеру. Это было не так легко. Расколовшиеся пополам колонны легли в виде моста над нижней галереей. Но это был настоящий чертов мост. Местами зияли глубокие и широкие промежутки, через которые надо было перескакивать. Нагама могла перескочить по своей легкости. Перескочил бы и я, благодаря своей силе и навыку к гимнастическим упражнениям, но мне препятствовал багаж. Мы устроили так: сперва перепрыгнула Нагама, потом я бросил ей веревку, по которой она перетаскивала к себе багаж, а затем перебрался и я сам. Базальт еще имел температуру полуостывшего железа, и асбестовые чулки хотя и предохраняли ноги от ожога, но все-таки не могли избавить от ощущения нестерпимой жары. Перед самым выходом из пещеры нам преградила путь щель шириной в семь метров. Перепрыгнуть через нее нечего было и думать. На такой скачок мог отважиться разве только кровный английский скакун. Обойти кругом тоже было нельзя. Бэби давно уже перемахнула через зияющую бездну и, оглянувшись, поняла наше безвыходное положение. Недолго думая, она сбросила с себя патриарха и вернулась обратно к нам. Между мной и Нагамой возник спор — кому первому воспользоваться услугами Бэби. Я желал, чтобы первой переправилась Нагама, она же предоставляла это преимущество мне. Бэби, наконец, вышла из терпения. Стоять на жгучей почве на одном месте было трудно и ей, тем более, что на ее ладах не было асбестовых чулок. Она положила конец спору тем, что сзади просунула голову между моих колен, подняла меня таким образом вместе с багажом на спину, в одно мгновение перенесла через пропасть и продолжала скакать галопом вдоль следующего за пещерой прохода. Этого я не ожидал. По моему мнению, она должна была остановиться по ту сторону пропасти и там вежливо ссадить меня. Нагама испустила пронзительный крик, гулко отразившийся многоголосым эхо со сводов пещеры. Я крикнул ей обождать Бэби, которая явится и за ней. Но бедняжка не в шутку вообразила, что я изменнически хочу покинуть ее на произвол судьбы. Не слушая моих увещаний, она с разбега перелетела через бездну и пустилась вслед за мной. Многие ли из нынешних благородных дам отважились бы на такой подвиг, чтобы не отстать от мужа? Она бежала так быстро, что догнала меня в конце прохода. Здесь она начала громко смеяться своим чудным серебристым смехом. Когда Бэби, наконец, соблаговолила остановиться и я спустился с нее, жена принялась осыпать меня поцелуями, твердя, что я и злой и хороший. Я хотел побранить ее за излишнюю смелость, но не мог, глядя на ее сиявшее торжеством лицо. Мы направились к малахитовой пещере, где жара была чисто африканская. Бэби опять посадила на себя патриарха и рысцой побежала с ним впереди. Старик почти всю дорогу дремал, между тем, как мы с Нагамой взаимно совершенствовались друг у друга в языкознании. Я очень удивлялся, что на всем протяжении нашего шествия было почти так же жарко, как в базальтовой пещере. Причину этого я понял лишь по достижении входа в малахитовый грот. Синего озера там уже не было видно. Все громадное количество купороса, составлявшего озеро, во время сотрясений сразу окристаллизовалось и теперь покрывало стены или в виде больших синих плит или же почкообразных голубых кремней. Последнее видоизменение произошло от примеси посторонних веществ. Дно бассейна уже покрылось белой корой благодаря действию жары, между тем, как выступы берега были на одной стороне покрыты точно зеленым бархатом, на котором сверкали небольшие ярко-красные кристаллы. Местами на дне пещеры виднелись большие сероватые пятна; я знал, что это означает присутствие смеси сернокислого кали с купоросом, которые взорвутся при малейшем прикосновении к ним, и потому направлял караван в обход этих опасных пятен. Новообразовавшиеся кристаллы, возникшие из соединения хлора, красной меди и аммониака, сами собой распадались снова, издавая шипение вроде того, когда поливают водой раскаленное железо. Вследствие процесса кристаллизации температура малахитовой пещеры поднялась на двадцать четыре градуса. Процесс этот продолжался на наших глазах. Несколько маленьких кристаллов соединялись в один большой. Крупные кристаллы глотали маленькие, иногда даже и совсем не сродственные им. Победивший «мертвый» камень моментально перерабатывал побежденный, так что от него не оставалось и следа, а попадись в него крылышко крохотного насекомого или тоненький листочек золота, он оставил бы их неприкосновенными! В глубине пещеры, где кристаллы создавались густыми слоями, жара была всего сильнее. На верхней галерее, конечно, было немного прохладнее. Туда я и предполагал забраться. Малахитовые скалы и глыбы красной меди остались неприкосновенными, но зато была другая перемена, сильно поразившая меня. Я хотел устроить здесь шатер для моего семейства и затем отправиться, в сопровождении одной Бэби, в ледяную пещеру. Нагаму я не мог взять с собой, за неимением у нее теплой одежды. Подождав, когда она заснула (старик и так почти все время спал), я ощупью, при слабом мерцании одних светящихся камней, выбрался в следующий коридор, где зажег свою лампочку. Я был уверен, что весь спуск из ледяной пещеры был завален свалившимися ледяными глыбами, но вместе с тем рассчитывал на проникавшую из малахитового грота жару, вследствие которой лед настолько обтаял, что по нему смело можно будет подняться вверх. Но меня ожидал непредвиденный сюрприз. Не лед встретился мне, но вода. Там, где прежде журчал тоненькой струйкой ручеек,пробивавшийся из-под ледяных масс, теперь шумела и бурлила целая река.

Она низвергалась широким каскадом сверху, из пещеры, и наполняла нижний проход по крайней мере на метр глубины. Очевидно, эта река образовалась именно в ледяной пещере, но как, под влиянием чего? Это было для меня необъяснимой загадкой. Не настолько же уж сильно тянул жар снизу, чтобы произвести такой переворот! Как бы там ни было, но мне оставалось только отступить ввиду этой неожиданной преграды. Я победоносно боролся с огнем, со скалами, с взрывчатыми газами, но с бурной рекой справиться не в состоянии. На это у меня не хватало ни знания, ни умения. Решив переждать, когда вся вода стечет из верхней пещеры, я возвратился к своему семейству и начал делать вычисления. Сколько выйдет гектолитров воды из растопившейся ледяной площади длиной в 500 метров, шириной в 400, а толщиной в 150? Сколько килограммов даст такое количество гектолитров? Сколько гектолитров может, при давлении стольких-то килограммов, протечь сквозь отверстие в 100 сантиметров вышиной и 75 шириной? Сколько надо часов, дней, чтобы стекла такая масса воды? И главное, насколько времени хватит моей провизии? Вывод моих вычислений был тот, что сыра, мяса, языка и даже манны далеко не хватит до того времени, когда сбежит вода. Нагама с любопытством смотрела на каракули, которыми я наполнял бумагу, и захотела узнать, что они означают. Я растолковал ей, что при помощи этих каракулей я убедился в неизбежности для нас голодной смерти. Но она рассмеялась, поцеловала меня и, пока что будет, стала работать. Далеко не весь асбест был связан на чулки. Нагама сама устроила себе из китовых костей и уса ткацкий станок с челноком и принялась ткать шелковое полотно. По окончании его, она сделала из него роскошное длинное одеяние старику. Когда она облекла патриарха в это красивое изделие своих рук, он радостно захлопал в ладоши и наградил ее поцелуем. Как изворотлива женщина, даже допотопная, несмотря на всю свою первобытность! Приведя своим подарком старика в хорошее настроение духа, она до тех пор ласкалась и увивалась вокруг него, пока не выманила одну важную тайну, известную лишь ему. Еще немного поухаживав за ним, она подбежала ко мне и с торжеством шепнула: — Есть другой выход! — Он сказал тебе, да? — спрашивал я. — Но где же? Она лукаво улыбнулась, положив мне руку на голову, и сказала: — Ты ведь у меня ученый. Угадай сам! — Он не хочет сказать? — Не смеет. — Кто же может запретить ему? Нагама приложила палец к губам. Это означало, что имя запрещавшего нельзя выговорить. «Хорошо, старик! — подумал я. — Я докажу тебе, что я действительно ученый. Если только существует другой выход из этой пещеры, то я сам найду его. Будь в этом уверен».
XXI Могила Каина
Я принялся соображать. Если есть другой выход отсюда, то мне укажет его термометр. В натопленной комнате термометр всегда показывает меньше у окон и дверей, чем в середине помещения. Я помещал термометр в различных местах, надеясь, что где-нибудь да упадет же ртуть, но везде она стояла на одинаковом уровне. Видя безуспешность моих изысканий, старик величаво злорадствовал. Конечно, такой благочестивый патриарх охотнее уморит и себя и других голодом, чем изменит тайне, которую хранит в силу фанатизма. При каждом неудачном опыте с моей стороны он затягивал своим дребезжащим голосом какой-то гимн, а когда уж окончательно не хватало голоса, он только шипел, как обозлившийся кот. А Бэби, между тем, посиживала себе на малахитовой скале и облизывала свои лапки. Теперь она представляла еще более красивое пресс-папье — синий медведь на зеленой подставке! Раз как-то, когда я проходил мимо, она зевнула во всю пасть. Должно быть, она соскучилась в продолжительном бездействии. «Ах, да! не толкнуться ли к этой скале? — подумал я, внезапно осененный счастливой мыслью. — Она хотя и стоит совсем отдельно, но все же не мешает справиться у нее». Я поставил термометр у подножия гигантской глыбы и сам стал возле него на колени. Минут через пять я вскочил, вне себя от восторга: ртуть значительно опустилась! — Тут наше спасение, тут! — кричал я, ударяя ломом о скалу. Старик испустил резкий визг, постепенно перешедший в львиное рычанье. Значит — я открыл его тайну. Нагама поспешила успокоить старика своими ласками, между тем, как Бэби соскочила с глыбы, начала тявкать и прыгать вокруг меня и, наконец, ожесточенно стала царапать малахит, оставляя на нем следы своих могучих когтей. Я уперся ломом в глыбу, надеясь сдвинуть ее. — Ха-ха-ха! — захохотал старик, видя тщетность моих усилий. В этой глыбе было по меньшей мере полторы тысячи килограммов, и сдвинуть ее могли разве только десять сильных людей. Лом гнулся, а глыба не трогалась с места. — Ха-ха-ха! — продолжал смеяться старик, удерживая Нагаму, рвавшуюся помочь мне. — Пусть он сам попытается сдвинуть скалу, которую поставили сюда двенадцать человек! — злорадствовал старик. Но я недаром был сыном XIX века, и потому не сомневался в своей победе. Взобравшись на вершину малахитовой глыбы, я продолбил в ней отверстие, на что потребовалось несколько часов, так как эта горная порода крайне тверда, — и спустил в нее динамитный патрон. Не зная, что именно я хочу сделать, патриарх все смеялся своим глухим старческим смехом. Ведь эту глыбу не разобьешь ломом и в целый год! Погоди, старик, все сделается в одну минуту! Уложив патрон, поставив зажигатель и засыпав края отверстия мелкими осколками камня, я прыгнул с глыбы, бросился к моей семье и потащил ее в безопасное место. Там я вынул часы и стал следить по минутам. Старик глядел на меня с изумлением, Нагама же доверчиво прижималась ко мне. Вот промелькнула последняя минута. Я велел жене и старику не трогаться и крикнул: — Скала, распадись! Раздался страшный грохот, и малахитовая масса распалась на две части. Поднимавшееся из ее середины белое облако медленно потянулось вверх. Патриарх упал ниц. Он счел это за нечто сверхъестественное. Посреди обломков скалы зияло отверстие в горный проход. — Встань, старик, и иди за мной, — сказал я, трогая его за плечи. Патриарх признал мое превосходство и покорно последовал за мной, так же, как и Нагама. При свете лампы мы все спустились в отлогий коридор, постепенно ведший вниз. Температура в нем была гораздо ниже, чем в пещере. Сначала стены шахты состояли из красноватого туфа. Это тот сухой, рыхлый, редко встречающийся минерал, в котором высечены римские катакомбы. Он известен под именем «пуццоланского туфа». Шахта, напоминавшая широкую трещину, какие бывают в массах лавы, привела нас, наконец, в круглое пространство, походившее на окаменевший пузырь. Весь этот грот был красный, тусклый и мрачный. В середине его стояли, на расстоянии двух метров друг от друга, четырнадцать гигантских чаш.
Эти чаши были произведением не рук человека, а самой природы. Их находят в море, и это ни более ни менее, как обратившиеся в кварц губки, имеющие чашевидную форму и достигающие иногда размера человеческого роста. Моряки называют их чашами Нептуна. Каждая из этих чаш была накрыта четырехугольной, оранжевого цвета каменной плитой, тоже в природном виде. Древние итальянцы называли эти плитки Capis quadratus (четырехугольным камнем). Взяв Нагану за руку, патриарх подвел ее к одной из чаш и сказал: — Надунъя (твое приданое). Я сгорал любопытством узнать, что скрывается в этих чашах. Старик знаком попросил меня помочь снять с них плиты. В первой чаше оказалась пшеница, не та пшеница, которая культивируется теперь, но белая и прозрачная, яйцевидная и трехгранная, похожая на находимую в египетских гробницах, только еще крупнее. В настоящее время этот вид пшеницы совершенно пропал, но сотни две-три дет тому назад торговцы еще вывозили ее из Таганрога, называя grano duro (твердым зерном). И все остальные чаши были наполнены образцами семян первобытных злаков, произраставших без особого ухода со стороны человека. Тут были семена «небесной росы» (festuca fluitans), «кровавого проса» (digitaria sanguinalis), «слез Иова» (coix lacryma Iobi), «болотного риса» (zizania palustris) и «священной каши» (clymus). Одна из чаш была полна маленькими луковицами травовидного корнеплода. Много было и еще зерен, семян и луковиц, совсем мне неизвестных и теперь нигде не встречаемых. В последних чашах находились опять знакомые мне по описаниям образцы: зерна luzula, известного под названием заячьего хлеба, маковые зерна «нунуфары», из которых египтяне пекли хлеб в давно прошедшие времена, крупные, величиной с вишню, бобы «голубой нунуфары» и шарики роскошной «тамары», росшей в болотах и считавшейся египтянами священным растением. Наконец попались и мучнистые клубни индийского «тикора» (maronta), клиновидные семена «кардамона» и то растение «ensete edula», в середине которого образовывалась мука, заменявшая в Египте хлеб, пока не открыли пшеницу. О «кардамоне» скажу, кстати, что он рос только на лесных пожарищах. Для добывания этого питательного растения часто сжигались целые девственные леса, и кардамон рос сам собой в изобилии до тех пор, пока не вырастал новый лес. Семена могут сохраниться вечно, лишь бы только к ним не проникала сырость. В туфовой пещере не было сырости, и все найденные нами семена казались совершенно свежими. И все это принесла мне в приданое моя жена! Теперь мы на много лет были обеспечены от голода и чувствовали себя владыками земли. В порыве радости и благодарности я поцеловал морщинистую щеку старого патриарха.
XXII Новое небо
Я усердно искал дальнейшего пути из этой пещеры, надеясь найти его и без помощи старика. Здесь был целый ряд катакомб, созданных могучими руками природы в туфовых наслоениях. Люди, наверное, освещали себе чем-нибудь дорогу. Идти ощупью по этому мрачному лабиринту было немыслимо. И действительно, в одном из шахтовидных проходов я нашел остатки брошенных факелов. В древние времена факелами служили стебли белого камыша (calamus albus). При трении друг о друга двух таких сухих стеблей являются искры. Огонь первоначально и был открыт такой игрой этим тростником. Внешняя кора его состоит из кремневой массы и потому очень тверда, сердцевина же смолистая и горит ярким пламенем. Когда огонь доходит до колена тростинки, раздается сильный треск, и пламя гаснет. Ввиду этого факел всегда составлялся из трех тростинок. Наконец, я добрался до оконечного выхода из туфовых пещер. Он был закрыт несколькими наваленными друг на друга громадными камнями. Устранить эту преграду мне было далеко не трудно, но стоило ли? Я и так знал, что всегда могу выйти на свободу, сообразуясь с расположением гор снаружи и внутри, но что же мы будем делать «наверху», где царит страшный холод? Мой тесть и моя жена, привыкшие к высокой температуре, сейчас же замерзнут. Шубы мои — в ледяной пещере, на мне самом только теплая куртка. Надо постараться пробраться на «Тегетгоф», где остался еще большой запас всякого платья. Меня домчит туда Бэби. Она своим тонким чутьем отыщет корабль и найдет дорогу обратно. На «Тегетгофе» я иногда пробовал ходить без шубы, и потому не боялся замерзнуть. Да, надо немедленно отправиться. Старик молится и плачет, Нагама крепко спит… Идем, Бэби! Я все воображал себе удивление моей семьи, когда она увидит такую картину природы, о какой раньше и понятия не имела: небо без солнца и с незнакомыми созвездиями; по временам пламенеет «северное сияние», способное возбудить лишь страх в робких умах. Земля покрыта каким-то странным белым блестящим песком; повсюду возвышаются прозрачные, сверкающие горы. Царствующий повсюду холод тоже неизвестен допотопным людям, и они сначала не поймут производимого им ощущения. «Что это за странный воздух — он режет нас!» — наверное, скажут они. Когда же я, наконец, сам вышел на поверхность земли, моему собственному удивлению не было границ, — до такой степени велика была перемена, происшедшая во время моего пребывания во внутренности гор. Прежде всего, меня поразило то обстоятельство, что термометр показывал выше нуля. А какое небо было надо мной — совершенно отличное от прежнего! Ни одной звезды не было видно. Весь небесный свод сиял ярко-красным отблеском и был покрыт кровавыми облачными массами, двигавшимися волнообразно; по временам из-за них несмело выглядывал бледный, тусклый диск луны. Теплота происходила именно от этих облаков. Но откуда взялись они? Отчего у них такой необычайный цвет? И вот вдруг пошел дождь. Да, это дождь, а не снег. Весь горизонт запылал пожаром. На одной стороне горизонта ясно обрисовывался мыс Цихи, а немного пониже поднимались столбы огня и дыма из нефтяного вулкана. Одно это вулканическое извержение не могло произвести повышения температуры в целой области. Вероятно, загорелись со всех концов каменноугольные залежи. От такого количества теплоты, конечно, может нагреться и воздух на большое расстояние.
Со временем прогорит, значит, весь этот материк, — со временем, но не скоро. Дудвейдорские каменноугольные копи горят уже полтораста лет, а между тем, на поверхности их все еще живут. На раскаленной почве даже произрастают великолепные тропические растения и производятся роскошные плоды. Немедленной опасности, следовательно, нет, а что будет впереди, о том мне нечего беспокоиться. Но этот пожар имеет еще одно последствие: горящие берега материка отталкивают лед, заставляя его отступать все далее и далее. Наверное, и у моря есть течение, которое может унести с собой плавучую землю. На той части острова, где горит вулкан, воздух должен редеть от поднимающейся кверху жары; более же сгущенный воздух противоположной части погонит землю вперед, причем горы окажут услугу парусов. Что же, между тем, случилось с землей? Какие перевороты были произведены тут на ней воспламенением нефти и каменного угля? Когда в знаменитой нефтяной долине в Пенсильвании открывают новый источник, то предварительно во всей окрестности гасят все огни, так как летучие газы моментально выделяются из насоса артезианского колодца и с быстротой молнии распространяются но окрестностям. Однажды, при открытии такого источника, забыли погасить огонь в кузнице, отстоявшей от источника на расстоянии двухсот метров. Вследствие этого произошло воспламенение газа, и в одну минуту все загорелось вокруг на целую английскую милю. Сгорело двести человек, и на всем этом протяжении не осталось ни одного дерева, ни одной травинки, ни одного живого существа. Там взрывчатый газ проходил на поверхность только сквозь трубу, имевшую в поперечнике не более двадцати сантиметров. Зажженный же мной вулкан имел жерло в несколько метров. Значит, из него вырывалось несравненно большее количество газа. От действия первого взрыва исчез весь лед с гор и долины наполнились водой. Когда я видел горы в последний раз, они были белые; теперь они представились моим глазам уже черными. Повсюду змеились точно потоки расплавленной лавы, и с гор низвергались целые огненные каскады. Но это была только вода, в которой отражалось пылающее небо. В отдалении я узнал базальтовое новообразование, возвышавшееся метров на двадцать над прежними скалами. Происходивший на моих глазах процесс таяния льда объяснил мне и причину появления потока, низвергавшегося из бывшей ледяной пещеры. Понятно, на всем этом острове не осталось более ни одного животного, кроме спасенной мной медведицы. Те, которых взрыв нефтяного газа застал снаружи, превратились в уголь; находившиеся же посреди льдов или снега, в зимней спячке, погибли от давления воздуха. Единственными представителями живых существ остались только мы четверо. Я был вполне уверен теперь, что взрыв вулкана помог материку оторваться от ледяного кольца. Что же могло случиться с «Тегетгофом»? Южная часть острова была окутана густым серым туманом. Надо было пойти туда. Найду ли я «Тегеттоф»? Путь от него в горы был совершен мною в течение двадцати часов. Расстояние не близкое. Если я заблужусь, то мы все погибнем. В глубоком раздумье я опустился на каменную глыбу, не зная, что предпринять. Бэби убежала вперед и испускала какой-то странный, точно боязливый рев. Вдруг поднялся сильный ветер с юга. Вместе с тем усилилось извержение вулкана, краснота неба стала ярче, и туман начал понемногу рассеиваться. Но что же это? Уж не обманывает ли меня зрение?

Предо мной стоял «Тегетгоф»! Да, совсем близко, на расстоянии пушечного выстрела, возвышается покинутый корабль. Я не сплю и ясно вижу трубы, мачты, такелаж и бойницы. Через минуту туман снова сгустился в непроницаемую массу, и корабль скрылся из виду. Вероятно, заметила его и Бэби. Она галопом возвратилась ко мне и, как бешеная, принялась визжать и вертеться вокруг меня. Вдоволь навизжавшись и навертевшись, она распростерлась у моих ног, как бы приглашая меня сесть на нее. Я последовал этому любезному приглашению, и Бэби стрелой помчала меня по направлению к «Тегетгофу».
XXIII «Тегетгоф»
Дорога, по которой несла меня Бэби, была, очевидно, прежняя, но очень видоизменилась. Ледяные поля сделались рыхлыми, половина прозрачных гор стаяла. Местами загораживали путь довольно глубокие реки, местами же высились ледяные глыбы, которых прежде там не было. И вот вдруг мы очутились перед самым «Тегетгофом». Он все еще стоял на той самой ледяной горе, на которой его бросили наши путешественники. Но, Боже, какая жизнь, какой шум царствовали на нем! Даже в свои наиболее счастливые времена «Тегетгоф» не видал такого оживления. Целые тысячи альбатросов, пингвинов и других птиц шныряли по палубе, сидели на бруствере, выглядывали из окон и качались в такелаже. Очевидно, на корабле воцарилось целое птичье племя. Но как попал Тегетгоф на материк? Взрыв вулкана и воспламенение находившегося подо льдом несметного количества петролеума дали части плавучего материка, помещающегося на ледяном фундаменте, такой толчок, что он нырнул и протискался уже под нижний слой льда. При этом ветер и течение моря понесли эту часть острова к северу. «Тегетгоф» только одной половиной стоял на материке, а другой — на воде, образовавшейся от таяния льда и представлявшей собой целый уже залив. И залив этот весь был покрыт птицами. Вступив на палубу корабля, я стал на колени и поцеловал его, точно это была родная земля. Потом я обнял дымовые трубы и мачты, как будто они были дорогие мне живые существа. Кроме птиц, никого не было на корабле. Они уже успели свить себе гнезда и снести множество яиц. Особенно обрадовался я яйцам диких гусей и набрал их целую сотню. Намереваясь перевести на «Тегетгоф» свою жену с ее прапрадедом, я устроил все для их приема. Потом я нагрузил маленькие сани несколькими шубами, оставленными моими бывшими спутниками, и набрал еще материала на костюмы жене. Что это был за роскошный материал! В капитанской каюте нашлись флаги всех государств, — их-то я и решил взять жене на платье. Из флага соединенной монархии Австро-Венгрии выйдет прелестная юбка. Из испанского флага, составленного из пятнадцати цветов и украшенного множеством больших и малых орлов и львов в разных положениях, можно сделать тунику. Британский флаг послужит на кофту, а датский — на башлык. Такого великолепного туалета еще никогда не бывало ни у одной женщины, и Нагама, наверное, очень обрадуется ему. Когда я собрался в обратный путь, на «Тегетгофе» вдруг все затрещало, запищало и завизжало. Это была своего рода жалобная речь, из которой я ясно понял, что кораблю предстоит в самом скором времени грустный конец. Под ним должен подломиться лед, на котором он держится одной стороной; тогда он соскользнет в воду и будет засыпан обломками льда. Но это было бы крайне нежелательно. Я стал придумывать, как бы предотвратить катастрофу. Задняя часть корабля была высоко приподнята, нос же его сидел глубоко во льду. Следовало разом освободить его и целиком спустить на воду, не дожидаясь, пока лед сам обломится под ним. Это было нетрудно сделать. Я намеревался взорвать ледяную баррикаду в несколько метров толщины, для чего послужила мне торпеда с электрическими приспособлениями. Ожидая, что корабль от сильного толчка погрузится сначала глубоко в море, я привязал себя перед рулем к скамейке. Бэби поняла, что опять предстоит опасность, и с визгом поспешила забраться на марс.
Через минуту «Тегетгоф» опять должен был выплыть на поверхность. Воду, которой зальет его, можно будет выкачать насосами. Не будь меня у руля, корабль унесло бы далеко от материка, но я надеялся воспрепятствовать этому, давая ему нужное направление. Но я сам мог погибнуть при этом новом отважном предприятии. Оглушительный удар потряс весь корабль. На палубу его с треском взлетели громадные глыбы и осколки льда. Волны зашумели и забурлили, поднявшись стеною с обеих сторон. Ледяные зеленые стены с белыми верхушками соединились надо мной в виде свода, и «Тегетгоф» быстро пошел ко дну. Моим первым инстинктивным движением было броситься вплавь, но связанные ноги мешали этому. Тогда я стал править кораблем под водой. Не выпуская из рук руля, я считал секунды. Более ста двадцати секунд не выдерживает под водой и самый опытный пловец. Я насчитал сто двадцать. Перед закрытыми глазами носилось кровавое облако, в висках стучало, дыхание захватывало. Пора было освободить ноги и выплыть на поверхность. Однако, я решил лучше погибнуть вместе с кораблем, чем вторично бросить его. Я начинал терять сознание и уже готовился к смерти, когда вдруг надо мной прояснилось и я вновь увидал красное, сияющее небо. Весь мокрый, дрожа от холодного купанья, я напряг последние силы и благополучно направил «Тегетгоф» сквозь льдины к очистившейся от льда части острова. Пострадал немного один нос корабля, все остальное было цело. Опустив два якоря, я позвал Бэби. Она была совершенно суха, просидев все время на марсе, остававшемся над водою. Убедившись, что я остался невредим, она тотчас же бултыхнулась в воду и закувыркалась от удовольствия.
XXIV Новая часть света
Я поспешил в катакомбы; Бэби везла меня на санях. К счастью, я вернулся вовремя, иначе Ламек сделал бы непоправимое зло. Желая принести Богу благодарственную жертву, он вознамерился было сжечь всю пшеницу. С большим трудом удалось мне уговорить его не делать этого и растолковать ему, что его прекрасное само по себе намерение не достигнет цели. Ведь главное условие подобного жертвоприношения состояло в том, чтобы дым возносился прямо к небу, в пещере же ему не было выхода, и он только стлался бы по ней облаком. Старик вполне утешился, когда я надел на него отличную медвежью шубу. Она так понравилась ему, что он пожелал не расставаться с ней более. Не менее того обрадовалась и Нагама флагам. Особенно пришелся ей по вкусу американский, — самый простой из всех, — и она живо устроила себе из него платье. Когда я надел на нее поверх нового костюма шубу из чернобурых лисиц, она выглядела настоящей допотопной царицей.
Затем я вывел обоих «наверх». Вид неба нисколько не поразил их. Из этого я заключил, что небо в те дни ужаса, когда Ламек с Нагамой попали в пещеру, было точно такое же — покрытое облаками, отсвечивавшими отблеском вырывавшегося из-под земли огня. Зато Ламек положительно был поражен видом корабля. Он дрожал всем телом, когда мы вступили на палубу, кишмя кишевшую птицами. Сначала Ламек вообразил, что птицы и принесли с неба на землю это странное, небывалое еще на его глазах здание. Потом он пошел расспрашивать: что это за удивительные трубы? К чему громадная железная игрушка (машина)? Зачем крылатые деревья (мачты с парусами)? Что это вообще за постройка на воде? Для чего она? Что за удивительная утварь стоит в деревянных разукрашенных домиках (каютах)? Почему это люди удваиваются, когда подходишь к ровной блестящей дощечке (зеркалу)?
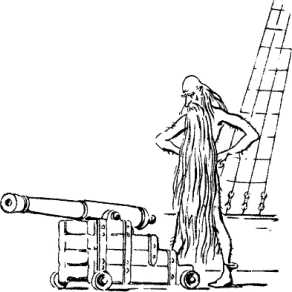
Наконец, старик вывел из всех моих объяснений то заключение, что я — какое-то особенное высшее существо, создавшее эту плавучую крепость лично для себя. Я оставил его вместе с Нагамой на корабле, а сам возвратился на санях (лошадью, конечно, опять была Бэби) в пещеру за нашим имуществом. Между прочим, я перевез и весь хлебный запас. Чаши все оставил в пещере, за исключением лишь одной; ее я присоединил к собранию редкостей на «Тегетгофе». На корабле была ручная мельница; на ней мы и могли молоть хлеб. Птицы служили нам для обогащения нашего стола. Они были так глупы, что мы могли брать их руками. Едва мы устроились на корабле, как у нас со стариком возник спор. Он придерживался того мнения, что нужно сжечь часть хлеба в виде благодарственной жертвы; я же, современный человек, уверил, что лучше жертвовать птицей. Мной, понятно, руководил в этом споре тот простой расчет, что птицы-то много, а хлеба сравнительно мало и взять его будет неоткуда, когда выйдет весь наш запас. Но старик не сдавался на мои доводы. Не желая огорчать Нагаму, я должен был уступить упорному патриарху. Однако, я вовсе не хотел помогать ему в его затее, но прямо хотел перехитрить его. Он сам навел меня на эту мысль, выбрав для своего первого жертвоприношения зерна «нунуфары». Они очень походили на мак, а вместе с тем и на порох. Жертвоприношение, по учению Моисея, считается тогда лишь угодным Небу, когда дым от него поднимается прямой струей кверху. При насыщенной парами атмосфере, окружавшей нас, такого результата при обыкновенном дыме не могло быть. Седой патриарх пришел в отчаяние, когда масляный чад от горевшей нунуфары потянулся по всему кораблю вместо того, чтобы стремиться вверх. — Погоди, батюшка, — сказал я. — Теперь попробуем моего мака. Я бросил на раскаленную сковороду щепотку пороха, — дым, конечно, с треском взвился прямо к небу. С этой минуты старик убедился, что я человек вполне надежный, так как жертва моя сразу достигла своей цели, и он ежедневно стал жертвовать по щепотке моего «мака». Восторгу его не было границ, когда он видел, что и его жертвоприношение принимается благосклонно. Конечно, лучше употреблять порох с такой целью, чем убивать им ни в чем не повинных людей. Как только мой «дом» был приведен в возможный порядок, я пожелал подробно исследовать совершившуюся с нашим островом перемену и для этого устроил себе на северо-западной оконечности мыса Цихи подобие обсерватории и перенес туда с корабля все геометрические аппараты, телескопы, секстанты и астролябию. Первый же взгляд с возвышенного пункта доказал мне, что то, что принято было считать материком, было в действительности только островом. На северной части его возвышался вулкан, находившийся все еще в полном действии. На восточной и западной сторонах пылало море огня; южная же сторона была свободна от него. Я ясно видел, как весь остров медленно двигался на север, пролагая своим горящим носом путь между ледяных гор. Отлично. Я с кораблем могу направиться вперед, а земля поплывет за мной. Великолепная движимая собственность! Однако, я вызвал сильную-таки пертурбацию в природе, так что понемногу вокруг все должно измениться. Начало уже было положено. Солнечный свет заменяется тем, что весь небесный свод был как бы в пламени. Постоянно возобновляющиеся облачные массы не допустят преобладания холода; они являются результатом подземного пожара, который произведет в конце концов равномерную тропическую жару. Разогревшаяся земля скоро начнет испускать испарения; образуются болота, а в них зародятся новые формы животных и растений. Ведь в самой почве скрыто множество зародышей, и стоит лишь смочить их водой и пригреть хорошенько, чтобы вызвать к жизни. Весь остров превратится в громадную оранжерею. На нем не будет разных времен года. Не будет даже ветра, потому что скользящая по воде земля идет по ветру, и чем ближе мы подойдем к самому крайнему северу, тем тише станет в атмосфере. Тогда мы понесемся только морским течением. Новая растительность покроет сперва само болото, а потом его края. Из глубины ручьев поднимутся те удивительные цветы, которые сами срываются с ветвей, чтобы отыскать свою пару и снова спуститься с ней на дно воды. На краю болота массами появятся ананасы, точно грибы после дождя. Горы покроются пышной зеленью. А потом зародятся и животные. Но какие именно? Будут ли они походить на бывшие уже на земле виды или представят совершенно новые формы? Все это крайне интересно было бы проследить.
XXV Новое творчество
Новотворческая деятельность земли, вызванная мной, должна была, главным образом, сосредоточиться в той части острова, где работал вулкан. Приблизиться к тому месту не было никакой возможности. От таяния льда и снега образовалась такая топь, через которую нельзя было пробраться. В ней были груды остатков первобытных растений и животных, скрытых раньше подо льдом. Решившись переждать, когда пообсохнет, я усердно занялся преподаванием своего родного языка старику и Нагаме. Оба они были довольно понятливы, особенно Нагама, и месяца через два я уже мог рассказать им все, что есть и делается на свете. Они слушали меня с глубоким вниманием и выражали желание посмотреть все собственными глазами. Старик находил, что это дело вполне возможно, и даже обещал прочесть в венгерской академии наук лекцию о допотопном состоянии земли. Под влиянием насыщенного амброй спирта, мой патриарх выказывал замечательную память. Между прочим, он рассказал мне, какие водились при нем растения на «Земле Франца-Иосифа», называвшейся тогда Надом. На открытых полях процветала «шитта», весенняя пшеница, «буссемет», род репейника, два вида лука, «ацалия» и «шассир». Посреди них вился «фол», бобовидное растение. Далее были: «шумим» со своим сладким корнеплодом, «сора», усаженная шестью рядами колосьев, «гефен», вившийся по деревьям и отличавшийся сладкими гроздьями, из которых выжимали опьяняющий сок. На высохшем болоте произрастал род дыни «дудейм», покрывавший все своими завитушками и усиками. «Шикмиш» доставлял фиги, «шакед» — миндаль. Душистые цветы представляли собой «кимош» (лилии) и «шабацелет» (нарциссы). Толстые листья «шалдамута» шли на любимое кушанье, называвшееся парперотом, между тем, как сладкие стебли «дохана» доставляли мед. Быть может, этот «дохай» не что иное, как нынешний сахарный тростник. Склоны гор сплошь были покрыты вечноцветущими кипарисами — «деревом гозен». Он припоминал и отдельные долины и, наконец, после долгих усилий памяти, мог указать мне и древнюю тропинку, по которой можно было пройти, обходом через горы, к вулкану. Я решил воспользоваться его указанием, чтобы пробраться туда и посмотреть, что там теперь делается. Запасшись провизией и простившись с Нагамой и ее пращуром, я отправился в путь с не отстававшей от меня верной Бэби. Дорога была очень утомительна. То и дело приходилось то карабкаться вверх, то сползать вниз, то переправляться через пропасти, ущелья и горные ручьи. Спасибо Бэби, которая помогала мне одолевать все эти препятствия, один же я ничего бы не поделал! После двадцатичасового пути я, наконец, очутился вблизи нефтяного вулкана. Вулкан этот составлял последний отросток горной цепи. У подножия вулкана тянулась обширная котловина, занятая озером — ярко-красным, не только оттого, что в нем отражалось красное небо, но и от другой причины. Когда я приблизился к краю озера, на меня пахнуло тропическим зноем. Сама грязь возле озера была уже горячая, едва терпимая для ног. Вокруг еще все было мертво; ни травки, ни насекомого — ничего. Интересно бы подсмотреть, что возникнет сначала: животное или растение? Фауне ли флора обязана своим возникновением или наоборот, — это до сих пор неразрешимый вопрос для ученых! Чисто тропическая жара в этом месте делалась положительно неприятной. Можно себе представить, как страдала от нее Бэби, приспособленная только для сильного холода. Она побежала вперед и кинулась в озеро, спеша выкупаться. Однако, через две-три минуты она снова выскочила на берег. Очевидно, и вода была теплая, если не горячая. К великому моему изумлению, бедняжка превратилась из голубой в ярко-красную. Впрочем, когда она отряхнулась, то снова оказалась голубой. Это доказывало, что красный цвет воды происходил не от красящего вещества. Я зачерпнул в стакан воды и рассмотрел ее под увеличительным стеклом. Оказалось, что ее необычайный цвет происходит от инфузорий. Каждая капля воды заключала в себе целый мир маленьких чудовищ, преследовавших и поглощавших друг друга. Разнообразие форм было поразительное: виднелись змеи, веретена, колеса, вилы, шары, пряжки, гребешки, кошачьи когти, цилиндры, петушьи шпоры, звезды, солнца, полумесяцы, лебединые шеи, слоновые хоботы, бутылки, бусы, усаженные волосиками, почтовые рога, колокольчики, зигзаги, узлы, восьмерки, завитушки, щипчики, единороги, короны, двухколески, епископские жезлы, зонтики, гиацинты, акулы с хватальцами и рыболовными сетями. Словом сказать, почти все предметы на свете имели тут, в микроскопическом виде, своих представителей. И все это жило и двигалось! Следовательно, мир животный возник прежде мира растительного. Мне очень захотелось спать, и я прилег под выступом скалы. Бэби забралась на самый верх этой скалы, где было попрохладнее. Когда я проснулся, поверхность воды оказалась уже не красной, а зеленой. В течение моего шестичасового сна все озеро покрылось водяной ряской (lemma). Стало быть, она и есть прародительница растений. Набрав снова воды в стакан, я убедился, что инфузории почти все исчезли. Посреди тонкой зелени плавал длинный нитевидный красный червячок — наида (nais proboscidex). Это был первый видимый простым глазом живой организм, следовавший вслед за водяной ряской. Наида проглатывала всех инфузорий. Через восемь часов вода стала от наид еще краснее, чем была раньше; казалось, что вся вода превратилась в червяков. После наиды стали появляться один за другим всевозможные виды слизняков и гадов. Все озеро и края его заполонились крохотными шарами и змейками, безголовыми или безглазыми существами, плававшими без ног, вращавшимися, подобно колесам, с быстротой молнии и казавшимися кусочками студня. В то же время, возле берегов стада появляться осока. К водяной ряске присоединилась водоросль. Склоны гор начали порастать длинной травой, достающей до воды. Сутки спустя около корней осоки появился владыка всех слизняков и водяных гадов — полип. Это странное необъяснимое существо, открытое только в прошлом столетии, обязательно появляется там, где есть слизняки и гады. У него нет ни головы, ни глаз, ни желудка, ни сердца, но тем не менее, он все схватывает, глотает и перерабатывает в себе. При первом своем появлении из жизнетворного болота он — не больше первого сустава человеческого пальца и своим видом напоминает перчаточный палец. Но при этом полип может вытягиваться почти до бесконечности. На одном конце этого животного есть щупальцы; к ним и пристают гады, мгновенно проглатываемые им, хотя у него, как сказано, и нет желудка. Полипа можно вывернуть наизнанку, и тогда наружная его оболочка превращается во внутреннюю, переваривающую все проглатываемое. Если разрезать его вдоль на две части, то из каждой части образуется самостоятельное животное. Если же разрезать его поперек, то передняя часть с одного конца закрывается и снабжается щупальцами, — следовательно, опять образуются два целых полипа. Иногда случается, что два полипа схватят с разных концов одного и того же червяка и глотают его до тех пор, пока оба не сойдутся на середине. Тогда тот, который посильнее, преспокойно проглатывает слабейшего вместе с добычей. Однако побежденный, прободав бок своего победителя, срастается с ним в одно целое. Таким образом возникают полипы о двух ртах. Чем более полип пожирает, тем более он растет. Наконец он становится толщиной в мужскую руку и набрасывается уже на больших рыб и проглатывает их. Благодаря прозрачности полипа, кажется тогда, будто осталась одна рыба, лишь обтянутая тонкой кожей. Однако, эта тонкая прозрачная кожа убивает рыбу, вытягивает из нее все соки и выкидывает из себя лишь ее кости и верхние покровы. Полип не имеет пола. Он размножается тем, что по бокам его произрастают новые рты, которые все работают для себя, но вместе с тем способствуют питанию и общего организма. Я наблюдал целые дни деятельность этих ненасытных чудовищ. Глотая массы наид, они сами окрашивались в красный цвет. Вместе с тем вода, становилась все светлее и начинала терять тяжелый гнилостный запах, распространявшийся от нее сначала. Теперь на поверхности озера стали показываться широкие листья нелумбия и водяных лилий. Бэби начала купаться.
Однажды она после такого купанья примчалась ко мне громадными прыжками, как бешеная завертелась, запрыгала и заплясала вокруг меня, по временам кидаясь на землю, но не издавая ни одного звука. Внимательно вглядевшись в бедную медведицу, я понял причину ее волнения. На морде и голове ее была надета, вроде мешка, какая-то блестящая кожа. Это оказался громадный полип, пожелавший скушать мою слишком уж доверчивую Бэби. Отверстие полипа было стянуто вокруг горла Бэби. Злополучная медведица вдруг лишилась возможности дышать и никак не могла понять, что именно ее душит. Не догадайся она прибежать ко мне, она скоро задохлась бы. Я взял нож и разрезал опасный мешок пополам и освободил голову Бэби. Не успел я, как говорится, и глазом моргнуть, как мешок снова сросся и, в отместку мне за лишение его добычи, обтянул мою ногу, точно чулком, производя в ней нестерпимо давящее ощущение. Новообразовавшийся живой чулок я разрезал уже на четыре части — и вот явилось четыре полипа! Поняв, что им, пожалуй, и несдобровать со мной, они поспешили убраться в воду. Между тем, творческая сила земли начала свою деятельность и за пределами воды. На склонах гор лежали массы гниющих остатков допотопной растительности и животных. Эти массы вдруг ожили. На месте этих остатков появились громадные, величиной с бочку, грибы со множеством наростов, ветвей и клубней. Я их попробовал: они были очень сочны и вкусны. Рядом с ними возникали зловонные заплесневелые растения с прямыми стекловидными стеблями и дрожащими красными шляпками. Вперемешку с ними красовался древовидный крапчатый папоротник. Рост их положительно можно было наблюдать, и в первое время своего появления они испускали целые облака плодотворной пыли. Быстрый рост замечался и у последовавших за тем растений высшего порядка. Канна индика вырастала на метр в час. Ее сладкий сок давал очень приятное питье. Орхидеи начинали цвести уже <через> десять часов после выхода их из земли. Здесь только я убедился, что ароновый цвет развивает в своих чашечках теплоту. Это единственный цветок, наглядно свидетельствующий, что и растения живут и чувствуют. Необычайно быстрый рост новых растений объяснялся благоприятностью нескольких совместных условий: пропитанная кислотами земля, подогревающий снизу огонь, воздух, насыщенный аммониаком и теплыми парами, — все это, вместе взятое, способствовало крайнему, граничившему с чудовищностью, развитию растительности. В несколько недель создавалось то, что при обыкновенных климатических условиях производится лишь годами. В этом же скрывается ключ к разгадке того странного обстоятельства, что допотопные люди жили по семи, восьми и даже девятисот лет. У них год состоял не из зимы, весны, лета и осени, как у нас. У них было вечное лето, а года определялись сбором плодов и злаков. Одна жатва или один сбор плодов представляли собою по году. В течение же астрономического года в то время производилось десять жатв. Следовательно, наш год равнялся десяти ихним. В восточной Индии сейчас есть деревья, дающие плоды четыре раза в год, и ежегодно два раза поспевает рис. Только «святое хлебное дерево» переходит за границы календарного года: ему необходимо пятнадцать месяцев на образование плода из цветка и три месяца на созревание этого плода. Это то самое дерево, которое слыло в раю за древо познания добра и зла. Я продолжал наблюдать изумительное творчество природы. Через неделю возле озера и по склонам вулкана уже зеленела густая непроходимая чаща. Постоянное освещение не давало растениям спать, что сильно ускоряло их рост. Животных высшей организации пока еще не было. Один полип неограниченно царствовал в воде. Тварь эта казалась невредимой и неистребимой. Большие рыбы хотя иногда и проглатывали полипа, но вскоре же целиком выбрасывали его вон. Ястребы тоже часто схватывали его и поспешно бросали назад в воду. Взаимно эти чудовища тоже никак не могли истребить друг друга. Проснувшись однажды после довольно продолжительного сна, я был поражен новым видом озера. Посредине его плыла длинной цепью флотилия тех удивительно красивых таинственных водяных животных, известных у моряков под названием морской акалефы. Это животное очень напоминает мыльный пузырь: оно так же тонко, прозрачно и переливает всеми цветами радуги. Оно тихо движется по воде, окруженное длинными, тонкими и шелковистыми завитушками. Этими-то прелестными завитушками оно и убивает. Когда акалефа хочет ускорить свои движения, она наполняется воздухом и плывет в виде розоватого чепчика. Все, до чего ни коснется это загадочное существо, обречено смерти. Обхватит ли оно своими тоненькими нитями даже большое животное, — последнее все равно забьется в смертельной агонии и потом умирает. Когда человек тронет его рукой, оно обожжет руку, как огнем, и вся кожа на ней покроется пузырями. Рыбаки избегают его даже мертвого, и если оно случайно попадется в сеть вместе с рыбами, топоследние все начинают «чихать». Акалефы истребили полипов в течение суток. С живым любопытством следил я за этой борьбой. Как только акалефа касалась полипа, он тотчас же умирал. В один день все полипы превратились в жидкообразную массу — так называемую «пристелепскую материю», которая всасывалась листьями водяных растений. Наконец-то это всепобеждающее чудовище нашло и себе достойного врага! И вот пока владычицей озера сделалась акалефа. Этот слизняк тоже очень враждебно относится ко всем остальным живым существам. При нем ничто не может жить. Где он появляется, там более мелкие рыбы умирают в громадном количестве. Но вот однажды красивые, сверкающие всеми цветами разрушители сами лежали мертвыми на берегу. Ни одного пузыря не осталось в живых. Что же их убило? — личинки крохотных насекомых, прозванных учеными «cuclicon pediculus». Они напали на блестящие пузыри и просверлили в них тысячи отверстий. Всех других животных сжигало одно прикосновение к акалефе, личинки же были так малы, что им она не могла причинить никакого вреда. Через несколько часов тучи маленьких однодневных мух поднялись из озера, оставив на его поверхности желтые личинки, и притом в таком количестве, что вся вода казалась теперь желтой. Это было первое крылатое насекомое, появившееся на Земле. Творчество природы совершалось на моих глазах с поразительной быстротой. Лягу спать, просплю несколько часов и, проснувшись, вижу перед собою все новые и новые формы животного или растительного царства. Между растениями долгое время преобладали тайнобрачные: различного рода мхи величиной с кусты, студенистовидная, дрожащая морская трава, вздутые грибы, высокие крапчатые папоротники; между ними роскошно окрашенные растительные паразиты, для которых окружающие условия были особенно благоприятны. Были и орхидеи и кальцеолярии с цветами в форме бабочек и жуков. Исполинская вафлезия, вполовину гриб, вполовину цветок, окружностью почти в метр, вдруг выскакивала из-под земли, не предпосылая ни ростков, ни листиков. Одновременно с тем появились на краях озера травы. И что за роскошные травы: в один день они достигали высоты роста человека, а на другой день уже колосились. Осока, переплетаясь с вьющимися растениями в одну сеть, представляла непроходимые чащи. Там, где почва уже успела высохнуть, образовались сводчатые трещины и расщелины, как бы предупреждая о скором возникновении из них какого-нибудь царя растений. Быть может, появится юкка, а пожалуй, даже и сама исполинская в самом зародыше кокосовая пальма.
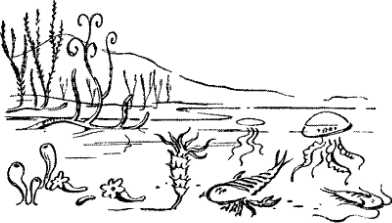
Не отстает от растительного и царство животное. Горячее болото производило все новые и новые виды: червяки с красной кровью, жаждущие другой крови, пиявки, трубковидные голотурны, трепанги, употребляющиеся китайцами в еду, звездовидные слизняки, медузы и пр. Между ними вдруг появился рак. Он одной ступенью выше перечисленных водяных жителей и потому отваживается выходить на сушу. Рождение этих более совершенных видов уже более не происходит явно. Дно озера совсем скрыто от глаз наблюдателя. Там, где кончается стена осоки, бамбукового и сахарного тростника, закрывают поверхность воды широкие листья нимф и кувшинчиков, а за ними тянется желтовато-красный ковер из цветов уртикулария. Свободна лишь самая середина, где озеро достигает наибольшей глубины.

Все происходящее теперь там, под водой, — тайна. Но вдруг до моего уха долетает первый звук из нового животного мира: кваканье лягушки. Не успели замелькать в воздухе первые мухи, как уже начали сверкать на траве серебристые паутинки, а вокруг засуетились муравьи, собирая семена про запас. Чу! раздается какое-то странное щелканье — из-под земли неуклюже выползает своеобразная тварь длиной и толщиной в руку. У нее гладкое, голое, черное тело, местами украшенное красными пятнами. Она похожа на змею с тупым хвостом. Под самой головой две ноги, а с боков головы — висячие розовые уши. Что это за животное? Саламандра, тритон, сирена, амфибия или смесь всего этого вместе? Это загадочное существо является всегда только в одиночку. Никогда не видывали его парой и не находили его яиц. Оно вполне безобидно, и никто не знает, откуда оно берется, чем живет и как размножается. Каждый день представлял мне что-нибудь новое. Однако, воздух начал все более и более переполняться миазмами от разлагавшихся организмов, и пребывание в нем становилось для меня опасным. Положим, я находился более всего на горе, где атмосфера была чище, но тем не менее, в конце концов, я стал чувствовать себя так, как будто меня всего исколотили; голова сделалась тяжелее всего тела, а ноги совершенно отказывались исполнять свою обязанность. Несмотря на это, я еще не хотел возвращаться на «Тегетгоф». Я готов был лучше умереть, нежели отказаться досмотреть до конца тайну творения. Вода в озере вся испарилась от влияния подземного огня, и осталась одна трясина. Посреди озера, на свободном месте, собралась густая дегтевидная масса, попеременно то вздувавшаяся, то снова опадавшая. Что же возникнет из нее? Мной все сильнее овладевала болотная лихорадка, так что я совсем уже не мог более двигаться. Цветы эквизетума и ликоподий испускали невыносимо одуряющий запах. Из болота налетали на меня целые тучи жалящих жуков, и оттуда же выползали и пробирались ко мне отвратительные земноводные — змеи и ящерицы. Я не двигался с места и продолжал смотреть на пузырившуюся черную кашу: мне очень хотелось видеть, что из нее появится. Бэби не отходила от меня. Помочь мне в моей болезни она не могла, но зато отгоняла от меня гадов и лапой сметала с моего лица жуков. Черная каша все более и более сохла. Поверхность ее уже покрылась корой, под которой, однако, все продолжало шевелиться. Казалось, точно невидимые руки месят там тесто. Понемногу посреди этого волнующегося скопища разных жизнетворных веществ стали обрисовываться очертания исполинской фигуры. Я видел длинное туловище, круглую голову и четыре оконечности — быть может, руки и ноги. Кого еще создавала природа? исполинскую ящерицу или то отвратительное, возбуждающее ужас чудовище, тритона гигаса, напоминающего отчасти ящерицу, а отчасти человека? Все сильнее трясла меня лихорадка, и все яснее мог я видеть развитие очертаний гигантского болотного порождения. Я чувствовал, что начинаю сходить с ума, и у меня вдруг блеснула страшная, безумная мысль: «Я умираю, а чудовище нарождается… Если теория о переселении душ верна, то эта гадина может поглотить мою душу при отлете ее из тела. Это будет возмездием за все мои вольные и невольные прегрешения. Я буду обитать в этом безобразном исчадии зловонного болота и стану истреблять всех, кто попадется мне на глаза. Сначала я проглочу верную Бэби, потом старого Ламека, доберусь, наконец, и до Нагамы!» Мысль эта привела меня в невыразимое отчаяние. — О, Нагама! — бессильно прошептал я. — Я здесь! — ответил мне ясный звонкий голос, и надо мной склонилось прелестное лицо моей жены. У ног же моих стоял на коленях Ламек с поднятыми кверху руками, воссылая к небу благодарственную молитву за то, что меня нашли еще живым. Обеспокоенные моим долгим отсутствием, они пошли искать меня, как только окрестности пообсохли и сделались проходимыми. Поняв, чем я болен, патриарх отыскал между травами такие, какие обладали свойством исцелять лихорадку. Напоив меня соком этих трав, Ламек и Нагама привязали меня на спину Бэби, и мы двинулись в обратный путь. Не имея сил говорить, я только указал рукой на волнообразно двигавшееся тесто. Ламек взглянул туда — и в ужасе отпрянул назад, закрывая лицо руками. — Это «Великан»! «Великан»! — крикнул он не своим голосом и, схватив Нагаму за руку, бросился бежать с чисто юношеской бодростью. Бэби помчала меня вслед за ними. Остановились мы только у «Тегетгофа». Быстрая езда и более чистый воздух благодетельно подействовали на меня, вызвав сильную испарину, так что по прибытии на корабль я чувствовал себя почти здоровым. Я лег спать с неотвязчивой мыслью о том таинственном исполинском существе, которое зарождалось в болоте.
XXVI Довольно!
Когда я лег спать на «Тегетгофе», термометр показывал двадцать градусов тепла. Проснулся же я от ощущения режущего холода. Нагама была укутана в шубу и разводила огонь в камине. Я вскочил и кинулся к термометру — он показывал теперь двенадцать градусов мороза. Что же такое случилось? Надев тоже шубу, я поднялся на палубу, где наткнулся на молившегося с распростертыми руками Ламека. Вокруг снова царствовала настоящая полярная ночь!.. Что же случилось, в самом деле? А вот что: морское течение перевернуло весь остров, так что нефтяной вулкан очутился на другой стороне. Горящее море осталось позади, вода, ворвавшаяся в каменноугольные залежи, вполовину погасила их, и сам вулкан горел уже не ярче маяка. Красная облачная завеса спала с неба; на ее месте появились снежные тучи, и вокруг нас уже все было покрыто густым слоем снега. Но вот засверкали и звезды, а над самыми нашими головами запламенел огненный венок правильным кругом, из которого исходят во все стороны желтые, красные и зеленые пучки лучей. Это — северное сияние!
Обыкновенно люди видят только одну половину его, так же, как и полной радуги еще никто не видал; мы же могли наблюдать весь круг северного сияния. Мы очутились на самом северном полюсе. Над нами отвесно стоит Полярная звезда, магнитная стрелка неопределенно качается во все стороны. Все, что только зародилось было на моих глазах, снова умерло. При сиянии снега и полярного света я, в сопровождении моей семьи (включая, конечно, и Бэби), еще раз прошелся по острову, подвергшемуся таким удивительным превращениям. Роскошная растительность вся была погребена под снегом. Замерзший тростник представлял своей растрепанностью и безжизненностью противный вид. Только посреди котловины, в замерзшем месте, еще виднелись из-под густого слоя снега исполинские очертания чудовищной фигуры: широкая голова, позвоночник, руки и ноги. Жизнь была убита раньше, нежели успела вполне развернуться. Когда, наконец, погасло чудное сияние и на небе всплыла полная луна, я увидел, что все было покрыто нежным розовым цветом. Я нагнулся и поднял горсть снега — он тоже был розовый. Это были не спорыньи маленького растения, названного wedoniralis (красный снег), которые, по описанию капитана Росса, иногда покрывают на севере морской берег, — нет, на этот раз снег окрасился прелестным розовым цветом совсем по другой причине. Это был продукт доведенной до точки кипения каменноугольной смолы, вступившей в соединение с кислотами морской воды. Испарения этих химических соединений поднимались кверху, смешивались с облаками и падали на землю в виде роскошно окрашенного снега. Так и плыл по синему океану никем не виданный ранее розовый остров!
* * *
Птицы покинули нас. Остался только один дикий гусь. С этим гусем я и пошлю в свет описание всего виденного мной на глубоком севере. Быть может, гусь и доставит в верные руки мои записки. Быть может, вследствие этого явятся за нами люди… Впрочем, где же искать нас?! Ведь мы мчимся неизвестно куда!.. Писано в вечную ночь на девяностом градусе северной широты. Этим и закончены удивительные рукописи.
* * *
Роман Мора Йокаи «20 000 лет подо льдом» (другое название «К Северному полюсу») был впервые издан на немецком и венгерском языках в 1875–1876 гг. Русский перевод Л. А. Мурахиной увидел свет в Москве в издательстве И. Д. Сытина в 1895 г. Текст публикуется по указанному изданию с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам; также исправлены некоторые устаревшие обороты. Иллюстрации взяты из украинского издания романа в пер. И. Чендея и О. Маркуша (Київ: Дитвидав, 1959).Примечания
1
Теодолит — прибор для землемерных работ, в сложенном виде имеющий форму шара. (Здесь и далее прим. пер.). (обратно)2
Блоксберг — гора в Германии. (обратно)3
Т. е. в период образования земной коры. (обратно)
(обратно)
Последние комментарии
5 часов 41 минут назад
5 часов 50 минут назад
12 часов 2 минут назад
12 часов 6 минут назад
12 часов 16 минут назад
12 часов 22 минут назад