Всемирный следопыт, 1927 № 09 [Эмилий Львович Миндлин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
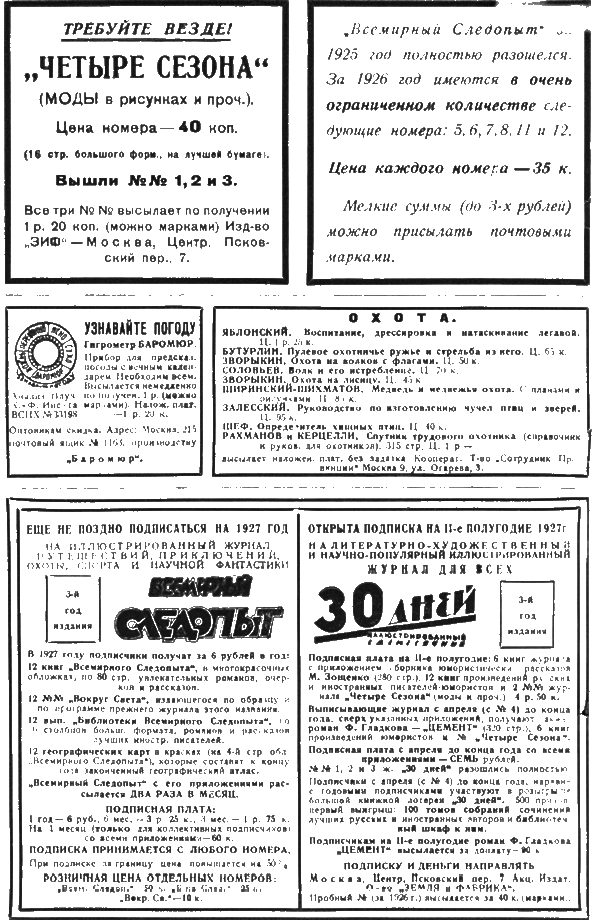
ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ
1927 № 9
КРЫМСКИЙ НОМЕР


*
ЖУРНАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ», МОСКВА, ПИМЕНОВСКАЯ, 16 □ ГЛАВЛИТ 96.039 ТИРАЖ 65.000
СОДЕРЖАНИЕ:
Сокровище «Черного Принца». Рассказ Павла Норова. — Обсерватория в снегах. Приключения метеорологов. Рассказ В. Белоусова. — Тайна кевового дерева. Краеведческий рассказ Аркадия Кончевского. — Черноморские контрабандисты: Таинственные арбузы. Рассказ Г. Гайдовского. — Крымские силуэты. Путевые очерки Э. Л. Миндлина. — Животный мир Австралии. Фото-иллюстрация к карте на обложке. — Следопыт среди книг. — Следопыт среди газет. — Путешествия и путешественники. — Наш ответ Чемберлену. — Обо всем и отовсюду. — Шахматная доска «Следопыта». — Шевели мозгами. — Австралия. Статья Н. К. Лебедева к карте на последней стр. обложки.СПЕШИТЕ ПОДПИСАТbСЯ
на «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» до конца года! Все годовые подписчики, а также продлившие срок подписки до конца года, могут получить за дополнительн. плату: (320 стр.) за 90 коп. известн. роман Ф. ГЛАДКОВА «ЦЕМЕНТ» (в отдельн. продаже 2 р. 25 к.), сборник юмористических рассказов МИХ. ЗОЩЕНКО (70 рассказов, 280 стр.) за 60 коп. (в отдельн. продаже 1 р. 10 к.) или обе книги за доплату 1 р. 50 к. Книги высылаются с первым же (по получении денег) номером журнала. В виду ограниченного количества экземпляров, правом на получение указанных книг пользуются только годовые подписчики, а также выславшие подписную плату до конца года не позднее 15-го сентября. Доплата за книги, независимо от того, где была произведена подписка на «Всемирный Следопыт» (через почту, отделение центральных газет, экспедицию печати и т. д.), должна направляться только непосредственно в контору журнала: Москва, Центр, Псковский пер. д. № 7, Издательство «ЗИФ». Наложенным платежом книги не высылаются.
ОТ КОНТОРЫ «СЛЕДОПЫТА» Для ускорения ответа на ваше письмо в Изд-во, — каждый запрос (о высылке журналов, о книгах и по редакционным вопросам) пишите на ОТДЕЛЬНОМ листке. При высылке денег обязательно указывайте их назначение на отрезном купоне перевода. При возобновлении подписки и при доплатах НЕ ЗАБУДЬТЕ указать на купоне перевода: «ДОПЛАТА». При заявлениях о неполучении журнала (или приложений), при доплатах за подписку и при перемене адреса, необходимо прилагать адресный ярлык с бандероли, по которой получался журнал. За перемену адреса к письму надо прилагать 20 коп. почтовыми или гербовыми марками. Адрес редакции и конторы «Следопыта»: Москва, Варварка, Псковский п., 7. Телефон редакции: 3-82-20. Телефон конторы: 3-82-20. Прием в редакции: понедельник, среда, пятница — с 3 ч. до 5 ч. Присланные по почте рукописи размером менее 1/2 печатного листа не возвращаются. Рукописи размером более 1/2 печатного листа возвращаются при условии присылки марок на пересылку. Рукописи должны быть четко переписаны на одной стороне листа, по возможности — на пишущей машинке.

СОКРОВИЩЕ «ЧЕРНОГО ПРИНЦА»
Рассказ Павла Норова
От редакции
«Известия ЦИК» сообщают: «В продолжение 1923-24 гг. Эпрон (экспедиция подводных работ особого назначения на Черном и Азовском морях), несмотря на большие затраченные средства и энергию, не смогла обнаружить места гибели английского парохода «Черный Принц», погибшего в числе многих других английских и французских судов во время шторма 2 (14) ноября 1854 года у Балаклавы. Эпрон, путем водолазного аппарата особой конструкции, обследовал на внешнем рейде Балаклавы площадь в 3–4 квадратных километра с глубинами до 100 метров. Было найдено много обломков деревянных судов, но железного корпуса «Черного Принца» обнаружено не было. Направо от выхода из Балаклавы в море была найдена мачта из тикового дерева, принадлежность которой «Принцу» была более или менее точно установлена. «Расширение программы работ Эпрона в 1925 г. не позволило уделить достаточного внимания дальнейшим розыскам этого парохода. Однако, к поздней осени удалось выделить маленькую водолазную партию, которой было поручено произвести обследование береговой полосы по обе стороны от выхода из бухты, где глубины дают возможность производить работы в обычных водолазных костюмах. «17 октября 1925 года, совершенно неожиданно, налево от выхода из бухты, почти под самой башней «Дон», которая хорошо видна с пароходов, идущих на южный берег, на глубине 17 метров были обнаружены выступающие из грунта старые паровые котлы и части набора железного корпуса. После непродолжительных раскопок, водолазная партия убедилась, что это место и является могилой легендарного парохода: никаких сомнений быть не могло, так как «Черный Принц» является единственным паровым судном с железным корпусом из всей погибшей эскадры и никаких других таких же судов у входа в Балаклаву с тех пор не погибало. «Обследование места гибели «Черного Принца» указывало на то, что корпус парохода, вероятно, разбитый очень основательно, погребен под песком и обломками скал, во время свежей погоды нередко свергавшихся в море. План дальнейших работ по разгрузке и подъему судна заключался в значительных работах по выемке грунта и освобождению частей судна из-под каменных глыб. Эти работы требовали значительных средств — нескольких сот тысяч рублей. «Хотя работы по подъему «Черного Принца» с технической точки зрения не представляли каких-либо затруднений и являлись для наших водолазов довольно простыми и легкими, экспедиция до последнего времени не считала целесообразным приступать к ним ввиду отсутствия каких-либо документов или точных сведений о действительном нахождении на этом пароходе большой суммы золота. «Эпрон не располагал излишними средствами для этой рискованной операции, а Наркомфин, вполне резонно, не изъявлял желания выбросить несколько сот тысяч рублей без сколько-нибудь твердой уверенности получить золото.. «20 июня с. г. Эпрон заключил договор с японской водолазной компанией «Синкай Когиосио Лимитед», предоставляющий ей право производства дальнейших работ по подъему и разгрузке парохода «Черный Принц». 28 июня Совнарком СССР разрешил японской компании приступить к производству операций, предусмотренных заключенным договором. «Перед заключением договора японской компании была предоставлена возможность обследования своими водолазами места гибели парохода, указанного Эпроном, и поэтому Эпрон не берет на себя никакой ответственности за успех предпринятой японской компанией операции. «Эпрон считает для себя особенно ценным получение возможности подробно ознакомиться с порядком и методами подводных работ, которые практикуются у японцев. Необходимо отметить, что техника производства подводных работ у японцев обладает значительными достижениями, совершенно неизвестными на Западе. В то время, как в Западной Европе завоевание морских глубин идет по линии создания жестких водолазных костюмов и их усовершенствования, японцам удалось, путем создания системы особой тренировки водолазов, ограничиться весьма простыми, но чрезвычайно оригинальными приспособлениями, дающими возможность производить работы на больших глубинах с несравненно большим успехом, чем это мы наблюдаем на Западе. Два года назад г. Катоака — директор упомянутой водолазной компании — сумел выполнить рекордную работу по спасению ценностей в сумме до 12 миллионов рублей с английского парохода, затопленного немецкой подводной лодкой во время империалистической войны в Средиземном море, на глубине около 85 метров. «Несмотря на короткий срок, прошедший с момента вступления договора в действие, работы по подъему, под руководством 15 японцев-специалистов, начались уже в первых числах августа. Техническое оборудование, выписанное из-за границы, прибыло. «Можно поэтому предполагать, что ближайшие два-три месяца принесут нам полную разгадку «Черного Принца». Помещаемый ниже рассказ Павла Норова, написанный специально для «Всемирного Следопыта», отвечает тому большому интересу, который вызывает тайна «Черного Принца». В рассказе развернута тема одного из многих случаев «охоты» за этими полулегендарными сокровищами…_____
I. В Балаклавской бухте
В знойный июньский полдень, когда солнце бьет отвесными, ослепительными лучами, Балаклавская бухта кажется голубым озером. Резко очерченным полукругом поднимаются вокруг озера террасы гор, усеянные белыми домиками. И снизу кажется, что домики эти висят друг над другом и лепятся по скалистым отрогам, как причудливые гнезда птиц. В городке тишина. Все спрятались от жаркого южного солнца. Только неутомимые рыбаки-греки возятся около лодок. Они недавно вернулись с рыбной ловли и теперь выгружают из глубоких трюмов рыбу. Когда солнце приблизится к закату, на набережную явятся балаклавские хозяйки закупать рыбу. И тогда будет здесь шумно: рыбаки будут запрашивать до изнеможения, хозяйки будут торговаться до седьмого пота с криками, визгами и проклятиями. Горяч южный народ! Но теперь стоит тишина. Балаклавская бухта глубоко врезалась в материк в форме удлиненного овала. Она надежно закрыта со всех сторон, и только в южной части ее виднеется узкий выход на внешний рейд, точно горло бутылки. Превосходная бухта! Для малых судов порт — лучше не выдумать: тихий, глубоководный. Но проход — предательский, точно подстерегающий корабли с неосторожными лоцманами. Одно неверное движение руля — и катастрофа в свежий ветер неизбежна. На языке черноморских моряков «свежий ветер» — совсем особое понятие. Когда сорвется норд-ост и, окрасив темно-зеленые волны Черного моря в белый цвет, заставит кипеть вокруг корабля воду, как кипяток в котле, тогда приветливая Балаклавская бухта превращается в опасную ловушку. И горе кораблям, которые попытаются искать спасения в ее водах. Предательский выход из бухты окаймлен высокими, нависшими над морем, скалистыми берегами, словно нарочно устроенными для кораблекрушений. Недаром Балаклавское взморье еще с древних времен было местом классических кораблекрушений. На дне его каменистого рейда лежат сотни кораблей. Финикияне, греки, генуэзцы, римляне, турки и, позднее, англичане, французы, итальянцы — все эти народы оставили здесь свои корабли. Это древняя морская усыпальница, которая среди мировых морских кладбищ уступает разве только знаменитому Саргассову морю и берегам Новой Земли, куда подводным течением сносятся остовы погибших кораблей… Такие мысли пробегали в голове молодого помощника командира водолазной команды, Ивана Васильевича Резцова, который стоял на высокой скале, над самым выходом из Балаклавской бухты, и смотрел на внешний рейд. На рейде шли водолазные работы. Около черного низкобортного водолазного баркаса виднелись два сильных парохода с могучими лебедками. — Какого черта эти американцы ищут? — прошептал Резцов, впиваясь зоркими глазами в знакомую картину водолазных работ. Вся его крепкая, мускулистая фигура напряглась, точно для прыжка; на загорелом лице с сильно развитой нижней челюстью проступило хищное выражение, а волосатый кулак ударил по выступу скалы. — Не добьешься ничего у дьяволов! — со злобой заключил он. — Ну, да я узнаю! Археологи?! Как бы не так… Резцов отвернулся от волновавшей его картины и крупными шагами пошел по каменистой тропинке, назад в город.II. Что искали американцы?
Дело было в 1892 году. В Петербург, в морское министерство, поступило ходатайство «Американского Общества морских изысканий», поддержанное Вашингтоном, о разрешении Обществу произвести с научно-археологическими целями исследование некоторых бухт южного побережья Черного моря. Ходатайство начало ходить по инстанциям и, вероятно, это «хождение по мукам» затянулось бы надолго, если бы догадливые янки не зашелестели вовремя банкнотами. Когда банкноты с солидным количеством тысяч долларов были вручены по соответствующим инстанциям, канцелярское «хождение» круто изменило свой медлительный характер и приобрело необычайную резвость. Немедленно была получена подпись самого министра. «Дело» взлетело в «высочайшие сферы» и получило пометку: — «Одобряю». И полетели к севастопольскому морскому начальству бумаги с предписанием: — «Оказать всякое содействие американскому обществу для его изысканий и дать в его распоряжение водолазную команду из севастопольского порта». Правда, севастопольское морское начальство тоже не вчера родилось на свет. И потому американским банкнотам пришлось шелестеть еще раз. Но, как бы то ни было, к изысканиям американцы были допущены с большой любезностью. — К вашим услугам… — сказал седой начальник порта. — Хоть все Черное море обшарьте… Нам не жалко! Американцы вежливо улыбались и заявили, что их интересует в настоящее время Балаклавская бухта и прилегающий рейд. На водолазную команду согласились, а когда приехали на место, то оказалось, что из Англии прибыло два специальных парохода и своя водолазная команда. А русскую просили «пока подождать»… Командир водолазной команды, морской офицер Хохлов, который значительно больше любил исследовать крымские кафе-шантаны, чем морское дно, оставил команду на помощника. И на прощанье сказал ему: — Вы, дорогой мой, того, — оставайтесь стеречь американцев, а я поеду по делам службы в Ялту. Помощник Резцов козырнул начальству и сказал: — Слушаю-с! А про себя подумал: «Знаем мы твои «дела службы», — они в шелковых чулках ногами дрыгают»… Был он человек завистливый, жадный и решительный, но скрытный. Теперь он каждый день смотрел на эти изыскания издалека и терзался мыслью, что американцы что-нибудь ценное со дна выгребут. И пройдет это мимо него, мимо жадного резцовского рта. Он давно мечтал разбогатеть как-нибудь этак экстренно, чтобы бросить беспокойную службу и пожить широко. Шагая домой, Резцов продолжал думать: «Хоть тресну, а дознаюсь, чего ищут проклятые американцы!» И вдруг мелькнула у него мысль: «А ведь, надо мне поговорить с дедушкой Прониным. Ему восьмой десяток пошел, он многое помнит. Эта старая морская крыса должна очень много знать! Обязательно поговорю!» И приняв это решение, Резцов зашагал быстрее, хотя жгучее солнце так и палило своими лучами в этот полуденный час.III. Дедушка знает многое, да не все говорит
Маленький домик дедушки Пронина стоял почти рядом с тем помещением, где расположилась водолазная команда. Был он, собственно, даже не дедушка, а прадедушка. У старшей его внучки был уже маленький ребенок. Жил старина в Балаклаве со времен очаковских и покоренья Крыма. В севастопольскую кампанию был морским канониром, много потом всяких должностей прошел по морскому делу. А теперь благодушествовал на покое в своем домике, но все же в огороде копался. Крепкого дерева был старик. Резцов столовался в семье Прониных и даже слегка ухаживал за хорошенькой Варей, младшей из внучек почтенного ветерана. Обедали здесь по старинному, в два часа. Глава дома, Степан Иванович Пронин, по древности лет ел больше тюрю из редьки с квасом. Ел и похваливал: — Самая настоящая еда — от нее человек долго живет! Резцов решил поступить политично. После обеда он посидел с Варей; поболтал, пока старик отдыхал. И явился к нему в самый удобный момент, когда Степан Иванович выспался и попыхивал в садике трубочкой. Завязался разговор. — Ты спрашиваешь, чего ищут американцы в рейде? — говорил Степан Иванович, пуская густую струю крепкого дыма сквозь белые усы. — Известно, чего — денег. Человек всегда денег ищет. Потому жаден он и неразумен. Да… Резцов насторожился. — Каких денег, Степан Иванович? Старик усмехнулся. — В нашем Балаклавском рейде, брат, много денег лежит. Клады огромаднейшие на дне моря хранятся. Где ишут-то? — От острова на восток… с милю… — Ну, и вышли дураки! Не там ищут. В этом месте, действительно, погибло около тридцати кораблей. В пятьдесят четвертом году… Да не те… Резцов так и загорелся от жадного нетерпения, и срывающимся голосом спросил: — А где же, Степан Иванович?
Дедушка Пронин, Севастопольский ветеран, крепкого дерева старик…
Старик хитро прищурился и посмотрел на него все еще зоркими глазами: — А тебе-то что, дружок? Ведь ты искать не собираешься? Резцов съежился и побагровел. — Да нет… — пробормотал он. — Я так… из любопытства… И, оправившись, заговорил смелее. — Я все собираюсь, дедушка, вас просить рассказать мне про Севастополь кую кампанию. Если вас не затруднит, конечно; вы ведь все помните… Дедушка тихо засмеялся. — Да, память еще не отшибло пока. Даже лучше помню, что было пятьдесят лет назад, чем недавно. Если любопытно — послушай; расскажу, пожалей, что было в пятьдесят четвертом. Страшный был этот год. Ну, а один день — второе ноября — тот всех страшнее был. Восьмой десяток около Черного моря живу, чай, лет сорок, поди, плавал по нем, а такого шторма не запомню. Гневное наше море по осени и к зиме, а тут уже такое было, что сверх всякой меры хватило. Дедушка Пронин раскурил трубку и продолжал: — В те поры я был на морской службе канониром при береговой батарее. Служба тогда, при Николае первом, была лютая — по двадцать пять лет сроком. Моей службе шел год седьмой, и попался я в севастопольскую кампанию. Сильной рукой шел на нас неприятель— англичанин, француз, итальянец, турок — навалился силой. Для дессанту пригнали четыреста судов. Сначала высадили шестьдесят пять тысяч войска, обошли Севастополь с востока. А тут, слышим, еще дессант привезли на двухстах судах паровых. И вытянулись в кильватерную колонну вдоль всего берега, от Качи до Балаклавы. Наша батарея стояла у Карантинной бухты, и была у нас неприятельская эскадра под обстрелом. В начале октября подошли англичане к Севастополю. И до чего хитры— псы! Большие у них были парусники, а паровые суда малые. Так они сняли все мачты с больших судов, чтоб меньше прицелу было. Пришвартовали к парусникам пароходы, да так, ползком, и подошли к Севастополю. Открыли такую пальбу по городу, что небу стало жарко. Стоял на море штиль, и от дыма на рейде ничего не было видно. Двадцать тысяч ядер по городу выпустили. А убили семьдесят человек. Мы отвечали калеными ядрами. Накалим ядро до-красна, да так в пушку и сунем. Чтобы пожар на корабле произвести Сожгли кое-какие. Но им это ни по чем. И не дрогнули. На море мы с ними ничего не могли сделать, потому наш флот был почти весь парусный, а их почти сплошь паровой. Затопили мы свои корабли у входа в Северную бухту, с остальными спрятались в Южную. И засели там, как мыши в норе. Первого ноября выглянули из брустверов[1]) на море. Смотрим — силой подходят. В две кильватерных[2]) колонны пароходов и баркасов вытянулось в сотню. Стали на якорь становиться. На завтра высадка. Ну, значит, будет нам работа, а потом, того и гляди, и самих нас прихлопнут. Только к вечеру, смотрим, командир наш веселый ходит, говорит: — Ребята! Быть завтра большой буре. Барометр сильно падает. Достанется англичанам при дессанте на орехи! Ну, мы себе намотали на ус. Значит, бить будем орудиями. Снаряду припасли достаточно. Вышел я в первой ночной смене, посмотрел на барометр — батюшки! Совсем упал — на великую бурю. И назначил меня командир в эту ночь пройти к Балаклаве лазутчиком. Возвращаюсь я — зги не видать… Небо черное, воздух душный — буря надвигается. А через час поднялась такая, что и мы свету не взвидели на берегу. Минареты сносит прочь, дома которые расшвыряло, с которых крыши посносило, палатки в лагерях унесло. А в море? Ад кипучий стоит!.. Вода побелела, волны, как горы, ходят, а на рейде такая толчея поднялась, что страх берет. Суда с якорей рвет, мачты ломает. В первый же час с десяток паровых судов оборвалось с якорей, бросило их на скалы и разбило, как яичную скорлупу. Другие повернули носом к морю, дали полный ход парам, чтобы уйти в открытое море. Смотрим, загорелись сердечные от перегрева котлов… Заживо горит народ… Тысячи людей бросаются в море и тут же тонут — где выплыть!.. — Ну, впрочем, и нашим в те поры приходилось не сладко! — продолжал старый боцман, — генералы нас одолели! Каждый на свой манер мудрил, а людей не жалели. Недаром тогда солдаты про генералов песню сложили. До сих пор наизусть ее помню. Наши солдаты ее пели тогда. И старик, не без огонька, дребезжащим голосом пропел такую солдатскую песенку [3]):
IV. Как погиб «Черный Принц».
Вот что рассказал Резцову старый боцман, изредка заглядывая в старинную книгу в переплете из телячьей кожи. «На внешнем рейде в этот день погибло тридцать пять судов. Первым сорвался с якоря американский паровой транспорт «Прогресс». Он протаранил по пути еще три судна, а затем всех четверых бросило на скалы и разбило в щепы. Далее налетел на скалы корабль «Сити-Лондон». Его капитан, Левис, во время удара схватился за канат, и его раздавило в лепешку между скалой и судном. Громадное американское транспортное судно «Вулкан», где была тысяча солдат, выбросило четыре якоря. Через короткое время все цепи оборвались, и судно бросило на скалы с такой силой, что оно разлетелось в щепы. Вест-индский пароход «Мельбурн», который вез бочки с ромом, так стремительно кинуло на берег, что семь человек экипажа ракетами вылетели на верхушку скалы. Остальные погибли, раздавленные сотнями бочек рома, плававшими среди людей. «Но большой, совершенно новый винтовой пароход «Блек-Принц», который вез самый ценный груз — двести тысяч фунтов стерлингов золотом (жалованье войску) — англичане решили спасти во что бы то ни стало. Громадной силы машины позволяли ему некоторое время бороться с ураганом. Он держался против урагана силой всех своих машин, дав им полный ход. На этом корабле был лучший английский моряк — капитан Гудель. Но ураган был слишком силен, и, когда больше нельзя было держаться, капитан Гудель решился на последнее средство: он приказал срубить все мачты, чтоб облегчить пароход. «И этот маневр его погубил. Такелаж одной из мачт упал на винт, запутал его, и машина перестала работать. «Разом сорвались все якоря, и корабль понесло на скалы. Капитан Гудель объявил экипажу, что теперь всякий может спасать свою жизнь. И сам бросился в кипящую пучину моря. «Три раза бросало «Черного Принца» на скалы. Четвертым ударом ему пробило бок, и пароход пошел ко дну со всем экипажем. Из полутораста человек спаслось только шесть-семь матросов и мичман Конгреф. Так погибли все сокровища «Черного Принца». «Только одному пароходу «Авон» удалось проскочить через узкое кипящее горло в Балаклавскую бухту. По пути этот пароход протаранил и утопил несколько судов. Его бросало, как щепку, из стороны в сторону. Но сам он спасся».[4])…………………..
Резцов прослушал живой, образный рассказ старого моряка с напряженным вниманием. Закончив, старик выколотил трубочку и после минутного молчания добавил: — Тогда же я заметил и нанес на карту то место, где затонул «Черный Принц». На моих глазах дело было.
Английский флот перед Балаклавой во время шторма 14 ноября 1854 года.
С картины И. К. Айвазовского. Грав. Пястушкевич.
Резцов с притворным равнодушием спросил: — И карта в этой книжке? — Да… — Любопытно! Вы могли бы, дедушка, теперь продать свой секрет американцам очень дорого. Старый моряк покачал головой. — Не продам. Пусть умрет со мной. Золото портит людей. Пусть себе лежит на дне моря. И так уж много крови пролилось из-за золота. План этот возьму с собой в гроб. Резцов вздохнул и искоса посмотрел на старика. А тот спрятал книжку в глубокий карман и мирно продолжал курить трубку. Ну, вот тебе, сынок, история «Черного Принца». Теперь понял, что ищут американцы?.. — Да… Понял…
* * *
С этого дня Резцов потерял покой. «Как? Сокровище так близко, можно сказать, под руками, а старый дурак умрет и похоронит с собой план места, где затонул «Черный Принц»! Не бывать этому никогда! Надо пойти на все, но план добыть. Но как добыть? Украсть книжку Пронина не так легко — старик зорок и крепок еще, зря у него ничего не валяется. Убедить его поделиться своей тайной? Пустая надежда! Старик упрям и, главное, совсем не жаден на деньги; скопил себе кое-что и доволен. Нет! Тут нужно придумать что-нибудь похитрее!» И вдруг Резцова осенила мысль, от которой он пришел сразу в веселое настроение: «Варя выручит!» До сих пор он лишь слегка ухаживал за внучкой Пронина, Варей. Теперь он решил «заняться» этой девушкой «всерьез». Сказано — сделано. Следующая неделя прошла в усиленной артиллерийской подготовке. И в тихую, лунную ночь, когда волнует и томит южный воздух Крыма, свидание завершилось горячим признанием в любви. На одной из скал Балаклавского берега они сидели в полном одиночестве и тишине. Резцов шептал: — Ну, Ванюшя, это решено! Ты теперь моя невеста! Только пока дедушке ничего не говори… Варя удивилась. — Почему, милый? — Да потому, что мне нужно еще выполнить ряд разных формальностей. Понимаешь — я офицер инженерных войск, надо взять разрешение начальства, ну там реверс[5]), может быть, придется внести. Словом, это долго рассказывать — не поймешь; через месяц все устрою и тогда формально объявим. Девушка опечалилась. — А пока? — Ну, а пока будем, конечно, видеться. Неужели я утерплю хоть денек без тебя?.. Провожая Варю домой, Резцов думал: «Ну, за месяц я тебя так приручу, голубушка, что ты для меня что угодно сделаешь»! И офицер самодовольно закрутил черный, жесткий ус.V. Удача идет навстречу Резцову.
Третий месяц возились американцы на рейде, а дело у них, видимо, подвигалось туго. Теперь обследование морского дна передвинулось от острова к береговым скалам Балаклавы. И тут, на глубине около 90 метров, погибли два водолаза. Тогда вспомнили о русской водолазной команде, отданной в распоряжение компании. Командир команды получил приглашение «пожаловать на американский пароход». Командир Хохлов был занят в это время обследованием симферопольских ресторанов; приглашение принял его помощник— Резцов. Он давно этого ждал. Хотелось ближе посмотреть, что делают эти загадочные «морские археологи». Резцов пришел в водолазную команду и здесь отобрал партию лучших водолазов: — Незамай, Кривенко, Осипов! Вытянулось три молодца: Незамай — плотный, чернобровый, с богатырской грудью и добродушным лицом, сухой и сильный Кривенко, и Осипов — плечистый и рослый. В водолазы берут только очень сильных людей, привычных к морю. — Ребята! — крикнул Резцов с наигранной веселостью. — На работу сегодня! — Есть, ваше благородие! — гаркнули водолазы. — Американца выручать. У него дело разладилось. К часу соберите все в порядке. Осипов — ты старшиной будешь… Часа через два водолазный баркас подвалил к американскому пароходу. Резцов прошел к капитану. В кают-кампании его ждали капитан — седой, бородатый англичанин, и два бритых американца. Один из американцев заговорил по русски, выбирая слова и часто останавливаясь. — Ви командер водолазни команди? — Да. Американец объяснил, что на последних работах они потеряли двух своих лучших водолазов, и теперь временно прекращают работы, до приезда новой партии из Америки. Суда они отведут к Севастополю, а русской команде дают следующее поручение: обследовать рейд балаклавского побережья и наметить приблизительно места затонувших судов, вне района, уже обследованного ими. — Чтобы не терять времени до осенних бурь, — объяснил американец. За эту работу, на которую назначался месяц, американцы обещали команде особое вознаграждение в тысячу долларов. Резцов быстро сообразил всю выгоду этого предложение для его планов. «Это как раз то, что мне сейчас нужно — подумал он. — В этот месяц надо все кончить». И он немедленно выразил свое согласие. Тут же было подписано соглашение на двух языках: английском и русском. Резцов получил аванс в пятьсот долларов. На другой день американцы снялись с якоря и отплыли, а русская водолазная команда принялась за работу. Командира Хохлова Резцов известил письменно, на что получил в ответ телеграмму: — «Дуй белку в хвост и в гриву. Благословляю!» Видимо, телеграмма писалась неунывающим командиром под веселую руку. Водолазы были очень довольны американским дополнительным вознаграждением. Работа закипела. Резцов, сам опытный водолаз, разбил предполагаемую к исследованию часть залива на правильные секторы. Водолазный паровой баркас должен был передвигаться по составленному Резцовым плану, и попутно наносить на особую карту все, что найдется на дне. В первый же день Резцов решил, что опустится сам, взяв с собой водолаза Незамая в качестве помощника. На баркасе все приготовили для спуска. Четыре человека стали у двух нагнетательных насосов, снабжающих водолазов воздухом по резиновым трубкам, двое других заняли места у сигнальных веревок. Первым одели в водолазный костюм Незамая, а вторым Резцова. По двум лестницам они спустились на морское дно. Стоял яркий солнечный день, и вода была прозрачна, как растопленный сапфир.VI. Водолазные работы.
Глубина достигала тридцати метров. Оставаться под водой можно было часа полтора. Дно было каменистое. Резцов огляделся и пошел по дну. Он увидел множество корабельных обломков; кузова судов, килями вверх, лежали на дне, покрытые перламутровой сеткой раковин и моллюсков. Резцов оставил Незамая у первого кузова. Заранее было условлено, что Незамай обшарит первое попавшееся им судно, а Резцов пройдет подальше, насколько позволит длина сигнальной веревки и воздушной трубки. Над водой было жарко. А здесь, на глубине тридцати метров — прохладно. Так всегда бывает при спуске на морское дно. Резцов коротко дернул сигнальную веревку один раз. Это означало на водолазном языке: «Я на грунте. Чувствую себя хорошо». И действительно, Резцов почувствовал теперь сильный подъем, хотя обычно под водой водолазы испытывают несколько угнетенное состояние духа, которое проходит сейчас же, как только их вытащат наверх. Незамай ворочался, как подводное чудовище, около затонувшего судна — он искал входа внутрь, чтобы доложить затем командиру об увиденном. Резцов два раза волнообразно потряс сигнальную веревку. Это означало: «Потрави веревку и трубку». Тут же, почувствовав, что веревка и трубка подались — смело двинулся вперед. Условлено было заранее, что по-травка может дойти до ста метров — в этом радиусе Резцов и решил произвести свои обследования. Резцов легко пошел по морскому дну. Каждая свинцовая подошва его водолазных «галош» весила около десяти кило, да свинцовые грузы — спинной и грудной— по сорока кило каждый. Но здесь, на тридцатиметровой глубине, этот груз не чувствовался. Без него водолаза выбросило бы наверх, как пробку из бутылки забродившего кваса. На морском дне стоял зеленоватый полумрак, в котором привычный глаз водолаза разбирается легко метров на 5–6 вокруг. Каменистое дно было густо усеяно раковинами. Блестящая поверхность их давала отраженный свет. В некоторых местах было совсем темно — здесь скопились обломки погибших кораблей. Резцов пошел к этим темным пятнам, беспрестанно требуя дальнейшей «потравки» сверху.VII. Решение на дне моря.
Подводная жизнь мало интересовала Резцова, усердно исследовавшего обломки погибших кораблей, в надежде наткнуться на остов «Черного Принца». Но в этом обширном морском кладбище не так легко было сразу ориентироваться даже привычному и опытному водолазу. Обломки затонувших судов виднелись во многих местах. Обломки эти густо затянуло моллюсками. А скелеты людей, отшлифованные как слоновая кость, с обрывками одежды, — говорили о том, что здесь некогда произошла трагедия со многими человеческими жертвами. Захваченным с собой острым топором Резцов отбивал моллюсков, толстой корой облепивших корпуса судов, чтобы прочесть имя погибшего судна. «Все не то! — с досадой думал он. — Нет, так его не найдешь, хоть целый месяц ищи. Надо знать точнее место…» Его мысли были внезапно прерваны резким рывком сигнальной веревки. Старшина сверху спрашивал: «Как себя чувствуешь?» И вслед за этим два раза веревка затряслась волнообразно. Это означало: «Не ходи дальше. Шланг весь вышел». Резцов, увлекшись поисками, зашел дальше условленного района. Шум в ушах стоял сильный. И внезапно Резцова охватила злоба. Он слишком долго пробыл под водой. И даже на его крепкий организм это подействовало — глухое раздражение накатывалось на него. «Дурак! — подумал он. — Разве так ищут? Надо во что бы то ни стало достать книжку с картой у старика… через… Варю… Или… — он мрачно задумался, — если она не захочет, так я сам достану. Хоть убью, а достану…» Резцов быстро пошел к месту подъема, где уже стоял наготове водолаз Незамай, сигнализируя что-то наверх, и отрывисто дернул сигнальную веревку три раза: «Поднимай наверх. Выхожу». То же сделал и Незамай. Наверху водолазов освободили от тяжелых одеяний. Оба немедленно легли на палубу ничком, и лежали так с полчаса, отдыхая. Когда Резцов переоделся в форму, старшина Осипов почтительно доложил: — Ваше благородие пробыли два часа. Мы уж думали, не случилось ли чего? Сигнализировали Незамаю — так тот успокоил: здоровы. Резцов угрюмо выслушал его и резко сказал: — Осматривал дно. Дай карту! — И нанес на память место, где находил обломки и остатки погибших кораблей англо-французской эскадры. Потом так же угрюмо заявил старшине: — Теперь будете каждый день работать по размеченному плану секторами. Понимаешь? — и он указал пальцем на расчерченную карту. — Докладывать мне каждый вечер. Я буду наносить. А работу — ведите пока сами.
Обозначения на рисунке: 1 —буйки; 2— нагнетательные насосы; 3 —якорные цепи: 4 —лестница для спуска водолазов; 5—канаты, на которых опускают водолазов; 6—резиновые трубки для подачи воздуха (кишка).
Умный матрос первой статьи, старшина Осипов, сдержанно ответил: — Есть, ваше благородие! Справимся! В эту пору погода штилевая. Работа легко пойдет. Резцов внимательно посмотрел на него и отчеканил: — Незамая спиши с баркаса. Пришлю приказ. Будет при мне вестовым. Старшина Осипов про себя удивился: лучшего водолаза в команде, и вдруг — вестовым! Чудаки эти, господа офицеры! Но строго держа дисциплину, вслух сказал: — Есть, ваше благородие! Резцов съехал на берег на маленьком паровом вельботе, захватив с собой Незамая. Сегодня на дне моря им было принято твердое решение: не терять теперь ни одного дня. Итти самым быстрым темпом к цели, чтобы успеть все закончить в данный американцами месячный срок. Незамай должен будет ему помочь. Из всей команды он выбрал этого добродушного, сильного детину, производившего впечатление человека скромного и молчаливого. Да и водолаз он отличный. — Надо его обработать, не посвящая, конечно, ни во что, — решил Резцов, выскакивая из вельбота на пристань в Балаклавской бухте.
VIII. Простые души обрабатываются.
— Ты понимаешь, Незамай, — внушительно говорил Резцов в своей канцелярии при казарме водолазной команды, — что я тебя приближаю к себе. Значит, оказываю доверие. Можешь ты это понимать? Незамай скромно стоял, вытянувшись у притолки. Он отвечал без запинки: — Есть, ваше благородие. Мы это могим понимать. Даже вполне. — Кто ты? — продолжал Резцов, пуская сигарный дым спиральными кольцами в воздух. — Простой матрос второй статьи. А я офицер. Вот кончишь свой срок службы, и если верно будешь мне служить, я тебя могу устроить… того… вообще… недурно… Резцов сам не знал, куда он собственно может устроить Незамая, но простодушный матрос уже отвечал с веселой готовностью: — Есть, ваше благородие! Так что покорно благодарим. — Ты человек холостой? — Так точно. — Ну, вот и отлично. Будешь моим вестовым, а Андрейчука я спишу на баркас. У него язык бабий — болтает много лишнего. А я хочу, чтобы мой вестовой был не болтун, не шатун… Чтобы язык за зубами держал, — уже строго повышая тон, сказал Резцов. — Мало ли что господа офицеры делают! Чтоб молчок — понимаешь? Незамай охотно согласился. — Есть, ваше благородие. Чего языком трепать зря? — Ну, так вот, — заключил Резцов. — Теперь сходи-ка ты к Прониной барышне, Варваре Сергевне, да отнеси ей эту записку. Знаешь ее? Незамай добродушно усмехнулся. — Чернявенькая из себя… Внучкой будет дедушке Степану Ивановичу… Знаем… — Только, смотри, отдай так, чтобы никто не видал. Понял? И особенно дедушка. — Есть! Сделаем в плепорцию. Резцов передал записку, и когда Незамай ушел, задумался. «Это будет решительный ход. Чорт возьми, надо бить наверняка! Если Варя согласится украсть эту проклятую книжку— дело в шляпе. Если нет — сорвалось дело. Без этого плана надо целый год тут шарить по дну, да и то не найдешь… Будь, что будет — дело ставлю ва-банк! Кончится месяц, вернутся американцы— тогда искать уже не так свободно будет. Да может, и откомандируют назад, в Севастополь… Одним словом, это единственный счастливый случай. И его прозевать? Отказаться от этих денег? Двести тысяч фунтов стерлингов золотом — два миллиона! Что на них можно сделать? Богачом жить, уехать, чорт возьми, за границу, бросить эту проклятую, опасную службу. Незамай будет мне помогать — одному нельзя за это дело взяться… А Варя? Она и вправду думает, что я женюсь на ней… Ха! Ха! Дудки, голубушка! Но пока — пока надо взять себя в руки… Терпенье! Терпенье!» Все эти мысли бурно и беспорядочно проносились в голове Резцова. И он не заметил, как в комнату тихо вошел Незамай и прошептал: — Ваше благородие! Извольте принят писульку от барышни… Резцов схватил записку из рук вестового и прочел два слова: «Приду, милый…» Через час, перед закатом, Резцов стоял на выступе скалистого отрога, близ Балаклавского рейда, и ждал Варю. Это было постоянное место их встреч. В сонной Балаклаве мало находилось охотников гулять по этим крутым тропинкам. Но если не находилось здесь туристов и обывателей-охотников до прогулок, то встречались «охотники» другого сорта — балаклавские контрабандисты. Здесь, на малодоступных для береговой стража местах, они прятали товары, доставляемые им в темные ночи на турецких фелюгах, и отсюда потихоньку сплавляли их дальше. Христо Беретос, главарь шайки греков-контрабандистов, в эту минуту сидел в узкой расщелине скалы и наблюдал за шагавшим взад и вперед Резцовым. Христо скрипел зубами от злобы. Как стемнеет, ему должны сюда доставить товар на специально приспособленном блоке по канату с моря. Этот чортов малый может помешать. Кого он ждет? В эту минуту Христо увидел, как из-за поворота скалы быстро вышла в белом платочке Варя и побежала к молодому человеку. Грек тихо зацокал языком: — Це! це! це! Внучка старого боцмана! Чего им здесь нужно? — И насторожил чуткое ухо. Резцов прерывающимся голосом говорил: — Дорогая, теперь судьба наша в твоих руках. Ты понимаешь, мне дано такое важное поручение от этих американцев — обследовать рейд и наметить, где лежат затонувшие суда. Если я выполню это хорошо, меня ждет крупная награда и повышение по службе. И тогда наша свадьба обеспечена. — Какое счастье! — лепетала Варя, прижимаясь к Резцову. — Милый, дорогой мой… Тот сурово отстранил ее. — Но я этого не могу сделать. — Почему? Почему же? Резцов трагическим жестом ударил себя в грудь. — Я спускался сегодня на дно… Осматривал… Здесь работы хватит на год… И тогда — прощай и награда и повышение… Прощай и наша свадьба!.. Варя тихо заплакала и прижалась опять к Резцову. — Милый, что же делать? Чем тут я могу помочь? Резцов заговорил убедительно и властно: — Можешь! Затем я тебя и вызвал. Если хочешь нашей свадьбы — помоги. — Я все сделаю, — горячовоскликнула Варя. — Слушай! У твоего деда, в его памятной книге, записан подробный план расположения погибших кораблей. Надо его достать. — Так попросим у него… Резцов усмехнулся. — Я просил. Не дает и не даст. Твой дед — старый чудак. Он помешался на том, что это его тайна, которая должна умереть с ним. — Я его упрошу! Дедушка меня любит и сделает это для моего счастья. Я открою ему, что ты мой жених. Резцов крепко сжал ее руку: — Нет! Этого нельзя делать ни под каким видом. Ты глупенькая, Варюша. Надо это сделать по другому. — Как же? — Взять эту книгу. Варя тихо вскрикнула и бессильно опустилась на выступ скалы. — Как взять? Тайно? — Ну, да! — Значит, украсть?.. Резцов резко захохотал: — Не делай глупых драм, Варя. Дело идет о нашем счастье. Не украсть, а взять всего на час. На один час! Я сниму копию с планов и верну книгу тебе. Ты ее положишь на место, и никто никогда не узнает об этом. Поняла? Варя чуть слышно ответила: — Поняла… За выступом скалы, в узком ущельи, Христо не пропустил ни одного слова из этой беседы. И когда молодые люди пошли по дороге к Балаклаве, он выразительно зацокал: — Це! це! це! Тут что-то неспроста! Надо последить… Багряно-золотистое солнце окуналось в море, словно собиралось нырнуть туда. Розоватые лучи яркими бликами побежали по гладкой водной поверхности, точно дарили море последними ласками уходившего солнца. Быстро спускалась южная ночь. Далеко внизу, на море, гудел глухой шум волн. Его прорезал протяжный свист. Христо выполз из своей щели и три раза прокричал совой… Где-то среди камней заскрипел блок.IX. Буек поставлен.
Через три дня Резцов сидел, запершись на ключ, в своей комнате и жадными, внимательными глазами пожирал страницы старой книги в кожаном переплете. Тут же сидела Варя и тревожно рассказывала: — На наше счастье дедушка вчера вечером вынул книгу и стал туда что-то писать. Я поглядела, куда он ее прячет, — в железную шкатулку. Ключи он всегда в кармане пиджака носит. Лег он сегодня после обедав саду отдохнуть — смотрю: пиджак висит на гвозде. Схватила ключ, открыла шкатулку, вынула книгу… и ну бежать к тебе. Уж как положу назад — и сама не знаю… Резцов не слушал ее. Он судорожно перелистывал страницы, ища нужного плана. Быстро пробежал глазами несколько планов, набросанных старым боцманом — и вдруг чуть не вскрикнул от радости. Сверху одного плана стояла надпись: «Место гибели парового судна «Черный Принц» в 1854 году, по показаниям очевидцев, по сей карте». Здесь был нарисован план внешнего рейда с выходом из Балаклавской бухты. Тщательно зарисованы все мысы и выступы. И в одном месте поставлен черный крест. Внизу — пояснительная надпись: «От левого крыла выходного жерла бухты по внешнему рейду отойдя сто сорок шагов. Прямо на взморье против Красного мыса сажен сорок. Пошел вверх килем после трех ударов о скалы». Резцов быстро записал эти слова, скопировал план и быстро перелистал книгу до конца. Дальше шли отметки о совершенно неинтересных ему авариях. Он глубоко вздохнул, точно сбросил с себя стопудовую тяжесть, и протянул книгу Варе. — Беги скорей… Клади на место… Варя удивилась: — Так скоро? Только и всего! Резцов радостно рассмеялся: — Только и всего, дорогая! Беги скорей! Наше счастье близко… Варя убежала, а Резцов кликнул Незамая, велел приготовить паровой вельбот [6]) и взять с собой самый сильный морской телескоп. А пока готовили вельбот в бухте, он быстро зашагал к внешнему рейду, взобрался на выступ крутого берега и принялся отмеривать ровными аршинными шагами отмеченное в книге расстояние. Когда место было найдено, он подошел к выступу крутого берега, возвышавшегося на несколько десятков метров над морем, нагнулся — и увидел внизу гладко отполированный волнами острый мыс темно-красного цвета. — Не соврал старик! — радостно прошептал Резцов и впился глазами в море. Его наметанный «морской глаз» быстро определил приблизительное расстояние в сорок сажен на взморье. «Так вот где ты, голубчик, находишься? Мой дорогой «Черный Принц» со своими затонувшими сокровищами… А дураки американцы ищут тебя в трех километрах отсюда! Хе! Хе! Хе!». Он засмеялся тихим, внутренним смехом человека, который уже протянул руку к сокровищу и знает, что оно ему принадлежит. Потом, почти бегом, пустился к бухте, перескакивая через камни, как горный козел. Он чувствовал такой подъем духа, что готов был прыгнуть прямо вниз, но во время себя сдержал и быстрыми шагами подошел к вельботу. Незамай с телескопом стоял на юте и ждал начальника. Резцов вскочил одним прыжком на трап и отдал приказ в машину: — Вперед! До полного! Вельбот ринулся из бухты, пролетел ее стрелой, вылетел на внешний рейд и описал большую дугу влево от выхода Затем, замедлив ход, подошел почт вплотную к Красному мысу. Отсюда прямой линии Резцов отмерил нужные сорок сажен и коротко сказал: — Якорь! Загремела якорная цепь. Вельбот замер на месте, тихо колыхаясь на мелкой волне. На море стоял штиль. Солнце прошло зенит, но бросало все еще жаркие лучи. Далеко маячил водолазный баркас; там шли работы. Резцов взял сильный морской телескоп и стал вглядываться в глубину. Но видно было только метров на двадцать, а дальше шла муть. — Незамай! — крикнул Резцов. — Смерь-ка глубину… Незамай скоро доложил: — Так что шестьдесят метров, ваше благородие! Глыбко будет… — Брось буек! — распорядился Резцов. И пока шли приготовления, он раздумывал: «Надо будет это дело поумнее обставить. По команде объявлю, что начну сам обследования от выхода из бухты— для скорости. Это ни у кого не возбудит подозрения. Потом надо будет удалить людей с вельбота — механика и кочегара. Сам их заменю. Перенести сюда нагнетательный насос небольшой, два водолазных костюма. Кроме Незамая никого нельзя брать — разболтают». В это время раздался голос Незамая: — Есть буек! Резцов приказал машине тихий ход и поплыл вдоль берега. Он слышал от кого-то из старожилов, что есть в крутых балаклавских берегах хорошо скрытые пещеры, которыми прежде пользовались контрабандисты. Надо было найти такую на всякий случай, если придется временно спрятать сокровище. Острыми глазами он обшаривал крутые, каменистые берега и, наконец, нашел полукруглую щель — вход в пещеру. «Ну, теперь дело в шляпе!» — весело подумал Резцов и полным ходом двинул вельбот во внутреннюю бухту.X. На борту «Черного Принца».
Все было исполнено, как по писаному. Водолазная команда ничуть не удивилась, когда узнала, что помощник командира решил сам заняться изысканиями с другой стороны рейда. — Видно тоже заработать хочет долларей, — решили водолазы, которых очень интересовала награда американцев. Прибывший на короткое время командир Хохлов тоже одобрил намерение своего молодого помощника. — Работайте во славу Америки, — изрек неунывающий моряк между двумя стаканами портера в комнате Резцова. — Кстати, из американской ассигновки выдайте мне сотню долларов. И запишите на счет ревизии водолазных работ. Резцов охотно выдал командиру сотню долларов — ему хотелось скорее его спровадить. Капитан Хохлов не засиделся— в Ялте начинался «бархатный сезон», и он отбыл туда с первым же пароходом. Теперь надо было приниматься за дело быстро и энергично. В тот же день Резцов вышел на вельботе на место, отмеченное красным буйком. Он взял с собой Незамая, полное водолазное снаряжение и двух помощников к насосам. — Я спущусь первым, — сказал он Незамаю, — а ты спускайся, когда я дам сигнал. На такой глубине долго не проработаем. Быстро снарядился и, сгорая от нетерпения, погрузился в воду. На этот раз он был вооружен топором, сильным ручным электрическим фонарем с вольтовой дугой и воздушными аккумуляторами за плечами, состоявшими из трех прочных стальных цилиндров, скрепленных скобами. Этот воздушный аккумулятор был снабжен сжатым воздухом с давлением до 40 атмосфер. Аккумуляторы эти позволяли водолазу не зависеть от воздушной резиновой трубки и давали ему возможность свободно передвигаться под водой. Аккумуляторный аппарат нужен был теперь потому, что Резцов собирался взобраться внутрь погибшего судна. Резиновая трубка могла здесь запутаться. Аппарат весил в воздухе десятки кило, а в воде всего 12 кило. Резцов с трудом спустился по стальной лестнице, укрепленной у борта вельбота, и облегченно вздохнул, очутившись в воде. Он довольно быстро пошел вниз, и через минуту — две очутился в лесу густой тины. Он догадался теперь — почему морской телескоп не взял дальше двадцати метров в глубину. И когда Резцов ступил на дно, прорезая телом густую, вязку массу тины, он понял, что тут будет много возни. Но сокровища «Черного Принца» были слишком заманчивы. И он решительно дал наверх первый сигнал: «На грунту!» И сейчас же второй: «Трави канат!» И тотчас двинулся вперед, пробираясь сквозь тину, закрывшую стекло шлема и ослепившую его. Бешеными усилиями пробирался водолаз вперед, и вдруг наткнулся на острый выступ. Чуть не упал, но поднялся и ощупал встретившийся предмет. Ясно — это киль корабля. С новой энергией двинулся вперед, держась бортов облепленного тиной корабля. И, холодея от ужаса, подумал: «Его всего облепила тина… Не проберешься внутрь»… Взволнованный, он задышал глубже и почувствовал сильнейший шум в ушах. Слишком велик был напор воздуха в легкие. Он умерил его приток, дышаться стало легче. Сделал еще несколько энергичных усилий и, наконец, выбрался из тины. Дернул сигнал два раза, волнообразно: «Трави дальше!» И уже спокойно пошел вдоль киля погибшего судна. Большой паровой корвет лежал на боку, без мачт и такелажа, весь обросший ракушками. Только носовая часть застряла в тине, а остальной корпус был ясно виден в этой зеленой полутьме на каменистом дне. Резцов взял себя в руки и начал методически работать. Прежде всего он добрался до носа, все время травя сигнальную веревку, и здесь принялся старательно обчищать топором то место, где обычно помещается имя корабля. Теперь он свободно работал в тине. Он уже привык к ней и следил лишь за тем, чтобы не засосало сигнальной веревки. После недолгой работы топором он начал различать выпуклые буквы, и при свете электрического фонаря, укрепленного на шлеме, ясно прочел надпись: «Black Prince» Резцов почувствовал внезапно сильный звон в ушах и одновременно затрудненное дыхание. В голове его мелькнуло: «Со мною обморок!»
При свете электрического фонаря, укрепленного на шлеме, Резцов ясно прочел надпись: «Черный Принц»…
И последним усилием воли он быстро задергал сигнал тревожными рывками. На вельботе старшина прочел сигнал со дна: «Тревога! Подымай скорей!» Резцова подняли наверх, сняли с него шлем, освободили от тяжелого водолазного костюма. Резцов лежал ничком неподвижно и постепенно приходил в себя. Незамай жалостливо качал головой. — Глыбко спустились, ваше благородие… Очнувшись, Резцов, однако, бодро вскочил и отдал команду: — Передвинь буек на тридцать метров ближе к берегу по прямой. Здесь тина. Незамай. бросился исполнять приказ, а Резцов усмехнулся и подумал: «Обморок? Нет, это не глубина довела меня до обморока, не давлений, а ты, мой дорогой «Черный Принц!» Когда я увидел тебя впервые воочию, то узнал воплощение всей моей мечты. Как же тут не случиться обмороку?..» Вельбот передвинулся на тридцать метров ближе к берегу по прямой. Тут же поставили и буек.
XI. В кабачке «Кошачий Глаз».
Там, где Балаклавская бухта делает свой первый внутренний загиб, упираясь в стену полуразрушенной древней постройки, едва ли не времен генуэзцев, — стоял хорошо известный балаклавцам кабачок «Кошачий Глаз». На облупившемся портале входа красовался грубо намалеванный кот с зелеными глазами, и около него бутылка. Виноградная лоза густо обвила эту убогую постройку, придав ей живописный вид. Любознательные туристы частенько заходили сюда, чтобы выпить маленькую чашку ароматного и крепкого турецкого кофе и посидеть в прохладе виноградных лоз в знойный день. За прилавком неизменно стоял хозяин-грек Аристид Хриносанофецко, а прислуживала его дочь Калипсо — красивая, но довольно грязная и косматая девица. Все это было так — днем. Но лишь только спускалась темная, южная ночь, как гостеприимный вход запирался и в боковой двери — узкой, как щель — появлялся зеленый фонарь: он светил в чернильную тьму, точно глаз сказочного кота, и какие-то тени, одна за другой, крались к зеленому фонарю и неслышно пропадали в щели. Если же зеленый фонарь не горел — это означало тревогу. И тогда безлюдно было около кабачка. Это был притон балаклавских контрабандистов. Здесь они сбывали товар. В тот вечер, когда Резцов впервые вступил на борт «Черного Принца», — зеленый фонарь горел весело и призывно. И движение теней около щели было оживленно. Аристид принимал гостей у прилавка. Вся его смуглая физиономия с давно небритой густо-черной щетиной, которая начиналась от глаз и лезла в уши — сияла гостеприимством. Косматая Калипсо еле успевала раскупоривать и подавать на столы вино. Контрабандисты пировали. «Улов» был богатый. В скрытую каморку, которая имела выход в ущелье, сносились тюки с драгоценными смирнскими тканями. Громадная выгода этого дела была в том, что драгоценные ткани достались почти даром: доверчивый турок, хозяин фелюги, в пути нечаянно «утонул». Такая «удача» бывает не каждый день. И потому пир шел горой. Колючий Аристид уже подумывал о том, что сегодня не хватит запасов его погреба, когда вошел главарь шайки Христо, нахмуренный, озабоченный. Сев за крайний столик, в углу, он кивком пальца подозвал хозяина. Два друга сидели за столом молча, пили черный кофе. Потом закурили дорогие сигары. Колючего Аристида разбирало зверское любопытство. Христо узнал что-то важное; нужно, чтобы он первый заговорил, — тогда верх будет его, Аристида. Если же Аристид первый проявит любопытство — тогда ясно, что возьмет верх Христо и постарается высосать из него всю кровь раньше, чем даст заработать хоть один золотой. И потому оба молчали и курили. Аристид, в качестве хозяина, счел долгом вежливости заговорить о только что сделанном деле. Разговор шел по-гречески. — Большая удача! Тут может очиститься… — и Аристид стал быстро считать, точно в голове у него помещался арифмометр. Христо равнодушно слушал. Дал выболтаться другу до конца и сухо сказал: — Интересны не те дела, которые сделаны, а те, которые еще можно сделать. Аристид сжал в колючий комок свою физиономию и захихикал почтительно. — Да, да, да… Но смирнская ткань— это то же золото. Христо хмуро ответил: — Но еще лучше взять чистое золото… Аристид судорожно заерзал на стуле и не выдержал. Задыхаясь от волнения, он прохрипел: — Есть дело? Говори… Говори… Христо выдержал долгую паузу и, когда жадный Аристид был доведен до белого каления, веско уронил: — Да! — и тут же, взяв строгий хозяйский тон, заговорил тихо и раздельно: — Нужно будет двух молодцов на «мокрое» дело. Наши не годятся. Таких, чтоб шли на все… Аристид съежился и посинел от натуги. — Какое дело-то? — прошептал он, наклоняясь к другу. Христо коротко отрезал: — Найди людей сперва… — И вышел из кабачка.XII. Незамай выручил.
Три дня дул норд-ост, и в море была «свежая погода». Водолазные работы прекратились. Резцов с утра сидел в казарме и злился. Для такой опасной работы на большой глубине необходим был полный штиль. Малейшая неосторожность старшины у сигнальной веревки и насоса могли стоить жизни водолазу. Он не ходил эти дни к Прониным. Лишь Варя забежала на минутку сказать, что ей удалось незаметно положить дневник в дедушкину шкатулку… Но Резцов встретил ее сурово: надобность в девушке миновала, и его грубое сердце не дрогнуло, когда Варя тихо заплакала. — Отчего ты так сердит? — Не реви! Терпеть не могу женских слез! Разве не видишь, какая погода, — работать нельзя. Он нетерпеливо, в десятый раз бросил взгляд на барометр и заметил вдруг, что стрелка начала подниматься. — Наконец! Резцов быстро выпроводил Варю и бросился к рейду. Погода прояснилась. Последние тучи быстро убегали к востоку. Из их темной толпы внезапно вырвался золотой шар — яркое солнце — и радостным светом залил все еще не успокоившееся море, кудрявое от мелких барашков. Наступала мертвая зыбь. — Незамай! — гаркнул Резцов во всю силу могучих легких. — Готовь вельбот! — и снизу, с бухты, донеслось ответное слово: — Есть вельбот! Через полчаса вельбот вылетел на рейд, в толчею мелкой зыби. А еще через полчаса Резцов в полном облачении водолаза давал последние инструкции Незамаю и двум матросам: не спускать глаз с сигнальной веревки. И быстро спустился на дно. На этот раз он сразу отыскал остов корабля. Корвет лежал на боку, и пришлось сделать лишь несколько шагов, чтобы наткнуться на широкую пробоину в подводной части. Резцов внимательно проверил респиратор[7]) цилиндров. Дышалось легко, лишь в ушах стоял обычный шум. Он дал наверх сигнал: «Потрави!» И смело двинулся в пробоину корабля. Прошел среди покрытых ракушками обломков к машинному отделению. Здесь лежало два костяка с лопатами около них — кочегары у топки. Осторожно пролез через обломки и наткнулся на груду скелетов, валявшихся в беспорядке. Здесь все было затянуто, как густой кисеей, мелкими, блестящими ракушками и молюсками. Резцов осторожно, все время требуя сигналом «потравки», двинулся к носу корабля. Он, опытный моряк, знал, что ценности всегда хранились в большой командирской каюте, которая обычно была на носу, под мостиком, где сосредоточивалось управление судном. К этой каюте он и шел, равнодушный ко всем подводным зрелищам. Он шагал через пушки, которые теперь стали зелеными от ржавчины, через груды кортиков и ружей, точно поспешно сброшенных командой перед гибелью судна. Наконец он добрался до носовой части. Капитанская каюта была завалена обломками, которые приняли форму чудовищных, неведомых подводных зверей, замерших в момент бешеной схватки. «Эге! Да здесь работы дня на три», — подумал Резцов, и двинулся обратно. Он решил поручить черную работу очистки входа в заветную каюту Незамаю. А когда все будет готово — он спустится сам и довершит дело. Резцова подняли наверх. Он отдохнул и призвал к себе Незамая. — Вот, братец… даю тебе работу. Внизу лежит корвет. В носовой части завал обломков — надо очистить вход. Это для американцев, значит… Будет награда сверх полученного. И стал давать подробные инструкции. Незамай внимательно выслушал и тут же стал облачаться в костюм водолаза. Когда его спустили, Резцов сам сел у сигнальной веревки. Прошло добрых двадцать минут, когда Незамай дал сигнал: «Тяни на верх!»
Прошло добрых двадцать минут, когда Незамай дал сигнал: «Тяни наверх!»
С водолаза сняли скафандр. Он был бледен, как полотно, и тяжело дышал. Около часа лежал на животе — приходил в себя. А потом встал, подошел к Резцову и доложил с добродушной улыбкой. — Так что — все готово, ваше благородие! Очистил! Резцов сделал удивленные глаза. — Как? Все? Сразу? — Так точно! — Ну, брат, и медвежья, у тебя сила. Я думал, дня на три будет работы… — Постарался, ваше благородие. Хоть трудненько было… И, наклонившись ближе к Резцову, сказал пониженным голосом: — Каюту прихлопнуло обломками — как заперло. Как вошел туда, увидел— три стальных сундука стоят. Зеленью покрылись… Резцов похолодел. — Ну? Дальше что?.. — Крепко заперты мудреными замками заморскими. Видно, казна лежит. Что будем делать с ними? Резцов овладел собой и сухо приказал: — Ладно. Там видно будет. А теперь не болтай. Молчи, как рыба. И приказал сниматься с якоря. Пока вельбот снимался, Резцов угрюмо думал:. «Теперь придется ввести вдело этого болвана. Эх, прогадал — надо было самому заняться очисткой. Проклятая барская привычка чужими руками дело делать. Вот теперь изволь брать компаньона! Впрочем…» Мозг Резцова усиленно заработал в поисках выхода из создавшегося положения. Он не заметил, как из-за утеса, показалась лодка с тремя людьми, дала скрыться вельботу, остановилась на месте пуска водолаза и долго кружилась здесь, точно искала чего-то…
XIII. Незамай обработан.
Вечером того же дня Резцов призвал к себе в комнату водолаза Незамая, крепко запер двери и сказал ему: — Садись, друг. Мне надо с тобой серьезно поговорить. Простодушный Незамай смутился. — Что вы, ваше благородие… мы постоим… Резцов сильной рукой усадил Незамая на стул и заговорил раздельно и ясно, точно отрубая каждое слово: — Теперь мы с тобой товарищи. Забудь о моем чине. Перед нами важное дело, которое можно сделать только вдвоем. Я наткнулся на то, что ищут американцы. Если сделаем чисто, большая будет нам награда. Но по команде этого объявить нельзя. Нагрянет севастопольское начальство, и тогда достанутся нам только рожки да ножки. Понял? Незамай внимательно и напряженно слушал слова Резцова, и в его сердце росла тревога. Он служил четыре года матросом во флоте, где царила неумолимая и жестокая дисциплина; два года был водолазом уже сверх срока, и теперь давно мечтал о том, чтобы уволиться и поселиться в своем селе, расположенном у гирл Днепра. Там ждала семья — отец, мать, братишки меньшие… Да еще ждала черноглазая дивчина Ганна, которая обещала быть его женой, когда он кончит службу и вернется домой. Бедность была дома; на водолазной службе можно было подработать побольше и принести домой. Желанья его были скромны — скопить сотни две-три рублей. А тут вдруг большая награда, да дело-то опасное… Как бы под суд не попасть? Тогда — прощай дом, прощай Ганна — закатают в Сибирь, если еще под расстрел не подведут. Барину хорошо, он вывернется, а матросу — крышка! Незамай опустил глаза и молчал. — Что же ты молчишь? — уже нетерпеливо воскликнул Резцов. — Понимаешь в чем дело? Незамай с усилием заговорил: — Понимаю, ваше благородие… Да… боюсь… Резцов сдержал усилием воли волну бешенства, подступавшую к горлу, и заговорил — опять спокойно: — Во-первых, брось всякие эти «благородия». Забудь, что я твой начальник. Говорю тебе — мы товарищи. Во-вторых, если боишься, значит, не понял. — И Резцов вдруг переменил тон, с деланным весельем ударил по плечу Незамая, достал из буфета бутылку коньяку, налил два стакана и один из них поднес матросу. — Выпьем, брат! Легче будет говорить! И чокнулся с водолазом. От угощенья, по понятию Незамая, нельзя было отказаться. И после трех четырех стаканчиков крепкого коньяку беседа пошла по иному. И даже как-то незаметно стерлась та крепкая грань, которая всегда отделяла офицера от матроса. А когда бутылка подходила к концу, а на столе появилась другая — и самое дело представилось уже в совершенно других тонах: стоит только рискнуть, а барин во какой ловкий — он поможет, в случае чего, вывернуться… А Резцов между тем говорил: — Тут, брат, дело чистое. На ять! Главное, чтоб начальство не пронюхало— жадное оно до денег. И сейчас дело по своему обкургузит. — Правильно! — подтвердил Незамай заплетающимся языком. — Начальство известно уж… Дошкурит… — Американцев мы обдерем, — продолжал Резцов. — За указание тысяч двадцать, а то и тридцать возьмем. Пятерку тысяч тебе, а остальные мне. Ха! Ха! Ха! Здорово? У Незамая даже дух захватило от такой суммы. Пять тысяч! Куда их девать-то?! И он блаженно помотал головой; мысли начинали мешаться: то выскакивала бритая американская морда с громадными пачками денег, то появлялся остов погибшего корабля, из которого выглядывала черноглазая Ганна сидевшая на стальном сундуке. И смеялась, и кивала ему… Последним видением была красная физиономия Резцова: он укладывал матроса на диван. Так и заснул Незамай в офицерской комнате мертвым сном, сраженный крепким коньяком.XIV. Сокровища «Черного Принца».
С этого вечера Незамай стал безмолвным слугой и верным помощником Резцова в задуманном им деле. Резцов давно наметил одну пещеру, скрытую в каменных складках скалистого берега; здесь образовалось тихое глубокое озерцо. Он посетил его на другой же день, взяв гичку[8]) без гребцов, и еще раз ее осмотрел. Место было удобное и скрытое от любопытствующих глаз. Здесь можно было спрятать что угодно… В голове Резцова созрел такой план: все сокровища, которые найдутся на борту «Черного Принца», он свезет сюда и опустит на дно этого подземного озера. Лучшего хранилища, по его мнению, нельзя было придумать. Отсюда можно будет брать их постепенно или сразу, как позволят обстоятельства. Ведь надо после этого происшествия еще выполнить целый ряд формальностей: либо взять отпуск, либо совсем выйти в отставку — словом, так или иначе, но освободиться от службы, чтобы тогда действовать уже на свободе. Правда, в этом плане было одно нежное место — Незамай… Без компаньона в этом деле не обойдешься — один на дно не полезешь. Незамай с того памятного вечера был уже свой человек. Простоватый парень, но прямой и честный. Резцов его раскусил. Совершенно не входило в его планы посвящать водолаза в самую сокровенную сущность дела. Но так уж вышло — он увидал то, чего не должен был, в сущности, видеть. Делать нечего: надо было взять Незамая временным компаньоном, с тем, чтобы потом от него все же избавиться. В таких делах лишние свидетели— очень опасная вещь… Незамай теперь ходил за Резцовым, как верная собака за хозяином. Он ничего не подозревал — верил всецело. «Такая уж натура цельная, — усмехаясь, думал Резцов, — уж если поверит, то до гроба». Предстояло выбрать тихую, темную ночь, чтобы начать дело. По команде было объявлено, что изыскания передвинулись дальше; буек сняли и передвинули паровой вельбот на полкилометра дальше, на запад. И в темную, тихую ночь, когда люди спали в казармах, а Незамай дежурил по наряду, Резцов спустился в бухту. Взял весельную лодку, которую Незамай заранее оснастил водолазными принадлежностями, и на самом тихом ходу бесшумно вышел на рейд. Захвачены были сильные подводные электрические фонари для водолазов, динамитные патроны для подрывных работ. Резцов предусмотрел все до мельчайших подробностей. Неслышно приплыли на место, отмеченное новым, под цвет воды, буйком. Первым спустился Резцов, а Незамай стал у сигнала — внимательный и настороженный. Когда Резцов очутился на дне корпуса «Черного Принца», он зажег электрический фонарик, укрепленный на лобной части шлема, и смело вошел в свободный теперь проход к каюте. Здесь стояли три больших стальных сундука. Резцов прикрепил динамитный патрон близ замка сундука, протянул провод, отошел на всю длину его и нажал кнопку. Взрыва не услышал. Он знал, что на такой глубине и не услышит его. Приходилось проделывать это и раньше. Вернувшись в каюту, он увидел на стальной стенке сундука большую, лучевидно расходящуюся трещину. Ударил по ней коротким, острым ломом раз, другой и сильнейшим ударом — в третий… Крышка сундука отскочила. Лом пробил замок, уже поврежденный динамитным патроном. И так как сундук лежал на боку, как и весь корвет, то немедленно из него посыпались крепко завязанные мешки из плотного просмоленного холста. Один лопнул, и золотым потоком хлынули из него монеты— крупные, старинные дублоны[9]), сверкавшие под яркими лучами электрического фонаря. У Резцова на секунду захватило дух. Он пошатнулся и схватился за дверь каюты. Но тут же крепко взял себя в руки и принялся разбивать мешки и считать их. В этом сундуке уложено было двадцать мешков. В воде они весили немного. Резцов захватил четыре мешка, крепко обвязал их веревкой, захлестывая морские узлы. Теперь он работал методично и уверенно, всеми силами сдерживая волнение. Перекинув мешки через плечо — два пришлось сзади, а два спереди — он дал сигнал наверх: — Тяни! И тут же почувствовал, что отделился от судна и медленно поплыл вверх. Очень труден был подъем на лестницу. В воздухе сказалась вся тяжесть снаряжения и мешков с золотом. И только исключительная сила Незамая вывезла. Он схватил Резцова за плечи и втащил его в лодку. Стояла густая тьма. Огней нельзя было зажигать, чтобы не привлечь внимания с берега. Но и в темноте Незамай понял, что Резцов нашел что-то ценное. Мешки упали с глухим звоном. Матрос быстро освободил Резцова от шлема, и когда тот отдышался, топотом, волнуясь, спросил его: — Нашли клад? Резцов молча кивнул головой и прохрипел: — Дай отлежусь немного… Потом стану у насоса — полезай теперь ты… Он был под водой двадцать минут, но устал так, словно пробыл там много часов. Сдерживаемое волнение отняло много сил, да и глубина была большая. Для скорости решили водолазных костюмов не снимать. Шестипудовый груз давил даже этих исключительно сильных людей. Так велико было их волнение, которое они скрывали друг от друга, что говорить они могли только отрывистыми фразами, почти шопотом… Чередуясь друг с другом, четыре раза спускались они на дно и через три часа девятнадцать мешков с золотом лежали на борту лодки. Остался один, последний, который лопнул и высыпал из своих недр золото. Надо было и его подобрать. Оба почти выбились из сил. Частое опускание на большую глубину, даже при всех принятых мерах предосторожности, утомило почти до дурноты. Резцов достал флягу с коньяком и передал Незамаю: — Выпей… И сам отхлебнул почти половину. Стало немного легче. Потом вручил Незамаю крепкий кожаный мешок, куда прятал обычно инструменты. — Ну, теперь спустись в последний раз. На сегодня довольно будет. Незамай спросил хриплым шопотом: — А куда же мы все это спрячем? Резцов, которому коньяк вернул бодрость, усмехнулся. Но усмешки этой Незамай за темнотой не увидал. — Вот вылезешь, так узнаешь. Спрячем так, что никто не найдет, — сказал он. Когда Резцов остался один на борт лодки, накачивая насос и следя за сигнальной веревкой, он услышал вдруг, среди ночной тишины, сквозь глухой рокот прибоя волн об утесы, жалобный крик совы. Резцов вздрогнул и тут же крепко выругался: «Кричи на свою голову, проклятая!». Но тут же услышал сквозь глухой шум прибоя тонкий протяжный свист, который шел уже, видимо, с моря. «Точно иволга кричит», — угрюмо подумал Резцов. И тут же забыл об этих звуках, увлеченный совершенно другими мыслями. Машинально качая воздушный насос, думал: «Пожалуй, больше и не возьмешь оттуда ничего. Еще два сундука осталось… Больно трудно достается… Довольно, будет и этого. Сколько тут золота? На всю жизнь хватит с избытком. Надо спрятать понадежнее. Да, что еще нужно сделать? От Незамая избавиться…» Лавина бурных хаотических мыслей быстро промчалась в голове Резцова. Он почти не заметил, как задергалась сигнальная веревка, требуя подъема. «Никто из команды не знает, что мы выехали сюда… Свидетелей нет… Об исчезновении Незамая можно будет сообщить рапортом. Да и кто будет заботиться о простом матросе?!.» Сигнальная веревка задергалась очень часто и резко — водолаз требовал немедленного подъема. «Связать себя свидетелем на всю жизнь… Нет! Нет!..» Резцов стиснул зубы и решительным движением вынул нож. Ощупью нашел трубку, подававшую воздух, и… перерезал ее. Сигнальная веревка, намотанная на локоть Резцова, бурно задергалась. Уже спокойным движением Резцов обрезал и ее, и глубоко вздохнул — точно сбросил с плеч тяжелый груз: «Концы в воду!..»ХV. Последняя ночь.
В каменной стене скалы виднелось небольшое, полукруглое отверстие. Это был вход в пещеру с подземным озером. В темноте нелегко было найти пещеру. Ослепительные лучи прожекторов со сторожевой вышки обшаривали море, а этот уголок прибрежной полосы оставался в полной тьме. Резцов осторожно греб, нащупывая время от времени концом багра каменную стену. Поставил лодку перпендикулярно к узкому проходу в пещеру, нагнулся — и сильным движением багра вогнал нос лодки во входное отверстие. Потом, хватаясь руками за выступы каменных стен, быстро продвинул лодку вперед. Через минуту проход расширился. Резцов зажег электрический фонарик. Высокие своды осветились мягким, голубоватым светом. Это был отраженный свет от тихих вод озерка. Резцов действовал спокойно и уверенно. О погибшем Незамае он совершенно не думал. Все его внимание было занято драгоценными мешками с золотом. Внимательным взглядом он еще раз оглядел пещеру. Своды ее уходили ввысь и здесь закруглялись в форме купола. Гладкие стены из темно-красного гранита выступали местами отрогами. В неверном свете фонаря эти выступы казались фантастическими чудовищами, прицепившимися к стенам. Резцов взглянул на часы: «Два часа… До рассвета еще долго… Все успею сделать и вернусь так, что никто не увидит…» Он отвел лодку багром вглубь пещеры, в намеченное ранее место. Укрепил канат за выступ и принялся за работу. Надо было затопить мешки на дне озера. Резцов осторожно зацепил багром первый мешок и стал опускать его на дно……………………..
Тем временем у входа в пещеру колыхалась на волнах лодка контрабандистов. Христо шопотом давал последние инструкции двум молодцам с темными лицами, в рваных рубахах. По сигналу все легли на дно, и лодка проскользнула в пещеру, где находился Резцов.…………………..
Резцов был так погружен в выгрузку мешков, что не заметил, как скользнула лодка. Он услышал звук выстрела и почувствовал резкую боль в спине. Хотел закричать — и выплюнул густую струю крови. Пуля Христо пробила ему легкие. Он вскочил и, задыхаясь, выплевывая кровь, схватил револьвер.
Резцов был так погружен в выгрузку мешков, что не заметил, как скользнула лодка. Он услышал звук выстрела и почувствовал резкую боль в спине…
По узкому берегу к нему бежал полуголый, мускулистый человек с ножом в зубах. Ослабевшей рукой Резцов нажал спуск… Гулкий выстрел… промахнулся… В эту же минуту со звериным воем бросились на него двое оборванцев, свалили на дно лодки и крепко прижали к оставшимся мешкам. Христо, скрипя зубами, нагнулся к Резцову и вонзил ему в сердце изогнутый турецкий кинжал, повернул его и держал до тех пор, пока не увидел, что Резцов перестал дышать…
…………………..
…Когда выглянул бледный рассвет — сильно засвежело… По темно-зеленому морю с бесконечными белыми гребешками промчались мелкие барашки. Прибрежная полоса закипела яростным прибоем, и когда солнце преодолело темные тучи и выкатилось над горизонтом — казалось, чье-то могучее дыхание пронеслось над морем. Грозно загудел ветер. Пробежав по воде, он точно гигантским стальным плугом пропахал море. Заходили большие волны. Сталкиваясь рядами, они боролись друг с другом, как взбесившиеся косматые звери. Заревел шторм. Стаей испуганных птиц бросились рыбачьи шхуны, спасаясь от урагана……………………..
… Отчаянно боролась со штормом большая, черная турецкая фелюга с темными, просмолеными парусами. Старый Абдулла, опытный моряк, десятки лет возивший контрабанду, не боялся бурь. В такую «свежую погоду» легче избежать преследования. Он стоял на корме фелюги, как бронзовое изваяние. Рука точно приросла к рулю, твердо направляя судно, которое то ныряло в водную пропасть, то взбиралось на водяную гору. Абдулла давно уже шел на одном штормовом кливере[10]). Все другие паруса были убраны. Везли ценный груз. Христо с двумя своими людьми глубоко запрятал мешки с золотом в трюм. И теперь все трое бесстрашно помогали турку бороться с ураганом… Бешеным взрывом ветра изорвало последний кливерный парус. Руль вышибло из рук турка и бросило его на борт. Он упал с криком. Христо, как зверь, бросился к рулю, но не успел добежать, как фелюгу положило на бок и залило. Новый бешеный порыв перевернул фелюгу, как скорлупу, и она исчезла в кипящей пене моря…

ОБСЕРВАТОРИЯ В СНЕГАХ
Приключения метеорологов на Яйле Рассказ В. Белоусова Рисунки К. Елисеева
От редакции
Ай-петринская метеорологическая станция в Крыму основана около трех десятков лет назад. Первым трем ее заведующим не повезло: один из них повесился, другой — спился, а третий — просто не вынес и покинул ее. Да и немудрено. Плоскогорье Яйла, где находится станция, бывает, вследствие заноса путей, отрезано от всего мира примерно на четыре-пять месяцев в году. Первоначально в задачи ай-петринской станции входило лишь изучение климата Яйлы и распределения некоторых метеорологических элементов по вертикали. Сейчас задачи станции значительно расширены — в частности, ее исследовательская работа по изучению климата и почвы Яйлы, представляющая чрезвычайно большой интерес с теоретической и практической стороны. Только тщательное изучение станцией режима осадков, силы и направления ветров, температуры и влажности воздуха выяснило полную возможность произрастания леса на плоскогорье Яйле. Опытное лесонасаждение (175 десятин), посевы кормовых трав на опытно луговом участке — дают превосходные результаты. Но этого мало. Разрешением вопросов облесения и луговодства не исчерпывается полностью задача хозяйственного использования Яйлы. Крымводхозом, при ближайшем участии станции, организованы снегомерные экспедиции на Яйлу для полного учета запасов снега, а с лета прошлого года были поставлены наблюдения над влажностью почвы и над проникновением влаги в почву. Вопрос питания влагой подземных органов растения в крымских условиях приобретает особенно острый характер. Расположенная на высоте 1.200 метров над уровнем моря, ай-петринская станция имеет возможность проследить изменение состояния облака с момента его возникновения. Работы, относящиеся к изучению элементов облака, организованы на ай-петринской станции государственным научно мелиорационным институтом для выяснения интереснейшего вопроса — возможности создания искусственного дождя путем сообщения воздуху сильного электрического заряда. Далее, работы ай-петринской станции имеют совершенно исключительное значение при разрешении проблемы борьбы с оползневыми явлениями в Крыму. Наконец, значение ее состоит в предупреждении других черноморских станций об ожидаемой погоде. Редакция «Следопыта» считает необходимым добавить, что под выводимыми в печатаемом рассказе лицами ни в коем случае не следует подразумевать нынешний персонал ай-петринской метеорологической станции._____
I. Снежный буран на Яйле.
За стенами обсерватории надрывно гудел резкий северный ветер. Он грохотал по крыше, озорно швырялся пригоршнями снега в окна, всякими свистами свистел в трубе и заставлял содрогаться все крепкое здание обсерватории. Профессор Кондрашев только что проснулся, и с кровати прислушивался к вою метели. Прежде, когда профессор был молод, когда он впервые поселился в этой маленькой метеорологической обсерватории, так смело прилипшей к самому обрыву плоскогорья, — вой и гул метели рождали в нем бодрое чувство. Кондрашев сознавал тогда свою силу, сознавал, что «ж не отступит перед натиском разбушевавшейся природы, и ему хотелось тогда выскочить на крыльцо, встать под хлест сухого, как песок, снега и среди свиста и гула бури громко и вызывающе крикнуть: — О-го! О-го-го-го! Теперь не то. Теперь этот заунывный вой, доносившийся снаружи, навевал тягучую, сверлящую тоску. Метель опротивела, и от тоски иногда хотелось подвывать ей по-звериному. Кондрашев устал. Двадцать лет жизни на Яйле, двадцать лет ожесточенной борьбы с дикой и злой природой плоскогорья надломили его крепкий организм. Предшественники Кондрашева не выдерживали больше двух-трех лет. А это были люди с крепкой волей и большими надеждами. Почему уходили они отсюда? Что побеждало их волю, ум, желание работать и бороться? Кондрашев теперь это знал. Их побеждал, их гнал отсюда дикий, неестественный контраст между горячим зеленым берегом моря и суровым плоскогорьем, нависшим над ним. Как раз там, где стоит обсерватория, над обрывом Яйлы, стыком сошлись две жизни, две природы. В то время, как здесь только ранней весной зеленеет сочная пахучая трава, которая через месяц вся иссыхает и сгорает под солнцем, в то время, когда здесь всю зиму гудит неистовая пурга и снег по крышу засыпает обсерваторию, — в это время внизу, у моря — горячая, влажная зелень, теплое безветрие, радостная природа. И достаточно сделать пятнадцать шагов от обсерватории, чтобы эту другую жизнь, другую природу увидеть сверху, у своих ног. Яйла по климату — побережье Ледовитого океана, а в семи километрах от нее внизу — теплый субтропический курорт… Вставать было еще рано. Кондрашев перевернулся на другой бок и задремал. В полудремоте метель звучала для него гласом каких-то огромных, невиданных труб, захлебывавшихся в своем реве. Вдруг, также сквозь сон, в шуме метели Кондрашев уловил какие-то новые тона. Глухой наростающий гул придвигался все ближе и ближе, и вдруг сразу разросся до ужасающего грохота. В следующий момент страшный лязгающий удар в крышу потряс все здание обсерватории. Кондрашев в ужасе вскочил на кровати. Гул, затихая, пронесся дальше, к обрыву. — Что это такое? — растерянно спросил себя Кондрашев, и огляделся по сторонам. В комнате, где он находился, было темно. Через занесенные снегом окна снаружи не пробивалось никакого света. Тусклые, колеблющиеся блики бросала маленькая керосиновая лампа, висевшая на стене. В углу тонул в тени большой шкаф с каким-то чучелом наверху. Внезапно жуткая догадка заставила Кондрашева вздрогнуть. Он быстро нащупал ногами туфли, накинул халат и торопливо пошел к двери. В коридоре он столкнулся со своим помощником, наблюдателем Лебедевым, и кинулся к нему. — Вы слышали? Что случилось? Да говорите же! Что это такое? — Профессор схватил Лебедева за плечои тряс его. Лебедев знал не больше Кондрашева, и не меньше, чем он, был напуган этим грохотом, нежданно обрушившимся на обсерваторию. Он вырвался из рук профессора и, застегивая на ходу кожаную куртку, побежал к лестнице, ведшей на чердак. Когда он пробегал через кухню, за полуотворенной дверью справа раздался громкий храп. — Ибрагим! — крикнул на ходу метеоролог служителю-татарину. Но ответа не получил. Еще на узкой и скрипящей чердачной лестнице Лебедева захватил порыв ветра. Он дохнул на него сверху, от крыши. Высунув голову сквозь люк на чердак и подняв повыше лампу, пламя которой вдруг забесновалось, Лебедев убедился в том, что какие-то предметы, брошенные ветром в крышу, пробили в ней большую дыру; через дыру сыпался снег, засыпая ящик со старыми журналами и кучу железа, сложенного в углу. На чердаке стоял страшный грохот, как от десятка поездов, идущих по мосту. Оторванный железный лист жестко рвался и лязгал. Поставив осторожно лампу, Лебедев подтянулся на руках и вылез на чердак. Ветер, врывавшийся в дыру, был холодный, пронизывающий и рвал с бешеной силой. Лебедев смотрел на дыру и не понимал, что это мог принести с собой ветер такое крепкое, чтобы оно так разворотило хорошо скроенную крышу обсерватории. Сбоку из-под снега торчало что-то маленькое, черное. Метеоролог нащупал и потянул к себе. Еще ощупью Лебедев понял, что это обломок сосновой ветки, но, как бы не веря себе, он повернулся к лампе и долго вертел перед светом эту ветку. И лицо наблюдателя делалось с каждой секундой все удивленней и все озабоченней. На лестнице раздались шаги Кондрашева, крепкие, стучащие, потому что профессор уже надел горные башмаки и крепким топаньем ног возвращал к себе самообладание. И когда раздались эти шаги, Лебедев быстрым, пугливым движением забросил сучок в дальний угол чердака. Профессор поднялся, тяжело цепляясь сапогами за ступеньки; осмотрелся. — Что случилось? — прокричал он.
Профессор поднялся на чердак, тяжело цепляясь за ступеньки и осмотрелся. — Что случилось? — прокричал он…
Лебедев молча показал на дыру и на сугроб, уже наметенный ветром на чердаке. Профессор покачал головой. — Чем же это он так? — снова прокричал он, но его помощник только пожал плечами и ничего не ответил. Тогда Кондрашев пополз к пробитому в крыше отверстию, позволил ветру отогнуть свою редкую рыжую бородку, гребнул руками снег, отодвинулся, чтобы не застилать света, и еще раз внимательно осмотрелся. — Вы здесь… ничего не находили? — обратился он к Лебедеву. — Ничего! — резко отрубил тот. — И не знаете, чем ветер прошиб такую дыру? — Не знаю… Некоторое время оба молчали. — Ее нужно поскорее заделать, — крикнул сквозь неумолчный грохот Лебедев. Профессор кивнул головой. Принимаясь за работу, он сразу оживился. Из-под мусора они вдвоем извлекли несколько крепких досок. С трудом сдерживая напор ветра и зажмурившись от летевшего в дыру снега, они просунули доски наружу и, уложив их одна к одной, насколько могли закрыли отверстие в крыше. Когда во время работы профессор ползал по чердаку в поисках за досками, Лебедев исподтишка следил за ним и волновался, видя, что Кондрашев роется там, куда упал брошенный Лебедевым сук. Но сучок надежно зарылся в мусоре, в углу, и на глаза профессору не попался… Весь этот день Кондрашев был молчалив и сосредоточен. Лебедев на цыпочках прошел на кухню. Там Ибрагим неспеша мыл тарелки и что-то вполголоса напевал. В татарской песне слышалась стойкость утесов и неоглядная ширь моря. — Он очень-очень устал, — говорил Лебедев Ибрагиму про профессора, и Ибрагим сочувственно кивал головой. — Ему нужно спуститься вниз, к морю, и там хорошенько отдохнуть, иначе он может получить нервное расстройство. Но сейчас все спуски обледенели, а то бы мы отправили его вниз. Сегодняшнее происшествие с крышей окончательно его разбило. И, пригнувшись к уху Ибрагима, метеоролог что-то быстро и возбужденно зашептал. На лице Ибрагима сменилось удивление, страх и, наконец, неподдельное прискорбие. — О! — вздохнул он. — Профессор — плохо, плохо профессор. Э, шайтан пурга, что сделал, а!
II. Роща профессора.
На следующее утро, под тот же нескончаемый вой метели, мысли Кондрашева вернулись к вчерашнему происшествию, к дыре, неизвестно чем пробитой в крыше ветром, и с этими мыслями вернулась та догадка, которая так испугала его вчера. Кондрашев опять занервничал и заволновался. Он не мог больше оставаться в кровати: он встал, оделся во все теплое, кожаное, непромокаемое, оделся так, как одеваются, должно быть, люди, идущие с ружьями в руках на белых медведей по бесконечным ледяным полям, сковывающим Северное Полярное море… И, как накануне, встретив в коридоре помощника, Кондрашев заявил: — Я хочу видеть, цела ли моя роща. Я не могу больше ждать. Я вылезу из траншеи и посмотрю… — Вы ничего не увидите отсюда. Сквозь метель ничего не видно, — ответил Лебедев и, не думая, что профессор будет возражать, хотел идти. Но профессор возразил. Его слова заставили Лебедева положить обратно в карман вынутую записную книжку и с тревогой поднять на него глаза. — Я пойду на холм, где посажена роща, и посмотрю. Я должен это сделать. Вы сами видите, как я нервничаю, — сказал профессор. — Да, я вижу, — с большим спокойствием согласился Лебедев. — Но, профессор, бы сами не хуже меня знаете, что через десять шагов, если вы их сможете сделать по таким сугробам, вас занесет пурга. Вылезть наружу, это значит пойти на верную гибель. — Я пойду, — очень твердо заявил Кондрашев. — Нет, вы не пойдете. Я не могу пустить вас на смерть в снегу. Если вы не вернетесь, вас немыслимо будет найти… Профессор сделал несколько шагов по коридору, повернулся и, прищурившись, очень внимательно посмотрел на стену, в пазы между досками. Нервно шагая из угла в угол, он заговорил: — Послушайте, Сергей Владимирович. Вы же знаете, что значит для меня моя опытная роща, посаженная там, на холме. Вся моя жизнь в этой глуши ушла на скучные и однообразные наблюдения над погодой плоскогорья. И единственным светлым лучом в моей жизни была одна мечта, которая не покинула меня и до сих пор. Мечта эта — облесение Яйлы. Задачей всей своей жизни я поставил превращение плоскогорья из голой, неприветливой степи в цветущую местность. Если бы на Яйле росли леса, здесь бы не так бурно таяли снега, влага задерживалась бы, орошала плоскогорье. Не было бы таких снежных заносов, не выгорала бы трава на солнце, и, вдобавок, не было бы таких больших, гибельных для крымского плодоводства оползней и обвалов. Это большое дело. Я его начал двадцать лет назад и двадцать лет продолжал шутить со мной ветер. — Профессор остановился, прислушиваясь. — Вот такой же ужасный ветер, которому здесь нет преград! Он выдувал мои насаждения. Тогда я брал новые породы деревьев, и сажал рощу снова. Но сегодня я почувствовал, что я устал, что я не могу уже больше начинать все сначала. Эта роща — последняя. Устоит она — цель моей жизни достигнута, я смогу спокойно отдохнуть. Не устоит, — унесет ее ветер, как тот старый сарай, что унесло у нас две недели назад, — тогда… тогда я скажу, что я не сумел сделать и одного большого дела за свою жизнь… что я жил зря и ошибся. А это так страшно, так страшно!.. Эта метель сильней, чем все, которые были до сих пор. Сейчас идет решительная борьба. Не могу же я сидеть спокойно и ждать, когда решается дело моей жизни. Я должен пойти, дол жен увидеть. Пустите… — Нет! — упорствовал Лебедев. — вы не пойдете. Это — безрассудство. Все равно ничему помочь нельзя. Нужно ждать конца метели. — Да не могу же я ждать! — крикнул профессор. — Я сойду с ума… Пустите!.. — И, оттолкнув Лебедева, Кондрашев бросился к выходу. — Стойте, что вы делаете! — закричал ему вслед Лебедев, но, видя, что его слова не действуют на профессора, сорвался с места и несколькими прыжками очутился между профессором и выходной дверью. — Вы не пойдете! — снова твердо повторил он. — Пойду. Пустите! — Нет! Тяжелой рукой профессор потянулся к спинке стула. Лебедев заметил движение Кондрашева и быстро дернул стул к себе. На мгновение их глаза встретились, и в них блеснуло что-то звериное… Низко согнувшись, профессор метнулся на Лебедева головой вперед, вышиб стул из его рук и, навалившись всей своей тяжестью, тяжело дыша, стал оттеснять своего помощника от двери в угол. Лебедев кое-как высвободил голову из жесткого обхвата Кондрашева и во все горло закричал: — Ибрагим, скорей! В соседней комнате прервалось мерное дыхание спящего Ибрагима. Послышались торопливые шаги, и в дверях показалась взлохмаченная его фигура. Спросонок он не сразу сообразил, в чем дело, но, сообразив, прыгнул к профессору и схватил его за плечи, оттягивая от Лебедева. Профессор захрипел, сопротивляясь. И почти в это же самое время руки Ибрагима сами собой разжались. Кондрашев отпустил Лебедева. Все трое с лицами, какие бывают у людей, удивленных большой неожиданностью, повернулись в одну сторону и широкими глазами уставились на дверцу топившейся в комнате печки. Они услышали, как за этой дверцей что-то очень сильно и странно ухнуло. В следующее мгновение, когда три обитателя обсерватории еще не успели отделаться от удивленного оцепенения, печная дверца вдруг с силой распахнулась, как будто ее кто-то толкнул изнутри. Из топки выскочили горящие головни и с треском, разбрасывая вокруг себя искры, покатились по полу на середину комнаты. Из печки летели тучи золы, пепла и дыма… Это ветер так свирепо ворвался в трубу и выдул из печки горящие поленья. Очнувшись, Ибрагим быстро подхватил одну, самую большую головню и засунул ее обратно в печку. Но ветер уничтожил тягу. Весь дым шел обратно в комнату. Тогда Лебедев бросился в кухню, схватил там ведро с водой и выплеснул его на пол и в печку. Огонь погас, но дым сделался еще более густым и едким. Лебедев и Ибрагим заметались по комнате, пытаясь засунуть куда-нибудь головни. Наконец, им удалось сунуть их в ящик, где спал котенок. Жалкий серенький комочек шерсти отвечал на свое выселение громким писком. Ящик накрыли доской. Только теперь, оглянувшись, Лебедев заметил, что профессор исчез. — Скорей! — испуганно закричал он. — Его надо задержать, не то он погибнет! — И, сорвавшись с места, побежал к выходной двери. Ибрагим, который уже вооружился шваброй, чтобы подобрать с полу золу и мусор, высыпавшийся из печки, последовал за наблюдателем. Выскочив за дверь, Лебедев остановился, быстро оглядываясь по сторонам. Здесь было не светлей, чем в комнатах. Каждую зиму, когда огромные сугробы засыпают обсерваторию, метеорологи роют в снегу глубокие траншеи и покрывают их сверху досками. Эти траншеи идут от двери обсерватории к ящикам с инструментами, к сараю и к обрыву плоскогорья. Все выходы из траншей всегда бывают плотно заложены досками и открываются только в исключительных случаях, чтобы не позволить метели ворваться в эти снежные катакомбы и окончательно закупорить жителей Яйлы в их тесном домике. В темных траншеях слабо мерцали лампы. Их свет искрился на мелких кристалликах снежных стен. Шум метели здесь переходил в дикий рев, как будто над головой ревели и кричали сотни огромных, обезумевших зверей. В конце одного коридора Лебедев увидал профессора. Кондрашев уже вынул несколько досок, загораживавших выход из траншеи, и, работая одной из них, как лопатой, прорывался сквозь толщу снега наружу. Он уже расчистил порядочное отверстие и лез в него, отчаянно барахтаясь в снегу, а ему в лицо рвала и хлестала метель. Стукаясь головой о низкий потолок траншеи, Лебедев поспешил к профессору. По дороге он поскользнулся, упал и, когда, наконец, был в конце траншеи, он мог уцепиться только за ноги Кондрашева. И он вцепился в них крепко, и вытянул Кондрашева из дыры обратно в траншею. Лицо профессора было свирепо. В бороде и усах его уже заледенел снег. Лебедев не смог выдержать сильного толчка профессора и упал, увлекая за собой своего начальника. Профессор вывернулся и снова ринулся в отверстие… На этот раз Лебедеву не удалось ухватить Кондрашева. Профессор успел уже выбраться наружу, туда, где так неистово ревела и выла метель…III. Человек из метели.
Решив во что бы то ни стало спасти профессора, Лебедев, как был — без перчаток, с непокрытой головой, полез в ту же дыру. Но не успел он еще как следует нырнуть в снег, как почувствовал, что чьи-то ноги спустились ему на голову. Радостно подумав, что это профессор облагоразумился и возвращается назад, Лебедев быстро спустился обратно в коридор. Вслед за ним, действительно, спустился и Кондрашев, но спустившись, он встал спиной к Лебедеву и уставился на отверстие. В его позе было столько недоумения, что Лебедев тоже невольно устремил свой взгляд к дыре. И как раз во-время: из дыры, на глазах у пораженных метеорологов, в туче снежной пыли вылезало большое, обледенелое существо. Это существо вытянулось до потолка коридора и, встряхнувшись совершенно по-человечески, облегченно произнесло: — Уф! Землетрясение, неожиданный приход лета, дождь вместо метели, — все это меньше бы удивило наблюдателей, чем этот простой звук. Это «уф» говорило, что перед ними находится человек, настоящий живой человек, а это было совершенно необъяснимо. Кто мог притти в такую метель? Откуда? Как через сугробы добрался он до обсерватории? Как по обледенелым скатам смог он подняться на плоскогорье? С трудом сбросив с себя оцепенение, Лебедев крикнул, обращаясь к появившемуся из метели существу: — Кто здесь? И человеческий голос с сильным татарским акцентом ответил ему: — Саид-Велли — я. Мараба! Здорово! — Саид-Велли!? — голос наблюдателя выражал предел удивления. Он шагнул к пришедшему человеку и всмотрелся в него, но налипший заледеневший снег превращал пришельца в снежную бабу и уничтожал все человеческие очертания. Тогда сам человек очень спокойно сказал: — Собирайся скоро! Люди мерзнут! — и, махая руками, стряхивал с себя комья смерзшегося снега и постепенно превращался, действительно, в человека и, действительно, в Саида-Велли. Лебедев глядел, ничего не понимая. Саид-Велли был татарин из деревни Коккоз. В течение всего лета, раза два в неделю он с большой корзиной, полной яиц, на спине, поднимался из Коккозской долины на хребет, переходил плоскогорье и спускался в Ялту, где сбывал яйца. По дороге он всегда заходил на обсерваторию, и тоже продавал здесь несколько десятков. По самым крутым тропинкам, по которым и налегке подниматься трудно, этот татарин поднимался чуть ли не бегом с двухпудовой корзиной на спине. Но зимой он, конечно, не мог ходить через Яйлу, и оставался у себя в Коккозах. Его появлением в такую погоду метеорологи были так удивлены, что долго ничего не могли осмыслить из того, что говорил им татарин. Только когда Саид-Велли уже раз пять повторил свои слова, наблюдатели получили обратно дар речи, и Лебедев спросил: — Что ты болтаешь? Какие люди? Где мерзнут? — Два человек… Там! На дороге! — ответил татарин и махнул рукой в ту сторону, откуда шла буря. — Как ты пришел сюда? — осторожно просил Кондрашев. — Вот так! — и татарин замахал руками и головой, затопал ногами, показывая, как он пробирался через снег. Раньше других пришел в себя Ибрагим. Он все еще держал в руках швабру, и теперь стал водить ею по Саиду-Велли с таким увлечением, точно перед ним был не человек, а крепкий чурбан. Счищая с него снег, Ибрагим сделал маленькое открытие: на спине Саида-Велли оказалась его круглая корзина, полная яиц. С двумя пудами на спине этот татарин прошел через плоскогорье увязая в сугробах, борясь с ветром, и благополучно добрался до обсерватории! Опять широкими глазами оглядывали наблюдатели человека из метели, и опять тот еще и еще повторял, что дело не в корзине, а в тех людях, которые замерзают там, в снегах. А корзина — только потому, что, когда он вышел из Коккоз, было тихо, и он думал, что и на горах то же самое, а здесь оказался маленький, совсем маленький ветерок. Ну, а когда он поднялся, то не возвращаться же ему было обратно! Ни о горячем чае, ни о том, чтобы немного погреться, Саид-Велли не хотел и слышать. Он торопил наблюдателей сейчас же итти спасать замерзавших людей. Но не мало времени прошло прежде, чем наблюдатели вполне пришли в себя и смогли понять, что это значит. И, поняв, засуетились. Лебедев, путаясь в рукавах, поспешно стал натягивать на себя теплую одежду. Он не говорил больше, что в такую метель нельзя вылезать из траншей. Профессор, снова вернувший себе самообладание, выгреб из комода большой шерстяной платок и укатал им себе всю голову. Ибрагим, по плану, должен был остаться на обсерватории и все время громко звонить в колокол, укрепленный на крыше дома. Этот колокол был для заблудившихся в метели, чтобы помогать им находить дорогу к обсерватории — к теплу и свету. Пока метеорологи одевались, татарин рассказал, как, поднимаясь на Яйлу, он на тропинке догнал мужчину с мальчиком. Они шли в Ялту из Ени-Сала навестить жену мужчины и мать мальчика, которая лежит в городе, в больнице. Поднявшись на плоскогорье, путники были захвачены метелью и долго блуждали в ней. Мальчик скоро выбился из сил, мужчина не мог его нести, Саид-Велли и без того был нагружен тяжелой корзиной. В конце концов, мужчина с мальчиком остались сидеть в снегу, километрах в двух от обсерватории. Они взяли слово с Саида-Велли, что он оставит на станции корзину и придет их спасти. Сам Саид-Велли еле нашел среди огромных сугробов крышу обсерватории, но если бы он не увидел сквозь летевший снег профессора, вылезшего из траншеи, он никогда бы не нашел входа в снежные катакомбы. Терять время было нельзя. Метеорологи наполнили карманы пузырьками со спиртом, с вином, трубочками с вазелином и разными вещами, которые могли пригодиться. Кроме того, к поясам они привесили карбидовые фонари. Кондрашев прошел по траншее к сараю. Там, в конуре, жили две обсерваторские собаки— потомки родичей ньюфаундленда. У этих собак были многозначительные имена: Раскопай и Докопай. Теперь пришло время им эти имена оправдать. Выпущенные из конуры собаки так обрадовались свободе, что как бешеные носились по траншеям, перепрыгивая друг через друга и сшибая с ног людей. С трудом удалось поймать их и привязать к поясам.IV. Поиски в сугробах.
Расширив отверстие в снегу, Саид-Велли, Кондрашев и Лебедев вылезли вслед за собаками наружу, в метель, и сели в снег, ошеломленные бурей. Дикий снежный вихрь залеплял глаза, хлестал в лицо, набивался за шиворот и в рукава. Профессор крикнул изо всех сил: — Я не могу итти! Ничего не вижу! Нас засыпет!.. Но его никто не слыхал. Кто-то взял его за руку, потянул, профессор встал и пошел. Вернее, не пошел, а забарахтался в снегу. Сначала под ногами шел твердый, крутой подъем. Это была крыша обсерватории. Когда она кончилась, все трое по пояс увязли в снегу и, работая и двигая руками и ногами, тронулись навстречу буре… Они шли страшно медленно. Два километра они шли два часа. Что можно сказать про эти ужасные два часа, два часа дикой борьбы с разбушевавшейся стихией? Только то, что хотелось лечь, не двигаться, зарыться в снег и там остаться, спрятавшись от метели. Безумно чесалось и болело лицо от хлеставшего снега, перчатки на руках смерзлись и пальцы застывали, отказывались шевелиться. Впереди шел татарин, длинной палкой щупал дорогу и тащил за собой наблюдателей. На Яйле часто попадаются естественные колодцы — провалы — иногда до сорока метров глубины. Если бы путники сбились с дороги, то легко могли бы попасть в один из таких колодцев. Но татарин хорошо ориентировался в сугробах и уверенно шел вперед. Где были собаки, сказать было трудно. Веревки у поясов метеорологов то натягивались вперед, то вбок, то ослабевали. Несколько раз Саид-Велли наступал на одну из собак. Раскопаю и Докопаю тоже приходилось туго. Фонари горели, но помощи от них не было. Все равно, нельзя было, как следует, открыть глаза и посмотреть вперед, против пурги. Наблюдатели выбились из сил уже через полчаса, и дальше шли, как автоматы, только потому, что их тянул Саид-Велли. Для этого здоровенного татарина, казалось, метели просто не существовало. Правда, он тоже увязал в снегу, но упорно подвигался вперед. Через два часа он остановился. Из отдельных слов, которые уцелели от его крика, искалеченного ветром, можно было понять, что люди, которых они ищут, где-то здесь, и что теперь нужно пустить собак. Деревянными, неслушающимися пальцами Лебедев и Кондрашев распустили веревки, держа их лишь за самые концы, и собаки сейчас же потянули куда-то в сторону. Проваливаясь по брюхо, ожесточенно нюхая воздух, Раскопай и Докопай долго плутали между сугробами и, наконец, сошлись в одном месте и принялись быстро разрывать снег. Люди подоспели и помогли им. Под снегом, скорчившись, сидел мужчина, весь уже занесенный, и на руках держал мальчика. На мальчике было много теплой одежды, мужчина был в одной тонкой синей рубашке. Зная, что им обоим все равно уже не спастись, он снял с себя все теплое, чтобы получше укутать сына. Он прикрыл его еще своим телом и даже шапку свою отдал ребенку. Мальчику было тепло, и он спокойно спал. Мужчина же не дышал и не подавал никаких признаков жизни. Напрасно Кондрашев вливал ему между зубами коньяк ложку за ложкой, напрасно Лебедев растирал ему спиртом виски, а Саид-Велли энергично массировал конечности — человек не приходил в себя. — Несем их на станцию! — крикнул Лебедев. — Там разберем, кто на какой свет! Он пошутил случайно, помимо своей воли… Татарин взвалил мальчика себе на спину, совсем как мешок с картошкой, а наблюдатели вдвоем потащили мужчину в синей рубашке, обхватив его за голову и за ноги.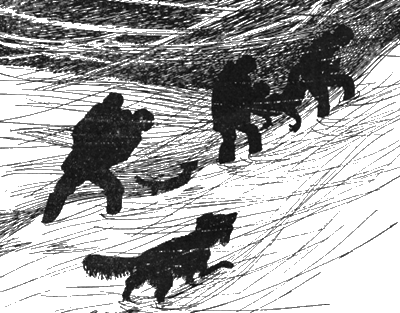
Татарин взвалил мальчика себе на спину, а наблюдатели вдвоем потащили мужчину, обхватив его за голову и за ноги… Обратно шли тоже не меньше двух часов…
Обратный путь был по ветру, но от этого он не сделался легче, скорей даже наоборот: ветер гнул верхнюю часть туловища вперед, ноги зарывались в снегу и двигаться приходилось почти лежа на животе. Обратно шли тоже не меньше двух часов. Руки у татарина теперь были заняты, и он не мог вести наблюдателей. Им пришлось положиться на собак, потому что смутная, расплывающаяся фигура Саида-Велли скоро исчезла в снежном буране. И так, идя и барахтаясь в снегу, наблюдатели наткнулись на еле высовывавшийся из-под снега забор. Они узнали его. Это был забор, окружавший холм, на котором была насажена опытная роща профессора. Забор говорил, что до обсерватории осталось совсем близко, что скоро можно будет спрятаться от ветра и метели в теплых комнатах и отдохнуть у горячей печки. Но Кондрашеву забор сказал больше. Перешагнув через него сначала машинально, профессор вдруг вспомнил, что ведь как раз сюда он и хотел итти сегодня, когда Лебедев его так упорно не пускал. Как раз здесь и было то, что давало смысл и оправдание всей его жизни на Яйле. И, стремясь скорей увидеть свою рощу, убедиться, что она стоит еще крепко, что ветер не может унести ее, что его вчерашняя догадка — только бред усталого рассудка, профессор быстрее зашагал вверх по холму. Снег сдувался отсюда ветром, и больших сугробов здесь почти не было. Но зато буря здесь чувствовалась сильней. Чем выше поднимался на холм профессор, тем нервней и торопливей становились его шаги, тем недоуменней осматривался он кругом. По его расчетам выводило, что он давно уже идет по тому месту, где стояли его деревья. Но в случившееся он поверил лишь тогда, когда был уже на верхушке холма и когда ясно увидел и почувствовал, что эта верхушка гола, обветрена бурей и вместо деревьев на ней причудливыми извивами лежат и медленно передвигаются безжалостные наносы снега. Профессор в отчаяньи бегал по холму, разрывал снег, искал и звал свою рощу, свое погибшее детище, а за ним по снегу оставались глубокие, тяжелые следы. Они шли по сугробам зигзагами, переплетались петлями, перекрещивались, шли вперед, потом возвращались, крутились по одному месту и, кроме следов и сугробов, там ничего не было. Тот сучок, который Лебедев нашел накануне на чердаке, не обманул его предположений. Все деревья ветер унес под обрыв… И когда профессор обегал весь холм, когда уже не могло быть сомнений в том, что от всей рощи не осталось ни одного деревца, ни одного кустика, — он без мыслей и без желаний опустился в снег. Лебедев нашел его, кричал ему сквозь шум метели что-то утешительное, но профессор продолжал сидеть, не двигаясь. Тогда Лебедев крикнул ему, что нельзя оставаться здесь, что нужно взять себя в руки и итти. Схватив профессора за плечи, наблюдатель тихонько встряхнул его. Кондрашев не попытался встать. Злость и отчаяние охватили Лебедева. Погибнуть здесь, в снегу, или бросить на гибель человека, которого они толь-ко-что с таким трудом спасли? Нет, он не хотел этого. Итти, итти, во что бы то ни стало итти, и как можно скорей. Стоя над профессором, Лебедев теребил его, толкал, понукал криками, тянул за руки, но профессор не двигался. Он сидел, словно неживой, и только как-то странно мотал головой из стороны в сторону. Окоченевший человек в синей рубашке лежал рядом и быстро заносился снегом… Когда Лебедев устал, когда он готов был сам лечь рядом с профессором в снег, Кондрашев молча встал, обхватил ноги замерзшего человека и пошел. В свисте ветра Лебедев не слыхал, как громко мычал профессор под своим платком. Мычал глупо, бессмысленно… Не то это были стоны, не то рыдания…
V. После пережитого.
Несмотря на все усилия наблюдателей, замерзшего человека в синей рубашке не удалось привести в чувство. Он был мертв уже тогда, когда они его нашли там, на плоскогорье, в сугробах. Мертвого, его нельзя было оставлять в комнатах, немыслимо было и похоронить в мерзлой земле. Саид-Велли нашел выход: он взвалил труп на спину, громко топая по лестнице, поднялся на чердак и через дыру, пробитую ветром в крыше, просунул мертвеца наружу, в снег. Там он должен был оставаться до весны. Саиду-Велли не удалось рассказать метеорологам, как и где он похоронил замерзшего: когда он вернулся с чердака, наблюдатели уже спали убитым сном. Сами борясь со смертью, через бурю, два часа они несли на своих руках мертвого человека, но этот человек был достоин такого подвига, потому что благодаря его смерти остался жить мальчик… В тот же день, пока наблюдатели спали, Саид-Велли набросил свою корзину на спину и ушел в Ялту. Как он спустился туда — это осталось загадкой.…………………..
Али, как звали мальчика, чувствовал себя хорошо. Он много ел, креп и болтал с Ибрагимом. Все свободное время Ибрагим просиживал на постели мальчика. Али не знал о смерти отца. Ему сказали, что отец выздоровел и ушел в Ялту, приказав сыну дождаться весны на обсерватории. И мальчик верил и был весел… Уход за мальчиком развлекал Кондрашева, но все же удар, постигший его, сильно отозвался на нем. Старый метеоролог осунулся, постарел, и на его висках появились первые седые волосы. Припадки прежней нервности не повторялись, но вечерами, когда все небольшое население обсерватории собиралось у печки или у постели Али, Кондрашев часто говорил: — Двадцать лет назад я был молод… Блестящие надежды наполняли меня… Я сам рвался куда-нибудь в глушь, чтобы работать там исследователем, чтобы все свои молодые силы отдать на служение науке. Двадцать лет назад я был выхвачен из жизни, и всеми забытый стал работать на этой обсерватории. И теперь мне кажется, что я всю жизнь работал над чем-то диким, никому ненужным. Кому интересно знать, какая погода на Яйле, когда здесь никто не живет, когда никто и не узнает, каково это жить под снегом, в метель искать на плоскогорье замерзающих людей и записывать показания метеорологических приборов? Такая жизнь, состоящая из безрезультатной борьбы с природой, не достойна современного мыслящею человека. Я пытался укрупнить свои задачи, пытался сделать большое и нужное дело — облесить плоскогорье, и вот… как это кончилось. Мне кажется, что я всю жизнь не выходил из метели, и никогда не выйду… — Вам нужно спуститься вниз, профессор, — отвечал Лебедев, — вы поработали достаточно. Республика обеспечит вам спокойный отдых: она не выбрасывает вон уставших, преданных науке работников. На ваше место та же республика даст десятки новых молодых ученых, которые будут продолжать ваше полезное дело. И даже больше: по-моему, ваш этот пессимизм — явление случайное, временное. Немного отдохнете, все пройдет, и не будете больше говорить, что метеорология — наука, никому не нужная. Это для земледельческой-то страны? Ха! Как только появится возможность, — вы спуститесь вниз, к морю, на вполне заслуженный отдых! — заключал Лебедев, откинувшись на стуле. Профессор только печально качал головой на слова помощника. На несколько часов поутих ветер. Кондрашев раскопал конец траншеи, выходивший на обрыв плоскогорья, около часа с подзорной трубой в руках ждал прорыва в облачном тумане, и когда такой прорыв появился перед траншеей и в нем мелькнули внизу тяжелая синь моря, зелень лесов и лугов, белые и красные крыши Ялты — Кондрашев вонзился в этот прорыв трубой. Полминуты перед объективом чешуйчатым блеском переливалось море, и полминуты плыл перед ним далекий пароход, похожий издали на дымящуюся, брошенную в воду головню. После этого случая, когда опять закружился снег над плоскогорьем, когда опять дикими трубными звуками заревела метель, профессор уже сам стал поговаривать, что ему и в самом деле не мешало бы уйти с Яйлы вниз… И как раз в это время неожиданно случилось то, что сделало спуск одного из метеорологов не только желательным, но и необходимым. Али уже начинал понемногу ходить по комнатам, боли в отмороженных ногах беспокоили все меньше и меньше, окончательное выздоровление казалось не за горами, как вдруг на левой ноге мальчика, под коленкой появилось маленькое пятнышко. Сначала метеорологи не обращали на него внимания, но когда пятнышко стало увеличиваться и болеть, они внимательно осмотрели его и, почитав разные медицинские справочники, к ужасу своему нашли, что это начало гангрены на почве отмораживания. Перехватить распространение ее надо было сейчас же, иначе она могла погубить всю ногу. Но средств, имевшихся на обсерватории, было недостаточно для этой цели. Необходимо было как можно скорей спустить мальчика вниз, в больницу.VI. Спуск и возвращение.
В тот же день придумали план спуска и, не теряя времени, приступили к его выполнению. В сарае отыскали большой, крепкий ящик, наложили в него одеял и подушек, а к ящику привязали самую длинную и самую крепкую веревку, какая нашлась на обсерватории. Решено было положить в этот ящик Али, получше укутать его и через дыру в конце траншеи спустить по обледенелому склону вниз, насколько позволит веревка. По той же веревке должен спуститься вслед за ящиком профессор, взять Али на руки и отнести его в Ялту. Наблюдатели были уверены, что веревка хватит до конца области снегов, шапкой покрывших вершины гор. Последний день перед спуском профессор сильно нервничал. Он знал, что навсегда покидает обсерваторию, с которой, несмотря на пережитые здесь разочарования, так сжился, и, хмуро шагая из комнаты в комнату, он прощался с инструментами, с толстым журналом наблюдений, с коллекциями— со всем тем, над чем он работал долгие годы. И когда все было готово и Лебедев с Ибрагимом уже спустили через отверстие в траншее ящик с Али, профессор долго и крепко жал руки остававшимся товарищам. Лебедеву показалось, что на ресницах Кондрашева блестели слезы. — Весной, когда можно будет подниматься на горы, я приду навестить вас и приведу вам помощника, потому что мое место займете, конечно, вы. А теперь, прощайте, — говорил профессор Лебедеву взволнованным голосом. Потом он в последний раз окинул взглядом темные траншеи под снегом, обхватил руками и ногами веревку и спустился по ней вслед за ящиком. Все это делалось на сильном ветру, в неперестававшую метель. Лебедев и Ибрагим, державшие конец веревки, почувствовали, как исчезла тяжесть, тянувшая ее вниз. Это значило, что профессор перерезал веревку. Но увидеть, как кончился его спуск, они не могли. Чтобы узнать это, нужно было ждать весны… С уходом Кондрашева и Али на обсерватории стало тоскливо. Лебедев теперь один должен был изучать те причудливые кривые линии, которые царапали на графленых бумажных лентах острые жала барографов и ветромеров. Но скука и вой метели — все это должно было оставаться на обсерватории до весны и ко всему этому необходимо было привыкнуть. Необходимо было привыкнуть и к трупу на крыше… Кондрашев спустился благополучно. Когда он перерезал веревку, то был уже вне метели; на несколько шагов ниже кончался снег, и еще через несколько шагов он смог взять мальчика на руки и итти с ним по твердой земле. Метель, снег, мороз — остались наверху. Здесь было тихо, заметно теплей, и для человека, привыкшего к горным туманам, как-то необычайно ясно. С мальчиком на руках, Кондрашев прошел километра два по шоссе и, сокращая путь, свернул на проложенную в густом лесу и круто спускавшуюся тропинку. Сначала земля была сырая, между деревьями бежали ручейки от таявшего снега, но чем ниже, тем становилось суше. Профессору сделалось жарко, и он постепенно сбрасывал с себя одну за другой части теплой зимней одежды. Впереди, между деревьями мелькало море. Отсюда, сверху, казалось, что оно не лежит, а стоит высокой стеной, сделанной из невиданного синего хрусталя. И жемчужно-белая полоска прибоя легла там, где море сходилось с берегом. Это море, которого столько времени профессор не видал так близко, разбудило в нем много красивых и грустных в своей отдаленности воспоминаний. С бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием, Кондрашев все скорей и скорей спешил вниз, спотыкаясь о корни деревьев, скользя на камнях, и на его руках спокойно спал Али. Только теперь Кондрашев как следует почувствовал, как он устал за двадцать лет жизни на Яйле, и, спускаясь, к морю, думал, что он имеет право отдохнуть. Километров за пять до города, Кондрашев догнал татарина, ехавшего на линейке. Татарин согласился посадить к себе мальчика… Каменные бассейны с чуть капавшей в них из фонтанов водой, ребятишки, понукавшие нагруженного осла, груды арбузов и дынь, сложенные под навесами крохотных лавчонок, — все это радовало и трогало Кондрашева. Ему казалось, что он умирал и теперь вдруг снова вернулся к жизни. В больнице пришлось долго и много рассказывать о том, как был найден мальчик. Устроив Али, Кондрашев, почти не отдыхая, сейчас же пошел на набережную. Море было неспокойно. В наступавшем вечере гас его зеленоватый блеск, но пенистые гребешки волн вспыхивали белыми искрами, бежали к парапету набережной, стукались об него и рассыпались на тысячи брызг. В гавани, на молу светил маяк. Он все время менял цвета: три секунды горел красный фонарь, три секунды — зеленый и, казалось, кто-то веселый, одноглазый подмигивает кому-то спрятанному за вечерней мглой. Профессор вышел на пляж. Погода для купанья была слишком холодна, и на пляже никого не было. Волны вставали перед отмелью причудливыми завитками, падали с громким хлопанием и потом, растекаясь между камнями, далеко вползали на берег. Профессор, как ребенок, радовался этим холодным волнам, швырял в них камушки, кричал им что-то приветственное, подставлял себя под их брызги. Позднее он ужинал в ресторане на набережной, на улице ярко горели фонари и везде было так много оживленного, суетившегося народа. Облизывая снопами света мостовую, тротуары, людей, а иногда и море, по улице проносились автомобили, оставляя за собой легкий, приятный запах бензина. В гавани зеленым глазом скользила моторная лодка, и слышно было мерное постукивание ее машины. Профессор смотрел кругом и не знал, что сон и что явь: этот ли полный света и жизни город, или оставленная наверху обсерватория, занесенная снегом. Так далеки были друг от друга эти две жизни. На следующее утро Кондрашев рано вышел из гостиницы и весь день бродил по городу и в его окрестностях. Погода стояла не солнечная, но тихая и теплая. Профессор останавливался перед каждым кипарисом, перед каждым деревом, непохожим на сосну или бук, перед каждой лавкой с фруктами, перед каждым магазином, подолгу смотрел, и, набираясь все новых и новых впечатлений, шел дальше. Вечером он встречал большой пассажирский пароход, пришедший из Севастополя. Пароход этот назывался «Ленин», и путь его лежал в порты кавказского побережья. Так прошло три дня. На третий день, вечером, профессор не пошел в ресторан на набережную. Он сам не знал, почему у него вдруг пропало всякое желание двигаться. Он приписал это усталости, но в тот же вечер поймал себя в коридоре у окна, выходившего на север. Через это окно из гостиницы был виден тяжелый, покрытый снегом и сумраком хребет Яйлы. Еще два дня не выходил профессор из своей комнаты и не понимал, что такое с ним происходит. И все чаще и чаще от окон, через которые блестело синевой море, он шел к окну, в котором виднелась Яйла. На шестой день пребывания в Ялте Кондрашев вышел из гостиницы и медленно, с опущенной головой, пошел из города в горы. Сам не зная зачем, он отыскал ту самую тропинку, по которой пришел сюда, и стал подниматься по ней. Сначала он шел медленно, нерешительно, но чем круче поднималась тропинка, чем дальше уходило назад море, тем быстрей и быстрей шагал он. Он не знал, куда он идет и зачем. Он знал, что ему нужно оставаться в Ялте, у моря, в безветрии и хорошенько отдохнуть. Но все быстрей поднимался он и все тверже становились его шаги. Низко пригнувшись, он у ног махал широкими ладонями рук, как будто под ноги себе сгребал воздух. И чем выше поднимался он, тем становилось холодней. Из царства тепла, зелени, спокойной жизни у моря, Кондрашев шел к царству метелей, ледяных бурь и дикой, несуразной жизни. Над его головой уже повисли холодные сырые облака, и они опускались все ниже и ниже. На повороте тропинки Кондрашев нашел теплые перчатки — это были его перчатки, он бросил их здесь, спускаясь с Яйлы с больным мальчиком на руках. И дальше, через каждые сто шагов, профессор находил одну за другой все вещи из своей теплой одежды: шерстяные платки, меховую шапку, рукавицы, ватную куртку, наушники. Все это было как-то глупо, в каком-то обалдении брошено здесь профессором, и все осталось лежать на своих местах, потому что здесь мало кто ходит. Все так же не понимая, что он делает и зачем, Кондрашев все эти вещи постепенно надевал на себя и, когда он стоял у нижнего края снежной шапки, покрывавшей горы, он опять был в своем горном зимнем костюме. Вверх шел крутой, обледенелый склон, почти совершенно ровный. По нему спустился профессор на веревке с Али. Над краем плоскогорья метались вихри снежной пыли. Они говорили, что на Яйле еще не кончилась метель, что там все так же гудит ветер и так же тоскливо в комнатах обсерватории. Внизу, за спиной профессора, синело море. Синело тепло, маняще, и спокойными, мягкими волнами спускалась к морю зелень. Кондрашев стоял около самого снега и смотрел на берег, на море, на крыши Ялты. В гавань медленно входил пароход. На фоне темного моря на его корме ярко рдел под солнцем красный флаг. Сверху спустилось облако, кувыркнулось и закрыло все то, на что он смотрел. Тогда он резким движением повернулся к снегу, к метели и, громко замычав под шерстяным платком и стиснув зубы, цепляясь ногтями, коленями локтями, полез вверх по ледяному скату. Чем выше он лез, тем сильней становилась метель, тем сильней толкала она его вниз, в тепло, к твердой земле, к теплой зелени, но, до крови расцарапывая себе пальцы и разрывая о лед одежду, с ожесточением лез профессор все выше и выше……………………..
Над Яйлой надрывно гудит резкий, холодный ветер. В диком свисте крутится и хлещет снег, наметает сугробы, лохматой шапкой виснет на утесах Ай-Петри. На засыпанной снегом метеорологической обсерватории текут дни. Такие, какие они всегда бывают в метель на горах. Только у профессора Кондрашева теперь забинтованы обе руки от пальцев до локтей: когда профессор вернулся снизу, на его руках рваными кусками висела кожа… Сидя у печки, профессор медленно и спокойно рассказывает Лебедеву, как и где он будет сажать весной новую рощу… …До таяния снегов еще много долгих недель…

ТАЙНА КЕВОВОГО ДЕРЕВА
Краеведческий рассказ Аркадия Кончевского
I. Загадочная находка.
Разморенный весенней истомой, я лево вытянулся возле своего этюдника[11]) с неоконченным наброском. Сквозь розовый ажур цветущих миндалей дразнило небо неуловимой воздушной дымкой. У самого уха озабоченно жужжала пчела, выбирающая последний нектар из душистого подснежника-галантуса, широко раскрывшего свой изящный белый колокольчик. Внизу едва слышно рокотал прибой. Легкий ветерок, набегавший по временам с моря, нес с собой ароматную волну цветущего миндаля. Мой приятель, татарин Мамут, ворчал в стороне: «А, шайтан игмежа!» Он уселся в место, поросшее игмежей[12]), ругаясь и почесывая свои волосатые ноги. Нурасов, второй мой спутник, прислонившись к большому камню, увитому плющем, попыхивал папироской и мечтательно смотрел вдаль. Закрыв глаза, я бездумно отдавался сладостному покою. В мозгу ярко проносились тали, только что виденные с вершины горы Кастель, с которой мы спускались. Уходящий зигзагообразный берег замыкался фиолетовым Аю-Дагом. Направо, над старинной деревней Биюк-Ламбат, высилась красавица скала Парагельиен, вся в нежной, синевато-голубой дымке. Воображение рисовало сложную сетку избродивших по Таврии народов: кимерийцы, тавры, скифы, сарматы, печенеги, хозары, готы, греки, генуэзцы. Какое сложное месиво расовых и национальных сплавов! Полуголые первобытные люди, одетые в шкуры диких зверей, перемешались с толпами людей в причудливых костюмах самых разнообразных цветов и покроя. Чудился какой-то сложный орнамент из древнего оружия: топоров, секир,копий… Воображаемый круг замыкался всадниками в поласатых кафтанах, скакавшими, прильнув к луке седла. За плечами у них колчаны со стрелами и луки в руке. Это — татары, нахлынувшие в Крым около 1224 года. Образы расплылись, сменились чем-то легким, ароматным, падавшим на меня целым роем. Отмахиваясь от него, я больно ударился рукой об этюдник, и… проснулся. На меня сыпались массами розовые лепестки миндаля, принесенные предутренним порывом ветра. Слиняла бирюза неба. В просвете деревьев было видно море — сердитое, хмурое. Серые валы заснежились вдоль гребней. Испуганно трепетали в воздухе листья прошлогоднего репейника. Молодая прозелень дрожала, нетерпеливо и затаенно ожидая дождя. Новый порыв ветра подхватил листья репейника вместе с моим походным зонтом и понес их к обрыву… Вслед за ним бросился Мамут, крича на ходу: «гайда, чапик евде, гайда[13]). Зонт зацепился за ветку, Мамут, спотыкнувшись о пень, всем телом рухнул на зонт, и я с грустью услышал треск ломающихся спиц. Мамут виновато бросил к моим ногам изуродованный зонт, крикнул: «я пошла!», и быстро стал сбегать по тропинке вниз. Первые крупные капли дождя уже коснулись щек… — Берите ящик и бегите за мной! — заволновался Нурасов. Я бросился за ним. Мы подбежали к дереву причудливой формы с серовато-фиолетовой чешуйчатой корой. Сквозь редкую листву пробивался все усиливавшийся дождь. Зонт мой не раскрывался, несмотря на мои и Нурасова старания. К нам донесся призывный крик Мамута: «кем да, кем да!»[14]) — затем свист. Очевидно, татарин нашел надежное убежище и звал нас. Холодные струйки воды побежали по спине. Торчавший веером из-под фуражки Нурасова носовой платок стал прилипать к его обросшему лицу; — Нет, мы здесь долго не выдержим, — заявил я, — а к Мамуту далеко. Давайте укроемся под тот наклонный камень, у пня! Мы перебежали уже под сплошным потоком дождя. Прикрытие, выбранное нами, было удачным: часть плоской скалы, задержавшейся огромным пнем, свободно поместила под собой нас обоих. Закурили. — Вы знаете, под каким деревом мы пробовали с вами сейчас укрыться? — спросил Нурасов. — Это кевовое дерево. Их было здесь много, целая роща. Смола кевовых деревьев до сих пор в ходу в Персии, ее жуют вместо мастики. Есть экземпляры у Кастель не хуже, чем в Никитском саду, где одному кевовому дереву немецкий ботаник Энглер определил возраст около тысячи лет. Этот пень, — продолжал Нурасов, — у которого мы примостились — тоже кевовый пень. Острым концом горной палки я стал постукивать у основания пня. У одного края посыпались камешки и обнаружилось дупло. — Бросьте ковырять, — сказал Нурасов, — а то выползет какой-нибудь желтобрюх[15]), здесь их не мало: один меня и так сегодня здорово испугал. Знаешь, что не ядовит, а боязно… Я постучал вокруг дупла — ничего не выползло. От нечего делать я стал исследовать дупло. Дождь сыпал во всю с особым шумом, характерным для крымского леса с очень сухой листвой. Подполз я к дуплу, палкой расширил довольно большое отверстие. Забирая острием палки вглубь, я выковырял большой ком земли. Он был тяжелый и очень мшистый. Мелкие камешки в глине точно сцементировались. Стал его рассматривать, и в месте удара наконечника палки заметил прозелень какого-то металла. Показал Нурасову. — Да, — сказал он, — в глубине что-то блестит интересное.
Забираясь острием палки вглубь дупла, я выковырял большой ком земли. Он был тяжелый и очень мшистый. Мелкие камешки в глине точно сцементировались…
Нурасов быстро достал из-за пояса чабанский нож, в виде небольшого одностороннего кинжала с украшением на ручке из металлических полосок. С этим ножом он никогда не расставался. Мы начали отковыривать глину от кома маленькими кусочками. Но окаменевшая масса не подавалась. — Затупим нож, и все-таки ничего не сделаем, — выразил свое мнение Нурасов. — Надо весь ком положить на несколько часов в воду. Глина растворится и разлезется — таково уже свойство наших почв. Я положил ком в ближайшую ямку, полную воды. — Уговор заранее: если клад нашли, то делить поровну, — посмеивался Нурасов в свои жесткие усы. Горя нетерпением узнать, что может быть в середине этого кома, я через несколько минут вытащил его из воды. Но она еще не успела пропитать кома, и попрежнему он был очень тверд. Дождь переставал. Заголубело небо, и лишь одна тучка над нами посылала на землю мелкую водяную сетку. Засияло вновь яркое солнце. — Давайте спускаться, — посоветовал Нурасов. — Надо спешить, пока земля не разомлела, а то на обувь столько налипнет, что и ноги не передвинешь. «Гей, гей!» — раздался вблизи голос Мамута. Он поднимался к нам. — Зачем не пошла за мной, видишь совсем сухой вышла, — смеялся Мамут, садясь на корточки и скручивая папиросу. Стали спускаться. Художественный ящик, полотно с подрамником, болтавшаяся у бока фляжка с водой сильно стесняли мои движения. Остатки зонта Мамут сунул себе под мышку. Нурасов нес заинтересовавший нас ком, положив его в сумку, опорожненную от провизии. — Зачем земля брал? — обратился Мамут ко мне. — Это не земля, а клад, — сказал я серьезно. — Калад, вай, вай, зачем я не был! — смеясь, подшучивал татарин. Тропинка раздвоилась. — Айда сюды — это мой дорожка! — приглашал Мамут налево. — А по-моему, надо взять вправо, — советовал Нурасов. — Иди Осман вправо, а я тут пошел. Я Кастель знаю, — обиженно пробурчал Мамут и продолжал деловито, — мой бабай Кастель камень бил. Решили повернуть за Мамутом. Тропа, сперва удобная, сразу круто пошла вниз. Мамут первый проехал на своем сиденье добрых пять метров. Ругаясь, весь измазанный в глине, он вызвал наш хохот, во время которого и я проехал по вязкой глине, но уже большее расстояние, чем Мамут. Нурасов стал обходить стороной крутое, скользкое место. Тропа сделалась мало заметной и вскоре совсем потерялась. — Мамут, где же тропа? — спросил я. — Тропа? Шайтан ему знает, — сердито пробормотал Мамут. Нурасов разразился по-татарски короткой, но выразительной речью, кивнув в сторону Мамута, шедшего рядом со мной. — Что это тебе Осман говорил? — спросил я Мамута. — Говорил — хорошо, что дождик перестал… — Врешь ты, шайтанова перечница, — вставил Нурасов, — я сказал, что тебе ослов пасти, а не проводником быть. Полезли обратно вверх, свернув в сторону моря. Мамут, подталкивая нас, указывал несколько в сторону, на хаос камней. Каменная куница, стройная, гибкая, зорко вглядывалась в какую-то добычу и потому не заметила, как мы подошли. Мгновенье — животное почуяло нас и, мелькнув белой грудкой, с поразительной ловкостью и быстротой исчезло в скалах. — Ага! Это я видала, — гордо заявил Мамут. Вышли на удобную тропку и быстро спустились на узкий шиферный кряж у моря. — Мотри, мотри, какой черный барашка в море! — воскликнул Мамут. Большая группа дельфинов, недалеко от берега, кувыркалась в побирюзовевшем, спокойном море. Точно играя, догоняя друг друга, животные иногда ловко подпрыгивали над водой. — Дельфины на охоте, — проговорил Нурасов. — Обратите внимание, что они расположились полукругом и таким образом гонят камсу к берегу. Она идет сплошной массой, и между дельфинами море точно в зыби. Действительно, море бурлило в пространстве, охваченном дельфинами. Ярко блестели на солнце полоски выпрыгивавшей над водой рыбешки. Почуя берег, камса бросилась в море. Дельфины сблизились, сжали круг, и море закипело еще больше. Дельфины ринулись стремительно в гущу камсы и, извиваясь, как змеи, пожирали рыбу. В одном месте камса прорвалась, оставляя за собой на морской глади яркий серебряный след. Дельфины бросились за ней, пробовали остановить, опережая и выстраиваясь дугой, но камса уходила вглубь моря… Мы долго молча наблюдали это занимательное зрелище. — Большой свинья поел маленький камса, — глубокомысленно изрек Мамут. Двинулись дальше. Наступали короткие крымские сумерки. Судакские горы подернулись синью. В прозрачном воздухе высился над морем мыс Меганом. — Ваш ком порядкам намял мне спину, — пробормотал Нурасов. — Вероятно лишь наше воображение вложило в него нечто достойное внимания. Давайте разобьем ком камнем, чтобы без лишних хлопот убедиться в моей правоте. Я воспротивился и, передав этюдник Нурасову, сам понес находку. Ночь охватила нас теменью, и глаза с трудом различали тропу среди кустарников, хотя в чистом небе сверкали звезды, а над Чатырдагом ярко пылала какая-то планета. Подойдя к дому, в котором я ж мы попрощались, условившись с Нургсовым встретиться на следующий день.
II. Голова фавна.
Ком земли с Кастеля, натерший и мне порядком плечи, я положил на ночь в ведро с водой. Утром уже большие куски глины с густо вкрапленными в нее камешками, легко отделялись, и то, что оказалось почти в центре кома, превзошло все наши ожидания. В моих руках была небольшая, позеленевшая от времени бронзовая голова фавна[16]) прекрасной работы. Зверино-весело ширились в улыбку крупные чувственные губы бога лесов. Трепетали его тонкие ноздри. Лукавый, настороженный взгляд точно впивался в смотревшего на него. Пьедесталом для головы служил венок из игмежа, охватывавший шею фавна. Над косматой головой выступали маленькие рожки. Я был сильно взволнован своей находкой… В уютном ресторанчике на берегу моря Нурасов уничтожал шашлык, густо посыпанный зеленью. — А, это вы, Аркадий! — радостно встретил он меня. — Конечно, ваш клад раскис в воде весь без остатка? — Нет, кое-что осталось, — загадочно ответил я. — Пойдемте ко мне — посмотрите… Когда Нурасов увидал голову фавна, добродушно-безразличное выражение его лица сразу изменилось. Заблестели глаза жадными и пытливыми огоньками. — Очень интересно… — пробормотал он, рассматривая со всех сторон находку. — Не встречал таких, но слышал, что подобные головы были всегда утилитарного характера. Может быть, это ваза с крышкой, — продолжал он, — а шея с венком — подставка? Достав из кармана лупу, которая летом служила ему зажигалкой, Нурасов начал внимательно исследовать рога, уши и глаза фавна. — Непременно должен быть нарез, — бормотал он. На столе у меня красовался большой коричневый жук-усач — редкий для Крыма экземпляр. Небрежно Нурасов вытащил булавку, которой был проткнут жук, отломав часть головы жука, и, вопреки своей обычной деликатности, даже не извинившись за свою неловкость, стал скоблить острием булавки прозелень. — Смотрите: вот следы нарезов! — торжествующе воскликнул он, водя булавкой по верхней части волосатой головы статуэтки. — Я сейчас приду, — бросил Нурасов уже на ходу. Вскоре он шумно ворвался ко мне, тяжело дыша от довольно крутого подъема к моему дому. В руках у него было два пузырька и кусок ваты. — Теперь уж откроем! — сказал Нурасов и начал с ожесточением тереть ватой отдельные части головы, а затем сосредоточил все внимание на глазах. Намотав вату на спичку, он вводил ее под веки, скоблил, давил и тряс. Внезапно раздался сухой треск, и верхняя часть косматой головы откинулась. Я припал к плечу Нурасова, заглядывая внутрь головы. На нас пахнуло густым благовонием. Затаив дыхание, Нурасов извлек плотно пригнанную теракотовую греческую гарибиллу[17]). Греки употребляют их для ароматических масел. Узкое горлышко было залеплено смолистым веществом черного цвета. Позже выяснилось, что это была мастика из сока кевового дерева, от времени обратившаяся в твердую массу. Нагрев лезвие перочинного ножа, Нурасов постепенно выковырял мастику. Внутри гарибиллы оказался свернутый в трубочку кусок пожелтевшего пергамента… С большой осторожностью мы извлекли этот пергамент. На одной стороне его находился какой-то план, а под ним, на обратной стороне— пространный греческий текст. Наши школьные познания в греческом языке были слабы, и мы разбирали лишь отдельные буквы. — Придется отложить расшифровку до Москвы, — с досадой вырвалось у меня. — У Кафара в кофейной я мельком видел караимского[18]) ученого Тиро. Он безусловно должен знать древне-греческий язык… Вечером того же дня Нурасов вошел ко мне в комнату с почтенным стариком, белым как лунь, с ясным, приветливым лицом. С любопытством рассматривал он голову фавна и гарибиллу, затем достал из кармана широких брюк потертый футляр от очков. Долго приспособлял очки на горбатом носу, примотав с одной стороны за ухо шнурочком, вместо отломанной металлической дужки. Приложив ладонь к глазам, караим молча, напрягая складки большого лба, углубился в текст пергамента. Вздохнув, начал медленно переводить слово за словом. «Васса! Голубица моя трепетная, — начал записывать я перевод. — С минуты на минуту мы должны сдать крепость. Генуэзцы открыли водопровод. Бороться нет сил. Меня позвала к себе светлейшая Феодора [19]). На столе перед ней стоял ларец, полный драгоценностей, и голова фавна, в которую я вкладываю этот пергамент. Оставив себе лишь большой черный крест из камня, она мне сказала: «Константин, выйди из крепости подземным ходом и зарой ларец, где найдешь лучшим. Я не хочу, чтобы он достался врагам». Затем прибавила: «Не возвращайся, Константин, ты должен жить». Я взял ларец, чтобы выполнить поручение. «Васса! Горлица моя! Сердце мое принадлежит тебе безраздельно, но ты знаешь, что жизнью своей я обязан Феодоре. Она спасла меня и, благодаря ей, я был так счастлив твоею любовью. Я был бы последним из людей, если бы оставил ее в минуты смертельной опасности. Я вверяю тебе тайну клада. Ведь Васса моя придет к нашему дереву, где мы были безмерно счастливы? Если я не вернусь, то поступи согласно распоряжению светлейшей Феодоры. Запомни хорошенько: при входе в кевовую рощу третье дерево от края, где на плане крест; там большой камень; под ним я зарыл клад. Прощай, моя Васса, моя радость и жизнь, прощай! Константин».
…Третье дерево от края… там большой камень, под ним я зарыл клад. Прощай, моя Васса, моя радость и жизнь… Константин — медленно, слово за словом, перевел ученый Тиро…
Несколько минут мы молчали. — Найдете ларец, не забудьте старика, — улыбаясь, промолвил Тиро, снимая очки с носа. — Обещаем, — сказал я, — но пока не рассказывайте о нашей находке. — Старики не болтливы, как женщины, — и, попрощавшись, караим ушел. — Ну что, Осман, попробуем поискать? — спросил я. — Да, но поиски надо провести строго планомерно, — ответил Нурасов, любовно со всех сторон разглядывая голову фавна. — За много сотен лет время стерло если не все, то очень много. Медленно скрутив папиросу, Нурасов продолжал: — Прошлое Кастеля покрыто большою тайной. Есть кое-какие записи в караимских меджелэ, затем в библиотеке Айвазовского в Феодосии я нашел рукописный перевод из книги неизвестного автора, под заглавием: «Генуэзцы в Крыму». Очень занимательно то, что указанное в этом пергаменте совпадает с имеющимися у меня сведениями:.. «На Кастеле был дворец греческой царицы Феодоры, вокруг него храмы с золотыми куполами, видными издалека с моря. Крепость была окружена высокой стеной. Из нее к морю вел подземный ход, он оканчивался у берега, где находился источник прекрасной пресной воды. Этим ходом спускалась Феодора для купанья. Преданье говорит, что как-то на охоте царица Феодора подобрала и привезла на своем коне раненого одним из участников охоты мальчика-татарина. Шальная стрела, пущенная в оленя, попала в пастушка. Феодора на Кастеле ухаживала за мальчиком, выходила его, воспитала. Неоднократно затем предлагала ему уйти к своим, но привязавшийся к ней татарин, выросши, остался при Феодоре в качестве телохранителя, сопровождал ее в Сугдею[20]), где было постоянное местопребывание и резиденция греческой царицы. Но Сугдею обложили генуэзцы. Благодаря измене, враги ворвались в крепость. С опасностью для жизни, Феодора спустилась из крепостной башни Кыз-Куле к морю и пробралась на Кастель. «Тотчас же ею были приняты меры к укреплению крепости, которая считалась неприступною, — она снабжалась прекрасной водой, в изобилии текущей по скрытому водопроводу. «Обшарили Кастель генуэзцы, но убедились, что силой взять ее нельзя, и стали выжидать. Тайной оставалось, где проведен водопровод в крепость. Как-то проезжал генуэзский воин. Лошадь его долго не пила; она остановилась и стала бить копытом о землю. Сошел с коня воин, приложил ухо к земле и услыхал шум бегущей воды. Сообщил своему начальнику. Оказалось, что в том месте и проложен был водопровод. Генуэзцы отрезали водопровод, и крепость должна была сдаться. Последняя схватка также зафиксирована в легенде: бой был ужасным, кровь потоками бежала по скалам около Демирхапу. Следы крови видны и до сих пор, так как кровь пропитала собой скалы. «Смертельно раненую царицу Феодору воспитанный ею татарин на руках вынес потайным ходом к морю. У источника умерла Феодора. Около нее, истекая кровью от ран, умер и Константин, как звали воспитанника Феодоры. «Точно слезы, мелкими струйками и каплями сочится вода в источнике, который доныне носит название «фонтана Феодоры». С напряженным вниманием я слушал Нурасова, воображением уносясь в глубь веков…
III. В поисках клада.
На следующий день, лишь только показалась на горизонте моря полоска расплавленного золота, мы двинулись в путь. Захватили с собой двухсторонний татарский топор, веревки, запас провизии на день и фонарь. По дороге все время обсуждали, почему Васса не пришла к кевовому дереву. Строились различные предположения: может быть, она попала в руки торжествующих победителей, и, в качестве рабыни, очутилась на рынке живого товара в Каффе[21])… Начали мы поиски от кевового пня, под которым была найдена голова фавна. Пытались установить границы древней кевовой рощи. Потерпев неудачу с этой стороны, мы решили попытаться найти подземный ход, которым Константин вынес ларек из крепости, предполагая, что место, где были зарыты драгоценности, находилось неподалеку от него. Чурасов припоминал, что около так называемого кратера на вершине Кастеля есть провал с большим отверстием, но войти в него никто до сих пор не решался. Поднялись на вершину Кастеля. Провал был скоро нами обнаружен. Стали производить обследование вокруг него для определения направления подземных ходов. При этих розысках Нурасов применил такой способ: он ложился на землю, подстилал под голову платок и прислушивался, а Мамут постукивал тупым концом палки и иногда сам припадал к земле. Пустоты слышались в различных направлениях от места провала. В нескольких метрах от одной из пустот Мамут неожиданно нашел отверстие, густо заросшее кустами можжевельника и игмежей. Занялись ими: повыбросали немало завалившихся камней, поотрубали корни. Вход вглубь точно обозначился, и по размерам он был вполне достаточен, чтобы в него вползти. Решили так: Нурасов, как более сильный из нас, остается у входа и держит конец веревки, которой мы с Мамутом обвязались. Мамут вызвался лезть первым, а я за ним. Не без замирания сердца вползли. Сразу попали под сильно осевший свод. Нас охватила пронизывающая, затхлая сырость. Подземелье расширялось, и стало настолько просторным, что можно было итти, не сгибаясь. Стены и потолок его были выложены огромными каменными плитами, по которым зловеще скользил свет от нашего фонаря. Плиты пола уступами уходили вниз. От времени и тяжести слоя земли над потолком подземелья, плиты потолка осели, края их разошлись во многих местах, расщелины заросли корнями деревьев. Они казались огромными червями и змеями, свисавшими с потолка. Нервы наши были натянуты. Мы вздрагивали и отпрыгивали в сторону от струйки ссыпавшейся земли и от каждого упавшего сверху камешка. Ноги скользили по сырым плитам. Было что-то жуткое, подстерегающее в нависших над ними сводах, так похожих на надгробные плиты. Мамут попятился назад. Ему показалось, что какое-то большое животное поползло впереди. Стали прислушиваться… Гробовая тишина нарушалась лишь нашим тяжелым дыханием. Через несколько метров мы были задержаны сильно осевшим сводом, сузившим проход. Над головой забилась летучая мышь. Минуту постояли, пригнувшись. — Аркадий, можно чикать? — топотом спросил Мамут и, не успев дождаться моего ответа, так как я сразу не сообразил, что он хочет сказать, разразился громким чиханием, присев к полу и виновато заслоняя ладонью рот и нос. Еще при начале нашего путешествия в подземелье я предупредил Мамута, что надо итти тихо, чтобы тяжелым шагом не способствовать осыпи потолка, — он же испугался своего чиханья, думая, что от этого может обрушиться потолок. Хотя обстановка, в которой мы находились, мало давала повода для смеха и улыбки, но я от них не удержался, глядя на комичную чихающую фигуру Мамута. — Ну, что же, полезем дальше? — спросил я его. — Айда, один раз помирал будим, — ответил он, и ползком стал пробираться вперед, — я за ним. Тотчас за осевшими в потолке подземелья плитами мы снова оказались в широком каменном коридоре. Через несколько метров мы опять наткнулись на завал. Вдруг Мамут неистово закричал и шарахнулся в сторону. Я услышал падение его тела. Фонарь выпал у него из рук, покатился в мою сторону, слабо мерцая. Только что я сделал движение, чтобы поднять его, как почувствовал, что у моих ног ползет что-то огромное, и, всмотревшись, увидел огромную змею-полоза[22]) метра два длиною. Мотая головой, точно ища жертвы, страшное пресмыкающееся бросилось по направлению пройденного нами пути. Я оцепенел от ужаса. Минуты казались вечностью. Фонарь погас. Призвав на помощь силу воли, я дрожащими руками стал шарить в кармане, ища коробку со спичками. Позвал Мамута. Ответом было молчание. Найдя ощупью фонарь, зажег свечу. От внутреннего холода зуб на зуб не попадал. Мамут лежал без сознания, струйка крови сбегала у правого его виска. Быстро я оторвал кусок от своей рубахи, смочил ее водой из походной фляжки и обвязал голову Мамута. С трудом перевернул его на спину. Он несколько раз тяжело вздохнул, но в сознание не приходил. Я подал условный знак Нурасову, сильно задергав веревкой. Тот понял и стал подтягивать. Канат напружинился. Медленно отступая назад и волоча за собой Мамута, я одной рукой приподымал его голову. В другой руке у меня был фонарь. Я зорко вглядывался в каждую выемку на пути, дрожа от мысли, что вновь встречусь с полозом. Когда забрезжил свет входного отверстия подземелья, меня охватило непередаваемое чувство радости. Я понял, что все время находился в каком-то оцепенении, и лишь теперь стал отдавать себе отчет в происшедшем. Закричал Нурасову, чтобы тот перестал нас тянуть. Снова спрыснул водой лицо Мамута, выражавшее застывший ужас. Вдруг, тяжело и глубоко вздохнув, татарин стал неистово кричать и махать руками, точно отбиваясь от невидимого страшного врага. Стоило большого труда его успокоить. Глаза Мамута блуждали… Вдруг он заметил дневной свет, пробивавшийся длинной полоской от входа в подземелье, и ринулся к нему порывисто и сильно. Мы оба были привязаны одной и той же веревкой, и татарин сбил меня с ног. Мои уговоры не производили никакого действия. Чувствуя сопротивление своим движениям и не отдавая себе отчета, что его держат, Мамут рвался со звериной силой. Пришлось выхватить из-за пояса нож и перерезать веревку. Опрометью Мамут помчался к выходу и грузно упал впереди. Я побежал вслед за ним. Около Мамута уже возился Нурасов. Я продолжал со страхом оглядываться. — Змея уползла, — сказал Нурасов, — не бойтесь. Рубаха Мамута у плеча была в крови; он, падая, видно, сильно ударился о выступ острого камня. Вытащили мы его из подземелья. На свежем воздухе Мамут стал дышать глубже. Я в изнеможении растянулся на траве. Путешествие в подземелье казалось кошмарным сном. — Вот когда бы я водки выпил, — подрагивая точно от холода, проговорил Нурасов. — Если я здесь перепугался, когда увидал выползающего полоза, то представляю себе, что вы перечувствовали, встретясь с противным чудовищем там, — пробурчал Нурасов, указывая в сторону подземелья. — Я не раз слыхал о громадных змеях южного берега, — продолжал он, — и очень хотел хоть раз увидеть их. Вот и довелось, но больше не хочу, Аллах свидетель!.. По движению веревки почувствовал что-то неладное, а когда выглянула голова полоза из этой ямы, я хотел убежать, но канат не пускал… Полоз огромным прыжком бросился мимо меня и уполз вон под те огромные камни. Мамут привстал, озираясь вокруг, и снова лег. — Он сильно ослаб, — заключил Нурасов, — придется тащить его. Ночевать здесь ни за что не останусь. Нехотя поднялся и я. Сделали неуклюжие носилки из ветвей, положили на них Мамута и с огромным усилием стащили его к подножию Кастеля, где и оставили на ночь у знакомого табаковода-грека. Так бесславно окончилась наша попытка найти ларец с драгоценностями царицы Феодоры… Через несколько дней после этого происшествия началась мировая война, потом революция, затем гражданская… Было не до кладов. Но я все время бережно сохранял пергамент с планом. Теперь меня снова охватило желание испытать счастье в поисках ларца. Задача трудная и сложная, одному мне ее не выполнить. Мой друг Нурасов умер, Мамута убили на Перекопе. Я приглашаю всех, кто побывает на Кастель-горе у Алушты, тщательно осматривать остатки кевовых насаждений, и я уверен, что сообща мы быстро овладеем загадкой кевовой рощи.

ЧЕРНОМОРСКИЕ КОНТРАБАНДИСТЫ:
Таинственные арбузы
Рассказ Георгия Гайдовского[23]
День ясный. С моря дует ветерок и по рейду гуляет волна, изредка вспениваясь и белыми барашками разнообразя спокойное величие морской глади. На молу сидят рыбаки. Они, постелив теплые овчинные полушубки, лежа пьют водку и закусывают ее солеными огурцами. Сети плавают на буйках. В прозрачной воде видно, как мелкая рыбешка проплывает в сетях. Солнце дробится в волнах, и на дне гуляют причудливые отсветы. Несколько горожан сидят на молу, придерживая в руках лески. Они внимательно смотрят в воду, точно видят все, что творится в морской глубине. С этой стороны мола волна больше. Далеко открывается широкий морской простор. Пахнет просмоленными канатами, овчинами, солью и водорослями. Далеко на горизонте показался дымок. Кто-то сказал: — Это «грек». — Нет, это угольщик из Севастополя. — Говорю — «грек». За пшеницей идет. Я посмотрел в бинокль. Возле меня собралась группа любопытных. — Ну что, видать? — Борты-то, борты какие! У «грека» борты в целый етаж. — Уважаемый, дозвольте поглядеть. Бинокль пошел по рукам. Волна нежно трется о камень мола. Чайки с криком скользят над водой, исчезая в пене барашков. Стройный баркас, чуть накренясь, несется по рейду к купальням. Паровозный гудок нарушил тишину, царившую вокруг, и видно было, как скользя по самому берегу, подошел московский поезд. Значит, близко к часу. Надо итти в город. Феодосия амфитеатром опоясала бухту. Домики взбегают кверху. С мола видна Генуэзская улица, на которой стройными рядами стоят дачи и особняки феодосийских богачей. Теперь дома отдыха, а когда-то царила роскошь, шампанское пили вместо воды, прикуривали десятирублевками, а из сотенных билетов сворачивали самокрутки. В чудной даче Стамболи теперь живут служащие. Приезжали они худыми, бледными, изможденными после входящих, после архивов, справок, докладов и отчетов. Животворное крымское солнце быстро ставило их на ноги. В порту два греческих парохода. Идет погрузка: по громадным трубам в трюмы пароходов течет золотая пшеничная река. Море лениво плещется о красные, проржавевшие борты. Грек-матрос стоит у поручней и с холодным любопытством смотрит на чужой странный город. А в ресторанчике «Фонтан Айвазовского» ждет меня мой приятель — пограничник Быстров, заказавший шашлык и бутылку Изабеллы. Он читает старый номер «Следопыта» и короткими, сильными затяжками курит убийственно крепкий крымский табак, зловоние которого наполняет всю Феодосию. — Почему так поздно? — На молу задержался. — Морем любовался? — Любовался. — Поэт! Говорится это таким тоном, что невинное слово «поэт» звучит почти оскорбительно. — Ты сегодня не в своей тарелке. Быстров не отвечает. Рано утром, на автобусе Крымкурсо приехали мы из Судака в Феодосию. Быстрова вызвало начальство, а я воспользовался случаем, чтобы посмотреть город. В дороге нас хорошо ожгло солнце, потом мы купались, после купанья разошлись. Нам подают вкусно пахнущий шашлык. Быстров бросает в сторону журнал, и с аппетитом уничтожает прожаренное мясо. — Ну что? — спрашиваю я. — Эта хитрая крыса в Капсельской бухте два ящика выгрузила. — Кто? — Сейфи. Сейфи Магаладжи — непримиримый враг Быстрова. Лихой контрабандист, он всегда стоит поперек горла у пограничников. Мимо нас двигаются шумные вереницы прохожих. Все бронзовые, здоровые. Мужчины в трусиках, женщины в легких платьях, открывающих ноги, руки и шею. Яркое солнце заливает улицу ослепительным светом. Чувствуется вокруг необычайная бодрость. От базара доносятся запахи персиков, груш, винограда. Там фрукты лежат горами, издавая сладкое благоухание. Татары ходят с корзиночками своей легкой походкой, предлагая прохожим виноград. Над портом плывет дым. Пришел какой-то пароход. Мальчишки-беспризорные однообразно скулят, выпрашивая копейки. Жалким напоминанием о далеком прошлом поднимаются на берегу развалины старинной Генуэзской башни. Когда-то здесь был самый большой черноморский порт — Кафа, когда-то сюда приплывали генуэзские галеры, а сейчас у подножия реставрированной, омоложенной башни летний театр, по вечерам играет оркестр и куплетисты поют частушки. — Пей, — сказал Быстров, поглядел на меня, и тонкие его ноздри внезапно вздрогнули. — Понимаешь, какая штука: в городе уйма контрабанды. Поймали пудру, лезвия для бритвы «Жиллет», трикотаж, коньяк. Кой-кого взяли за манишку — оказывается, работа Сейфи, но молчат и главаря не выдают. Ну, поймаю я его когда-нибудь, не уйдет он от меня! … Вино допито, шашлык съеден. Приятная лень охватывает все тело. Небо голубое, в бездонной голубизне проплывают причудливые облака. Еле слышно журчит родник Айвазовского. Вода в нем хрустальная, чистая и холодная. Мне кажется, что она пьянит. Не хочется вставать, но Быстрову не терпится. — Айда на пляж! — Рано. — Ай, баба! В постельку хочется? Идем. Он идет легкой, упругой походкой моряка. Я едва поспеваю за ним. Проходим мимо вокзала, опустевшего после прихода поезда. Только беспризорные сидят на ступеньках, да осанистый, толстый носильщик смотрит на ресторан Нарпита, что против вокзала. Дальше идем мы вдоль железной дороги; за рельсами плещется море, по морю катится зыбь — предвестница ветра. Нас обгоняют купальщики. На головах у них чалмы из полотенец. Весело глядеть на крепкие, поздоровевшие бронзовые тела. Мы ныряем в выемку под полотном железной дороги и выходим на общий пляж, густо усеянный купающимися. На берегу несколько баркасов. Быстров вскакивает в один из них и зовет меня. Матрос подымает парус, и баркас, став к ветру, чуть покачиваясь на волнах, идет в море. Быстров сидит на руле. Я ложусь на носу баркаса и смотрю в небо. Спокойное покачивание баркаса убаюкивает, меня охватывает необычайное очарование, в груди что-то замирает, но Быстров сразу же возвращает меня к действительности: — Иди на корму, а то нос заторбанивает[24]). Мы описываем широкую дугу по рейду. Слева остается маяк. Быстров правит в порт, туда, где стоит маленькая шхуна. Это не спроста… Матрос опускает парус и аккуратно подбирает мякоть. Баркас едва касается носом пристани. Какой-то паренек на берегу ловит брошенный ему конец. Наш баркас покачивается на волнах борт о борт с шхуной. На шхуне появляется фигура татарина. Он с любопытством смотрит на нас. — Здравствуй, — говорит ему Быстров. — Здравствуй. — Откуда? — Из Балаклавы. — Давно? — Утром пришли. — С грузом? — Есть немножко. — Что? — Арбузы, — и вдруг окрысился, — а тебе что? — Так, ничего… Я лежу на носу баркаса. Море плещется у бортов. Быстров закуривает свою крымскую дрянь «по особому заказу» и косится на шхуну. Ноздри его ходят, как у гончей собаки. Наш матрос спокойно сидит на банке и курит махорку. Я не выдерживаю и набиваю трубку душистым сухумским табаком. Синий дымок плывет по ветру к шхуне. На палубе шхуны вскоре появляется татарин и смотрит на меня. — Куришь? — Угу. — Какой табак? — Сухумский. — Тц! Такой человек — и сухумский табак! — А что? — Английский надо курить. Он глядит недоверчиво на Быстрова, и я читаю на его лице желание предложить мне контрабандный кепстен[25]). Не зря Быстров прилип к шхуне. Однако, татарин не решается; форма Быстрова пугает его. Он исчезает в кубрике. Быстров шепчет мне: — Ах, и охота же внутрь слазить! Я эту шхуну давно облюбовал, еще с утра вокруг нее верчусь. Идут часы, и ветер становится сильнее. Заходящее солнце окрашивает горизонт в оранжевый цвет, словно зарево громадного пожара. Это верный предвестник бури. С утра барометр падал. Легкий шквал прибил наш баркас к шхуне. Матрос хочет оттолкнуться, но Быстров движением руки останавливает его. Через минуту кто-то из шхуны опрокидывает на баркас ведро мусора… Матрос, на которого попала добрая половина мусора, ругается. Татарин перегибается через борт и спокойно говорит: — Зачем так близко стоишь? — Ирод! Чтоб ты здох, проклятый!.. Весь баркас загадил, — кричит матрос, выбрасывая за борт неожиданное угощение. Потом опять идут томительные часы. Мы стоим у берега. Матрос спит на дне баркаса, я недоумеваю, несколько раз порываюсь уходить, но Быстров всякий раз бросает мне: — Погоди… Небо стало темно-розовым. Ветер гонит по морю барашки. Г холодало. Пахнет остро морскими водорослями, гнилыми крабами. Неподалеку от нас высится нос греческого купца, в недра которого день и ночь струей льется пшеница, привезенная из Украины. На носу видны цифры, по которым определяется степень посадки судна. Заметно темнеет. В городе вспыхнули огоньки. Море становится мрачным, от мола доносится сердитый шум. Там подымается волнение. Ветер, дувший с моря, гонит волну к Феодосии. Наш баркас дернуло и веревка натянулась. На шхуне потравили канат. Немного спустя с берега в шхуну спрыгнул худощавый, сухой татарин и что-то сказал своему спутнику. На шхуне возились. Вышел еще один татарин, сонный, заспанный. Он лениво плюнул за борт и поглядел на небо. Солнце скрылось за горой, с востока надвинулись тучи и сразу стемнело. Ветер крепчал. Море сердито ухало за молом, гоня волну на гавань. Мы с кормы бросили якорь, натянули причал, и баркас, сдерживаемый с двух сторон, закачался, как гамак. В гавани волна становилась все больше и больше. Порывистый ветер сулил неспокойную, бурную ночь. Я смутно видел громады греческих пароходов. Они стояли спокойно и величественно. Их не тревожила волна, кидавшая из стороны в сторону наш баркас. На шхуне чувствовалось движение, она готовилась уйти в море. Ветер запел в вантах, и шхуну сильно ударило берег. Татары потравили канат — и она покорно отпрянула в сторону. В эту минуту наш якорный трос лопнул, баркас дернуло в сторону, я услышал сильный треск и невольно вскочил на ноги. Шхуна навалилась бортом на наш баркас, баркас затрещал, сильно накренился и черпнул воды. В ту же минуту я схватился рукой за борт соседки и с трудом, мокрый и испуганный, взобрался на палубу. Оказалось, что Быстров проделал то же. Мы стояли рядом, тяжело дыша, отдуваясь и выплевывая соленую воду, окатившую нас. Где-то рядом слышалась безбожная ругань нашего матроса. Значит — баркас уцелел.

Шхуна навалилась на баркас, баркас затрещал, сильно накренился и черпнул воды. В ту же минуту я и Быстров схватились руками за борт соседки…
Татары смотрели на нас с холодной ненавистью. У Быстрова дернулся лицевой мускул. Сразу охрипнув, он закричал: — Где свет?! Татарин покосился на него и зажег фонарь. Палуба осветилась. Световые блики запрыгали по палубе. Мы увидали нескольких татар, стоявших на корме. Шхуну сильно кидало. Сильный шквал пронесся над городом. Ветер загудел в вантах, натянул причал, шхуну бросило к пристани. Следующая волна дернула ее обратно, причал лопнул, и ветер погнал нас на греческий пароход. Татары что-то закричали, ветер отнес их слова в сторону. Я видел, как они бросились к снастям. В неясном свете фонаря смутно виднелся Быстров, стоявший посредине шхуны, у мачты. С палубы «грека» свесились фигуры вахтенных. Татары бросили якорь. На минуту шхуна задержалась, но следующий порыв ветра снова потащил ее. Мы прошли по борту «грека», нам бросили конец, татарин схватил его, ободрал в кровь руки и выпустил. Не слушаясь руля, шхуна неслась на следующий пароход. Татары, работая с необычайной быстротой и ловкостью, ставили паруса. Шхуна еще несколько раз рискнула, потом стала к ветру и с парусами в два рифа пошла к выходу в море. Ветер развел сильное волнение, и о том, чтобы благополучно причалить, нечего было и думать. Маяк мигнул нам своим кровавым глазом, и волна вкатилась на палубу. Нос шхуны стремительно опустился, зарываясь бушпритом в воду. Я почувствовал замирание во всем теле, схватился за какую-то снасть — и в ту же минуту взлетел кверху. Татары лавировали, стараясь стать под защиту мола и дрейфовать до утра. Несколько раз им это удавалось, но снова ветер сносил шхуну к пристани, где так легко было разбиться о гранит набережной. Не знаю, чье это было решение, но вскоре мы пошли в открытое море. Фонарь погас, и мы шли в темноте. Волны бросали шхуну из стороны в сторону. Нос, на котором стоял я, то взлетал кверху, то стремительно нырял, точно не собираясь появиться на поверхности воды. Море ревело, ветер нес клочья пены. За кормой виднелся свет феодосийского маяка. Было темно. Я не видел, что делалось на корме. Как-то мне показалось, что я слышу звук револьверного выстрела, но это могло быть хлопанье полоскавшего паруса. Неожиданно на меня бегу налетел татарин. Мы оба упали, волна перекатилась через наши тела, больно ударила меня обо что-то твердое, я вскочил и увидел, что свет маяка медленно ползет по правому борту. Мы поворачивали. Изредка ко мне доносились крики, внезапно появлялись фигуры татар, управлявших парусами… Потом внезапный сильный толчок, точно мы налетели на риф… Я упал, ударился головой об угол рубки и потерял сознание… Когда я очнулся, светало. Восток стал алым, над морем реяла утренняя мгла. Шхуна лежала, сильно накренившись, у самого пляжа. По рейду шла сильная зыбь — остаток пронесшейся бури. Шхуна мерно скрипела, твердо засев в прибрежном песке. — Ну, как? — спросил Быстров, прикладывая к моей голове мокрое полотенце. — Что случилось? — Ничего особенного. Здорово ударился? — Да… Голова у меня была тяжелая, точно каменная. — А где же татары? — спросил я. Быстров улыбнулся краешком губ. — Готовы. — Как? — Забрали голубчиков. — Почему? — Арбузы подвели их — с начинкой оказались, да еще какой!.. Должно быть, ты во всю жизнь таких арбузов не видел. Он взял арбуз и открыл его. Арбуз был аккуратно сделан из дерева, а внутри лежали коробочки с пудрой. — Как же ты догадался? — спросил я, разглядывая деревянный арбуз… — Очень просто. Пока они дрейфовали и, как черти, носились по шхуне, забыв о нас, я полез в трюм, груз ковырнул и нашел среди настоящих вот эти арбузы. Татары меня в трюме поймали, пришлось отстреливаться, а потом я заставил их на берег выброситься. Вот и все. Конечно, как я и думал, это работа Сейфи.

Быстров взял арбуз и открыл его. Арбуз был сделан из дерева, а внутри лежали коробочки о пудрой.
— Сейфи? — А кто же еще такую штуку придумает? Подошел катер, и нас увезли на берег. Солнце встало над горизонтом. Феодосия оживала. На берегу появились первые купальщики, с интересом разглядывавшие лежавшую на боку шхуну. В порту уже визжали лебедки и далеко неслось грузчицкое: «Майна! Вира!..». Утро было ясное, солнечное. Зыбь утихла. Мы пили холодный нарзан у вокзала, поджидая автобуса. Мимо двигались шумной толпой курортники, с недоумением взглядывая на мою, обмотанную полотенцем, голову. Пекло солнце, и только доносившееся до нас ворчание моря напоминало о бурной ночи…

КРЫМСКИЕ СИЛУЭТЫ
Путевые очерки Э. Л. Миндлина
Пять необыкновенных секунд
Часы показывали без двадцати минут час. До Судака — цели моего путешествия — оставалось километров десять по разбитому шоссе, то стремительно опускавшемуся вниз, то круто поднимавшемуся вверх. Нечего было и думать попасть в Судак раньше трех часов пополудни. Но в три — это слишком поздно. Серьезная причина требовала моего присутствия в Судаке не позднее чем в два часа дня, и я о досадой оглядывал пустынный залив Нового Света. Залив замыкался на западе далеко вдающимся в море, голым, малоприветливым мысом. Издали виднелась огромная, обветренная скала, нависшая над входом в живописную бунту. В скале черными пятными темнели глубокие гроты. Подъехав на лодке к одному из них, легко разглядеть высеченный в камне просторный зал, открытый с одной стороны. В глубине его — каменная эстрада с остатками мраморных украшений. А по стенам — гранитные полочки, на одной из которых я отыскал горлышко винной бутылки. К гротам вела искусственно выбитая по краю скалы тропа, огражденная со стороны моря стеной, сложенной из акмонайского камня. От грота каменная тропа приводила на песчаный берег залива. Отсюда кверху поднималась запущенная кипарисоваяаллея, местами прерывавшаяся и открывавшая то направо, то налево подземные ходы, отделанные гранитом и мрамором. В конце аллеи — сожженная солнцем, желтела большая поляна, обсаженная тополями. Посредине поляны возвышалось причудливой формы, непохожее на человеческое жилье здание. Четыре башни по краям правильного четырехугольника соединялись между со бой длинной стеной с готическими окнами. Здание строилось когда-то с претензией на средневековый замок, хотя едва ли было приспособлено для жилья. Внутри оно образовывало просторный двор, окаймленный высокой стеной и башнями по углам. Тяжелые железные ворота были полуоткрыты, и издали виднелся в старом дворе кучей сваленный хлам, какие-то бочки, оглобли полусломанных повозок, колеса и многое другое, былое назначение чего разобрать я не мог. Все вокруг было напоено мертвенной тишиной. Ничто не напоминало о возможном присутствии людей на берегу теперь уже дикого и заброшенного залива. Шагах в двухстах от «замка», на высоком зеленом холме, белело другое здание — двухэтажное, густо облепленное балкончиками, террасками, лесенками, висевшими над запущенным, поросшим сорной травой парком. Вывороченные рамы, разбитые стекла, трава и мох, покрывавшие подоконники, показывали, что в доме давно никто не живет. С любопытством оглядывал я мертвый, покинутый хутор — некогда имение одного из крупнейших магнатов царских времен. Когда-то пышная жизнь богатейшего дворянского гнезда текла на этом, цветущем тогда берегу. Лодка случайных экскурсантов не приближалась к таинственным гротам, высеченным в прибрежной скале. Нога пешехода не смела ступить на подстриженные дорожки кипарисовой аллеи, А на мягком отлогом пляже с двух сторон высились на белых шестах надписи: «купаться воспрещено». Постоянная стража охраняла тогда залив. Подземные ходы, открывавшиеся по сторонам кипарисовой аллеи, вели в знаменитые княжеские подвалы. В мраморных подземных залах пировали во время наездов царя к его любимцу князю. Той же цели служили и гроты, высеченные в скале, с мраморными эстрадами и узкими тропками над самым морем. Я проходил мимо «средневекового» замка, прежде княжеской конюшни, с твердым намерением выйти из этого мертвого царства к шоссе и, — нечего делать, — пешком двинуться к Судаку. В то время, как в представлении моем возникали картины давнишней жизни дворца на берегу морского залива, неожиданно распахнулись готические ворота и, к чрезмерному моему изумлению, отличная лошадь вынесла из конюшни желтый блестящий кабриолет… Пораженный, я остановился. Кабриолет весь был покрыт как будто бы свежим лаком и блестел и сиял позолотой. Шелковые его подушки отливали матовым золотом, а на спинке красовался зеленый княжеский герб. На козлах сидел человек в бархатном жилете о большими медными пуговицами, потускневшими от времени. Преодолев изумление, я подошел к человеку. Через минуту мне уже стало известно, что кабриолет направляется в Судак, то-есть к цели и моего путешествия. Мне не стоило большого труда убедить возницу в бархатном жилете позволить мне сесть на шелковые подушки кабриолета. Человек тронул лошадь кнутом, и мы медленно покатили по шоссе, проложенному над самым обрывом, у подножья которого застыло недвижное, эмалевое море. Историю кабриолета ломаным языком рассказал возница Меджид, старый княжеский конюх, знавший каждый камень в этих местах, каждый кустик и, уж конечно, каждую тропку. Что означало таинственное появление кабриолета среди разрушенного дворца? Таинственного не много. Чудом уцелел этот почти драгоценный экипаж в княжеских конюшнях. Санаторий в Судаке выхлопотал право привезти кабриолет для прогулок больных. Но когда-то, когда-то… в этом кабриолете ездил сам царь! Да, да, Меджид — бывший княжеский конюх — помнит то время. Первый раз, когда ждали царя — князь выписал кабриолет из-за моря, из Англии, специально для прогулок «хозяина русской земли». Из ломаной речи Меджида я понял, что только два раза пришлось Николаю Кровавому ездить в кабриолете, купленном для него старым князем. Больше никому, никому не позволял владелец Нового Света пользоваться кабриолетом. Он не ездил в нем даже сам. Мы с Меджидом первые — кто, по воле случая, оказались пассажирами драгоценного экипажа… Далеко позади остались живописный залив и развалины замка, окруженные вышками тополей и сплошной стеной кипарисов. Обнаженные, рыжие скалы торчали по одну сторону шоссе, нависали над нами, как бы угрожая свалиться на кабриолет и его седоков. Шоссе проходило по краю ущелья, у подножья которого распласталось недвижное и бесцветное море. Черные пятна выскакивавших из воды дельфинов нарушали однообразие и гладь залива, и на тонкой линии горизонта вился дымок парохода… Лошадь шла медленно и понуро, изнемогая от жажды. — Вода нет, — жаловался Меджид. — Князь был — колодец делал. Теперь пропал колодец… Никто нет в Новый Свет… Где вода взять? Десять километров в томительную жару среди местности, где не достать капли воды, кажутся двадцатью, тридцатью, даже сотней километров… Мы проезжали по краю ущелья, на дне которого словно застывший каменный поток спускался к самому морю… — Шайтан-дере! — сказал Меджид, оборачиваясь ко мне и указывая пальцем на дно ущелья. «Чортова пропасть», — перевел я мысленно сказанное Меджидом. Огромный камень, узкий, вытянутый кверху, напоминавший форму человеческого пальца, торчал на краю дороги, над самым ущельем. В Крыму много подобной формы камней и повсюду их почему-то именуют «пальцами чорта». Тому, что случилось в следующее мгновение, не предшествовало ничто, могущее хоть как-нибудь подготовить к необыкновенному случаю. Глаза тщетно искали на небе следы облачности. Унылая неподвижность моря скорее раздражала, чем радовала взор. Знойную тишину нарушало только жужанье пчел, возившихся в чашечках цветов шиповника по краю шоссе. Человеческому вниманию мудрено зафиксировать ничтожную долю секунды. Однако, события, которые произошли у места, где Меджид указал мне на Шайтан-дере, развертывались в неизмеримые доли мгновенья. Звук оказался первым, что приковало внимание. Он был похож на гром, только много сильнее, чем самый сильный гром. Но прежде, чем факт его появления вошел в наше сознание, в следующую тысячную долю секунды возникла мысль о том, что гром этот не сверху, а снизу… Он как бы рвался откуда-то из-под земли, клокотал где-то под ногами. В микроскопическую долю мгновенья я успел заметить начавшую поворачиваться ко мне голову Меджида. Но все произошло о такой молниеносной быстротой, что возница даже не успел совершить поворот шеи в мою сторону. Почти сейчас же я увидел, как смешно и беспомощно он привскочил на козлах, точно подпрыгнул, и с силой брякнулся на кожаное сиденье, но брякнулся боком. Одновременно подняло и меня самого, словно кто-то схватил меня под руки и подбросил кверху над кабриолетом. В какую-то следующую долю секунды я уже валялся на дне экипажа, тщетно стараясь ухватиться за что-нибудь, что могло бы меня удержать… Самое любопытное, что в такую минуту человек теряет способность элементарно соображать. Просто потому, что все совершается быстрее, чем может родиться самая быстрая мысль. Все, что делаешь, делаешь как бы вслепую. Действует только инстинкт. Время исчезает в такие минуты. Не знаешь, секунда ли прошла, или час… Итак, я лежал на дне кабриолета, не только не понимая, но даже не пытаясь понять, что собственно происходит… Я тянул руки к сиденью, чтобы подняться и сесть на прежнее место. Прошла еще безмерно малая доля секунды — и, чувствуя сильную боль в спине и ногах, я о изумлением обнаружил себя самого уже на шоссе. Что-то дернуло кабриолет, он стремительно пронесся куда-то прочь от меня, и я вылетел из пего, даже не замечая процесса «полета»…
…Через малую долю секунды я о изумлением обнаружил себя самого уже на шоссе…
Грохотало у самого, уха… Я лежал на земле, ухом припадая к шоссейной пыли. Было похоже, что под тонким покровом земли с ужасающей быстротой катится камерная лавина, огромные глыбы гранита сталкиваются будто бы с землей, перекатываются одна через другую и, сотрясая землю, несутся неизвестно куда… Грохот стих. Я приподнялся и оглянулся вокруг. «Чортов палец» на краю ущелья валялся где-то внизу, словно его выдернули с необычайной легкостью и вывернули. Высокую пихту, секунду назад висевшую на скале над дорогой, придавил громадный камень, согнувший ее до земли… Внизу, у подножья ущелья, море ходило волнами… Казалось, ведь только-что его бесцветная мертвая гладь раздражала взор скучным однообразием. Сейчас огромные волны налетали на прибрежные камни, разбивались о них, рассыпались на мельчайшие брызги, выбрасывали на берег груды мелких камней и песку. Море теперь потемнело, вздулось… Мутные клочья пены плавали на его поверхности, устремляясь на гребнях волн к берегу. Но небо оставалось таким же безоблачным, ненарушаемо чистым, и так же был мучительно тих и зноен воздух. Волнение без малейшего ветерка — необычайное, удивительное явление!.. Я взглянул в сторону кабриолета. Меджид сидел на козлах, раскачиваясь, как пьяный. Его лицо было мертвенно бледно и руки беспомощно размахивали в воздухе. Лошадь несла кабриолет над самой пропастью… Было похоже, что тончайшая ниточка отделяет подскакивавшие на камнях колеса от падения в ущелье Шайтан-дере. Я бросился нагонять Меджида с надеждой вовремя удержать лошадь. Несчастный, обернувшись ко мне, что-то кричал… Я слышал только звук его голоса, но слов разобрать не мог из-за сильного шума моря, доносившегося снизу. Именно в эту секунду раздался второй подземный удар… Опять, как и в первый раз, сначала под ногами прокатился гром. Опять казалось, что под землей ворочаются, со стремительной быстротой несутся исполинские камни, сотрясая почву… Существует у иных представление, что в подобные минуты земля «раскачивается» из стороны в сторону. Ничего подобного! Ощущение таково, словно человека на мгновение приподнимают от земли. Он перестает чувствовать под своими ногами почву, — и ото самое непривычное, самое волнующее явление, более всего заставляющее чувствовать величайшую растерянность. Так было и со мной. Меня приподняло. Какую-то долю секунды я висел в воздухе и затем опустился в прежнюю точку… Я не упал на этот раз. Позже, вспоминая все происшедшее, я пришел к выводу, что землетрясение было не такой силы, чтобы человек не мог устоять на ногах. Если я вылетел из кабриолета, то это, конечно, потому, что испуганная лошадь дернула и понесла. Лучше было бы и для Меджида, если бы и его бросило с козел. Увы, положение татарина казалось угрожавшим его собственной жизни. Второй подземный удар довел и без того обезумевшую лошадь до предела бешенства. Прежде, чем я успел добежать до кабриолета, — лошадь взвилась на дыбы, сломала лакированные нарядные оглобли кабриолета и ринулась вниз, в пропасть, в усеянное острыми камнями глубокое дно Шайтан-дере… В эту минуту в воздухе промелькнул бархатный с блестящими пуговицами жилет моего Меджида, и на пыльное шоссе грузно шлепнулось, словно мешок, наполненный тяжким грузом и брошенный с верхнего этажа, — тело татарина… Я подскочил к нему. Меджид отделался незначительными ушибами. Быстро прийдя в себя, он приподнялся и, сидя в пыли, стал растирать расшибленный локоть. Его побледневшие губы беспрестанно шептали какие-то слова. Нагнувшись к нему, я успел разобрать: — Шайтан… Шайтан… В суеверной голове Меджида, несомненно, возникла мысль, что все происшедшее — дело рук чорта — «шайтана». И мне было трудно разубедить татарина, упорно связывавшего разразившиеся над нами беды с чортовым ущельем, возле которого землетрясение застигло наш злополучный кабриолет. Несколько минут мы о Меджидом не двигались с места, инстинктивно готовясь к новым подземным толчкам. Однако, было похоже, что толчки прекратились. Они успели в кратчайший срок достаточно сильно изменить местность, которой я любовался за минуту до всего происшедшего. Разительнее всего была перемена на море, которое вздулось и покрылось теперь огромными, разбивавшимися о берег волнами. Несколько больших камней скатилось с шоссе в глубину Шайтан-дере. «Чортов палец» лежал на дне ущелья, как повалившаяся, подрубленная башня… Там же, рядом с «Чортовым пальцем», в кустах шиповника, пробивавшегося между камней, билась с жалобным ржаньем лошадь. Запутавшись в упряжи, она дробила копытами то немногое, что осталось от блестящего кабриолета. У последнего был жалкий вид. Колеса его обратились в букет щепок. В клочья были изодраны шелковые подушки с княжескими гербами, а высокая желтая спинка треснула пополам. То, что недоделали камни, добивали копыта страдавшей в конвульсиях лошади. Я растерянно взглянул на Меджида… Что делать? Не произнося ни слова, татарин сбросил с себя жилет, затем снял ботинки и, кивнув мне головой, начал быстро спускаться вниз, осторожно цепляясь за гранитные выступы. Через минуту он был возле остатков кабриолета и раненого животного. Я напряженно следил за тем, что он делает. Меджид осмотрел лошадь, поднял голову кверху, как бы отыскивая мои глаза, и покачал головой. Жест его должен был означать, что с лошадью — кончено. В самом деле, из уха разбившегося животного текла струйка крови. Меджид освободил животное от опутывавшей его сбруи, зачем-то положил голову лошади на камень и стал карабкаться наверх. Растерянные, мы продолжали наш путь пешком. Меджид шел, тяжело ступая и сосредоточено думая о чем-то… — Шайтан! — сказал он еще раз, поднимая голову и глядя на меня. И снова я сделал попытку прочесть суеверному татарину короткую лекцию о том, что значит землетрясение и отчего оно происходит. Но упрямый Меджид стоял на своем. До Судака оставалось два-три километра. Тут и там по дороге Меджид, знавший каждый сантиметр этой земли, находил странные изменения, переместившиеся камни, а кое-где — неглубокие трещины, морщинившие шоссе. Мы подходили уже к окрестностям живописного местечка, некогда знаменитой генуэзской колонии. Издали на безоблачном небе вырисовывались контуры древней Судакской крепости, песочно желтая крепостная степа и высокие с зубьями, живописные генуэзские башни. Неожиданно Меджид остановился и пальцем указал мне направо. Зрелище, открывшееся перед нашими глазами, было из необычных. Татарская хижина, прилепившаяся к скале, была расколота надвое. Стена и деревянный балкончик, разрушенные, валялись рядом, засыпав крохотный виноградник татарина… Вся внутренность дома была видна, как это бывает на сцене, где отсутствует четвертая стена. Кофейного цвета ребятишки бегали вокруг и выкрикивали что-то на незнакомом языке. Хозяин дома растерянно смотрел на разрушенное жилище… Его жена, маленькая морщинистая татарка, уткнув лицо в шарф, горько всхлипывала… Останавливаться не стоило. Нас гнало вперед нетерпение узнать — что же дальше, что там, где нас не было? Что означает все пережитое нами в какие-нибудь пять необыкновенных секунд? И мы с Меджидом быстро шагали по шоссе, оставив далеко позади себя, на дне ущелья Шайтан-дере, умирающее животное и разбитый желтый кабриолет…
У подножья вулкана Карадаг

Вид на потухший вулкан Карадаг (на фото — гора слева) с побережья у Коктебеля.
— Он приедет, стоит ли волноваться! — Голубчик, да вы не знаете! Без воды у нас стоит половина работы! — Но ведь Халиль ваш знает, что сегодня нужна вода? — Мало ли что! Он так медлителен, этот Халиль! — Как все-таки странно! Неужели вокруг нет ни одного источника, ни одного родника? — Вы шутите?! Шестнадцать лет я живу среди этих гор! Я знаю здесь каждый камень, каждый квадратный вершок — лучше чем собственную ладонь! Отсутствие воды всегда было больным местом нашего Карадага! — Ну, а колодцы? — Колодцы? Мы рыли их в десятках мест. Безнадежно! Карадаг безводен. Нас могли бы спасти дожди. Но дождь в этих местах, вы знаете сами, такая редкость, такая редкость! Построили бассейны, водохранилища на случай дождя — да толку немного: дождя не дождешься. — Но ведь в долине, внизу, где-то есть какой-то источник? Возит же оттуда воду на Карадаг ваш ужасный Халиль! — Так что же? — Как что же? Водопровод! — Голубчик, да вы смеетесь! Мы спим и во сне видим водопровод. Да деньги, деньги где взять? На водопровод тысяч десять единовременно надо, а станция наша бедна, нища. Если бы водопровод! Сами судите: пятьсот в лето на одну только пресную воду тратим… На минуту оба собеседника замолчали. Разговор происходил на площадке, осыпанной желтым песком, у большого белого здания. Площадка была обсажена кустами испанского дрока, цветы которого сверкали желто-лимонной окраской. Тут же, словно обрызганный кровью, цвел огромный гранатовый куст. Между кустами — скамья и стол. Один из собеседников сидел на, скамье, упираясь локтями о край стола, а другой расхаживал взад и вперед по площадке, нервно поглядывая на тропинку, спускавшуюся с площадки вниз, снявшуюся в котловине и уходившую далеко в цветущую у подножья горы Карадаг — долину Отузы. Перед глазами сидевшего на скамье человека глубоко внизу открывалось необозримое морское пространство. По дну Отузской долины, казалось, несся кипящий свежезеленый поток виноградников и срывался в море, в синий залив, очерченный на западе мысом Меганон. Меганон сползал в море с края долины. Огненно-красный, голый, — он походит на пирамиду с усеченной вершиной. На востоке, в соседстве с площадкой у белого здания, высился древний, потухший вулкан Карадаг. От площадки до Карадага, казалось — рукой подать. Коричневая вершина, покрытая черным лесом, господствовала над четностью. На склонах горы гигантскими иглами застыла лава, громоздились вулканические «бомбы», темнели выходы угольно-черного базальта. Все вокруг было сожжено здесь, на высоте, поднятой над морем и над цветущей внизу Отузской долиной. Сухая трава и щебень. Ни капли воды. Ни кустика зелени. И только цветы, бережно взрощенные рукой затерянных в горах людей перед одиноким белым зданием, нарушали величественную унылость пейзажа. Сидевший на белой садовой скамье человек жадно рассматривал и виноградники в Отузской долине, и далекий мыс Меганон, и синий морской залив. И всего внимательнее — причудливые формы древнего вулкана, возвышавшегося рядом. Он, видимо, только что прибыл в эти места. Все ему было незнакомо и все непривычно после далекого и серого Ленинграда. Второй — среднего роста, блондин со светлой эспаньолкой, свисавшей с подбородка, весь в белом, беспокойно ходил взад и вперед, пожимая плечами и вслух ругая Халиля. Из белого двухэтажного здания, с просторной стеклянной верандой, вышел молодой человек в трусиках с расстроенным и огорченным лицом. В руках он держал скомканные и окровавленные перья какой-то птицы. Он подошел к блондину.

Один из собеседников сидел на скамье, а другой расхаживал по площадке…
— Ах, Александр Федорович, — жалобно произнес молодой человек. — Этот злодей съел моего каменного дрозда! — Опять!.. Александр Федорович, блондин, в ужасе поднял руки к небу. — Этот злодей скоро съест всю нашу станцию, все препараты. Дмитрий Васильевич, вы бы хоть запирали его! Ведь немыслимо!.. — Запирал, да мало толку. Не выбросить же злодея! — Нет, нет! Конечно не выбросить! С прискорбием рассматривая все, что осталось от каменного дрозда — перья в крови— молодой человек в трусиках возвратился в белое здание. Обратившись к сидевшему на скамье новичку, Александр Федорович объяснил разговор о «злодее»: — «Злодей» — это наш кот. Балуем. Нужен, мыши, знаете ли. А кроме того — и скучно. Завели кота. Да вот последнее время проказит в кабинете Дмитрия Васильевича. Это — молодой ученый. Он у нас зоологическим кабинетом заведует. Сам охотится, сам и чучела набивает, а «злодей» его птиц да зверей пожирает, прежде чем тот сделает из них чучела. Собеседник его посмотрел в сторону Карадага и, вздохнув, произнес: — Хорошо тут у вас! — Хорошо? Чудесно! — просиял Александр Федорович. — Лучше не сыщете. Карадаг— жемчужина Крыма. А кто знает о Карадаге? Где известно о нем? Как я свыкся, как я свыкся с этой горой. За шестнадцать лет я, может быть, только раза три уезжал отсюда. Да- и вы вот поработаете у нас на практике месяца два или три, и в ваш Ленинград не захотите. Карадаг хорош, однако, красоты его обречены, обречены, дорогой товарищ! — Как так? — Вы слышали что-нибудь о пуццолане? — Никогда! — Видите ли, пуццолана — это продукт вулканической деятельности. Вместе с известью она дает крепко связующее вещество. В деле строительства вещество это крайне ценно. Кстати сказать, оно было известно еще древнему Риму. Между прочим, знаменитый римский «Колизей» построен на этой вот самой пуццолане. — А Карадаг тут при чем? — Карадаг? Помилуйте, да Карадаг — это исполинский сундук, наполненный драгоценной пуццоланой. Будет время, придут сюда люди с машинами и кирками, разроют, разрушат чудесный наш Карадаг. Вывезут пуццолану. — Но ведь, кроме того, у вас, кажется, и аномалия здесь какая-то открыта? Блондин обиделся: — И вовсе не какая-то, а имеющая очень большое научное значение, дорогой мой. Магнитная аномалия на Карадаге изменяет все представление о свойствах горных пород. Ведь обыкновенно считают, что магнитная аномалия связана с магнитным железняком. На этом, кстати, и основано открытие в Курске. А вот Карадаг показал, что магнитные явления возможны и при полном отсутствии магнитного железняка. Нет, нет, удивительная эта гора таит в себе много еще не открытых научных явлений. Не даром Карадаг — это один из самых сложнейших геологических районов. Ведь именно здесь, в этом мало известном углу восточного берега Крыма, — перелом двух тектонических линий строения земной коры — Кавказской и Крымско-Балканской. Наконец, Карадаг — это единственный вулкан на побережье Черного моря! — Позвольте, Александр Федорович, а как же Кастель, Фиолент, Аю-Даг? — Голубчик, да ведь это все только выходы вулканической массы, так называемые «внутренние извержения» — лакколиты. Карадаг же — вулкан единственный, древний потухший вулкан! Говоривший вдруг остановился, беспокойно еще раз посмотрел в сторону Отузской долины и, не заметив по дороге ничего, взволнованно развел руками. — Не едет? — спросил его собеседник. — Да нет, он сумасшедший, этот Халиль! Собеседник пожал плечами: — Как, все-таки, это странно. Вам приходится отрываться от ваших научных работ и массу энергии уделять на хозяйство. А вы ведь заведующий станцией, вы ведь профессор, известный ученый! Имя геолога Слуцкого всем хорошо известно. Профессор усмехнулся: — Голубчик, да нет ведь людей. Работать некому. Надо все создавать самому! Шестнадцать лет я уже здесь. Да четырнадцать лет со дня смерти Вяземского заведую станцией. — Ах, Вяземский! Ведь он, кажется, основатель? — Ну, еще бы! Он мой учитель. Его, к сожалению, знают немногие. А ведь это один из выдающихся наших ученых. Я мог бы вам рассказать его историю. Замечательная история. И прежде, чем собеседник обрадованно кивнул головой, известный ученый, взволнованный воспоминаниями о своем учителе, сел на скамью и начал рассказывать. — Вяземский — необыкновенная личность. Личность, о которой следовало бы написать увлекательную книгу. Ибо все в жизни этого человека, каждый его шаг полон значительности и способен привлечь внимание даже самых нелюбопытных людей. Кто он был? Он родился в семье псаломщика Рязанской губернии. Несмотря на крайне неблагоприятные условия, окружавшие его с детства, на некультурную обстановку, в которой он рос и воспитывался, среди которой складывались его вкусы, его мышление, симпатии и характер, — Вяземский твердо решил сделаться Ученым. Пожалуй, в этом юноше было что-то от Ломоносова. Он рано ушел из семьи. С невероятным трудом добывал себе средства к существованию. Учился, что называется, на медные гроши и, в конце концов, отлично кончил Московский Университет. — Вяземский, кажется, был врач? — Да, он был и не был врачом. Он был больше, чем врач. Не в характере Вяземского было замыкаться в какую-нибудь одну, отдельную научную дисциплину. Круг его знаний был чрезвычайно обширен, необъятен. Вот, к примеру… Достаточно сказать, что, окончив медицинский факультет, он избрал неожиданно для всех темой для дипломной работы такую: «Явления электричества у растений». Врач по специальности, он много работал по биологии, изучал специально явления электричества в животном и растительном мире и, в то же время, много работал в области социальной гигиены. И в то же время Вяземский не переставал практиковать, как медик. Но все ему было мало. Однажды, этот замечательный человек обратил внимание на огромное количество пропадающих для государства научных сил. Царское правительство высылало передовые элементы тогдашней интеллигенции, революционно настроенных профессоров и ученых. И Вяземский решил так: если невозможно сразу освободить всех этих людей, то нельзя ли хоть предоставить этим ученым возможность заниматься по специальности? И вот, Вяземский отправляется в Петербург. Он — в министерских передних. Оп подает заявления, хлопочет. Выступает с проектом, который обходится ему слишком дорого. Энтузиаст по натуре, он осмелился подать царским министрам проект, в котором предлагал создание научных лабораторий и всяких научных обществ в местах ссылки ученых. «Ведь вы растрачиваете научные силы страны!» — кричал Вяземский, обращаясь к царским министрам. Дело кончилось тем, что самого автора проекта едва не сослали в Сибирь. Вяземский еле успел во-свояси убраться из Петербурга. Несколько лет он провел в скитаниях, в научной работе. Его никогда не переставала заботить судьба ученых, не имеющих возможности работать в надлежащих условиях. Через короткий срок он носился уже с новым проектом. Он так рассуждал на этот раз. Ученые живут в больших городах, столицах, где — вечный шум, теснота, нервная напряженная атмосфера, постоянно отвлекающая их от научной работы. Надо создать какой-то «научный остров» для ученых. Надо вырвать их из больших городов, предоставить им более благодарные условия для работы, тишину, здоровый климат и удобную обстановку для лабораторных опытов. Эта мысль преследовала Вяземского, и он долгие годы носился с ней. Он много скитался. Вы, может быть, знаете, что еще четверть века назад восточный берег Крымского полуострова был мало известен? Экскурсанты почти никогда не посещали его, и дач, которых столь много на южном побережьи Крыма, на восточном побережьи тогда не было. Вяземского привлекала суровая красота этих пустынных мест, дикая нетронутость древних заливов Коктебеля, Отуз, Карадага и Судака. Он долго блуждал в этих местах, днем и ночью совершая прогулки один. Однажды Вяземский заблудился в горах. Он попал в незнакомую ему местность и принялся ее исследовать. Он вскарабкался на вершину потухшего вулкана, нашел здесь бомбы базальта, остатки выходов древней лавы. Он увидел жерло вулкана, сдвинутое на бок и теперь видимое хорошо с моря. Он видел богатейшую флору и фауну, доставлявшую неисчислимый материал для научных опытов. Судьба Карадага была решена. Да, да! Где можно найти лучшее место для создания того научного очага, о котором мечтал мой учитель? Какие возможности предоставляет Карадаг ученым? Потухший вулкан дает обширное поле для работы геолога. Ведь нигде не найти такой ясной картины древнего вулкана, ведь нигде не обнажено так строение продуктов вулканической деятельности. Вместе с тем, море разрешало вопрос о постановке биологических изысканий, горная высота — о метеорологических наблюдениях, флора и фауна — о работе по зоологии, ботанике и энтомологии. Ничто не нарушало бы здесь работу ученых! Где разыскать более счастливое стечение обстоятельств! И Вяземский твердо решил: здесь будет построена первая научная станция, приют для ученых, лаборатория для всех, кто желает заниматься наукой. По мысли Вяземского, станция должна быть доступной даже для тех, кто не имеет специальных ученых степеней. «Пусть отсюда, — любил говорить он, — выходят новые Ломоносовы». На месте нынешней станции стоял когда-то заброшенный хутор. Вяземский откупил его и на деньги, скопленные собственным трудом, принялся воздвигать здание Карадагской станции. Это было ровно двадцать лет назад. Вяземский умер в 1914 году, задолго до того, как станция, которой он посвятил вею свою жизнь, была достроена. Он был мой учитель. Я начал работать здесь еще до смерти Вяземского, а после его смерти — четырнадцать лет назад — я был назначен заведующим станцией на горе Карадаг. Все эти годы, трудные годы войны и революции, когда даже к нам, на наш горный, так сказать, остров производились налеты, мы день за днем достраивали эту первую и единственную в Советском Союзе научную станцию, носящую теперь имя ее основателя! Профессор кончил рассказ, взглянул на часы и снова всплеснул руками; — Четыре часа, а Халиля все пет! Оставив молодого, только что прибывшего для работ на научной станции практиканта, он отправился хлопотать по хозяйству, разыскивая свободного человека, чтобы послать за Халилем, оставлявшим горных островитян без воды. А новичок с удивлением присматривался и прислушивался к жизни научных отшельников, нескольких человек, отрезанных от всего остального мира на горных высотах, у подножия древнего вулкана, проводивших здесь, в большой незаметной работе все свои дни…
_____
Изд-вом «ЗИФ», в числе других книг д-ра И. М. Саркизова-Серазини, выпущены: «Лечитесь солнцем!» (3-е изд. 208 стр. Ц. 85 к.) и «Моря и реки, как источник здоровья» (2-е изд. 112 стр. Ц. 60 к.). Подписчики «Следопыта- могут получить обе эти полезные и интересные книги за 90 коп. (отдельно — первую за 60 к., вторую — за 35 коп.), прислав эту сумму марками по адресу: Москва, центр, Псковский пер., д. № 7, Акц. Изд. 0-во «Земля и Фабрика». Пересылка названных книг — за счет Изд-ва.«… Прекраснейший язык писателя-врача, его полное образности и поэзии изложение, знание гелиотерапии — ярко выделяют книгу из нашей научной литературы, посвященной учению о лучистой энергии. Осторожный подход, многочисленные указания из области практического применения солнца — ставят книгу «Лечитесь солнцем» в ряды наиболее необходимых и распространенных руководств…»(«Лечитесь солнцем» — отзыв проф. С. Вермеля).
«Книга д-ра Саркизова-Серазини… служит проводником идеи применения морских и речных купаний, как одного из способов быстрейшего закаливания и укрепления здоровья населения страны. Работа д-ра Саркизова-Серазини может явиться настольной книгой и для врача, и для всех мало-знакомых с положительной и отрицательной сторонами пользования морскими и речными купаньями…» («Моря и реки, как источник здоровья» — отзыв проф. Андреева).
Под редакцией д-ра И. М. Саркизова-Серазини Изд-вом «ЗИФ» выпущен также путеводитель «Крым» (416 стр., 8 карт, и 30 рис. Ц. в переплете 1 р. 50 к.).
ЖИВОТНЫЙ МИР АВСТРАЛИИ
(К статье на 3-й стр. обложки и карте на 4-й стр. обложки)

Слева направо, сверху вниз: Кенгуру-древолаз (2). Райские птицы (9). Сумчатый волк (3). Казуар (11). Лирохвост (13). Талегалла (14). Исполинский кенгуру (1). Эму (10). Шлемоносный какаду(17). Гаттерия (15). Рогозуб — Ceratodus Forsteri (16). Утконос (4). Ехидна (5). Корелла (6). Ночной попугай (8). Бескрыл — киви-киви (12). Попугай Нестор (7).

СЛЕДОПЫТ СРЕДИ КНИГ
ЗАЩИТНИК — НЕВИДИМКА.
Это произошло совсем неожиданно. Джек утомился нервным ожиданием, прикурнул в уголке и задремал. Его разбудили звуки разбитого стекла и сухого щелканья пуль о стенную штукатурку. Он вскочил на ноги с замиранием сердца. Значит, это не сон. Значит, в самом деле восстание рабочих на знаменитых американских орудийных заводах Массена началось… Джек убедился в том, что его «Глориана», на которую он возлагал столько надежд, с ним. Аппарат был в замшевом мешочке на груди. Никто не знает о существовании этого необыкновенного изобретения, и это позволит предпринять самые неожиданные, самые дерзкие шаги. Он колебался и раздумывал недолго. Итти к рабочим, стрелять в солдат — было вполне естественно. Но Джек понял, что ему, обладателю «Глорианы», в одно мгновение превращающей человека, благодаря испускаемым ею «темным лучам», в невидимку, — следует избрать другой род помощи рабочим: не держать ее в мешке, а пустить в дело… Джек совершенно успокоился и в деловито-бодром настроении побежал вниз по лестнице. Ворота были забаррикадированы. Но Джек туда и не пошел. Ему был известен потайной ход из склада снарядов в глухой переулок позади главного заводского здания. Джек привел «Глориану» в действие, и выбрался на улицу. Выход из подземелья был завален бочками и ящиками, которые прекрасно маскировали его. Джек исцарапался о торчавшие из ящиков гвозди, но, не обращая на это внимания, поспешил в штаб неприятеля. Штаб помещался в здании электрической станции. У входов стояли часовые, вооруженные до зубов. Но невидимка-Джек проскользнул мимо них. Несколько пуль щелкнуло около него в стену. Джек невольно вздрогнул: это были пули его товарищей, рабочих. Легко может случиться, что, помогая им, он падет от их же выстрелов. «Странное положение, — подумал он. — Но что же делать»… Поднимаясь по лестнице, Джек натолкнулся на офицера, который принимал от ординарца коробку с револьверными патронами. Он пошел следом за офицером и осторожно срезал на ходу кобуру с наганом. Присвоив эту законную военную добычу себе, он вошел в кабинет полковника, руководившего операциями против рабочих. Полковник отдавал приказание офицеру вытребовать по телефону подкрепление, чтобы окружить завод со всех сторон. Командированных на осаду завода войсковых частей оказалось слишком мало. — Постойте, — крикнул полковник повернувшемуся к выходу офицеру. — Телефонируйте, чтобы доставили два орудия. Чорт возьми! Я разгромлю весь завод, если они не сдадутся. Джек понял, какая трагедия готовится разыграться. Он побежал за офицером, обогнал его и, вскочив в телефонную будку, разбил рукояткой нагана аппарат и порвал провод. Офицер тотчас же вбежал в будку, схватился за трубку и в недоумении воззрился на разрушения. — Что за… — начал было он и не кончил.. Джек ловким ударом сбил его с ног, ударил несколько раз по голове рукояткой попорченного револьвера, бросил его около лежавшего без сознания офицера и, вспомнив, что у нега в кармане имеется собственный браунинг, выхватил его и побежал обратно к полковнику. Вдруг тяжкий удар потряс всю станцию. Через минуту ухнул второй. Удары повторялись все чаще, с упорной регулярностью. Джек понял, что это значило. Привезли орудия. Очевидно, они прибыли помимо приказания полковника. Бледный от гнева, с помутившимися глазами, со странной болью в висках, Джек ворвался в кабинет полковника и, почти не целясь, одним выстрелом убил его на месте. Все дальнейшее произошло словно в дымке кровавого сновидения. Когда около упавшего полковника собрались оторопевшие офицеры, ординарцы и санитары, Джек выскочил из комнаты и побежал к орудиям. В ушах у него звенело. Горло пересохло, в глазах ходили багрово-красные дымные клубы. Но он твердо знал теперь, что ему надо было делать. Незримый для окружающих, Джек подошел к пушке, набрал земли, песку и щебня и щедро забил дуло. Законопатив основательно заряженное орудие, он проделал то же самое и с другой пушкой. Затем он перелез через полуразрушенные ворота станции и побежал в переулок, чтобы пробраться обратно через подземный ход в завод.…………………..
…Джек приоткрыл глаза. Что это было такое? Он ровно ничего не понимал. В глаза бил яркий солнечный свет. Кругом было тихо. Не сон ли это? Он только теперь заметил, что лежит на постели. К нему подошла девушка в белом платье и белой косынке. — Как вы чувствуете себя? — спросила она. — Кто меня подобрал? Что со мной было? — вместо ответа спросил Джек. — Вас нашел мой отец. Вы лежали на земле в переулке, около завода. Вас, вероятно, контузило снарядом. Сейчас вы у друзей. — Послушайте, — с тревогой обратился Джек к девушке. — Чем же там все кончилось? Там, у нас, на заводе… — Вы хотите знать, чем кончилось, — задумчиво произнесла девушка. — Восстание подавлено. — Ох… — болезненно простонал Джек. — Рабочие сопротивлялись геройски. Они нанесли тяжелые потери солдатам. У них масса убитых. Убит полковник Смит. Взорваны два орудия. — Взорваны? — воскликнул Джек. — Я так и думал… — Что вы думали? — удивилась девушка. — Так, ничего особенного, — спохватился Джек. — А скажите, пожалуйста, — вдруг вспомнил и заволновался он, — когда меня подбирали там, около завода, не валялось ли около меня этакого, знаете ли, аппарата, вроде вилки… — Да, да, — оживленно прервала его девушка. — Я сама подобрала ее и принесла сюда. Она здесь. У Джека сразу отлегло от сердца. «Ну, ничего, — подумал он. — Значит, еще бороться можно»…Этот эпизод взят из вышедшего в издательстве «ЗИФ» фантастического романа Боргуса Никольсена «Массена» (Стр. 180. Ц. 1 р., в папке 1 р. 25 коп.), в котором развертывается картина революционной борьбы американских рабочих и достаточно ярко рисуется предательская тактика так называемых «пацифистов» — замаскированных агентов германского генерального штаба (действие происходит во время мировой империалистической войны).
НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ.
Художник Лавузен зашнуровывал у себя в комнате ботинки, когда в дверь постучали. — Войдите. Вошел Марч, недавний случайный знакомый художника, и остановился. Лавузен, сидя к нему спиной, возился со шнурком. — Может быть, вы заняты, мсье Лавузен? — Нет. Француз упорно не поворачивался к Марчу. — Простите, но вы не могли меня забыть. В тот… — Помню, садитесь, — оборвал Лавузен, с пыхтеньем принимаясь за другой ботинок. Марч взялся за спинку стула. — У вас странная мебель — она рассыпается при легком прикосновении. — Возможно. Когда путешествуешь, мало обращаешь внимания на условия. У себя в Англии я приму вас в соответствующей моему королевскому званию обстановке. — А скажите, мсье Лавузен, когда это с вами началось? To-есть, виноват, я хочу спросить, не страдали ли ваши родители?.. — Прошу соблюдать этикет, — пробурчал Лавузен. — И, по возможности, меньше странных выражений, сэр! Молодой человек вынул портсигар. — Могу предложить вашему… высочеству. — Благодарю вас, — обернулся Лавузен. Марч бросил портсигар, схватился за голову и замер, открыв рот. Гладко выбритое, слегка скептическое лицо смотрело на него. Глаза незнакомца щурились. Левой рукой он спокойно приглаживал английский пробор. — Ваше смущение понятно, сэр! — пожимая плечами, медленно уронил неизвестный. — Виноват, я хотел видеть художника Анри Лавузена, и мне показалось, что я слышал его голос… Марч проглотил слюну, не спуская глаз с незнакомца. — Да я его спрятал в самом себе, сэр! Марч прислушался. Знакомый, слегка сиповатый голос Лавузена принадлежал молодому человеку с пробором. — Но, сэр, я прямо теряюсь… — Марч облизал сухие губы. — Чорт вас возьми, не прикасайтесь ко мне, или я сорву с вас маску! — Попробуйте. Незнакомец взял руку англичанина и ногтем провел от своего лба до подбородка. — Настоящее тело, — прошептал Марч, не отрывая напряженного взгляда от знакомых серых глаз. — Патентованная человеческая кожа, — подхватил незнакомец. — Вижу, чувствую. Но что это значит, сэр? Человек пожал плечами. — Мне надоело быть Лавузеном. Я перевоплотился. Вот и все. — Это бессмыслица, — уже неуверенно прошептал Марч. — С точки зрения здравого смысла, — загадочно улыбнулся человек с пробором, — да! А если смотреть так, что жизнь — это плакат* и все краски вселенной к твоим услугам— выходит проще. Наука, дорогой Марч, наука! — Значит, вы — Лавузен? Художник поклонился. — Но, сэр, этого не может быть! — взметнулся Марч. — Послушай, дорогой! Твое лицо напоминает мне сомневающегося идиота, каких так: много в эпоху гениальных открытий человечества, — примирительно заметил Лавузен. — Я просто доказал, что ты неправ и должен будешь взять обратно свои слова о моем, сумасшествии. — Конечно! Я извиняюсь, готов признать себя щенком, хотя бы для того, чтобы всю жизнь следовать за вами, мсье Лавузен, если вас так можно назвать. Художник строго посмотрел на него. — Разумеется, для тебя я Лавузен. Для других… Дай руку, Марч. Мне кажется, что мы будем друзьями. — Англо-французский союз, — с полуулыбкой ответил Марч. Лавузен поморщился. — Ммм… Это будет похоже на жульничество. Просто деловой союз. — Но как вам это удалось? Мсье Лавузен, сознайтесь теперь, что это шутка! — Ты непоправимо глуп, Марч! Рассказывать слишком долго. Препараты, химия, сплавы, кожа какого-то животного — целая мастерская. Я ничего не помню. Это был какой-то транс. Кроме того, я больше следил за этим человеком, чем за его работой. — Лавузен, вы говорите, что наука — это» мастерская безумия? — Может быть! Я пошел дальше. Мне хочется проверить одну упорную формулу англичанина— здравый смысл. Вот зачем понадобилось это перевоплощение. Но довольно болтовни. За дело, Марч, или… — художник указал на дверь, — вы свободны. Несколько минут Марч колебался. — За дело, мсье Лавузен! Я не знаю, чего вы хотите, но я ваш. Сходят с ума один раз, и теперь мне уже все равно. Лавузен улыбнулся. — Возьмите газету, разверните первую страницу. — «Принц Уэльский путешествует», — прочел Марч. — Что ты там видишь? — быстро спросил Лавузен. Марч взглянул на художника, потом на портрет в газете — и провел рукой по лбу. — Вы, сэр?.. — Очень рад слышать это признание из твоих уст. Марчустало опустился на кровать. — Это выше моего рассудка. Но, Лавузен, кто же из нас сошел с ума? Теперь я уже не знаю наверное. — Успокойся, это вселенная сошла с ума. Мы с тобой — воплощение здравого смысла……………………..
На другой день, зайдя в ателье Лавузена, Марч не нашел там никого. Не веря глазам, Марч разорвал лежавший на столе конверт. В записке было написано: «Дорогой друг! Меня неожиданно вызвали в Лондон дела государственной важности. Если хотите, приезжайте. Жду по следующему адресу: Пикадилли, гостиница «Нормандия». Спросить под именем Арчибальда Гледдон. Ваш Анрц Лаузен (П. У.) Чувствуя боль в груди и сумятицу мыслях, Марч отвернул штепсель и на столе заметил деньги, прикрытые газетой. Триста франков кредитками…Этот отрывок взят из только что вышедшей в свет в издании «ЗИФ» книги Анатолия Шишко «Конец здравого смысла» (Стр. 144. Ц. 1 р.). В этом сатирическом романе, с легким налетом фантастики, едко высмеивается традиционный «здравый смысл» английского буржуа и общий рекламно-предпринимательский уклон капиталистической культуры. В романе выведен ряд известных широким читательским кругам английских общественных деятелей.

ОТ РЕДАКЦИИ Не забудьте заполнить прилагаемую при этом номере предподписную анкету и прислать ее поскорее в редакцию «Следопыта».

СЛЕДОПЫТ СРЕДИ ГАЗЕТ
КАНОПУС — ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ
Мы так прочно усваиваем с первыми уроками по мироведению представление о нашем Солнце, как о величайшем светиле Вселенной, что просто не можем представить себе существование звезды большей, чем Солнце, величины. А такая звезда есть. Это — Канопус, величайшее из величайших светил, долгие годы представлявшийся взорам ученых самой заурядной звездой. Все представления о подлинном центре мира в корне разрушены результатами трудов астронома Валькея, отдавшего десятки лет делу изучения этой звезды. Результаты наблюдений Валькея потрясающие: объем Канопуса в два миллиона четыреста двадцать тысяч раз больше объема Солнца, т.-е. масса Канопуса так велика, что для того, чтобы смастерить другой подобный ей «небесный мяч», понадобилось столько же материала, сколько пошло бы его на изготовление 3 триллионов 146 миллиардов таких жалких шариков, как наша Земля. От нас Канопус отстоит «всего» на расстоянии 489 световых годов. Это значит, что то слабое мерцание этой «ничтожной звездочки», какое увидят сегодня в свои телескопы астрономы, на самом деле послано нам Канопусом еще в сентябре 1438 года. Луч света пробегает в секунду триста тысяч километров. Простым умножением можно вычислить, что от Земли до Канопуса «рукой подать» — четыре квадрильона шестьсот двадцать девять триллионов километров «по прямому направлению». Валькей утверждает, что Канопус является подлинным центром Вселенной, в которой вся наша солнечная система играет очень и очень незначительную роль.(«Комс. Правда»)
СТРАНА ЧЕРНОГО ЗОЛОТА.
Каменными стенами, зубчатыми башнями крепости уткнулось богатое ханство Ширванское в Каспий. Голые солончаковые берега обдували ветры, в степных просторах колыхались караваны. Богатое ханство Ширванское — Азербейджан — брали поочередно приступом персы, турки, русские. Спускался сюда по Волге Стенька Разин. Возле Сабунчей есть пещера его имени. Рассказывают, что он скрывался в ней от преследовавших его царских войск… Но кончилась восточная сказка, на солончаках начала твориться новая жизнь. Буровые вышки черными пирамидами покрыли берега моря. Полилась обильными потоками нефть — черная «кровь земли», «черное золото»… Для того, чтобы достать из земли каменный уголь, человеку надо уйти глубоко в ее недра и, вгрызаясь в угольные пласты, выбрасывать их подъемниками на поверхность. Нефть добывается проще. Там, где исследование обнаруживает нефтяные залежи, — там просто пробуравливается дыра диаметром в 8 —10 дюймов — скважины. Раньше бурили ударным способом — долотом. Скважину в 300–400 метров буравили иногда более полугода. Когда долото касалось нефтяного пласта, нефть давлением газа выбрасывалась вверх и била высокими фонтанами, разливаясь огромными озерами. Оставалось только собирать ее. Когда напор газа ослабевал, в скважину опускали желонку — пятнадцатиметровое цилиндрическое ведро. Желонка зачерпывала нефть, ее на канате выволакивали на поверхность и опорожняли в цистерны. Это называется тартаньем нефти. Теперь на долю желонок осталось не более 30 % добычи «черного золота». Бурят сверлами, быстрее проникающими в глубь земли. Появляющийся фонтан немедленно сковывают мощные трубы. Клокоча и возмущаясь, нефть течет в хранилища, а газ, улавливаемый специальными приборами, идет на освещение домов. Когда фонтан затихает, устанавливают электрический мотор, круглые сутки откачивающий нефть. Нефть выброшена на поверхность. Теперь надо перегнать ее. На промыслах не видно совершенно вагонеток. Только дизельная «кукушка» пыхтит, перетаскивая землю, песок и рабочих с промысла на промысел. Зато, где ни ступишь — труба. Огромные десятидюймовые, тонкие трехдюймовые — они опутывают каждую вышку, идут и на поверхности и под землей. По трубам нефть стекает в Черный Город. Здесь, на нефтеперегонных заводах ее подогревают, и она выделяет из себя последовательно бензин, керосин, смазочные масла. Мировая промышленность не удовлетворяется каменным углем. Капиталистические страны спорят за нефтяные богатства земли. Острым запахом «черного золота» пропитаны международные отношения. С.-А. С. Ш. и Мексика занимают два первых места в мировой добыче нефти. Третье место твердо занято СССР. Советский Азербейджан — центр нефтяных богатств всего мира. Не поддаются учету запасы нефти у берегов Каспийского моря. Уже над каждым нефтяным пластом воздвигнута вышка. И человек теснит море, выхватывает у него дно, засыпает Биби-Эйбатскую бухту — и там, где в прошлом году пенился прибой, сегодня ползут вверх белые, еще не загрязненные нефтью вышки…(«Пролетарий»)
«БЕССМЕРТНЫЕ»
Канцелярия… Стоящие в чинном порядке, заваленные бумагами столы… Ручки, чернильницы, пресспапье и другие невинные аттрибуты учрежденского обихода. И вот, взрывая спокойствие красок канцелярии, на простой оберточной бумаге лежат серебристо-белые, желтые и розовые коконы. Маленькие, овальные, они прорываются сквозь обыденные докучные вещи своей блестящей и яркой свежестью. Это — азербейджанская шелководственная станция — маленькая фабрика, продукцией которой являются яички бабочки шелкопряда— так называемая грена. В этом году станция работает над оживлением сорока восьми пород грены — японской, китайской, средне-азиатской, кавказской и множества других. В прошлом году на станции было изготовлено 650 коробок грены, а в этом году будет изготовлено не менее 2.000 коробок Это количество может показаться незначительным, но надо принять во внимание, что в каждой коробке содержится свыше 36.000 яичек, весящих только 25 грамм. В небольшой, чисто выбеленной, погруженной в полумрак комнате, на пахучем сосновом столе по бумаге ползают, трепыхая крыльями, бабочки. Каждая из них поражает толщиной своего брюшка. Приглядевшись к бумаге, я вижу тысячи маленьких желтых точек, расположенных полумесяцами, тесно примыкающими друг к другу. Это и есть грена, откладываемая самками. Живая грена через некоторое время темнеет. Тогда ее отбирают, рассыпают в бумажные пакетики и запаковывают в коробочки. Оживает грена весной, с появлением листьев на тутовом дереве. Появляющиеся почти микроскопические червячки помещаются на специальных полках. Новорожденный червячок имеет необыкновенно развитое обоняние. Он моментально набрасывается на корм и растет буквально на глазах. За месяц шелкопряд увеличивается в 8.000 раз, превращаясь в хорошо откормленного червя, длиною до 7 сантиметров. Мы поражаемся, когда человек сам себе шьет саван или — что еще ужаснее — роет могилу. К числу таких жутких чудаков принадлежит шелковичный червь, методично и не торопясь устраивающий себе могилу и располагающийся в ней не без комфорта. Выбрав удобное место, шелкопряд разбрасывает паутину. Повиснув посредине паутины, он начинает завивать вокруг себя шелковую нитку, образуя таким образом кокон. Утолщая стенку кокона, шелкопряд в то же время постепенно худеет и уменьшается в объеме. Через три дня кокон готов, сознательный самоубийца-червь превращается в маленькую куколку и замирает. Этот честный и изумительный труженик закончил процесс своих собственных похорон. Оказывается, что, даже располагаясь в своей могиле-коконе, шелкопряд заботится о будущем поколении. Один из полюсов кокона делает наиболее тонким и ложится головкой к нему. Куколка превращается в бабочку, которая выпускает изо рта едкую жидкость, разъедающую стенку кокона. Образуется небольшое круглое отверстие, вполне достаточное, однако, для того, чтобы бабочка выбралась наружу. И однообразный цикл жизни шелкопряда начинается снова…(«Заря Востока»)

ПУТЕШЕСТВИЯ
И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
НОВАЯ ГОРНАЯ ЦЕПЬ.
Весной прошлого года Геологический Комитет СССР организовал научную экспедицию на реку Индигирку (крайний северо-восток Сибири). Экспедиция в составе четырех научных работников, под руководством геолога С. В. Обручева выехала в Якутскую республику в мае 1926 года. С неимоверными трудностями, через болота, тянущиеся на сотни километров, экспедиционный караван перевалил через Верхоянский хребет (к северу от Алдана) и проник в Индигирский край, о котором имелись до сих пор лишь весьма смутные сведения. Край этот, — площадью приблизительно в 1 миллион квадратных километров, — ни разу не был обследован с научной точки зрения. За неимением карт экспедиции приходилось расспрашивать о дороге местных жителей. После долгого утомительного пути, экспедиция совершенно неожиданно открыла девять больших горных хребтов, высотой до 3½ километров, тянущихся параллельно Верхоянскому хребту. У якутов эта горная страна носит название «Кыртас». Горы покрыты вечными снегами. Горы Кыртаса пересекаются в нескольких местах реками: Яной, Индигиркой, Колымой и их притоками, тянущимися на север. С. В. Обручевым найдены в этом районе значительные излияния гранитов, дающие основание предполагать наличие в стране месторождений золота. Население — весьма редкое — состоит исключительно из якутов и тунгусов. Большим влиянием пользуются якутские князья — тойоны, беспощадно эксплоатирующие тунгусов, жителей этого неизвестного до сих пор края. Экспедиция пробыла в пути свыше 8 месяцев и возвратилась в Якутск лишь в декабре 1926 г. Последние месяцы участники экспедиции сильно страдали от морозов (при 50–60° мороза приходилось спать в палатках), вследствие чего трое из них тяжело заболели. Наиболее холодным местом на земле— «полюсом холода» — считали до сих пор г. Верхоянск, Якутской области. Экспедиция, исследуя восточную часть Верхоянского хребта, в районе реки Индигирки, нашла в верховьях этой реки местности с еще более низкой температурой. Сюда, возможно, придется перенести полюс холода.КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
«ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» ПО СССР
Углубляя редакционную работу по улучшению содержания журнала и исходя из той части резолюции, принятой первой московской конференцией подписчиков нашего журнала, которая гласит: «ближе к современности, к советскому строительству, к советской общественности» (см. отчет в № 6 «Всемирного Следопыта»), редакция «Всемирного Следопыта» отправила в течение текущего лета семерых своих сотрудников в специальные экспедиции в различные части СССР для собирания литературно-краеведческого материала: 1) Эразм Батенин — ученый географ и исследователь Средней Азии — в большую экспедицию по Средней Азии.
Результаты предшествующих путешествий Э. С. Батенина изложены в специальных трудах, частью переведенных на иностранные языки. Из ряда работ этого ученого за последние годы особенно любопытны труды, касающиеся спелеологии — сравнительно молодой науки, предметом ведения которой являются пещеры. Двухтомное ученое исследование Э.,С. Батенина о легендарной средне-азиатской пещере Кон-И-Гут останется (как специальное), вероятно, неизвестным широкой аудитории. Однако, будучи не только ученым, но и романистом, Э. С. Батенин описал в художественной форме некоторые увлекательные факты из знаменитой Кон-И-Гутской экспедиции в своем романе «Бриллиант Кон-И-Гута», изданном «ЗИФ'ом».
1) Эразм Батенин — ученый географ и исследователь Средней Азии — в большую экспедицию по Средней Азии.
Результаты предшествующих путешествий Э. С. Батенина изложены в специальных трудах, частью переведенных на иностранные языки. Из ряда работ этого ученого за последние годы особенно любопытны труды, касающиеся спелеологии — сравнительно молодой науки, предметом ведения которой являются пещеры. Двухтомное ученое исследование Э.,С. Батенина о легендарной средне-азиатской пещере Кон-И-Гут останется (как специальное), вероятно, неизвестным широкой аудитории. Однако, будучи не только ученым, но и романистом, Э. С. Батенин описал в художественной форме некоторые увлекательные факты из знаменитой Кон-И-Гутской экспедиции в своем романе «Бриллиант Кон-И-Гута», изданном «ЗИФ'ом».
2) Михаил Зуев — автор рассказов: «Властелин звуков» (№ 11 «Следопыта» за 1926 год), «Корабль в болоте» (№ 3 «Следоп.» за текущий год), премированного рассказа «По обе стороны окна» (№ 1 «Вокр. Света» за тек. год), и «Желтый тайфун» (№№ 3 и 4 «Вокр. Света» за тек. год) — в большую исследовательскую поездку по Среднему Уралу.
 3) Владимир Белоусов — автор премированного рассказа «Ущелье Большого Дракона» (№ 2 «Следопыта» за текущий год) и «Обсерватория в снегах» (в настоящ. № «Следоп.») — в краеведческий поход по Заонежью и Карелии.
3) Владимир Белоусов — автор премированного рассказа «Ущелье Большого Дракона» (№ 2 «Следопыта» за текущий год) и «Обсерватория в снегах» (в настоящ. № «Следоп.») — в краеведческий поход по Заонежью и Карелии.
 4) Петр Гаврилов — автор рассказа «Ночевка на дне моря» (№ 8 «Следоп.» за тек. год) — в парусно-гребной шлюпочный рейс по Волге и Каспийскому морю, от Москвы до Баку (организованный Осоавиахимом).
Шлюпочный поход намечен по р. р Москве, Оке и Волге и Каспийскому морю. Все расстояние от Москвы до Баку (свыше 4 тыс. километров) должно быть пройдено в полтора месяца. В походе участвуют 16 человек, из них трое старшин, назначенные в порядке поверочного сбора, один — по назначению Управления Военно-Морских Сил, и 12 допризывников. Поход совершается в порядке боевого приказа и регламентируется военно-морским уставом. Поход производится под военным флагом, с соблюдением полной военной дисциплины.
4) Петр Гаврилов — автор рассказа «Ночевка на дне моря» (№ 8 «Следоп.» за тек. год) — в парусно-гребной шлюпочный рейс по Волге и Каспийскому морю, от Москвы до Баку (организованный Осоавиахимом).
Шлюпочный поход намечен по р. р Москве, Оке и Волге и Каспийскому морю. Все расстояние от Москвы до Баку (свыше 4 тыс. километров) должно быть пройдено в полтора месяца. В походе участвуют 16 человек, из них трое старшин, назначенные в порядке поверочного сбора, один — по назначению Управления Военно-Морских Сил, и 12 допризывников. Поход совершается в порядке боевого приказа и регламентируется военно-морским уставом. Поход производится под военным флагом, с соблюдением полной военной дисциплины.
 5) Владимир Ветов — автор охотничьих юморесок: «Драгоценная галка», «Щадилов пруд», «На волков», «Даешь лису!» (разн. № № «Следоп.» за текущ. год) — в большую охотническо-краеведческую экспедицию на Байкал и в Забайкалье, с обследованием байкальских рыбных и нерпичьих промыслов, местного соболиного питомника и проч.
5) Владимир Ветов — автор охотничьих юморесок: «Драгоценная галка», «Щадилов пруд», «На волков», «Даешь лису!» (разн. № № «Следоп.» за текущ. год) — в большую охотническо-краеведческую экспедицию на Байкал и в Забайкалье, с обследованием байкальских рыбных и нерпичьих промыслов, местного соболиного питомника и проч.
 6) Александр Чачиков — сотрудник нашего «Вокруг Света» по отделу филателии, автор недавно вышедшего сборника стихов о Востоке «Чай-Хане» — в экспедицию по обследованию древнейшего пещерного города на берегу р. Куры, близ г. Гори (в Закавказье).
6) Александр Чачиков — сотрудник нашего «Вокруг Света» по отделу филателии, автор недавно вышедшего сборника стихов о Востоке «Чай-Хане» — в экспедицию по обследованию древнейшего пещерного города на берегу р. Куры, близ г. Гори (в Закавказье).
 7) Д-р И. М. Саркисов-Серазини — писатель, драматург и путешественник, автор рассказа «Волки Илдыза» (№ 7 «Следоп.» за тек. год), романа «Собаки Стамбула» (печатающегося в изд. «ЗИФ») и ряда книг по вопросам лечения и оздоровления силами природы («Лечитесь солнцем», «На зимний воздух» и др.), один из основателей Общества по изучению Крыма, — на побережье Черного моря для изучения быта рыбаков и картин рыбных промыслов на белугу, барбульку и т. д.
Редакция рассчитывает, что этот первый опыт посылки собственных следопытов, прекрасно владеющих литературной формой и научно-подготовленных в малоисследованные углы нашего обширного Союза, — обогатит страницы нашего журнала новыми ценными краеведческо — приключенческими очерками и рассказами, имеющими образовательный характер.
Очерки и рассказы наших следопытов мы начнем помещать со следующего номера.
7) Д-р И. М. Саркисов-Серазини — писатель, драматург и путешественник, автор рассказа «Волки Илдыза» (№ 7 «Следоп.» за тек. год), романа «Собаки Стамбула» (печатающегося в изд. «ЗИФ») и ряда книг по вопросам лечения и оздоровления силами природы («Лечитесь солнцем», «На зимний воздух» и др.), один из основателей Общества по изучению Крыма, — на побережье Черного моря для изучения быта рыбаков и картин рыбных промыслов на белугу, барбульку и т. д.
Редакция рассчитывает, что этот первый опыт посылки собственных следопытов, прекрасно владеющих литературной формой и научно-подготовленных в малоисследованные углы нашего обширного Союза, — обогатит страницы нашего журнала новыми ценными краеведческо — приключенческими очерками и рассказами, имеющими образовательный характер.
Очерки и рассказы наших следопытов мы начнем помещать со следующего номера.
ГОРОДА, КОТОРЫЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ.
В нашем представлении земная кора является чем-то незыблемым, и только катастрофические землетрясения нарушают ее покой, воздвигают новые горы и перемещая гигантские пласты земли. Оказывается, однако, что такие перемещения происходят и помимо причин катастрофического порядка. Путем наблюдения было установлено, что за несколько столетий расстояние между баварскими городами Мюнхеном и Вельденштейном сократилось. Явление это германские геологи объясняют незаметным процессом образования складок на земной коре. Установлено, что гигантские территории к востоку от Мюнхена медленно «плывут» по направлению от востока к западу. Геологи вычислили, что в течение 1000 лет местности, находящиеся в противоположных концах этой области, приблизились друг к другу на 18 м. В других частях Европы такое смещение земной коры происходит еще быстрее. В Бельгии, например, существуют районы, где почва движется со скоростью до 1 м в 30 лет. Смещения земной коры происходят не только на суше. Интересное явление, например, наблюдается на дне Атлантического океана. Выяснилось, что с течением времени оно значительно подымается. При ремонте проложенного вблизи острова св. Елены подводного кабеля оказалось, что кабель этот, четверть века назад находившийся под водой на глубине 4.500 метров, сейчас находится на глубине только 1100 метров.С. Н.

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
В № 8 «Всемирного Следопыта» редакция открыла среди читателей, авторов и сотрудников сбор на самолет «Земля и Фабрика». Помещаем первый список пожертвований:
Редакция «Всемирного Следопыта»: ответственный редактор В. И. Нарбут — 15 р.; заведующий редакцией В. А. Попов — 15 р.; секретарь редакции А. З. Сокольский — 7 р.; литературный секретарь С. К. Грепачевский — 4 р.; секретарь-корреспондент А. Д. Кочин — 3 р.; машинистка Л. А. Заикина — 1 р., а всего 45 р. Сотрудники журнала «Всемирный Следопыт»: К. С. Елисеев — 3 р.; Л. М. Россихин — 3 р.; Э. Л. Миндлин — 80 к., а всего 6 р. 80 к. Сотрудники Изд-ва «Земля и Фабрика» (отчисление от зарплаты — первый взнос) — 34 р. 88 к., и по подписному листу — 108 р. 05 к., а всего 142 р. 93 к. Авторы, художники и переводчики Изд-ва «Земля и Фабрика» 78 р. 50 к. Фельетонист «Правды» М. Е. Кольцов — 80 р.; Н. И. Кожевников — 10 р.; Д. С. Земмель — 10 р.; Л. О. Колесников — 15 р.; В. С. Шней —10 р. Редакция журнала «30 дней» — 20 р. Сотрудники журнала «30 дней» —12 р. Подписчики и читатели журналов «Всемирный Следопыт» и «30 дней»: На 22/VIII: А. Г. Крайз (Москва)—1 р.; Б. Юрезанский (Харьков) — 1 р.; К. Иорданов (Севастополь) — 50 к.; Г. Шабад (Ленинград) — 75 к.; В. Бондарев (Пенза) — 50 к., и читатели его экземпляра «Следопыт» — 50 к. На 23/VIII: Грамолин (Ялта) — 30 к. (вызывает пионера Гугеля и всех пионеров, подписчиков журнала «Всем. Следопыт»); Солимани (Скопин) —50 к.; Журавлев (Ярославль) — 20 к.; Бойко — 70 к.; Комаров А. (с. Мотовилов, Ряз. губ.) — 1 р. На 24/VIII: Дорошенко П. (Инза) — 20 к.; Шевченко Д. (Харьков) — 1 р.; Шеффер Б. (ст. Должанская, подп. «30 дней») — 2 р. 80 к.; Хмельной А. (Духовщина, подп. «30 дней») — внос. 3 р. и вызывает всех провинциальных поэтов. На 25/VIII: Самойлов А. (Казалинск) — 2 р.; Маркевич А. (Воржель) — 50 к.; Плаксин В. (Астрахань) — 50 к.; Малхунов Ф. (с. Воскресенское, Волог. губ.) — внос. 1 р. и вызывает Н. Курского. На 26/VIII: Прокопьев М. (Карелия, Княжа Губа, подп. «30 дней») —50 к.; Смирнов Н. (Пермь) — 60 к.; Белан 3. (Грозный, подп. «30 Дней») — 1 р.; Блюм С. (Тула) — 50 к.; Муховод И. (Глухов, подп. «30 Дней») — 50 к. На 27/VIII: Красноголовый Ю. (Новогеоргиевск) — 32 к.; Карабанов П. (с. Пинилейка) — 50 к.; Смыков Н. (с. Сошки) — 48 к.; Барщевский А. (Подхожее, Тульской губ.) — 50 к.; Всего от подписчиков поступило на 27/VIII— 22 р. 85 к.
Всего собрано пока 453 р. 08 к.
Дальнейший прием взносов продолжается!
Деньги переводите по адресу: Москва, Центр, Варварка, Псковский пер., 7, контора журнала «Всемирный Следопыт», обязательно указывая «на самолет». Взносы до 1 рубля можно присылать почтовыми марками, вкладывая их в конверт. Наклеивать марки на сопроводительное письмо ни в коем случае нельзя. Московские читатели могут вносить деньги в Московской конторе Госбанка на текущий счет № 2262.

ОБО ВСЕМ И ОТОВСЮДУ
НЕ НАДО ЛИ ВАМ ЖИВОГО КРОКОДИЛА?
Если такая надобность у вас есть, то вы всегда можете его купить в специальном питомнике в Америке, где спрос на изделия из крокодиловой кожи и зубов значительно превысил предложение, и разведенке крокодилов (собственно, аллигаторов) стало весьма доходным предприятием. Питомники эти, конечно, приходится устраивать в штатах с тропическим климатом, как Флорида или Калифорния, где всегда можно выбрать подходящее место для содержания и разведения крокодилов. Так как крокодил растет чрезвычайно медленно (10-летний крокодил едва достигает ½ метра, а чтобы достигнуть длины в 3½ метра, крокодил должен прожить чуть ли не 100 лет), то живой товар фермы быстро истощается, и приходится охотой добывать крокодилов с воли, где-нибудь в болотах Луизианы или Флориды. Охота эта чрезвычайно опасна. Заблаговременно днем охотник высматривает потайнее убежище аллигатора, нору, в которой тот прячется, запускает туда длинный деревянный шест и начинает им водить по крокодилу, пока тот, приведенный в ярость, не вцепится зубами крепко в шест, после чего охотнике помощью своих товарищей извлекает аллигатора из логовища, быстро накидывает тому на пасть аркан и обрубает шест, который крокодил продолжает крепко стискивать зубами. При этом случается, что животное успевает захватить зубами и размозжить руку или ногу неосторожного охотника или страшным ударом своего хвоста повалить его на землю. Пойманные крокодилы доставляются на ферму в Калифорнии или Флориде, где даже в зимнее время они не зарываются в ил, чтобы перезимовать до весны, а спокойно греются на солнце, не принимая, однако, никакой пищи за всю зиму. Опаснее всего бывают крокодилы на фермах в июне, в период ухаживанья самцов за самками, когда наиболее буйным самцам приходится даже надевать намордники, чтобы они — не перегрызлись. В июле самки начинают кладку яиц, для чего на каждой ферме имеются подходящие места. Задними лапами самки сгребают в кучу хворост, листья, сухую траву и откладывают от 30 до 60 продолговатых яиц, предоставляя солнцу сделать остальное. Но фермер немедленно отбирает яйца и складывает их в подогреваемые ящики-инкубаторы, пересыпая влажными опилками. Через 60 дней из яиц вылупливаются молодые аллигаторы. В виду усиленного спроса на молодых крокодилов — на фермах обращают большое внимание на разведение молодняка. Особенного ухода молодые аллигаторы не требуют, так как, повидимому, они не очень подвержены болезням. Процент испорченных яиц очень невелик. Их бьют и продают на память посетителям фермы. Последние особенно охотно навещают ферму по воскресеньям, когда происходит кормление крокодилов. Меню их, большей частью, состоит из мясных отбросов с крупных боен, при чем добавляются еще в виде лакомства битые утки и голуби.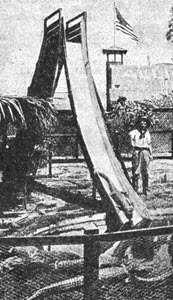
Катанье с горы… крокодилов.
Для развлечения посетителей на ферме устраиваются целые представления с крокодилами, демонстрируется охота на них, показываются приемы дрессировки, гипноза их и т. д. Особенно интересным номером программы является сбегание аллигаторов по наклонной плоскости в водяной бассейн с высокой площадки, куда они взбираются по подставленной отлогой лестнице-стремянке, а затем, по знаку своего укротителя, сложивши вместе передние лапы, устремляются быстро с высоты 8½ метров в воду. На фермах обычно имеется богатый выбор изделий из крокодиловой кожи и зубов. Последние идут на изготовление браслетов, брошек, шляпных булавок и т. д. Наибольшая часть выкормленных аллигаторов идет, однако, в зверинцы и зоологические сады, а маленькие экземпляры — для разного рода рекламы.

Крокодилы на ферме близ Джексонвиля (во Флориде).
Одна из самых крупных ферм для разведения аллигаторов находится вблизи г. Джексонвиля, во Флориде. На этой ферме постоянно имеется до 5 тысяч живых аллигаторов разных возрастов.
Б. Вл.
КАК В КИТАЕ ДЕЛАЮТ БУМАГУ
Немногим известно, что представляет собою бумажная промышленность в Китае, — а в то же время не может не удивить всякого из нас, если указать, что по официальным данным в Китае насчитывается не менее 85 000 бумажных фабрик, расположенных к югу от реки Ян-цзы! Правда, если разобраться во всех этих предприятиях, то можно найти не более чем 25 предприятий, которые можно назвать фабриками, — притом все они работают не на своем сырье, а снабжаются привозным сырьем. Что же касается остальных бумажных фабрик, то они представляют собою мелкие кустарные мастерские, в которых бумага изготовляется из местных растений самым примитивным способом, без всяких машин. В этих мастерских бумага делается или из смеси 70 % рисовой соломы и 30 % особого кустарника «тан», или из бамбука. При производстве бумаги из рисовой соломы, материал варится с известью в железных котлах, отапливаемых дровами, и затем его белят солнечным светом, раскладывая на пригорке так, как в деревне расстилают для отбелки холсты. Отбелка — самая длинная операция в производстве бумаги; она, при постоянном смачивании водой, продолжается от 5 до 7 месяцев, в то время как при современных способах, путем применения хлорной извести, эта отбелка требует не более 8 часов. После размола в деревянной толчее, материалы смешиваются в определенной пропорции, и из них ручной вычерпкой получаются листы, которые сушатся, выглаживаются каменными вальцами и разрезаются на требуемые размеры. Из бамбука бумага делается еще с большим трудом. Молодой, не достигший одного года бамбук вымачивается в воде в продолжение двух недель, затем он вымачивается в воде с известью 5–6 дней и, наконец, кипятится с известью в котлах от 2 до 7 дней. После этого он несколько раз промывается и кипятится с содой или с древесной золой; последняя промывка продолжается от 10 до 40 дней. В Китае цветная бумага находит намного более широкое распространение, нежели белая. Каждый цвет имеет свое значение. Красный означает счастье, и поэтому красная бумага употребляется при всяком удобном случае. Напротив, в знак траура и разных печальных событий пользуются голубой или зеленой бумагой. Желтый цвет считается деловым и официальным, — на желтой бумаге раньше печатались все государственные распоряжения и объявления о религиозных церемониях…Я. Г.
ТУРНИР БОЙЦОВЫХ РЫБОК
В Сиаме водится небольшая рыбка, около 9 сантиметров в длину, которая, благодаря своим воинственным наклонностям, получила название «бойцовой» рыбки. Самки сравнительно мирные, но самцы постоянно дерутся друг с другом, и дерутся так ожесточенно, что драки их нередко оканчиваются смертью одного из противников. Самкам приходится часто страдать от дурного характера самцов; если самка недостаточно благосклонно принимает ухаживания самца, то он очень убедительно показывает избраннице своего сердца, что не допустит пренебрежения. Эта воинственная система ухаживания оканчивается обычно браком, и парочка в дальнейшем ведет спокойную семейную жизнь. Этих рыбок в Сиаме испокон веков держат в домашнем состоянии. Сиамцы разводят их для очень любимого у них спорта. Они устраивают рыбьи бои, так же, как когда-то устраивали петушиные. Желающие участвовать со своими рыбками в публичных боях — платят известный налог, который дает государству немалый доход. Бои происходят при соблюдении тверда установленных правил, при чем спорные вопросы решаются беспристрастными арбитрами. Огромные суммы ставятся иной раз на борющихся рыбок азартными любителями этого спорта… Каждая рыбка может участвовать только в одном бою. Поранения, которые она неизбежно получает от своего противника, всегда настолько серьезны, что делают ее неспособной к дальнейшему участию в боях, и побежденного борца и спешат вынуть сачком из банки прежде, чем победитель успеет нанести последний удар.
Турнир бойцовых рыбок в Сиаме.
Во многих городах Сиама устраиваются большие рыбьи турниры, на которые каждый может явиться со своей рыбкой. Бои устраиваются в просторных помещениях, к потолку которых на цепочках подвешиваются большие стеклянные сосуды с водой, куда и пускаются попарно бойцы. Вокруг этих сосудов находятся платные места для зрителей. Неопытному человеку трудно уловить, что происходит в сосуде, но зоркий глаз туземцев отлично улавливает каждое движение маленьких борцов, и они громко приветствуют удачные выпады той рыбки, на которую они поставили свою ставку. Боевые рыбки в диком состоянии встречаются в изобилии в горных ручьях в окрестностях Пенанга. Но рыбки, выступающие на турнирах, не ловятся прямо в ручьях. Подобно чистокровным скаковым лошадям, они являются продуктом тщательного искусственного отбора. Любители рыбьих боев выбирают из выводка наиболее воинственных и разводят от них потомство. В обычных условиях бойцовые рыбки имеют коричневатую окраску. Когда же они возбуждены — в период спаривания и во время боя — они совершенно меняются. Их чешуя отливает тогда яркими цветами — красным, зеленым и голубым, и они становятся замечательно красивыми.
ГЕЛИЙ В ВОДОЛАЗНОМ ДЕЛЕ.
При работах на большой глубине водолазов подымают на поверхность чрезвычайно медленно, чтобы не вызвать болезненных явлений, иногда очень тяжелых. Нужно дать время для того, чтобы азот, входящий в состав воздуха, которым дышит водолаз, под большим давлением всасываемый телом, успел спокойно выделиться. Теперь выяснилась возможность заменить азот — в качестве «разжижателя» кислорода — гелием. Преимущество гелия то, что юн проникает в поры тела водолаза в значительно меньшей степени, чем азот, и при подъеме на выделение его нужен соответственно меньший срок. Самый процесс выделения идет значительно быстрее, в силу особенностей молекулярного строения гелия. Так как гелий дорог, то применение его возможно только в особых случаях, когда требуется большая быстрота производства водолазных работ.Я. Г.
КАК СПАСАЮТ В КИТАЕ
В Китае, близ острова Формозы, для спасания на водах применяют оригинальный плот, так называемый катамаранг. Такой плот, строящийся из бамбука, имеет в длину около 10 м, в ширину около 3 м и весит около 100 кг. Экипаж его состоит из 4 гребцов и одного пловца. Катамарангу не страшны буруны, в которых он может держаться по целым дням; он вполне безопасен и выгребает против всякого ветра. Своеобразный ушат, предназначенный для помещения в нем спасенных, два выдвижных клина, служащих килями при плавании под парусами, узкий и длинный боченок, поддерживающий пловца, и наконец, шест — вот все незамысловатое оборудование катамаранга. Спасание производится следующим способом: подойдя на расстояние 20–30 м к месту бедствия, гребцы ждут момента, когда пловец, сидя верхом на боченке, минует недоступные для плота буруны и достигнет погибающего. Обвязав его тросом, пловец дает сигнал выбирать конец и буксировать их обоих в безопасное место. На мелких местах пловец упирается в дно шестом, чтобы его не сносила волна.Я. Г.
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ВОДОЛАЗА С АЭРОПЛАНОМ.
В середине текущего года Радиовещательное Общество Нора производило интересный опыт установления телефонной связи между водолазом, работавшим на дне моря, и аэропланом. Опыт этот, давший очень хорошие результаты, имел место близ северного побережья острова Сильт. Роль промежуточного пункта при этой связи играл снабженный приемно-передающей радио-установкой пароход, с которого был спущен водолаз и с которым он был соединен при помощи телефонного кабеля. Аэроплан был снабжен такой же радиоустановкой.ВОЗДУШНЫЕ ПОЕЗДА.
В Германии проделан удачный опыт буксирования самолетом планера на расстояние 200 км от Касселя до Франкфурта-на-Майне. Планер, прикрепленный канатом в 30 м к самолету, при полете держался в воздухе выше последнего. Опыты будут продолжены и, в случае успешности их, проектируется пускать по воздуху полные поезда в составе самолета с полдюжиной прикрепленных к нему планеров, рассчитанных на 6–8 человек каждый. «Воздушные поезда», несомненно, должны удешевить стоимость пассажирских полетов.Б. Вл.
ИСКУССТВЕННАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЛОТИНА.
Германские инженеры применили новый способ устройства в течение нескольких часов глухой плотины для производства подводных работ. В дно вбиваются на некотором расстоянии друг от друга несколько рядов железных трубок. Затем их наполняют жидким воздухом. Последний, энергично испаряясь, понижает температуру вокруг трубок до 180° Цельсия. В несколько часов вырастает сплошная ледяная плотина около трех метров толщины, возвышающаяся на несколько сантиметров над уровнем воды. Последнюю из создавшегося таким образом закрытого бассейна выкачивают насосами. Освободившееся пространство либо заваливается балластом и укрепляется, либо внутри ледяной плотины возводятся прочные постоянные стены, и на осушенном таким образом дне производятся разного рода работы.С. Н.

ШАХМАТНАЯ ДОСКА «СЛЕДОПЫТА»
Отдел ведется Н. Д. Григорьевым
На конкурс: Печатаются впервые Этюд В. Л. Золотарева (Азов)

Белые, начиная, выигрывают
Этюд Д. Рабиновича (Москва)

Белые делают ничью
На конкурс: Печатаются впервые Этюд Е. И. Умнова (Ростов н/Д) Белые: Кра8 Лd6 Cd8 Ка3, b7 п е3, е4. (7) Черные: Кре5 (1) Белые дают мат в 3 (три) хода.
Задача Е. Овсянникова (Рязань) Белые: Крс7 Фс2 Ла2 Cd5 (4) Черные: Kph2 Фе8 Лg1 Cg4, g5 Kg7, h3 п а3, g2 (9) Белые, начиная, выигрывают.
_____
По поводу левой диаграммы. Решая этюд тов. Золотарева, надо исходить из того известного факта, что король с двумя конями заматовать в нормальных условиях одного короля противника не может. После, напр., 1. Kf3 Kpg3 2. Ke4+ Kpf4 3. Ked2 h3 4. Kpf2 b2 получается только ничья, не больше. Т. о. белые с самого начала должны стремиться стеснить по возможности черного короля, не давая ему вырваться из матовой сети._____
В Лондоне в июле месяце состоялся большой «турнир наций». Командами по 4 чел. были представлены Австрия (во главе с Грюнфельдом), Англия, Аргентина, Бельгия, Венгрия (в составе команды — Мароци), Германия (в числе других — Тарраш), Голландия (Эйве и др.), Дания, Испания, Италия (в том числе Монтичелли), Финляндия, Франция, Чехо-Словакия (во главе — Рети), Швейцария, Швеция и Югославия. Победительницей вышла команда Венгрии, выигравшая из 60-ти партий 40 очков (II — Дания — +38½, III — Англия 36½, IV — Голландия 35 и V приз — Чехо-Словакия 34½). Следующая коротенькая, хотя и любопытная партия была сыграна в этом турнире:НАЧАЛО ФЕРЗЕВЫХ ПЕШЕК. Белые: Гильг (Чехо-Словакия) Черные: Цензер (Бельгия) 1. d2—d4 Kg8—f6 2. е2 — е3. Здесь чаще играют 2. с4 или 2. Kf3, с ходом же е2—е3 белые обычно не спешат, чтобы не запирать раньше времени своего ферзевого слона (на c1). 2… d7—d5 3. c2— c4 e7—e6 4. Kgi — f3 Kb8—d7 5. Cfi — d3 Cf8—e7 6. 0–0 o — o 7. Kbi — c3 d5: c4 8. Cd3: с4 c7—c5 9. e3—e4 …
Это позволяет черным упростить и выравнять положение. Естественнее было b2—b3 для развития ферз. слона на главную черную диагональ. 9… C5: d4 10. Фd1: d4 … Белые точно провоцируют дальнейшие размены и ничью. Лучше выглядит 10. К: d4 и если 10…. Ке5, то 11. Се2. 10. … Kd7—с5 Этот ход мало-понятен. Путем простого 10…. Кb6 (удар на Сс4) черные вынуждали размен ферзей и получали равное положение. 11. Фd4—е3 Kf6—g4 (?) Совсем непонятный, неудачный выпад, в результате которого черные понапрасну теряют 2 темпа (т. е. время для двух ходов). 12. Фе3—f4 Kg4—f6 Конечно, h7—h5 только ослабляло позицию черной рокировки и подвергало опасности самую пешку на h5. Прямой ошибкой было бы и 12… f7—f5 из-за 13. е: f Л: f5? 14 Ф: f5 (пешка е6 у черных «связана»). 13. Лf1 — d1 Фd8—а5 Подливает масла в огонь. Поле b6 было бы для черного ферзя более надежной стоянкой (как тотчас выяснится). 14. Cci — d2 Сс8—d7 15. е4—е5! … Отбрасывая черного коня от поля d5, что очень важно. 15. … Kf6—е8 Не лучше было и Kh5 16. Фg4 и т. д. 16. h2—b4! … Отвлекая черного ферзя от поля d8. 16. … Фа3: b4 17. Кс3 — d5 Фb4—а3 Предпочитая отдать не одну фигуру (как было бы при 17… Фа4), а целых две: кроме слона е7, еще и коня с5. 18. Cd2—b4 Сдался.
Н. Д. Григорьев, член Всес. Шахм. Исполбюро, за время с 1/VII по 12/VIII находился в «инструктивно-гастрольной» поездке, посетив города Казань, Ижевск, Пермь, Новосибирск, Омск, Свердловск и Вятку. Тов. Григорьев знакомился с состоянием местных шахорганизаций, а также читал лекции на разные шахм. темы и провел 16 сеансов одновременной игры (всего 516 партий, из которых 59 проиграл и свел в ничью 29). Окончание одной из таких партий, игранных в сеансе в Казани, приводится ниже. Белые (Н. Д. Григорьев): Kpd5 Ле5 п а4, b2, с4. (5) Черные (казанец NN): Kpf3 Лf6 п а5, b6, с5. (5) Ход белых. Белые решили разменяться ладьями, резонно полагая, что после 1. Леб Л: е6 2. Кр: е6 Кре4 3. Kpd6 и т. д., перевес будет на их стороне, поскольку к пешкам они подходят скорее. Однако, они успели заметить (а этого могло и не случиться при одновременной игре партий 30-ти), что немедленное осуществление указанного плана еще не ведет к победе. Поэтому прежде всего они сыграли здесь I. b2—bз! … пользуясь тем, что противник бессилен изменить положение или приблизить своего короля. Зато после 1. … Kpf3—f4 белые уже сыграли 2. Ле5—е6 Лf6: е6 (иначе сразу гибнут черные пешки). 3. Kpd5: е6 Kpf4—е4 4. Креб — d6… при чем последовал довольно забавный финал: 4. … Кре4—d4 5. Kpd6—с6 Kpd4—с3 6. Крс6: b6 Крез: b3 Черные были довольны своей судьбой: положение совсем одинаково, и если белые берут одну пешку, то они (черные) взамен берут другую и так же, как их противник, проводят свою пешку в ферзи; — ну, а ферзь против ферзя уже ничья, как известно. Не знали черные лишь одного: что белые могут «подождать» ходом: 7. Крb6—65! … после чего благоразумие от черных требует незамедлительной сдачи.
ЧТО СЛЫШНО НОВОГО?
Весь шахматный мир Советского Союза в данное время ждет двух главных событий: ЗА ГРАНИЦЕЙ — начинающегося в середине сентября месяца в Буэнос-Айресе матча Капабланка — Алехин за первенство в мире; У НАС — открывающегося 25 сентября в Москве V Всес. Шахсъезда, во время которого, кроме обсуждения вопросов шахм. строительства, будут проведены: 1) всес. чемпионат (24 персонально приглашенных участника), где борьба разгорится за звание чемпиона СССР, 2) командные соревнования республик и областей (по б чел. в каждой из 20-ти команд), 3) командные соревнования отдельных профсоюзов между собой, 4) всес. чемпионат Кр. армии и флота, 5) всес. женский турнир и 6) всес. шашечный чемпионат при 35-ти участниках. Съезд продлится около месяца.ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ.
Многим. Присылаемый в редакцию материал (задачи, этюды и т. д.) оплате не подлежит и авторам не возвращается. Участникам конкурсов. Как видно из № 7, конкурс решения задач и конкурс решения этюдов — два независимых друг от друга конкурса. Каждый читатель может участвовать в обоих конкурсах, или в каком-либо одном из них, по своему усмотрению. За присылку своих задач и этюдов никаких дополнительных очков к конкурсным очкам не присчитывается. Нашим композиторам. Согласно установившемуся в шахм. композиции обычаю, задачи и этюды посвящаются лишь большим именам, в частности, именам шахматным. Только известные композиторы посвящают иногда свои произведения отдельным знакомым, неведомым шахматному миру.Л. Луценко (Рязапь), Л. Я. Михайлову (Бийск. окр.) — и А. Покровскому (Боровичи). Присланные произведения рассчитываем использовать. Уч. Е. Овсянникову (Рязань). Для печати подошла одна трехходовка, другая неинтересна и грубо отделана. Д. Рабиновичу. Из двух этюдов выбираем 1-й, как более занимательный и легче построенный. Л. Е. Боборицкой. Первую двухходовку с некоторыми изменениями надеемся использовать, вторую понять но можем. Е. В. Нигелю. Двухходовка мало-интересна, трехходовку имеем в виду. Пионеру Н. Калинину (ст. Пролетарская). Из 6-ти двухходовок думаем взять только одну (бел. Кр а2 — чер. Крb6). A. В. Хмелькову (Ворон. губ.). Одна двухходовка. (б. Кре3 — ч. Kpd5) слаба, другая (Kpc5~Kpf5) не решается и в новой редакции, третья (Kpc1 — Kpd4) для печати годится. Трехходовка имеет побочное решение (1. Фg6). В этюде выигрыш сомнителен при защите 1… Фс4+ (2. Кb4+ Крb6 3. Лb8+ Крс7!). Н. Кузнецову (Рязань). Двухходовка имеет два побочных решения (1. Фg1 и 1. Фg7). К. Вантробг (Витебск). Вы ошибаетесь, думая, что маневр Кh1—f2—d1 — b2 решает присланную четырех-ходовку только в одном варианте: при всякой защите черных он пригоден не меньше, чем другие указанные Вами для белых продолжения. B. Алексееву. Ваша «двухходовка* решается в 1 ход. В. Белякову, уч. Н. К. Коровину(Ставроп. окр.) и М. И. Савинову (Купянск. окр.). В присланных задачах многого нельзя понять: даже король иногда стоит под шахом. В. Баринову (Дно), В. Болховитинову и Е. Горину (Ряз. г.), В. Курнакову (Ленинград), М. Е. Петрову (Тирасполь) и Шатилову (Ульяновск). Присланные задачи не решаются (почему это и не задачи, а просто случайные шахм. положения). А. Н. Блинову (Новосибирск), Е. Горину (Ряз. г.), Ивану Дмитриеву (Архангельск),А. Ендовицкому уч. X. И. Лоеву (Уманск. окр.), Е. А. Муромскому (Ценз. г.), М. Л. Николайчуку, И. И. Тираспольскому (Полтава), уч. М. М. Фальковичу (Клев), Ю. С. Цедербауму (Минусинск) и Г. Чистовичу (Ленинград). Присланные задачи слишком незамысловаты. М. Блантеру, Л. Баранникову и Д. Рабиновичу, Зимкину (Ульяновск), В. Зонкину (Мелитополь), К. Иорданову (Севастополь), С. Н. Круглякову (Тамбов), А. Курубу (Городище), В. В. Макаричеву (Ростов/Д), уч. с. Овсянникову (Рязань), А. Ф. Соловьеву (Ростов Д), С. Файнзильбергу, А. Д. Фрейтману (Критополь). А. В. Хмелькову (Ворон. г.), В. Царанчину, И. И. Шустер-Шерешевскому. Задачи неинтересны, слабы, грубо отделаны, порой даже решение их начинается с шаха. Просьба к читателям-корреспондентам указывать в письмах свои адреса, а для ответа прилагать марку
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИАГРАММ № 7.
Задача Новогрудского. Мат в 2 хода: 1. d2—d4! (но не 1. Крb3 из-за 1… Cd1+ и не 1. d3 в виду хотя бы 1… Cf8). Первый ход создает угрозу 2. Ле5Х. Хороши варианты 1… с4 2. Фf5X (поле с4 у черного короля «блокировано»), или 1… c: d 2. Фb5X. Некоторые читатели, решавшие задачу, не признавали смысла существования за черным слоном f8, другие — за конем h7. Между тем, назначение их довольно понятно: без Kh7 задача решалась бы всего в 1 ход, а без Cf8 хотя и в 2 хода, но без особых тонкостей (1. Лd7+). Этюд Гугеля. Белые выигр.: 1. Ла2+! 2. Кс2+! (вынужденные ходы черных опускаем) 3. Cf6 и мат в несколько ходов (3… Фd4 4. e: d и т. д.). Разумеется, последовательность ходов белых не может быть изменена в виду неприятных шахов, какими грозят белому королю черные пешки.

ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ
ЗАДАЧА БУКВ.

В данном прямоугольнике предлагается переставить буквы так, чтобы по горизонтальным рядам получились географические названия (городов, рек, гор и пр.). Затем прямыми линиями обвести 31 клетки так, чтобы из очертания обведенных клеток получились буквы, составляющие название страны. По горизонтальным рядам этих букв должен получиться лозунг. Звездочки * указывают начало слов.
МАГИЧЕСКАЯ ФИГУРА.
(Иванова Я. А., Ленинград)
В клетках данной фигуры предлагается расставить буквы русской азбуки так, чтобы получились слова: по горизонтальным рядам: 1) Род лодки, 2) Что всегда можно видеть у горящего костра, 4) Постройка, 6) Недовольство, 8) Житель Малой Азии, 9) Одно из званий в царской армии, 11) Речное животное, 12) Представитель вымершего Ю.-Американского племени, 14) Маленькое водяное животное, 15) Род химической посуды, 17) Род подсвечника, 19) Сорт сыра, 21) Напиток, 22) Река Германии, 23) Плотничий инструмент, 25) Полезное растение, 26) Хищная рыба, 27) Полезное растение. По вертикальным рядам: 1) Житель Трансвааля, 2) Плотничий инструмент, За) Игра, 4) Глупый человек, 5) Цветок, 7) Род упаковки, 8) Число, 10) Металлом ч, 11 а) Создатель произведения, 12 а) Река в Африке, 13) Горный хребет, 16) Соврем. танец, 17) Дикое животное, 18) Земельная мера, 19) Часть тела, 20) То, к чему мы все стремимся, 22) Домашнее животное, 24) Род судебного прошения.
ЗАГАДОЧНАЯ КАРТА.
(Михайлова В. А., г. Богородицк)
В данном прямоугольнике предлагается найти очертания трех крупнейших островов, земель.
РЕБУС № 6.

ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА, Бондыреву В., Вышинской О., Дублмцкому И., Кулькову, Курову Б., Маркевич А., Нецвет Г., Петрову М., Полиевктову Н., С. Щацгоск… (с. Тем…) (неразборчиво), Яхонтову Б. — Присланное не подошло. Присылайте еще. Лоеву X. И., Щербакову Ю. Спасибо за присланное. Кое-чем при случае воспользуемся. Живаго С. Возможно, что в будущем году будет устроен конкурс и отдела «Шевели мозгами».
_____
При этом номере всем подписчикам рассылается № 9 «Вокруг Света». Ответственный редактор В. Нарбут. Заведующий редакцией Вл. А. Попов.
АВСТРАЛИЯ
К карте на 4-й странице
Австралия (что значит «Южная Земля») является самой меньшей из пяти частей света, открытой европейцами позднее всех других. Материк ее лежит в южном полушарии между 10°47′ (мыс Иорк) и 39°11′ (мыс Вильсон) южн. шир. — и 113°5′ и 153°16′ вост. долг, (от Гринвича). С востока он омывается Великим океаном, а с запада — Индийским. На севере отделяется от Малайского архипелага Альфурским морем, а от острова Новой Гвинеи— Торресовым проливом. Наибольшая длина с запада на восток 4100 км, а наибольшая ширина с севера на юг — 3200 км. Площадь равна приблизительно 8 миллионам кв. км (несколько меньше Европы). Поверхность Австралии представляет невысокое плоскогорие, перерезанное горными цепями (Австралийские Альпы, Кордильеры и Голубые горы). Наивысшей точкой материка является вершина горы Тоунсенд (2241 м над уровнем моря). Климат крайне сухой и жаркий. Только на севере и северо-востоке выпадает значительное количество влаги. В северной части Австралии температура круглый год 25–26° Ц. Растительный мир крайне своеобразен и совершенно непохож на европейский. Большая часть Австралии представляет травянистые степи, поросшие жесткой и часто колючей травой. Некоторые степи покрыты зарослями колючего кустарника скруба. На побережьи растут пальмовые леса, встречаются рощи древовидных папоротников, кустарниковых деревьев, эвкалиптов. Животный мир еще необычнее, чем растительный. Это — царство сумчатых животных, которые отличаются от других млекопитающих тем, что самки имеют на животе особую складку — сумку, в которой они донашивают новорожденных детенышей. Наиболее распространены из таких животных кенгуру. Кроме сумчатых, водятся т. наз. «птицы-звери», напр., утконос — четвероногое животное с утиным носом. Птицы также необычны — здесь водятся попугаи, лирохвостки, эму, бескрыл (киви-киви) и др. В Австралии до прихода европейцев не было ни коров, ни лошадей, ни овец. Все эти животные были привезены из Европы или из Азии. (См. стр. 705). Население достигает 6 миллионов чел. Коренное туземное население составляют чернокожие, представляющие особую австралийскою расу, быстро вымирающую. В настоящий момент их не более ¼ миллиона. Они ведут кочевой образ жизни, занимаются охотой. Главная масса населения — белые, преимущественно — англичане. В настоящее время в Австралии несколько крупных торг. — пром. городов: Сидней (900 тыс. жит.), Мельбурн (800 тыс.), Брисбэн (250 тыс.), Аделаида (250 тыс.), Перт (160 тыс.). История открытия и исследований. Австралия была открыта голландскими купцами триста лет назад. В 1606 г. испанец Торрес исследовал северо-восточн. побережье, а в 1642 г. голландец Абель Тасман объехал кругом всей Австралии и назвал ее Новой Голландией. В XVIII в. австралийское побережье исследовал английский моряк Джемс Кук, и Австралия была объявлена английским владением. Новую колонию решено было превратить в место ссылки. В 1788 г. сюда была прислана первая партия в 778 чел. каторжников и отряд солдат и сторожей в 550 чел. Эти колонисты основали город Сидней. В начале XIX в. в Австралии стали селиться и вольные колонисты. Волна переселенцев особенно увеличилась после 1851 г., когда были открыты золотые россыпи. Колонисты привезли с собою и европейских домашних животных и птиц, которые превосходно акклиматизировались. Политическое устройство. С 1900 г. Австралия составляет «самоуправляющуюся» часть Британской империи и является буржуазной федеративной республикой из шести штатов: Виктория, Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия, Западная Австралия и Северная Австралия, и, как самостоятельная единица, — остров Тасмания. В последние годы выделена еще особая федеральная территория, на которой построен новый город Канберра[26]), который является столицей республики. Экономика. Австралия является страной земледельческой и, в то же время, экспортирующей, вывозящей свое сырье — шерсть, мясо, пшеницу, масло и металлы. Основа хозяйственной жизни — скотоводство, главным образом — овцеводство[27]). Скотоводство ведется в очень крупных размерах. Многие имения («ранчо») имеют площадь для пастьбы в несколько тысяч кв. километров. В 1924 году в стране насчитывалось свыше 70 миллионов голов овец, а сбор шерсти достигает 300 тысяч тонн в год. Австралия является главным поставщиком шерсти на мировом рынке. Почти все продукты земледелия и скотоводства Австралия вывозит в другие страны, покупая в обмен на них продукты фабр. — зав. промышленности. Главные предметы вывоза: шерсть (на 500 мил. руб.), пшеница (на 270 мил.), мясо (на 100 мил.), кожи (на 100 мил.), масло (на 40 мил.). Таким образом, Австралия является на капиталистическом рынке крупным поставщиком сырья и пищевых продуктов. Все эти продукты идут, преимущественно, в Англию. Англия же снабжает Австралию машинами, тканями, металлическими изделиями.
НОВАЯ ГВИНЕЯ — самый большой остров земного шара (площ. 785 С00 кв. км) — географически относится к Австралии, а политически-представляет колонии Англии и Голландии. Флора и фауна — типично австралийские; характерны для Новой Гвинеи древесные кенгуру и райские птицы. Население (меланезийцы-папуасы и белые) достигает 900 тыс. чел.
ПРЕЖДЕ ПРОЧТИ ВСЕ, ПОТОМ ОТВЕЧАЙ!
ПОМЕНЬШЕ ЛИШНИХ СЛОВ: ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО: редакция обрабатывает и согласует мнения десятков тысяч читателей берегите глаза и время редакционных работников.
ПЯТАЯ АНКЕТА V ГОД ИЗДАНИЯ (ПРЕДПОДПИСНАЯ) Место для 10 копеечной марки МОСКВА, ЦЕНТР Никольская, 10. Гос. Акц. Изд. О-во «ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА» («ЗиФ») Редакции журнала «30 ДНЕЙ» Готовясь к будущему—1930—подписному году, редакция журнала «30 ДНЕЙ» обращается но всем читателям с просьбой ответить на предлагаемые здесь вопросы. Сложив этот лист (не зашивать, не заклеивать наглухо!), наклейте десятикопеечную марку и опустите в почтовый ящик. Каждый наш читатель должен содействовать улучшению своего журнала и его приложений, и каждый может помочь руководителям «30 ДНЕЙ» дельными указаниями на недостатки, пожеланиями (выполнимыми и для всех читателей приемлемыми), практическим советом. Помните при этом, что ваш журнал — массовый, рассчитанный на широкие круги читателей. Поэтому редакция надеется, что подписчики и на этот раз внимательно отнесутся к анкете и помогут редакции создать журнал, который бы еще полнее чем в прежние годы, удовлетворял политические, культурные и художественные запросы широкой читательской массы.
Главлит № А—44 286. Издание Гос. Акц. Изд. О-ва «Земля и Фабрика» Тираж 40 000 экз. Тип. Госиздата «Красный Пролетарий», Москва, Краснопролетарская ул., 16.
ПЯТАЯ АНКЕТА журнала подписчик покупающий о розницу (ненужное зачеркнуть)
1. Фамилия, местожительство… 2. Возраст… 3. Образование… 4. Профессия (род занятий)… 5. Давно ли читаете журнал «30 Дней»… 6. Какие журналы выписываете помимо «30 Дней»… 7. Сколько человек читает получаемый Вами номер и приложения… 8. Какие именно авторы и какие произведения Вам понравились в журнале… 9. Считаете ли Вы целесообразным печатание романов с продолжениями… 10. Как Вы относитесь к расширению отдела иностранной литературы… 11. Какие очерки и статьи понравились Вам в текущем году… 12. Считаете ли Вы желательным расширение отдела социально-политических очерков за счет сокращения отдела беллетристики… 13. Удовлетворяют ли Вас помещаемые в журнале стихи… 14. Какие отделы следует сохранить или расширить (желательное подчеркните): «Свое и чужое», «Дневник спортсмена», «Что на афише», «Страница шахматиста», «В конце номера», Конкурс задач», «За 30 дней». Какие новые отделы следует, по Вашему мнению, ввести… 15. Довольны ли Вы внешним оформлением журнала (шрифты, бумага, печать, красочные иллюстрации в тексте и т. д.)… 16. Обложки каких номеров «30 Дней» за текущий год Вам понравились… 17. Ваше мнение о собрании сочинений Гюи де-Мопассана (приложение к журналу «30 дней»)… 18. Удачен ли подбор произведений, вошедших в «Библиотеку современных писателей»… 20. Ваши пожелания журналу на 1930 год… 21. Какая система рассылки обеспечивает лучшую доставку журнала: по карточкам, как в 1928 г., или по адресным ярлыкам, как в 1929 г. (подчеркнуть)
22. Подпишетесь ли Вы в 1930 г. на журнал «30 Дней», если он, продолжая дальнейшее улучшение содержания и внешности, а также развивая систему приложений, сохранит свой прежний тип… 23. Особые замечания… Подпись… 1929 г. ДОПОЛНЯЙТЕ АНКЕТУ ПИСЬМАМИ.

Последние комментарии
1 час 17 минут назад
1 час 20 минут назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 15 часов назад