Машина ужаса [Владимир Орловский Владимир Евграфович Грушвицкий] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Владимир Орловский МАШИНА УЖАСА Фантастические произведения
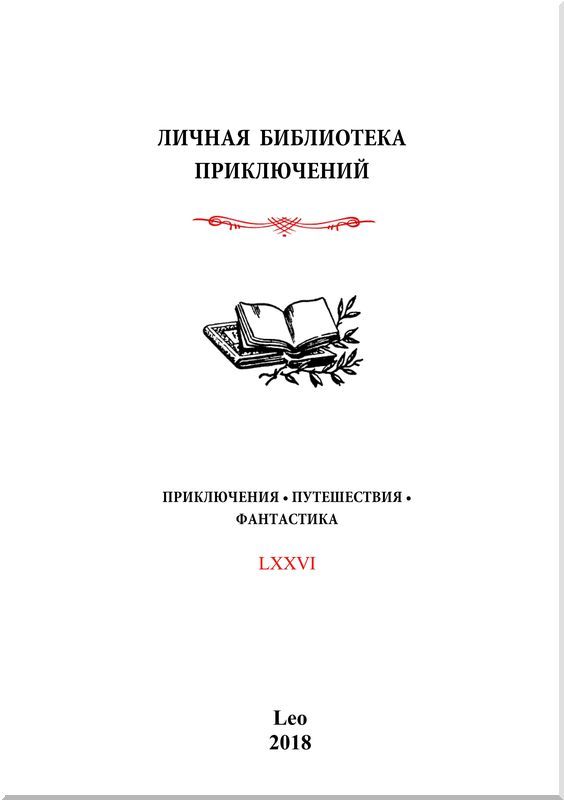
 МАШИНА УЖАСА
Повесть
МАШИНА УЖАСА
Повесть
Глава I Встреча в тундре
Прошло уже несколько лет с тех пор, как отгремели события, свидетелем которых и даже невольным участником мне пришлось быть. Они почти забыты теперь в лихорадочном беге жизни, среди потрясений и бурь, продолжающих кровавые страницы первой четверти века; они стали эпизодом, отошедшим в прошлое тем скорее, что приправлены романтикой, чуждой духу нашего времени. Но для меня все эти лица и дела останутся навсегда близкими и живыми, и потому мне хочется поделиться с читателем воспоминаниями о пережитых событиях, которые, повернись они несколько иначе, могли бы наложить резкий отпечаток на самую судьбу человечества. В бесконечной сложности, в причудливом сплетении жизни наш разум еще бессилен разобраться: пока он блуждает ощупью среди темных тропинок, смутно угадывая законы действительности, укладывая их в гипотезы, сменяющие друг друга. Потому еще такое значение в жизни и отдельных людей и всего человечества имеет случай. Этот же случай и тогда отвел от земли нависшую над ней угрозу. К сожалению, а может быть к счастию, я не профессор физики и потому тех, кто интересуется научной стороной дела, я отсылаю к подробному отчету профессора Васильева, помещенному в июньской книжке «Журнала Физико-Химического Общества» за 193* год. Я же сам хочу рассказать об этом эпизоде как очевидец, для которого события эти связаны с именами близких людей, заплативших жизнью за свое в них участие. Поэтому я начну со знакомства моего с Юрием Моревым, одним из героев моего повествования, моим другом и приятелем, насколько такой сухарь, как я, может иметь друзей и приятелей. Это было в то далекое время, когда началась разработка богатств нашего Севера, и мы с Юрием Павловичем оказались случайными сотрудниками в рекогносцировочной партии, отправленной в Печорский край для обследования возможностей и условий эксплуатации его минеральных ископаемых, а главное для изыскания удобнейших путей. Помню, как, несмотря на некоторую подготовленность, я был поражен всем, что пришлось мне увидеть в этих еще почти нетронутых местах. Теперь, когда этот край стал одним из источников, питающих нашу промышленность, когда за двадцать, двадцать пять лет его пересекли несколько железных дорог, когда прорыты каналы, соединившие Волгу с главными реками Севера, когда непрерывным потоком полились оттуда давно известные и тем не менее как будто вновь обретенные богатства, — теперь, конечно, мой рассказ никого не удивит. Но когда я сам впервые увидел эти сокровища, которые надо было только прийти и взять, — я был положительно оглушен. Штаб нашей партии обосновался в Мохче, куда еженедельно аэроплан из Котласа доставлял нам почту, материалы, продовольствие и все необходимое. Там же была установлена небольшая радиостанция, соединившая нас с миром. На берегу Цильмы, на приподнятом плоскогорий, выстроен был городок, в котором расположилась партия. После тяжелой зимы, проведенной впервые вдалеке от мира, среди дикой природы сурового края, не тронутого рукою человека, еще по льду и снегу выехали мы на оленях к месту работ. Волнами мертвого света переливалось над нами северное сияние. Безмолвное движение словно гигантского занавеса, спускающегося на землю волнующимися складками, играющими переливами бледных тонов; пылающие беззвучным светом огненные столбы, будто колеблемые неведомым ветром; игра света и красок при полном безмолвии снежной пустыни, — все это, несмотря на то, что я в достаточной степени чужд всяческой романтике, произвело на меня тягостное, даже жуткое впечатление. Я вспомнил, как однажды у себя дома я заметил, что в часы летних сумерек, когда ночь еще не одолела умирающего дня, уличные фонари в своих прозрачных шарах горят неподвижным огнем, теряющимся у самого источника, и кажутся комками мертвого, замерзшего света. Таким же мёртвым, безмолвным казалось мне это пламеневшее над нами ночное небо далекого края. По берегам реки подходила близко к нашему пути сплошная стена «тойболов», вековых лесов, простирающихся на тысячи верст, еще не тронутых человеком. Здесь я впервые увидел эти богатейшие месторождения нефти, которые теперь затмили собой начинающие иссякать бакинские источники. Нефть стояла просто озерами, наполнявшими собой углубления почвы, насыщенной этой жидкостью на большую глубину, отсвечивавшей мутным жирным блеском и пропитавшей воздух на далекое расстояние своим запахом. Проводник из зырян, взятый нами с последней станции, рассказывал, что в нескольких зырянских и самоедских поселениях в этом крае туземцы просто ведрами черпают это горючее масло и жгут его в своих светильнях в избах и юртах. — Чёрт возьми, вот так картина, — как-то промолвил созерцавший вместе со мной это зрелище мой спутник по экспедиции, которого я до сих пор почти не замечал в нашей пестрой компании, состоявшей из людей самых различных специальностей, национальностей и внешности. Тогда я впервые вгляделся в него пристальнее, и меня сразу поразили его глубокие голубые глаза, сиявшие таким ровным теплым светом, что от взгляда их становилось уютнее на душе. — Да, — ответил я. — И удивительнее всего то, что сведения об этих богатствах давно были известны, и недостатка в работниках, веривших в судьбу края, не было, — и все же до сих пор все это лежало нетронутым. — А вы думаете, что здесь богатые запасы? — Наверное сказать не могу, но уже то, что мы видим, дает основание предполагать неисчерпаемые возможности. — Вы, конечно, не ошибаетесь, — присоединился к нашему разговору высокий плотный человек в меховой шапке и сапогах торбасах, которого я знал как старого нефтепромышленника, специалиста, ехавшего с нами в качестве эксперта. В тоне его голоса послышалась усмешка, заставившая меня прислушаться. — Вы говорите, как будто за этими словами прячете заднюю мысль, — сказал я. — Какую там заднюю мысль, — просто вылезло наружу шило, которое так долго и, надо сказать, успешно прятали в мешке. Мне и стало смешно человеческой глупости. Я пропустил мимо ушей последнее замечание и попросил собеседника разъяснить его слова. — Конечно, причина неиспользования до сих пор этих богатств лежала в невозможности преодолеть отсутствие путей сообщения. Ну, и лень наша российская этому помогла. — Вы думаете — только? — хитро подмигнул глазом наш спутник. — А знаете ли вы, что, как только стало известно об ухтинской нефти еще в XIX столетии, так весь этот округ перешел в собственность некоего вельможи, монополизировавшего таким образом возможность разработки и не ударившего для этого пальцем о палец? И известно ли вам, что уже в двадцатом веке, перед революцией семнадцатого года, теми, кому это было нужно, принимались специальные меры, оплачивалось негласно молчание печати по поводу ухтинской нефти?.. Как. видите, тут виновато не только бездорожье, суровый климат и лень человеческая. Глаза Морева вспыхнули гневом. «Экая непосредственная натура», — подумал я. — Что за мерзость! — вырвалось у него. — Неужели это могло быть в самом деле? — Что же тут особенного? Обычный прием подавления конкурента, вдобавок еще не существующего, так сказать, потенциального. Я промолчал. Я вообще не очарован людьми. Боюсь, что кое- чем они больны безнадежно. — Да только ли это здесь заслуживает внимания? — продолжал наш осведомитель. — Я десять лет провел в этом крае, исколесил его вдоль и поперек и узнал многое, что заставит вас подумать и о бестолковости, и о жадности человеческой. Через несколько дней после этого мы были втроем в зырянском селении на берегу Ухты. Никита Потапыч (так звали нефтяника) повел нас к своему знакомцу, зажиточному зырянину, зверолову и немного земледельцу, как и большинство в этом крае. Это был среднего роста коренастый мужик с окладистой бородой, которого я не отличил бы от нашего костромича или ярославца. Он сдержанно и с большим достоинством поздоровался с Никитой Потапычем, потом протянул и нам свою широкую руку. Говорил он мало, видимо взвешивая слова, но то, что говорил, звучало убедительно. — А ну-ка, Петрович, покажи нам свои сокровища, — сказал Никита Потапыч, похлопав его по спине. Хозяин слегка повел плечом, незаметно освобождаясь от прикосновения гостя, и процедил лениво и нараспев: — Да, что шутишь, Потапыч, какие сокровища… так, глупость одна. — Не жмись, дядя… ты меня знаешь. Под начальство не подведу… А вот моим приятелям интересно посмотреть здешние диковинки. Старик поддался не сразу. Наконец, вероятно успокоенный словами Никиты Потапыча и нашим мирным видом, прошел в заднюю горницу и вынес оттуда деревянный раскрашенный и окованный железом ларец, поставил его на стол, аккуратно стер с него пыль, любовно потрогал рукой и, наконец, щелкнул замком. Под крышкой на черной замше лежал мутно-белый круглый предмет, величиной с грецкий орех, и рядом еще два таких же поменьше; в другом отделении поблескивал небольшой слиток беловатого металла. Я не верил своим глазам. — Послушайте, или я брежу, или это — жемчуг. Никита Потапыч ухмыльнулся. — А вы спросите Петровича, откуда он его да вот этот кусок серебра заполучил… Ну, ладно, из него сразу слова не выжмешь. Это сын его на одной из здешних рек подцепил на жемчужной ловле; и серебряный самородок из наших месторождений — верстах в двухстах отсюда. Да не думайте, что он это из барышей делает, нет… Это он себе этакий, ну как его— музей собирает: любит свой край старичина. Я переводил глаза с одного на другого, думая, не морочат ли меня, но обмануться было невозможно. Правда, жемчужина была не совсем чистая — с желтоватым оттенком и с порядочным изъяном в одном месте, но величина ее меня поразила. Две же меньшие были прекрасного качества и, вероятно, высокой ценности. Слиток серебра был весом фунта два. — И вы говорите, что все это местного происхождения? — А вы как думаете? Вам и не снилось еще, какие здесь сокровища зарыты. Только бери. Ну, теперь, кажется, проснулись у нас. Хотя кое в чем, пожалуй, уже и поздно. Вечером мы долго еще беседовали о виденном, и Никита Потапыч рассказал нам о богатствах края, о ловле жемчуга на Кертис, о свинцовых и серебряных рудах, о промысле трески на Мурмане, обо всем, что довелось ему видеть за время своих скитаний по Северу. Все эти сокровища либо лежали еще втуне, либо разрабатывались самым примитивным, хищническим способом, как велось по старинке. — Взять вот к примеру, хоть бы этот жемчуг. Вас удивила его величина… Правда, теперь уже вы таких ни в Керети ни в других реках не найдете, да и вообще он реже становится. Так, мелочь больше попадается, не стоящая внимания. А ведь старики помнят еще здесь особое правительственное узаконение, которым предписывалось найденные жемчужины величиной в воробьиное яйцо сдавать по начальству и лишь более мелкими разрешалось распоряжаться владельцам по их усмотрению. Вот как, батюшка. Да тут вся эта добыча испокон веку таким хищническим способом велась, что сейчас, почитай, ничего уже и не осталось. Рассказывал Никита Потапыч и о ловле трески на Мурмане, когда, по его словам, выходя в море флотилией навстречу стае, рыбаки пробуют густоту ее, всовывая весло в эту живую, движущуюся кашу; и если весло стоит торчком, не может двигаться в сплошной массе рыбы, — стая считается достойной внимания, и начинается лов. Долго сидели мы на завалинке у избы Петровича под бледными лучами ночного солнца и слушали эту сказку-быль. С окраины деревни доносились звуки хорового пения, удивительно стройного и мелодичного. Юрий Павлович заслушался и сделал нам знак прекратить разговор. Грустные и наивно-простые аккорды, от которых веяло силой и печалью, таяли в прохладном воздухе. — Кто это поет? — спросил он. — Это? Парни наши собрались. Они часто так душу отводят. — Как хорошо! — Да. Впрочем, это что — нынче уже все не то. Вот, бывало, в старину мы певали; к нам из большого города приезжал какой- то толстый усатый, на бумагу записывал. Надо сознаться, я в музыке очень слаб и всегда утешался мыслью, что кто-то из великих ученых (кажется, Дарвин) называл ее «наименее неприятным из шумов». Все же и я заслушался, ощутив мимолетное чувство щемящей грусти. Мы продолжали работу в партии. Морев оказался прекрасным техником-геодезистом и целыми днями работал на изысканиях и съемках, иногда отделяясь от нас на недели. Я в качестве геолога занимался исследованием почвы, залегания нефтеносных слоев и других ископаемых и благословлял судьбу, пославшую мне работу в крае, который мы должны были оживить и приобщить к миру. И вместе с тем за это время я все больше сходился с Юрием. В сущности, это было странно. Трудно было найти двух людей, более неподходящих характерами. Я человек реалистического мировоззрения, лишенный романтики, не отзывающийся на музыку, верящий только в силу человеческой мысли, с очень слабой эмоциональной стороной — словом, сухарь. А Юрий — мягкая, почти женственная натура; человек с большим музыкальным чувством; влюбленный в свое дело, кажется, ни на что не способный, что не касалось теодолитов, нивелиров и прочей прелести его ремесла. И все-таки мы все больше и больше сживались, понемногу привязываясь друг к другу. У меня этот процесс всегда идет медленно, — я с трудом сближаюсь с людьми; Юрий, наоборот, открыто показывал мне свою симпатию. Как бы то ни было, когда кончилась наша работа и партия вернулась в Москву, везя подробно разработанный проект прокладки пути и отчет об исследованиях, мы с Моревым оказались связанными глубокой и прочной приязнью.Глава II Известия из Америки
Еще во время пребывания в Мохче до нас дошли известия, повергшие всех в немалое изумление и заставившие только пожать плечами. Это были сообщения из штата Виргиния о странных массовых психических заболеваниях, охвативших некоторые населенные пункты. Все это приправлялось сногсшибательными подробностями и скорее напоминало проспект какого-нибудь детективного киноромана, чем сообщения серьезной печати. Удивительны эти газетные утки! Нам под полярным кругом, среди безмолвия северной ночи, среди снегов и льдов мертвого царства, под беззвучными переливами сполохов, — эти известия казались особенно невероятными. Может быть, потому они и привлекали внимание и заполняли наши унылые зимние вечера. В телеграммах под чудовищными подзаголовками, напоминающими рекламы патентованных средств, сообщались не менее чудовищные подробности. Эпидемия ужаса в Роаноке! «Население покинуло город под давлением обуявшего всех беспричинного страха! Жизнь замерла! Банки закрыты! Торговля прекращена! Угроза голода!» И так далее в том же роде. В другой телеграмме в не менее трескучих фразах сообщалось о массовой эротической эпидемии, охватившей Атланту и соседние селения. Население нескольких городов подверглось дикому эротическому возбуждению. В домах, на улицах, в театрах, в кинематографах, где бы только ни собирались люди, творились не поддающиеся описанию вакханалии. Возникали убийства и самоубийства на романической почве. Происходило нечто несообразное ни с какими законами здравого смысла. Газеты давали понять, что, не желая шокировать читателей, вынуждены опускать многие подробности. И в результате — те же сообщения аршинными буквами: «Жизнь замирает! В городе паника!» Лучшие психиатры выехали на места для выяснения причин диких эпидемий и для борьбы с ними, но исследования не привели ни к чему, и сами врачи были немедленно охвачены общим безумием. Еще несколько сообщений такого же рода поступило в разное время из юго-восточной части Соединенных Штатов: из Виргинии, Георгии, Алабамы, Кентукки. В последнем разыгралась религиозная мания, затронувшая широкий округ, выдвинувшая немедленно ряд пророков и проповедников, собиравших громадные толпы людей, бросавших самые неотложные дела, наполнявших церкви, места молитвенных собраний, составлявших многотысячные митинги под открытым небом и как будто вовсе забывших о земном и с бурной страстью отдававшихся молитве, в ожидании немедленного Страшного Суда. Эти известия появлялись в течение всей зимы, весны и лета и в конце концов до того разожгли любопытство, что стали главной темой всех наших разговоров. Мы, с увлечением работавшие до сих пор, теперь тосковали в своей заброшенности, словно и нас за тысячи верст коснулась эта зараза, стремились скорей кончить свое дело, чтобы окунуться в кипение этого человеческого муравейника. Менее других всем интересовался Юрий. Это и не удивительно. Большинство из нас в партии были дети большого города, зараженные его недугами, привязанные к нему нитями нашего мозга, всем существом. Кто вкусил этот яд, тот уж никогда не излечится и будет тосковать по шуму и грохоту города, по его искусственным солнцам, затмевающим настоящее, по его бешеной скачке, пляске, по толпам, кипящим на бесчисленных улицах, по неумолкаемому кипению жизни. Морев же не был городским жителем. Детство он провел где-то на Урале, где отец его работал не то на заводе, не то на железной дороге, а все остальное время только и делал, что скитался в изыскательских партиях по степям Средней Азии, по горам Кавказа, Урала, или, как теперь, по зырянским тундрам. Поэтому Юрий меньше всех интересовался сенсациями и, кажется, считал их исключительно газетными утками. Наконец, к началу зимы мы кончили свое задание и, оставив на месте рабочую партию для постройки большой силовой станции для будущего обслуживания всего района разработок, по только что установившемуся санному пути направились на Котлас, нагруженные целым ворохом планов, проектов, вариантов, смет и отчетов. В Москве мы все разбрелись. Морев сразу уехал в Ленинград, где у него была какая-то родня, а я надолго застрял в столице, участвуя во всевозможных комиссиях, заседаниях, собраниях и съездах, организованных Центральным управлением разработок Севера. Дело двинулось сразу необычайным темпом. Широко осведомленное общественное мнение откликнулось на призыв правительства; подписка, открытая на специальный заем, была покрыта в течение двух месяцев. Я с головой окунулся в кипучую деятельность. На моих глазах из бесчисленных колонн цифр, из заказов на машины, орудия, из осуществляемых смет, из армии командируемых работников, — вставал вызванный из мертвого сна, из летаргии, богатый обширный край. Все это не мешало мне уделять много внимания так заинтересовавшим меня еще в Мохче известиям из Америки. Как это ни странно, они оказались справедливыми. Конечно, наполовину, если не больше, газетами было прибавлено, но и того, что осталось, было более чем достаточно. В целом ряде городов и местечек штата Георгии и с ним близких действительно разразился ряд массовых психических заболеваний, настолько сильных, что они внесли серьезное расстройство в обычный ход жизни. И даже сведения о бегстве жителей из Роанока и самоубийствах в Атланте были не лишены оснований. Хотя и не в таких размерах, как говорилось в газетах, однако под влиянием безотчетного внутреннего беспокойства, близкого к страху, жители в большом количестве покидали город, наполняя окрестные местечки, деревни и фермы тревожными слухами, не имеющими никаких оснований, схватываемыми бессознательное оправдание своего беспричинного бегства. Обо всем этом читались лекции известными психиатрами, появлялись статьи в журналах и отдельные монографии, пытавшиеся пролить свет на странные явления. Мнения разделились на два лагеря. В одном полагали, что эти психические заболевания — печальный прогноз. Человечество катилось в пропасть. Дошедшее до пределов своего интеллектуального развития, оно стало жертвой слишком утонченной нервной организации. Эти эпидемии были свидетельством начавшегося стремительного вырождения. Достигнув в своей эволюции высшей возможной точки, человечество теперь стало на путь быстрого регресса. Это было начало конца целой эпохи в истории. Мир должен скатиться, как бывало уже не раз, до состояния варварства, чтобы затем снова начать восхождение. К этим выводам приходили, вспоминая кстати и некстати всех писателей, высказывавших мысли о том, что человечество идет к закату, что история его заключается в ряде повторяющихся циклов прогрессирующих и затем вырождающихся цивилизаций. Надо сказать, что это мнение нашло себе место главным образом в Западной Европе. У нас же на почве трезвой и бодрой гражданственности, пропитанной духом энергии, эти грустные предсказания не находили твердой почвы. Особенно в Москве, где я был в то время, группа ученых, очень заинтересовавшись этим вопросом, командировала двух известных невропатологов на место событий для исследований и внимательно следила за всем происходившим. Здесь господствовала совершенно другая теория. Указывали прежде всего на то, что массовые психические заразы вовсе не есть что-либо специфически свойственное нашему времени. На всем протяжении истории можно было указать ряд таких же движений, вспыхивавших то там, то здесь и распространявшихся на гораздо большие области, чем те, о которых шла речь. Одной из таких наиболее интенсивных эпидемий была эпоха крестовых походов, которая, несомненно, носила на себе характер коллективного помешательства, охватившего чрезвычайно обширные группы. Вспоминали эпидемии в Западной Европе в XIII веке, в виде движений флагеллантов, толп фанатиков, обуянных острым религиозным экстазом, бичевавших себя на улицах города кожаными плетями до кровавых рубцов на теле. Указывали на манию демонофобии, стоившей Европе сотен тысяч сожженных на кострах колдунов, ведьм и еретиков. Наконец, и в новое время можно было вспомнить целый ряд массовых душевных заболеваний различного характера, начиная от многих финансовых горячек XIX и XX столетий, спекулятивного безумия, охватившего Францию в начале XVIII века вокруг образованной знаменитым Джоном Лоу Миссисипской компании, приведшей к государственному банкротству, и кончая религиозными маниями XIX века. Последние были особенно интересны тем, что местом, их была именно Америка и даже приблизительно те же области и пункты, которые были отмечены и в нынешних удивительных событиях. Знаменитые «Кентуккские возрождения» в самом начале XIX века и «Миллеровская мания» около половины того же столетия были яркими примерами таких движений, когда люди, во власти экстаза, огромными толпами собирались на многотысячные митинги и там в страшном возбуждении переходили от молитв к исступленным припадкам с конвульсиями и корчами. Таких примеров приводилось десятки, и из них было видно, что душевные эпидемии вовсе не свидетельствуют о вырождении расы, и что причину их надо искать в чем-то другом. Эта группа ученых и указывала причину в связи с отражением в сознании людей ожесточенных классовых антагонизмов, особенно обострившихся в наше время, время страшной нервной напряженности, с ними связанной и находящей исход в таких периодических взрывах. Одно обстоятельство, однако, приводило в недоумение сторонников как одного, так и другого лагеря, — это странная ограниченность этих эпидемий по месту и времени. Все они начинались совершенно внезапно и так же внезапно кончались, оставляя следы в виде продолжавшихся однородных с ними заболеваний у наиболее нервных натур, но лишь в виде единичных случаев; массовое же возбуждение в общем прекращалось резко и внезапно. То же было и по отношению к области, охваченной эпидемией; она ограничивалась сравнительно небольшим пространством, и достаточно было уйти за ее пределы, чтобы освободиться от общего состояния. И наоборот: лишь только здоровый человек попадал в определенную зону, — он неизменно подвергался господствовавшей мании. Эти странные обстоятельства сбивали с толку всех исследователей и заставляли их, в конце концов, признаться в бессилии решить поставленную перед ними задачу. Я, слушая и читая все эти споры, путался в противоречиях и не мог прийти ни к какому выводу. Впрочем, вскоре эти случаи душевных массовых расстройств прекратились так же внезапно, как и возникли, а вместе с ними прекратилась и словесная война, загоревшаяся вокруг них. Между тем, мои дела в Москве заканчивались; я должен был отправиться к себе, в Ленинград, для работы в университете, куда звали меня письма родных и Юрия Морева, с которым я поддерживал оживленную переписку.Глава III Кое-что о физике и индийских йогах
К началу учебного года я вернулся в университет. Потянулись лекции, экзамены, работы в лабораториях, — обычная обстановка учебы, в которой я чувствовал себя, как в старом привычном сюртуке, немного заношенном, но таком удобном, почти незаметном. Только после перерыва, когда жизнь бросает в необычные условия, начинаешь ценить по достоинству старый покойный уют. На досуге я разбирался в многочисленных коллекциях, вывезенных мною с Севера, систематизировал материалы и работал над монографией: «Новые данные о последнем межледниковом периоде на Севере Европы». В этой работе по сортировке коллекций мне помогал Юрий, обладавший колоссальной зрительной памятью, большой настойчивостью и терпением. Он часто оставался у меня и тогда всецело переходил в распоряжение моих двух отчаянных сорванцов, эксплуатировавших его самым бесцеремонным образом. Дети вообще благоволили к моему приятелю и выражали эту любовь по- своему, тиранически и безапелляционно завладевая им. Он безропотно подчинялся, находил темы для разговора и игр и тон, который никогда не удавался мне, отцу семейства; иногда, впрочем, Юрий ссорился с ними, но ссорился как-то искренно, горячо, так что это не портило их отношений. Жена находила, что он должен быть идеальным семьянином и даже была озабочена подысканием ему подходящей партии. Я решительно не одобрял ее планов, но и не мешал. В конце концов, она, вероятно, была права. Однажды за обедом она повела атаку, вернее, начала предварительную диверсию. — Юрий Павлович, вам с вашими семейными наклонностями, вероятно, сильно надоедает бродячий образ жизни, который вы ведете? — Признаться, есть грех, — храбро бросился мой приятель в расставленную ему западню, — иногда до чёртиков, простите, противно становится. Да так как-то, не могу корни пустить… — А кто же вам мешает осесть попрочней? — последовала новая вылазка. — Как вам сказать? Мне кажется, что во мне сидят два человека: один — цыган и бродяга, которому никак не сидится на месте, которого тянет с севера к югу и от востока к западу; и другой — почтенный домосед, который с удовольствием обзавелся бы халатом и трубкой… — Но, видимо, до сих пор ваша благоразумная половина терпела поражение? — Я думаю, это дело возраста. С каждым годом мое первое «я» стареет и теряет прыть, а второе растет и пухнет. — И когда оно окончательно восторжествует?.. — Тогда я облекусь в халат и туфли… и сделаюсь завсегдатаем какого-нибудь скучного клуба. — Надеюсь, не клуба холостяков во всяком случае? — последовала открытая атака. — Не знаю. Я до сих пор не испытывал от этого больших неудобств. Я даже, по-моему, в выигрыше. Быть дядей многочисленных племянников очень весело, — был ответ. — А разве у вас так много родных? — началось отступление после произведенной разведки. — У меня? Господи боже мой. Тысяча дядей, миллион братьев и тьма кузенов и племянников. — А вам не родня, — вмешался я, — Сергей Павлович Морев, о котором я на днях читал в газетах какое-то интервью, с рассказом об удивительных научных работах, в которых я, откровенно говоря, ничего не понял? — Один из тысячи дядей, — ответил Юрий и вдруг нахмурился. — Я читал эту дурацкую заметку. Удивительное дело, — никак не могут оставить человека в покое. Всегда одно и то же. Наврут с три короба, вроде американских эпидемий, — переменил он разговор. Я не настаивал, и мы заговорили о недавно снова появившемся в газетах пережевывании этих старых историй. После обеда, когда мы по обыкновению перешли к нашей работе, Юрий обратился ко мне. — Дмитрий Дмитриевич, нынешний разговор напомнил мне мое давнишнее желание. Я очень хотел бы познакомить вас с дядей Сергеем и его работой… — Но вы сами сказали, что вмешательство посторонних, — эпизод не из приятных. — Ну да, репортеры. Я не про то. Я ему давно говорил о вас; он сам очень интересуется вашими изысканиями на Севере, и думаю, что не менее интересно будет и вам посмотреть его работы… — Не спорю. Хотя, повторяю, эта заметка в газете решительно ничего мне не дала — какая-то чудовищная путаница… Юрий усмехнулся. — Ну, в этом и мы немного виноваты. Ведь этой публике чего ни наскажи, — всему поверит. — Ах, вот как, — улыбнулся и я. — Но во всяком случае это ставят в связь с работами покойного профессора Павла Петровича. — Да, в этом они правы. Видите ли, я в сложных выкладках и вообще во всей этой математической китайщине слаб. Но в общих чертах идею этой работы могу рассказать, если вам интересно. Я одобрительно кивнул головой. — Позвольте, как бы начать попроще. Ну вот: вы знаете, что вокруг идущего по проволоке тока существуют магнитные силы? — Ну, конечно. — При усилении и ослаблении тока меняется и напряженность этих магнитных сил. При резком замыкании и размыкании — происходит и наиболее резкое изменение этой разлитой вокруг тока магнитной энергии, при чем она распространяется в окружающей среде в виде волнообразного колебания особой всепроницающей невесомой среды, так называемого эфира. — Все это я, конечно, знаю. Только мне кажется, что исследования на эту тему являются настолько специальными… — По методам работы — это, безусловно, необычайно сложная история. Но результаты ее очень близко касаются жизни, так как подходят к решению существенных вопросов нашей психики. — Психики? Это уже что-то непонятное. — Да, вот видите ли. Волны, при помощи которых распространяется электромагнитное колебание, имеют вполне определенную длину, хотя мы совершенно не знаем, в чем заключаются изменения эфира, связанные с этим явлением. Какие- то состояния его напряжения, в существе своем нам неизвестные. И вот, если они доходят до другого проводника, замкнутого или имеющего очень маленький разрыв в цепи, то, меняя вокруг этого проводника напряжение магнитных сил, — преобразуют их энергию в энергию электрического тока, пробегающего по проволоке, но лишь в том случае, если этот второй проводник по своим размерам и конструкции таков, что, будучи сам источником прерывающегося тока, посылает электромагнитные волны как раз такой же длины. — Ну, да, таким образом работает радиотелеграф; это то, что называется резонансом, наблюдающимся и в явлениях электромагнитных так же, как и в созвучании струн, камертонов и прочее. И там на звук одной струны отвечает другая только тогда, если она настроена с нею в унисон, то-есть может испускать волны той же длины. — Вот, вот. И еще в начале нашего столетия выяснилось, что все психические и физиологические процессы в живом организме связаны с электрическими токами, пробегающими по проводящим нервным путям, при чем токи эти прерывчатые, пульсирующие. А раз так, — то они обязаны посылать в пространство волны электромагнитных колебаний. — Ах, вот что. И, следовательно, если два индивидуума настроены в унисон, то-есть способны испускать волны одинаковой длины, то они обязаны также отвечать токами, пробегающими по нервным путям одного из организмов, раз они появились в другом соответственном? — Да, это и была основная идея, на которой остановился мой дед. Он полагал, что именно с передачей электромагнитных волн связан механизм влияния человека на человека, то- есть выводил отсюда явления внушения, гипноза, сострадания, — и вообще всякого подражания, любви, морали, — ив конце концов даже телепатии. — По существу, в этом ничего невозможного нет. А как соблазнительно подчинить научному контролю все эти области, бывшие до сих пор монополией мистики и суеверия! — Да, и дед добился в этом отношении огромных результатов; так как настройка наших нервно-мозговых аппаратов самая разнообразная, то и отвечают люди на переживания друг друга очень слабо. Павел Петрович именно нашел возможность расширить эти пределы и, таким образом, влиять на способность сострадания. После его смерти взялся продолжать дело дядя Сергей. Правда, кажется, задача о расширении границ сострадания мало двинулась дальше, но он много поработал в других направлениях, и там можно увидеть массу занимательного. Это в самом деле меня заинтересовало. Я — реалист pur sang, и такой подход к вопросам психологии удивительно укладывался в мое мировоззрение. Я тут же изъявил живейшее согласие ознакомиться с работами почтеннейшего дядюшки. Через два дня я звонил в его квартиру на какой-то из далеких линий Васильевского острова. Меня встретил Юрий. Он был немного взволнован, — словно собирался ввести меня в святое святых. Видимо, это было одно из его пристрастий, которым он отдавался, по своему обыкновению, со всей искренностью и пылкостью своей натуры. Дядюшка мне не понравился. Упрямо сжатые губы и холодные серые глаза — глаза фанатика и ограниченного человека. Впрочем, встретил он меня очень любезно и сейчас же завел разговор на тему о наших работах на Печоре, о будущем этого края, о том, чего можно ожидать от его эксплуатации. Говорил он медленно, вдумчиво, и мне казалось, что он все время ходит вокруг и около какой-то интересующей его мысли, высказать которую не решается. Но я забыл об этом сразу же, когда разговор коснулся его собственных работ, и мы перешли в лабораторию. Здесь я совсем растерялся. В хаосе каких-то бесчисленных неизвестных мне приборов, в сети проводов, опутывавших комнаты, нескончаемых батарей, колб, реторт, пробирок, склянок и, я не знаю еще какой, посуды самого причудливого вида, заполнявшей шкапы, столы, полки, подоконники, полы и готовой, кажется, вылиться бурным потоком из дверей лаборатории — разобраться было немыслимо. В общих чертах Сергей Павлович рассказал мне о своих работах то же, что я уже знал от Юрия. «Не надо думать, что эти мысли являются существенно новыми. В главном своем они были в сознании людей уже давно, правда смутно, неясно — лишь в самых общих чертах. Но всего интереснее, что высказывали эти идеи не только ученые, но и люди, стоящие далеко от точной науки, бывшие предметом пренебрежения и насмешек. Я говорю об учении индийских йогов. Мы привыкли смотреть на них как на шарлатанов или как на полупомешанных фантазеров и, быть может, не без основания; но если перевести на научный язык некоторые их построения, то над ними есть смысл призадуматься. Если вы помните учение их о человеческой ауре, то вот вам первый пример. Человек все время окружен особой атмосферой, как бы излучением его организма; при этом различным эмоциям и мыслям отвечают различные цвета этой эманации человека, или ауры, по терминологии йогов. Правда, видеть эти оттенки могут лишь люди с „высоко развитыми психическими способностями“, но, тем не менее, эти исключительные люди сумели якобы составить целый спектр цветов ауры, соответствующих различным переживаниям; например, злобе, ненависти, по их описанию, отвечает черная окраска ауры, ужасу — серая, чувственности — красная, религиозным эмоциям — синяя и так далее. Аура эта есть проявление жизненной праны, проникающей и одухотворяющей человеческий организм, при чем прана есть нечто неуничтожимое, количество которого в мире постоянно. Вот вам фантастическая система восточных мудрецов в чистом виде. Но подставьте вместо слова „прана“ слово „энергия“, обратите внимание на то, что цвета лучей зависят от различной длины волн электромагнитных колебаний, распространяющих то, что мы называем лучистой энергией, и вспомните, что каждому переживанию, по толкованию йогов, отвечает излучение определенного цвета, то-есть специфической длины волны, — и вы получаете короткое переложение теории в понятных нам терминах: при функционировании организма человек излучает часть энергии, перерабатываемой им в виде электромагнитных колебаний, при чем каждому настроению, переживанию, идее и так далее соответствует колебание определенной длины волны. У них же вы найдете и указания на возможность психического влияния людей друг на друга при помощи именно этих эманаций своего организма, т. е. электромагнитных колебаний, им излучаемых. Так, если у Демокрита и Эпикура можно найти гениальное предвосхищение атомистической теории, то нечто подобное имеем мы здесь, в этих пустых, как нам казалось, умствованиях восточных мудрецов». Сам Сергей Павлович работал, главным образом, в двух направлениях: над усовершенствованием изолирующих середин, не пропускающих электромагнитных волн, излучаемых нашими нервно-мозговыми аппаратами, и над конструированием приборов, позволяющих улавливать и записывать эти колебания. Первая задача была выполнена им в известных отношениях более чем удовлетворительно. Правда, в этом смысле он только разрабатывал материал, уже полученный его покойным отцом, но во всяком случае он добился прекрасных результатов. Вещество, им приготовленное, почти совершенно не пропускало нервно-психических волн, а будучи тщательно отполировано, отражало их совершенно так же, как отполированная поверхность металла отражает световые лучи.Глава IV Что я видел в лаборатории
В подтверждение всего сказанного Морев показал ряд поразительных опытов. В лаборатории, шагах в пяти одно от другого, стояли два кресла, поставленные в главных фокусах двух больших вогнутых зеркал, расположенных по коротким стенам длинной комнаты. В одно из кресел дядюшка усадил меня, в другое — племянника. — Юрий, — сказал он, — сосредоточится на какой-нибудь идее, представлении, образе, но не единичного характера, а, сравнительно, общего. Для контроля можно написать на клочке бумаги то, о чем он будет думать, и передать вам. Вы же закройте глаза и постарайтесь изгнать из сознания всякие мысли, сосредоточьтесь как можно глубже и постарайтесь затем передать нам свое впечатление. Я внутренно усмехнулся; это похоже было на мистификацию. Но все же взял сложенную бумажку из рук Юрия, сел в кресло, закрыл глаза и постарался исполнить указание Морена. Это было трудно: в голове все время метались обрывки мыслей, всплывали знакомые образы, воспоминания; я думал уже прекратить опыт. Однако минут через десять мне почудилось что-то странное, словно со стороны ворвавшееся в сознание. Я не мог определить точно его формы, но на меня будто пахнуло простором, чем-то необъятно-огромным, потом почувствовалось смутное и сильное движение… Больше я ничего уловить не мог, но впечатление безграничности и движения было очень живо. Я открыл глаза. — Ну что? — спросил Морев. — Не знаю, — ответил я: — что-то движущееся и необъятное большое, кажется, темное… — Посмотрите, — улыбнулся хозяин. Я развернул бумажку и прочел: «море». Это было поразительно: фактически чтение мыслей на расстоянии. Опыт повторили еще несколько раз, при чем иногда я являлся в роли внушающего субъекта, а Юрий изображал из себя резонатор, — и почти каждый раз результат был тот же. — Но почему получается только общее, сравнительно смутное ощущение, и нельзя уловить какое-либо конкретное представление? — спросил я. — Потому что отдельным образам, мыслям, идеям отвечают настолько узкие пределы длины волн, что человеческий организм не может быть таким чутким резонатором, точно настроенным в унисон. Для более общих же ощущений, эмоций и настроений, которым отвечают и более широкие границы длины волн, — возможность резонанса гораздо более вероятна, особенно для организмов, вообще настроенных приблизительно одинаково, какими, видимо, являетесь вы и Юрий. Электромагнитные волны, излучаемые индивидом, находящимся в одном из фокусов зеркал, отражаются от него, идут параллельным пучком к другому зеркалу и, отразившись второй раз, собираются в его фокусе и потому оказывают особенно сильное действие на находящегося здесь человека, возбуждая в нем настроения, ощущения, сходные с теми, которые послужили началом явления. Это было ясно, как день. Можно себе представить, как я был поражен виденным. Но это было еще не все. То, что я увидел в следующей комнате, далеко превосходило мою, вообще не слишком богатую, фантазию. Здесь стояло три одинаковых прибора, по-видимому чрезвычайно сложной конструкции, с целой сетью перепутывающихся проводов, какими-то рычажками, колесиками и пружинками: каждый аппарат был снабжен острием на конце рычага, чертившим на медленно вращающемся барабане неровную линию, вроде тех кривых, которые в метеорологических обсерваториях зачерчивают самопишущие автоматы, термографы, барографы, гигрографы и прочие «графы», заносящие на бумагу постепенное изменение температуры, давления, влажности и прочее. — Здесь вы видите приборы, — начал Морев, — которые мне удалось сконструировать самому. Это аппараты, являющиеся резонаторами и регистраторами электромагнитных волн, излучаемых человеческими организмами. Но, конечно, они могут отвечать только на колебания вполне определенной длины или лишь слабо меняющейся; значит, во-первых, записывают лишь переживания одного человека или очень немногих людей, излучающих волны именно такой длины, и во-вторых, отмечают вполне определенные переживания, отвечающие именно таким колебаниям. Как видите, пределы действия их очень узки, но это составляет в известной степени их преимущество, так как удобнее следить за их работой. Вот этот первый прибор — это аппарат, соответствующий, так сказать, душе вашего покорного слуги; этот рядом, это мой милейший племянник; а третий олицетворяет одного из моих помощников. Что же касается области переживаний, то все они соответствуют страданиям тех лиц, за кем они, так сказать,следят автоматически. Эта область преимущественно была разработана моим отцом, на ней же, главным образом, остановил свое внимание и я. Каждая такая лента, свивающаяся с барабана, — история страданий человеческой души. И чем сильнее переживание, тем больше размахи вычерчиваемой линии; разумеется, и расстояние играет тут большую роль, — так что более слабое ощущение, перенесенное ближе к прибору, может дать большее колебание кривой, нежели сильное, но испытанное вдали от аппарата. Это, конечно, приходится все время учитывать. Я глядел на аппараты совершенно ошеломленный. Это не укладывалось еще у меня в голове. На моих глазах медленно развертывалась лента, и острие прибора чертило на ней историю души, отпечатлевало неуклонно и неизменно каждое перенесенное страдание так же автоматически и бесстрастно, как самопишущий термограф отмечает градусы тепла и мороза. — Вот я только, кажется, ввел дядюшку в лишний расход, — засмеялся Юрий, — никак размахов больших получить не удается: вот видите, все тянется прямая линия или так себе чуть колеблется, — вероятно, из-за несварения желудка или недоспанной ночи. Впрочем, нет… один раз порядочно размахалось перо, — болели зубы… — Ну, если вспомнишь получше, то найдется кое-что и кроме зубной боли, — усмехнулся Морев. Юрий вспыхнул, на минуту смешался, но сейчас же добродушно засмеялся. — Да, глупости… Понимаете ли, отвергнутая любовь и все такое прочее. Довольно старая история. А все же, правду говоря, удивительно видеть это разворачивание собственной души на ленте прибора, у себя же на глазах… Вот не угодно ли? Он снял с полки одну из намотанных, видимо старых, катушек с надписью «1935 год». Под знаком от 14 до 21 ноября кривая делала большие неровные скачки. — У Юрия Морева болели зубы… ну, конечно и тому подобное. Подробности неважны. Мне вспомнилась недавно прочитанная на эту тему статья в университетском ежемесячнике. — Вероятно, все это имеет связь с излучениями радия и подобных ему элементов, — сказал я: — мне что-то приходилось слышать о том, что наш организм служит местом многообразных радиоактивных процессов. — Прямой связи мы пока не имеем, — ответил Сергей Павлович: — скорее можно говорить об известном параллелизме между этими явлениями. Дело в том, что, кроме тех колебаний очень большой длины волны, о которых я говорил, действительно есть основание предполагать излучение нашей нервной системой других эманаций, представляющих или электромагнитные волны очень короткой длины, подобные лучам Рентгена или лучам радия, или же потоки электрически заряженных мельчайших частиц, а может быть, то и другое вместе. Обнаружить их пытались еще в начале столетия разные исследователи, например, Шарпантье во Франции и доктор Котик — в России. Они воспользовались свойством этих лучей заставлять светиться в темноте экраны, покрытые некоторыми сернистыми соединениями, например, сернистым цинком, кальцием, барием и т. д. Этот отдел я детально не разрабатывал, но кое-что вы сможете увидеть у меня и по этому вопросу; здесь я только усовершенствовал способы работы этих ученых. С этими словами Сергей Павлович открыл дверь в соседнюю комнату, расположенную в середине здания и лишенную окон. Она была тщательно затемнена и освещалась только рассеянным светом нескольких матовых электрических ламп, зажженным Моревым при нашем входе. Вокруг по стенам висело несколько досок со сложными приспособлениями и шнурами, проведенными к ним от распределительной доски с рядом выключателей. — Эти экраны, — сказал Морев, — под подвижными затворами-ширмами покрыты различными фосфоресцирующими веществами, при чем в отличие от Шарпантье мне удалось подобрать несколько из них, светящихся под влиянием определенных излучений, возникающих как следствие тех или иных переживаний нашего «я». Например, экран прямо перед нами светится легким голубоватым сиянием под действием потоков энергии, испускаемых нами при усиленной мозговой работе; что, так сказать, показатель мысли. Дальше вы видите доску, светящуюся под влиянием излучений, отвечающих чувствам любви, симпатии, вообще благожелательного, спокойного состояния духа; еще рядом — экран «гнева», потом экран «сострадания» и так далее. Каждый из них фосфоресцирует в темноте при воздействии на него определенных излучений. Попробуйте сесть в это кресло посреди комнаты и вызвать в себе те или иные настроения из указанных мною, и вы будете видеть, как перед вами будут вспыхивать в темноте те или иные экраны, при чем на каждом их них фосфоресцирующим веществом доска покрыта не сплошь, а так, что светящиеся места дают очертания букв, составляющих слова, обозначающие настроения, на которые отвечает данный экран. Таким образом, давая место тем или иным душевным состояниям, вы будете видеть их в виде огненных «Вальтасаровых» букв: мене, текел, фарес, вспыхивающих перед вашими глазами. Садитесь сюда; я потушу свет и выйду из комнаты, чтобы своими излучениями не путать опыта, и поворотом выключателя извне открою экраны. Если вам надоест, или опыт не удастся, что очень возможно, нажмите эту кнопку на ручке кресла, и я задвину ширмы экранов и присоединюсь к вам. Я уселся в мягкое кожаное кресло по указанию Морева и постарался снова изгнать из своего сознания всяческие душевные движения. Морев погасил свет и вышел с Юрием, плотно притворив дверь. Наступила абсолютная темнота; затем раздалось сухое щелканье — очевидно, открылись затворы, заслонявшие чувствительные стенки экранов. Я постарался сосредоточить свои мысли на личности моего приятеля, к которому я чувствовал искреннюю приязнь и доброжелательство. И уже через пять — шесть минут правее меня, постепенно вырисовываясь во тьме синеватым сиянием, все яснее выступили огненные буквы, словно невидимая рука написала на стене слово «любовь». Оставив это, я углубился в разрешение сложной проблемы из доледниковой эпохи северного края, над которой я много и пока безуспешно работал в последнее время. И немедленно же на моих глазах потухли буквы, мерцавшие в темноте, а прямо передо мной загорелись зеленоватым светом пять новых знаков, составивших слово «мысль». Правда, когда я затем пытался вызвать в себе чувства гнева и сострадания, — опыт не удался. По крайней мере я лишь с трудом мог уловить в темноте смутное мерцание, которое можно было приписать как действию экрана, так одинаково и иллюзии утомленных глаз, напряженно всматривавшихся в темноту. Но и того, что я видел, было более, чем достаточно. Этот человек был поистине волшебником: видеть перед собой огненные буквы, отмечающие во мраке движения собственной души, — не было ли это раньше предметом только легенд и сказок? Я сидел в кресле, невольно охваченный ощущением мощи и власти человеческого разума. И немедленно же влево от себя я увидел во тьме новые сияющие знаки: «созерцание великого», — гласили огненные слова. Я нажал кнопку под рукой. Снова сухой щелкающий звук, и буквы мгновенно погасли. В темноте обрисовался четырехугольник открываемой двери. Затем вспыхнул свет. Передо мной стоял Морев, вопросительно глядя серыми глубокими глазами, глазами фанатика и мыслителя.Глава V Мы едем в Америку
Признаюсь, что всему этому я поверил не сразу: слишком похоже было на мистификацию. Угадывание чужих мыслей, запись движений души на автоматическом приборе, а особенно эти огненные буквы во тьме, — все это было слишком Необычайно. В сущности, теоретически продумывая все виденное, я не находил в нем ничего невозможного, но поверить сразу в его практическое осуществление в такой форме, которую можно было, так сказать, ощупать руками, — я долго не мог. Юрий много рассказывал мне, со времени посещения лаборатории, подробностей, которые далеко не могли утвердить меня в этих новых идеях. Это все было больше похоже на сказку, чем на научную работу. Особенно поразило меня объяснение, данное им с этой точки зрения, возможности передачи на расстоянии настроений, сильных переживаний близких друг другу людей. — Разумеется, если вообще согласиться с тем, что человек излучает электромагнитные волны разной длины, соответствующие различным переживаниям, — сказал я Юрию, — то возможно, что колебания эти могут быть восприняты другим индивидом на расстоянии тысяч верст, но, во-первых, почему же они заставляют отозваться именно того или иного человека, а не всех вообще, а, во-вторых… — Вы забываете, — перебил меня мой приятель, — что струна отвечает другой струне созвучанием лишь тогда, когда она настроена с первой в унисон, то-есть способна издавать звук той же высоты. — Ну, и что же? — Да то, что изо всех людей на данное колебание отзывается лишь тот, кто настроен также в унисон с живым источником, излучающим волны. Так же и станция беспроволочного телеграфа принимает не все электромагнитные колебания, проходящие мимо нее, а выбирает, так сказать, те, на которые она настроена. — Допустим, — продолжал я, — так вот, во-вторых, почему этим настроенным в унисон прибором оказывается, как вы говорите, человек близкий и в каком именно смысле? — Это не обязательно, но в большинстве случаев действительно так бывает. И естественно, почему. Надо обернуть вопрос: не потому люди могут быть настроены в унисон, что они близки, а, наоборот, именно потому они близки, что, быть-может, случайно в той или иной области своих переживаний излучают волны одинаковой длины. — Какая же, однако, связь между, положим, духовной близостью двух людей и одинаковостью характера излучаемых ими колебаний? — Вполне понятная. Одинаковость длины волн указывает на одинаковость производящих их нервных токов, а значит, и отвечающих им переживаний, идей, эмоций и прочее. — Вот как. Следовательно, всякое чувство взаимной любви, симпатии, приязни вы объясняете случайной одинаковостью устройства нервно-мозговых аппаратов, излучающих одинаковой длины психические волны? — Не всегда случайной, — возразил мой собеседник; — часто это сходство зависит от одинаковой наследственности. Это объясняет легкость возникновения такой близости у людей из одной семьи. — Однако, очень часто у индивидов, совершенно не имеющих общей наследственности, эта близость оказывается несравненно больше; ну, скажем, у мужа и жены. Неужели это только случайность? — И да, и нет. Случайным бывает первоначальное небольшое сходство, которое во много раз увеличивается при длительном взаимном общении. Постоянный обмен сходными переживаниями все более облегчает прохождение по проводящим нервным путям именно данных токов, отвечающих присутствию близкого человека. Таким образом, происходит своеобразная гимнастика нервных путей, с каждым разом облегчающая дальнейшее их прохождение и делающая организм все более чутким резонатором на данные колебания. Опять-таки теоретически я ничего не мог возразить против такой последовательной логики. — Но в этом отношении теория вашего дядюшки именно только теория, гипотеза? Проверить ее фактически вряд ли возможно. — Нет, кое-что и на эту тему уже накопилось. Да, вот вам один факт, не подлежащий сомнению. Когда в 1915 году младший брат дяди Сергея умер на фронте, где он был офицером, — в момент его смерти его мать и сестра ясно видели или во всяком случае почувствовали его присутствие. — Помилуйте! — возразил я, — мы уж договорились, кажется, до явления призраков и прочей чертовщины? — Почему же чертовщины? Сильная вспышка жизненной энергии в момент смерти явилась источником интенсивных колебаний, воспринятых организмом, настроенным и унисон. — Все это так, но самая связь этого явления с теорией нервно-психических колебаний — все-таки только гипотеза? — Да, к сожалению, покойный дед не имел в своем распоряжении психографов, которые стоят в лаборатории дяди Сергея и которые вы там видели. Но теперь, в случае чего-либо подобного, вполне возможна и фактическая поверка. — Я бы искренно пожелал, чтобы случай этот не представился. — Почему? — с удивлением спросил Юрий. — Да потому, что «что-либо подобное» должно приключиться или с вами, или с вашим дядюшкой, по которым установлены эти… как вы их называете? — Психографы. Да, об этом я и забыл, — засмеялся Юрий, — ну что же делать? А я думаю, дядюшка от души желает мне несчастной любви, разочарования в жизни, крупного проигрыша и других сильных ощущений. — Так же, как моя жена не менее искренно пророчит вам тихую пристань семейной жизни, к огорчению Сергея Павловича. — А ваше мнение, дорогой мой? — Пожелаю вам быть самим собой и не искать ничего умышленно. — Аминь. Ответ, достойный дельфийского оракула. А я, пожалуй, склоняюсь к мнению дядюшки, хотя и по другим, нежели он, мотивам. Этот разговор происходил вечером в моем кабинете, где мы только что закончили разборку коллекции окаменелостей из ухтинского песчаника. А через два дня я получил из Центрального управления разработок Севера в казенном пакете официальное предложение войти в состав комиссии, командируемой в Пенсильванию для ознакомления с условиями залегания нефтеносных пород и характером их разработки с целью уяснения некоторых вопросов по начинаемой эксплуатации Ухтинского района. Мне, конечно, предстояло по этому поводу выдержать бурю у себя дома, что бывало неизменной прелюдией ко всем сколько- нибудь длительным отъездам. Но я решил быть твердым и не упускать случая, помимо всего остального, взглянуть воочию на жизнь этого удивительного континента, увидеть собственными глазами этого дядю Сама, с таким покровительственным видом похлопывающего по плечу старушку Европу и вошедшего окончательно по отношению к ней во вкус командирского тона. Тогда же мне пришла в голову мысль предложить Юрию участие в экспедиции, так как бумага давала мне некоторую свободу в выборе сотрудников. Он принял мое предложение с восторгом. — Надеюсь, что это в последний раз выше цыганское «я» берет верх над благоразумным, — сказала ему по этому поводу моя жена, не одобрявшая всей нашей затеи. — Надеюсь, — ответил Морев, — привезу из Нью-Йорка халат и длинную американскую трубку. Что касается Сергея Павловича, то он сначала было поморщился, но затем даже выразил свое удовольствие, надавал нам тьму поручений делового и личного характера, и все оставшееся до нашего отъезда время провозился у себя в лаборатории над тщательной регулировкой психографа, настроенного по Юрию. Я глядел на эти манипуляции с недоверием и странным чувством почти недоброжелательства. — А знаете ли, — сказал я как-то Юрию: — если верить в действительность работы этих удивительных приборов, мне было бы странно, почти жутко — оставить здесь за собой такого неумолимого, неусыпного соглядатая, от которого не могут скрыться даже сокровенные переживания… Он повернул голову, и в его глазах мелькнуло что-то вроде испуга. — Вы знаете, — ответил Юрий нетвердым голосом, — мне у и самому как-то не по себе. Это похоже на сказку, которую я читал когда-то в детстве. Отправляющийся в дальнее и опасное путешествие принц или королевич, не помню уж кто, оставляет на родине волшебный розовый куст, который должен завянуть, если с ним, принцем, случится несчастие. Теперь эта сказка становится явью. С той разницей, что розовый куст принца заменяется головоломным аппаратом с проволочками, рычажками и колесиками моего дядюшки. — Аминь, — ответил я любимым изречением моего собеседника. — Будем надеяться, что за десять тысяч верст через Атлантический океан он вас не достанет. Через неделю мы были на борту «General Hegg», который из Кронштадта должен был доставить нас в Ливерпуль, откуда путешествие наше продолжалось на одном из пароходов «Transatlantic Company». Юрий все это время занимался английским языком, объясняясь наполовину звуками, наполовину жестами с матросами и разношерстной публикой 3-го класса, где он легко сводил, по его словам, удивительно интересные знакомства. Мне же во время этого переезда через океан впервые пришлось столкнуться с представителями международной денежной знати. Что меня сразу поразило больше всего, это то, что я не мог угадать, к какой национальности принадлежал каждый из них. Каждый говорил одинаково на трех, четырех языках, из которых нельзя было угадать их родной. Каждый оперировал общим арсеналом идей, поверхностных, хотя часто блестящих по форме, принятых в этом кругу. Каждый имел одинаковую безукоризненную наружность, одинаковые панамы, одинаковые галстуки, одинаковые смокинги наверху и в hall’e, одинаковые фраки за обедом. Они не были французами, немцами, американцами, англичанами, а чем-то покрывающим собой и немца, и француза, и американца. Поистине, это была особая раса. Между пассажирами 2-го класса разница национальностей и положений была заметнее. Здесь слышал я такой разговор между доктором-немцем, ехавшим на какой-то медицинский конгресс в Бостоне, и американским журналистом, которого я видел в Москве и который очень интересовался будущим нашего Севера: — Удивительное дело, — говорил ему доктор, сидя в плетеном кресле и посасывая скверную сигару, — как вы, американцы, опередившие нас своей материальной культурой и по праву этим гордящиеся, так упорно тянетесь своим прошлым в Европу и радуетесь тому, что у нас, в Старом Свете, все больше теряет кредит и значение… — Ну, и что же? — усмехнулся его собеседник, — а вы, богатые своим прошлым, традициями, духовной культурой, — вы гонитесь за нами в наших материальных достижениях… Это так естественно: ценят дороже всего то, чего не имеют сами или чего лишились. Это великий нивелирующий стимул, который в конце концов сгладит границы, и тогда исчезнет разница между европейцем и американцем, между французом и немцем… — О! — вырвалось невольно у доктора, — что касается последнего… Он сердито швырнул за борт сигару и потемневшими глазами следил за подчеркнуто изящным французским коллегой, едущим на тот же конгресс и обратившим к нам теперь свой тонкий профиль с бородкой Henri IV, в небрежно изысканной позе, в оживленном разговоре с двумя дамами. — Но ведь в конце же концов это будет, — улыбнулся одними глазами американец, угадывая внутреннее волнение собеседника. — Раньше мы с ними сосчитаемся, — промолвил после некоторого молчания доктор, и в голосе его послышалась упорная, глухая, неустающая ненависть. К вечеру этого дня мы подъезжали к Нью-Йорку.Глава VI На нашем горизонте появляется женщина
Нью-Йорк встретил нас негостеприимно. С утра шел проливной дождь, сквозь завесу которого вырисовывались темные громады необъятного города. Под серой пеленой он будто потерял свою физиономию, а, может быть, и не имел ее вовсе… По крайней мере, вначале в многомиллионном, кричащем, ревущем, свистящем и гудящем хаосе, в стремительном, многоязычном людском потоке я не нашел ничего, что остановило бы на себе внимание. Впрочем, толпа всегда действует на меня подавляюще; я боюсь ее, точнее — испытываю что-то среднее между брезгливостью и страхом, мне чудится в ней часто непроизвольное, но неизбежное насилие над моей волей. Теперь я знал, что это значит: я был слишком чутким резонатором на бесчисленное количество переплетающихся колебаний, излучаемых этим сложным прибором. А здесь, в Америке, я был поистине в царстве толпы, в царстве знаменитого мöба, духом которого проникнута вся жизнь. Но только позднее, когда из нашей каморки в 20-м этаже в русском квартале около Ист-Бродвей попали мы с Юрием в эту жизненную артерию Манхеттена, я почувствовал настоящий американский мöб. Первое впечатление, поразившее меня, было ощущение полной механичности этой жизни. Мне показалось невероятным, что этот непрерывный, нескончаемый поток составлен из живых, мыслящих и страдающих людей. Это был бег автоматов, заряженных механической энергией и стремящихся в беспорядочном по видимости, но строго согласованном движений к неведомой им самим цели. Юрий, вообще, не любитель больших городов, был совсем удручён и растерян, особенно в первое время. Невероятное кипение жизни сбивало его с толку, делало больным; он не мог приспособиться к ее лихорадочному темпу. — Знаете ли, — сказал он как-то, — я чувствую себя здесь совершенно чужим, и мне жутко; даже не за себя, а за всех этих живых кукол, мчащихся в этой страшной сумятице. Вам не приходило в голову, глядя на этот бег, что, стоит кому-нибудь упасть, — он уже не поднимется: его место будет просто автоматически заполнено, и он окажется лишним? — Да, здесь упасть — значит выбыть из игры, ставкой в которой — жизнь. — Аминь. Хорошо, что мы здесь только гости. Попав из Нью-Йорка в Филадельфию и выхлопотав, хотя и не без труда, разрешение произвести некоторые изыскания и обследовать условия работы по добыче нефти, мы получили возможность соприкоснуться с деловым и коммерческим миром и оценить его характер и физиономию. Это была новая раса, твёрдо и трезво стоящая на ногах и уверенно глядящая вперед. Рим нашего времени. И роль Греции по отношению к этому новому Риму играла старушка Европа, принесшая свою многовековую и утонченную культуру на алтарь трезвой, практически-солидной и безвкусной цивилизации. Как и в Риме, наша утонченность и духовность претворялась в монументальность, грандиозность и небывалый доселе размах. Невольно приходило в голову сопоставление ионического храма с римским Капитолием и в наше время миланского собора с Капитолием вашингтонским. Вот он, четвертый Рим, четвертый и последний, который должен охватить всю землю, с тем, чтобы рассыпаться в прах в великом и страшном падении и на своих развалинах дать начало новой жизни. — А вы думаете, этого последнего Рима надо ждать? — спросил меня Юрий, когда я рассказал ему о своих впечатлениях: — а не пришел ли он уже давно и не наложил ли на мир свою железную руку? И не его ли мы видели на Бродвей и Wall-Street, и еще раньше — в откормленных затылках и выхоленных руках международной публики I класса? — Да, пожалуй, вы правы, но, во всяком случае, эта раса сыграла и играет в этом международном Риме роль бродильного начала, роль дрожжей и закваски. Ведь, смотрите: она и чисто физически получила новый облик, отличный от европейца. — Да, да, а знаете ли, откуда этот облик? — засмеялся Юрий. — Я бы, конечно, до этого не додумался, а американцы сами не любят в этом сознаваться. Мне об этом рассказал один из моих знакомцев по 3-му классу, с которым я встретился после на Ист-Бродвей. Возьмите типичного, сухопарого, горбоносого янки, представьте себе его без бороды, посадите на макушку пучок перьев, а для полноты картины разрисуйте ему физиономию. Не напоминает ли это вам чего-нибудь из ваших детских лет? — Да, пожалуй, какого-нибудь вождя навахосов, команчей, сиуксов или чего-либо в этом роде. — Не правда ли? Это, прежде всего, раса метисов и вообще гибридов. «Мы очень не любим в этом признаваться, — сказал мне мой осведомитель, — хотя именно в этом надо искать корни нашего национального характера, дающие нам силу и сопротивляемость». — Да, да. Ведь мы в Европе целый ряд веков выбрасывали за океан из своей среды самое беспокойное, энергичное и здоровое. И теперь мы не устаем говорить о нашем вырождении. А тут примесь еще новой, свежей, терпкой крови дала поистине новую расу, жизнеспособную, стойкую и гордую. Работы нашей партии развернулись в районе от Филадельфии до Питсбурга. Здесь, в скромной квартире из трех комнат, приютилась наша маленькая контора. Пока мы с партией (в том числе и Морев) отправлялись производить обследования на местах нефтяных разработок, в нашей конторе, как обычно, стучала машинка, скрипели перья — вертелась канцелярская машина, сопровождающая всякую деятельность человека. Через контору мы получали почту из России: я — обычные послания на десяти листах от жены с подробнейшим перечислением домашних мелочей, слухов, сплетен и новостей из Ленинграда; Юрий — коротенькие строчки от дядюшки, который, между прочим, писал неизменно: «Психограф чертит прямую линию». — Не достанет, — смеялся мой приятель и отвечал такими же коротенькими письмами, похожими больше на официальные донесения. Вернувшись в Питтсбург после одной из поездок, ты нашли в конторе маленькое изменение. Вместо заболевшей соотечественницы, исполнявшей у нас роль машинистки, была нанята временно новая служащая. Увидав ее впервые, я невольно остановился: это было лицо из тех, мимо которых невозможно пройти, не обратив внимания. Я не скажу, чтобы она была красавицей: взятые в отдельности, черты ее лица не отличались безукоризненной правильностью, — но матово-оливковый цвет лица в рамке темных, почти черных волос, большие влажные, чуть-чуть косо поставленные глаза, редкая гармоничность и мягкость движений, вибрирующий грудной голос — все это создавало поразительно цельное и волнующее впечатление. В ней была пропасть мягкой женственности, удивительной простоты и, вместе с тем, чувствовалась незаурядная сила характера. Ко всему тому она была очень неглупа и обладала в достаточной мере живым воображением и практическим здравым смыслом. Одно было нехорошо: она была без меры самолюбива и вспыльчива. Все это узнал я, конечно, много позже, когда мы ближе познакомились. Первое же впечатление, повторяю, было чувство обаятельной прелести. В этот день я чувствовал, что письмо мое жене было не вполне искренним… Конечно, я был слишком стар, чтобы делать глупости, но мысли не всегда считаются с условиями возможности и… не во всех мыслях можно откровенно признаться иногда даже и самому себе. Мисс Margaret была, как я узнал вскоре, полуфранцуженкой-полукреолкой, откуда-то с юга и соединяла в себе самым очаровательным образом достоинства и недостатки своих сестер по обе стороны океана. Так как мы с Юрием оба в достаточной мере владели французским языком, то знакомство наше не ограничилось приветствиями при встречах. Мы совершили втроем прогулку в окрестности Питтсбурга, съездили на Ниагару и два раза были в Нью-Йорке, при чем спутница наша приняла на себя роль чичероне. Впрочем, мне скоро пришлось отказаться от этого удовольствия. Во-первых, я был очень занят: у меня накопилось много материала и в связи с данным мне поручением и для себя лично. Во-вторых, я стал немного тяжел на подъем: ведь мне было столько же лет, сколько им обоим вместе. Разумеется, мне не к лицу было бы делать глупости. Впрочем, я, может быть, был бы не прочь и от них, если бы можно было рассчитывать на их обоюдность. Но надеяться на это было по меньшей мере наивно. Ну, и… одним словом, я почувствовал себя скоро лишним в этом трио. Конечно, мне ничего не стоило убедить Юрия, что я по горло занят. Он очень жалел, уговаривал меня не переутомляться, сокрушенно качал головою по поводу моего изнуренного вида, но… прогулки все-таки продолжались, правда, уже вдвоем. Было время, когда мне пришлось снова отправиться на две недели на работы, при чем я волей-неволей должен был взять с собой Юрия — другого техника-нивелировщика не было. Всю дорогу он дулся на меня, как на злейшего врага. Он подозревал, что это было подстроено нарочно. Впрочем, по возвращении в Питтсбург, он вернул мне свое расположение. Много рассуждений было от начала мира на эту тему, и сейчас вопрос этот так же темен, как и раньше. Конечно, воля рода, необходимость его продолжения — великий сводник от начала веков. Но почему именно Иван выбирает Марью и Марья Ивана, и вне их двоих мир кажется пустыней и миражем? Не жестоко ли было бросить людям такую приманку только ради того, чтобы история первого века сменялась историей второго, потом третьего, десятого, двадцатого, и так до тех пор, пока какая-нибудь звезда в слепом беге не сожжет своим дыханием все и не обратит в мертвый мусор нашу землю со всеми ее маленькими и большими делами и мыслями? И всё-таки почему именно Ивану нужна Марья и Марье Иван? Или в самом деле только потому, что у обоих случайно совпадает длина излучаемых ими волн в области половых эмоций, и этим они выделяются как две отвечающие друг другу струны, настроенные на одну и ту же ноту? Значит, опять случай, то-есть неизвестное. Вот двое: люди разного склада, разных национальностей и происхождения, разного воспитания, — и случай сталкивает их в сумятице жизни, а дальше все за них делают неизбежные и непреоборимые законы, управляющие дрожанием электронов и атомов, колебанием струн и камертонов и ритмом исторических движений человеческих масс. Впрочем, у моей пары дело шло, видимо, не совсем уж гладко. Не знаю, в чем было дело. Юрий вообще вдруг стал замкнутым и сдержанным и особенно избегал какого бы то ни было разговора о мисс Margaret. Ходил мрачный, задумчивый и, в конце концов, однажды разразился неожиданной тирадой. А знаете, Дмитрий Дмитриевич, мне иногда приходит в голову: удивительно глупая и жестокая штука жизнь, и недурно было бы ее кончить, не ожидая своей очереди. Вы никогда об этом не думали? — Думал, — ответил я, — когда был примерно таких лет, как вы, дорогой мой, думал и даже купил себе револьвер, но забыл пули в магазине, а идти за ними второй раз было совестно. С тех пор это искушение больше не повторялось. — Нет, серьезно. В сущности, по-моему люди все должны кончать самоубийством. Это гораздо больше отвечает человеческому достоинству, чем покорное ожидание результата работы каких-нибудь бактерий. — Фу ты, страсти какие, милый мой! Впрочем, может быть, когда-нибудь это и будет, когда наши потомки станут сверхчеловеками и, насытившись жизнью по горло, будут устраивать этакое помпезное представление á la Петроний. Но до этого еще очень далеко. — Нет, это не то. Я не сыт жизнью; наоборот, быть может, слишком голоден. И все-таки осточертела она мне выше головы. — Если говорить серьезно, дорогой мой, то менее всего отвечает человеческому достоинству такой выход из положения, когда он является не чем иным, как бегством, непростительной слабостью. Не говоря уже о том, что никому вы этим ни пользы, ни удовольствия не доставите, кроме, пожалуй, вашего дядюшки… А ради этого, право, не стоит устраивать неприятности вашим друзьям… — Дядюшка… да, да. — Юрий вдруг густо покраснел: — А знаете ли, что он написал мне в последнем письме? «Психограф дает небольшие колебания, — напиши, в чем дело?». — Не смею судить, имеет ли этот почтенный аппарат основание для своего беспокойства, но, дорогой мой, от души хотел бы вам помочь, чтобы он снова чертил свою ровную прямую линию. — Спасибо. Я знаю, Дмитрий Дмитриевич. Выбраните меня идиотом. — Ну, зачем же так резко, голубчик? Да и сознание своей вины — уже половина ее исправления. — Аминь.Глава VII Джозеф Эликотт
Работы наши близились к концу, и результатом их я был доволен. Особенно интересовали меня данные относительно больших нефтепроводов, подававших горючее непосредственно на сотни верст от места его добычи в Буффало и другие крупные пункты потребления. Это был именно способ, намеченный для доставки нефти на Ухте к местам ее погрузки для дальнейшего транспортирования водой и по железной дороге. Контора наша сворачивалась, и через месяц мы предполагали покинуть Америку. Благодаря этому, мисс Margaret осталась без места, тем более, что выздоровела наша соотечественница, которую она временно замещала. Юрий ходил чернее тучи. Мисс Дорсей предполагала отправиться искать счастия в Нью-Йорк, но колебалась. Однако, это долго протянуться не могло; она-попала в Питтсбург с юга, кажется, из Нового Орлеана, где только что умерла ее мать, и была здесь совершенно одна, с очень скромной суммой, таявшей с каждым днем. Но здесь в нашу жизнь вновь ворвался случай, это слепое чудовище, вмешательство которого всегда потрясает меня чувством бессильной злобы. На этот раз оно олицетворялось в виде появившегося в Питтсбурге главы огромного нефтяного синдиката мистера, Джозефа. Эликотт. Его приезд был возвещен в газетах, поместивших его подробную биографию, его характеристики как финансиста, как человека, как ученого, ибо он, оказывается, был даже и ученым. Поднялся обычный здесь трезвон беззастенчивой печати. Портреты мистера Эликотта запестрели на страницах газет, в витринах магазинов, на световых рекламах. Я скоро узнал все значение и роль этой крупной фигуры не только в жизни Питтсбурга и штата, но и всего Союза. Здесь он, в сущности, был полновластным хозяином и распорядителем. Он был одним из воротил синдиката, охватывавшего восемьдесят процентов нефтяной промышленности, наследника старой (Standart Oil Company, и синдикатом этим он вертел по своему усмотрению. В его руках сосредоточивалась жизнь и деятельность всего этого огромного района. Еще недавно у всех было на памяти громовое крушение его последнего конкурента, старого Эндрю Джексона, которого он в течение года пустил в трубу и проглотил, не поморщившись, со всеми потрохами. Теперь он был собственником большей половины предприятий синдиката, а остальная была у него в кулаке. Кроме собственно нефтедобывающей промышленности, Джозеф Эликотт объединял почти всю химическую выработку всевозможных продуктов из нефти, монополизировав ее почти целиков в своих руках. Производство взрывчатых веществ, топлива для двигателей, целого ряда аптекарских препаратов — все это так или иначе было в зависимости от «Восточного общества обработки нефти». Отсюда ясна была огромная роль этого финансиста и ученого (он имел звание профессора honoris causa от Колумбийского университета) в жизни. И удивительно было то, что, используя свое влияние и значение в полной мере в своих интересах, Джозеф Эликотт был далек от официальной большой политики. Когда-то, лет десять назад, он был министром в либеральном кабинете, но больше попытки в этом направлении не повторял, хотя, конечно, имел возможность выставить свою кандидатуру на пост президента. Все это делало его незаурядным, чрезвычайно интересным человеком, и я с нетерпением искал случая его увидеть. Случай этот представился скорее, чем я думал. Мистер Эликотт, узнав о работе нашей комиссии из донесений своих контор, с которыми нам неоднократно приходилось иметь дело, выразил желание видеть руководителя миссии. Так как принципал наш был болен, его пришлось заменить мне. Нефтяной король принял меня в своем рабочем кабинете, обставленном с несколько тяжеловесной, но комфортабельной деловой роскошью. Наружность его вначале поразила меня своей обыденностью. На вид ему было лет пятьдесят. Среднего роста, коренастый, с несколько длинными, словно обезьяньими руками, одетый просто, но тщательно, он производил впечатление профессора какого-нибудь захолустного университета. Одутловатое, слегка морщинистое лицо под густой шапкой подернутых проседью черных волос, чисто выбритое и, видимо, холеное, тоже не останавливало на себе внимания. Только маленькие складки у углов рта, оттягивавшие их книзу, придавали этому лицу выражение не то неизбывной печали, не то брезгливой гримасы. Но в его глазах было действительно что-то жуткое. Они были совершенно неподвижны и словно задернуты какой-то завесой, сквозь которую из глубины не прорывался ни один луч. За все время разговора ни разу они не изменили своего выражения, не загорелись огнем, не засмеялись, не засветились гневом или печалью, или недоумением. Это были куски цветного камня, вставленные под насупленными бровями. Глядя в эти мертвые глаза, я почувствовал, что в глубине их, под непроницаемым покровом, может скрываться что угодно, вплоть до преступления. Разговор наш был короток и малозначителен. Мистер Эликотт осведомился о некоторых данных предполагаемой разработки на Ухте, внимательно выслушал мои ответы, а затем спросил, как у нас отнеслись бы к возможности привлечения к этому делу иностранных капиталов (очевидно, надо было подразумевать капиталов Джозефа Эликотта). Не имея для таких переговоров никаких полномочий, я уклонился от прямого ответа. На этом разговор наш кончился. Эта встреча произвела на меня тягостное впечатление. Через два дня я был неприятно поражен рассказом Юрия, что мисс Margaret поступила на место в одну из контор нефтяного короля. — Как же это произошло так быстро? — спросил я. — Она прочла объявление в газете, отправилась туда и сразу была принята. Мне это очень не понравилось. Для чего понадобилось такому человеку, как Джозеф Эликотт, искать служащих при помощи объявления в газете — мне не было понятно. К этому прибавлялись еще полученные мною накануне (конечно, уже не из газет) сведения о слабости миллиардера и профессора, стоившей ему двух или трех скандальных дел, затушенных в печати крупными суммами. Подробности были грязного свойства и говорили о болезненной половой извращенности. Конечно, это были только слухи, но, помня глаза этого человека, я готов был допустить их правдоподобность. Во всяком случае мне было бы жаль женщину, которую случай бросил бы на пути Джозефа Эликотта. Юрию я ничего не сказал, но он и сам был, видимо, обеспокоен. — Вы знаете, мне почему-то не нравится вся эта история, хотя по словам мисс Margaret ее встретила там исключительно деловая атмосфера; к тому же и самый размер вознаграждения — сто долларов в месяц — настолько скромен, что свидетельствует о деловом характере работы. Как вы думаете, Дмитрий Дмитриевич? — спрашивал меня мой приятель. Я поспешил его успокоить. В конце концов, все зависело от благоразумия и такта самой мисс Дорсей, а на нее, по-видимому, можно было положиться твердо. Да и, наконец, не было решительно никаких непосредственных причин к беспокойству: у Эликотта тысячи служащих разного пола, возраста и положения. На следующий день мы сидели втроем в одном из плохоньких театриков Питтсбурга и смотрели посредственную игру местной труппы, вызывавшую шумное одобрение публики. — Довольны ли вы вашей новой службой? — спросил я мисс Margaret. — А что? Вероятно, Джордж уже успел вам насплетничать? Я невольно повернул голову в сторону моего приятеля, в первый раз услышав такое короткое обращение, свидетельствовавшее о том, что он не терял времени попусту. Мисс Margaret слегка покраснела, заметив свою оплошность, но не поправилась, а продолжала спокойным голосом: — Я не имею причин жаловаться. Мистер Эликотт — вполне терпимый хозяин. Он сух, но вежлив и, по-видимому, не отделяет меня от той машинки, на которой я пишу. — А вы разве работаете непосредственно у него? — Да, в секретарской. Работа нелегкая, но интересная: она дает возможность чувствовать биение пульса огромного организма, возглавляемого этим человеком. — Вот это-то мне и не нравится, — пробормотал Юрий. — Я не понимаю, чего вы боитесь, — возразила девушка. — Если бы вы видели мистера Эликотт в его конторе, — вы бы поняли, что мы все для него просто не существуем. Когда он проходит в свой рабочий кабинет, и публика вскакивает при его появлении, уверяю вас, он даже не замечает; он идет среди раболепных и трепещущих людей, как в пустой комнате, машинально обходя попадающуюся на его пути живую мебель. — И все-таки я боюсь, — сказал Юрий с легкой дрожью в голосе, — может-быть, не того, о чем вы думаете. Я даже, пожалуй, сам не знаю отчего… — Ну вот, — засмеялась девушка, — а где же ваша знаменитая мужская логика? Впрочем, ведь это всего на какой- нибудь месяц. А там видно будет. Юрий благодарными глазами посмотрел на нашу спутницу и пробормотал что-то вроде того, что он отдал бы десять лет жизни за то, чтобы этот месяц уже прошел. Мисс Margaret опять покраснела, но не ответила, сделав вид, что очень интересуется происходящим на сцене. Через месяц предполагалось окончание нашей работы и отъезд в Россию. У меня появилось определенное предчувствие, что миссия наша увеличится одним членом; я вообразил себе огорчение моей жены по этому поводу и усмехнулся. Его величество случай, как обыкновенно, путал и перетасовывал все человеческие расчеты. Прошло две недели. Жизнь шла обычным путем; работы наши подвигались к концу. Физиономия моего приятеля проходила всю гамму выражений от покорного ожидания до бурного нетерпения; во всяком случае о самоубийстве больше не было речи. Психограф чертил прямую линию. Между прочим, мне пришлось услышать еще некоторые подробности о жизни Джозефа Эликотта. Еще лет пятнадцать назад им опубликована была большая работа «О характере электрохимических процессов в нервных проводящих путях», завоевавшая ему заслуженную известность и давшая, как я говорил выше, звание профессора honoris causa Колумбийского университета; Затем были две или три работы по исследованию радиоактивных свойств морской воды, также обратившие на себя внимание. Однако, вот уже больше десяти лет, как он бросил писать и вел какие-то опыты в огромном масштабе на пустынных и неприветливых островах в заливе Памлико, у берегов Северной Каролины. В чем они заключались, не было известно, но высказывались предположения об очень важных исследованиях над радиоактивностью морской воды, а также возможности извлечения из нее химическим путем заключенного в ней золота. Эти работы обходились, по словам газет, в колоссальные суммы, поглощая все дивиденды Джозефа Эликотта, ликвидировавшего даже некоторые из своих предприятий. Эта фигура положительно заинтересовывала. Приблизительно через месяц после начала работы мисс Margaret в конторе нефтяного короля произошел следующий случай. Мы сидели с Юрием в его комнате на одной из сравнительно тихих улиц, когда раздался сильный стук в дверь, и, прежде чем мы успели ответить, — она распахнулась, и вбежала мисс Margaret, взволнованная, негодующая и задыхающаяся от быстрого бега и гнева, Юрий побледнел, как полотно, когда девушка, не ответив на наше приветствие, почти упала в кресло и разрыдалась. Он налил в стакан воды и бросился к ней; я хотел было уйти, предполагая, что буду лишним при интимном разговоре, но мисс Margaret остановила меня жестом руки, глотнула воды и начала приводить в порядок растрепавшиеся волосы. — Останьтесь, мистер Дмитрий, мне нужен ваш совет. — Что же случилось? — спросил я. — Успокойтесь, дорогая, и расскажите в чем дело. — Да, да… сейчас. Вот так. Теперь слушайте. Сегодня, полчаса назад, Джозеф Эликотт… — Так это все-таки он? — вырвалось у сидевшего подле окна бледного и неподвижного Юрия. Мисс Margaret кивнула головой. — Да, да, вы были правы. Так вот он потребовал от меня…чтобы я стала его любовницей… Юрий вскочил со своего места с перекосившимся от бешенства лицом. Яс трудом усадил его в кресло. — Час тому назад я сидела за своей машинкой и печатала письмо какой-то фирме со слов старика. Секретаря он куда-то услал, и мы были в кабинете вдвоем. Работа в конторе уже кончилась, и в ближайших комнатах никого не было. Старик просил меня остаться на полчаса, так как письмо было, по его словам, очень спешное. Кончив диктовать, он вдруг остановил на мне свои мертвые глаза, и на лице его показалось что-то вроде улыбки. — Мисс Дорсей, вы одинокий человек и живете здесь на чужбине, не правда ли? — спросил он. — Да, — ответила я, удивленная этим странным вопросом. — И, кажется, обладаете очень скромными средствами? Вероятно, я сильно покраснела. — Мне кажется, это не может никого касаться, кроме меня самой. — Вы думаете? Хороший хозяин должен знать все о своих подчиненных. Я думаю, вы не прочь были бы изменить эти условия жизни? — Я вас не понимаю, — ответила я, — и вообще этот разговор меня удивляет. — Не сердитесь, — усмехнулся старик, — я хочу вам помочь. У вас есть данные к тому, чтобы взять от жизни все, что она может дать, а не корпеть свой век над скучными бумагами из- за жалких грошей. Скажите, что в жизни привлекает вас больше всего? Я молчала, удивленная этими странными вопросами. — Вы не отвечаете? Я скажу за вас, — продолжал Эликотт, — деньги и власть над вещами и людьми. И деньги именно потому, что они дают власть. — Однако же вы, имея возможность власти, отказываетесь от нее, насколько я знаю, — вырвалось у меня. Но я сейчас же пожалела, что дала повод продолжать этот странный разговор, и встала, делая движение к двери. Старик не тронулся за своим столом и только сделал протестующий жест рукой. — Вы говорите про политическую власть!? Про эту игрушку толпы и случайностей: азартную игру с краплеными картами!? Нет, в современном буржуазном государстве политическая власть, путающаяся между растущими массами и взнуздывающим их капиталом, — это игра, состязание, спор — что хотите, — но это не сила. Я говорю о непосредственной, ощутимой власти над живыми людьми. А такую власть дают только деньги. И если бы вы захотели стать причастной к такой власти… Я начала понимать. — Какою же ценой я должна купить эти блага? — спросила я, стараясь казаться как можно спокойнее. — Ну, разумеется, даром ничто не дается, — но я уверен, что мы столкуемся. Я, конечно, не сторонник излишних формальностей в таких вопросах. Полагаю, что и вы свободны от этих предрассудков… Здесь я, кажется, крикнула что-то резкое и бросилась к двери. Но проклятый старик нажал кнопку у себя на столе, и в двери щелкнул автоматический замок. Признаюсь, в эту минуту я струсила. — Что это значит? — спросила я. — Это значит, что я хочу побеседовать с вами без помехи и прийти к соглашению. Эликотт встал с места и направился ко мне. Я вся дрожала от страха и гнева. — Успокойтесь, дорогая, — заговорил он снова, — все это не так страшно, как вам кажется. А жизнь стоит того, чтобы купить ее такой ценой. Я почувствовала его тяжелую руку на своем плече. Это прикосновение вернуло мне силы и присутствие духа. Я оттолкнула старика так, что он еле удержался на ногах, и бросилась к окну. — Если вы сделаете ко мне еще шаг, я выбью окно и буду кричать на улицу. — Ну, вряд, ли вас кто-либо услышит с высоты двадцатого этажа. Не будьте наивной девочкой и не делайте глупостей. Он был прав. Я чувствовала себя затравленным зайцем. В этот момент глаза мои упали на металлический нож с острым концом для разрезывания бумаги — на письменном столе. Прежде, чем он успел перехватить мой взгляд, я молнией бросилась к спасительному клинку и схватила его. Мы несколько минут молча смотрели друг на друга. — Я прошу меня отсюда выпустить. — Итак, вы отказываетесь от переговоров? — Я прошу открыть дверь. — Жаль, очень жаль. Вы напрасно торопитесь. Я не люблю отказываться от раз намеченного. Советую вам на досуге подумать о моем предложении. Эликотт нажал кнопку. — Вы свободны, мисс Дорсей. Я буду ждать ответа. До свидания. Я не помню уже, как я оттуда выбралась и как добежала до вас. — Что теперь делать? — мисс Margaret в отчаянии всплеснула руками. Юрий стремительно вскочил с места и бросился к двери, я едва успел захлопнуть ее у него под носом. — Куда это вы собрались? — спросил я, усаживая его у стола. — Пустите, Дмитрий Дмитриевич, я поеду сию минуту к нему… — Ну, и что же дальше? Не делайте глупостей, дорогой мой, и не осложняйте дела; эпизод, конечно, не из приятных, но своим вмешательством вы только ухудшите положение. Вы забыли, что вы в Америке и имеете дело с одним из крупнейших воротил Wall- Streeta. — Что же? Это значит, что надо, не моргнув глазом, переносить оскорбления?.. — Нет, это значит, что надо быть очень осторожным. Я думаю, что важнее сейчас дать дельный совет мисс Дорсей, чем избивать, хотя бы и заслуженно, одного из главных тузов Соединенных Штатов. — Я думаю, мистер Дмитрий прав, — поддержала меня девушка. — Необдуманным поступком мы только навлечем на себя неприятности. Успокойтесь, Джордж. — Может быть, это и благоразумно, — криво усмехнулся Юрий, — но даю слово, если бы вы меня не удержали, — несдобровать бы этому золотому мешку. — И уверяю вас, что это было бы очень неостроумно, друг мой. Давайте лучше составим военный совет. На военном совете было решено, что завтра мисс Дорсей пошлет письменный отказ от места в конторе Джозефа Эликотта и затем отправится в Филадельфию, откуда мы предполагали начать свое обратное путешествие.Глава VIII Исчезновение мисс Margaret
Этот эпизод послужил толчком, окончательно решившим судьбу моего друга и прелестной креолки. Через два дня мисс Margaret уехала в Филадельфию, а еще через три или четыре дня к ней присоединился Юрий, который, прощаясь со мною, был положительно невменяем. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Старая сводница жизнь не устает расцвечивать приманку все теми же красками, старыми, как мир, и вечно новыми для тех, чья приходит очередь. Через неделю я получил из Филадельфии послание, полное восклицательных знаков, восторженных излияний и грамматических ошибок: Юрий и мисс Дорсей стали женихом и невестой и собирались ехать в Россию. Я задумался над этим письмом, таким живым свидетелем власти случая в жизни людей. Как все запутано в этом пестром клубке! Один с далекого Урала, из тьмы таежных лесов и болот, хмурого севера, белокурый, голубоглазый, мягкий, почти женственный; энтузиаст дела и долга, искренний и правдивый до дна души. Другая — выросшая под солнцем тропиков, словно опаленная его лучами, напитанная бурной кровью, самолюбивая и властная натура, неуравновешенная, вечно кипящая, разносторонне образованная, но ничем определенно не захваченная. Что можно было придумать более противоположного? Случай сталкивает их в урагане деловой жизни человеческого муравейника и, столкнувши, связывает таинственными, неразрывными цепями, может быть, на всю жизнь, а может быть на один день, — кто знает? И все-таки мне было немного жаль моего голубоглазого приятеля. Конечно, плен его ожидал обольстительный, но это был плен, полная капитуляция на милость победителя, а как угадать, что готовило будущее? Поездка в Россию мисс Margaret, по- моему, не сулила ничего хорошего. Я удивлялся даже, как она на это решилась. Положим, она была одинока, и оторваться ей от места, космополиту по натуре, было не так трудно. Но попасть такому человеку в совершенно чуждую, вначале даже невольно враждебную среду, в совершенно иные условия жизни было искусом, трудно преодолимым. Полный раздумий, я сел писать жене, воображая заранее ее досаду и поток нелестных эпитетов на голову «цыганки», как она упорно называла почему-то мисс Margaret. Через несколько дней мы покончили свои дела и перебрались в Филадельфию, чтобы через неделю сесть на пароход, отправляющийся в Гамбург. Юрий при встрече бросился мне на шею, жал руки, готов был целоваться с носильщиками и комиссионерами на вокзале. — Поздравляю вас от души, дорогой мой, — сказал я счастливцу, беря его под руку, — но поберегите же себя и окружающих. Вот вы ни за что, ни про что отдавили ногу этому почтенному джентльмену, а у него, наверное, мозоли, судя по его негодующей физиономии… — Ради бога, извините, — бросился Юрий к мрачному господину, с недоумением и недоброжелательством слушавшему звуки чуждой ему речи. — Ну вот. Теперь вы извиняетесь по-русски, — словно вы на Тверской или на Арбате, дружище. — Фу ты чёрт! Ну да, да. I beg your pardon! Ей-богу нечаянно. Желчный янки в ответ пробормотал что-то нечленораздельное. Я увлек Юрия к выходу. Пересказать все, что я услышал от него по дороге к нашему обиталищу в пенсильванской гостинице, — нет никакой возможности. Но кое-что я все-таки понял в этом восторге. Во-первых, через пять дней должна быть свадьба, да, да — настоящая свадьба, даже с церковной церемонией в небольшой католической часовенке на Линкольн-стрит. На этом настаивала мисс Margaret, а Юрий готов был идти под благословение не только к католическому патеру, но и ко всем священникам и монахам мира, если бы это понадобилось. И во-вторых, мисс Margaret будет очень рада видеть меня теперь же, немедленно, без отговорок, чтобы выразить мне свое дружеское расположение. Я выразил полную готовность ехать, но предложил сначала отдохнуть и привести себя в порядок с дороги. В отеле я спросил Юрия о Сергее Павловиче. Он неудержимо расхохотался. — Да, да, здоров и благополучен. Но очень огорчен, бедняга; психограф чертит безнадежную, как по линейке, прямую линию. — Желаю и впредь ему не свертывать с этого благого пути, — сказал я. — Аминь, — закончил мой приятель и начал торопить меня кончать свой туалет. Мисс Margaret поселилась в двух шагах от нас — в маленькой, опрятной комнатке, в тихой и сравнительно пустынной улице, куда глухо доносился шум городского движения. Будущая соотечественница встретила меня в самом деле тепло и ласково и забросала вопросами о том, что ее ожидает в России. — Потому что от Джорджа, — сказала она, — я ничего не могу добиться. Он мне рисует какую-то сказочную страну, населенную Сандрильонами, добрыми волшебниками, дремлющими феями и благодетельными гномами. Я рассмеялся. — Он во многом прав, наш милый друг. Но, конечно, он забыл упомянуть, что есть у нас и лешие, и домовые, и водяные, и прочая злая нечисть: нищета, мрак и невежество. Но что добрые феи и гномы, спавшие мертвым сном века вечные, действительно пробуждаются один за другим и все дальше загоняют темную нежить в ее норы и дыры, — это тоже правда. Вот и мы в далеких лесах и болотах нашего Севера разбудили много таких гномов и вызвали их из ленивой дремоты на вольный свет солнца. — Margaret, вы видите: разве он не поэт? — засмеялся вдруг Юрий, — я вам всегда говорил, что он изо всех сил притворяется скептиком, чтобы скрыть свой романтизм. — Романтизм веры в силу человеческой мысли, — ответил я; — таких романтиков вы немало найдете в нашей стране бедной вещами, но богатой надеждой и силой. — Я очень рада слышать это от вас. Вы счастливый народ: вы ищете, вы вопрошаете жизнь, вы создаете новые формы, а мы здесь со всем совершенством своей цивилизации пришли в тупик, остановились, замерзли на достигнутом. Вы знаете, мне приходит в голову сравнение: когда я была в Париже, я трепетала перед нечеловеческим, бурным, ищущим, мятежным духом Микель-Анджело, а достигнувший, успокоившийся в достижении, законченный до тошноты Рафаэль оставил меня равнодушной. — Да, — ответил я, — истина не есть неподвижность, а вечная динамика жизни, порывов мысли, духа и воли к новым горизонтам. — Аминь, — прервал Юрий, — бросьте, господа. Мне хочется петь, говорить стихи, делать глупости, дышать солнцем, — что хотите, только не слушать трактаты о философии искусства. Margaret, спойте нам вашу песенку о дочери солнца. Я слышал и раньше мисс Margaret. У нее был мягкий, глубокий и довольно сильный голос; пела она просто, без технических вывертов, задушевно и искренно, мелодии выбирала такие же несложные, но идущие к сердцу, насыщенные жизнью и теплом. И сейчас она взяла свою мандолину и спела несколько итальянских песен, из которых я не понял ни слова, но певучие, ясные, как солнце, мелодии без слов баюкали душу. Я музыки не понимаю вовсе, — по крайней мере так говорит моя жена, окончившая консерваторию (значит, ей и книги в руки); то, что называется серьезной музыкой, оставляет меня совершенно холодным. Вагнер подавляет меня потопом и громом своей оркестровки, и я начинаю зевать. В рахманиновской прелюдии я не понимаю ничего от начала до конца. Скрябин и иже с ним для меня просто не существуют. Мне нужна в этом хаосе руководящая нить, ясная, чистая, не задавленная массой звучания. Такая солнечная, простая, полнозвучная мелодия и была в песнях креолки, и я был глубоко взволнован. Что касается Юрия, то, конечно, он был невменяем; на его глазах я заметил слезы. Странное животное — человек! Глядя на этих счастливых людей, я, пожилой, уже видевший жизнь, имеющий свою семью, — испытал глухое чувство, очень похожее на зависть. Бессознательно для себя я умышленно искал темных пятен на безоблачном фоне этой начинающейся жизни. Прежде всего я задал себе вопрос: любила ли мисс Margaret. И в то время не без внутреннего гадкого удовлетворения я отвечал на него отрицательно. Но, конечно, это был вздор. Она любила Юрия по-своему, но, пожалуй, больше была благодарна ему, тронута тем обожанием, которым он ее окружил, той атмосферой поклонения и восхищения, которая мне казалась слащавой и деланной. Поздно вечером мы ушли с Юрием от мисс Margaret и окунулись в несмолкаемый шум улиц. Были последние дни выборов в конгресс. Там и здесь собирались шумные, возбужденные толпы: ораторы с импровизированных трибун сулили золотые горы и выхваляли, как бойкие продавцы, достоинства своих кандидатов; на световых сигналах вспыхивали разноцветными огнями имена будущих избранников; зычные телефоны хриплыми голосами выкрикивали те же имена, словно выплевывая их из черных рупоров в перекатывавшиеся толпы; тысячи печатных листков рассыпались автомобилями, с трудом пробирающимися сквозь толпу, и сверху — гудящими и ревущими аэропланами. Это была настоящая ярмарка современного товара. — Знаете ли, — сказал я Юрию, — меня начинает утомлять вся эта сумятица. Я с удовольствием думаю о возвращении в Россию. — Голубчик, это говорите вы. А что же должен испытывать я, вообще чуждый большому городу. Подумайте, как меня тянет к себе домой от этого грохота, вечного базара, толпы, суеты, — Юрий не договорил, но я мысленно закончил за него эту тираду, говорившую о его нетерпении. Случилось так, что на следующий день мне пришлось отправиться в Нью-Йорк закончить свои дела и только через два дня вернуться обратно. Радостный в предвкушении скорого возвращения на родину, явился я в нашу голубятню пенсильванской гостиницы. Комната была заперта, и мне пришлось спуститься за ключом к консьержу. В номере я застал поразивший меня беспорядок. Видно было, что или Юрий тут вообще давно не был, или ему было не до таких пустяков, как скучная повседневность, — мелькнуло у меня в голове. Я взялся за приведение в порядок комнаты, пообедал внизу в ресторане и, вернувшись к себе, развернул книжку, недавно вышедшую здесь на английском языке, перевод с немецкой «История первой четверти XX века». Это необыкновенное наслаждение — читать о событиях, которые видел своими глазами, пережил, как боли и радости сегодняшнего дня, о людях, когда-то живых свидетелях и делателях этих потрясений, разрезавших надвое жизнь человечества. Поздно вечером услышал я торопливые шаги по коридору; дверь распахнулась, и на пороге показался Юрий. Он молча кивнул мне головой, бросился в кресло и застыл в позе безысходного отчаяния. Вглядевшись в него пристальнее, я содрогнулся. Этот человек постарел на много лет. Лицо вытянулось, впавшие глаза горели лихорадочным блеском, волосы дыбились в беспорядке; костюм был забрызган грязью и весь в пыли. — Ради бога, что случилось? — спросил я, — вы больны? Юрий молчал. Мне пришлось повторить вопрос. Юрий посмотрел на меня рассеянным взглядом и, наконец, уронил дрожащим, чуть слышным голосом: — Margaret исчезла. Я вскочил, оглушенный этими простыми словами. — Как исчезла? Когда? — Третьего дня вечером вышла из дому и с тех пор не возвращалась. — Она отправилась, вероятно, к знакомым и осталась там ночевать. — У нее нет ни одной знакомой души в Филадельфии. — Она могла почувствовать себя дурно на улице и попасть в какую-нибудь больницу или приемный покой. — Я обегал все полицейские посты и приемные покои. Я остановился в недоумении. Юрий сидел молча в безнадежно унылой позе. Наконец, мне удалось заставить его говорить и выяснить полную картину случившегося. Оказалось, Юрий расстался с невестой третьего дня после обеда, при чем на утро они условились встретиться у нее, чтобы вместе идти посмотреть большой выборный митинг, устраиваемый республиканской партией. Но, когда он явился около одиннадцати утра, хозяйка, подозрительно оглядев Юрия и что-то ворча себе под нос, сказала, что мисс Дорсей вышла вчера вечером из дому и до сих пор не возвращалась. Обеспокоенный, Юрий бросился по полицейским постам. Но после бесплодных поисков вернулся домой и, в присутствии полицейского комиссара и хозяйки, открыл комнату. Здесь все имело такой вид, как будто ее обитательница ушла на несколько минут с тем, чтобы сейчас же вернуться. На столе, рядом с недопитым стаканом чая, лежала раскрытая книга, а на ней букетик полузавядших нарциссов — букет, накануне купленный для нее Юрием. Все в комнате было в порядке; не было ни записки, ни чего- либо, указывающего на преднамеренный уход. Полицейский комиссар покачал головой. — Если это не симуляция, то похоже на преступление. Юрий бросился на розыски. Он заявил в сыскную полицию, где его уверили, что завтра же мисс будет найдена «живой или мертвой», за что Юрий обозвал блюстителей порядка идиотами, но, к счастью для себя, снова по- русски. С тех пор прошло полторы суток, и дело не двинулось ни на шаг. Я был поставлен в тупик. Через несколько дней партия должна была отправиться в Россию. Юрий об отъезде не хотел и слушать. Мне бросить его в таком положении было немыслимо, но и оставаться здесь на неопределенное время я не мог. Во всяком случае я заявил нашему патрону, что мы с Моревым вынуждены несколько задержаться, на что он и согласился, хотя с кислой миной. Начались наши мытарства. Я не стану перечислять всех наших попыток, розысков, возни с сыщиками, и частными и полицейскими. Начинало все больше выясняться, что предприятие наше безнадежно. Во время выборной кампании, в дикой сутолоке огромного города, среди этого разноязычного, разноплеменного Вавилона, искать человека было все равно, что иголку в стоге сена. Это начинали признавать и представители власти. — Я знаю, чьих рук это дело, — твердил Юрий, и я догадывался, о ком он думает. Его предположение было очень похоже на правду. Но и оно не подвинуло нас ни на шаг вперед. Мы съездили в Питтсбург: Джозеф Эликотт был еще здесь, очевидно ожидая конца выборов. Но узнать нам ничего не удалось. Мы вернулись в Филадельфию и возобновили поиски. После бесчисленных расспросов и метаний мы наткнулись на женщину из булочной на углу, вспомнившую, что в этот вечер она видела на тихой обычно улице быстро промчавшийся закрытый автомобиль. Это было все, что удалось узнать, но это не давало ровно ничего в руки; этот автомобиль мог не иметь ничего общего с исчезновением мисс Margaret. В эти печальные сутолочные дни я получил телеграмму от Сергея Павловича: «Что случилось? Психограф дал резкие колебания». Юрий досадливо отмахнулся рукой, как от назойливой мухи, прочтя короткую строчку. А я уверовал до конца в истинность этого удивительного создания человеческой мысли, неукоснительного и неподкупного свидетеля и соглядатая, ведущего за тысячи верст свою немую и бесстрастную запись. Сказка стала былью. Розовый куст завял, возвещая о несчастий принца. Вечером на следующий день мы сошлись снова в нашей комнатке после бесплодных поисков. Все средства были исчерпаны. Сыщики признавались в своем бессилии. Дальнейшие попытки были бесполезны. Особенно, если действующим лицом в этой драме был Джозеф Эликотт, то следы заметались не только хитростью, но и золотом, а последнее было сильнее первого. Мы долго сидели молча в потемках, погруженные, в свои мысли, не решаясь признаться в поражении. Вдали шумел громадный город, и грохот его казался отголоском космического моря. И мы в нем были словно выброшенные на пустынный остров пловцы, с разбитого корабля, одинокие и растерянные. — Юрий Павлович, — сказал я наконец, — надо ехать, голубчик. Дело проиграно, надо иметь мужество в этом сознаться. Найти человека в этой человеческой пустыне немыслимо, и, если вы правы в предположении относительно виновника, то тем более мы бессильны, и все наши попытки обречены на неудачу. Что делать, родной? Конечно, это тяжело, это ужасно, но это неизбежно. Мы проиграли… Надо ехать… Юрий молчал несколько минут. Потом из темноты раздался его сдержанно-взволнованный голос, в котором была нечеловеческая боль и бесповоротность принятого решения. — Я остаюсь. Спасибо вам, Дмитрий Дмитриевич, за помощь, за ваше сочувствие, за все, что вы сделали для меня. Вам здесь больше делать нечего; вы сделали все возможное. Я остаюсь. Я начну борьбу один. Я вырву ее из рук этого золотого мешка. Я вернусь с нею или не вернусь вовсе. Спорить, убеждать его было бесполезно. Я молча пожал ему руку. Через три дня огромный пароход, который должен был увезти меня в Европу, осторожно поворачивался, выбираясь потихоньку из сутолоки гудевшего, грохотавшего и вопившего порта, напоминая дрессированного слона, идущего между наставленной на пути его стеклянной посудой. На пристани стоял Морев, осунувшийся, молчаливый и махал мне шляпой.Глава IX Таинственное радио
Дома, после первой встречи и рассказов о своем интимном, жена заговорила о Юрии. На меня посыпался град упреков. Мы вели себя как идиоты. Мы вместо того, чтобы заниматься делом, заводили какие-то сумасшедшие экзотические романы. Я не возражал; тем более, что атака эта не была для меня неожиданной. Однако заключение этого словоизвержения меня озадачило. — И что за наивность в конце концов — поверить искренно в какую-то драму с похищением в стиле «Тысячи и одной ночи»! И где же? В самом сердце промышленной Америки! И это чуть не в середине XX века. Воображаю, как ваша прекрасная креолка хохочет над вами вместе со своим миллиардером! Это была совершенно новая точка зрения и притом не совсем невероятная. Я долго думал потом над нею, взвешивая все за и против. В конце концов я признал ее несостоятельной. Прежде всего я не видел в ней смысла: мисс Margaret была свободным человеком, — свободным и достаточно самостоятельным, чтобы поступать так, как ей заблагорассудится, а затем для такой симуляции надо было разыграть комедию, на которую я решительно не считал ее способной. Через несколько дней я узнал, почему атака жены была такой стремительной, а слова звучали раздражением и разочарованием. На приятеля моего уже имелись виды, и немедленно после возвращения он должен был подвергнуться правильной осаде. Узнал я и о намеченной для него женою подруге жизни. Это была одна из наших давнишних знакомых, пухленькое румяное голубоглазое и светловолосое существо с куриными мозгами, добродетельное, как сама святая Цецилия, и скучное, как все добродетели, вместе взятые. Я сравнил ее с мисс Дорсей, внутренно содрогнулся и мысленно поздравил Юрия с избавлением от опасности. Я даже написал ему об этом, рассказывая о домашних впечатлениях, и постарался представить в смешном виде готовившееся на него покушение. Однако он, видимо, вовсе потерял чувство юмора, так как ответил на это в самом серьезном тоне благодарностью моей жене за заботу о его судьбе. Еще больше, кажется, интересовался этой судьбой дядюшка Морев. Он расспрашивал меня обо всех подробностях происшедшего и выражал сожаление по поводу несчастья, постигшего племянника, видимо только из вежливости. Ему трудно было скрыть свое удовлетворение по поводу того, что вся эта драма давала такой богатый опытный материал для поверки изучения работы психографа. Аппарат продолжал работать неутомимо. Медленно вращалась лента на барабане, и перо то чертило на ней прямую линию, то трепетало чудесной дрожью, отражавшей истинную дрожь души мятущегося человека за тысячи верст от нас. Я не мог смотреть на это автоматическое движение словно пишущего кровью прибора — без глубокого внутреннего волнения. Я старался представить себе, что каждый взмах этого пера, заносимый на разворачивавшейся на моих глазах ленте, есть след переживаний, страданий, в это же время, сию минуту, испытываемых Юрием где-то там за океаном, в многоэтажных коробках каменных муравейников, — и мне это казалось несообразным, диким, даже почти кощунственным. И лишь понемногу это укладывалось у меня в голове, как новое торжество человеческого гения, идущего от вершины к вершине, к новым неведомым горизонтам. Вскоре этот удивительный прибор остался единственным звеном, связывающим нас с Юрием, и единственным признаком его существования. Первые два месяца мы продолжали с ним переписку, при чем я писал в Филадельфию до востребования; Юрий отвечал коротко, сдержанно и почти ничего не писал о главном; только в последнем письме была глухая фраза о том, что он намерен «выследить зверя в его берлоге». В следующем письме он просил не писать ему, пока он не даст нового адреса, а затем всякие известия от него прекратились. При других условиях я склонен был бы думать, что приятель мой погиб в неравной борьбе. Но психограф чертил неутомимо и бесстрастно. Прямая линия время от времени прерывалась колебаниями, а это свидетельствовало о том, что источник, заставляющий воспринимать эти вибрации, еще существует. Я теперь много вечеров проводил у Сергея Павловича то в созерцании работы этого сказочного прибора, то наблюдая опыты, иллюстрирующие новые достижения Морева. Последнее время он работал над упрощением и усовершенствованием оболочек, изолирующих нервномозговой аппарат от электромагнитных психических волн. Сначала он сконструировал нечто вроде шлема из материи, пропитанной этим изолятором, закрывающего голову, но оказалось, что для полного ограждения от действия колебаний необходима совершенно замкнутая оболочка. Тогда Сергей Павлович устроил целое одеяние из такой ткани, пропитанной изолятором, напоминавшее по виду те костюмы, которые в великую войну одевали в предохранение от поражения горчичным газом, одним из ужаснейших орудий последнего периода этой четырехлетней бойни. Удивительное ощущение охватывало меня, когда я надевал эту будто маскарадную хламиду. Это было чувство полной отчужденности, одиночества, совершенной отрезанности ото всего окружающего. Все движения, видимые сквозь зеленоватые стекла шлема, казались, не более жизненными, чем суета фигур на экране кинематографа. Душа делалась недоступной состраданию, сочувствию, живым откликам на совершающееся вокруг. Пребывание в этом костюме действовало подавляющим образом, и я спешил от него освободиться, тем более, что к тяжелому состоянию духа присоединялся неприятный, слегка приторный запах, круживший голову и возбуждавший даже тошноту. Были и другие опыты, не менее интересные и, главное, имеющие возможность практического применения. Еще покойному отцу Сергея Павловича удалось получить такого же рода изолятор, задерживающий не все вибрации, излучаемые живым организмом, а только те, которые соответствовали неприятным, болезненным переживаниям, словом человеческому страданию. Теперь, в течение минувшего года, Мореву удалось выделить другое вещество, довольно совершенно я отражавшее колебания, вызываемые повышенной жизненной энергией, чувством бодрости и радости. Были выбраны две крошечных комнатки, стены, пол и потолок которых были покрыты изнутри тщательно отполированным слоем того и другого изолятора. Впечатление получалось поражающее. Входя в такую комнату, человек естественно вносил с собой зачатки всевозможных эмоций, идей, переживаний, которые на него только что влияли. Соответственно этим переживаниям, он излучал различные колебания, но в то время, как волны, отвечающие большинству из них, свободно проходили сквозь стены, рассеиваясь в пространстве, — излучения, для которых стены комнаты были непроницаемы, отражались от них, как от зеркала, после чего падали на свой первоначальный источник, деятельный мозг, и этим сообщали ему импульсы, толчки, способствовавшие излучению уже более сильных колебаний; с этими последними происходило то же, и таким образом постепенно раскачиваемый, как тяжелый маятник, последовательными легкими толчками, нервномозговой аппарат излучал и воспринимал все более интенсивные вибрации, отвечающие данному изолятору; таким образом человека охватывало усиленное, во много раз выросшее из зачатка, внесенного им же самим, настроение, обязанное взаимному многократному переплетению отраженных от стен колебаний, усиливающих друг друга по законам интерференции волн. Первый раз я попал в одну из этих комнат, не будучи предупрежденным, и пробыл там недолго, занятый собранными здесь чертежами, снимками, схемами и описанием некоторых работ Сергея Павловича и его покойного отца. Внимание мое было совершенно поглощено, и тем не менее не дольше, как через полчаса я почувствовал такое тяжелое гнетущее ощущение смутного беспокойства, подавленности, что невольно сказал об этом Мореву. — Вы знаете, если бы я верил в предчувствия, я бы сказал, что у меня сейчас на душе шевелится какое-то мерзкое ожидание большого несчастья… Чёрт знает что такое! Просто нервы развинтились, конечно. Мне и так давно бы надо было лечиться. Морев засмеялся. — Нет, лечиться не стоит. Дело проще, чем вы думаете. Просто вы варитесь в соку собственного дурного настроения, как любил говорить мой покойный отец. — Что вы этим хотите сказать? Сергей Павлович объяснил мне сущность опыта и добавил: — Так за много лет художник угадывает иногда смутно то, что после ученый дает миру как осязаемый факт. На мысль таких множителей печали и радости отца моего натолкнул один из рассказов Эдгара По, в котором, если вспомните, говорится о влиянии цвета обоев в комнате на настроение и состояние духа. — Помню, помню. Это один из самых глубоко волнующих его рассказов. — Да, и вот вам фантазия поэта, преломившись сквозь законы и формулы физики и химии, стала явью, делом сегодняшнего дня. И не дальше, как через полчаса после этого, попав во второй изолятор, я ощутил такое чувство бодрости, такой прилив радостного возбуждения и оптимизма, что готов был расцеловать не только Сергея Павловича, но и самого Джозефа Эликотта, если бы он тут очутился. — Но ведь вы таким образом можете предложить новый метод лечения неврастении, ипохондрии, мизантропии и прочей гадости в том же роде? — вырвалось у меня. — Я и предполагаю использовать этот способ для борьбы с некоторыми нервно-психическими заболеваниями и сейчасработаю над этим вопросом с невропатологом профессором Яншиным. — Да тут, кажется, дальше и работать не над чем, — засмеялся я: — понастроить этаких изоляторов тысячами, покрыть ими стены наших домов, и года через два — три можно выкинуть над землею аншлаг: «Нет больше пессимизма!». — К сожалению, это обошлось бы приблизительно в ту же сумму, как если бы мы все стены наших жилищ вздумали покрыть слоем чистого золота в полмиллиметра толщиной. Недаром эта комнатушка такая крохотная. И то об этом эксперименте без субсидии от государства я, разумеется, не мог бы и думать. — Ах, чёрт возьми! Об этом я не подумал. А разве нет надежды на удешевление продукции этого волшебного эликсира радости? — Надежда плохая. Сюда, как главная составная часть, входят такие редкие элементы, как таллий, селен и другие; количество их на земле очень ограничено, и способ добывания в чистом виде очень труден и дорог. Этого надо было ожидать. Природа не уступает легко свои тайны и скрытые в них возможности, эти позиции приходится брать с бою, медленно и упорно. И все-таки человечество неизменно, идет вперед. Так проходило время в обычной работе, у себя в университете, на лекциях, в лабораториях и у Сергея Павловича в созерцании непрекращающейся методической работы психографа и других опытов над изучением этих таинственных еще до недавнего времени вибраций. Так минул год после моего возвращения в Россию. И вот в это время телеграф принес первые невероятные сообщения из Америки, которые сначала послужили только материалом для шаржей и карикатур, а затем оказались вестниками грозных событий, захвативших в своем круговороте и нас. Первоначальные сведения были сбивчивы и смутны. Никто, конечно, не придавал им серьезного значения; если и говорили о них, то лишь как о курьезе, как о примере тех удивительных случаев, которые могут быть только в Америке. Правительство Соединенных Штатов всячески пыталось воспрепятствовать проникновению их в печать. Но очень скоро оказалось, что скрывать бесполезно. Дело в том, что с некоторого времени на всех радиостанциях Нового Света, а позже и в Европе стали получаться на всевозможных языках земного шара депеши поистине дикого содержания. «Правительству Соединенных Штатов Северной Америки и всему американскому народу. Слушайте голос судьбы. Пришло время земле переменить своего господина. Царство мöба, царство денег, царство их слуг, кончилось. Начинается владычество мое — Великого Неведомого. Я беру в свои руки судьбу человечества. Надо всей землей я водружу свое знамя. Я начинаю объявлением воли моей американскому народу, который избрал своим вестником. Воля моя должна стать единым законом. Горе непокорным. У меня в руках великая неведомая сила, которая обрушится на их головы. Я могуч, я непобедим!.. Как знак подчинения моей власти, я требую ныне же опустить флаг Соединенных Штатов на Капитолии и поднять мой — белый луч на черном поле, требую — перевести весь военный флот в Тихий океан. Я даю срок для выполнения — семь дней. Если к полудню 8 апреля воля моя не будет выполнена, — горе стране и народу. Я поражу безумием Чарльстон и Хентингтон, я сотру с лица земли Аннаполис. Я сказал». Это была галиматья, в которой можно было видеть только бред безумного или чью-нибудь непонятную мистификацию. Но все же это было настолько необычно, что газеты посвятили много внимания таинственным радио, и в течение ближайших дней появился ряд предположений относительно происхождения этого удивительного возвещения. Самой простой и наиболее вероятной гипотезой явилась догадка, что весь этот блеф — дело рук демократической партии с целью поставить в смешное положение стоящих у власти республиканцев. Это было дико, но не было невероятно. «Punch» немедленно поместил на эту тему карикатуру: дядя Сам одной рукой утирает слезы звездным знаменем, а другой водружает на верхушку Капитолия черный флаг с белым лучом по диагонали. В облаках восседает «Великий Неведомый», в чертах лица которого можно было узнать лидера демократической партии Джонатана Керри. Другие высказывали мнение, что послание просто дело рук какого-то сумасшедшего, у которого имеется в распоряжении радиостанция. Была даже догадка, не исходила ли депеша с одной из метеорологических станций, снабженных радио на дальнем севере, за полярным кругом, в стране бесконечной зимы и ночи, где нередко бывали случаи не только смерти, но и безумия. Третьи обращали внимание на совпадение получения радиограммы с датой — 1 апреля и отсюда выводили догадку о какой- то грандиозной мистификации. Наконец, были и такие, которые видели в этом начатую какой- либо фирмой невиданную еще рекламу, которая в полдень 8 апреля должна была кончиться предложением всему человечеству патентованных подтяжек или пилюль от запора. Словом, на несколько дней таинственное радио стало злобой дня всей печати и темой бесчисленных карикатур, шуток и более или менее остроумных догадок. Никто не чувствовал надвигавшейся грозы, и все беззаботно смеялись над тем, что завтра должно было стать кошмаром дня, угрожающим опрокинуть весь привычный уклад жизни.Глава X Катастрофы в Америке
Как раз в это время на нашем горизонте появилось новое лицо. Приехала откуда-то с востока, кажется с Урала, мать Юрия. Она давно уже писала Сергею Павловичу, спрашивая в каждом письме о судьбе сына, волновалась, тосковала, и вот, наконец, не выдержав мучительной неизвестности, за тысячи верст пустилась в далекий и чужой ей город, чтобы узнать о своем любимце. Это была худенькая, маленькая, остроносая старушка, одетая в какую-то пеструю старомодную ветошь, с быстрыми, беспокойными глазами на желтом, как пергамент, лице. Она ни минуты не оставалась в покое. Особенно пальцы рук, худые и длинные, были в постоянном лихорадочном движении, словно плели, не уставая какой-то невидимый узор. Побыв с нею полчаса, я как-то невольно заражался этой неослабевающей тревогой и чувствовал, как у меня тоже начинают дергаться пальцы. Это был сплошной комок нервов. Сергея Павловича она сразу засыпала множеством вопросов, от которых он поспешил избавиться, указав на меня, как на спутника и очевидца, последним видевшего ее сына. Тогда этот поток обрушился на меня. Я выдержал его довольно храбро и рассказал все, что знал о Юрии. Елизавета Петровна несколько раз начинала плакать; потом вдруг слезы высыхали моментально, и она с жадностью набрасывалась на мои повествования, заставляла описывать подробнейшим образом мисс Margaret, ее наружность, характер. Она, видимо, уже заранее ее осудила. Это была одна из тех матерей, которые не в состоянии примириться с мыслью, чтобы любимый сын мог привязаться к кому-нибудь, кроме нее, к женщине, ради которой поставил бы на карту свою жизнь и забыл о семье. И старушка уже ненавидела эту чужую ей девушку, отнявшую у нее сына. Бедная мисс Margaret! Какой прием ожидал бы ее в стране добрых волшебников и благодетельных фей! Потом Елизавета Петровна начала рассказывать о себе, о том, как она измучилась за этот год, как ждала известий от Юрия, как плакала целыми ночами, думая о нем, как доходила до галлюцинаций в этой непрестанной тревоге, какие видела сны. Мне было жаль ее, и вместе с тем я не мог отделаться от недоброжелательного чувства, а в конце концов меня утомила и наскучила эта слезливая болтовня. К моему удивлению, этими рассказами вдруг заинтересовался Сергей Павлович. Он стал выражать сочувствие, поддакивал, сокрушенно качал головой и затем стал подробно расспрашивать обо всем, что она перенесла за эти месяцы. Старушка не заставила себя просить. — Ах, голубчик, ты ведь не знаешь, что значит быть матерью… Вот представь себе, я три ночи подряд вижу Юру барахтающимся в какой-то болотной тине… А ведь я знаю, грязь всегда не к добру: или болезнь, или какое-нибудь несчастье. Перед Рождеством, дня за два, я даже не во сне, а сидя вечером за столом, так ясно почувствовала, что с ним что-то неладное, будто он зовет меня, — что со мною случился отчаянный сердечный припадок… — Ты, кажется, говорила, что такие припадки с тобой были несколько раз? — спросил Морев. Да, да, раза четыре за этот год, — ты понимаешь. Я уж не знаю, как живой до сих пор осталась… — А ты не можешь вспомнить, когда были эти припадки? — Ох, голубчик, где мне помнить с моей головой. А только я все это записала, правда. Я ведь у себя веду… не то чтобы дневник, а так, заметки о пережитом. Знаешь, старческая привычка… Сергей Павлович настоял, чтобы она принесла свою тетрадку. В черном клеенчатом переплете мелким бисерным почерком, тесными строчками, лепилась однообразная, тягучая повесть маленькой жизни. Между страницами заложены были какие-то пожелтевшие от времени газетные вырезки, выцветшие фотографии, вышитые закладки. Когда мы остались одни, Морев сказал задумчиво: — Экое узенькое, никчемное существование! Вся жизнь— сплошное трепетание нервов, самых примитивных эмоций, и никакого проблеска мысли… — Однако же вы этим, видимо, заинтересовались. Настолько, что, признаться, даже меня поставили в тупик, — возразил я. — Да, заинтересовался. И вы не угадываете — почему? — Нет. — Идемте, — Морев поднялся с места. Мы прошли в лабораторию, где три психографа без устали и перерыва вели свою запись. Сергей Павлович вынул из шкафа навернутую на катушку уже исписанную ленту, представлявшую запись прибора Юрия за последние месяцы, и развернул ее. У нижнего края бумажной полоски отмечены были дни и месяцы, которым соответствовала кривая. — Я отметил те четыре дня, когда моя милая belle-soeur испытала особенно сильные нервные возбуждения, связанные, по ее ощущению, с сыном. Попробуем сравнить это с отметками прибора. И он стал медленно и внимательно просматривать ленту. — Так я и знал, — выпрямился он вдруг с довольным видом: — вот вам новое подтверждение. Против дней, записанных Моревым, прямая или только чуть колеблющаяся линия психографа давала резкие, ясно заметные размахи, свидетельствовавшие об интенсивных переживаниях Юрия. Один из таких участков линии совпадал точно со временем исчезновения мисс Margaret и отчаяния моего приятеля. — Как видите, мой искусственный резонатор нисколько не уступает по чуткости природному и вполне ему соответствует Колебания, излучаемые моим бедным племянником, падали одновременно и на мой аппарат и на мозг этой старушки и заставляли обоих отвечать на это по-своему.* * *
На следующий день, развернув утром газету, я увидел на заглавном листе напечатанный огромными буквами подзаголовок: «Катастрофы и Америке! Исполнение угроз таинственного радио! Взрыв в Аннаполисе! Эпидемия ужаса вЧарльстоне и Хентингтоне!!!» Я самым серьезным образом усомнился в нормальности моих умственных способностей и долго не мог прийти в себя. Однако пришлось примириться с мыслью, что я не сплю и что случилось действительно что-то оглушительное, необычайное. Впрочем, в этот раз все сообщения в сущности ограничились этими подзаголовками. В ближайшие же дни газеты были заполнены фантастическими подробностями происшедших событий. Во-первых, — 8 апреля, ровно в полдень, взлетел на воздух арсенал, вернее склады взрывчатых веществ, расположенные у Аннаполиса, невдалеке от морской военной школы. Катастрофа не была рядом последовательных взрывов, как это обычно имеет место в таких случаях, например, в Бухаресте в 1924 году, — вся масса значительных запасов пироксилина, мелинита, лиддита, экразита и других разрушительных веществ взорвалась сразу, одним невероятной силы ударом. Результаты были неописуемые. Городок разрушен почти до основания. То, что уцелело от взрыва, было охвачено пламенем, борьба с которым на первых порах была невозможна, так как силою удара была повреждена водопроводная сеть и разрушена водонапорная башня. Жертвы насчитывались тысячами одними убитыми, но, конечно, цифры были гадательны, так как население в панике покинуло город, рассыпавшись по окрестностям и наводнив их беглецами вплоть до Балтимора. Морская военная школа в Аннаполисе была разрушена. Однако из воспитанников при взрыве погибло немного. Оставшиеся были вначале единственной организованной силой, бросившейся на помощь обезумевшим жителям и на борьбу с огнем. Газеты передавали о героизме этой самоотверженной молодежи, проявившей энергию, настойчивость и смелость, которыми так гордятся американцы. Наряду с описанием этих потрясающих событий незамеченными прошли мелкие подробности, которые многие объясняли разыгравшимся воображением очевидцев. Многие рассказывали, особенно в военной школе, что одновременно со взрывом погребов взорвались и некоторые отдельные, находившиеся в разных местах, заряды. Разорвало, якобы, несколько заряженных ружей, зарядные ящики с патронами в орудийном парке школы, несколько морских автоматических мин и так далее. Проверить это было трудно, так как все было похоронено под развалинами. Одновременно с катастрофой в Аннаполисе разыгрались психические эпидемии, напомнившие знакомые уже по недавнему прошлому массовые заболевания в Роаноке, Атланте и Кентукки. Чарльстон и Хентингтон в штате Виргиния приблизительно в то же время, около полудня 8 апреля, были охвачены стадным чувством безотчетного, неудержимого беспокойства, перешедшего вскоре в панический страх. Улицы наполнились встревоженными толпами, двигавшимися без смысла и цели по всевозможным направлениям сплошной массой, все сильнее возбуждавшей себя взаимным влиянием. Жизнь в городе остановилась. Часть населения бросилась вон из него, влекомая каким-то неодолимым стремлением бежать, не зная, куда и зачем. Это было дикое зрелище, по словам газет: эта толпа жителей современного города, оторванных внезапно от повседневных дел, — клерков, ремесленников, рабочих, упитанных буржуа и жалких оборванцев, женщин в светлых весенних костюмах и работниц с фабрик в своих отрепьях, — толпа, запрудившая улицы и дороги, ведущие на восток. Но одновременно разыгрались и другие события. В возбужденном состоянии достаточно малейшего повода, чтобы направить стихийную силу в определенное русло. И повод не замедлил явиться. В одной из толп, собравшей летучий митинг, выступил с речью молодой рабочий с бумагопрядильной фабрики. Это была не речь, по словам очевидцев, а безумный вопль ужаса и негодования, обуявший тысячную толпу порывом сокрушающей ярости. Подобно степному пожару, стихийно с громом и ревом, затопили эти людские волны кварталы, где среди садов и парков ютились виллы и особняки, и не оставили там камня на камне. Одновременно толпа захватила вокзалы, телеграф, почтамт и другие важные пункты. Но эта стихийная победа не была устойчивой. Люди были все под тем же гнетом непрекращающегося страха; одни толпы сменялись другими. Они приходили, уходили, на час воодушевлялись направляющей волей, потом присоединялись к стремительному потоку, изливающемуся из города. Это был механизм, в котором выскочило какое-то главное колесо, связывающее движение частей в стройное целое. Вертелись колеса, скрипели оси, постукивали пружины, но все это кружилось безо всякой связи и цели, вразброд, как улей, из которого вынули матку. Из Ричмонда были вызваны войска — пули должны были восстановить утерянный смысл. Такие же картины разыгрывались и в Хенингтоне с тою только разницей, что здесь из тюрем вырвались заключенные, и в городе начались грабежи, убийства, и вспыхнул пожар. Как было объяснить все это и связать с угрозой таинственного корреспондента, точно предсказавшего время и место этих событий? Положим, взрыв в Аннаполисе можно было приписать заранее подготовленному злоумышлению, но как предвидеть то, что произошло в Виргинии? Печать до того растерялась, что даже не пыталась найти этому толкования. Но тем яснее видна была по газетам паника, охватившая общество и прежде всего отразившаяся на бирже. Уже на следующий день после катастрофы в Аннаполисе и событий в Чарльстоне это сказалось в Нью-Йорке головокружительным падением многих бумаг и полным замешательством в финансовом мире. Общими усилиями правительства и банковских кругов положение было скоро восстановлено, но все же в городе чувствовалась страшная нервность и неустойчивость, грозившие при малейшей встряске дать новую еще более сильную вспышку. Печать единодушно требовала от правительства немедленных и решительных мер, хотя никто и не мог указать, в чем собственно эти меры должны были заключаться. Первое, конечно, что требовалось, это установить местонахождение станции, отправившей зловещую депешу, ибо, несмотря на всю дикость предположения причинной связи между этим грозным возвещением и событиями 8 апреля, — приходилось допустить, что связь эта есть, и найти место отправления радио — значило найти начало нити этого клубка. Правительство опубликовало успокоительное воззвание, в котором сообщалось, что в Чарльстоне и Хентингтоне наступило спокойствие, «эксцессы, допущенные злоумышленными и беспокойными элементами, ликвидированы», размеры бедствия в Аннаполисе выясняются, но что, по-видимому, они не так велики, как сообщалось в газетах. Наконец, говорилось глухо, что меры к раскрытию причины и виновников происшедшего приняты. Население призывалось к спокойствию. Шутки и карикатуры по поводу радио от 1 апреля прекратились.Глава XI Возвращение Юрия
Недели через две после появления первой грозной депеши я был у Морева. Последние дни он был задумчив и сосредоточен и, видимо, упорно о чем-то думал. В этот день я застал его склонившимся над большой картой Северной Америки, которую он изучал внимательно и настойчиво. Кое-где на карте торчали булавки с цветными бумажками, от которых Сергей Павлович циркулем мерил какие-то расстояния. — Вы похожи на начальника штаба какой-нибудь действующей армии в своем оперативном кабинете… Что это вы так усердно рассматриваете? — Так, пустяки, — ответил Морев, — кое-что нужно было сверить по карте… Кое-какие предположения. Ну, что? Какие сегодня новости в газетах? Я еще не видал и не слыхал их. — Да пока все то же. Волнения в Чарльстоне окончательно ликвидированы и «водворен порядок», как сообщают официальные телеграммы. В затронутых движением штатах введено военное положение. «Великий Неведомый» молчит. Его ищут как мелкого карманного воришку по всем правилам сыскного дела и, конечно, не могут найти. Морев пробормотал что-то нелестное по адресу всех полиций в мире и вдруг обратился ко мне: — А вот я могу показать вам действительно кое-что интересное. Не хотите ли взглянуть? Мы прошли в лабораторию, и Сергей Павлович развернул ленту, свивавшуюся с психографа, и показал мне. — Вы ничего не замечаете? Я внимательно посмотрел, но ничего не увидел, кроме обычной слегка волнистой линии, прерываемой от места до места более сильными размахами пера. — В чем дело? — спросил я. — Попробуйте сравнить величину колебаний за последние дни с тем, что было недели две назад. Я снова начал присматриваться и на этот раз очень скоро уловил то, на что указывал Морев. Начиная с некоторого места, чередующиеся колебания, их размах начинали постепенно и неизменно увеличиваться. Сегодня их амплитуда была уже раз в пять больше сравнительно с начальной точки этого явления. — Что это значит? — спросил я. — Очевидно, одно из двух. Или Юрий переживает сейчас поразительно правильно усиливающиеся по своей интенсивности страдания, что трудно допустить, именно благодаря слишком уж регулярному росту размахов пера, или же он испытывает обычные тревожные чувства средней напряженности, но сам двигается по направлению к нам, и приближение его к прибору отмечается им в виде систематически растущих амплитуд колебаний регистрирующей линии. Я думаю, это предположение более вероятно, и я не удивился бы, если бы Юрий сейчас постучал к нам в дверь. — Знаете, Сергей Павлович, — ответил я, — я давно уже присутствую при ваших работах и опытах, ко многому успел уже привыкнуть, освоиться, — но каждый раз, как наталкиваюсь на такую новость, — опять подымается во мне смутное чувство недоумения, недоверия… чёрт знает чего… — Если бы полтораста лет назад просвещеннейшему европейцу показали картину нашей нынешней жизни с ее обстановкой и техническими достижениями, то он, конечно, счел бы это за сказку или заговорил бы о черной и белой магии. — Вероятно, так. Потому что и мне то, что я вижу здесь, именно напоминает какое-то волхвование. — Дело привычки, Дмитрий Дмитриевич. Нынче, пожалуй, потому несколько труднее воспринимать новое в этой области в свой умственный обиход, что ускорился необычайно темп развития технических и научных открытий. — Да, и вы знаете, у меня невольно встает вопрос: может быть, мы уже близки к концу нашего пути? Быть может, недалек тот час, когда человек сможет поставить точку и сказать: я исчерпал всю глубину познания; для меня нет больше тайн во вселенной. — Не беспокойтесь, дорогой мой: этого никогда не случится. Последняя истина не есть инертная точка, к которой можно идти как к определенной неподвижной цели. Истина — вся в новых возможностях, открывающихся беспредельных горизонтах. Искание ее — это подъем на гору, вершина которой скрывается в бесконечности. Каждый шаг подымает нас выше, делает кругозор шире, но не приближает к цели, как к мертвой грани, потому что ее нет. Разговор наш был прерван сильным стуком в дверь. Мы не успели ответить, как она распахнулась, и на пороге показался человек необычайной наружности. Высокий, худой, с лихорадочными глазами на опаленном солнцем и обветренном лице, обрамленном густой русой бородой, свалявшейся в клочья, весь в пыли; видимо, шатаясь от усталости, — он стоял в дверях, молча глядя на нас. Мы в свою очередь с недоумением уставились на пришельца. — Что вам угодно? — спросил Сергей Павлович. Знакомый голос перебил его: — Не узнаете? — Юрий! — вырвалось у нас обоих. Несколько секунд мы все не трогались с места. Мы, трое взрослых мужчин, были глубоко взволнованы этой встречей, словно почувствовали невольно всю ее значительность для близких уже грозных событий. Сколько времени продолжалось это состояние — я не знаю; но помню отчетливо, что некоторое время никто из нас не мог произнести ни слова. Да и трудно было начать разговор. У меня на языке вертелись уже вопросы о мисс Margaret, о ее судьбе, обо всем, что могло произойти за эти полгода, но утомленный, возбужденный и далеко не радостный вид Юрия не обещал хороших новостей, и слова не шли с языка. Наш блудный сын заговорил первым: — Не ждали? — спросил он глухим голосом, в котором звучали и усталость, и возбуждение, и какие-то горькие нотки. — Наоборот. Именно ждали: не дальше, как четверть часа назад, — отвечал Сергей Павлович, обнимая племянника и усаживая его к столу, — но пока оставим это. Тебе надо отдохнуть прежде всего. — Как ждали? — с недоумением взглянул на нас Юрий, — откуда же вы могли знать? Морев указал на аппараты, напоминавшие — за стеклом среди сплетения проволок и сложной системы частей — пауков, прядущих белую тонкую полосу бумажной ленты. — Все это время у нас была с тобой неразрывная связь, которой ты не чувствовал, а может быть и не помнил. — Нет, я не забывал об этом, — промолвил Юрий, задумчиво и пристально глядя на приборы: — и теперь больше, чем раньше. Но я не думал, что ты можешь узнать о моем приближении. Разговор прервался. Затем заговорил Сергей Павлович: — Конечно, у тебя есть, о чем нам рассказать, но, прежде всего, я думаю, тебе надо прийти в себя, отдохнуть, и тогда уж мы будем разговаривать. Я сейчас прикажу устроить тебя в библиотеке… — Нет, дядя. То, что я должен вам рассказать, не терпит отсрочки и гораздо важнее, чем вы думаете, это касается не только лично меня и моих дел, но, быть может, судьбы человечества. Мы глядели в недоумении на своего собеседника, и, вероятно, у обоих нас мелькнула одна и та же мысль, не повлияли ли перенесенные беднягой потрясения на его умственные способности. Он заметил взгляд, которым обменялись мы с Сергеем Павловичем, и усмехнулся. — Вы, кажется, думаете, что у меня здесь не в порядке, — сказал Юрий и стукнул себя пальцем по лбу: — вы еще более склонитесь к этой мысли, когда выслушаете мой рассказ, — настолько он будет необычен; но уверяю вас, что я в здравом уме и твердой памяти и вовсе не собираюсь вас морочить. То, что я буду говорить, касается судьбы миллионов людей. Он на минуту остановился, как бы подыскивая слова. Мы молчали. Я оглядел его внимательно. Он сильно изменился за эти месяцы, мой бедный друг, и не удивительно, что мы его не узнали: одна борода уже страшно его меняла. Лоб прорезан был глубокой морщиной. Глаза ввалились и горели лихорадочным блеском. Черты лица заострились и приобрели несвойственную им раньше резкость. Видимо, он много перенес за это время. — Скажите, вы, конечно, читали все сведения о последних событиях в Америке? — спросил, наконец, Юрий. — Ты говоришь о взрыве арсенала и волнениях в Чарльстоне и Хентингтоне? — переспросил Морев. — Да, об этом. И еще больше: о том радио, которое этим катастрофам предшествовало. — Какое же все это имеет отношение к твоей одиссее? — Самое близкое. Знаете ли вы, кто автор этого таинственного радио и виновник происшедших катастроф? — Если только это не миф, — начал было я. — Нет, дорогой Дмитрий Дмитриевич, это живой человек, как мы с вами. И вы его знаете. Это — Джозеф Эликотт. Я теперь уже не сомневался, что горе помутило рассудок моего бедного друга, и он в виновнике своих несчастий видит источник бед всего человечества. — Я явился к вам, — обратился снова Юрий уже к Мореву, — чтобы звать вас на борьбу с ним, потому что вы сейчас — единственный человек, который может освободить землю от 7 угрозы в лице этого сумасшедшего миллиардера, от этого чудовища, какого еще мир не видел. К удивлению моему, Сергей Павлович не выразил особенного недоумения на эту страстную тираду племянника, но вопросительно смотрел на него, выжидая дальнейших объяснений. — Я вам уже сказал, — продолжал Юрий, — что Эликотт — виновник и взрыва в Аннаполисе и этих психических эпидемий… — Но каким же образом? — невольно вырвалось у меня: — это какая-то галиматья, дорогой мой. — Вам придется выслушать удивительные вещи, Дмитрий Дмитриевич, но даю слово, что я видел все это собственными глазами. Как это ни дико, но мне придется начать с вопросов научного характера, чтобы уяснить сразу самое главное. Вы уже видели работы дяди и опыты со всем этим, — Юрий обвел глазами лабораторию: — и вы знаете, что всем нашим переживаниям, как мыслям, так и эмоциям, и всем движениям души, соответствуют электромагнитные волны, излучаемые в пространство нервной системой. — Да, ну и что же? — Эти волны, падая на другой организм, имеющий ту же частоту собственных колебаний, возбуждают в нем те же или сходные идеи, импульсы и эмоции. Теперь скажи ты, дядя: для того, чтобы такое колебание, падая на нервно-мозговой аппарат человека, могло возбудить в нем нервные токи и связанные с ними переживания, — должны ли они быть непременно животного происхождения, то-есть исходить от живого организма? Или же могут быть и искусственными? — В сущности история, так сказать, этих вибраций, способ их возникновения не должен играть роли, — отвечал Морев: — откуда бы они ни исходили, но если они имеют определенную длину волны и достаточную интенсивность, — они обязаны вызвать свойственное им действие. — Не правда ли? Так вот эти психические эпидемии имеют своей причиной именно такие колебания электромагнитного характера искусственного происхождения и огромной напряженности, излучаемые гигантской мощности машинами, установленными Джозефом Эликоттом. — Этого не может быть! — воскликнул я и в недоумении взглянул на своих собеседников. — Почему же нет? — возразил Морев: — ведь многие из людей чувствуют физически близость грозы; не смутный страх, свойственный многим, а именно физиологическое, совершенно особенное ощущение. Вероятно, вы знаете об этом? — Кое-что, правда, слышал, но не задумывался серьезно. — А объяснение простое: каждая молния представляет разряд огромной лейденской банки, разряд колебательный, то-есть представляющий ряд мгновенных токов, пробегающих в одну и в другую сторону между двумя противоположно заряженными облаками или облаком и землей, и посылающий поэтому в пространство электромагнитные волны различной длины. Те люди, организм которых способен отвечать на вибрации именно такого характера, — воспринимают их как физиологическое ощущение, хотя источник их не живой организм, а машина, построенная природой в ее космической мастерской. — Допустим, что так. Но кроме того, что произошло в Чарльстоне, был взрыв в Аннаполисе… — Да. Дело в том, что этот маниак открыл способ излучить не только волны, имеющие результатом те или иные душевные движения, но и другие, каким-то образом вызывающие взрывы взрывчатых веществ, на которые они падают. В чем тут дело, я, признаться, не знаю, Может быть, дядя это скорее вам объяснит. — Я думаю, в общем это представить себе нетрудно. Взрывчатые вещества имеют молекулы, то-есть мельчайшие частицы, из которых они состоят, неустойчиво построенными; эти молекулы поэтому очень легко распадаются мгновенно на свои составные части, что и дает то, что называется взрывом. Толчком для такого распада может служить нагревание, ускоряющее быстроту колебательного движения молекул, механический удар, трение. Но так как силы, удерживающие атомы в них и электроны в атомах электрического происхождения, то естественно, что резкий толчок электромагнитной волны, отвечающей по своей длине колебаниям атомов внутри молекулы, может также вызвать быстрое распадение частиц, то-есть взрыв, — ответил Морев. — Ну вот теперь это и мне стало ясно, — сказал Юрий: — хотя явились другие вопросы, но об этом после… Так вот такие машины установлены Джозефом Эликоттом на одном из островов вдоль береговой полосы у бухты Памлико, в этих неприветливых водах Северной Каролины. — Но какой же гигантской мощности должны быть эти установки, чтобы посылать колебания такой огромной силы на несколько сот километров? — спросил я. — Да, не даром же этот денежный мешок всадил в эти работы половину своего состояния. — Нет, меня удивляет другое, — возразил Сергей Павлович: — ведь если это так, то такой психической эпидемией должно быть поражено все пространство от места установки машин до крайнего пункта, ослабевая постепенно по мере удаления от центра; здесь же охвачены ею небольшие, вполне определенные, довольно резко очерченные районы, отделенные от источника волн именно сотнями километров. — Этого я тоже объяснить вам точно не сумею. Но в общем дело сводится к тому, что при помощи направляющих зеркал эти излучения устремляются не прямо по земной поверхности, а более или менее расходящимся пучком наклонно вверх и там, не знаю уже почему, отражаются, как от зеркала, и падают так же косо сверху, как с неба, на намеченный пункт. — Вот в чем дело, — оживился Морев, — до этого я не додумался, и это ставило меня в тупик. То, что ты сейчас рассказал, я угадывал и даже место установки машин определил приблизительно верно, если угодно взглянуть, — он указал рукой на разостланную на столе карту. — Но вот это сбивало меня с толку. Теперь я понимаю. Трудно, конечно, сказать наверное, в чем дело, но я думаю, приблизительно можно это объяснить отражением электромагнитных волн от верхних разреженных слоев атмосферы. На этом же основано, например, явление миража. При переходе этих излучений, также как и световых, из среды более плотной в менее плотную, при некотором предельном угле наклона, луч уже не проходит насквозь, а отражается от менее плотного слоя, как от зеркала. Это явление так называемого полного внутреннего отражения. И здесь, вероятно, этот пучок волновых лучей, попадая в верхние сильно разреженные слои атмосферы, точно так же отражается от них и падает, как ты говорил, будто с неба. Таким образом и этому можно подыскать объяснение, хотя, конечно, очень гадательное. Может быть, это следует поставить в связь с нахождением в верхних слоях атмосферы твердого азота. Трудно сказать определенно. — Все же теперь и это понятно, — сказал Юрий. — А вместе с тем я закончил то главное, на чем будет вертеться мой рассказ. Теперь, если позволите, я перейду к повествованию о моих злоключениях за это время и к той просьбе к тебе, дядя, которую ты один только можешь и должен исполнить, — и не для меня, повторяю, а для всего человечества.Глава XII В берлоге зверя
— Вы понимаете, — начал Юрий, — что положение мое было, в сущности говоря, отчаянным. С плохим знанием языка, совершенно один среди сумасшедшей сутолоки этой чёртовой толчеи… Признаться, оставшись один, после вашего отъезда, я начал раскаиваться в своей затее. Слишком уж непосильной казалась задача. Была минута слабости, когда я хотел все бросить и ехать вслед за вами. Но потом, когда я подумал, что могло быть там… Ну, словом, отправил к чёрту всякие колебания и решил действовать во что бы то ни стало, пока не добьюсь своего или не стану окончательно в тупик. Самое скверное было то, что у меня и руках не было никаких указаний, за которые можно было бы ухватиться, чтобы размотать этот клубок. Единственно, что давало мне точку опоры, хотя и очень шаткую, это глубокое внутреннее убеждение, что виновником всего был Джозеф Эликотт. Доказательств не было никаких, кроме разговора его с мисс Margaret. Но я был уверен в том, что я прав, как будто видел все случившееся собственными глазами. В конце концов это был и единственный возможный путь. Полиция оказалась бессильной; никаких других указаний не было. Я решил поставить свою игру на эту ставку и вести ее до возможного конца, пока не упрусь в стенку. Однако я принял все меры, чтобы обеспечить успех, поскольку от меня он зависел, хотя больше всего рассчитывал на счастливый случай и на удачу. Я начал осторожно и настойчиво собирать сведения, какие только мог, об образе жизни, характере, работах, — обо всем, что касалось Джозефа Эликотта. Это, впрочем, было нетрудно. Эликотт слишком крупная фигура. Справки эти были таковы, что утвердили меня еще более в своем мнении. О колоссальном богатстве этого человека вы уже знаете. Он был одним из главных заправил огромного нефтяного концерна, заменившего Standart Oil Company, фактический хозяин большого химического треста, охватывающего почти всю химическую промышленность на востоке; участник и фактический хозяин большой железнодорожной компании — словом, один из главных тузов Wall-Streeta. Это было общеизвестно. С другой стороны была известна и его деятельность как ученого и исследователя. Он разрабатывал какие-то теоретические вопросы, а за последние годы вел обширные работы по некоторым отраслям прикладной химии, для чего на одном из островов в заливе Памлико вместе с химическими заводами красок им были построены обширные и прекрасно оборудованные лаборатории. Здесь же Джозеф Эликотт жил большую часть года в скромной вилле, построенной им лет десять назад на одном из островов этой дикой, негостеприимной местности. Это называли капризом миллиардера, удалившегося в уединение для своих работ и питавшего там свою мизантропию, что, впрочем, не мешало ему прекрасно вести свои дела. Однако за последние годы, по наведенным мною справкам, Джозеф Эликотт ликвидировал добрую их половину и жил почти безвыездно на Памлико Саунде. Это облегчало мою задачу, указывая определенную точку. И наконец, что для меня было важнее всего, я получил известную характеристику его, как человека. Об этом не говорили, конечно, в печати, но передавали охотно дикие подробности о его сластолюбии, стоившие ему несколько раз с трудом затушенных скандалов. Рассказывали о всевозможных извращениях, рисующих его просто ненормальным, одержимым манией, человеком. Но, конечно, это прощалось: за разбитые горшки он платил щедро, и в конце концов, кажется, все оставались довольны. Для меня же это было самым ужасным подтверждением верности моего предположения. Тогда я составил план действий: ехать в берлогу зверя, проникнуть туда под тем или другим видом, разузнать все на месте и тогда действовать сообразно с обстоятельствами. В кармане у меня было долларов сто; я телеграфировал домой с просьбой выслать мне имевшиеся у меня на текущем счету небольшие деньги, и в результате у меня получилась сумма, достаточная для того, чтобы прожить месяца три-четыре; дальше я не заглядывал. Я решил отправиться в Портсмут, маленький городок на северном берегу одного из этих длинных барьеров, отделяющих Памлико Саунд от океана. Это было ближайшее населенное место к заводу и дому Джозефа Эликотта. Здесь в харчевнях и барах этого городка, похожего больше на рыбачий поселок и вместе с тем на притон контрабандистов, начал я свои розыски. К этому времени я уже отрастил себе бородку, и это сильно изменило мою наружность. Я принял на себя роль эмигранта-француза, ищущего работы, и недели две околачивался среди смешанной публики, наполнявшей харчевни городка. Как я и думал, я скоро встретил здесь рабочих с завода, съехавших «на берег», как они говорили, точно матросы, оставившие борт корабля. Публика была отвратительная. Рожи у всех, как на подбор, самые разбойничьи; говорили они между собой на жаргоне, в котором я не мог разобрать ни слова. И что меня в них поразило, — это удивительная сдержанность, словно они все чувствовали себя под каким-то недремлющим оком и не давали себе воли. Самые пьяные из них, — а пить они умели, — держали язык за зубами. Все это еще более затрудняло мою задачу, но, с другом стороны, говорило за то, что я стою на верном пути. Недели через две мне удалось завести знакомство с одним из них, маленьким, вертлявым, как обезьяна, итальянцем. Я постарался напоить его и отрекомендовал себя как только что приехавшего из Нью-Йорка, при чем мне показалось, что я расположу собеседника в свою пользу, намекнув, что в недалеком прошлом у меня есть причины не желать встречи с полицией. Расчет мой оказался верным. Маттео Ричи долго смеялся пьяным захлебывающимся смехом. — Так, так, приятель. В таком случае, пожалуй, ваше дело в шляпе. Старик, кажется, как раз ищет техника по съемкам; они там какую-то новую постройку собираются орудовать. А вы, кроме того, эмигрант, да еще хвост у вас не совсем чист, и с полицией есть счеты… Это все, что требуется, дружище. Это было даже лучше, чем я ожидал, хотя я не понимал еще значения слов своего собеседника. — Это хорошо, чёрт возьми. А я, признаться, боялся распространяться насчет своих неладов с полицией. Ведь с таким прошлым не очень охотно берут на работу. Итальянец снова захохотал. — Только не у нас, дружище. Старику неприятностей от них бояться нечего, а нас всех он зато крепко держит за шиворот и в случае чего может каждого отдать на съедение. Это положительно начинало становиться интересным. — А как плата у вас, приятель? — спросил я. — На этот счет не беспокойтесь. Старик не скупится. Я — простой слесарь, а вот, как видите, всегда есть на что выпить, побаловаться с девочками и в картишки перекинуться, — он похлопал себя с самодовольным видом по карману. — Только если вы думаете найти здесь хорошеньких девчонок, — вы ошибаетесь. Это такая проклятая дыра, что порядочному человеку тут не стоит деньги бросать. Уж вы мне поверьте, — конфиденциально, понизив голос, сообщил мне мой собеседник. Больше ничего я от него добиться не смог, но этого было достаточно. Я составил окончательный план действий. Он был, конечно, очень рискованным, но вместе с тем единственно возможным. Я вспомнил случайно прочитанную в газетной хронике заметку об убийстве какой-то девицы, не то шансонетки, не то проститутки в Нью-Йорке, заметку очень подробную с сообщением, что убийца не найден, но что подозревают сожителя убитой, эмигранта француза, скрывшегося неизвестно куда и до сих пор не разысканного. Я решил принять на себя имя этого милого рыцаря. Конечно, этот неведомый мне Луи Мэтью мог быть найден, могли вообще открыться тысячи непредвиденных возможностей. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Я постарался придать самый зверский вид, какой только сумел, своей физиономии, и вечером отправился искать Маттео Ричи. Найти его было нетрудно: он был в харчевне, но уже не один, а в обществе какой-то особы. Очевидно, мой новый приятель снизошел до обитательниц проклятой дыры. Он шумно обрадовался моему появлению, познакомил меня со своей подругой, хитро подмигнув мне на нее уже осоловелыми глазами, и с восторгом взялся устроить мое дело. — У вас все данные, дружище. Ваше дело в шляпе, уверяю вас. А главное — вы очень мне нравитесь. Не знаю, чем я заслужил симпатию итальянца, но во всяком случае она была очень кстати. Через два дня я входил уже в контору завода, куда нас доставил из Портсмута легкий моторный катер, высылаемый сюда регулярно дважды в неделю. В конторе меня подверг допросу джентльмен чрезвычайно отталкивающего вида. Наружность у него была безукоризненная: бледные длинные холеные пальцы, гибкое, видимо сильное тело и лощеная матово-бледная физиономия с курчавой, аккуратно подстриженной бородкой. Глаза… Я редко встречал такие серые, холодные и нечеловеческие спокойные глаза. Именно они придавали такое неприятное выражение всему лицу. — Ваше имя? — спросил он. — Луи Мэтью. — Вы иностранец? — Да, француз. — Ваша специальность? — Техник-геодезист. — У вас были неприятности с полицией? — Сэр, в этом признаются неохотно. — Да, конечно. Тем более у вас оснований об этом твердо помнить. — Постараюсь не забыть, сэр. — Это одно из главных условий. Второе: не совать носа, куда вас не просят. Ясно? — Я не из любопытных, сэр. — Отлично. Условие на два года: пятьдесят долларов в неделю. Через полгода прибавка. — Благодарю вас, сэр. — И еще одно: недельный отпуск каждые два месяца, но без права являться на континент. — Но он, пожалуй, тогда не нужен вовсе, сэр. — Это ваше дело. Если условия неподходящи, отправляйтесь восвояси. — Я согласен, сэр. — Хорошо. Завтра произведете пробную работу и подпишете контракт. На этом разговор наш кончился. На следующий день я был принят в число рабочих завода. Первое время я очень беспокоился, боясь раскрытия моего инкогнито. Но или мистер Хью удовлетворился моими словами и сообщением итальянца, или справки обо мне оказались благоприятными, т. е. мой почтенный двойник исчез бесследно.Глава XIII Мой приятель нападает на след
— С этого же дня начались и мои розыски мисс Дорсей. И сразу я наткнулся на такие удивительные вещи, которые нередко отвлекали меня от поставленной цели. Странное впечатление произвел на меня самый остров, на который я попал. Представьте себе песчаный гребень километров десяти в длину и трех — четырех в ширину, выдвинутый из океана медленным нарастанием дна. Голый песок и ни клочка зелени, если не считать недавних чахлых посадок, имевших, видимо, целью укрепление берега; вокруг немолчный рокот моря, набегающего неустанными рядами волн, разбивающихся о камни на юге и рассыпающихся мелкой зыбью на отмелях на севере. Наверху пламенеющее глубокое небо, кажущееся здесь такой же негостеприимной пустыней, как океан и земля. В этой рамке суровой природы развернулась кипучая деятельность человека, разметившего прямыми линиями и твердыми углами этот дикий край, опутавшего его сетью проводов, утыкавшего его мачтами и трубами и сковавшего зыбучий песок железом и камнем. Об эстетике здесь, видимо, не заботились: это была первозданная природа и вылившаяся в материю, поработившая ее, воля человека. Южная часть острова, к которой мы причалили на катере, была занята небольшим рабочим поселком. Это было удручающее зрелище. Несколько сотен домиков, похожих друг на друга, как монеты одной чеканки, выравненные по линейке, как на шахматной доске, напомнили мне читанное когда-то описание аракчеевских военных поселений, — конечно, приспособленных к духу времени, с электрическим освещением, прекрасной мостовой, своей газетой, клубом, театром, больницей и церковью. На всем лежала такая печать унылого однообразия, гнетущей придавленности, такими жутко одинаковыми бесцветными, как стертые монеты, и угрюмыми показались мне обитатели этих домиков, что мне стало страшно. Это были мои товарищи, сотрудники, быть может — надолго. Рядом с поселком, несколько дальше вглубь острова, высились мрачные корпуса заводских зданий, грохочущие смутным гулом, от которого вздрагивала земля, неустанно скрежещущие лязгом машин и выплевывающие ритмически без перерыва, без устали клубы вонючего беловатого дыма. Справа от них, на берегу, стояли два больших водоподъемных здания, откуда морская вода сбегала сначала в открытые огромные цистерны, потом в градирни и, наконец, поступала для какой-то переработки при помощи электричества в большие баки и центрифуги правого корпуса завода. Левые корпуса были заняты переработкой нефти, что было официальным назначением завода. Слева у берега другие цистерны с водоподъемниками питали большие опреснители, служившие источником питьевой воды для всей водопроводной сети острова. Дальше, на протяжении, вероятно, около десяти квадратных километров расстилалось удивительное сооружение, значение которого сначала я не понял, да и сейчас представляю себе смутно. Вообразите, на протяжении трех километров в ширину и четырех или пяти в длину бесчисленное количество зеркал из какого-то блестящего отполированного металла, поставленных под различными углами, постоянно меняющимися автоматически по мере продвижения солнца по небосводу. Они. были похожи на огромные фантастические цветы, неустанно и неизменно поворачивающиеся своими гигантскими чашечками к потокам лучей, которые они жадно глотали этими сверкающими поверхностями. Уверяю вас, это было поразительное зрелище. Первый раз, когда я увидел это необозримое пространство, усеянное бесчисленными зеркалами, перебрасывающимися каскадами света, я простоял около часу, не двигаясь с места, пораженный этой картиной, не в силах отвести от нее глаза. Я не представляю себе в точности механизма этого сооружения, но думаю, что его назначение было — поглощение солнечной энергии и превращение ее в тепло, в электричество, в энергию каких-либо химических процессов, с тем, чтобы в результате получить двигательную силу для колоссальных машин, работающих на острове. Это, конечно, мое предположение, так как я не знаю, возможно ли это вообще и много ли энергии может дать такая батарея… — Приблизительно это нетрудно подсчитать, — перебил Юрия Сергей Павлович, — если только твоему патрону посчастливилось разрешить этот вопрос, над которым давно уже работает техника, и если ему удалось использовать всего только десятую часть всей энергии, падающей на его приемники, он является хозяином огромнейшей силовой станции в мире. Можно считать, что в средних широтах на один квадратный метр поверхности, перпендикулярной к солнечным лучам, принимая уже во внимание поглощение лучей земной атмосферой, падает в минуту солнечной энергии в количестве, равноценном десяти большим калориям, то-есть достаточном для нагревания на один градус десяти килограммов воды. Если площадь приемника ты определил в двенадцать квадратных километров, то это в сумме дает в минуту до ста двадцати миллионов калорий или два миллиона калорий в секунду. Так как одна калория равноценна 426 килограммометрам, а 75 килограммометров в секунду составляют одну лошадиную силу, то простая арифметика дает тебе цифру около 11 миллионов лошадиных сил. Если, повторяю, считать, что Эликотт сумел использовать только десять процентов этой энергии, то получается цифра свыше одного миллиона лошадиных сил, то-есть почти вдвое больше мощности всех установок Ниагарского водопада. Мы с Юрием сидели молча, подавленные этими красноречивыми цифрами. — Попытки утилизировать солнечную энергию, как источник двигательной силы для машин, производились неоднократно. Делались они, главным образом, именно в Америке, например в Лос-Анжелесе, позже в Пенсильвании — известные установки Шумана. Наконец, приемники с автоиспарителями системы Берланда, — все это примеры подобных попыток. Однако, практического значения все эти конструкции не получили, во-первых, благодаря дороговизне и трудности устройства, во-вторых, благодаря слишком незначительному коэффициенту полезного действия, то-есть эксплуатируемой доли энергии. Но Эликотту, очевидно, удалось решить эту задачу и получить таким образом в колоссальном количестве даровую энергию. — Но ведь это что-то подавляющее, — сказал Юрий. — Я никогда не предполагал чего-либо подобного. Теперь мне многое стало ясным, чего до сих пор я не понимал. В этом огромном зеркальном поле и заключается, значит, главный источник силы этого человека. И мне кажется, что, когда машины, потребляющие эту энергию, бездействовали, — приемник все-таки работал, собирая, так сказать, ее впрок, аккумулируя ее каким-то образом, если только это возможно. — Наверное так оно и есть, — ответил Морев, — например, он заряжает ею, быть-может при помощи электрического тока, какие-нибудь мощные аккумуляторы. — Вероятно. Но кроме того, рядом с этим солнечным полем были огромные запасы нефти, при помощи которой работали машины на заводе, а может быть и те таинственные механизмы, которые были доступны только избранным. Потому что дальше за нефтяными цистернами весь остров был перерезан стеной, уходившей у обоих берегов приблизительно сажен на сто в море. Стена эта футов десяти высотой была каменная, увенчанная, кроме того, остроконечной стальной решеткой. Эта ограда и была тем пределом, за который никому из обитателей городка не разрешалось проникать ни под каким видом. Было лишь несколько человек, нужных работников, видимо таких, которых Эликотт крепко держал в руках, и которых от времени до времени вызывали туда для каких-то работ. Но их, очевидно, умели заставить держать языки за зубами: по крайней мере на первых порах для меня все, что делалось по ту сторону стены, было окутано непроницаемой тайной. И между тем я сразу понял, что, конечно, только там можно искать разгадку тайны, только там может быть мисс Дорсей, если она вообще здесь. Среди этих привилегированных, имевших доступ за «портов забор», как звали в поселке стену, был и мой приятель Маттео Ричи; это давало мне некоторую надежду. Во всяком случае было очевидно, что добиться успеха можно, только попав в число этих избранных. О проникновении за роковую черту силой нечего было и думать. Два прохода в стене ограждались тремя рядами металлических платформ, соединенных, очевидно, с источником электричества сильного напряжения. Миновать их было невозможно; прикосновение к ним было смертельно, не говоря уже о том, что оно вызывало трезвон особой сигнализации. Маттео рассказывал мне о попытке одного любопытного рабочего, попытавшегося переступить запретную грань: он был убит на месте, едва прикоснулся к платформе. И однако мне надо было проникнуть за эту черту. Там была Margaret; я был уверен в этом так, как будто видел ее собственными глазами. — Однако упрямый ты человек, — сказал Сергей Павлович, когда Юрий замолчал, охваченный волнением. — Я поставил на карту свою жизнь. Я решил идти до конца, но в то же время не хотел действовать очертя голову. Жители поселка далеко не пылали любовью к своему хозяину, но испытывали перед ним суеверный страх. Поэтому вызвать их на откровенность было очень трудно. Но, раз начав говорить, они отводили душу в злобных рассказах по адресу этого человека. Все эти люди были привязаны к проклятому месту, с одной стороны — щедрой платой, а с другой — своим темным прошлым, благодаря которому Эликотт держал их в руках, так как каждому из них грозило несколько лет одиночного заключения, а то и электрический стул. Я навел как-то разговор на слабость старика в его отношении к женщинам. Рассказы посыпались, как из мешка, исполненные ненависти, сарказма и боязни. Большинство из них, впрочем, я уже знал, и они касались жизни «старого чёрта» на континенте. Но однажды я услышал то, чего ждал и боялся. — Ну, а здесь, на острове, он ведет себя тихо и скромно? — задал я как-то вопрос, слушая эти разглагольствования. Собеседники мои усмехнулись. — Спросите тех, кто был за «чёртовым забором». Да они как воды в рот набрали. А верно могли бы порассказать кое-что. Что он делает там, в своей берлоге? Уж верно не в бирюльки играет. Раза два мы видели, как он привозил с собой с берега каких-то леди, закутанных, как кочны капусты… Да вот месяца три или четыре назад, как раз во время выборов, этот белоручка (это было прозвище Хью) привез бабенку. Их сильно потрепало вПамлико-Суанде, и они выбросились на берег в довольно-таки растрепанных чувствах. Нам пришлось им помочь, и мы видели леди — вот так, как сейчас вас. Только глаза у нее были закрыты, она стонала и что-то бормотала себе под нос. «Леди больна и испугалась бури», — сказал белоручка и послал нас ко всем чертям, а бабенку увезли туда, — рассказчик махнул рукой на север. — Она была хорошенькая? — спросил я по возможности беззаботным тоном, выдерживая роль. — Да уж не то, что эти клячи в Портсмуте, — захохотал один из собеседников: — у старика губа не дура. Брюнетка этакая славненькая. Худа, пожалуй, ну, да ведь это как на чей вкус, — не правда ли? Я с трудом удержался, чтобы не раскроить голову этому идиоту. Теперь я был уверен, что Margaret здесь. Надо было спасти ее из рук этого изверга. Но как? Я чувствовал свое полное бессилие, словно стоял перед глухой стеной, которую должен был пробить голыми руками. Помог мне опять Маттео Ричи. — Послушайте-ка, Мэтью, — сказал он мне как-то вечером, когда мы с ним усталые и угрюмые брели по направлению к клубу, где можно было выпить пива и почитать газеты (крепких напитков на острове не было). — Скажите, вы не робкого десятка? — Думаю, что трусом не был, — ответил я, удивленный этим странным вступлением. — И чертовщины не боитесь? — Еще меньше, чем людей. А разве у вас тут водятся черти? — Не смейтесь, Мэтью. Поживете здесь подольше, — другое запоете. Уверяю вас, что старик не простой человек, если это не сам дьявол в человеческом образе, то во всяком случае что-то очень к этому близкое. Маттео заговорил шепотом, замедляя шаги и тревожно оглядываясь. Его беспокойство невольно передалось и мне при взгляде на эту физиономию, исковерканную гримасой неподдельного страха. — Послушайте, как вам не стыдно, однако, говорить о каких- то бабьих сказках, словно вы малых ребят пугаете. Ведь на вас сейчас лица нет… — А я вам говорю, что здесь неладно. Ну, да вот вы сами скоро увидите. Вероятно, вам придется скоро работать там, — итальянец ткнул пальцем в темнеющую даль не севере. — Этот олух Джексон оказался не в меру любопытным и теперь кормит собой червей. Кроме вас, заменить его некем, а у них там сейчас спешная работа. У меня сердце забилось так, что я минуту думал, что задохнусь. Наконец-то мне открывался вход за таинственную черту. Я постарался скрыть свое волнение и спросил безразличным тоном. — А что это за история с Джексоном, Маттео? У нас болтали какой-то вздор, но я ничего не понял. — Да и я понимаю не больше вашего. Он работал там, на северной половине, и, несмотря на запрещение, чёрт его дернул, пользуясь тем, что из администрации никого не было, залезть смотреть какую-то машину! Откуда ни возьмись, словно из-под земли, — белоручка. «Эй, приятель, — говорит, — вы забыли наши условия?» — да так его легонько ткнул по затылку, — он и покатился. Ему бы промолчать, конечно. А он, видно, обозлился страшно: встал, погрозил кулаком и давай ругаться. «Живодеры, палачи, мерзавцы! — вас давно надо на свежую воду вывести!..» А Хью стоит и слушает. Потом вынул сигару изо рта и говорит сквозь зубы: — «Ну, голубчик, пеняй на себя, мы условия соблюдаем строго». И ушел. А Джексон сразу увял. Хоть и храбрился еще долго, и ворчал что-то сквозь зубы, но видно было, что ему не по себе. Под вечер, перед уходом с работы, когда мы все должны проходить поодиночке мимо контролера для проверки, Джексон вдруг, не доходя шагов десяти до будки сторожа, зашатался, вытаращил глаза, замахал руками и грохнулся наземь. Подбежали к нему, а уж он готов. — Что же это было? — спросил я итальянца. — Что было? Чёрт его знает, что. Стащили беднягу в больницу, показали доктору. Он его мял, щупал, слушал, а потом говорит: «Капут. Разрыв сердца. Моментальная смерть». — Ну что же, — говорю я, — вероятно, у него слабое сердце было. А тут взволновался, испугался, — ну и хватил удар. — Брось, дружище! Это был здоровенный детина, который, вероятно, и не знал, что у него было сердце.Глава XIV Что оказалось за стеной
— На следующее утро меня пригласили в контору. Там сидел уже Хью со своим обычным бесстрастным видом и жевал гум, тонкими пальцами перебирая бумаги. — Нужен нивелировщик на постройки в северном отделе. Работа требуется точная и тщательная. Вы справитесь с этим? — Надеюсь, сэр. — Хорошо. Вы помните твердо условия? — Да, сэр. — Предупреждаю вас. Вы должны видеть только то, что вам будет показано. И во всяком случае, что бы вы ни увидели, — это вас не касается. Никто об этом знать не должен. Ясно? — Да, сэр. — Идите. Начальник партии — Хенриксен, от него получите подробные указания. Автомобиль, доставлявший рабочих к месту работ в отдаленные пункты, через четверть часа высадил нас перед одним из проходов в «чёртовом заборе». Мы гуськом прошли сквозь узкий проход вроде калитки и очутились по ту сторону стены. Вначале то, что я здесь увидел, не произвело на меня особенного впечатления. Это был сравнительно небольшой клочок земли километра по три в длину и ширину. По четырем углам его, вблизи берега, виднелось несколько строений. Из них левое, у самой стены, было огромной коробкой из бетона и железа в несколько этажей мрачного вида — очевидно, главное машинное отделение. Оттуда несся непрерывный монотонный грохот и лязг, от которого вокруг вздрагивала земля, словно она дышала в соответствии с ритмом машин. Целая сеть проводов тянулась к середине этой площади, огороженной со всех сторон волнами океана и глухой стеной. Здесь в центре высилась сравнительно небольшая легкая постройка, представлявшая металлический каркас с какими-то чешуйчатыми стенками, подвижными, как жалюзи окон. Рядом с ней и вокруг, то выше, то ниже, по колоссальной спирали, сходившейся к центру, высились легкие и воздушные силуэты железных мачт, вроде тех, какие я видел на радиостанциях; все они были опутаны кружевной сетью проводов, почти невидных в прозрачном воздухе, похожих на гигантскую и вместе прозрачную нежную паутину. Это было удивительно красиво, — красиво своей четкостью, ясностью, очевидной, хотя мне и непонятной, целесообразностью, причудливой сложностью и угадываемой внутренней простотой. С правой стороны, также ближе к стене и к морю, стояло массивное здание в несколько этажей, не отличающееся ничем особенным в своих частях, обращенных к морю и вглубь острова. (Что касается стены со стороны центра, то она вся состояла из таких же подвижных жалюзи, как и странная постройка в средине. Отсюда вдоль берега на всем протяжении тянулась на север аллея буков, представлявшая удивительный контраст со всем окружающим, в котором глаз не различал ничего, кроме песка, камня, бетона и железа. Это был единственный уголок зелени, оставленный здесь человеком. Аллея упиралась на северной окраине острова в небольшой особняк с претензией на архитектурность и эстетику, но это было что-то нелепое, тяжеловесное и вместе фантастическое, какое-то дикое сочетание железа, гранита, стекла и мрамора. Наконец левый дальний угол, вблизи берега, был занят амбарами, складами, сараями, двумя ангарами для воздушных машин и маленькой пристанью для катеров. Вблизи центрального здания находилось и то сооружение, в работе над которым мне предстояло принять участие. Представьте себе полую внутри восьмигранную пирамиду, положенную на бок вершиной своей к одной из створок главного строения, а раструбом к морю. Сделана она была, по-видимому, из алюминия и поддерживалась снаружи рядом металлических решетчатых ферм и балок, установленных на горизонтальной раме, двигающейся на массивных колесах по трем железным рельсам, концентрически огибающим со всех сторон центральное здание. Таким образом это странное сооружение могло передвигаться вокруг него, оставаясь неизменно обращенным узкой частью к середине, а широким основанием наружу к морю или стене. Длиною эта постройка была сажен сто и шириной в раструбе около тридцати; она сразу напомнила мне не то раскрытый зев гигантского зверя, не то колоссальный рупор какого-то сказочного великана, готового потрясти мир раскатами своего громового голоса. Несколько подальше, на севере, стояла вторая такая же опрокинутая пирамида и левее против здания со створчатой стеной — третья, значительно меньших размеров. Задача наша состояла в исправлении расстроенного рельсового пути под этими движущимися коробками и в проведении еще одной пары рельсов в промежутках между существующими, оказавшимися, очевидно, недостаточными для передвижения этих странных механизмов. На западной стороне рельсовый путь заметно осел, и нарушена была первоначальная горизонтальность. В этом месте рельсы были уже сняты, железные шпалы, на которых они лежали, тоже частью сдвинуты. Партия, в которой я работал, имела целью точную нивелировку всей этой площади под строго горизонтальный путь. Когда во время работы я подошел близко к одной из этих движущихся пирамид, я обратил внимание на то, что вся внутренность ее отсвечивала зеленовато-синим цветом, напоминавшим мне твои комнаты-изоляторы, и мне показалось, что я улавливаю тот же чуть слышный, но характерный запах, который я чувствовал всегда в этих стенах и оболочках. Однако я сначала не придал этому особого значения. Работа шла обычным порядком. Товарищи по партии были угрюмые неразговорчивые люди, с которыми за все время я не перекинулся почти ни одним словом. Вечером по окончании работ я сошелся на обратном пути с Маттео Ричи, возившимся вместе с другой партией над каким-то ремонтом этих движущихся воронок. — Ну что? — спросил меня итальянец, понизив голос, — есть что посмотреть, товарищ? — Интересного много, — ответил я, — по чертовщины я никакой не вижу, хотя, откровенно говоря, во всем виденном ничего не понимаю. — Ну, погодите. Я вам говорю, что тут дело нечисто. Уже на следующий день это предсказание отчасти оправдалось. Меня пригласили в контору северного отдела, помещавшуюся в здании, против которого стояла малая пирамида. Здесь меня оставили одного в комнате второго этажа, из окон которой я мог видеть обращенный ко мне раскрытый металлический зев, в то время как остальные жалюзи были задвинуты. Я сидел, с любопытством оглядывая помещение, в котором не заметил ничего особенного, кроме, впрочем, опять- таки этого зеленовато-синего налета на стенах и потолке этой комнаты, в остальном похожей, как две капли воды, на обычную деловую приемную предприятия средней руки. И вдруг меня пронизало такое чувство острой душевной боли, такого страдания и смутной тоски, что мне стало невыносимо страшно. Не понимая причины этого странного приступа, я вскочил с места и бросился к двери, совершенно не владея собой, охваченный нервной дрожью. В дверях я столкнулся с мистером Хью, смотревшим на меня своими неподвижными серыми глазами. — Какая вас муха укусила? — спросил он иронически, глядя на мою взбудораженную фигуру. И в ту же секунду я почувствовал, что припадок кончился так же внезапно, как и начался, нервы пришли в порядок, и я стоял с глупым видом перед управляющим, бормоча что-то невнятное, не зная, как объяснить случившееся. Тут я впервые вспомнил слова Маттео. Я постарался взять себя в руки и спросил, зачем меня пригласили. Оказалось, надо было подписать дополнительное условие для работ в северном районе. В нем говорилось о добавочном вознаграждении, но вместе с тем было обязательство полного молчания о всем виденном здесь на том основании, что это составляет специальную научно-техническую профессиональную тайну фирмы, охраняемую законом. Я, разумеется, подписал безоговорочно. При этом Хью еще раз напомнил мне обязательство до истечения срока условия не являться на континент. Вечером я не удержался, чтобы не поделиться впечатлениями дня с итальянцем. Он сам был сильно возбужден чем-то, и мои слова вызвали настоящий взрыв. — Я вам говорил, — зашептал он срывающимся голосом, — что это проклятое место, и было бы очень хорошо, если б море поглотило его в один прекрасный день вместе со всем, что на нем находится. Вы испытали сегодня только тысячную часть того, что тут творится. В этом чёртовом доме, который они называют конторой, они могут заставить человека делать все, что им угодно. На вас они сегодня нагнали тоску и боль, а могли заставить вас смеяться, как юродивого, или молиться и каяться в грехах, хотя бы до сих пор вы двадцать лет не перекрестили лба, могли бы повергнуть в такой ужас, что вы бы выбросились из окна… могли бы… — он на минуту остановился, колеблясь, но потом снова зашептал горячо, словно покатился под гору… — Вы знаете, что они со мной сделали раз? Они напустили на меня такую похоть, какую я не испытывал никогда, даже после своего шестимесячного сидения в этой чёртовой дыре, где не видишь женщин, перед поездкой в Портсмут. Они меня до того взбудоражили, что… — он вдруг густо покраснел, не договоривши фразы, и отвернулся. Раньше я не поверил бы этим россказням, но после испытанного мною самим я чувствовал, что меня действительно охватывает какая-то дикая атмосфера невероятного и фантастического. — Но почему же вы позволяете производить над собой эти опыты? — спросил я. — Сегодня я не знал, для чего меня зовут в контору. Но больше я, конечно, туда не пойду. — Нет, дружище, это уже дело конченое. Раз вы сюда попали, то будете до конца танцевать под их дудку. Мне интересно, как бы вы попробовали им не подчиниться. Джексон ведь был не первым и, вероятно, не последним. Бороться с ними невозможно. Главное, что они не только могут сделать из вашей души что им угодно, но они знают наши мысли, наши желания… От них не спрячешься… — Послушайте, Маттео, ну это уж вы просто дичь несете. Вы напуганы, положим, этими действительно странными вещами, но воображать, что… — А я вам говорю, что это чистейшая правда, — перебил Маттео. — Я уверен, что завтра старый чёрт, наш мастер из ихней шайки, скажет мне, что у меня вечером нервы были не в порядке, чтоб я держал язык за зубами… Да и в самом деле я разболтался, как старая баба… Он подозрительно поглядел на меня, угрюмо замолчал, и больше я не добился от него ни одного слова. Так прошло еще три или четыре дня. Работа наша близилась к концу, а я ни на шаг не подвинулся к цели. Мы были все время под неусыпным наблюдением администрации, состоящей из пяти-шести человек, очевидно посвященных в дела этой странной «фирмы» и составлявших шайку Джозефа Эликотта. Надо было что-нибудь предпринять, что-то сделать, а между тем я был совершенно бессилен по эту сторону стены так же, как и за стеной. Это положение мучило меня ужасно. Я рисовал себе всякие ужасы и, кажется, встреть я тогда этого мерзавца, я бросился бы на него и задушил бы голыми руками, не считаясь с последствиями. Будто по предсказанию итальянца, однажды утром начальник нашей партии швед Хенриксен, тоже из «шайки», сказал мне. — Вы слишком волнуетесь и нервничаете, Мэтью, особенно вечерами. Это не годится. Это мешает работе. — Откуда вам это известно? — невольно вырвалось у меня. — Это вас не касается, — был ответ, — советую вам взять себя в руки. Это было первое предупреждение. В эти дни новое обстоятельство обратило на себя мое внимание. Пирамида, стоявшая против конторы, передвинута была к северу, при чем катилась она удивительно легко, словно живая, постукивая на стыках рельсов и издавая легкий металлический лязг. Движение происходило, очевидно, при помощи электрической тяги, управляемой из центрального здания. Здесь же я впервые увидел, как этот непонятный механизм вдруг стал менять свою форму. Видно было, как автоматически раздвинулись стенки, и вся машина, несколько поднятая кверху по направлению к окнам конторы, наклонилась медленно вниз и в таком положении застыла. Через некоторое время в этом направлении послышались глухие удары, похожие на выстрелы из орудий. Когда я спросил об этом Маттео Ричи, он сказал: — Не знаю, приятель. Я вам говорил, что тут кругом чертовщина. Помню только одно, что месяца за два до вас был тут один англичанин, упрямый и настойчивый малый. Он был нанят сюда для работ в конторе; несмотря на предупреждение о запрещении иметь при себе огнестрельное оружие, он носил револьвер, который ухитрялся как-то прятать от этих соглядатаев. Мы сами ничего об этом не знали. И вот однажды он подвернулся под эту разинутую пасть на колесах, когда там шла эта трескотня, и — можете себе представить, — револьвер сам собою разрядился у него в кармане — все семь пуль сразу. Разумеется, ему исковеркало ногу вдребезги. А потом он в больнице умер, как заявили нам, от заражения крови. Мыто знали, что дело было не в этом. Они умеют заставить себе подчиниться. У меня голова отказывалась вместить всю эту фантастическую путаницу, эти сказки, которые, однако, как-то связывались с окружающей нас действительностью. Я совершенно терялся в этом хаосе, не будучи в состоянии объяснить себе виденное, до тех пор, пока, наконец, мне не попал в руки конец нитки этого фантастического клубка.Глава XV Бегство
— События последующих двух дней разыгрались, поистине, с кинематографической быстротой. И, конечно, только случай, на который я рассчитывал с самого начала, вступая в эту борьбу, — дал мне возможность ускользнуть от участи Джексона и других, заплативших жизнью за излишнее любопытство или упрямство. Работа наша подходила к концу, и мы на восточной половине выравнивали площадку под последнюю пару рельсов. Остановившись с нивелиром, я ждал, пока товарищи перейдут с рейками на новую точку стояния; между тем они замешкались, а я присел на ящик из-под инструмента и рассеянно смотрел на буковую аллею, проходившую саженях в ста от меня от конторы к вилле. Вдруг взгляд мой упал на одинокую женскую фигуру, сидевшую на маленькой каменной скамье почти у самого берега. У меня потемнело d глазах, и сердце заколотилось быстрыми неровными толчками; я не знаю, какими словами описать охватившее меня чувство. Столько отчаяния, столько тоски, боли и щемящего одиночества было в этой фигуре, обратившейся словно в неподвижную статую со взглядом, устремлённым к далекому горизонту за мерно дышавшим и слегка потемневшим, как бы в предчувствии близкой бури, океаном. Что она искала там, за этой далью? О чем думала? В это время меня окликнули, — надо было продолжать работу. Еще около двух часов мы кружились поблизости, и за все время женщина не переменила своей позы немого отчаяния: так же неподвижно, упорно сидела она, опершись головой на руки, и смотрела вдаль, на бесконечное пространство воды. Я задыхался, в груди у меня накипали слезы и поднималось чувство бешеного гнева. Я боялся, что не совладаю с собой. Я не мог, правда, различить черты лица, но я знал ее… Эта стройная фигура, этот поворот головы, самая поза — мне были слишком знакомы. Между тем я ничего не мог сделать: Хенриксен, казалось мне, уже что-то заметил и не спускал с меня глаз. Через четверть часа он заявил, что надо кончить, и мы отправились к проходу на южную сторону. Я бросил прощальный взгляд на аллею. Женщина сидела все в той же позе угрюмого одиночества. В тот момент, когда я повернул к ней голову, она вдруг встала, заломила руки в жесте немого отчаяния и медленно пошла по аллее к долгу. На мгновение она остановилась, словно понуждаемая какой-то силой, и обернулась в нашу сторону. Да, это была она! Но меня она, конечно, не видела, да и не могла предположить мое присутствие здесь, рядом с ней, среди ее тюремщиков. Хенриксен резко окрикнул нас: — Ну, пошевеливайтесь, чёрт возьми, — чего рты разинули! Мы зашагали вглубь острова. Я бесновался, я чувствовал, что становлюсь невменяемым. В голове путались какие-то дикие образы, сумасшедшие мысли. Что пережила несчастная девушка за эти месяцы? Она была во власти маниака и сластолюбца. Конечно, она была достаточно мужественна и решительна, чтобы защитить себя. Но мне вспомнилось вдруг пережитое на-днях в конторе и рассказы Маттео. Что могла сделать Margaret, если он действительно прав, и каким-то таинственным образом страшный хозяин этого острова мог подвергать человека каким угодно чувствам, эмоциям, неизбежным, будто автоматическим и таким сильным, что бороться с ними было невозможно. Что она могла сделать, если он подверг ее тому же влиянию, что и итальянца? Конечно, так оно и было. Это было уже слишком. Я лежал в своей каморке, скрежеща зубами и извиваясь в судорогах душевной боли. Я хотел бы заплакать, но слез не было, вместо них росла непомерная, тяжелая злоба. На следующее утро меня потребовал сам Хью. — Вы, кажется, забыли условия? — спросил он. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — попробовал возразить я. — Вы интересуетесь тем, что вас совершенно не касается, и портите себе этим нервы… Вы здесь больше не нужны. Я пробовал было возражать, но Хью резко оборвал меня: — Разговор кончен. Вы возвращаетесь на завод. Я замолчал. Судьба Джексона и других вспомнилась мне. Вероятно, я должен был готовиться к тому же. Надо было что-то предпринять и притом немедля ни одного часа. Я направился к выходу из конторы, занятый своими мыслями и не видя ничего окружающего. Внизу в дверях на меня со всего размаху налетело трое рабочих, вбежавших в вестибюль с напуганными лицами. В открытую дверь донесся снаружи какой-то смешанный гул. Я выглянул в окно и замер: с востока вся половина неба была занята огромной низко клубившейся тучей, и оттуда несся глухой шум, поразивший мое внимание, смешанный с воем и свистом ветра, с бешеной силой несшего тучи песку и брызги воды с моря. Но самое жуткое было дальше справа: там саженях в ста от берега туча черными клубами спускалась вниз, соединяясь с огромной бурлившей, как в котле, водяной воронкой в один гигантский столб, мчавшийся прямо на нас; еще два таких же призрака в хаосе бури, слегка нагнувшись вершинами, клубясь и волнуясь в стремительном вихре, неслись несколько поодаль, наполняя дикой пляской все пространство между небом и океаном. Смерч! — сообразил я, с невольным любопытством, смешанным со страхом, глядя на это невиданное еще мною зрелище. В это время раздался потрясающий удар грома, и хлынули сверху целые потоки, словно там опрокинули какие-то бездонные резервуары. — Закрыть окна и двери! — раздался оглушающий голос Хью. Он показался в дверях вестибюля бледный, но спокойный, держа в руках дымящуюся сигару. Это было последнее, что я увидел отчетливо. В следующее мгновение мне ослепило глаза потоком огня, и раздался короткий сокрушающий удар. Мне показалось, что все кругом падает и что я погребен под развалинами. Меня, как щепку, швырнуло вглубь комнаты, ударило головой обо что-то твердое, и я потерял сознание. Очнулся я, вероятно, очень скоро. Буря продолжалась. Ливень хлестал потоками в разбитые окна и пролом в стене. Комната была залита водой. На полу валялось несколько человек в самых разнообразных позах. Были ли они убиты или только оглушены ударом, как и я, узнать было трудно. В дальнем углу, на ступенях лестницы, закрыв лицо руками, будто защищаясь от яркого света, скорченный в судороге лежал Хью. По-видимому, он был мертв. Откуда-то сверху несся запах гари, и тянуло дымом: молния ударила в дом и зажгла то, что могло гореть в этой бетонно-железной коробке. Оставаться здесь было опасно. Вместе с тем у меня мелькнула мысль, что мне представляется сейчас единственная возможность узнать что-либо из той тайны, которой окутано было это зловещее место. Снаружи все еще бушевал ураган, и громовые раскаты один за другим потрясали стены дома. При вспышках молний я мог видеть окружающее. Ощупью по воде я добрался до двери, распахнувшейся от удара настежь. Здесь была такая же тьма, но окна были за ветром, и потому было сравнительно тихо. Я зажег спичку, осветившую мигающим огоньком обширную комнату, всю заставленную какими-то сложными приборами, зеркалами, маятниками, запутанную сетью проводов, — словом лабораторию. Я прошел ее, не останавливаясь. Здесь я ничего не мог бы понять и в обычной обстановке, а сейчас это было для меня просто собрание ненужного хлама. Следующая комната была небольших размеров. Здесь стояло несколько шкафов, двери которых широко распахнулись и выбросили вон часть своего содержимого, целый ворох бумаг, книг, чертежей, планов; вдоль длинной стены стояли в два ряда столы, на которых было расположено десятка два одинаковых по виду приборов. Я хотел было уже отвернуться и от них так же, как от тех, что были в лаборатории, как вдруг взгляд мой упал на металлическую дощечку у одного из них, на которой было что-то выгравировано. Я зажег новую спичку и прочел: Маттео Ричи. Взглянув пристальнее, я заметил, что каждый аппарат был снабжен такой же табличкой с вырезанным именем, и у крайнего справа прибора значилось: Луи Мэтью. Всмотревшись внимательней, я увидел в этих механизмах что-то поразительно знакомое, но что… я не мог вспомнить сразу. И вдруг меня осенило: это были психографы. Несколько иной конструкции, меньших размеров и с горизонтальным барабаном вместо вертикального, но это, несомненно, были они. На ленте моего прибора почти у самого конца видны были большие размахи писавшего пера, очевидно отметившего мое вчерашнее волнение. Сильным ударом ноги я сбил и исковеркал этого немого соглядатая и несколько других и бросился к бумагам. Здесь должен был быть ключ к разгадке. Но как выбирать? Что именно? Времени в моем распоряжении были минуты, быть может секунды. Зажигая спички одну за другой, я стал лихорадочно перебирать этот ворох бумаг, но не находил ничего, кроме непонятных мне чертежей, схем, технических и научных записей, в которых я не мог разобраться. Я хотел уже бросить работу, взяв наудачу несколько тетрадей, когда в глаза мне бросилось несколько растрепанных листов с короткими заметками вроде черновых набросков. При свете последней спички я прочел: «24 июня — Атланта-волны № 11 — полный успех… 13 марта Роанок-волны № 15 — в соединении с № 19 — хорошо, но 19 сравнительно слаб — на таком расстоянии берет с трудом… 24 апреля — Спрингфильд-волны № 6 — почти никакого результата … далеко». Это было все, что я успел прочесть, но этого было достаточно. Эти несколько строк были той молнией, которая осветила для меня мрак и сразу объяснила все, связав в одно логическое целое нелепые события последних дней и многое другое, уже позабытое. Эти заметки совпадали по времени и названиям с теми эпизодами, о которых мы читали в телеграммах полтора года назад в Мохче. Я вспомнил и то, что испытал сам в комнате этого проклятого дома, по которому я теперь бродил в бушующей тьме, и рассказы Маттео Ричи, и гибель Джексона и других, и работу гигантских машин, и огромные рупоры, выстланные внутри изолятором. Все это молнией пронеслось у меня в голове и сложилось в определенную картину: здесь был источник всех этих явлений, здесь вырабатывались электромагнитные волны огромной мощности и перебрасывались каким-то непонятным мне образом по желанию этого страшного человека; здесь делали эти опыты над живыми людьми, как делают их над собаками, кроликами и морскими свинками; здесь должен был быть источник и других волн, взрывавших на огромных расстояниях взрывчатые вещества. Впрочем, последнее я осознал уже впоследствии, по пути сюда, узнав о катастрофе в Аннаполисе. Здесь стояли и приборы, следившие за душевным состоянием тех двух — трех десятков человек, которые работали для этого ужасного дела, — источник суеверного страха, испытываемого этими темными людьми перед всесильным и всезнающим хозяином, от которого не могли ускользнуть их сокровенные душевные движения. И здесь же, во власти этих негодяев, была Margaret. Они могли делать с ней что угодно, могли истязать ее тело и душу по произволу, по прихоти страсти, каприза и любознательности. Эта мысль вернула меня к старым чувствам, как будто заглушенным на время наплывом неожиданных событий. Надо было сделать попытку хотя бы увидеть ее. Сунув в карман бывшие у меня в руках листы и две или три тетради, взятые наугад из валявшихся на полу, я ощупью направился назад к выходу. Это было не так просто. Я спотыкался то и дело на какие-то столы, приборы, колеса, проволоки; один раз упал и сильно порезался на осколках разбитого стекла. Тем не менее минут через пять я добрался до наружной двери и выглянул в нее. Ветер бушевал с тою же силой и гнал косые потоки дождя сплошной стеною, небо то там, то здесь раздиралось слепящими молниями, и раскаты грома покрывали хаос звуков бури. Я остановился было на мгновение перед этим зрелищем, но затем решительно бросился сквозь тьму и ливень, подталкиваемый порывами ветра, смутно угадывая дорогу, по буковой аллее, ведшей к дому, где я рассчитывал найти Margaret. В одном месте, приблизительно посередине, вероятно там, где смерч пересек дорогу, несколько деревьев были вырваны с корнем и лежали темной бесформенной грудой, через которую я с трудом перебрался. Ветер свистел в ушах не переставая. Наконец я добрался до угрюмого мраморного чудища, служившего жилищем Джозефу Эликотту. Я подошел как раз к главному подъезду, простоял несколько минут в нерешительности и, наконец, сильно постучал в дверь. Она распахнулась моментально, будто меня ждали. На пороге стоял негр мрачного вида и огромного роста. — Что надо? — спросил он, держа дверь и загораживая вход. Я секунду колебался, не зная, что сказать; наконец, выговорил: — Молния ударила в контору. Там пожар. Доложите хозяину. — Он знает. Что еще? — Мистер Хью убит… Негр слегка свистнул, но не изменил позы. — Ладно. Все? Можете идти. — Чёрт возьми! Ты, образина! — закричал я вне себя: — куда же я пойду в этот ад? Пропусти меня! — и я бросился к двери, чтобы отстранить черномазого цербера. Сильный внезапный толчок сбил меня с ног. Дверь захлопнулась. В то же время затрещали звонки тревожной сигнализации. В припадке злобы я попытался выломать дверь, неистово барабаня в нее кулаками и пробуя высадить ее плечом; но это, конечно, была смешная попытка. Дело было проиграно. Звон прекратился. Мраморная крепость безмолвствовала. Мне стало ясно, что мои счеты здесь кончены и, если я не найду сейчас возможности покинуть это проклятое место, то часы мои сочтены. Мысль о Margaret на минуту остановила меня, но я сознательно отогнал ее прочь. Оставаясь здесь, я ей помочь уже не мог. А, главное, я почувствовал отчетливо, что на мне лежит другой долг по отношению ко всему человечеству. Этот сумасшедший владел тайной, дававшей ему в руки страшную силу. Пробы ее уже стоили человечеству сотен жизней и огромных потерь. Что можно было ждать дальше? Судьба бросила меня сюда, открыв уголок этой завесы не для того, чтобы я пренебрег этим в погоне за личным делом. У меня в руках был ключ к разгадке, возможность предотвращения страшных бед, грозивших миру. Мой долг был уйти отсюда и принести людям эту тайну, с тем, чтобы вернуться сюда мстителем и освободителем. Только так, выполняя долг по отношению к человечеству, я получал возможность спасти Margaret. Все эти мысли молнией пронеслись у меня в голове. Я колебался несколько секунд. Затем я решительно повернул прочь и зашагал к западу, прорываясь сквозь сплошную пелену дождя и с трудом удерживаясь на ногах. И было время. Со стороны дома раздалось несколько выстрелов, еле слышных в хаосе и шуме бури. Левый бок словно обожгло огнем. Я ускорил шаги и побежал наискось к ветру к западному берегу острова. Пробегая мимо подвижной пирамиды, опрокинутой ветром, я заметил под ее массой несколько темных фигур, нашедших здесь, очевидно, защиту от бури. Меня окликнули. Я подошел ближе и узнал Маттео Ричи, с мрачным видом и лихорадочно блестевшими глазами прикорнувшего под свалившейся на бок постройкой. — Чёрт возьми! — закричал он, стараясь заглушить шум бури: — хорошенькая встряска! Я был бы очень рад, если бы эта навозная куча провалилась совсем в океан! У меня мелькнула мысль, показавшаяся удачной. — Послушайте, Маттео! — закричал я в свою очередь: — буря кончится, и здесь все будет по-прежнему. А мне тут надоело. Да и нельзя больше оставаться. Я ухожу. Не хотите ли вместе? Итальянец посмотрел на меня с недоумением и недоверием. — Да куда же вы денетесь? Не вплавь же пуститесь в этакую погодку? — Нет, не вплавь. А вы видели около складов пристань для лодок и катеров? Там стоят две отличных моторных лодки. Я могу управлять машиной, а вы сядете на руль. Идет, что ли? — Да ведь нас захлестнет первая же волна. — Как хотите. Конечно, попытка опасная. Но лучше рискнуть потонуть в Памлико, чем кончить здесь, как Джексон и другие. Все равно: если вы остаетесь, — я попытаюсь один. — Вы правы. Руку, товарищ! Ну их к чёрту с их долларами. Лучше голодное брюхо, чем эта дьявольская жизнь. Идемте. Мы вышли из-под прикрытия и бросились снова в грозу. Мы бежали молча, борясь с ветром и дождем, изнемогая от усталости. Пристань была не дальше полутора километров. Когда мы до нее добрались, ураган начал несколько стихать, и молнии уже не так часто бороздили небо. На наше счастие на пристани никого не было. Будка сторожа была опрокинута. Ангары с летательными машинами были разметаны в щепы. Мы лихорадочно принялись за дело. У причала болталось несколько обрывков цепей: видимо, бурей некоторые суда унесло в море. Но одна моторная лодка была здесь. Это было великолепное легкое и прочное суденышко с пробковым поясом вдоль борта и новенькой, чистенькой машиной, стоявшей наготове. Бак был полон бензину. Минут пять пришлось повозиться, пока удалось разбить цепь, удерживавшую лодку. Мы прыгнули в нее и отдались воле ветра. Впрочем, здесь, у западного берега острова, охватывавшего часть большого внутреннего залива Памлико, который отделялся от океана этой естественной дамбой, — было сравнительно тише. Тем не менее, едва только лопнула цепь, лодку нашу подхватило волнами и помчало в северо-западном направлении. Машина сразу застучала ровно и отчетливо. Повинуясь рулю, лодка стала забирать влево наперерез ветру к берегу континента. Остров через несколько минут скрылся из глаз, потонув в серой пелене дождя и в брызгах и пене волн… Вот в сущности и все. Остальное уже было неважно. Мы проплутали около полутора суток в Памлико-Саунде, причем к концу у нас иссяк запас бензина, и нам пришлось отдаться воле ветра. Нас страшно мучила жажда, а я вдобавок совершенно расхворался; порезанная рука от соленой воды невыносимо болела и распухла. Левый бок, задетый пулей, хотя и поверхностно, тоже давал себя чувствовать. А главное — нервы не выдержали. Я дрожал, как в сильнейшем ознобе. В таком виде подобрал нас рабочий баркас, доставивший нас в Лоуланд. Но тут мы побоялись остановиться хотя бы на час. На этом берегу, вблизи проклятого острова, мы не чувствовали себя в безопасности. К счастию, у Маттео было несколько долларов, и мы, немедля ни минуты, отправились в Филадельфию, где я мог получить свои деньги с текущего счета, чтобы немедленно отправиться в Россию. Но мне этого не удалось: перенесенное за эти дни не прошло даром, — я заболел и две недели пролежал в больнице уже под своим настоящим именем и тем не менее с ужасом ежеминутно ожидая, что шайка Эликотта откроет мое убежище. Но они или сочли меня мертвым, или потеряли след. Как только я смог стоять на ногах, — я сел на пароход, идущий в Европу, — и вот я здесь.Глава XVI Снова физика
Когда Юрий кончил свой рассказ, мы долго молчали, обдумывая все слышанное. Что касается меня, то, признаюсь, я в то время не очень верил в истинность всех этих событий и, от души жалея своего приятеля, приписывал всю эту фантастику если не душевной болезни, то сильному нервному возбуждению. Эта запутанная романтическая история казалась моему сухому воображению слишком далекой от жизненной правды. Но Сергей Павлович, к моему удивлению, заговорил обо всем этом как о реальной действительности. — Да, поистине, судьба к тебе милостива, дав тебе выскочить из такой западни. Но что же ты теперь намерен делать? — Не знаю, дядя. Об этом именно я с вами хотел говорить. Вы один сможете хоть сколько-нибудь разобраться во всей этой дикой истории, и на ваш совет и вашу помощь я только и рассчитывал, когда спешил сюда. Я не говорю уже теперь лично о себе. Надо что-то делать, надо спешить, не теряя минуты, иначе, быть-может, через два-три дня будет поздно. — Если только уже сейчас не поздно, — задумчиво покачал головой Сергей Павлович: — да и что же я могу сделать своими силами против такого врага? — Вы должны! — горячо заговорил Юрий. — Уже одно то, что вы можете сорвать покров таинственности с этого дела, обязывает вас и делает возможным борьбу… И вы не можете не стать ее руководителем и организатором. Вы видите, какая страшная угроза повисла над землею, в какое позорное рабство должно попасть человечество, если не отнять у этого сумасшедшего его ужасного оружия! — Да, мы живем в такое время, когда наука и техника если они не подчинены контролю коллектива, могут в руках обладателя колоссальных материальных средств стать орудием и источником огромной силы и власти. Соединение в руках одного человека достижений науки и реальных возможностей их использования в виде капитала, — может создать угрозу целому государству. И если человечество не хочет этого, оно не должно допускать такого сосредоточения в одних руках этой страшной силы. — Сергей Павлович, — вмешался я в разговор: — вы говорите так, как будто все рассказанное Юрием — реальная действительность. Голова моя этого еще не вмещает, но допустим, я беру это на веру. В чем же, однако дело? Как связать все концы этой удивительной истории? — Я попытаюсь нарисовать вам ту картину, которая составилась у меня по слышанному нами и по данным последних событий в Америке, — ответил Морев. — Что все наши психические переживания и физиологические функции сопровождаются электрическими токами в проводящих путях нервной системы, — вы уже знаете. То обстоятельство, что при этом излучаются в пространство электромагнитные волны большой длины и притом вполне определенной для каждого душевного движения или вообще психофизиологического процесса, — вам тоже известно. Что наша нервная система служит не только отправителем, но и приемником таких же волн, до нее доходящих, если они по своей длине отвечают ее колебаниям, об этом мы с вами говорили уже неоднократно. При этом энергия доходящих до нервно-мозговой системы излучений преобразуется в энергию электрических токов, пробегающих по проводящим путям и обусловливающих собою появление тех или иных психических переживаний и физиологических процессов, сходных с теми, какие были причиной излучения этих колебаний в первичном живом аппарате. Но для нашей нервной системы нет необходимости, чтобы этот первоначальный источник был непременно живым существом. Все сводится к тому, чтобы до приемного аппарата докатились волны соответствующей длины и достаточной силы. Если, например, ощущая гнев, вы излучаете волны длиной, допустим, в пятьдесят две тысячи триста сорок километров, то, как только до вас дойдет достаточно интенсивное колебание с такой именно длиной волны, — вас охватит более или менее сильное чувство гнева, откуда бы ни исходило излучение: от оратора, мечущего громы с трибуны, гипнотизера, действующего на вас при помощи тех же колебаний, или просто от машины, вырабатывающей электромагнитные колебания как раз такого характера. С этим вы можете согласиться? — По-видимому, ничего возразить против этого нельзя. — Теперь, с другой стороны, вспомните, что все вещества, как мертвой, так и живой природы, состоят из мельчайших частичек — молекул, складывающихся из более простых элементов, атомов. Эти последние в свою очередь составляют сложные системы из мельчайших зарядов положительного и отрицательного электричества, так называемых электронов. Построение их в общем напоминает солнечную систему, в которой роль солнца играет центральный положительный заряд, вокруг которого по замкнутым орбитам с огромной быстротой вращаются планеты — отрицательные электроны. Происхождение сил, связывающих электроны в атомы и атомы в молекулы, — электромагнитного характера, и так как атомы в молекулах также находятся в некотором колебательном движении, то ясно, что каждый атом и каждая молекула служат источником электромагнитных колебаний определенной длины волны. При этом в некоторых частицах связь эта достаточно сильна при обычных условиях, и такие вещества являются поэтому сравнительно прочными, устойчивыми. Но есть другие вещества, молекулы которых составились, впитав в себя, так сказать, большое количество энергии. Их можно уподобить туго свернутой пружине. При малейшем толчке она разворачивается с большой силой и отдает назад ту работу, которая была потрачена на ее завод. Таким же образом и эти молекулы являются скоплениями сосредоточенной в них и легко освобождаемой энергии; поэтому они оказываются непрочными, неустойчивыми, и достаточно известного толчка, иногда механического, иногда в виде повышения температуры, луча света и так далее, чтобы такая молекула, освобождая заключенную в ней энергию, разлетелась на составляющие ее атомы. Энергия эта выделяется в виде тепла, света, механической работы и других своих видов; и происходит то, что мы называем взрывом. И так как, повторяю, силы, связывающие атомы в молекулы, электромагнитного происхождения, то, подобрав колебание длины волны, соответствующей молекулам данного вещества, можно вызвать этот взрыв, то-есть распадение частицы на простейшие элементы именно путем толчка электромагнитного характера, то-есть волны известной длины, полученной искусственный путем. Опыты в этом направлении делались уже давно, и такие взрывы на расстоянии при помощи каких-то таинственных лучей, как обычно писалось, иногда удавались; однако, успех таких опытов до сих пор был лишь частичным и практического приложения получить не мог. Теперь очевидно, что этот денежный мешок и вместе с тем ученый и изобретатель нашел способ получать искусственно электромагнитные волны огромной силы, действующие на расстоянии сотен километров и притом двух родов: излучения, отвечающие деятельности нашей нервной системы, и другие — соответствующие колебаниям атомов в неустойчивых молекулах взрывчатых веществ. Направляя на намеченные им пункты первые из них,Эликотт производил те психические эпидемии, источника которых не могли до сих пор отгадать ученые обоих полушарий; пользуясь вторыми, он вызывал взрывы, подобные тому, который был в Аннаполисе. Я не знаю, конечно, механизма получения им этой огромной силы электрических колебаний, потому что их интенсивность для получения таких результатов на большие расстояния должна быть колоссальна. Но основной источник этой энергии очевиден. Огромная батарея приемников солнечной энергии снабжает ею эти неизвестные нам машины и каким-то путем преобразует ее в невиданной еще мощности электромагнитные колебания. И это очень важно: именно такой способ получения энергии делает Эликотта совершенно независимым от обычных источников ее, употребляемых в промышленности. Вы можете отрезать его от нефти, угля, но солнца вы от него не заслоните; так что в этом отношении он недостатка терпеть не может. При помощи системы отражательных зеркал в виде огромных рупоров, покрытых внутри слоем отражающего лучи изолятора, Эликотт направляет свое страшное оружие на намеченные им точки и вызывает те чудеса, которые заставили всех ломать голову два года назад, а сейчас стали такой угрозой народу и правительству Штатов. — Но для чего он пользовался при этом отражательным свойством верхних слоев атмосферы, как вы говорили вначале, а не направлял эти лучи прямо вдоль земной поверхности? — спросил я. — Трудно сказать определенно. Во-первых, тогда бедствию подверглись бы огромные районы, что, возможно, не входило в расчеты старика; и кроме того место установки машин было бы сразу открыто. Бросая же свои смертоносные лучи сверху, он мог оставаться долго необнаруженным, облечься в облако тайны и этим, конечно, затруднить до чрезвычайности борьбу с ним. Очевидно, именно в центральной постройке северного района в связи с расположенными по спирали мачтами, поддерживающими антенны, и происходит выработка этих мощных электромагнитных колебаний. Что касается других подробностей, виденных тобой на острове, то в доме, называвшемся конторой, где ты спасся так счастливо от удара молнии, — была, очевидно, лаборатория для производства опытов над людьми или животными, — не знаю, что именно. Стены каждой комнаты, вероятно, покрыты изолятором. Подымая жалюзи с такой же оболочкой и направляя при помощи меньшего отражательного рупора те или иные колебания на находящегося в комнате, — можно было исследовать влияние их на организм, а также определить длину волн, на него особенно сильно действующих, — для постройки соответствующего психографа и его настройки. Так ты попал в такой опыт, — так было и с другими, вероятно, и с мисс Дорсей. Лицо Юрия передернулось судорогой при этом неосторожном замечании Сергея Павловича, но тот ничего не заметил. — Вот, собственно говоря, и все, что можно сейчас представить себе в общих чертах как схему работы Джозефа Эликотта. Надо думать, что психические эпидемии, охватившие некоторые местности Штатов два года назад, были первой пробой его сил в большом масштабе после того, как он добился удовлетворительных результатов в пределах своей лаборатории. Успех этих широких, так сказать, опытов окончательно утвердил его, очевидно, в его маниакальной идее, и нынче он вступил в открытую борьбу. Мы несколько минут молчали, занятые каждый своими мыслями. — Но почему именно теперь он решился на это выступление? — спросил Юрий. — Трудно сказать. Возможно, что это находится в связи с твоим побегом. Удостоверившись в вашем исчезновении, потеряв следы и возможность от вас избавиться, — этот сумасшедший, боясь, что разоблаченная хотя бы в общих чертах тайна создаст ему непредвиденные затруднения, — поспешил предупредить события и перешел в наступление. Во всяком случае теперь война объявлена, и она будет ожесточенной. — Но ведь это же явное сумасшествие, — возразил я: — мыслимо ли думать, чтобы, даже допуская наличие такого страшного оружия у этого человека, он мог рассчитывать на успех в борьбе с горсточкой своих единомышленников против мировой державы, а в итоге чуть ли не против всего человечества? — Во-первых, повторяю вам, что материальная возможность использования крупного научного открытия при современном состоянии техники может дать небывалое еще раньше преимущество тому, кто сможет его монополизировать и создать этим в руках одного человека колоссальную силу. А с другой стороны, конечно, в данном случае Эликотт преувеличивает в некоторых отношениях эту силу, но это уже неизбежное следствие сознания огромности своего могущества. Вероятно, не было в истории ни одного человека, который устоял бы твердо на почве правильно оцениваемых реальных возможностей, обладая неограниченной властью. Каждый деспот по существу — в большей или меньшей мере сумасшедший. Власть над массами, от них независимая, заставляет человека терять равновесие, опьяняет, искажает перспективы, делает его ненормальным во всех областях духовной жизни. Я думаю, этим объясняется обычное явление всевозможных извращенностей и странностей среди облеченных неограниченной властью монархов. Если, проводя зависимость между гениальностью и помешательством, можно было сказать, что Наполеон — потому Наполеон, что он сумасшедший (то-есть гений), то с не меньшим, правом можно сказать, что Наполеон потому сумасшедший, что он Наполеон (то-есть деспот). — Значит, все же вы считаете, что борьба возможна? — Человечество не заслуживало бы права дышать воздухом, если бы оно отказалось от борьбы. Но она будет тяжелой и ужасной, по существу. И притом молниеносной, потому что затягивать ее, конечно, не может входить в расчеты Эликотта: если он и независим в главном — источнике энергии, то не могут быть неисчерпаемыми запасы хотя и второстепенных, но в конце концов также необходимых предметов. — Но как бороться? Ведь обычное наше оружие — огнестрельное — против него бессильно? — Не знаю. По-моему, не всякое. Те взрывчатые вещества, которые состоят из однородных неустойчивых молекул, конечно, не могут сопротивляться действию этих лучей. Но старый обыкновенный дымный порох, думается мне, должен оказаться неуязвимым. Он состоит не из однородных частиц, а из трех родов вещества: селитры, серы и угля, молекулы которых сами по себе достаточно устойчивы, и лишь при нагревании до определенной температуры начинается взаимная химическая реакция между этими составными частями, имеющая результатом быстрое горение угля за счет кислорода селитры. И здесь такая электромагнитная волна, пожалуй, окажется бессильной. — Да, но чтобы воспользоваться этим, нужны люди, которые были бы обеспечены от других лучей, тех, которые сводили с ума в Атланте и сеяли ужас и панику в Роаноке, потому что, если они действуют так на расстоянии сотен километров, то что же будет, когда они будут пущены в ход вблизи? — сказал Юрий. — Очень возможно, что при таких условиях они могут оказаться смертоносными, и я думаю, что гибель этого англичанина, как его, кажется… Джексона, о котором ты рассказывал, делает такое предположение очень вероятным, — ответил Сергей Павлович. — Вот видишь. Единственный человек, кто может дать отпор этому страшному оружию, — ты. Окруженные оболочками или одетые в костюмы, с которыми ты делал столько опытов, люди будут защищены от действия этих проклятых лучей, и старик окажется бессилен. Ты видишь, что ты один можешь противостоять этому врагу, и ты обязан сделать это во имя гуманности, во имя сохранения человеческого достоинства, во имя свободы… — И во имя красивых глаз… — усмехнулся Сергей Павлович. Лицо Юрия снова дернулось судорогой боли и потемнело. Несколько секунд длилось тяжелое молчание. — Если бы я был здесь только во имя красивых глаз, — выговорил, наконец, Юрий медленно, — то после сказанного тобой я, конечно, больше тебя не стал бы утруждать; но повторяю: здесь речь идет о гораздо более важном, я это вижу и знаю… То, что готовится и делается по ту сторону океана, — настолько огромно и страшно, что заслуживает, я думаю, другого отношения. Сергей Павлович неприятно поморщился и сказал примирительным тоном, кладя руку на плечо племянника: — Не сердись. Я не хотел тебе сделать больно. Может быть, ты и прав. Но я не могу броситься в это дело очертя голову. Ты устал, тебе надо отдохнуть с дороги и повидаться с матерью. — Как? Разве она здесь? — вскочил Юрий. — Здесь — уже два месяца. И уже все глаза выплакала, ожидая тебя. Иди к ней. Я обдумаю все тем временем. Мы поговорим завтра.Глава XVII Машины действуют
Следующие два дня телеграф принес новые вести, которые показывали, что события развертываются именно с той быстротой, которую предвидел Сергей Павлович. Борьба началась с обеих сторон, но пока силы были слишком неравны. Большая мировая держава с колоссальной промышленностью, громадным военным флотом и армией, снабженной всеми техническими средствами по последнему слову науки, оказывалась бессильной перед этим маниаком, ученым и миллиардером, охваченным жаждой власти. Сделан был, правда, один шаг вперед, который, впрочем, не дал в результате ничего, кроме поражения и разочарования: открыто было местопребывание таинственного корреспондента, и Неведомый перестал быть им. Во-первых, при помощи сличения характера и силы колебаний, доставивших знаменитые депеши к различным радиостанциям, удалось приблизительно наметить район, откуда должны были исходить эти волны. Тогда был направлен отряд полиции для обследования всего побережья Памлико-Саунда, его островов и всей Северной Каролины. И сразу же положение определилось. Когда полицейский комиссар с несколькими подчиненными явился на остров, где был расположен завод Джозефа Эликотта, — он был встречен более чем недружелюбно, и ему было предложено немедленно убираться восвояси. Так как против горсточки полицейских оказалась толпа в несколько сот человек рабочих поселка, возбужденных и взволнованных неожиданным визитом, почти всем им грозившим крупными неприятностями, — то положение блюстителей порядка оказалось щекотливым. В конце концов комиссар благоразумно ретировался, провожаемый улюлюканьем, свистом и ревом толпы. Таким образом неуловимый враг был открыт, и правительство решило ликвидировать события сокрушающими суровыми мерами. Немедленно был снаряжен небольшой отряд, который 3- го июля отплыл из Балтимора в Памлико-Саунд в сопровождении двух миноносцев с приказанием занять, во что бы то ни стало, остров, не останавливаясь перед применением оружия. Едва маленькая эскадра показалась в виду острова, на кораблях была принята радиотелеграмма с требованием вернуться обратно и угрозой в случае дальнейшего движения вперед принять необходимые меры защиты. Начальник отряда в свою очередь потребовал немедленного изъявления покорности и выдачи главарей и зачинщиков бунта, как это именовалось на официальном языке. С острова еще раз категорически потребовали остановки. В ответ с головного миноносца был произведен выстрел из орудия без прицела, с целью предостережения и острастки. В следующий же момент произошло нечто невероятное: все запасы взрывчатых веществ на кораблях, все заряды и снаряды в орудиях и патроны в ружьях и револьверах, — словом все, что могло взорваться, — взорвалось с оглушающим грохотом — в один и тот же момент. Это была неописуемая картина. Битва была окончена в несколько секунд. Один миноносец и транспорт были настолько повреждены взрывом, что стали погружаться в воду. Второй миноносец держался на поверхности, но был охвачен огнем и к бою во всяком случае неспособен. Пушки и ружья, которые были заряжены, разнесло в дребезги; стоны изувеченных смешались с криками и проклятьями уцелевших, потерявших голову в дикой панике и вступивших в побоище из-за мест в лодках. Обуянные ужасом люди, искавшие спасения в шлюпках, не рискнули даже приблизиться к берегу, а направились в глубь Памлико-Саунда, к материку. По-видимому, одна, или две лодки вынуждены были все же выброситься на негостеприимный остров, и дальнейшая судьба их осталась неизвестной. На следующий же день к острову была направлена для бомбардировки эскадрилья аэропланов. Результат был тот же. Еще в расстоянии нескольких километров от рокового места бомбы взорвались, как по команде, уничтожив, конечно, таким образом аппараты с летчиками. Три машины, не несшие на себе никакого взрывчатого груза, благополучно добрались до острова, и одна из них рискнула опуститься где-то в южной части, но больше уже не поднялась. Другие два аэроплана, с полчаса покружившись над островом, произвели фотосъемки и вернулись в базу с печальными новостями. Наконец, была сделана еще одна попытка. В различных точках побережья были установлены орудия больших калибров и огромной дальности боя, достигшей еще после великой европейской войны 400–500 километров. Действовали они не толчком горючих газов, а при помощи электромагнитов, выбрасывавших снаряды с колоссальной скоростью. В сущности, и эта попытка была безнадежной. Во-первых, с таких расстояний, даже при помощи наблюдения с аэропланов, сигнализирующих о результатах стрельбы по радио, — меткость могла быть очень незначительной, и дело, конечно, могло бы свестись только к моральному воздействию, по выражению военных специалистов. Но в данном случае и этого добиться было невозможно. Наблюдающие аэропланы появились рано утром над островом. Там было гробовое молчание. Около 8-ми часов утра были выпущены первые шесть снарядов, но они же были и последними. Дальнейшая стрельба оказалась не только бесполезной, но и опасной для населения окрестных районов: снаряды рвались на полете за несколько десятков километров до цели, осыпая осколками приморские селения и городки и сея панику по всему побережью. Несколько снарядов на ближайших к острову батареях разорвало еще в канале орудий и перебило прислугу, произошло несколько взрывов зарядных ящиков и складов пироксилина и экразита, от которых значительно пострадало мирное население, которое поднялось со своих мест и под влиянием ужаса, внушенного этим невидимым врагом, двинулось целым потоком на запад, вглубь материка. Словом, первоклассная мировая держава потерпела поражение в этой первой схватке с неуязвимым противником и стояла перед угрозой новых катастроф, от которых оградить себя она не была в состоянии. Это было нечто единственное в своем роде на всем протяжении человеческой истории. Орудие человека, — его мысль, поднявшая его из тьмы первобытного зверства, теперь изменяла ему и обращала против него свое острие. Двигатель прогресса и культуры, человеческий разум, попав в плен к одному человеку, в руки сумасшедшего честолюбца, — оказывался страшным орудием, направленным против своего господина, и грозил ему позорным рабством. В тот же день, когда разбита была воздушная эскадра, посланная к острову, — радио принесло новое обращение врага к народу и правительству. «Безумцы, опомнитесь в своем ослеплении. Вы отважились на борьбу, не зная моих сил и могущества. Теперь вы их видели. Я мог бы испепелить вашу землю и обратить ее в место безумия, ужаса и смерти. Но я терпелив. Я не хочу быть владыкой мертвых. Я даю вам срок неделю, чтобы вы могли примириться с мыслью о неизбежном. Я ваш рок и владыка. К полудню субботы мой флаг должен быть поднят на Капитолии, и ко мне должны прибыть уполномоченные правительства и народа для выслушания моей воли по управлению страной. Если на этот раз вы останетесь по-прежнему глухими к голосу судьбы, — вас постигнет кара, перед которой померкнут казни египетские». На этот раз никому не пришло в голову легко отнестись к этому напыщенному, но грозному заявлению, — ему уже знали цену. Теперь угроза была еще страшней, так как не указывалось ни места, ни времени, где должно было совершиться возмездие, или того, в чем оно будет заключаться. В стране началась паника, с трудом удерживаемая правительством. Пароходы, уходившие в Европу, были битком набиты; началось бегство на запад, где люди чувствовали себя спокойнее. Грозил нарушиться весь привычный ход огромной машины, именуемой государством. Сенат, по известиям газет, заседал беспрерывно в течение двух суток при закрытых дверях; были приглашены на это совещание представители финансового мира, Wall-Street должен был решить судьбу народа и страны. Печать пестрела бесчисленными сенсационными подробностями, невероятными предположениями и предсказаниями. Печатные газеты во всех больших городах выпускались по несколько раз в день экстренными прибавлениями и тучами наводняли улицы, громкоговорящие рупоры телефонов осведомительных бюро и телеграфных агентств выкрикивали на людных площадях последние новости. Радиогазеты установили сроки своих сообщений на каждый час. Вечерами те же нетерпеливо ожидаемые известия писались огненными буквами световых сигналов, на темном фоне ночного неба. Человечество лихорадочно прислушивалось к этим новостям, ожидая приближения грозных событий и хватая на лету бесконечно растущие слухи, творившие уже легенду вокруг таинственной фигуры человека, объявившего войну миру. К концу второго дня стало, наконец, известно, что совещание сената кончилось и вынесло решение. Оно сообщалось дословно в специальных вечерних выпусках и снова оглушало, ослепляло и ошеломляло выбрасываемое и выплевываемое в бешеный бег улиц, в стремительные безликие шумные толпы, их затопившие бурными волнами живого моря, — всеми способами, какие только дал человеку разум, дотоле послушный слуга, теперь восставший против своего владыки. Вот что говорило сообщение: «Правительство республики в грозный час небывалого испытания, рассчитывая на стойкость и достоинство американского народа, — принимает вызов врага, объявляет страну на осадном положении, вручает президенту чрезвычайные полномочия и приводит на военное положение несколько дивизий, расположенных вдоль Атлантического побережья, и атлантическую эскадру. Вместе с тем, учитывая то, что борьба ведется не только за честь, достоинство и благополучие американского народа, но и всего мира, и помня силу противника, конгресс обращается ко всем правительствам, ученым ассоциациям и отдельным их представителям с просьбой о помощи против общего врага в смысле изобретения способов борьбы с новым оружием». Сообщение звучало достаточно убедительно. Правительство республики, в сущности, признавалось в своем бессилии. Дело принимало серьезный оборот. Готовились грозные события. Они были тем более грозными, что развертывались шире, чем, может быть, думал и желал сам Джозеф Эликотт. Рядом с молниями, которые метал Великий Неведомый из своего царства железа и камня, — слышались глухие раскаты другой грозы, растущей из глубины народных масс. Бессилие правительства будто сообщило толчок этим дремлющим силам, дававшим себя знать только изредка и слабо неясным гулом, который должен был перейти в раскаты непобедимой бури. Кажется, теперь наставали сроки. Из разных углов Заатлантической республики, главным образом из крупных промышленных центров, приходили известия о глухом волнении рабочих масс, прорывавшемся то там, то здесь все более серьезными вспышками. Уже через три дня разразилась забастовка, охватившая весь нефтяной район Пенсильвании и Огайо. Правительство старалось не допустить сведений об этих событиях в печать; когда же скрыть их не оказалось возможным, — оно приписало их результатам воздействия оружия Эликотта и на этом основании объявило, что будет бороться всеми имеющимися в его распоряжении средствами с движением, как оказывающим содействие врагу государства. Но нам, конечно, была ясна вся вздорность этого утверждения: слишком обширен был район, охваченный волнениями, отозвавшимися к тому же и в других пунктах страны: в Сан-Франциско, в Чикаго, в Новом Орлеане. — Вот что называется — передергивать в игре, — насмешливо заметил по этому поводу Сергей Павлович. Как бы то ни было, под этим «благовидным» предлогом осадное положение было прежде всего использовано против нарастающего движения и обрушилось своими громами на главные его центры. Трудно было угадать правду в туманных сообщениях газет по этому поводу, но главное было ясно: правительство, чувствуя пробуждение старого неугомонного врага, поставило свои пулеметы против него, отыгрываясь в поражении, понесенном в Памлико-Саунде. Вечером третьего дня мы собрались втроем в лаборатории Сергея Павловича. Юрий был возбужден и, видимо, весь горел; Морев смотрел сосредоточенно и угрюмо. — Ты видишь? — обратился к нему мой приятель. — Ты убедился теперь, что ждать нельзя ни одного часа, ни одной минуты, что с твоей стороны каждый упущенный миг — преступление перед человечеством и лишний потерянный шанс на успех? Морев ничего не ответил и глубже ушел головой в плечи, закрыв глаза. Наконец, он словно очнулся от глубокого сна. — Да, на этот раз ты прав. Дольше сидеть сложа руки я не имею права. Трудно сказать, чем это кончится, но придется принять участие в этой странной войне. Я сегодня же еду в Москву с докладом в центр. Надеюсь, я могу рассчитывать на вас обоих, как на своих сотрудников? Юрий молча кивнул головой. Я невольно поморщился. — Я, разумеется, предлагаю себя в полное ваше распоряжение и буду рад быть вам полезным, насколько это в моих силах, но… откровенно говоря, я не думал, что мне придется когда- либо принять снова участие в этом деле… Кровь, убийство, развороченные животы, разбитые головы, переломанные кости, — не в моем духе вообще это милое занятие. Сергей Павлович саркастически усмехнулся. — Удивительный вы человек. Неужели можно в такой момент разводить какую-то сантиментальную канитель, когда дело идет о судьбе человечества, когда его берут за горло, и единственное естественное движение — схватить палку и дубасить по руке, в него вцепившейся. — Да, я не спорю, что защищаться необходимо. В самом деле, не идти же покорной овечкой в пасть зверю. Но я не могу представить себя участвующим непосредственно в этой свалке, в убийстве, в отнятии жизни у живых существ. Ну, просто это противоречит чему-то, что, помимо всяких миросозерцаний, является моим нутром, — понимаете, органически противно и непереносимо. — Так. Значит, вы, мол, делайте грязное, хоть и нужное дело, а я буду сидеть в сторонке с чистыми ручками и лицезреть? Нет, уж коли нужно, так нужно для всех, и ради будущего блага надо не бояться запачкаться и бороться всеми средствами, а не разводить словесный кисель. Особенно в нашу переходную эпоху некогда предаваться сантиментам. — Вы считаете, что человечество должно быть таким… жестоким всегда, даже и тогда, когда оно преодолевает врага в самом себе и выйдет на новую светлую дорогу? — Нет, отчего же? Тогда пускай отдохнет; тогда, пожалуй, можно будет на свежем воздухе, так сказать, культивировать этакие нежные цветочки. Но только не сейчас. — А вы не боитесь, что, последовав вашему рецепту, человечество настолько укоренится в этом миросозерцании и настроении, что, выйдя на свежий-то воздух, окажется уже бессильным возделывать цветочки? Потеряет к ним вкус и желание? К чему же тогда окажется вся борьба? — Однако же до сих пор этот вкус не утратился. Люди всегда будут мечтать о золотом веке. — Потому и не утратился, что не все исповедовали вашу веру. Да ведь и вы сами, также как и отец ваш, больше других работали над расширением сострадания, как основного двигателя человеческой жизни. А ведь это и есть возделывание тех цветов, о которых мы говорили. — Да, но мы делали и делаем только черновую работу, унавоживаем землю для будущего сада. — Ну, а нам позвольте попытаться сквозь мрак и бурю времен пронести ростки тех самых цветов, для которых вы готовите почву. — Завидная задача. Главное — руки будут чистенькими. Значит, вы отказываетесь принять участие в нашем предприятии? Я колебался ответить. Юрий смотрел на меня умоляюще. Да и во мне самом боролись два чувства: отвращение к крови и желание увидеть близко, своими глазами события, которым равных, пожалуй, не было на протяжении всей истории. Да притом у меня в глубине души шевелилось неясное ощущение, что отказ будет чем-то не совсем красивым. В конце концов, это могло быть просто трусостью. — Нет, Сергей Павлович, конечно, я не отказываюсь, я поеду с вами и постараюсь быть вам полезным по мере сил и умения. Я буду вместе с вами обоими везде, где это будет нужно. Но не рассчитывайте на меня, как на бойца и Потрошителя чужих животов. — Знаете ли, — засмеялся Сергей Павлович, — вы напоминаете мне одного моего родственника, какого-то двоюродного дядю или что-то в этом роде. Он участвовал в качестве офицера запаса в минувшей войне, был в самых тяжелых боях и походах и ни разу за все три года не дотронулся до оружия и даже просто не носил его вовсе, в бой же ходил обычно только с легким стеком для того, чтобы, как он говорил, руки были заняты. И вместе с тем был человек бесспорной отваги, всегда бывал на своем месте, впереди и в самых опасных и жарких местах; в конце концов, и погиб где-то в Галиции или Румынии, — ему начисто оторвало голову снарядом. Из принципа исполнял свой долг, но не хотел принимать участия в пролитии крови. Ну, скажите, разве это не донкихотство по существу? Настала моя очередь рассмеяться. — А знаете, Сергей Павлович, — ответил я, — вы не находите, что в мире было бы удивительно скучно, если бы он не был разбавлен некоторым количеством донкихотства? На этом разговор наш кончился. С вечерним поездом Морев уехал в Москву, поручив нам и его помощникам сделать те приготовления, которые могли быть исполнены без него. Заключались они, главным образом, в укупорке необходимых материалов, уже готового препарата изолятора, костюмов, им пропитанных, и просто личных наших сборах. Юрий весь горел нетерпением, и время, казалось, было для него тяжелым игом. После первой радости встречи с матерью он точно забыл о ней и бегал по комнатам из угла в угол, словно стены давили его своей тяжестью. Конечно, судьба человечества — важное дело, но все же, кажется, красивые глаза здесь были важнее.Глава XVIII Мы спешим на помощь
Через три дня Сергей Павлович вернулся. Вопрос был решен, и ему было предоставлено все, чем располагали в центре, чтобы облегчить и ускорить работу. Это и неудивительно. Он сумел нарисовать в Москве картину грядущего бедствия и все вытекающие отсюда возможности. Помимо человеколюбия, простой инстинкт самосохранения требовал использования оказавшегося в руках оружия. В конечном счете это была самооборона. В тот же день мы отправили через нашего представителя в Вашингтон шифрованную телеграмму с известием о готовящейся экспедиции и необходимых для ее работы приготовлениях, если правительство Соединенных Штатов согласно принять помощь. Исходным пунктом предлагался Гальвестон, как самый отдаленный от Памлико- Саунда порт на восточном побережье, в расчете на то, что до этой точки влияние установок Джозефа Эликотта распространяться не могло, а работать надо было вне пределов его досягаемости. Во всяком случае, вся работа должна была производиться в полнейшей тайне. В тот же день был получен ответ, в котором сообщалось, что правительство Вашингтона с благодарностью принимает предлагаемую помощь и просит немедленно указать те предварительные работы, которые должны были быть произведены до прибытия экспедиции. В качестве базы технической подготовки предлагался университет в Сан-Франциско (вернее, в Беркелее) с его богатыми лабораториями, которые можно было использовать для необходимых работ. Еще до отъезда Сергея Павловича из Москвы в ответ на это были подробно перечислены те подготовительные меры, которые необходимо выполнить до нашего прибытия в смысле заготовки и подвоза некоторых материалов и надлежащего оборудования для химических работ, а также выбора и подготовки личного состава небольшого отряда, его экипировки и вооружения. Что касается людей, то Сергей Павлович решил ограничиться тремя сотнями, при чем было поставлено условием, чтобы был произведен тщательный выбор относительно состояния здоровья, особенно сердца и нервной системы. Затем просили заготовить полторы тысячи костюмов, предназначенных для защиты от горчичного газа; их предполагалось пропитать составом психического изолятора и таким образом оградить участников экспедиции от действия машин противника. Что касается, наконец, оружия, то требовалось спешно выбрать из арсеналов, старых складов, музеев — годные еще к употреблению пушки и ружья, стреляющие старым дымным порохом, — с соответствующими снарядами и патронами к ним. Вместе с тем, требовалось немедленно приступить к переделке аэропланных бомб, заменив в них заряды также черным селитряным порохом. Два следующих дня после возвращения Морева прошли у нас в лихорадочных приготовлениях. Сергей Павлович, по своему обыкновению, раз решив что- либо твердо, уже не выражал никаких сожалений и колебаний, и работал упорно, систематически, как заведенный механизм, сосредоточив на поставленной цели все внимание. Юрий был вне себя. Все сборы, вся работа казались ему бесконечно медленными и излишними. Он мучился угрызениями совести за то, что бежал с Памлико-Саунда, оставив мисс Margaret, торопил Сергея Павловича и получал от него неизменно один и тот же ответ: — Выше головы не прыгнешь. Метался он, как затравленный зверь и становился совершенно больным, приводя в отчаяние мать, и без того ужасавшуюся мысли о предстоящей экспедиции. Я тоже был далеко не в радужном настроении. Мне предстояла задача — произвести безболезненно операцию дома, где, конечно, я должен был натолкнуться на отчаянное сопротивление. После горячей борьбы со слезами, упреками, обмороками и всеми средствами женского арсенала, — я одержал победу, но далась она мне нелегко, и я чувствовал, что, если пробуду дома еще два — три дня, то не выдержу характера. Атмосфера в доме была такая, словно ежеминутно должна была взорваться бомба, начиненная экразитом, лиддитом, мелинитом и еще не знаю какой дрянью. Все ходили на цыпочках; у жены был такой вид, словно у нее смертельно болели зубы; на себя я вообще избегал смотреть в зеркало. Но всему в мире бывает конец. В начале третьего дня после отчаянного прощания, провожаемые слезами, напутствиями и молитвами моей жены и матери Юрия, мы погрузились на Коломяжском аэродроме в просторный пассажирский аэроплан, и вскоре город с его колокольнями, домами, шпицами, каналами и дымящимися трубами заводов стал проваливаться в пропасть. Путешествие началось. Кроме нас троих, выехали еще два молодых ассистента Сергея Павловича, правительственный курьер, командир корабля, несколько механиков и радиотелеграфист, неизменно торчавший у своего аппарата, который неустанно постукивал, разворачивая перед нами ленту, рассказывавшую о жизни мира, мечущегося где-то там внизу под нами. В день нашего отправления истекал срок, назначенный Эликоттом в его последней депеше, и мы с понятным любопытством, смешанным со страхом, ожидали известий об исполнении угроз. Теперь это касалось близко нас самих. И к концу второго дня нашего путешествия телеграф принес нам эти ужасные вести. Поистине, человечество находилось под страшной угрозой. В субботу, точно в час, указанный в радио, разразилась неслыханная катастрофа в местности, именуемой Эджевудским арсеналом. Здесь с давних пор были большие склады взрывчатых веществ, безопасные своим расположением в сравнительно пустынной местности километрах в 30 от Балтимора. За время мировой войны там был построен огромный завод, изготовлявший ядовитые газы для военных целей. Здесь же снаряды начинялись своим смертоносным содержимым и разрывными зарядами. Работа велась в широком масштабе, и арсенал представлял целый город, воздвигнутый во славу бога войны. Тысячи людей работали, не покладая рук, изощряя все силы ума, над изготовлением смертоносных орудий убийства, для истребления себе подобных наиболее верным и научным способом. Это была настоящая фабрика смерти. На нее и направил свое оружие грозный противник. В начале первого часа взлетели на воздух сосредоточенные здесь; пороховые склады, снаряженные бомбы и взрывчатые вещества. Ужас и смерть, заготовленные людьми для себе подобных, обрушились на их головы. В самом арсенале, во всей местности на несколько километров в окружности не осталось камня на камне; описать все, что произошло там в этот кошмарный день, — было некому, так как живых свидетелей тому не осталось. То, что уцелело от колоссальных взрывов и пожара, охватившего городок, — погибло в удушливых облаках вырвавшихся на волю смертоносных газов. Огромная волна этих дьявольских изобретений человеческого ума, рожденных его изощренной способностью к комбинациям, неведомым природе, хлынула, освободившись от своих оболочек, залила тяжелыми переливами всю окрестность и поползла по ветру, заполняя воздух невидимыми потоками, уничтожая на своем пути все живое, заползая во все ложбины, во все подвалы, щели, окна, двери, не оставляя никакой возможности спасения, сжигая своим смертоносным дыханием деревья и травы и отравляя надолго ту местность, по которой она прошла. Радио сообщали неописуемые подробности этой катастрофы, от которых сердце сжималось, охваченное чувством ужаса, омерзения, негодования и боли. И это был человек — царь природы, погибавший от своих же безумных, кровожадных измышлений! Во мне сквозь ужас первых впечатлений прорывалось невольное чувство злорадства. Человек получал по заслугам. Но сейчас я снова представлял себе эти деревни и города, полные трупов, застывших в позах страшной предсмертной муки; эти мертвые, сожженные ядовитым дыханием поля и леса; ни в чем неповинных животных, рабов и слуг человека, устлавших своими трупами дороги и улицы вперемежку с трупами своих господ, с которыми сравняла их смерть. И те, и другие были теперь только тушами гниющего мяса, присоединявшими свое зловоние к запаху убийственных газов, неизбежно и неизменно делавших свое страшное дело перед тем, как рассеяться в пространстве. И будто, чтобы усугубить ужас происходившего и до конца показать человечеству его безумие, — эта смертоносная волна, повинуясь силе ветра, тянувшего медленно и ровно на восток, докатилась до Балтимора и затопила громадный город. Сюда дошла она, уже лишенная отчасти своей силы, но от того стала еще страшнее. Тут осталось в живых много свидетелей: ослепленных, обожженных, покрытых язвами и нарывами, харкающих кровью живых трупов, изуродованных прикосновением ядовитого облака. Поистине, многообразны были муки, придуманные людьми своим ближним. Здесь смешались все газы, изготовлявшиеся на фабрике смерти. Частью они уничтожили и нейтрализовали друг друга, но и то, что осталось, было воплощением изобретательности человеческого духа на этом зловещем пути. Многотысячный город опустел в течение двух часов. В каменных коробках домов, в провалах улиц и площадей, так же, как и там, в просторе полей и лугов, — лежали в одиночку и группами трупы людей и животных, захваченных внезапной смертью. Толпы калек и полутрупов, слепых и глухих, тянулись на восток, подстегиваемые животным ужасом. Они усеивали дороги новыми и новыми трупами, но упорно шли, сами не зная, куда, спасаясь от неведомой смерти. Поезда, уходившие в Филадельфию и Нью-Йорк, были переполнены; люди сидели на площадках, буферах, на подножках вагонов, на крышах, — везде, где за что- либо можно было уцепиться. За обладание местами шли настоящие бои. Но отошло лишь несколько поездов, а затем в общей панике и болезни, охватившей и железнодорожный персонал, — все спуталось в дикий клубок, где люди, забыв обо всем, слепо боролись за жизнь. Поезда, руководимые полутрупами-механиками, врезывались друг в друга или в тупики и загромождали своими обломками все пути. То же творилось и в порту, где люди бросались в воду, чтобы не остаться на берегу, а переполненные пароходы, баркасы, яхты, катера и просто лодки, не останавливаясь ни перед чем, стремились на восток, толпясь на рейде, толкаясь, как стадо обезумевших животных, и топя друг друга. В два-три часа город представлял пустыню, мертвую кучу каменных громад, молчаливую и неподвижную, населенную лишь трупами, разбросанными по пути бегства. Два дня радио были полны известиями о подробностях этой небывалой катастрофы. На четвертый день, когда мы подлетали к Бермудам, где у нас была остановка, была получена новая телеграмма. К острову была отправлена вторая эскадра из нескольких военных кораблей в сопровождении большой эскадрильи аэропланов. На этот раз ни на судах, ни на аппаратах не было ни грамма взрывчатых веществ. Это было отчаянное предприятие, попытка взять врага голыми руками. И она потерпела такое же поражение, как и предыдущие. Так же с эскадры начали требованием капитуляции, переданным по радио. С острова на этот раз далее не ответили. Вернувшиеся оттуда рассказывали, что у них появилась уже надежда; казалось, что противник признается в своем бессилии. Но когда берег был уже ясно в виду, так что оставалось до него четыре-пять километров, — произошло что-то необъяснимое. Люди вдруг стали валиться, как подкошенные. Три гидроплана, поднявшиеся в это время и находившиеся впереди эскадры, потеряли сразу управление, как-то нелепо и беспомощно закружились на одном месте и, потеряв равновесие, рухнули в воду. Немногие остались в живых; под их управлением два судна изо всей эскадры вернулись в ближайший порт; они привезли груз мертвецов и рассказали о судьбе экспедиции. Сами они в момент катастрофы были охвачены жесточайшим сердечным припадком. Вскрытие умерших установило определенно смерть от паралича сердца. Для нас, конечно, дело было ясно. Волны, вызывающие как бы гипноз, психические эпидемии на расстоянии, — вблизи оказывались настолько интенсивными, что, возбуждая чрезмерно сильные токи в нервных путях, заведующих деятельностью сердца, — нарушали их правильное функционирование и приводили к параличу. Вместе с тем продолжали поступать известия о росте брожения в рабочих центрах, прорывавшегося то там, то здесь взрывами, с которыми власть справлялась с трудом. Нерешительность правительства и его бессилие по отношению к таинственному противнику питали это недовольство, охватывая массы чувством негодования и возмущения. В радио-газетах проскальзывали строки, указывавшие на то, что зародилось подозрение, не склоняется ли сенат к капитуляции перед противником, в надежде столковаться с ним за счет народных масс. И едва ли эта догадка не была похожа на правду. Уже недалеко от цели, пересекая Флориду, узнали мы о новом обращении Джозефа Эликотта к конгрессу. Оно было таким же торжественным и напыщенным, как первые два, и заключало новую угрозу, если опять в недельный срок не будет выполнено его требование. «Я поражу вас в самое сердце, в вашем царственном городе (Imperial-City)», — говорилось в этой депеше. В конце ее стояло на этот раз полное имя. — Воображаю, что сейчас делается в Нью-Йорке, — сказал я, когда мы прочли эту телеграмму, только что переданную нам из командирской кабинки. Я представил себе огромный город, охваченный паникой в ожидании грядущего бедствия, и содрогнулся. Этот город-спрут, город-великан, гордый Imperial-City, сосредоточивший в себе жизнь страны и управлявший ею, протягивавший жадную руку из- за решеток своих банков на дряхлую Европу, шумный, многомиллионный, алчный и властный новый Рим, — лежал теперь беспомощный, в ожидании удара. И еще раз у меня промелькнула мысль, что люди получали то, что заслуживали. Я сказал это Мореву. Он ничего не ответил на мое замечание. Он вообще за все время нашего путешествия почти не говорил, погруженный в свои мысли и какие-то выкладки, над которыми просиживал до поздней ночи. Он осунулся и сгорбился за эти несколько дней, как после болезни. Я думаю, его тяготила огромная ответственность, взятая им на себя в этой страшной борьбе. Он должен был сознавать себя средоточием надежд и упований, хотя бы и неосознанных, сотни миллионов людей. Эта мысль впервые за эти несколько дней так ясно определилась у меня в голове к концу нашего путешествия, что я будто увидел перед собою нового, незнакомого мне и такого жуткого человека. «О чем он думает?» — спрашивал я себя, глядя в эти глубоко запавшие глаза и на высокий лоб, перерезанный новой резкой морщиной. Мне хотелось услышать его голос. Молчание его становилось жутким. — Вам не приходило в голову, Сергей Павлович, — заговорил я, — что это предприятие, в котором мы участвуем, стоит в таком резком противоречии с ходом истории последнего времени. — В каком отношении? — медленно и с усилием оторвался от своих мыслей Морев. — В смысле роли в них отдельной личности, — ответил я: — все события последних десятилетий имели такой огромный размах, захватили такие широкие массы и показали такое их значение, что те, кого раньше называли бы великими людьми, делателями этих событий, — как-то померкли, стушевались в необозримой сложности и космичности совершающегося. И так ясно было, как никогда раньше, что, воображая себя направляющими ход судна, они вели его не больше, чем те фантастические фигуры, которыми украшались в старину носы кораблей. Они были впереди, но не они вели судно, а поворачивались сами туда, куда увлекал их ход, от них независимый, но мы давно перестали видеть в них своих таинственных кормчих. Но вот, однако, снова у кормила стоит отдельная личность и грозит повернуть руль на свой курс, не считаясь с ходом корабля. Сергей Павлович невесело усмехнулся. — И на этот раз вы поддались иллюзии. История идет своим железным ходом, и не чучелам на носу корабля изменить его. Самое большее, что может сделать отдельный человек, — это замедлить или ускорить неизбежный ход вещей. И только. Массы — истинный творец истории и ее кормчий. И чем шире, огромнее и сложнее становится жизнь масс и до бесконечности запутывается в необозримом многообразии сеть причин и следствий, — тем больше меркнут в ней отдельные личности, все эти короли, министры и полководцы. Быть-может, абсолютно нынешние великие люди не меньше тех, о которыхвспоминает история, но в сравнении с огромностью сцены, на которой они выступают, — они теряются и кажутся всплесками волн в неоглядности океана. И то, что вы сейчас видите, — такая же иллюзия, как было и раньше. Если вы хотите знать, где творится настоящая история, то прислушайтесь к тем раскатам близкой бури, которые несутся из Фриско, из Чикаго, из Филадельфии, — отовсюду, где бьется пульс жизни масс. Вот истинная мировая драма, которая идет неизбежно и неуклонно к заключительному акту, а то, в чем мы сейчас с вами участвуем, — лишь эпизод на этом широком фоне. Наш противник не больше, как палка, вложенная в колеса истории. Быть-может, ход ее и замедлится ненадолго, но палка будет измолота, и история мира от этого не изменится. Да к тому же мудрая природа позаботилась, чтобы каждый яд имел свое противоядие, — снова усмехнулся мой собеседник. — И если Джозеф Эликотт — яд, то мы с вами для него готовое рвотное. — А я все-таки не могу отделаться от мысли, что эта борьба — состязание личностей. Ведь от вашего успеха или успеха противника зависит судьба человечества. — Нет. В конечном счете это борьба двух мировоззрений, двух эпох, двух классов, которых представителем и оружием является каждый из нас. Но мы — воители молодого, бодрого класса, в руках которого будущее, а Джозеф Эликотт — воплощение умирающего прошлого. Никакая сила не может спасти его идею. В этом — наша неизбежная победа; если не наша с вами лично, то победа того дела, которому мы служим. — Джозеф Эликотт, вероятно, смотрит на дело иначе, — сказал я. Морев пожал плечами. — Может-быть. И в этом мое преимущество перед ним. — А может-быть наоборот? — Что вы этим хотите сказать? — То, что сознание значения своего «я» должно давать ему преимущество твердости и решимости. — Напрасно вы так думаете. Мы с вами все время говорим будто на разных языках. Поверьте, что я, именно чувствуя себя орудием чего-то большего, чем я сам, — не отступлю ни на шаг. Le vin est tire… А впрочем, довольно философии. Вот, кажется, и Гальвестон. Под нами впереди в наступающей мгле зажглись огни большого города, и обрисовались его смутные контуры.Глава XIX Накануне событий
Гальвестон произвел на меня впечатление огромного потревоженного муравейника. Обычно оживленный деловой, кипящий город теперь имел особенную физиономию. Охваченный общей тревогой, в которой металась страна, он был полон толпами беглецов, хлынувших сюда из-за Миссисипи, инстинктивно стремившихся положить сотни миль расстояния между собой и местом перенесенных ужасов. Улицы были полны взволнованными людьми, лихорадочно ожидавшими известий с берегов Атлантического океана. Собирались десятками тысяч перед крикливыми рупорами осведомительных бюро и бюллетенями газет, выставлявших каждые два часа свои телеграммы и выбрасывавших их тысячами листков, еще сырых и пахнущих краской, в кишевшие людьми улицы. Там и сям собирались летучие митинги, объединявшие эти толпы в возбужденного многоголового, потерявшего равновесие и потому опасного зверя. Передавались бесконечные слухи и известия, превосходившие всякие вероятия, росла волна страха, недоумения и гнева… Мишенью последнего служило правительство, которое обвинялось с разных сторон и которому приписывали все беды и несчастия страны. Вспоминались его подкупность и потворство воротилам финансового мира; ставились в вину нерешительность и слабость… Взводились тысячи обвинений и истинных, и мнимых; росла та страшная волна гнева масс, которая кончается революциями. Мы поселились сами в тихом уголке рядом с университетом и лихорадочно принялись за работу. Дело нашлось всем, кроме Юрия. Он добросовестно пытался быть нам полезным, но это было свыше его сил: — он был в таком нервном напряжении, что я начинал бояться за его рассудок. Бедняга целыми днями, как автомат, ходил из угла в угол, оживленно жестикулируя, бормотал что-то глухо и невнятно, на вопросы отвечал невпопад, вообще производил впечатление человека, потерявшего равновесие. Я попытался было отвлечь его от навязчивых мыслей, увлечь работой, встряхнуть. Это оказалось невозможным. Он весь ушел в лихорадочное ожидание; каждый день, проведенный в приготовлениях, старил его на целые годы. Была еще одна заинтересованная сторона, которая торопила наши сборы с нетерпением и нервностью, — Белый дом, откуда мы ежедневно получали тревожные настойчивые шифрованные телеграммы. Но они были бесполезны. Работа и без того шла лихорадочным темпом, был рассчитан каждый час, и приблизить срок окончания сборов Сергей Павлович был бессилен. Надо было все учесть и ко всему приготовиться. К счастью, на месте мы нашли уже все, о чем просили еще из Москвы, — в этом отношении тут оказались идеально исполнительными, что, разумеется, было неудивительно. Ведь наш приезд давал единственный шанс на победу, где ставкой была судьба страны. Были заготовлены в необходимом количестве требовавшиеся для работы препараты и сырые материалы: к счастью, в университете, и главное в Берклее, нашей базе, оказался значительный запас химически чистого селена, необходимого для работ, что сильно облегчило задачу. Были доставлены газовые костюмы. На рейде стояли три быстроходнейших миноносца флота республики, а в ангарах ждало шесть воздушных машин новейшей конструкции. Отряд еще не был набран полностью, но через два дня должен был быть пополнен до указанной Моревым цифры. В день своего прибытия мы познакомились с явившимся к нам будущим начальником экспедиции, назначенным правительством Штатов, полковником Пэджет. Это был высокий, сухой человек, с лицом, туго обтянутым желтоватой кожей, из-под которой резко выступали мускулы и кости. У него были умные серые глаза, жесткие и слегка иронические. Тяжелая нижняя челюсть придавала лицу выражение чего-то упрямого, твердого и несколько звериного. Вообще он напомнил мне большую хищную птицу. Сильное мускулистое тело, казалось, легко и послушно двигалось точными и отчетливыми движениями. Голос у полковника был несколько придушенный, словно он его умышленно сдерживал. Он переводил глаза с одного из нас на другого, отыскивая Сергея Павловича. Когда ему указали сгорбленную фигуру нашего шефа, — Пэджет подошел к нему с коротким приветствием. — Я назначен начальником экспедиции, отправляемой на Памлико-Саунд, и имею инструкции исполнять ваши указания, согласные с предначертаниями правительства. Позвольте предоставить себя в ваше распоряжение. Морев молча пожал протянутую ему руку и с минуту подыскивал слова для ответа. — Надеюсь, что эти предначертания не разойдутся с теми мерами, которые придется принять, какими бы странными они ни казались на первый взгляд. То, что я нашел здесь сделанным по нашей просьбе, утверждает меня в этой мысли. Но нам обо многом надо еще переговорить. — Я к вашим услугам, — еще раз поклонился сэр Пэджет. Надо сказать, что иметь дело с ним оказалось чрезвычайно легко: «предначертания» не разошлись с требованиями Морева, а точность, дисциплина, быстрота и организованность работы не оставляли желать лучшего. В лабораториях работа шла круглые сутки. Полковник Пэджет обучал людей обращению с костюмами при длительном пребывании в них. Миноносцы уходили в море и там занимались стрельбой из допотопных, вытащенных из какого-то арсенала пушек, окутывавших корабли облаками дыма. Самое скверное было то, что работы могли быть кончены не раньше шести дней, то- есть накануне срока, указанного Эликоттом в его последнем заявлении. Это нервировало ужасно, но ничего сделать было нельзя. Время, необходимое для изготовления препарата изолятора, пропитывания им костюмов, их сушки и испытания, было рассчитано с точностью до часов, и ускорить его было невозможно. Это было нашим единственным оружием против страшного противника, и малейшая небрежность могла кончиться крушением всего дела. В Нью-Йорке между тем, по сведениям печати, начиналась паника. Обитатели Пятой Авеню оказались первыми крысами с тонущего корабля и подали сигнал. Яхты, поезда, воздушные машины, автомобили — уносили своих владельцев, на запад, в море, в Европу, — куда угодно, прочь от угрожаемого города. С их отъездом жизнь постепенно замирала в огромном городе, теряла свою согласованность и целесообразность. Это был улей, потерявший матку. Оно было и понятно. Эти люди держали в своих руках пульс жизни и города, и всей страны. За ними потянулись тысячи других, связанных со всей сложной путаницей и машиной современного города. Но те сотни тысяч и миллионы, которые привязаны были к нему своими маленькими жизнями, сплетавшими в своей чудесной сложности всю основу существования страны; те, кому некуда было деваться, и негде было пережидать, пока пронесется буря, — они не покидали этого запутанного клубка улиц и площадей, а наполняли их неустанными криками, наводившими ужас на беглецов с Пятой Авеню не менее, чем депеши с Памлико- Саунда. Так говорили газеты, но это было видно и по нервным настойчивым телеграммам из Вашингтона. К вечеру субботы наша работа должна была быть закончена. За три дня до того миноносцы с тремя машинами на борту были направлены морем мимо Гаваны, и мы, вылетев в воскресенье утром, должны были встретиться с ними в Джексонвиле, имея уже готовые костюмы, обработанные изолятором, в двойном комплекте для всех участников экспедиции. Это и было в сущности наше настоящее оружие против неуязвимого противника, кроме тех допотопных пушек, которые стояли на борту миноносцев, и небольшого количества бомб, начиненных черным порохом, для сбрасывания с аэропланов. В воскресенье в четыре часа утра мы вышли в поле, где стояли три легких и три грузовых машины, готовые к отправлению в путешествие, таившее в себе жуткие и неизвестные возможности. Солнце только что верхним краем прорезало легкую сизоватую тучку, вытянувшуюся вдоль восточной стороны горизонта. От нескольких вязов на краю дороги, от наших фигур, закутанных в фантастические костюмы, и от машин, выстроившихся в два ряда на слегка всхолмленном поле, — побежали длинные мягкие тени, сплетаясь в причудливые силуэты. На дороге пыхтели автомобили, доставившие нас сюда, и вся эта группа людей и машин казалась такой маленькой и ничтожной среди открывающегося простора лугов и полей и еще спящего города, раскинувшегося по всей южной стороне горизонта громадами домов и заводов. С востока потянуло вместе с лучами солнца холодным пронизывающим ветром. Я смотрел навстречу красному диску, медленно подымавшемуся из-за далекого горизонта, и силился проникнуть мысленно дальше, туда, где солнце уже пламенеющим шаром катилось по небу над огромным городом, туда, где творилось что- то неведомое и страшное и куда мы сейчас должны были ринуться сквозь воздушный простор на легких крылатых машинах. У меня невольно сжалось сердце. Что ждало нас там, за этой гранью?! Мы облачились уже в наши нелепые, фантастические костюмы, напоминавшие не то скафандры водолазов, не то доспехи каких-то стародавних латников; в этом облачении мы все были совершенно одинаковы, и никого нельзя было бы выделить из этой группы причудливых фигур с огромными стеклянными глазами, если бы не условные отличительные знаки, которые давали нам возможность узнавать друг друга. У Сергея Павловича костюм был почти черного цвета, а шлем совершенно белый с темными провалами глаз напоминал высохший череп. Облачение Юрия было синеватого оттенка с таким же шлемом. Сергей Павлович решил заранее надеть эти костюмы, чтобы испытать их на длительном полете и свыкнуться с пребыванием в них в течение многих часов. Это было не так легко. По крайней мере на меня эта закупорка в отделяющее от мира одеяние действовала очень тягостно. Это было ощущение невероятной пустоты и одиночества, несмотря на то, что слух различал несколько заглушенные звуки, а сквозь зеленоватые стекла шлема можно было видеть, хотя и слегка затуманенными, все окружающие нас предметы. Было половина пятого утра. Сергей Павлович подошел ко мне, откинув на плечи шлем, при чем голова на тяжелых складках костюма казалась каким-то наростом. — Ну, как, Дмитрий Дмитриевич, — вероятно, это последние минуты, когда мы можем поговорить перед началом нашего дела? Вы не раскаиваетесь, что приняли в нем участие? Я, последовав примеру Морева, освободил голову и с жадностью вдохнул всей грудью свежий воздух. — Нет, — ответил я, — повторяю ваши же слова: le vin est tire. И потом изменить человечество я не в состоянии, и оно, очевидно, долго еще будет устраивать себе эти кровавые развлечения; а закрывать на все глаза и делать вид, что этого не замечаешь — было бы слишком наивно. Все, что есть, заслуживает внимания и наблюдения. — Сквозь стекло микроскопа? — Нет, и сквозь улыбку скептика. — И это все, чего по-вашему заслуживает мир, в котором мы живем? — Думаю, что да. А что же по-вашему еще надо к этому прибавить? — Любовь или ненависть живого человеческого сердца. Какими путями дошли вы до этого удивительного миросозерцания, позволяющего вам смотреть на мир как на какой- то театр китайских теней? Неужели в вас нет ни капли пафоса борьбы, стремления приобщиться к жизни? — Единственная романтика, какая мне доступна, это романтика человеческой мысли и ее достижений. И именно она позволяет мне глядеть на все остальное сквозь улыбку. А что до миросозерцания, то вы ведь не думаете серьезно, что каждый из нас выбирает его себе, как результат логического продумывания. — А как же иначе? — Мне казалось, что это общее место, о котором и говорить не стоит. Конечно, мы выбираем его бессознательно, нутром, так сказать, в силу наследственности, темперамента, условий воспитания, среды и прочего, и прочего, а логику уж после притягиваем за волосы в оправдание нашего выбора. — Ну, это далеко не так очевидно, как вам кажется, дорогой мой. — Непременно так. Иначе вы сами себе противоречите. Ведь по вашей же идее наша психическая жизнь в значительной мере определяется излучениями, поглощаемыми мозгом из окружающей среды, а выбор тех или иных колебаний, а значит и идей, зависит не от нашей доброй воли, — а от каких-то факторов нервной системы, определяющих те колебания, на которые мы отзываемся — то-есть именно от нашего нутра. Морев засмеялся своим сухим деревянным смехом. — Удивительное создание — русский человек. Он, кажется, кладя голову на плаху, способен заниматься диспутами об отвлеченных материях и разводить философскую кислятину… Даже и скептики… — Апостолы действия тоже не отказывают себе в этом удовольствии, — отпарировал я. Сергей Павлович взглянул на часы. — Без четверти пять. Пора садиться. Остановка будет в Мобиле. Там уже будут известны новости, и мы увидим, что делать дальше. Итак, все-таки вы с нами? — Все-таки. Он сделал рукой неопределенный жест и направился к своей машине. Мы все заняли свои места, и ровно в пять часов утра воскресенья, под красноватыми лучами медленно подымающегося солнца, машины одна за другой с глухим шумом вытянулись в колеблющуюся линию навстречу пламенеющему диску. Поход, если можно так назвать, начался. Перелет был нелегким. Заключенные в свои уродливые одеяния, отрезанные ими ото всего живого, мы на целый день были предоставлены своим мыслям. Я обо многом передумал за эти томительные часы, глядя сквозь зеленоватые стекла шлема на расстилавшиеся под нами и непрестанно сменявшиеся, хотя и похожие друг на друга картины. Иногда мы зарывались в мягкие волны облаков, и тогда нас охватывала пронизывающая-сырость тумана, и в этой непроглядной мгле слышался только однообразный, ритмичный стук машин и гудение винтов. Я думал о том, насколько человечество ушло бы вперед, если бы не тратило столько изобретательности, энергии, крови и материальных средств на истребление себе подобных. Но невольно мысль переносилась вперед, к востоку, туда, куда неизменно тянулась линия наших машин и где ждала нас скрытая сейчас во мраке развязка драмы. В Мобиле мы опустились поздно вечером, часов около одиннадцати, усталые от неподвижного сидения, от заключения в наших костюмах, от тягостного ожидания и собственных мыслей. Здесь мы узнали новости. Они были такого рода, как и можно было ожидать, но пока без всяких подробностей. Вчера около часу дня все население Нью-Йорка было охвачено чувством дикого страха, под влиянием которого началось форменное бегство из огромного города, принявшее в этих условиях характер катастрофы. Сообщалось о трех железнодорожных крушениях в нескольких километрах от города, с громадным количеством жертв, и о гибели двух больших пароходов, столкнувшихся в общей панике на рейде. Вообще, видимо, происходило что-то такое, о чем, кажется, боялись сообщить точно, но что носило характер стихийного бедствия. Это видно было из того, что вчера к вечеру президент республики собрал спешно обе палаты конгресса, не решаясь воспользоваться предоставленными ему полномочиями. Из глухих намеков можно было понять, что на этом заседании будет поставлен вопрос о капитуляции. Борьба представлялась безнадежной, да к тому же правительство было поставлено между двух огней: с одной стороны— неуязвимый враг на Памлико-Саунде, а с другой — те грозные массы, которые наводнили улицы и площади больших городов, где отчаяние сообщило толпам силу и решимость, а крушение власти в общей панике дало простор нараставшей волне гнева и ненависти. Продолжение борьбы означало рост этого второго противника, оказавшегося для Wail-Streeta и иже с ними, страшнее первого. В этом выборе, видимо, в Вашингтоне окончательно склонялись к капитуляции перед Эликоттом. Там была надежда сговориться, хотя бы ценой подчинения и позора, и ополчиться, пока не поздно, на общего врага, вдруг поднявшего голову. А сила этого врага росла с каждым днем, и неясное глухое брожение вылилось уже в ряд выступлений народных масс, ставивших себе определенную цель — свержение ненавистного правительства банкиров и торгашей. И в Сан-Франциско это кончилось тем, что город был захвачен восставшими, к которым после короткого и нерешительного боя примкнула поставленная на военное положение территориальная дивизия. Из газет, очень сдержанно говоривших об этих событиях, было видно, что весь запад охвачен огнем, и что оттуда идет нечто более страшное, чем машины Эликотта. Сергей Павлович презрительно пожал плечами, прочтя о назначенном президентом собрании палат конгресса. — Пусть совещаются. Но я не дам ни полушки за их головы, если они решатся на сдачу. Капитуляция правительства не есть еще капитуляция народа. — Но что же вы тогда будете делать? — опросил я. — Очевидно, Пэджет получит соответствующие распоряжения, и мы окажемся без людей, без оружия, — просто с голыми руками. — Слишком поздно, — возразил Морев: — Пэджет — это стрела, спущенная с тетивы, и она летит по назначению уже помимо собственной воли. Дальнейший план был изменен. Грузовые машины были немедленно направлены по прежнему маршруту на Джеконсвилль в сопровождении одного легкого аппарата. А два аэроплана, на которых были мы с Юрием, Морев с его ассистентами и помощник Пэджета майор Самюэль, с первыми лучами солнца поднялись, взяв курс на северо-восток.Глава XX Нью-Йорк в ужасе
Морев решил, прежде чем начать наступление, проникнуть в район, захваченный влиянием машин Эликотта, с целью испытать работу наших предохраняющих костюмов и ознакомиться с действием этого неведомого еще нам оружия. Кроме того, мне казалось, что Сергей Павлович хотел в этот решающий момент быть ближе к Вашингтону. Перед тем, как отправиться в путь из Мобиля, он послал шифрованную телеграмму президенту. Думаю, что она должна была сыграть роль в решении, принятом правительством в эту знаменательную ночь. О решении этом мы узнали к вечеру понедельника на месте нашей последней стоянки перед отправлением к Нью-Йорку, возле небольшого городка Оксфорд, в нескольких километрах от Филадельфии. Здесь уже чувствовалась близость разразившейся на Мангаттане катастрофы. Даже в этом маленьком городке все было полно беглецами и взбудоражено до последней степени. Тут мы и узнали, что заседание конгресса закончилось этим утром. Подробностей, конечно, не было, так как оно происходило при закрытых дверях, но было очевидно, что героическое решение было принято после продолжительных колебаний и ожесточенных прений. Позже, когда отгремели события, стали известны подробности этой ночи в Капитолии. Когда напряжение в собрании достигло страшного возбуждения, и вопрос, видимо, клонился в сторону капитуляции, на которой, спасая свои карманы, настаивала партия, олицетворявшая интересы Wall-Streeta, встал депутат рабоче-фермерской партии, весь бледный от волнения, и поднял руку с жестом отчаяния: — Неужели нас послал народ в эти стены для того, чтобы мы собственными руками выдали его на произвол наглого маниака, мы, американцы?.. Я спрашиваю, хватит ли у вас духу присоединиться к этому позорному решению!? Неужели вы не слышите голоса поднимающейся народной бури? Найдутся ли руки в стране, которые взялись бы исполнить такое постановление? Вы думаете только о себе, но ваше дело проиграно, так не позорьте же его окончательно актом предательства и трусости. Вспомните хоть в этот миг, что вы — американцы! Во всяком случае мы, левые, остаемся здесь, а если и выйдем отсюда, то для того, чтобы присоединиться к нашим братьям на западе! Словно дыхание бури пронеслось по собранию. Люди вскакивали с мест и кричали, как одержимые, карабкались на скамьи, стучали ногами. Все собрание сгрудилось к президиуму. В эту минуту, не слушая отчаянных звонков председателя, порывисто взбежал на трибуну тот же депутат с горящими глазами и стремительными движениями. — Джентльмены! — раздался его голос, заглушивший на минуту хаос собрания, — джентльмены, я беру слово и прошу вашего внимания. Едва водворилось относительное молчание, как с трибуны, будто тяжелые камни, раздельно и грозно прозвучали слова: — Джентльмены, я знаю, что действую вопреки конституции, но сейчас не до формальностей. Я ставлю вопрос на голосование. У кого хватит духу высказаться за капитуляцию республики, кто дерзнет посягнуть на это дело, пусть поднимет руку… Торжественная тишина охватила зал. Все собрание замерло в созерцании грозной минуты. Председатель, у которого так внезапно вырвали его прерогативу, застыл, как изваяние, в негодующем жесте. Прошло две или три минуты в полном подавляющем молчании; слышно было лишь учащенное дыхание нескольких сотен грудей. Ни одна рука не поднялась. — Предложение отвергнуто единогласно, — прозвучало с трибуны, как удар грома. То, что произошло затем в зале, трудно себе представить. Это был неописуемый взрыв энтузиазма, припадок массового внезапного безумия, охватившего толпу, и, когда возбуждение улеглось, никто не рискнул уже поднять голос за отвергнутое предложение. Все это мы узнали, конечно, гораздо позже. В Вильмингтоне же мы прочли только что полученное правительственное сообщение, говорившее о принятом решении в коротких, но далеко не твердых словах, носивших на себе отпечаток ночных событий в конгрессе. «С тяжелым сердцем, болея душой за бедствия сограждан, правительство, тем не менее, во имя чести и достоинства нации решает продолжать борьбу и поручает себя и народ воле всевышнего». Это было очень похоже на решение, вырванное из горла, но для нас, в конце концов, это было безразлично. Руки у нас были развязаны, и мы могли действовать. Впрочем, тут же нам стало ясно, что это известие, если бы даже оно было и другого характера, уже ничего изменить не могло. Правительство в сущности оставалось таким только по имени. Судя по всем сведениям, вся страна была в огне, и кучка людей, заседавших в Капитолии, оказалась утлым суденышком среди бушевавшего моря. В Сан-Франциско уже сконструировалась революционная власть, и спешно формировалась армия, пополняемая десятками тысяч из промышленных районов. В соседней Пенсильвании также все бурлило и кипело, и правительство потеряло там всякую силу и значение. Рано утром во вторник, с первыми лучами солнца, наши две машины поднялись и взяли курс на северо-восток. Через полтора часа перед нами легли очертания огромного города, уже отсюда поразившего нас своим видом, указывавшим на необычайные события. Трубы заводов и фабрик, поднимавшиеся целым лесом среди каменного хаоса, не несли своего обычного дымного покрова, свидетеля работы и движения. Пустыми, мертвыми пальцами воткнулись они в розовеющее небо и говорили о смерти и запустении. Зато облаками дыма затянуло порт, где толкались в беспорядке казавшиеся неуклюжими насекомыми пароходы. На вокзалах была такая же пустота и тишина, как на заводах: очевидно, загроможденные при крушении пути так и остались закупоренными и бесполезными в этом городе, потерявшем смысл. В восточном углу, вблизи моста в Бруклин, большое пространство было в огне, охватившем опустевшие кварталы. Здесь было сплошное облако густого дыма, относимое ветром к Лонг-Айленду. Мы опустились у окраины Джерси, несколько в стороне от главной железнодорожной линии, идущей на запад, у большой дороги на Тренто. Я никогда не забуду зрелища, открывшегося нам отсюда. Шоссе было все целиком запружено нескончаемым потоком людей, лошадей, экипажей, телег, огромной массой без конца и начала двигавшихся в несколько рядов по дороге, по обочинам и просто полем по обе стороны, словно разлившаяся и вышедшая из берегов река. Отсюда, издали до нас доносился только смутный гул, в хаосе которого тонули отдельные звуки. Мы сделали попытку узнать, находимся ли мы в зоне действия лучей с Памлико-Саунда или эта паника — последствие уже закончившейся катастрофы. Мы с майором Самюэлем первые попробовали снять шлемы и вздохнуть свежим воздухом, но в ту же минуту пожалели о сделанном, — по крайней мере я. У меня всегда было слабое сердце, и сильные волнения нередко вызывали отчаянные припадки сердцебиения. И сейчас я сразу почувствовал знакомое жуткое ощущение острой боли в сердце, сопровождаемое приступом неодолимого страха; меня охватило безумное желание куда-то бежать, словно по пятам следовал грозный, неумолимый враг. Я начал терять власть над собой. Мне напомнило это ужас, испытанный мною во время великой войны, когда на меня под ударом тяжелого снаряда рухнул деревянный блиндаж, и я оказался заживо погребенным в этом гробу, в трех аршинах под землей. Я пробыл под этими обломками три часа и считал себя погибшим. Я был убежден, что спасения быть не может, и мысль о том, что я задохнусь в этой невыносимой атмосфере, пропитанной запахом дыма, пороха и еще каким-то нестерпимо острым и тяжелым, тянувшимся одуряющей струей из щели у самого лица, — лишала меня сознания. Я старался взять себя в руки, упрекал себя в трусости, в животной привязанности к жизни, наконец, приводил себе тысячи доводов, чтобы убедить самого себя в том, что спасение возможно, и вернуть самообладание, но не мог освободиться от дикого, звериного страха, заставлявшего меня кричать в своей могиле и царапать землю совершенно непроизвольными движениями. Когда меня откопали, — со мной произошел первый в жизни сердечный припадок. Нечто подобное нахлынуло на меня в тот момент, когда я освободил голову от тяжелого капюшона, и я не знаю, что было бы со мной, если бы Сергей Павлович не схватил меня за плечи и не набросил быстрым движением шлем, закрепив его на место. Я после этого долго не мог прийти в себя и боялся одного из своих припадков. К счастью, дело обошлось небольшим сердцебиением. Мои товарищи тоже сделали эту попытку и также поспешили замкнуться в спасительные одеяния. Юрию и одному из ассистентов Сергея Павловича пришлось, как и мне, прийти на помощь. Мы убедились ясно в том, что до сих пор еще злополучный город был под действием страшного оружия Джозефа Эликотта, и что наши защитные костюмы оказались вполне ограждающими нас от него. Кому-то из нас пришла в голову мысль взглянуть ближе на этот живой поток, стремившийся мимо нас на запад из умиравшего города. Между нами и ближайшим поворотом дороги была группа деревьев, скрывавшая нас от взоров толпы, которая, впрочем, вообще вряд ли могла бы обратить на нас внимание в своем паническом беге. От заросли до придорожной канавы было шагов триста; здесь расстилалось пшеничное поле, колосившееся уже почти до пояса зеленым волнующимся морем. Мы вчетвером: я, майор Самюэль, Юрий и один из ассистентов Морева зашагали напрямик по полю по направлению к дороге. Даже и выйдя из-за деревьев, мы долго не обращали на себя ничьего внимания и могли беспрепятственно наблюдать этот великий исход. Это была сплошная масса людей, катившаяся непрерывным потоком, насколько хватал глаз, направо и налево, и среди него, будто суденышки по реке, ныряли там и здесь, медленно пробираясь по запруженной дороге, всевозможные экипажи. Несколько обычных городских кэбов, запряженных тщедушными клячами, нагруженных доверху всевозможным скарбом, две — три открытых нарядных коляски, впрочем, так же исчезающие под пестрым и разнообразным грузом, как и их менее нарядные собратья, ныряли в этих живых волнах. Несколько автомобилей, набитых людьми, пробирались сквозь толпу, тяжело пыхтя, обдавая ее клубами удушливого дыма и возбуждая поток проклятий и ругательств. Невдалеке от нас верховой отчаянно махал над головами хлыстом и дико кричал что-то с высоты седла пешеходам. Он видимо, сопровождал громыхавшую за ним необычайного вида колымагу, какой-то архаический фургон, покрытый тысячу раз латанными полотнищами, из-под которых выглядывали все те же искаженные страхом и тревогой лица. У самой канавы высокий загорелый мужчина в рабочей блузе с трудом удерживал на краю ее свой бедный скарб, нагроможденный на тележку вроде тех, на которых развозят овощи и молоко. Его выражение, суровое и почти свирепое, было единственным резко запечатлевшимся в моей памяти среди общего потока лиц, исковерканных гримасой страха, усталости и злобы. Мужчины, женщины, дети в самых разнообразных костюмах, всевозможных возрастов и положений, — красивые девушки и старые мегеры, матери с ребятишками на руках, клерки из контор, рабочие, ремесленники, какой-то заблудившийся офицер Армии Спасения, люди неопределенного вида и возраста, нарядные леди и бродяги в отрепьях, — весь калейдоскоп большого города в этом живом мелькании лиц, катился мимо нас, медленно, шаг за шагом одолевая чуть не с боем отвоевываемое пространство. У края дороги лежало несколько неподвижных тел; этим, вероятно, уже нечего было бояться. Верховой впереди фургона все так же кричал, и в руках у него блеснул револьвер. Толпа шарахнулась в стороны, но сейчас же сомкнулась вновь тесными волнами. В следующее мгновение, словно сдунутый ветром, всадник свалился с лошади, взвившейся на дыбы, и людское море закружилось живым водоворотом над упавшим, а из фургона раздались крики испуга, и выглянуло поразительной красоты смертельно бледное женское лицо. Но это замешательство длилось лишь две — три минуты. Затем людской поток сомкнулся над головой человека, как река над брошенным в нее камнем, а на лошадь вскарабкался какой- то бродяга-оборванец и пытался теперь пробраться к краю дороги. Что меня поразило, это то, что, по-видимому, животные разделяли ужас, охвативший людей. Лошади метались и бились в руках возничих; где-то в толпе надрывно и протяжно выла собака, и этот вой острым и режущим звуком вонзался в гул и рев живого моря. Это было переселение народов, подхлестываемое неведомым и потому вдвойне непреоборимым страхом. Захваченные этой картиной, которую мы наблюдали сквозь зеленоватые стекла шлемов, мы не заметили того, что делалось вблизи. И только тогда поняли, что на нас обращено внимание, когда рядом с нами вырос какой-то верзила с испитым лицом и растрепанными волосами, в разорванной блузе и без шапки. Он схватил за руку Юрия и закричал, покрывая своим голосом шум толпы: — Какого чёрта эти чучела любуются тут нашей бедой? Тут только мы сообразили, что в наших странных костюмах мы должны были производить далеко не благоприятное впечатление, и для возбужденной толпы немного надо было, чтобы похоронить нас так же, как злополучного верхового. Я всмотрелся внимательнее, и сердце у меня упало. Сотни лиц, обращенных к нам, выражали страх, злобу и недоверие; на нас были направлены недоумевающие и полные ненависти взгляды, тянулись сотни рук, а в иных из них я увидел револьверы. Дело принимало скверный оборот. Там и здесь люди прыгали через придорожную канаву, и уже несколько десятков человек бежало к нам со всех сторон. — Это они делом своих рук любуются! — раздался голос из толпы, подхваченный диким, исступленным ревом. — Или это франты с Пятой Авеню спасаются на своих машинах, оставив нас пробираться пешком, куда глаза глядят, из наших берлог! — Бей их, гадин! Мы только теперь поняли опасность нашего положения. Нас принимали или за беглецов из дворцов Пятой Авеню или, что еще хуже, за виновников всех этих несчастий. Вид наш в фантастических костюмах, конечно, не мог успокоить массу. А вступать в объяснения с обезумевшей от страха и гнева толпой было бы совершенно бесполезно. К тому же для этого надо было снять шлемы и, следовательно, самим отдаться той страшной силе, которая гнала это взволнованное живое море. Единственное, что нам оставалось, — это спасаться бегством, постараться добраться до наших машин, пока нам не перерезали путь. Не сговариваясь, словно по наитию, мы повернули в поле. Юрий сильным ударом сбил рыжего детину, и мы, насколько позволяла быстрота наших ног и наши одеяния, бросились через поле к спасительной группе деревьев. За нами шагах в ста с криком и улюлюканьем неслась толпа озверевших людей. Не успели мы пробежать половины пути, как сзади нас загремели выстрелы, — револьверы были пущены в ход. Мы мчались огромными прыжками, подгоняемые этим хлопаньем и воплями погони; расстояние между нами и нашими преследователями все сокращалось, — наши костюмы сильно затрудняли движения. Нам наперерез бежало несколько десятков человек. Стрельба не прекращалась. Вдруг я услышал смутно не то стон, не то крик, и одна из неуклюжих фигур, бежавших рядом со мною, словно споткнулась и, взмахнув руками, опрокинулась между колосьев. Я даже не успел отдать себе отчета, кого из нас настигла пуля преследователей. Останавливаться было немыслимо и бесполезно. Да мы и не думали об этом. Подстегиваемые криками толпы, мы видели перед собой только спасительную цель — зеленую кущу. Падение товарища (это оказался майор Самюэль) спасло остальных. Погоня на минуту остановилась; преследователи сгрудились вокруг упавшего; вопли и проклятия не утихали. Но мы уже ничего не слышали. Еще несколько секунд, и, задыхаясь от бега и волнения, мы миновали деревья и очутились около уже готовых к полету машин.Глава XXI Бой
К вечеру перед нами показались огни Джеконсвиля, и мы опустились рядом со стоявшими уже в поле за городом нашими грузовыми машинами. Экспедиция была в сборе. Миноносцы пришли накануне и сейчас приводили себя в порядок, чинились и чистились после форсированного перехода, запасались топливом и провизией. В эту ночь никто из нас не спал. Было около двух часов, когда мы собрались в кают-компании миноносца «Dreadful», на котором Сергей Павлович и сэр Пэджет подняли свой флаг, вернее свои флаги, так как на мачте рядом со звездным знаменем Штатов трепетало при легком ветре и наше алое полотнище. Мы рассказывали полковнику то, что видели и пережили сегодня утром в Джерси. Американец молчал, и улыбка, очень похожая на презрительно-ироническую, складывалась на его губах, когда рассказ наш остановился на судьбе его злополучного помощника. Откровенно говоря, и нам было очень не по себе во время этого повествования, несмотря на все доводы здравого рассудка, что помочь нашему товарищу мы были бессильны, и всякая попытка в этом направлении была бы просто донкихотством, никому не нужным, и кончилась бы только общей нашей гибелью. Все же на сердце было скверно. Полковник по-прежнему молчал и улыбался углами рта сквозь густые облака сигарного дыма. Мы вздохнули с облегчением, когда Морев пригласил американца к себе в каюту для обсуждения окончательного плана действия на завтрашнее утро. События этого дня несколько оживили Юрия; а может быть, близость развязки придала ему бодрости. Он чувствовал себя гораздо лучше, говорил как разумный человек и стал прежним славным и добрым малым, каким я знал его эти два года. Мы болтали с ним до рассвета, словно встретившись после продолжительной разлуки, и вспоминали наши странствования по Печоре, далекий Ленинград, рассказывали друг другу бесчисленные эпизоды из нашего прошлого, но оба, будто сговорившись, ни одним намеком не касались завтрашнего дня и всего, что с ним было связано. Я вспоминал о далеких днях войны, в которой мне пришлось принимать участие, о революции и всех этих годах, полных захватывающего интереса, пафоса борьбы, неожиданно открывшихся широчайших горизонтов и этих непрестанных чередований энтузиазма и отчаяния, удивительнейшего переплетения огромных космических событий и своих неразрывно связанных с ними болей, невзгод и ужасов маленькой личной жизни. — Счастливые вы — ваше поколение, — говорил Юрий: — вы были очевидцами и участниками таких огромных, таких захватывающих событий, о которых мы сейчас можем читать только в книгах да слушать рассказы живых свидетелей этого времени. Мы ведь были в то время еще совсем несмышлёнышами. Я молчал, задумчиво глядя на мелькавшие в иллюминатор огни города. — Не знаю, дорогой мой, — ответил я наконец: — может быть, вы и правы и даже, наверное, правы, и сейчас, когда все это отошло в прошлое, я с вами могу согласиться, созерцая издали отзвучавшие громы этих бурных дней. Но в то время я готов был отдать остаток своей жизни, чтобы родиться раньше или позже. Дорогою ценой покупали мы участие в этой катастрофе, потрясшей мир. Не всякому было по силам сквозь повседневность ужасной обыденщины, сделавшей людей такими маленькими, озлобленными и одинокими, разглядеть свет зари нового дня. В то время многие из нас говорили, что предпочли бы именно прочесть о том, что видят, в книге. Об этом можно было бы говорить без конца, но беседа наша была прервана вошедшим в кают-компанию Моревым и полковником Пэджет. Лицо американца приняло обычное бесстрастное и невозмутимое выражение, и на нем ничего нельзя было прочесть. Сергей Павлович был бледен и, видимо, взволнован. — Ну, друзья, — сказал он, протягивая нам руку: — мы отправляемся. На минуту наступило глубокое молчание. Мы невольно встали и тесно сгрудились вместе, словно в стремлении почувствовать физически близость человека в этот торжественный миг. В круглые стекла иллюминатора глядел бледный рассвет. Через четверть часа раздалась короткая команда, лязг подымаемых якорей, и застучали машины. Наша маленькая эскадра, имея в голове «Dreadful», вытягивалась в кильватерной колонне к выходу из рейда. Через час перед нами уже было открытое море. Миноносцы резали воду, высоко вздымая ее носом и разбрасывая водопадом на обе стороны брызги пены. За кормой шумела далеко пенящаяся струя, и бежали с шумом волны. Мы шли на северо-восток. Утром, по совету Морева, мы постарались отдохнуть, так как уже к вечеру предполагалось войти в очень близкую сферу возможного действия оружия врага и, хотя трудно было предполагать, что ему известно наше приближение, — из предосторожности было приказано уже после полудня одеть наши защитные костюмы. Мне удалось часа на четыре заснуть крепким глубоким сном. Проснулся я часа в три и, одев свое одеяние, вышел на палубу. День был пасмурный, серый. Моросил непрерывный мелкий дождь; ветром наносило справа пену и брызги. Изредка то с одного, то с другого борта показывались дымки пароходов. Наверху всюду копошились такие же неуклюжие странные фигуры, как и я. Сергей Павлович со своим шлемом, напоминавшим мертвую голову, стоял на баке и смотрел вперед, словно пытаясь пронизать взглядом пелену дождя и тумана. От нечего делать я стал ходить по палубе и осматривать незнакомые мне подробности и обстановку боевого судна. Тем более, что особенности нашей экспедиции создавали положение, необычное даже для привычного глаза. На палубе были прилажены, видимо как-то экспромтом, странные пушки, напоминавшие какой-нибудь музей старинного оружия и так не гармонировавшие с оставшимися на своих местах скорострельными маленькими и крупными шестидюймовыми орудиями. Что еще обратило на себя мое внимание, — это странные клетки с глухими стенками и опускными сплошными дверями, установленные на палубе между трубами и отдушинами вентиляторов. В этих клетках был целый зверинец, судя по смешанному хору голосов, доносившихся из-за дверей, на которых, впрочем, можно было прочесть название их обитателей. Тут было несколько собак, кошек, морские свинки, мыши, кролики, — словом, обычный ассортимент живых предмете! опытов физиологических лабораторий. Догадываясь, что животные нужны Сергею Павловичу для попутных опытов во время действия машин Эликотта, — я больше не обращал внимания на наших четвероногих спутников. На палубе я увидел еще ряд небольших ящичков, расставленных аршинах в двух-трех друг от друга, также с различным! надписями и разнообразной формы. Тут я прочел названия всевозможных взрывчатых веществ, частью известных мне частью впервые встречаемых: пироксилин, динамит, мелинит нитроглицерин, различные соли пикриновой кислоты, лиддит экразит, тринитротолуол и еще десятка полтора непонятны? для меня названий. Среди них двигались неуклюжие, фантастические фигур с огромными головами и круглыми стеклами вместо глаз. На юте был прилажен аэроплан, на котором мы совершил! свой перелет из Гальвестона. По ветру рядом друг с другом развевались два знакомых флага. Мы шли на северо-восток. Ночью было не до сна. Снимать защитные костюмы было запрещено, а спать в этом несносном облачении было почти невозможно, —по крайней мере я, вздремнув раза два на полчаса, нисколько не освежился. Впрочем, первые же лучи солнца застали нас всех на ногах и совершенно бодрыми; нервное напряжение ожидания близких событий отогнало сон. Мы крейсировали вблизи острова, служившего целью нашей экспедиции. Впрочем, выйдя на палубу, мы ничего не увидели. Вокруг было безграничное водное пространство, и на востоке словно из недр этой неоглядной пустыни, поднимался багровый диск, окрасивший в розоватые тона стаи легких облаков над горизонтом. Мы были даже как-будто несколько разочарованы. Но оказалось, что уже с полуночи видны были отблески лучей прожекторов, обыскивавших ночь своими призрачными щупальцами. Принимать же ночной бой с неведомым врагом в незнакомой обстановке было слишком рискованно. Морев и сэр Пэджет решили действовать открыто, и с рассветом «Dreadful» взял курс прямо на запад. Другие два миноносца перестроились в одну линию слева, и мы шли теперь на всех парах, словно убегая от восходившего солнца. Немного погодя раздался крик вахтенного: — Земля! Через четверть часа в бинокль можно было смутно увидеть какие-то неясные очертания на западе. В ту же минуту резко зажужжал приемник нашей маленькой радиостанции. Морев и сэр Пэджет стояли у аппарата, склонившись над ним круглыми шлемами, и читали с ленты передаваемую депешу. — Требуют остановки… Полковник повернулся к человеку у аппарата отправления и стал диктовать ответ: — Правительство республики требует немедленной и безусловной капитуляции. Дается полчаса на размышление. Морев пожал плечами, отвернулся от американца и быстрыми шагами направился к расставленным на палубе коробкам с громогласными надписями. Еще несколько времени продолжались переговоры по радио, которые вел Пэджет, стоя недвижно в своем зеленом с черным костюме у аппарата. Я подошел к Сергею Павловичу и невольно следил вместе с ним за таинственными ящичками, словно ожидая чего-то особенного. Морев и оба его ассистента стояли тут же с записными книжками и часами в руках. Ровно в пять часов утра, когда до острова оставалось на- глаз километров пять или шесть, — раздался сухой треск, — и один за другим сдали вскрываться цилиндрики с надписями, разворачиваемые силой взрыва. Легкий дымок потянулся по ветру; Морев и его помощники внимательно следили за этими миниатюрными взрывами, занося свои наблюдения в книжки. Одна за другой щелкали коробки то там, то здесь. В конце концов, на мой взгляд, две или три из них только остались нетронутыми. Было очевидно, что Эликотт пустил в ход свое оружие, оказавшееся, как и предполагал Сергей Павлович, против нас бессильным. Взорвались маленькие заряды различных взрывчатых веществ с неустойчивыми молекулами, но старый добрый дымный порох, сданный уже в архив, сослужил свою службу и выдержал испытание. Наша маленькая эскадра двигалась все в том же направлении. Все яснее вырисовывались на западной стороне горизонта контуры плоского низкого острова и группы зданий. Юрий стоял у борта, не отнимая бинокля от глаз. Под шлемом не видно было выражения его лица, но даже в этом неуклюжем виде его поза была воплощенное лихорадочное ожидание. Сергей Павлович со своими помощниками поднялся наверх к виденным мною накануне клеткам. Они открыли подъемные дверцы некоторых из них. Некоторое время в движениях животных ничего особенного заметить было нельзя. Но вдруг необычное возбуждение охватило четвероногих пленников. Я видел ясно собаку небольшого роста, вроде овчарки, мирно дремавшую в углу своей клетки, свернувшись в клубок. Животное вдруг вскочило, как под ударом электрического тока; закружилось на месте, словно в припадке какой-то странной болезни, оскалило зубы и залилось отчаянным воем. Потом бросилось к решетке клетки, как бы в намерении перегрызть ее, и, скорчившись в судорогах, упало на пол. С другими животными делалось в большей или меньшей мере то же. Правда, не все из них околели, остались в живых кролики; но всеми овладело сильное возбуждение. Я тронул за руку Морева. — В чем дело? — закричал я, чтобы быть услышанным через двойную перегородку наших шлемов. — Клетки покрыты изнутри изолятором, — смутно донеслось до моего слуха: — Эликотт пустил в ход свои машины. Если бы не это, — Морев коснулся моего костюма, — с нами было бы то же. Впрочем, я это чувствовал уже и без демонстрации на живых показателях действия оружия нашего противника. Очевидно, благодаря неплотности наших костюмов или несовершенству препарата изолятора вообще, он не мог задержать полностью смертоносные колебания, и они, просачиваясь, так сказать, сквозь нашу оболочку, оказывали свое, хотя, конечно, сильно ослабленное, действие. Я по крайней мере испытывал это очень отчетливо. Опять было знакомое чувство физической боли в сердце, затруднявшей дыхание, ощущение беспричинной тревоги и страха. Кое-кто из моих спутников, видимо, чувствовал то же. С одним из матросов случился настоящий сердечный припадок. Он упал навзничь и лихорадочными жестами стал ловить воздух, — у него, видимо, не хватало дыхания. Бессознательными движениями он начал рвать на груди свой костюм, и мы не успели схватить его за руки, как он сильным движением разорвал его от плеча до пояса. Это было делом одной секунды. Матроса встряхнуло страшной судорогой, как от удара тока, и он остался недвижим, уткнувшись лицом вниз. Повредив свою защитную оболочку, он дал доступ к себе смертоносным лучам и теперь лежал бездыханным трупом перед пораженными ужасом спутниками. Громкий голос Пэджета вернул всех к действительности. Он и сквозь заглушающую его звуки оболочку гремел, как труба архангельская. Теперь он дал ему волю. — Артиллеристы, по местам! Готовься к бою! Конечно, для наших допотопных пушек для точной стрельбы расстояние — километров пять — было еще слишком далеким, но Пэджет, очевидно, решил показать противнику, что его оружие против нас бессильно, а главное — ободрить своих подчиненных. Миноносцы повернулись левым бортом, вытянувшись снова в кильватерную колонну, и глухо загудели выстрелы. Корабли затянуло облаками дыма, сквозь которые ничего не было видно. Минут десять длилась эта канонада, вероятно, совершенно безрезультатная, — по крайней мере, нам ее последствий не было видно. Затем орудия затихли, и миноносцы, снова повернувшись на запад, устремились к острову. Впрочем, вплотную подойти сюда было невозможно. Уже невдалеке белела полоса отмели, дальше которой суда двинуться не могли. Раздалась новая команда, зашевелились темные фигуры у гидропланов, и немного погодя три воздушных машины с шумом отделились от кораблей. В ту же минуту на острове вспыхнуло облачко, и немного погодя донесся глухой, чуть слышный удар. Там была тоже батарея. Но это было детское оружие. Снаряды не долетали, ложились то справа, то слева, далеко от нас и подымали целые фонтаны воды, обдавая пеной и брызгами. Правда, две гранаты разорвались-таки на борту соседнего судна. Несколько человек было задето осколками и, пораженные лучами ужасных машин, — умерли мгновенно. На острове начиналась новая борьба при помощи бомб, бросаемых с гидропланов, и скоро вся линия берега была закрыта облаками черно-сизого дыма, над которыми реяли наши три воздушных машины. Морев стоял вместе с полковником Пэджет у радиоаппарата и, не отрывая глаз, следил за его работой. Странный вид представляли эти две фигуры, склонившиеся своими круглыми подобиями голов так близко, что касались ими друг друга, мутно поблескивая стеклами очков над лентой, сбегающей с прибора. Между тем над островом по-прежнему вились машины- птицы, миноносцы снова гремели с борта своими архивными орудиями, а два круглых шара, не отрываясь, следили за бумажной полоской, свивавшейся, как змея, у их ног. Это было поразительное зрелище. Впереди, у борта, стоял Юрий и, не отрываясь, смотрел туда, где облака дыма скрывали ту, к которой он так жадно стремился. О чем думал он в эту минуту и что испытывал, видя, как снаряды засыпают знакомые ему места и закрывают их непроницаемой завесой? Не знаю, сколько времени продолжался этот странный бой. Стрельба с острова прекратилась, но действие машин, видимо, усилилось. Я все больше чувствовал биение сердца, в висках стучало, дыхание становилось все труднее, сопровождаясь сильными болями. Я облокотился о борт и чувствовал, что готов потерять сознание. И вдруг… все изменилось. Боль от сердца сразу отхлынула, исчезло чувство тревоги и беспокойства, грудь ровно задышала. Я взглянул на две фигуры у радиоаппарата. Они обе выпрямились, и Морев торжествующим жестом поднял руку. — Друзья, — долетел до нас его голос: — противник телеграфирует: он сдается и просит прекратить стрельбу. Сэр Пэджет своим громовым голосом сообщил то же экипажу. На мачте был поднят сигнал, передававший радостное известие на другие суда. Восторженное «ура», правда, почти неслышное сквозь глухие оболочки, вырвалось из трехсот грудей. Юрий стоял все в той же позе, лихорадочно впившись пальцами в поручни. Морев подошел к клеткам и открыл жалюзи. Животные, обеспокоенные шумом, а может быть, и дошедшими, как и до нас, колебаниями, были возбуждены, но, получив корм из рук, успокоились и глядели молча своими круглыми глазами. Противник сложил оружие.Глава XXII Эликотт кончает игру
Когда рассеялся дым, окутавший остров, мы увидели чуть видное в бинокль белое полотнище на высоком здании вблизи берега. Гидропланам было передано по радио приказание вернуться на борт. На остров сообщили, что отправляется депутация для передачи условий капитуляции. Мы сошлись в группу, не решаясь все же освободиться от своих одеяний. — Я отправляюсь на гидроплане, — объявил сэр Пэджет, — как уполномоченный правительства Соединенных Штатов, — кто из джентльменов желает меня сопровождать? Юрий умоляющим жестом протянул руку. Я также изъявил желание. Что касается Сергея Павловича, мы все стали уговаривать его отказаться от этой попытки. Он не имел права собой рисковать. В конце концов мы отправлялись на неизвестное и легко могли попасть в ловушку. Но если бы с нами что-нибудь и случилось, от этого ничто не менялось по существу. С гибелью же Сергея Павловича осуждено было на поражение и все дело. С этим спорить было трудно. С нами вызвался отправиться старший ассистент Морева, милейший человек, долговязый и несколько неуклюжий, косивший одним глазом, так что казалось, будто он все время подмигивает своему собеседнику. Воображаю, как кривил в усмешку свои тонкие губы под маской наш военный начальник. Через четверть часа аппарат отделился от борта судна, и нам навстречу начали падать очертания пологого берега и знакомых мне уже по рассказам Юрия построек. Мы опустились почти у самой буковой аллеи, тянувшейся вдоль берега между двумя зданиями. Оставив механика у аппарата, мы вышли на дорогу и некоторое время стояли в нерешительности, не зная, куда направиться. Но тут мы увидели справа группу из нескольких человек, направлявшуюся к нам по аллее. Мы пошли навстречу. Впереди шел грузный, среднего роста человек, в котором я сразу узнал знакомую фигуру нефтяного короля, моего собеседника в Питтсбурге. Он, правда, изменился сильно за эти несколько месяцев. Непокрытая голова была совершенно седа, глаза сидели глубоко, и сквозь их обычную непроницаемую завесу сквозил какой-то живой огонек не то злобы, не то сарказма. Лицо носило печать необычайного утомления. Он нетерпеливым жестом отбрасывал назад развеваемые ветром пряди седых волос, ниспадавших на высокий лоб, изборожденный глубокими складками. Несколько позади этой характерной фигуры следовала группа человек пять или шесть, на которых, впрочем, я не обратил внимания. Только одно лицо бросилось мне в глаза: рядом с Эликоттом шел высокий белокурый человек с голубыми глазами и матовобледным цветом лица. Это должен был быть Хенриксен. Шагах в пяти от нас Эликотт остановился, в недоумении глядя на наши странные фигуры. Он что-то сказал, но тихий звук его голоса отдался смутным гулом в наших ушах. Наше положение становилось почти смешным рядом с этими людьми, стоявшими перед нами совершенно безоружными. Пэджет первый решительным жестом откинул назад шлем, и его сухая голова поднялась из складок его широкого костюма. — Кого имею удовольствие видеть перед собой? — очевидно повторил свой вопрос Джозеф Эликотт с иронической усмешкой. — Я — начальник экспедиции и уполномоченный представитель правительства Соединенных Штатов, — торжественно возгласил сэр Пэджет, делая шаг вперед. — Надеюсь, что мне нет необходимости называть себя, — ответил нефтяной король. Я — хозяин этого острова и — неудавшийся хозяин вашей страны, — старик криво усмехнулся. На этот раз мое оружие оказалось бессильным, хотя я и не знаю, что оградило вас от него. Неужели эти удивительные облачения? — Это к делу не относится, — сухо возразил полковник: — я имею определенные полномочия и буду говорить только об их исполнении. — И эти полномочия? — Именем президента республики я объявляю вас арестованным. Джозеф Эликотт засмеялся. — Я полагаю, что вы слишком торопитесь. Игра моя, правда, проиграна. Но согласитесь, что в данный момент вы здесь в моей власти. — Это дела не меняет, — возразил Пэджет: — там, — и он указал рукой в том направлении, где виднелись дымки наших миноносцев, — все остается по-прежнему, и тот, кто является душою и мозгом этого дела, остался под защитой, неодолимой для ваших машин. — Вы предусмотрительны, — процедил сквозь зубы старик: — но во всяком случае сейчас я тут еще хозяин и могу в любой момент направить мое оружие на Вашингтон, Бостон, Филадельфию. Не думаю, чтобы это входило в ваши расчеты. Пэджет закусил губы. Наступило молчание. — Извините, — раздался вдруг дрожащий голос Юрия… Все невольно обернулись в его сторону. — Я не вовремя вмешиваюсь в разговор, быть может, но… это очень важно для меня. И… одним словом, я хочу знать, где находится мисс Margaret Дорсей и что с ней? Полковник Пэджет сделал протестующий жест рукой. Джозеф Эликотт с любопытством взглянул на говорившего. Тот, кого я принимал за Хенриксена, наклонился к уху старика и что- то сказал ему шепотом. В глазах Эликотта вспыхнул огонь, который он сейчас же погасил. — Мы с вами, кажется, встречаемся не впервые, — сказал он, пристально глядя на моего приятеля. — Да, да. Но это к делу не относится, — нервно оборвал Юрий: — я вас спрашиваю… — Вы полагаете? — как бы задумчиво произнес нефтяной король: — впрочем, если вам угодно, вы можете увидеть молодую леди, если ее судьба так вас интересует. Она, правда, сейчас… не совсем здорова, но… Однако я полагаю, что нам не совсем удобно разговаривать под открытым небом. Там, — он махнул рукой на север вдоль аллеи, — мы сможем договориться об условиях, — а вы удовлетворите ваше любопытство, — зло усмехнулся он в сторону Юрия. Мы двинулись было вслед за ним, но я внезапно почувствовал себя скверно. В глазах потемнело, и отчаянная боль сжала сердце. Начинался сердечный припадок: перенесенное недавно от действия машин с острова волнение не прошло даром. Я остановил своих спутников. — Простите, — сказал я, — мне очень скверно. Я полагаю, что, несмотря на наши хламиды, ваше оружие оказало свое действие. Мое сердце отказывается работать. — Приношу свои извинения, — саркастически усмехнулся Джозеф Эликотт. — Что ж делать, — в тон ему ответил я, — á la guerre, comme á la guerre. С вашего позволения я останусь здесь подышать воздухом. Я думаю, это скоро пройдет, и я присоединюсь к вам. Милейший ассистент Сергея Павловича объявил, что останется со мною. Мы присели на каменную скамью, стоявшую под деревьями. — Я к вашим услугам, джентльмены, — сказал Эликотт. Они повернулись и стали медленно удаляться. Я обратился к морю и жадно глотал свежий соленый воздух. Сердце замирало и билось неровными ударами. Я обернулся вглубь острова. Здесь увидел я знакомые уже по описаниям Юрия строения. Налево тянулась вглубь острова стена с решеткой наверху. Вокруг центрального здания бежали по огромной спирали высокие мачты, переплетенные сетью проводов. Но их правильность, красота и целесообразность, так поразившие моего приятеля, были теперь нарушены. Наша бомбардировка сделала свое дело. Там и сям виднелись воронки свежевзрыхленной земли от упавших бомб, несколько мачт лежали исковерканной грудой железа, антенны были порваны и сплетались внизу путаницей бесполезной проволоки. Мне пришло в голову, что Эликотт брал на себя слишком много, уверяя, что может грозить по-прежнему опасностью Вашингтону и Филадельфии. Налево мрачное здание носило на себе следы недавнего пожара. Направо, в конце аллеи, виднелась вилла, по направлению которой удалялась группа людей, среди которых был мой приятель. Прямо перед нами и центральной постройкой две огромных пирамиды на колесах разевали свои безопасные теперь пасти по направлению к миноносцам. Все это было так ново и необычайно, что совершенно приковало мое внимание и отвлекло от моих болей. Так прошло минут двадцать. Понемногу боль затихла, и мне стало гораздо легче. — Ну, я, кажется, совсем оправился, так что, думаю, мы можем присоединиться к нашим товарищам, — сказал я своему спутнику. Мы поднялись, но не успели сделать нескольких шагов по направлению к вилле, как мне показалось, будто земля вздрогнула у меня под ногами, и в следующее мгновение раздался оглушительный грохот, как бы раскат тысячи потрясающих одновременных ударов. Море пламени и клубы дыма взметнулись из разверзшейся земли к небу, и вихрь ужасающей силы обрушился на остров. Мгновенно погас свет солнца, и наступила полная тьма. Меня ударило чем-то огромным, горячим и швырнуло, как щепку, в пространство. Я потерял сознание.Глава XXIII Химия и история
Когда я пришел в себя, я долго не мог собраться с мыслями и понять, где я и что со мною. Стены узенькой коробки, в которой я лежал, давили меня со всех сторон. Над собою я видел низенький потолок, крашеный белой масляной краской. Я был на мягкой постели, укутанный в теплое одеяло. Я никак не мог вспомнить, когда и где я мог уснуть в этой странной обстановке. Откуда-то справа лился слабый рассеянный свет, и только когда я попытался повернуть голову, чтобы проследить, откуда он исходит, я ощутил тупую боль во всем теле, особенно сильную в голове около темени; тогда я почувствовал, что она вся забинтована, и что я не могу шевельнуть ни одним членом, не причиняя себе жестокой боли. Тем не менее, понемногу, с трудом, я повернул голову и увидел, что свет падает от круглого маленького окошка, завешанного полосатой шторкой, и между мной и этим тусклым просветом сидела, склонившись над книжкой, женская фигура в белом. Я хотел заговорить, но сам удивился болезненному стону, вырвавшемуся из моей груди. Было очевидно, что я болен, болен серьезно, но остальное тонуло в полном хаосе. На звук моего голоса женщина обернулась. Это было совершенно незнакомое лицо с резкими почти мужскими чертами. — Как вы себя чувствуете? — спросила она меня по- английски. Звук чуждой речи окончательно сбил меня с толку. — Что с мной? — спросил я. Женщина покачала головой. — Вы были очень больны, и разговаривать вам сейчас нельзя. Мягкая улыбка осветила показавшееся таким жестким лицо. — Но ведь это любопытство вполне законное… — Конечно. Но несвоевременное. Во всяком случае все хорошо. Вам уже лучше, но не надо волноваться. Я замолчал и попытался восстановить в памяти оставшиеся в голове обрывки прошлого. Это было не легко. Все путалось в каком-то полубреду, в котором нельзя было отличить действительности от больной фантазии. К тому же эта попытка и короткий разговор меня уже утомили. Я забылся сном. Открыв глаза вторично, я уже почти без труда мог повернуть голову и оглядеть свое помещение. Это была, очевидно, корабельная каюта. Теперь я мог чувствовать покачивание судна и уловить чуть слышный стук машины. На этот раз я увидел склонившееся надо мной знакомое лицо. Это был Морев. Его вид и глухой ритмический шум, доносившийся из глубины судна, вдруг дали толчок моим мыслям. Я вспомнил все, что было, вплоть до нашей встречи с Джозефом Эликоттом. — Сергей Павлович… — позвал я слабым голосом. — Слушаю вас, дорогой мой. Как вы себя чувствуете? — услышал я знакомый, на этот раз против обыкновения звучащий теплыми нотками голос. — Спасибо. Кажется, лучше. Но я хотел вас спросить… — Спрашивать вам еще нельзя, можно только отвечать… — И вы с тем же, — поморщился я, — но уверяю вас, что я чувствую себя гораздо лучше, а эти бесплодные попытки связать самому в одно целое все случившееся и вспомнить его сильнее утомляют, чем всякий разговор… — А вы не вспоминайте. — Ну, бросьте, — сказал я уже с раздражением, — ведь я не ребенок. — Вы хуже, чем ребенок: вы — больной. — Послушайте: это же глупо. Уверяю вас, гораздо хуже, если я буду мучиться неизвестностью. Скажите, что случилось? — Все хорошо, — ответил Морев: — не волнуйтесь и не тревожьтесь. Великий Неведомый больше не угрожает миру. — Мы победили, — вырвалось у меня, — но почему же я здесь? И где Эликотт? — Он не существует вместе со всеми своими машинами. Произошел взрыв, уничтоживший северную половину острова со всем на ней находящимся. Удивительно, как вы уцелели, то-есть вернее остались живы, потому что целым вас, пожалуй, назвать нельзя. — Что же со мной? — Сильная контузия. Кроме того, удар в голову каким-то твердым предметом, вероятно одним из обломков. — А Юрий? Морев молчал. Сердце у меня сжалось, и слезы невольно выступили на глаза. — Вот видите, вы уже плачете. Я молча отвернулся к стене. О чем было еще спрашивать? Главное было ясным. А нервы мои, конечно, никуда не годились. В этом была виновата болезнь. Когда я окончательно пришел в себя, я лежал уже в одной из лечебниц Нью-Йорка, окруженный заботливым уходом и на пути к выздоровлению. Я мог спокойно выслушать рассказ Морева о случившемся. В тот момент, когда мы с его ассистентом хотели идти к вилле, произошел огромной силы взрыв, уничтоживший северную половину острова. О причине его можно было только догадываться. Все, что было там, превратилось в груду пылающих развалин, среди которых были похоронены все удивительные механизмы, лаборатории, строения, — все, что скрывало в себе тайну Джозефа Эликотта. Сила взрыва была так велика, что разрушение коснулось даже завода с поселком, расположенных на южной стороне. Несколько домов рухнуло, многие были повреждены; северная стена корпуса завода дала трещину и покосилась, угрожая падением; погибло несколько десятков жителей поселка, рабочих завода, невольных участников этой удивительной борьбы. Единственно, что пострадало сравнительно меньше, — был гигантский коллектор солнечной энергии, расположенный южнее стены. И тут многое было исковеркано взрывом, но остались целые секторы приемников почти нетронутыми, и это дало возможность установить подробности устройства этого механизма. Это было, по словам Морева, остроумнейшее приспособление, давшее теперь человечеству возможность использования новой даровой богатейшей энергии. Но одновременно с машинами погибла и вилла со всеми, кто в ней находился. Под обгорелыми развалинами, среди хаоса разрушения не удалось разыскать ничего, кроме обугленных и разбросанных остатков человеческих скелетов. Так погиб мой приятель вместе со своим врагом и обольстительной креолкой… если только она действительно была там. Когда после взрыва с миноносцев отправлены были два аэроплана и лодки для обследования места катастрофы и подачи помощи, — меня нашли с моим спутником на буковой аллее. Бедняга угодил под большое дерево, рухнувшее на него всею тяжестью, переломившее ему позвоночник и раздробившее череп. Меня же отшвырнуло в сторону, но сильно контузило газовой волной и ударило в голову каким-то обломком. Меня перевезли на миноносец и поручили уходу врача и сестры милосердия, бывших в составе отряда. Я спрашивал Морева, каким же образом не взорвались эти огромные запасы взрывчатого вещества, разрушившего остров раньше, когда Эликотт своими машинами уничтожил Аннаполис, Эджевуд и заряды в орудиях и бомбах нескольких экспедиций. Можно было предположить одно из двух: или хранилища этого пороха были покрыты особым изолятором, неизвестным нам и не пропускавшим соответствующих колебаний, или же взрывчатое вещество было такого характера, что волны, излучаемые машинами Эликотта, не действовали на его молекулы. Все это осталось в области предположений, и единственный след от работ гениального маниака, оставшийся в руках человечества, были остатки солнечной батареи и тетрадки с черновыми набросками, привезенные к нам Юрием. Над ними впоследствии Сергей Павлович много работал, кое-что почерпнув для своего дела. Не менее потрясающи были те сведения, которые передал мне Сергей Павлович о том, что произошло здесь на материке. В то время, когда мы выдерживали удивительный бой с машинами Эликотта, здесь продолжали развиваться события. Известия о намерении правительства капитулировать, поведение кучки банкиров, требовавших примирения с противником, с тем, чтобы немедленно обрушиться всею силой на поднявшиеся народные массы, — все это разнеслось с быстротой молнии по всем углам республики. Растерянность властей, их неуверенность и неподготовленность к событиям довершили дело. Глухое брожение перешло в открытое восстание, имевшее здесь на востоке своим центром промышленные районы Пенсильвании и Огайо. Уже в ночь знаменитого заседания конгресса рабочие кварталы Филадельфии вылились бурным потоком на улицы, и после нерешительного и слабого сопротивления полиции и стоявших тут двух полков армейской дивизии инсургенты захватили все главные пункты города. Было создано к временное революционное правительство, и спешно сформированные дружины, рассеяв небольшие отряды Ку-Клукс-Клана, направились к Вашингтону. Ждали помощи с запада и торопились, чтобы не дать противнику времени опомниться и собрать силы. Между тем рабочее население Нью-Йорка, освободившись от ужаса, охватившего его под действием машин Памлико-Саунда, возвращалось нескончаемыми потоками по всем дорогам, ведущим к огромному городу. И здесь на пустом месте, оставленном прежними хозяевами жизни, бежавшими раньше всех из своих дворцов и банков, безо всякого сопротивления возвратившиеся массы начали чинить полуразрушенный пожаром муравейник и строить новую жизнь своими руками. Сюда же было перенесено и образовавшееся в Филадельфии правительство, и в несколько дней город, постигнутый бедствием, стал неузнаваем. Снова задымились трубы заводов, на рейде зашевелились дремавшие морские гиганты, двинулись поезда, принося в просыпающийся город тысячи своих обитателей, возвращавшихся к родному пепелищу. Wall-Street и Пятая Авеню переменили своих хозяев. Когда миноносец, на котором были мы с Моревым, пришел на рейд, жизнь уже входила в свою колею, и начинались будни огромной и упорной работы. Конечно, дело было еще далеко не кончено. Остатки правительства спаслись бегством на юг, где в Техасе, у границ Мексики, начали стягивать свои силы. Но сейчас на улицах было радостное упоение победой и отдыхом от перенесенных потрясений. Нас приветствовали, лишь только мы сошли на берег, такими восторженными овациями, оказали такой радушный и сердечный прием, что Морев не верил своим глазам: он не представлял себе возможности этого по характеру нации, как он складывался до сих пор в его представлении. В сопровождении празднично возбужденной толпы двинулись мы к отелю. Автомобиль с трудом подвигался среди запруженных улиц, увитый зеленью и овеянный красными флагами. Выслушав этот рассказ, я сказал Сергею Павловичу: — Да, кажется, вы оказались правы в нашем споре, тогда, помните, на пути к Гальвестону. События разыгрались не так, как того ожидали и желали те, кто начал эту чудовищную борьбу. — Конечно, — ответил Морев. — И знаете, что мне приходит в голову? Вам, вероятно, приходилось читать о так называемых каталитических реакциях в химии. Есть много таких процессов, которые совершаются при определенных условиях сами собой в известном направлении неизбежно и неуклонно по определенным законам, но скорость этих процессов может быть невелика. Если же к реагирующим веществам прибавить небольшое даже количество особых тел, называемых катализаторами, то эта же реакция значительно увеличивает свою скорость. Катализаторы не создают, не вызывают процесса из ничего: они лишь меняют скорость реакции, происходящей и без их присутствия. — Ну, конечно, знаю. Я еще помню, что это явление приводило меня всегда в недоумение в мои студенческие годы. — Да, причина его по существу нам еще неизвестна, но, конечно, здесь есть своя еще не раскрытая нами закономерность. И хотя путь аналогии не может служить доказательством, но часто наводит на очень плодотворные идеи. Мне кажется, что в историческом процессе роль личностей чрезвычайно напоминает значение катализаторов в химических реакциях. И быть-может здесь есть нечто более глубокое, нежели простое сопоставление. Так же, как и там, личность не может создавать или уничтожать исторические процессы, но своей деятельностью! может влиять на ход их ускоряющим или задерживающим образом. Катализатор ускоряющий — по всей вероятности, каким- то еще не вполне известным нам образом — способствует устранению внутренних пассивных сопротивлений, служит, по выражению одного химика, смазкой в механизме реакции. Задерживающие, или, как их называют, отрицательные, катализаторы, наоборот, усиливают влияние этих пассивных сопротивлений. И живой иллюстрацией этого правила служат события, в которых мы только что принимали участие. Процесс приближения революции был неизбежным и неотвратимым, но он встречал множество различных сопротивлений, не позволявших ему развить значительную скорость. Выступление Эликотта, расшатав и ослабив одно из главнейших сопротивлений — государственную власть, значительно ускорило этот процесс и послужило для него истинным катализатором. Так, одни и те же или, во всяком случае, очень сходные законы управляют и колебанием и бегом атомов и молекул и, с другой стороны, движут человеческими массами и создают гигантскую химическую реакцию, которую мы называем мировой историей. — Это удивительно верно, — согласился я: — но знаете ли, в чем я вижу разницу между простой химической реакцией и историческим процессом с вашей точки зрения? В том, что с того момента, как коллектив становится своим собственным хозяином и распорядителем и получает возможность контроля над молекулами — людьми, его составляющими, — он получает возможность сам выбирать для себя те или иные катализаторы, для него желательные, и, наоборот, устранять препятствующие в естественных процессах. Коллектив таким образом становится сознательным делателем своей истории, а не поддается пассивно влиянию тех социальных катализаторов, которые сами собою вступают в эту реакцию. — Это очень хорошо, — рассмеялся Морев: — это, как если бы какая-нибудь смесь водорода и кислорода получила возможность сознательно выбирать тот или иной катализатор для ускорения или замедления своего соединения в воду. — Да, вам остается только гордиться тем, что на вашу долю выпала роль благодетельного катализатора, ускорившего процесс освобождения великого народа. — Аминь, как говорил бедняга Юрий. Он разделил с нами эту завидную участь, но попал под колесо, — завершил Морев наш разговор.* * *
Во время недолгого нашего пребывания в Нью-Йорке мы имели возможность наблюдать продолжение действия этого катализа, как назвал его Сергей Павлович. Движение разливалось все дальше и дальше из Нью-Йорка и Сан-Франциско, как из двух центров, захватывая все новые районы. На юге в то же время собиралось ядро враждебного лагеря, стягивая со всей страны свои силы и готовясь к отчаянной борьбе. Повествование о дальнейших ее перипетиях не входит в рамки моего рассказа, да и они всем хорошо известны. Не могу не упомянуть, однако, о том торжестве, которого свидетелями мы были за несколько дней до отъезда в Россию, после первой победы революционной армии у Мемфиса, где южане были отброшены за Миссисипи, в то время как западная революционная армия продвигалась вдоль железной дороги от Эль-Пазо к переправам на Рио-Пекос. Мы явились даже невольными участниками этого народного торжества, сделавшись снова предметом бурных оваций, как только мы показались на балконе отеля, перед несметной толпой, запрудившей площадь. Здесь в виду ликующей народной массы Сергей Павлович обменялся торжественным рукопожатием с членом революционного правительства, явившимся приветствовать представителя дружественной республики. Взрыв оваций, буря торжествующих кликов покрыла слова речи, обращенной Моревым к толпе. Владычество Wall-Streeta было кончено. Недели через три после событий, когда я мог уже двигаться, Морев кончил работы на месте катастрофы, которые могли пролить некоторый свет на действие чудесных машин, и мы отправились обратно, в Россию.Эпилог
Мне остается добавить немногое. Не касаясь моих личных дел, которые выходят из рамок этого повествования, я не могу не упомянуть, что в лаборатории Морева мы нашли след пережитых нами событий. Точно в момент, предшествовавший взрыву на острове, психограф Юрия дал огромные размахи, небывалые еще до сих пор на таком расстоянии, и затем прекратил работу, то-есть на вращающемся барабане перо стало чертить совершенно прямую линию. В то же время мать моего приятеля, мучившаяся бессонницей (момент катастрофы на нашем меридиане пришелся на ночное время), уверяла, что видела сына и слышала его голос. Так в один и тот же момент бедняга в напряженности страдания дал начало ряду излучений, докатившихся до далекой северной родины и отмеченных бесстрастным мертвым автоматом и бедной старушкой, давшей жизнь юноше и связанной с ним этим таинственным резонансом. Что увидел он в последний миг перед смертью, нашел ли он ту, ради которой перенес столько невзгод и мучений, и. если да, то какою нашел он ее после многомесячного плена в руках сумасшедшего сластолюбца, и что, наконец, заставило Юрия испытать эту последнюю вспышку отчаянного страдания, — все это вопросы, на которые ответить некому.БУНТ АТОМОВ Роман
Глава I Профессор Флиднер в скверном настроении
Профессор Флиднер был сегодня в отвратительном настроении, и это портило для него все окружающее. Деревья на бульварах, подстриженные и выровненные в линейку, казались скучными и ненужными среди каменных стен. Унылая архитектура домов, то нелепо вычурная, то тяжеловесно скучная, раздражала до физической боли. Оглушающий грохот, вырывающийся то и дело из открытых на улицу люков метрополитена, как из отдушин подземного ада, заставлял его вздрагивать, будто новичка, впервые попавшего в Берлин. Уличная толпа, к которой он привык уже за эти годы, снова наседала своим суетливым, мещанским лицом. Сигара казалась особенно безвкусной, и хотелось швырнуть ее в физиономию молодым людям неопределенного вида, наполнявшим Фридрихштрассе. Положительно профессор был не в духе. Разумеется, всему были и причины. И даже не одна. За последнее время Флиднер вообще был раздражителен и недоволен всем окружающим. Совершалось что-то непонятное, не укладывающееся в его голове в тот стройный порядок, который раньше так ясно и отчетливо охватывал жизнь. Происходил какой- то сумбур, в котором немыслимо было (да, по правде говоря, и не хотелось) разбираться. В мир ворвалась крикливая болтовня, замелькали наполовину шутовские фигуры людей, наводнивших собою и улицу, и политику, и всю Германию. Профессор не был закоренелым консерватором, тем менее монархистом, но рухнувшая на его глазах общественная машина являлась в его глазах воплощением устойчивости и порядка, где каждый чувствовал себя, как камешек, вставленный на свое место в мозаичной картине. А теперь будто капризная рука перепутала цветные кусочки и разбросала их, как попало. Кое-где сохранились отдельные целые и знакомые обрывки, но в общем все безнадежно перемешалось. Раньше так приятно было ощущать себя в этой стройной машине. И росло чувство гордости в сознании себя сыном великого народа, назначенного судьбой быть вождем человечества, — в этом он был глубоко и твердо убежден. Но вот уже несколько лет, как камешки перепутаны. Народ задыхается (это ему твердят все), им овладели какие-то политические фантазеры, неизвестные личности, дикие идеи, на политической арене мечутся цирковые клоуны, а Германия… Германия вынуждена просить подачек, ею распоряжаются наглые победители, она низведена до положения какой-нибудь Польши. Флиднер остановился и в порыве ярости швырнул прочь недокуренную сигару. Его Германия, великая, могущественная, культурная родина, которую эти наглецы из Парижа покровительственно похлопывают по плечу, запрещают одно, разрешают другое, обещают награду за хорошее поведение. Черт возьми! — Он гневно взмахнул тростью и чуть не сбил шляпу с круглолицего молодого человека, с недоумением проводившего взглядом высокого седого старика, так бесцеремонно обращавшегося с прохожими. Но они жестоко ошибаются там, по ту сторону Рейна. Они рано торжествуют. Все, что есть здорового, истинно немецкого в этой несчастной стране, — все это ставит себе единственную цель, для которой люди живут и работают: исцелить кровоточащие раны, вдохнуть надежду, уверенность в своих силах в больной организм и разорвать, наконец, цепи, которыми опутана Германия со всех сторон… И тогда она опять станет первой среди народов мира и поведет их за собою. Но путь к этому лежит, конечно, только через победу. Надо смыть кровью позор поражения, надо наступить ногой на горло врагу и продиктовать ему свою волю. И это будет, черт возьми, будет, хотя бы им всем пришлось ходить в крови по колени. Сильный шум прервал нить размышлений Флиднера. По улице, наполняя ее лязгом железа, двигалась батарея тяжелых орудий, запряженных, вместо лошадей, повозками-тракторами. Машины прерывисто дышали и гремели, за ними горластые пушки, закрытые чехлами, катились с грохотом и шумом. Рядом шли люди в военной форме, и ехало несколько верховых. Все они казались пигмеями, маленькими, вертлявыми слугами железных чудовищ. Флиднер остановился. Знакомое зрелище наполнило его удовлетворением и гордостью. В нем он видел побеги того будущего, для которого он сам работал. Машина на службе человека. В этом был залог победы. Мобилизовать все области человеческого знания и таким образом вернуть выбитое из рук оружие, усилив его в сотни, в тысячи раз. Вот в чем было спасение, и именно этому посвятил он свою жизнь. Надо было овладеть новой силой, которая могла бы создать решительный и сокрушающий перевес тогда, когда пробьет назначенный историей час. Батарея, громыхая по мостовой, сопровождаемая толпою зевак, уже исчезла из виду, а Флиднер все еще стоял, глядя ей в след и не замечая толчков и ворчания прохожих, с разбегу налетавших на него в непрерывном уличном потоке. Наконец, сильный толчок, от которого шляпа его съехала на затылок, привел его в себя. По улице по-прежнему катилась лавина автомобилей, такси, автобусов, звенели трамваи, и двигались в неустанном беге людские волны. Флиднер направился к ресторану, в котором он часто проводил полчасика за бутылкой скверного вина и одурманивался сигарой, если хотелось отвлечься от беспокойных назойливых мыслей. И, вернувшись к событиям этого дня, Флиднер опять очутился во власти мучительного состояния духа. Да и было от чего. Прежде всего, сегодня утром, в рабочем кабинете, рядом с лабораторией, он обнаружил исчезновение некоторых документов, касавшихся его работы. Кража была совершена ночью с невероятной, почти непостижимой наглостью. Для сохранения в тайне своей работы он производил опыты в небольшом уединенном флигеле, в саду, сзади большого жилого корпуса. Окна, высоко расположенные над землей, были затянуты железной решеткой, и от них, как и от дверей, была устроена сеть проводов тревожной сигнализации, не говоря уже о ночных сторожах из старых унтер-офицеров. И все-таки провода оказались перерезанными, решетка распилена, вернее, у краев расплавлена водородным пламенем, а стекло в раме вырезано. В комнате царил беспорядок. Два ящика стола были взломаны, и содержимое их выброшено на пол. Воры, видимо, торопились, так как не успели тронуть остальных. Но что было хуже всего: оказался взломанным и несгораемый шкап, и один из его внутренних ящиков так же опустошен. Остальные носили следы попыток их вскрыть, но остались целы. Очевидно, что-то спугнуло ночных посетителей, и они поспешно бежали, не успев кончить дела. Это было видно и по оставленным ими следам. Оброненный у окна, запачканный грязью и сажей носовой платок, капли крови у шкапа, вероятно, от ссадин на руке, и обрывок вчерашней газеты. Никаких следов в саду обнаружить не удалось; но вызванный профессором полицейский комиссар и агент сыска одобрительно качали головами, осмотрели и уложили в портфель найденные предметы, а затем явились с собакой, которая, выпрыгнув из окна, потащила своих провожатых к каменной стенке, где оказался замаскированный кустами пролом, и дальше через двор в одну из людных улиц Берлина. Словом, все происходило так, как полагается в таких случаях, но, проводив агентов, уверявших его, что дело идет великолепно, Флиднер не почувствовал ничего, кроме раздражения. Просмотрев бумаги и документы, он обнаружил отсутствие некоторых из них, содержавших сводку, полученную им за последние месяцы прошлого года. Правда, это были черновые наброски, но в них заключались новые данные, которые он держал в секрете и которые послужили для него звеном в дальнейшей работе. Хуже всего было то,что во всей этой затее видна была направляющая рука знатока дела. Ему было отлично известно, что в Нанси производились работы в том же направлении. Маленький сухонький старичок с пронзительным взглядом глубоко сидящих глаз, седым хохолком на лбу и остренькой бородкой, портреты которого он с таким любопытством и злобой рассматривал в «Illustration», руководил всеми исследованиями и протягивал сюда свои жадные, цепкие пальцы. Они не встречались ни разу в жизни, но ненавидели друг друга со всей глубиной чувства, на какое каждый был способен. Они казались лошадьми, скачущими к одной цели. От того, кому первому из них удастся решить задачу, овладеть дремлющей вокруг в неизмеримых количествах энергией, взнуздать ее и направить по своей воле, зависел в огромной степени ход глухой борьбы между двумя народами, борьбы, не прекращавшейся в сущности ни на минуту, несмотря на «добрососедские отношения». Сегодня в этой скачке, в этой игре его противник взял верх. Уже этого было достаточно, чтобы на несколько дней отравить состояние духа профессора. Но это было не все. Выйдя из дому, по пути к Ашингеру, Флиднер встретил свою дочь оживленно беседующей с человеком, лицо которого показалось ему знакомым. Его сразу передернуло. Их взгляды, манера говорить, самый характер беседы, в пылу которой они не замечали не только его, но, видимо, и всего окружающего, — были, очевидно, слишком интимными, недопустимыми, наконец, просто неприличными. Разумеется, теперь молодежь живет по-своему. Эти проклятые годы изменили ее до неузнаваемости. Распущенность, отрицание всяких авторитетов, самоуверенность, насмешливый, дерзкий дух необузданного скептицизма… Знакомые черты вырождения, упадка, разнузданности… И Дагмара, эта едва двадцатилетняя девчонка, давно вызывала в нем чувство досады и вместе с тем недоумения. Он становился в тупик перед ее резкими репликами, обличавшими и острый, ищущий ум, и какую-то растерянность, разбросанность, и умышленно утрируемое стремление к самостоятельности. Он терялся, не умел ей возразить или говорил такие избитые, пошлые вещи, за которые самому становилось стыдно. А она только усмехалась или досадливо подергивала плечами. Ему вспомнилось избитое сравнение с курицей, высидевшей утят. Черт возьми! вот что значит, что девочка росла без матери. И все-таки он не думал, чтобы дочь рискнула так себя афишировать. Флиднер вспомнил, наконец, где он видел и этого высокого, несколько сутулого, с острыми чертами и живым взглядом серых глаз человека. Он был его слушатель, русский инженер, приехавший недавно из этой удивительной страны, где шла такая дикая, не сообразная ни с какими законами здравого смысла и логики жизнь. Будучи аспирантом, или как там у них это называется, одной из столичных высших школ, он приехал сюда для усовершенствования в специальности. Он слушал лекции у Флиднера, еще кое у кого из его коллег и работал в лаборатории профессора Ферстера. Был он молчаливым, сдержанным человеком, но сквозь маску внешней холодности чувствовалась упорная, напряженная работа, работа мозга, впитывающего, как губка, все окружающее. И вместе с тем в его глазах сверкал подозрительный огонек — не то насмешки, не то угрозы. В вопросах, которые он ставил, всегда сквозила какая-то затаенная мысль, будто он не столько ждал ответа, сколько сам в чем-то испытывал вопрошаемого. Флиднер особенно осторожно и внимательно отвечал на его вопросы, хотя они вовсе не отличались особенной глубиной или оригинальностью. Он не любил странного студента, как и всего, что исходило оттуда, из страны, где люди, вещи и идеи, казалось, задались целью стать на голову и доказать всему миру, что они могут стоять в такой удивительной позе так же твердо, как нормальные люди на двух ногах. Таков был человек, увлеченный интимным разговором, с которым профессор только что встретил Дагмару. Черт возьми! Этого только недоставало: чтобы под его собственный кров ворвалась дикая азиатчина. Флиднер вошел в ресторан. Было, как обычно, шумно и суетливо. Стоял стук ножей и вилок, гомон голосов, в открытые окна доносился грохот улицы, и в волнах сизого дыма чернели котелки, шляпы, сияли лысины, жестикулировали руки, торопливо двигались челюсти, и упитанные лица наклонялись друг к другу, выдавливая непрожеванные слова. Флиднер прошел через общий зал в один из тихих кабинетов к своему столику, где сидел уже высокого роста худой старик в просторном сером костюме. Его совершенно лысый череп с шишкой на темени открывал покатый лоб, под которым сидели глубоко запавшие, будто выцветшие глаза, усталые и неподвижные; подстриженные седые усы и маленькая собранная к середине бородка не скрывали углов рта, оттянутых книзу в унылой гримасе не то сдерживаемой боли, не то презрительной усмешки. Он слегка приподнялся навстречу Флиднеру и протянул ему руку с длинными, выхоленными пальцами. Оба молча уселись, и, пока Флиднер заказывал подошедшему метрдотелю обычные «варме вюрстхен» и бутылку рейнского, старик молча, опустив подбородок на охватившие набалдашник трости кисти рук, разглядывал своего соседа. — Вы, вероятно, нездоровы? — спросил он Флиднера, когда метрдотель ушел. Профессор снял шляпу, провел рукою по редким волосам, закурил новую сигару и только тогда собрался ответить: — Нездоров духом… — О, это теперь вроде насморка — повальная болезнь, — усмехнулся собеседник, — я думаю, что здорового духом человека можно было бы показывать в паноптикуме и сколотить на этом кругленький капиталец. — Может быть, вы и правы. Но бывают все же дни, когда чувствуешь себя совсем невменяемым, и хочется обломать свою трость о первую попавшуюся башку… — Ого!.. это уже скверно, дорогой Флиднер. Пожалейте, если не головы, то хоть вашу трость и расскажите в чем дело, если это не секрет. Флиднер выпустил облако сизого дыма и задумчиво смотрел на собеседника. Он часто встречался здесь с этим старым циником и скептиком, осевшим в Берлине, одним из обломков, рассыпавшихся по всему миру после русской революции. Горяинов был еще несколько лет тому назад одним из видных в России инженеров-предпринимателей. С его именем связывали многие смелые проекты, касающиеся железнодорожного строительства, особенно в Сибири. В нем видели будущего главу министерства в кабинете российской «оппозиции его величества». События перепутали карты, и он очутился в эмиграции с порядочным капиталом, вовремя спасенным в общем крушении. Теперь он отошел от всяких дел, вел жизнь независимого человека, немножко вивёра, немножко литератора (он выпустил в прошлом году томик своих воспоминаний, наделавший много шума в эмиграции); держался в стороне от всех партий, групп и группочек, одинаково надо всеми ими подсмеивался и, как говорили злые языки, натравливал их друг на друга ядовитыми статьями, появлявшимися в газетах враждовавших лагерей под разными подписями. Флиднер не понимал его, считал немного фразером и пустословом и все же любил беседовать с ним, находя какое-то болезненное удовольствие в циническом, как он считал, безразличии собеседника. Они часто встречались в этом тихом кабинете, рядом с гомонящим залом, и Флиднер рассказывал инженеру о многом, о чем не рискнул бы говорить с соотечественниками.
И теперь на вопрос Горяинова он задумался не от колебания, говорить или нет, а просто не оторвавшись еще окончательно от своих мыслей. — Секрет? нет, — ответил он наконец, — да и какой может быть секрет, раз он стал достоянием сыскной полиции? — О-о! даже до того дело дошло? — К сожалению. У меня украдены секретные документы, касающиеся моей работы. Понимаете ли, расплавлена решетка, вырезано стекло, проломана стена, — словом, грабеж по последнему слову техники. — Недурно! — в глазах собеседника зажглись веселые огоньки. — Конечно, друзья из-за Рейна? — Разумеется. Я больше чем уверен, что эта старая лисица из Нанси дергает ниточки. О, с каким удовольствием я бы ему перервал горло! — Не будьте так кровожадны, дорогой. Ведь если говорить откровенно, то это был только реванш, не правда ли? — То есть? — Мне вспоминается, что года полтора назад очень похожий случай был именно в Нанси… Несколько в иной обстановке, но с тем же результатом. Пропажа бумаг и даже порча кое-каких приборов и установок. — Ну, и? — Ну, и в «Temps» высказывалась довольно недвусмысленная догадка, что ниточки дергали… гм, гм… из Берлина. Флиднер усмехнулся. — Хотя бы и так. Война есть война. И, естественно, радуешься поражениям врага и досадуешь на свои неудачи. — А я думал, что мы теперь наслаждаемся миром, которым мудрые пастыри народов навсегда осчастливили своих пасомых. — Бросьте эту сказку. Ей не верят теперь и грудные ребята. — Отлично. Значит, так сказать, перманентная война. И когда же вы предвидите ее конец? — Только тогда, когда эти молодчики за Рейном будут поставлены на колени. — А как же с молодчиками за Ла-Маншем? — Придет и их очередь. Рано или поздно. История справедлива. — Утверждение рискованное… Но допустим, что так. Сказка начинается сначала? Фридрих Великий — вы наверху; Наполеон — вас подмяли; Седан — вы наверху; 18-й год — вас подмяли. В недалеком будущем, допустим, вы — наверху, потом молодчики из-за Рейна опять выкарабкиваются. Знаете, вроде цапли, которая стоит на болоте и качается от головы к хвосту: нос вытащит, хвост увязнет; хвост вытащит, нос увязнет, и так дальше до бесконечности. — Ну, нет, черт возьми; на этот раз будет конец. Мы их раздавим окончательно. — Не правда ли? Так что Версаль покажется детской игрушкой? Вот это я называю трезвым взглядом на вещи. А не казалось ли вам иногда, дорогой, что все это достаточно уныло и беспросветно, и не стоит тех бед и той крови, в которой захлебывается человечество? — Это — борьба за то, что для нас самое близкое и дорогое: борьба за родину и ее торжество. Неужели в вас нет совсем этого чувства и стремления? — У меня? Нет, многоуважаемый. Я излечился радикально. Я со стороны гляжу на эту игру, не аплодируя никому из актеров. Мне все равно.
Глава II Дух ненависти
Флиднер вставал рано. Это была давнишняя привычка к регулярному образу жизни, которая поддерживала в нем неизменное спокойствие, уравновешенность и медлительную размеренность в словах и поступках, которыми он так гордился. Она сохраняла мозг, нервы и мускулы, держала мысль всегда отчетливой и ясной. И доставляло непередаваемое наслаждение такое точно регулируемое, медленное чередование округленных, законченных идей и образов; точно работа тщательно собранной и хорошо смазанной машины надежной и солидной фирмы. Правда, за последнее время все чаще и чаще случались перебои. Это было очень грустно; но, разумеется, всякий механизм рано или поздно начинает изнашиваться. С неизбежным надо примириться. Но все же следовало протянуть возможно дольше, — во всяком случае, пока не будет выполнена взятая им на себя задача. А тогда — пусть приходит старость… Впрочем, на этом сейчас мысль останавливалась мало; именно сегодня она работала необычайно четко и плодотворно. Флиднер закрывал глаза, и ему казалось, что он чувствует физически, как по серым ниточкам нервов, от клеточки к клеточке ползут, цепляясь друг за друга, длинными прочными цепочками образы, выводы, широкие обобщения, складываясь в ясную, отчетливую картину. Необыкновенное наслаждение! И что важнее всего, — это не было самообманом, иллюзией возбужденной нервной системы, — нет: перед ним были реальные результаты, которые он мог ощупать руками. За последние три-четыре дня работа двинулась вперед гигантскими шагами, стало ясно, что еще немного, и будет найден ключ к загадке, которая откроет человечеству дверь в новую эпоху истории. Вопрос недель, месяцев — самое большее. Флиднер ощущал внутреннее трепетание, необычайную обостренность всех впечатлений, будто предчувствие назревающего открытия. Уже вчера, глядя в окуляр микроскопа на толкотню атомов на флуоресцирующем поле экрана, он чувствовал трепещущую здесь силу, готовую брызнуть в мир широким потоком по мановению его руки. Еще немного! Кроме того, вчера вечером принесли из типографии последнюю корректуру книги, издаваемой им сейчас, как подведение итогов многолетней работы. Груда листков с знакомым, приятно возбуждающим запахом лежала перед ним, и на заглавном листке ровными строчками мелкого шрифта бежали слова, как бы охватывавшие кратко историю его жизни: «доктора Конрада Флиднера, профессора и директора высшей школы в Берлине, тайного советника, доктора философии и точных наук»… И так же длинно и многозначительно было перечисление званий и титулов его старого учителя и профессора, памяти которого он посвящал свой труд. Флиднер перечитывал эти строчки, и ему казалось, что минувшие годы общей сумятицы, годы войны и революции, были только скверным сном, от которого он только что проснулся. По-прежнему он — тайный советник двора могущественного монарха, по-прежнему идет трезвая, размеренная, полная ясного смысла жизнь, в которой он твердо знает свое место и значение… Кажется, сейчас откроется дверь, и ему передадут извещение, что «его величество соизволит принять тайного советника Флиднера в 12 1/2 часов дня в среду в Потсдаме»… В дверь сильно постучали. Профессор, тайный советник и доктор точных наук, не успел еще вернуться к действительности от картин прошлого, как стук повторился еще громче и нетерпеливее. Флиднер только открыл рот, чтобы откликнуться, как дверь распахнулась настежь, и в комнату ворвалась в образе высокого молодого человека в военной форме, размахивавшего свежим газетным листом, как победным знаменем, сама вопиющая современность. — Здравствуй, отец, — закричал он еще с порога. — Я к тебе с добрыми вестями! Угадай-ка, в чем дело? Флиднер уже пришел в себя и смотрел на сына со спокойной улыбкой, в которой сквозила добродушная насмешка над юной горячностью, смешанная с любованием и гордостью. Молодежь ведь всегда экспансивна. Он вспомнил себя в день последних экзаменов в университете и тихо засмеялся. — Ну, ну, выкладывай свои новости. Что случилось? Москва провалилась сквозь землю? В Париже моровая язва? Картофель подешевел на полпфеннига? В чем дело? Человек в мундире поднес газету к самому носу отца и торжествующе указал пальцем на заголовок, напечатанный жирными буквами. Флиднер невольно привстал и, мертвенно побледнев, впился глазами в газетные буквы, в которых как будто он не мог уловить смысла. Но так, конечно, только казалось. Самое важное уже врезалось в мозг и проникло в сознание чувством нестерпимой, необузданной радости. Молодой человек торжествовал, наблюдая произведенное им впечатление, и оглушающе смеялся. — Недурно, что ты скажешь, а? Москва, к сожалению, на месте, но старая лисица в Нанси взлетела на воздух вверх тормашками со всеми потрохами! Потом вдруг стал серьезным и сказал медленно и торжественно: — Теперь, отец, победа твоя, а вместе с ней и Германии… Оба молчали. Флиднер жадно впивал короткие строки, принесшие первое известие о случившемся, и начинал его осознавать во всем значении. Да, в Нанси произошла катастрофа; страшный взрыв, уничтоживший всю лабораторию, где производились работы его соперника; погиб и он сам, и оба его ассистента, здание разрушено до основания и охвачено пожаром, — вся работа уничтожена безвозвратно и бесповоротно. На этот раз полная, решительная победа! Теперь никто не стоит у него на дороге, и скоро Германия получит из его рук небывалой еще силы оружие, которое сделает ее госпожой мира… — Да, Эйтель, — сказал он торжественно, — теперь осталось ждать недолго. Профессор еще раз перечитал газету, уселся глубоко в старое кресло, так уютно облегающее тело, и открыл ящик с сигарами. Курение всегда успокаивало его, а сейчас нервы были слишком возбуждены, и по серым ниточкам, вместо плавного медлительного потока, мчались каскады и брызги пены, и низвергались водопады. Это было нехорошо. Следовало ввести реку в берега. Он взял сигару и подвинул ящик сыну. — Кури. Оба сидели некоторое время молча, охваченные приятной истомой, погруженные в свои мысли, и наполняли комнату сизыми волнами дыма. Отуманенный мозг шевелился вяло и цеплялся за случайные внешние впечатления. Взгляд Флиднера остановился на военном мундире сына, к которому он все еще не мог привыкнуть в течение года. Эйтель служил в кавалерийском полку рейхсвера и сейчас, перед тем как быть допущенным в офицерский корпус, — отбывал стаж рядовым волонтером. — Ну, как твои дела? — спросил отец, кивая на галуны воротника молодого человека. Эйтель сразу оживился, и из облаков дыма зазвучал его возбужденный голос: — О, прекрасно, отец. Ты знаешь, вчера я был первый раз приглашен к завтраку в офицерское казино. Полковник и другие офицеры были очень любезны. Майор Гроссман намекнул, что, может быть, очень скоро я буду допущен в их общество. Подумай, как это было бы хорошо! Флиднер сидел, по-прежнему улыбаясь, и рассеянно слушал рассказ сына. Мысль перебросилась опять туда, в Нанси, где догорала лаборатория, и лежала обожженная груда костей, — все, что осталось от его соперника. «Его величество случай», — вспомнились профессору слова Фридриха Великого. — Случай врывается в точно рассчитанную работу, — и все идет прахом, и судьба всего народа ставится на карту… Странно! — Полковник отозвался с большим уважением о тебе, отец; он говорил, что Германия тебе многим обязана, — продолжал Эйтель, и голос его зазвучал гордостью. По серым ниточкам мозга все еще перекатывались не упорядоченные, отрывочные каскады мыслей. «Случай дает победу, случай несет поражение. В сущности и я, конечно, от него не застрахован. Однако: случай ли?» Но Эйтель уже заметил, что отец его не слушает, и в голосе его прорвались нотки раздражения. Флиднер усилием воли оторвался от овладевших им образов и вслушался в слова сына. — Я знаю, что твоя работа очень важная, что она даст Германии новую силу. И, разумеется, она должна остаться тайной. Но мне интересны не детали, тем более что они мне, конечно, и недоступны, а общая идея, основной принцип, о которых, я думаю, ты можешь рассказать. А то ведь я знаю об этом меньше, чем любой фендрик в нашем полку. Это была правда. Флиднер не любил делиться в семье идеями, касающимися его работы. Отчасти вследствие природной скрытности и склонности к одинокому размышлению, отчасти по какому-то смутному чувству, близкому к суеверному предчувствию. Да, впрочем, вопрос никогда и не ставился так прямо. Семья всегда немного побаивалась его. И вот перед ним сидит этот белокурый юноша и предъявляет какие-то права. Ну, разумеется, ведь он его сын, и старик во многом угадывал в нем самого себя, и это мирило с ним тайного советника Флиднера. Спокойная улыбка снова появилась на лице профессора: — Да, пожалуй, пора тебе кое-что узнать о моей работе. — Только ты не станешь мучить меня какими-нибудь сложными выводами или трехэтажными формулами, — с гримасой комического ужаса сказал Эйтель: — а будешь говорить простым человеческим языком? — Не беспокойся, я ведь знаю, что ты всегда воевал с формулами, — улыбнулся отец и задумался на несколько минут. — Ты представляешь себе, — заговорил он, наконец, медленно и неторопливо, как всегда, — что главная задача человека на земле — это борьба за энергию, которую он черпает из природы в самых разнообразных видах? Эйтель кивнул головой. — Каждое новое взрывчатое вещество, каждая вновь сконструированная машина, каждый открытый пласт каменного угля и нефти, — это новый, более удобный или целесообразный способ и возможность выкачивать из мира энергию, которая движет наши поезда и пароходы, работает на фабриках и заводах, носит по воздуху наши аэропланы, бросает за десятки и сотни километров наши снаряды… — Да, да, она нам нужна для наших орудий, — прервал Эйтель, — для наших броненосцев… — Которых у нас нет, — с горечью остановил его отец, качая головой. — Они будут, или иначе не стоит жить. — Они будут, — подтвердил как эхо, Флиднер, — и для этого мы работаем. А для них нужна энергия. Но каменный уголь на земле постепенно иссякает, нефть тоже; водопады и сила рек не смогут дать скоро той массы энергии, которую поглощает человек. А, главное, все эти виды энергии связаны с тяжелыми, громоздкими массами вещества и не везде имеются под рукой. Между тем, энергия рассыпана повсюду вокруг нас в неисчислимых количествах. — Где же? — с недоумением спросил молодой человек, оглядываясь, точно ожидая увидеть что-то в тишине угрюмой комнаты. — Везде, — ответил широким жестом профессор, — начиная воздухом, которым мы дышим, и кончая пылью под нашими ногами. Знаешь ли ты, что такое атомы? — Гм, во всяком случае что-то очень маленькое, — улыбнулся Эйтель. — Вот именно, — засмеялся Флиднер. — Это те мельчайшие кирпичики, из которых складываются все тела вселенной. И самое важное то, что эти частички вещества образованы из электрических зарядов, связанных с огромными количествами энергии. Они похожи в этом отношении на туго свернутые пружины или заряды взрывчатых веществ, которые таят в себе неисчерпаемые запасы силы. В сущности все, что мы видим под нами, над нами, вокруг нас, в нас самих, — это колоссальные склады энергии. Надо только найти ключ, который открыл бы эти сокровища, позволил бы ими распоряжаться по нашему усмотрению. — Это та самая энергия, которую дает радий, не правда ли? — прервал Эйтель. — Совершенно верно. Энергия радия того же происхождения; его атомы как бы взрываются сами собой и выделяют заключенную в них силу. Но, во-первых, это происходит чрезвычайно медленно, так что энергия получается ничтожными дозами, и ускорить процесс мы пока не в состоянии. А главное — запасы радия и родственных ему веществ на земле ничтожно малы. — Тогда в чем же дело? — В том, чтобы заставить распасться — взорваться атомы других веществ, имеющихся у нас под руками в любых количествах: кислорода, которым мы дышим, особенно азота, который с ним смешан, меди, железа, цинка, — словом, любого вещества. — И это возможно? — Разумеется. Многое уже было сделано в этом направлении до меня. Резерфорду удалось разрушить атомы азота; затем последовала очередь алюминия, хлора и некоторых других легких элементов. Из них удалось выбить их составные части — ядра атомов водорода, так называемые протоны… — Значит, задача уже решена? — Далеко нет. Во-первых, таким образом разрушалась лишь ничтожная часть атомов; а во-вторых, они распадались далеко не целиком, — от них отбивались только маленькие осколки, так что и энергия освобождалась в неизмеримо малом количестве. Практически эти попытки ничего не давали. Они являлись только первыми шагами. — А если бы удалось разрушить их до конца? — То получился бы результат, на первый взгляд просто невероятный; приблизительно можно подсчитать, что если бы суметь освободить сразу и использовать лишь часть энергии, заключающейся внутри атомов одного грамма радия, именно ту часть, которую он излучает постепенно во время самопроизвольного распада, то ее хватало бы на то, чтобы в течение суток производить работу паровоза, везущего поезд весом в 300–400 тонн. — Как ты сказал? Один грамм — и суточная работа паровоза? — Эйтель даже привстал от изумления. — Вот именно. И повторяю: это сравнительно небольшая доля всей энергии, сосредоточенной внутри атомов материи. Ты понимаешь, какие неисчислимые богатства мы попираем ногами, и что было бы, если бы мы сумели извлечь эти колоссальные дремлющие силы не только из радия, но и из любого вещества, из любого камня, валяющегося на улице, из пыли под нашими ногами, из обломков ржавого железа, из лужи грязной воды, — откуда хочешь! Мы затопили бы мир потоками энергии, за которую борется и из-за которой страдает человек, мы освободили бы его от необходимости нести проклятие труда, мы наводнили бы землю легкими и могучими машинами, которые сделали бы жизнь светлой и радостной, мы… — Мы напитали бы этой силой, прежде всего, наши орудия и наши броненосцы, наши аэропланы и наши танки, — прервал отца Эйтель, стоя во весь рост посреди комнаты, с блестящими глазами, угрожающе простирая руки со сжатыми кулаками куда- то в пространство, будто всей вселенной. — Конечно, это прежде всего, — снова эхом отозвался Флиднер, — иначе быть не может. Это не обойдется без потрясений, страшных катаклизмов, но теперь Германия выйдет из них победительницей, вооруженная силой, которую мы ей дадим, и… — И через кровь и трупы на аркане потащит человечество в землю обетованную? — раздался в дверях скорбный, вздрагивающий голос. Собеседники смолкли, и наступила тягостная пауза. Флиднер нахмурился и смотрел исподлобья на стоящую у порога девушку. Эйтель презрительно фыркнул и начал насвистывать какой-то пошленький мотивчик, затем уселся в кресло, закинув ногу за ногу, и демонстративно рассматривал в упор сестру далеко не дружелюбным взглядом. — Я, кажется, вам помешала, — сказала девушка, подходя к Флиднеру. — Доброго утра, отец. Я стучала к вам два раза, но вы так увлеклись разговором, что ничего не слышали. Здравствуй, Эйтель. Профессор холодно подставил щеку дочери для поцелуя и почувствовал, как его охватывает глухое раздражение и недоумение, которое он испытывал за последнее время очень часто в ее присутствии. Эйтель в ответ пробурчал что-то невнятное, так что трудно было понять, приветствие ли это или протест. — Вы говорили о войне, — это то, о чем я никогда не могу слушать равнодушно, — словно оправдываясь, заговорила девушка, невольно морщась от табачного дыма, щекотавшего горло. Собеседники по-прежнему молчали, и Эйтель громко отбивал пальцами на доске стола воинственный марш. Флиднеру было не по себе, но он решительно не знал, что сказать. Дагмара заметила газетный лист в руках отца, и это дало новую пищу ее мыслям. — Вот и здесь, — сказала она, — только и разговоров, что о войне. Война не прекращается ни на один день. То в Африке, то в Сирии, то в Китае, то где-то в Мексике или Чили, — но всегда где- нибудь на земном шаре люди рвут друг другу горло… И у нас в Европе только и слышишь: угроза войны с востока, угроза войны с юга, — можно подумать, что человечество с ума сошло! Неужели эта война не была последней? — А ты согласилась бы, чтобы она оказалась последней, и на Германии остались бы позор и тягость поражения? — спросил Флиднер, чувствуя, что он говорит не то, что нужно, и не так, как нужно. — Согласилась бы! — горячо воскликнула девушка. — В конце концов ведь когда-нибудь надо покончить с этим, да мы и сами во многом виноваты со своими мечтами о всемирном господстве… — От которых мы не отказываемся и теперь, — сухо возразил профессор, а Эйтель вскочил, весь дрожа от негодования. — Вот такие куриные души и привели нас к поражению! Мне противно слушать эти слезливые разглагольствования, — выкрикнул он злобно. — Ты начинаешь браниться, брат, а это самый слабый из аргументов, — насмешливо остановила его Дагмара. — Ну, разумеется, где же мне было научиться аргументации! Я не изучал логики одновременно с наукой нежной страсти в трогательном единении с каким-нибудь желторотым буршем! Девушка вспыхнула багровым румянцем, так что покраснели даже кончики ушей. — Тебе не стыдно говорить подобные пошлости? — вырвалось у нее. Флиднер примиряюще протянул руку к детям, чтобы остановить ссору, но его никто не слушал. — Я привык говорить то, что думаю, и мне кажется, что позорно немецкой девушке забыть хоть на минуту падение родины из-за какой-то гуманитарной чепухи… — Но именно об этом-то мы и думаем. Ведь этот дух ненависти, жажда мести меньше всего могут послужить тому, чтобы залечить ее раны! — возразила Дагмара. — Ненависти! Да, да, мы именно на ненависти будем строить свою жизнь; мы ни на минуту не забудем о ней, мы будем радоваться каждому поражению, каждому несчастию врага, — Эйтель скомкал в руках газету, — пока мы не станем ему ногой на горло, пока мы не услышим мольбы о пощаде… Дагмара растерянно молчала, подавленная силою этого дикого взрыва. Она перевела взгляд на отца, как бы ища его поддержки. Но Флиднер хмуро молчал и машинально сосал уже потухшую сигару. — Мы никогда не поймем друг друга, — упавшим голосом произнесла девушка, вдруг сгорбившись будто под тяжелой ношей. — Откровенно говоря, я не особенно об этом и хлопочу, — насмешливо отрезал Эйтель, снова усаживаясь в кресло и делая вид, что очень занят срезыванием кончика новой сигары. Дагмара молча направилась к двери и не успела еще притворить ее за собой, как услышала: — Синий чулок! Она еще больше вобрала голову в плечи, словно спасаясь от удара, и бросилась к себе. Там, зарывшись в подушки у себя на кровати, разразилась тяжелыми рыданиями, нисколько не облегчавшими душу. Подобные сцены за последнее время бывали в семье нередко, однако такой безобразной она еще не помнила. Дагмаре казалось, что ее самое душит дух ненависти и злобы, которым пропитаны были даже стены мрачного дома. В кабинете наступило неловкое молчание. Флиднер в сущности был согласен с сыном, но ему претила грубость его выходок. Разговор больше не возобновлялся, и после нескольких незначительных фраз Эйтель поднялся и сказал, что уходит в полк. Через полчаса вышел и Флиднер и отправился в институт, где у него в десять часов была назначена лекция. Вдоль Фридрихштрассе катился обычный для этого часа поток делового люда. Среди однообразного уличного шума острыми взвизгами вонзались пронзительные голоса газетчиков, вопивших на разные лады о катастрофе во Франции. — Взрыв лаборатории в Нанси! — Гибель французского ученого! — Пожар с человеческими жертвами! И эти крики почему-то раздражали Флиднера и гасили в душе остатки радости, испытанной при первом известии о случившемся. Ему хотелось заткнуть эти звонкие глотки и скомкать листы, расхватываемые на лету жадными руками. Казалось, что от людского потока поднимались душные испарения и витали над улицей, как невидимый туман, затрудняющий дыхание. «Дух ненависти», — вспомнились ему слова дочери. Лекция в институте прошла, как обычно, но после нее произошел маленький эпизод, оставивший в душе скверный осадок. К профессору подошла группа студентов с вопросом, какова, по его мнению, может быть причина случившейся в Нанси катастрофы. Было известно, что там производились опыты над разложением атомов, и было интересно узнать мнение такого авторитета в этом вопросе, как профессор Флиднер. Он попытался отделаться общей фразой: — По всей вероятности, просто неосторожность, несчастный случай… — и сейчас же вспомнилась давнишняя мысль: случайность ли? И будто отвечая на это, задал вопрос Дерюгин, глядя своими проницательными глазами в упор на Флиднера: — А, может быть, профессор, дело не в случае, а в неизбежном следствии самой работы? Стремясь освободить внутриатомную энергию, получили такой ее поток, который не смогли локализовать? Ведь, кажется, Астон говорил как-то, что подобные исследования — это работа с огнем на бочке с порохом? — Если бы даже было и так, — сухо ответил Флиднер, — то это все же следствие неосторожности. Такой результат предвидеть можно и при систематической, правильно поставленной работе, его не трудно ликвидировать. Дерюгин чуть заметно пожал плечами и отошел прочь. У Флиднера было много дела как в институте, так и у издателя, и в типографии, и возвращаться к этой мысли было некогда. Но, отодвинутая в глубину сознания, она шевелилась на дне души неясным, беспокойным предчувствием.Глава III Взбунтовавшаяся материя
На следующий день Флиднер вернулся домой, по обыкновению, перед самым обедом, и его беспокоила мысль о том, как он встретится после вчерашней сцены с дочерью. Они всегда обедали вместе; Эйтель, когда бывал свободен от службы, присоединялся к ним. Четвертым лицом была жившая у них в доме после смерти жены Флиднера его тетка, заплесневевшая старая дева, взявшая на себя заботы по ведению хозяйства племянника. Эти собрания за обедом сохраняли внешний признак семейного очага, хотя для всех участников являлись тягостной повинностью. Они проходили обычно в полном молчании, особенно когда не бывало Эйтеля; в его же присутствии обеды кончались неизбежной пикировкой между братом и сестрой. И все же Флиднер требовал неуклонного соблюдения внешнего декорума, боясь сознаться самому себе, что в сущности это была только инсценировка, а не семья, которая давно развалилась. Сегодня, придя к обычному часу в столовую, он застал в просторной темной комнате только тетку Марту, гремевшую ключами и выговаривавшую что-то прислуге. С началом боя часов, оба сели за стол, и обед начался в обоюдном молчании. Наконец, Флиднер не выдержал. Когда прислуга внесла новое блюдо, он спросил ее как бы вскользь: — Разве фрейлейн нет дома? Девушка растерянно взглянула на тетку Марту; старая дева заморгала безбровыми глазами и произнесла испуганным голосом: — Но, Конрад, мы думали, она тебя предупредила. Она вероятно, уехала куда-нибудь на несколько дней, так как взяла с собой чемодан и оделась по-дорожному. Рука Флиднера с куском дичи на вилке остановилась на полпути к месту назначения. — Что вы сказали, тетушка? — переспросил он, опуская вилку на стол, — уехала с чемоданом? Когда? — Фрейлейн оставила письмо для господина профессора, — почтительно прибавила горничная, остановив на Флиднере соболезнующий, как ему показалось, взгляд. Он сделал над собой усилие и сказал спокойно, обращаясь к тетке: — Да, теперь я вспомнил, — она собиралась уехать на несколько дней к подруге, куда-то в Целендорф. Вы говорите, она оставила письмо? — переспросил он девушку. — Я положила его на столе, в кабинете господина профессора, — наклонила голову горничная. Старая дева отвела взгляд от глаз племянника и ничего не сказала. Обед кончился в молчании. Флиднер, как всегда, отправился к себе в кабинет обычной размеренной походкой. И только когда захлопнулась за ним дверь, он сбросил маску равнодушия и порывисто подошел к столу, где среди педантического порядка белел на зеленом поле беленький квадратик письма. Дрожащими пальцами он вскрыл конверт и вынул коротенькую записку, написанную нервной рукой. «Я ухожу, отец. Прости, если огорчу тебя этим, но оставаться дольше в нашей семье я не в состоянии. Вчерашняя капля переполнила чашу. Я ухожу от духа ненависти и попытаюсь искать истину на других путях. Дагмара». Флиднер грузно опустился в кресло. В голове у него шумело; не хватало воздуха, — так что он разорвал ворот сорочки, чтобы освободить дыхание, ноги стали омерзительно мягкими и дряблыми. Такого оборота дела он не ожидал. Его дочь, маленькая Дагмара, которая так недавно еще карабкалась к нему на колени и путалась пальчиками в его седеющей гриве, теперь этой запиской оставляла ему целый обвинительный акт и уходила в жизнь на свой риск и страх, отказываясь иметь что-либо общее с родным домом. В чем же дело? Разве он не делал для нее всего, что следовало делать отцу, разве он не кормил, не одевал, не заботился о ней? Разве, преодолев свое отвращение к деятельности женщины вне семьи, он не разрешил ей поступить в высшую школу? Или именно за это он и несет теперь расплату? Он положительно растерялся; он чувствовал, что в жизнь врывается что-то дикое, совершенно непонятное, эта странная, новая улица с ее многоголосым ревом, фантастическими бреднями, дыханием миллионных толп. Это чувство растерянности господствовало надо всем остальным. Похоже было на то, будто из тихой заводи он попал внезапно в бурное течение, широким бурлящим потоком с грохотом и воем, среди пены, брызг и тумана несущее его на утлом челноке без весел и руля в неизвестную даль, — то ли в открытое море, то ли под кручу водопада. Раздался резкий стук в дверь. И опять, как раньше, не успел еще он откликнуться, как в комнату ворвался Эйтель, на этот раз не радостный и торжествующий, а с лицом, искаженным злобою и негодованием. — Ты знаешь, отец, это переходит всякие границы, — воскликнул он вместо приветствия, — ты знаешь, я встретил сейчас Дагмару. Она ехала по Унтер-ден-Линден, в авто, вдвоем с этим рыжим идиотом, которого ты мне как-то показывал… ну, как его, русский, с одной из таких дурацких фамилий, которые нельзя выговорить, не сломав языка. — Дерюгин? — переспросил Флиднер, почти беззвучно, сорвавшимся голосом. — Да, да… и он держал ее за талию, как какой-нибудь клерк, отправляющийся со своей возлюбленной на прогулку в Тиргартен. Черт возьми! Всему есть границы! Так себя компрометировать! Это немыслимо! Ее надо прибрать к рукам! Флиднер молча протянул сыну раскрытую на столе записку. Эйтель сначала, видимо, не понял, в чем дело. Он вопросительно взглянул на отца. — Что это значит? — спросил он недоуменно. — Она ушла, — тем же сдавленным голосом ответил тот. — С этим… с этой русской свиньей! Эйтель почти задохнулся от бешенства. Глаза у него стали круглыми, как у хищной птицы, кулаки сжались, голос перехватило. Флиднер сидел, как пришибленный. Итак, вместо трагедии — нелепый фарс, водевиль скверного тона. Он вспомнил встречу с дочерью и Дерюгиным несколько дней назад на улице. Как он не догадался? Значит, идеи идеями, — а финал — бегство с любовником из-под отцовского крова. Недурно, черт возьми! И в голове его вдруг мелькнула трусливая мысль: в хорошенькое положеньице он будет поставлен среди сослуживцев. Особенно эта остроносая, с птичьей физиономией фрау Шенбейн, — вот кто будет торжествовать! Дочь профессора Флиднера сбежала из дому с русским студентом и гуляет с ним под ручку по Унтер-ден-Линден! Это позор, посмешище! И, как бы отвечая на его мысли, Эйтель стукнул по столу кулаком: — Но что будет, если эта история дойдет до полковника и общества офицеров! Как я покажусь им на глаза! Разве мне удастся быть принятым в офицерский корпус?.. Ну, сестра, разодолжила ты нас, нечего сказать! — и Эйтель забегал по комнате, как пойманный зверь, и грозил в окно кулаками. — Послушай, отец, — остановился он, наконец, — ее надо вернуть, во что бы то ни стало… Флиднер пожал плечами. — Ты сам не знаешь, что говоришь. Она — совершеннолетняя и может жить, где хочет. — Черт бы побрал эту свободу! — и Эйтель, не простившись, выбежал вон, хлопнув дверью, так что задребезжали стекла в окнах. Флиднер хотел было его остановить: еще наделает глупостей сгоряча. Но его вдруг охватила внезапная апатия, ноги все еще были будто набиты ватой, тело казалось грузным и расслабленным, двинуть даже рукою стоило неимоверного труда. Да, это была старость… Он остался сидеть в кресле, пытаясь понемногу вернуть самообладание и собрать мысли. Опять они прыгали каскадами, так что нельзя было за ними уследить. Как-то невольно вспомнил он такое же беспорядочное, хаотическое движение атомов на флуоресцирующем поле экрана. И это привело, наконец, за собой новую мысль, четкую, ясную, за которую он поспешил уцепиться, как за якорь спасения. Конечно, в его личной жизни произошла крупная неприятность, которая может вызвать события, быть может, очень грустные. Но независимо от личных невзгод шла его работа, и он должен идти к намеченной цели, несмотря ни на что. Это было несомненно и очевидно, и было странно, как раньше не пришло ему в голову. Ведь как раз сегодня он должен был начать новый опыт, пустить в ход только что сконструированный аппарат, от которого он ждал решительных результатов. Понемногу привычный ряд выводов и соображений овладел окончательно его вниманием. Флиднер поднялся и, захватив с собой записки и схемы работ, направился в лабораторию. В саду было тихо; издали доносился ослабленный расстоянием уличный шум; вечерний сумрак скрадывал очертания. Среди темных силуэтов деревьев мерцали рядом две звезды, да вставало молчаливой тенью небольшое уединенное строение, из одного окна которого лился свет на расчищенные дорожки и кусты смородины у самой стены. Это работал его помощник в маленькой комнате, в левом углу здания. Флиднеру не хотелось встречаться сейчас с кем бы то ни было. Но на стук открываемого замка ассистент встретил профессора у дверей маленькой лаборатории с молчаливым поклоном. Флиднер протянул ему руку и сказал мягко: — А вы работаете до сих пор, Гинце? — и не ожидая ответа прибавил. — Вы не беспокойтесь, пожалуйста; я сейчас повожусь немного один. Мне хочется попробовать новую установку, а завтра мы займемся ею систематически. Гинце молча наклонил голову и ушел к себе; Флиднер повернул выключатель и закрыл за собою дверь. Вспыхнувший свет озарил давно знакомую картину, сразу охватившую душу тишиной и покоем рабочей атмосферы. По стенам тянулись провода строгими линиями; рубильники торчали между ними, как костяные пальцы; поблескивали стеклянные приборы на столах и полках; отсвечивали желтоватыми бликами металлические части аппаратуры; мраморная распределительная доска с ее цветными лампочками и приборами придавала комнате вид холодный и торжественный. На большом каменном столе, у задней стены, была собрана установка, с которой должна была начаться работа. Флиднер остановился около нее с чувством внутреннего удовлетворения и трепетного ожидания. Все, что здесь было, являлось отблеском и воплощением его мыслей. Этот же новый аппарат был всецело его детищем. К обычному способу расщепления атомов при помощи бомбардировки их ядрами гелия, вылетающими из радиоактивного вещества, он прибавил действие электрического поля огромного напряжения, чтобы ускорить движение этих микроскопических снарядов. А сегодня предполагал еще попробовать влияние некоторых примесей к разлагаемому азоту, рассеянных в трубке с газом в виде мельчайшей взвешенной пыли. Здесь каждый рычаг, каждый винтик и виток проволоки, каждый контакт проводников, — все до последней мелочи, — было тщательно продумано, взвешено и рассчитано. Теперь оставалось просмотреть схему всей установки и пустить ее в ход. Флиднер еще раз внимательно проверил аппаратуру, установил микроскопнад флуоресцирующим экраном и включил ток. Раздалось глубокое, грузное жужжание умформера[1]. Будто в окна из мрака ночи бился крыльями и гудел гигантский шмель, потрясая своими ударами бетонные стены. Профессор погасил свет и взглянул в микроскоп. Там была обычная картина: будто падающие звезды в тихую августовскую ночь, мерцали по темному полю слева направо, по направлению тока, вспышки мечущихся атомов; огненные линии, следы разрушающихся микрокосмов, бороздили поле зрения, местами перекрещиваясь между собою, сталкивались, гасли, снова вспыхивали, и странной была мертвая тишина, в которой рождались эти таинственные катастрофы. Тогда поворотом маленького крана Флиднер впустил в трубку аппарата облачко пыли, которая должна была служить возбудителем и усилителем процесса. И сразу же изменилась картина в темном поле прибора. В поток огненных линий ворвались целые вспышки лучей, разбрызгивающихся то там, то здесь во все стороны от одной точки, будто бесшумные взрывы миниатюрных снарядов. Так оно и было на самом деле. Отдельные осколки, отбиваемые этой удивительной бомбардировкой и чертившие свои огненные пути по экрану, заменились теперь взрывами целых атомов, разлетавшихся на десятки и сотни обломков. Рушились микроскопические миры, беззвучно грохотали катастрофы, один за другим брызгали потоки лучей. И по-прежнему стояла тишина, нарушаемая однообразным гудением умформера. Итак, задача была решена, — по крайней мере, ее главная половина, — ожидание не обмануло Флиднера. Хлопнула выходная дверь, — вероятно, Гинце кончил работу и ушел к себе. Этот звук напомнил профессору о внешнем мире, и вдруг воспоминания пережитого дня нахлынули на него огромной волной. Он с досадой откинулся в кресло и постарался отогнать докучные мысли, но это не удалось: они точно ждали тишины, чтобы среди нее овладеть его вниманием. Да, надо было сознаться, машина начинала работать из рук вон плохо. После нескольких бесплодных попыток сосредоточиться — Флиднер попробовал обмануть этих невидимых, назойливых врагов, отдавшись на время их власти. Хорошо, продумаем до конца всю историю, — решил он, — и тогда отбросим ее окончательно. Дагмара ушла к Дерюгину. Прекрасно. Каковы бы ни были ее побуждения, это сделано в такой форме, что она, очевидно, спешила сжечь за собой корабли. Следовательно, дело бесповоротно и непоправимо. Возврат от любовника под крышу его дома — вещь немыслимая. С этой стороны надо считать вопрос поконченным. Каких можно было ждать теперь последствий? Поскольку дело касалось Дагмары, — это уже было неважно и неинтересно. Она — отрезанный ломоть… Да, но все-таки в душе оставалась царапина, которая, пожалуй, не так скоро затянется. Ведь он все-таки любил ее по-своему. Вот что самое скверное. На него нахлынула вдруг волна нежности, выдавившая из глаз слезы. Ну вот, этого только недоставало, — расплакаться здесь, в холодной, торжественной тишине лаборатории. Ведь он же хотел продумать систематически до конца всю нелепую историю, а не проливать над ней слезы. Сколько прошло времени в этой сумятице мыслей, — Флиднер не мог отдать себе отчета. Вероятно, не больше четверти часа, — а может быть, и полчаса, — он не мог сказать наверное. — Нет, так работать нельзя, — сказал он, наконец, почему- то вслух и наклонился снова к микроскопу, перед тем, как остановить аппарат. То, что он увидел, было настолько неожиданно, что он даже вскрикнул. В поле зрения уже не было отдельных огненных линий или пучков лучей, — весь круг был охвачен бушующим огненным морем; дыбились и кружились пламенные вихри, уносясь слева направо по направлению тока. Все это было так необычно, что Флиднер инстинктивно схватился за рубильник и выключил электричество. Умформер умолк, и настала мертвая, пустая тишина, от которой сжалось сердце в зловещем предчувствии. Картина под микроскопом изменилась мало. Так же бушевало огненное море, только не было теперь течения его в одном направлении, и вихри мчались, сталкивались и разбегались во все стороны в полном хаосе. Он отодвинул прочь стерженек с радием в трубке газа, — все оставалось по-прежнему. Флиднер протянул руку к выключателю и осветил лабораторию. Это его успокоило. Стояли на своих местах аппараты, реторты, склянки, торчали со стен костяными пальцами рубильники, темнели окна ночною темью, и сияла яркая красноватая звезда, вероятно, Арктур. И тишина не казалась уже жуткой; все вокруг было простое, знакомое и понятное. Чего он, в сущности, испугался? Глупая игра расходившихся нервов… померещился взрыв в Нанси; показалось, что сейчас дикая сила разнесет вдребезги и лабораторию, и все, что вокруг. Какая глупость. Ну вот, он остановил работу аппарата, и все благополучно. Правда, процесс, видимо, не остановился; ну, так что же? это доказывает, что он добился своего, что атомы разрушаются целиком, или почти целиком, — это пока сказать трудно, и, следовательно, выделяется скрытая в них энергия; ее он и видел в образе этих буйных огненных вихрей над флуоресцирующим экраном. Он взглянул на аппарат сбоку. Под объективом микроскопа сияла видная простым глазом яркая точка. Нагнувшись ближе, он с удивлением убедился, что стеклянная трубка проплавилась, и что бледно-синеватая огненная звездочка вздрагивала снаружи у медной оправы. Неприятный холодок снова побежал по спине.
Он инстинктивно протянул руку к блестевшей точке, но тотчас ее отдернул, — пальцы обожгло, как от прикосновения к раскаленному железу. Он смотрел растерянно на странное явление, не отдавая еще себе отчета в том, что случилось. И вдруг ему показалось, что сверкающая точка растет на его глазах, что это уже не точка, а шарик величиной с горошину. Он протер глаза, взглянул и почувствовал, что волосы на голове у него зашевелились, а лоб покрылся холодной испариной. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, он схватил стакан с водой, стоявший рядом на столе, и выплеснул его содержимое под микроскоп. Раскаленная трубка с треском лопнула и осколки стекла посыпались на пол, облачко пара поднялось с шипением из- под огненного шарика, а сам он, слегка качнувшись, отодвинулся вправо и остановился над мраморным столом, чуть вздрагивая, будто пульсировала в нем еле сдерживаемая сила. И теперь было совершенно очевидно, что он растет с каждой минутой — медленно, но неизменно. Флиднер вдруг почувствовал, что у него прыгает нижняя челюсть, и зубы стучат друг о друга. Он схватился руками за голову и стоял неподвижно с помертвевшим лицом и дико вытаращенными глазами. Мысль работала лихорадочно быстро, и каждый прыжок ее сотрясал все тело тяжелым ударом. Это — катастрофа, катастрофа, какой еще не бывало на земле, как ни дико было об этом думать. Вызванный им распад атомов в крупинке газа оказался настолько энергичным, их осколки с такой быстротой и силой разбрасывались во все стороны, что, наталкиваясь на соседние молекулы, разбивали их в свою очередь, и теперь процесс распространялся неудержимо от частицы к частице, освобождая скрытые в них силы и превращая их в свет, тепло и электрические излучения. Это была искра, из которой должен был вырасти мировой пожар. И уже ничто не было в состоянии остановить начавшееся разрушение. Ничто! Разумеется, ведь мы совершенно не умеем влиять на процессы внутри этих, в сущности почти неизвестных нам микрокосмов. Ничто! И мир еще ничего не знает, не предчувствует, что здесь, в тиши лаборатории, повеяло первым дуновением бури, которая должна разнести в космическую пыль земной шар. Никто ничего не знает. Спят, ходят, едят, работают, смеются, заняты миллионом своих маленьких делишек, а между тем в мир идут смерть и разрушение. И это сделал он, Конрад Флиднер… Маленький, седенький старичок, тот самый, у которого сбежала дочь… Он вдруг начинает смеяться все громче и громче; зубы стучат, нижняя челюсть прыгает, как на веревочке, — потом он вдруг бросается к двери и, распахнув ее, бежит без шляпы, с развевающимися волосами, по темным дорожкам сада, наталкиваясь на деревья, падает, снова подымается и опять бежит к дому, не переставая смеяться.
Глава IV Первая жертва
В маленькой комнате в четвертом этаже мрачного серого дома на Лейбницштрассе было сумрачно и почти темно, хотя давно уже прогудел автомобиль, развозящий молоко, и схлынула толпа рабочих и мелкого люда, рано начинающего день. Моросил мелкий дождь; окно комнаты глядело на унылую нештукатуренную стену соседнего здания. Было тихо, только в смежной комнате уныло и надсадно переругивались два голоса, точно тявкали друг на друга две охрипшие, безголосые собачонки. Дерюгин лежал, вытянув ноги и подложив руки под голову, на клеенчатой кушетке, скрипевшей и стонавшей при каждом его движении. Он ожесточенно курил папиросу за папиросой, так что рядом на столике выросла уже целая гора окурков, и кучки пепла сыпались с этой пирамидки на вязаную скатерку, имевшую претензию придать уют угрюмой комнатке. Дерюгин лежал, курил и думал. Эти несколько последних дней выбили его из колеи привычной рабочей, жесткими углами разлинованной жизни. Перед ним встали задачи, требовавшие разрешения, и хуже всего было то, что они казались настолько неясны и запутаны, что, пожалуй, вовсе и не являлись задачами. Для его прямолинейного ума это было сущей пыткой. Здесь нельзя было перечислить ясно все за и против и ответить: да или нет, нельзя было измерить, взвесить и рассчитать. Он наткнулся на уравнение со многими неизвестными. Когда Дерюгин приехал сюда из Москвы и с головой окунулся в работу — все представлялось ясно и просто. Надо было прочесть книги, которых не оказалось дома, надо было произвести ряд исследований, невыполнимых там по тем или иным причинам, предстояло прослушать ряд лекций, ознакомиться с постановкой некоторых производств, — дела было уйма, но дело было свое, привычное и интересное. С тех же пор, как он встретил в одной из аудиторий эту удивительную девушку с пепельными волосами и печальными серыми глазами, перед ним встало запутанное уравнение, к которому неизвестно было, как подступиться. На него не налетала молниеносная любовь, испепеляющая и всеохватывающая, — Дерюгин даже не мог сказать с уверенностью, была ли это вообще любовь. Но было удивительным наслаждением будить в тревожно ищущей душе еще нетронутые струны, намечать новые пути, протягивать товарищески руку, чтобы помочь выбраться из сети старых условностей, из затхлой атмосферы, пропитанной унылыми, заплесневевшими традициями, духом эгоистичной и национальной ограниченности. Однако с некоторого времени серые глаза заслонили собою радость преодоления ветоши идей и стали чем-то самодовлеющим, чем-то таким, от чего оторваться было бы, пожалуй, довольно трудно. И в глубине этих глаз Дерюгин читал кое-что, заставлявшее сердце сжиматься в странной истоме. Была ли это любовь? Отсюда начиналась уже путаница и неизвестность. На днях Дагмара заявила, что она решила окончательно порвать с домом, где она чувствовала себя чужой и ненужной, где мелочная неустанная борьба за право по-своему думать, по-своему устраивать жизнь — делала жизнь непереносимой. Это было ясно. Но затем опять следовало уравнение со многими неизвестными. Что же будет дальше? Несомненно, на нем лежала большая доля нравственной ответственности за этот шаг, а значит, и за все его последствия… И самое главное было даже не это, а вот именно вопрос: как дальше? Прежде всего ей попросту нечем будет жить; жалкие гроши, которые у нее были, растают в несколько недель. Найти работу в переполненном безработными Берлине… Гм! Гм! И помощи оказать он был не в состоянии, — просто потому, что Дагмара ее не приняла бы. Опять эти дурацкие предрассудки! Ведь они были чужими друг другу. Вчера она из дому не посмела даже приехать прямо к нему, а оставила свой чемодан у какой-то подруги и, только встретив его в институте, рассказала, что бросила дом, и попросила помочь устроиться. Это было так просто, по-товарищески. Они вместе мыкались по городу в поисках сносной и в то же время недорогой комнаты и так ничего и не нашли, так что временно пришлось взять маленький, хотя и довольно уютный номер в меблированных комнатах в Шенеберге. Комнаты попадались, но добродетельные хозяйки, поджав губы, подозрительно рассматривали молодых людей и, узнав, что комната требовалась для одной фрейлейн, пожимали плечами и заявляли, что она уже сдана. Часы в соседней комнате начали бить. Дерюгин считал машинально удары: десять. Это как будто послужило сигналом: перебранка за стеной прекратилась; было слышно, как еще по разу тявкнули оба голоса, и затем наступила тишина. Бой часов напомнил Дерюгину, что он пропустил важную и интересную лекцию в институте, — этого с ним еще ни разу не бывало. Он поднялся с кушетки, но не успел еще выйти из комнаты, как в коридоре послышался знакомый голос, называвший его фамилию. От неожиданности Дерюгин несколько растерялся; поспешно бросившись к двери и распахнув ее, он на пороге столкнулся с Дагмарой. — Это вы? — невольно вырвалось у Дерюгина. — Какой счастливый ветер занес вас сюда? — и сейчас же оборвался, заметив по лицу посетительницы, что ветер далеко не был счастливым. Девушка была бледна и еле держалась на ногах. Дерюгин не успел еще задать ей вопроса, который так и замер у него на губах, как она протянула ему газету, и сама почти упала на стул, стоявший у двери. Из тьмы коридора выглядывали уже две любопытные физиономии. У одной даже кулак был сложен в трубочку около уха, чтобы не проронить ни слова. Дерюгин с сердцем хлопнул дверью и схватил измятый печатный лист; взгляд его сразу же упал на подзаголовок, напечатанный крупным шрифтом: «Самоубийство профессора Флиднера». Его даже качнуло, как от удара. Лихорадочным движением развернув газету, он наткнулся на коротенькое сообщение о том, что сегодня в три часа ночи у себя в кабинете выстрелом из револьвера покончил с собой директор института, ординарный профессор, тайный советник Конрад Флиднер. Записка, найденная на столе, давала основание предполагать, что причиной самоубийства явился припадок острого душевного расстройства. Дерюгин стоял, растерянно держа перед девушкой, беспомощно уронившей руки на колени и устремившей неподвижный взгляд куда-то в угол стены, газетный лист. Он читал по искаженному лицу ее душевную муку и не решался заговорить, боясь причинить ей лишнюю боль. Дерюгин опустился на стул рядом с ней, взял ее руку и тихонько гладил, чувствуя, как пронизывает его острая жалость. — Послушайте, фрейлейн Дагмара, — наконец заговорил он, — я знаю, о чем вы думаете. Но ведь это не то, совсем не то; нельзя допустить и мысли о какой-либо связи между этим несчастием и… вашим вчерашним шагом. Девушка слабо всхлипнула и, спрятав лицо в ладонях вздрагивающих рук, зарыдала. Дерюгин, тихо проводя рукою по склоненной перед ним голове, по этим пепельным волосам, от запаха которых слегка кружилась голова, продолжал: — Фрейлейн Дагмара, — будьте же благоразумны, вспомните: ваши отношения с отцом были не настолько дружественны, чтобы это могло его поразить так глубоко. — На меня это свалилось, как удар грома, — заговорила, наконец девушка, подняв голову, — я растерялась, я не знаю, что думать… — Я вас понимаю, — ответил Дерюгин, — вас поразило это совпадение по времени, но ведь это же иллюзия, какая-то нелепая случайность. Согласитесь, что ваш уход не мог быть причиной такого несчастия. Ее надо искать в чем-то другом. Если хотите, мы поедем туда и… — Я боюсь, — прервала Дагмара, сжимая его руку, словно ища в ней спасения и поддержки, — но я знаю: мне надо его увидеть, во что бы то ни стало… И потом эта записка… О чем он писал? О чем он думал в последние минуты? Девушка тихо плакала и казалась такой беспомощной, что чувство жалости заслонило для Дерюгина все остальное. Он ласково уговаривал ее еще несколько времени, пока она, наконец, несколько успокоилась. — Благодарю вас, — сказала она, поднимаясь, — может быть, вы и правы. Но я должна узнать. Если можно, поедем туда сейчас же. Через четверть часа молодые люди звонили у подъезда знакомого дома на Доротеенштрассе. Им открыла горничная с суровым лицом, сразу говорившим о том, что в доме стряслась беда. — Фрейлейн, — сказала она, почтительно наклонив голову и вопросительно взглянув на Дерюгина, — господин профессор… — Я знаю, — прервала Дагмара, — где фрейлейн Марта? — Фрейлейн чувствует себя нездоровой; она у себя в комнате. — Я пройду к ней. Проводите господина… Дерюгина в кабинет отца, — он там подождет меня. Горничная подняла брови, но не сказала ни слова и пошла вперед, шурша накрахмаленным платьем. Дагмара на момент остановилась, как будто вдруг решимость ее исчезла, но потом, бросив быстрый взгляд на Дерюгина, пошла во внутренние комнаты. Молодой инженер последовал за прислугой. Они миновали несколько комнат, на которые Дерюгин не обратил внимания. Подойдя к небольшой одностворчатой двери в глубине просторной комнаты, не то гостиной, не то приемной, девушка отворила ее и остановилась, пропуская вперед посетителя. Дерюгин вошел и сразу бросился в кресло подле большого письменного стола. Он был рад остаться на несколько минут один, чтобы попытаться осмыслить происшедшее. Невольно он обежал глазами комнату: ведь здесь, быть может, сидя в этом кресле, старый профессор сегодня ночью кончил свои счеты с жизнью. Дерюгин невольно вздрогнул. Комната была обставлена тяжеловесно, несколько угрюмо, но просто и деловито. Стояли темные шкапы с книгами, два бронзовых бюста по углам: Гельмгольц и Гете; несколько тяжелых резных кресел; на полу лежал большой ковер, скрадывавший шаги. Против стола на нем виднелось большое влажное пятно, — вероятно, след замытых пятен крови. Кроме этого, ничто не напоминало о происшедшей здесь драме. Чинный, угрюмый порядок царил во всем, и каждая вещь, казалось, пригвождена была к своему месту. Так прошло, вероятно, минут десять, пока взгляд Дерюгина не упал на клочок бумажки, белевшей на темной зелени стола. Он так нарушал общую симметрию и порядок, что рука невольно потянулась к нему, и глаза машинально побежали по строчкам, неровным, прыгающим почерком, пересекавшим квадратик из угла в угол. «Мировой пожар… Неизбежная, неумолимая смерть, всеобщее разрушение… Астон оказался прав. Это сделал я, седенький маленький старичок, у которого…» — дальше несколько слов было тщательно зачеркнуто, и в конце стояло: «он растет с каждой минутой… немыслимо, невероятно… я больше не могу…». Очевидно это и была та записка, на которую намекала газета. Вот о чем думал здесь старик, склонившись над этим столом сегодня ночью… «Это сделал я»… — и вдруг тревожная, но смутная еще мысль пронизала мозг. Стало вдруг жутко, будто предсмертный ужас, воплощенный в этих строчках, упал на него своей тенью. — «Это сделал я»… Послышались шаги, и в оставшуюся открытою дверь быстро вошла Дагмара. Глаза ее были полны слез, дышала она тяжело и порывисто, еле сдерживая рыдания. — Я видела его… — сказала она дрогнувшим голосом, не решаясь подойти к Дерюгину, будто после случившегося здесь, в стенах дома, где лежал худенький старичок с восковым лицом, к холодному лбу которого она только что прикладывалась, — такая близость была бы предосудительна. Дерюгин, однако, ничего не заметил. Протягивая девушке записку, он сказал тихо: — Я боюсь, что случилось что-то ужасное… Дагмара почти вырвала из его рук клочок, бумажки, угадывая, что это такое, но сейчас же подняла на молодого человека недоуменные глаза. — Я ничего не понимаю… — Возможно, что я ошибаюсь, но… можете ли вы сказать, что делал профессор вчера вечером… перед этим? — Тетка Марта говорила, что до поздней ночи он работал у себя в лаборатории… — Я так и думал. Ради бога, идем туда скорее!.. Сию минуту! — Но… в чем дело? — Я сам еще не знаю, но ради всего святого идем скорее! Ведь это, кажется, тут же, близко? — Да, в саду, — отвечала девушка, чувствуя, что заражается непонятной ей тревогой. — Идем, идем, — твердил Дерюгин, и они почти побежали по анфиладе комнат, провожаемые изумленным взглядом прислуги. По саду Дерюгин уже мчался, не ожидая отстававшей Дагмары, угадывая в темной массе, видневшейся между деревьями, здание лаборатории. У самых дверей он столкнулся с Гинце. Ассистент не сразу узнал русского инженера в этом запыхавшемся, взбудораженном человеке, вихрем налетевшем на него и чуть не опрокинувшем его с ног. — Что с вами, молодой человек? — спросил он недоброжелательно. — Послушайте, Гинце, — заговорил, задыхаясь, странный посетитель, — надо сию минуту осмотреть лабораторию профессора, нельзя терять ни секунды времени. — Позвольте, — прервал его ассистент, — по какому праву… — Дело не в праве! Понимаете ли, — там что-то случилось, что-то такое, что может вызвать неслыханную катастрофу! Может быть, сейчас еще не поздно ее предотвратить, но нельзя буквально терять ни одной минуты… — Гинце слушал с возраставшим удивлением эту горячую тираду, не зная, на что решиться, когда к собеседникам подошла Дагмара. Молодой ассистент поспешил к ней навстречу. — Доброе утро, фрейлейн. Я в отчаянии, что встречаю вас в такой ужасный день. Это невознаградимая потеря для всех нас, и мы… Дерюгин не дал ему кончить. — Фрейлейн Дагмара, уговорите господина Гинце открыть лабораторию! Мы теряем время на разговоры, а между тем каждая минута может принести непоправимые последствия. На вопросительный взгляд ассистента Дагмара умоляюще протянула руку. — Если можно, господин Гинце. Я боюсь, что там действительно что-то произошло. Гинце пожал плечами. — В сущности, я не имею на это права. Но если у вас есть основания предполагать несчастье… К сожалению, я оставил дома свой ключ. Придется обратиться к сторожу, чтобы попасть туда. Вот он идет к нам. От сторожки в глубине сада, слегка прихрамывая, приближался высокий худой старик с пышными седыми усами, с багровым шрамом вдоль правой щеки. На нем был костюм военного покроя, в руках толстая суковатая палка, на которую он опирался. Он остановился в нескольких шагах от собеседников, приложив пальцы правой руки к козырьку в знак приветствия. — Здравствуйте, Шпильман, — кивнул ему головой Гинце, — лаборатория заперта? — Да, сударь, я позволил себе ее закрыть ночью, так как господин профессор забыл это сделать, по всей вероятности, когда уходил к себе. Прикажете открыть сейчас? — Да, пожалуйста, Шпильман, и войдите с нами, — вы мне поможете переставить шкаф в весовой комнате. Щелкнул замок, и все четверо вошли в дверь, предупредительно открытую старым солдатом. Гинце шел впереди. На пороге большой комнаты он вдруг остановился и невольно прикрыл глаза рукой. Дагмара испуганно вскрикнула, а Дерюгин стоял неподвижно, весь бледный, рассматривая представившуюся их глазам картину. На мраморном столе, где была собрана новая установка, сиял нестерпимым блеском пламенный шар, величиной с человеческую голову. Он вздрагивал и как будто пульсировал. На ослепительном фоне его пробегали синеватые жилки, и вся комната была наполнена голубоватым туманом. В том месте, где шар касался мрамора стола, слышалось легкое шипение и потрескивание. В комнате было жарко и душно, как бывает перед сильной грозой, чувствовался странный острый запах… Посетители стояли, как изваяния, не смея тронуться с места и не отводя взглядов от страшного явления, хотя глазам становилось нестерпимо больно. Первым нарушил молчание сторож, вошедший в комнату с железным прутом, обмотанным на конце тряпкой, которой он смахивал пыль. — Господин Гинце, — воскликнул он, с удивлением глядя на неподвижно стоявших посетителей, — ведь там горит что-то!.. И не успел никто из присутствовавших его остановить, как Шпильман бросился к столу и ткнул прутом в огненный шар. Раздался сильный, сухой треск.
Ослепительная искра, наподобие короткой молнии, вырвалась из пламени к концу палки, и старик упал навзничь, раскинув руки и глухо стукнувшись головою о пол. Тело его передернулось судорогой и осталось неподвижным. Все это произошло настолько быстро, что никто из посетителей не успел пошевелиться. Когда Гинце бросился к старику и нагнулся, пытаясь его поднять, тот уже не дышал… — Убит, — растерянно сказал ассистент, невольно отступая назад. Дагмара стояла, опершись на стену, будто пригвожденная к ней, с широко раскрытыми глазами. Дерюгин повторял машинально одну и ту же фразу: — Я это знал, я это знал…
Глава V Шар на свободе
Прошло по меньшей мере минут пять, пока все трое сколько-нибудь пришли в себя. Мужчины подняли тело старика и перенесли его в ассистентскую; здесь они долго старались привести его в чувство, но все оказалось бесполезным: сторож был мертв. — Что же это такое? — вырвалось у Дагмары болезненным стоном, когда стала очевидной бесплодность этих попыток, и ее спутники отошли растерянно от трупа. — Это? — переспросил Дерюгин, и звуки его голоса казались ударами грома в наступившей тишине. — Это — бунт атомов, возмутившихся против разбудившего их человека. — Вы думаете, что здесь… — неуверенно начал Гинце. — Я думаю, — жестко прервал его собеседник, — что здесь началось разрушение материи, которое, вероятно, уж ничем остановить нельзя. Вам известно, чем был занят вчера вечером профессор? — Да. Он хотел испытать новую установку, имевшую целью ускорить и усилить энергию распада атомов азота… — Ну, вот. И перед вами результаты этого опыта и первая жертва в ряду тех тысяч и миллионов, которые за нею последуют. — Но почему же это должно грозить такой катастрофой? Если даже и случилось то, что вы предполагаете, то процесс не выйдет за пределы лаборатории и здесь же будет ликвидирован. — Ликвидирован? Это говорите вы, ассистент профессора Флиднера? Разве мы не бессильны перед этой стихией? Разве мы можем хоть чем-нибудь повлиять на то, что совершается внутри этих проклятых атомов? Разве мы в силах остановить рост этого огненного вихря? — Рост? — новая мысль заставила Гинце броситься опрометью назад, в главную комнату лаборатории. — Именно рост, — сказал Дерюгин, следуя за ним, — это то, что толкнуло на смерть профессора, то, о чем он говорит в своей предсмертной записке, и что таит в себе перспективу непоправимой катастрофы. Действительно, на глаз было заметно, что клубящийся пламенем шар, все еще вздрагивавший над мраморным столом, сантиметра на полтора-два увеличился в поперечнике за полчаса, проведенные ими здесь. Оба вернулись в ассистентскую, где Дагмара сидела на стуле с бессильно опущенными руками, с устремленным на труп старика взглядом. Увидев вошедших мужчин, она будто очнулась от забытья и решительно встала. — Послушайте, Александр, — сказала она, подходя к Дерюгину, — значит, это грозит чем-то серьезным? — Это грозит мировым пожаром, Дагмара. — Я не совсем это понимаю. Там происходит разрушение материи? — Да, распадаются атомы, и освобождающаяся энергия возбуждает процесс в новых слоях воздуха, так что постепенно в круг разрушения втягивается все больше и больше вещества. — Однако процесс распространяется довольно медленно, — нерешительно сказал Гинце. — Разве это имеет какое-либо значение? Важно то, что мы ничем не можем его остановить… И потом, можете ли вы ручаться, что он не станет прогрессировать, что, когда количество выделившейся энергии станет достаточным, он не пойдет гигантскими шагами? — И тогда? — спросила Дагмара. — И тогда конец. Мировой пожар! Всеобщая гибель! Земля превратится в космическую пыль, в огромный раскаленный шар, изрыгающий пламя среди мировых пространств, во внезапно вспыхнувшую новую звезду! — Но ведь в таком случае надо немедленно, сию же минуту, что-то делать, бежать, звать на помощь! — вскрикнула Дагмара. — Помощь… — мрачно сказал Гинце. — Боюсь, что всякая помощь теперь бесполезна, если прав господин Дерюгин. — Но неужели же мы будем смотреть сложа руки, как растет этот ужасный шар, и ничего не предпримем? — Фрейлейн Флиднер права. Надо бороться. Правда, сейчас у нас в руках нет никакого оружия, но, быть может, завтра, через день, через месяц мы его получим. Мы обязаны действовать, — решительно заявил Дерюгин. И трое людей начали совещаться о том, что следовало делать. Впрочем, совещание не было продолжительным. Дагмара вызвалась сообщить о случившемся городским властям через члена городской управы, знакомого с семьей Флиднер. Гинце поручено было известить профессоров института. Дерюгин, не имевший в городе знакомств и связей, должен был остаться на месте, чтобы предупредить возможные случайности и следить за ходом событий. Однако разыскать советника фон Мейдена было не так просто. Он был деловой человек и, помимо работы в городском самоуправлении, был занят своими личными делами и предприятиями. Было около часа дня, когда Дагмара, наконец, застала его в здании ратуши. Она попросила доложить господину фон Мейдену, что должна видеть его по неотложному, чрезвычайно важному делу. Вероятно, советник был очень удивлен неожиданным визитом, так как при входе девушки в кабинет его высоко поднятые брови не заняли еще своего нормального положения. Он приподнял с кресла свое круглое, колышущееся брюшко и, состроив приличествующую случаю мину, сделал два шага навстречу посетительнице. — О, фрейлейн, я слышал о вашем несчастий, — начал было он приготовленную фразу, — мне, как другу вашего семейства… Но Дагмара, к крайнему его изумлению, не дала ему договорить. — Простите, советник, — я вас перебиваю, но… дело в том, что случилось ужасное несчастие. — Да, да, я имел уже честь сказать вам, что узнал о случившемся и отдаю дань… — Я не об этом, — вторично прервала его девушка, — и брови советника поднялись. — Я хотела вам сказать, что в лаборатории отца… произошел неудачный опыт, и это грозит невероятным бедствием. Советник вдруг стал необычайно серьезен и, почти официальным, хотя и любезным тоном предложив посетительнице сесть, сам грузно опустился в кресло и приготовился слушать. — Несчастие, фрейлейн? Пожар, быть может? — Нет, советник. Видите ли, — девушка замялась, не зная, как изложить странное событие: — отец работал над разложением атомов азота… — Да? — недоуменно сказал фон Мейден, и еще раз взгромоздившиеся кверху брови показали ясно, что обладатель их не видит связи между этими учеными трудами над какими-то там атомами и им, тайным советником, финансистом и членом городского самоуправления. — Ну вот, перед своей кончиной ему удалось добиться поразительного результата, — продолжала девушка: — но к несчастью, процесс пошел энергичнее, чем ожидалось, и теперь распространяется все дальше и дальше… — Простите, фрейлейн, я не совсем вас понимаю. Вы говорите о несчастий? — Больше того, господин советник, о катастрофе. Поймите: это зерно мирового пожара! Если не принять немедленно каких-то мер, случившееся грозит разрушением, гибелью всему земному шару! Фон Мейден поднялся с кресла и пристально взглянул на девушку. — Вы сказали: мировой пожар? — переспросил он. — Именно так. Понимаете ли: огненный шар, который растет с каждой минутой, который убивает мгновенно при прикосновении к нему, который изрыгает пламя и смерть! Вид у посетительницы был необычайно возбужденный, глаза горели лихорадочным огнем, она поминутно вздрагивала. Было удивительно, как он не заметил этого сразу. — Может быть, дело не так страшно, как вам кажется, фрейлейн? — заговорил советник, испытующе всматриваясь в бледное лицо девушки. — Боже мой! как вам объяснить, — металась она в отчаянии, — это смерть вошла в мир! Каждая минута дорога! Если вы не хотите ничего сделать, я не знаю… я выйду на улицу и там буду кричать и звать на помощь! Советник протянул примирительно руку и сказал успокаивающим тоном: — Не волнуйтесь, фрейлейн; я верю вам и вот доказательство: если вы позволите, я оставлю вас на несколько минут, чтобы сделать необходимые распоряжения, — и фон Мейден вышел, плотно притворив за собою дверь. Вернулся он действительно через пять минут и спокойно уселся за стол. Несомненно, перед ним была сумасшедшая. Бедная девушка! Неужели на нее так подействовала смерть отца! Во всяком случае он был обязан принять меры, — было бы опасно выпустить ее на улицу в таком состоянии. — Итак, — заговорил он медленно, стараясь выиграть время, — вы утверждаете, фрейлейн, что земному шару грозит опасность сгореть, — так я вас понял? — Ну да, если хотите, сгореть, хотя в сущности это не так. Но сейчас это не важно. По правде говоря, я сама не знаю, что надо делать. Быть может, вообще уже слишком поздно! — содрогнувшись, закончила вдруг Дагмара и вся съежилась. — Слишком поздно? — невольно повторил фон Мейден. — Будем надеяться, что дело не так плохо, как вам кажется. Неужели всех пожарных команд Берлина не хватит, чтобы потушить это пламя? — улыбнулся он. — Пожарных команд? — с отчаянием воскликнула девушка. — Вы меня не поняли, господин советник, или просто смеетесь надо мной. О чем вы говорите? Поймите же, это смерть всего, смерть самой материи, из которой состоит наша земля, возвращение ее в первобытный хаос, всеобщее уничтожение! В дверь постучали. Фон Мейден быстро встал. На пороге показался высокий и плотный человек в пенсне, которое он поминутно протирал платком. За ним виднелись два санитара в халатах и грузная фигура полисмена. — Дорогая фрейлейн Флиднер, — вкрадчиво и мягко заговорил советник, — я в отчаянии, что вынужден вам причинить неприятность… Я буду очень просить вас отдохнуть дня два-три у доктора Грубе. Поверьте, это принесет вам огромную пользу… — Что такое? Отдохнуть? Я ничего не понимаю. Какой доктор Грубе? — девушка переводила изумленный взгляд с вошедшего на фон Мейдена и обратно. — Я буду рад видеть вас своей гостьей, — изысканно вежливо проговорил врач, — вы будете чувствовать себя, как в прекрасном отеле. Несколько дней полного покоя, — и вы себя не узнаете. Дагмара вскочила, как будто ее подбросила невидимая сила, и растерянно оглядывалась во все стороны. Люди в халатах вошли в комнату. — Вы хотите запереть меня в сумасшедший дом? — вырвалось у нее, наконец. — Вы сами безумны! Вы не понимаете, что делаете! Там растет смерть и разрушение, там решается судьба человечества, а вы… Санитары по знаку врача подошли ближе. Девушка прислонилась к стене и беспомощным взглядом обвела всех присутствовавших. И вдруг сразу поняла по спокойным, равнодушным лицам, что сопротивление бесполезно. Она обернулась к фон Мейдену и сказала упавшим голосом: — Хорошо. Делайте, что хотите. Но вы пожалеете об этом… после. — Вы напрасно принимаете это так близко к сердцу, фрейлейн, — мягко сказал советник, — вы пробудете у милейшего доктора несколько дней, совершенно успокоитесь и вернетесь к себе. Дагмара не ответила ни слова и решительно направилась к двери. Врач и санитары ее окружили. Когда дверь за ними захлопнулась, фон Мейден некоторое время молча ходил из угла в угол кабинета, потом нажал кнопку звонка. Вошел курьер. — Скажите подать машину! — приказал советник и стал нервно перебирать что-то у себя в портфеле. Все-таки все это было очень неприятно. Они не были друзьями с покойным Флиднером; но фон Мейден всегда относился к нему с глубоким уважением. А теперь эта дикая смерть и такая глупая история с дочерью. Он решил проехать на место происшествия. Не то, чтобы он поверил бессвязному рассказу девушки, разумеется, — вовсе нет; но… все же что-то следовало сделать из уважения к памяти покойного. Через пять минут, сидя на покойном сидении мягко покачивавшегося лимузина, фон Мейден окончательно успокоился и погрузился в приятную полудремоту. Резкий шум привел его в себя: гудели рожки, звенели и грохотали тяжелые машины, чувствовалось необычное движение. Фон Мейден всмотрелся пристальнее: мимо него, перегоняя щегольской экипаж, неслись автомобили пожарных дружин, на них стояли люди в медных касках с топорами наготове. Впереди виден был столб дыма, стоявший в воздухе почти неподвижно, чуть колеблемый слабым ветром. — Это там… — как будто шепнул фон Мейдену какой-то внутренний голос; он приказал шоферу прибавить ходу. Предчувствие его не обмануло. Против дома, где жил Флиднер, стояла толпа народа. Из сада то и дело выбегали к машинам пожарные, за решеткой и между деревьями, где была лаборатория, вились языки пламени и клубился дым, который постепенно относило к улице, заволакивая ее едким густым облаком. Фон Мейден, не доезжая до него, велел машине остановиться и вошел в сад через отверстие, проломанное в решетке пожарными. Возле горевшего здания метались темные фигуры, работавшие возле насосов и помп. Струи воды с грохотом обрушивались на стены; звенели разбиваемые стекла; огонь шумел и свистел, вырываясь из оконных переплетов; клубы пара моментами закрывали от взглядов всю картину; но среди них вновь прорывалось пламя, окутанное облаком черного дыма. Фон Мейден прошел на наветренную сторону и заметил здесь человека без шляпы, с угрюмым видом молча наблюдавшего картину разбушевавшейся стихии. — Давно ли это началось? — спросил советник странного наблюдателя. — Двадцать минут назад, — ответил тот, не поворачивая головы в сторону спрашивавшего, и добавил тихо, как бы говоря с самим собой: — Слишком поздно! Это — конец всему! Земля гибнет. Советник пожал плечами, с недоумением взглянув на говорившего. «Что они все взбесились сегодня?» — подумал он и направился к дому, стараясь не попасть в облака едкого дыма, заволакивавшие все больше сад. Навстречу ему шла, вернее бежала группа людей, среди которых он заметил одного из знакомых профессоров института. — Господин Миллер, — окликнул его советник, — скажите мне, что такое здесь творится? Не успел еще тот открыть рот для ответа, как со стороны лаборатории раздались крики пожарных и пробравшихся в сад любопытных. В то же время фон Мейден увидел своего недавнего собеседника, бежавшего к ним сломя голову. — Берегитесь! Он вырвался на свободу! Берегитесь, Гинце! — кричал он, размахивая руками. В то же мгновение советник увидел, как из облаков пара прямо на него, колеблясь и волнуясь, будто пронизываемый молниями, медленно плыл по ветру огненный шар около полуметра в поперечнике. Кучка людей кинулась врассыпную; две-три секунды фон Мейден еще стоял, как пригвожденный к месту странным явлением, — потом тоже бросился в сторону, и пламенный вихрь, подобный большой шаровой молнии, пролетел в двух-трех шагах от него, обдав знойным дыханием и наполовину ослепив нестерпимым блеском. Он двигался на высоте полуметра над песком дорожки с шипением и треском; будто тысячи огненных брызг изливались из него к земле и к предметам, к которым он приближался; голубоватый туман окутывал его прозрачным облаком. Ослепленный и ошеломленный фон Мейден упал, споткнувшись на кочку, и, лежа, полными ужаса глазами продолжал следить за полетом шара. Советник видел, как загорались при соприкосновении с ним деревья, видел, как внезапно налетевший порыв ветра бросил его на группу людей, перебегавших через дорожку, как брызнуло на них дождем огненных лучей, и, не успев даже крикнуть, трое из них упали ничком на землю и остались неподвижны. Последнее, что успел еще заметить фон Мейден, было как шар достиг решетки. Послышался сильный треск, — словно короткая молния сверкнула между железными прутьями и огненным облаком, и в следующее мгновение оно оказалось уже по ту сторону решетки, в которой зияло круглое отверстие, образованное разодранными, расплавленными обрывками металла. Вдоль улицы неслись дикие крики, топот ног, какой-то звон и треск.Глава VI Несколько разговоров
Этот вечер и ночь невесело прошли в маленькой комнатке на Лейбницштрассе. Происшествия дня мучили Дерюгина неотступным кошмаром. Порою ему казалось, что он делает невероятные усилия проснуться от тяжелого сна. Осознать, продумать до конца все случившееся было невозможно. Инженер старался представить себе, как сейчас, этой темной, безлунной ночью, по полям и лугам Восточного Бранденбурга катится где-то огненный шар, постепенно увеличиваясь в размерах, сыпля молниями и зажигая все на своем пути. Если человеческая фантазия давала когда-либо жизнь самой нелепой из нелепых сказок, то это было, конечно, сегодня в лаборатории профессора Флиднера! Старая, добрая земля, миллионы лет не изменявшая своего бега, земля, родившая и приютившая всю живую плесень на своей дряблой, морщинистой скорлупе, земля, которую ожидали еще миллионы лет такого же незыблемого бега, — она вдруг, по какой- то несчастной случайности, глупой оплошности одной пылинки этой плесени, человека, должна была исчезнуть, раствориться в первобытном хаосе, лопнуть подобно мыльному пузырю под рукою школьника. Мыслимо ли было этому поверить? Возможно ли было вообще говорить об этом серьезно? Да, но что же, однако, случилось в таком случае сегодня? Полтора десятка убитых, несколько пожаров, возникших в городе, пока шар, летя по улицам, увлекаемый ветром, не исчез на восточной его окраине? Это были факты, и они требовали объяснения. И неизменно мысль упиралась в нелепый образ земного шара, несущего в мировых пространствах на себе смертельную язву, гноящуюся огнем и дымом. И опять это казалось только сном. В мучительный круг этих странных мыслей врывалось и другое: Дагмара не вернулась до вечера в квартиру на Доротеен-штрассе, не нашел он ее и в толпе, привлеченной пожарим, и позже — в ее комнатке. И сейчас, лежа на своей ветхой кушетке и засыпая окурками и пеплом маленький столик около нее, Дерюгин вздрагивал каждый раз, когда слышался звонок или стук открываемой двери. Эти часы лихорадочного ожидания открыли ему кое-что новое. Девушка с пепельными волосами заняла, пожалуй, слишком уж значительное место в путанице образов, мыслей и чувств, осаждавших его, — несомненно, слишком значительное. Настолько, что несовсем было ясно, что же больше его волнует: участь Земли и грозящее ей испытание или судьба недавно чужой ему студентки. Оно было так же нелепо, как и все остальное, разумеется, но… пожалуй, это и была любовь. Открытие смутило Дерюгина и захватило сладким и мучительным томлением сердце, будто купалось оно в горячей ванне. В пестрой сумятице тревог прошла бессонная ночь. Утро встало пасмурное и неприветливое. И на душе было так же темно и угрюмо. Выйдя на улицу, Дерюгин машинально направился к институту, рассеянно пробираясь в людском потоке, уже запрудившем собою тротуары. Так же машинально взял сунутую ему в руки газету, заплатил не глядя и развернул на ходу, натыкаясь на прохожих и не слыша нелестных замечаний по своему адресу. Вчерашнее событие было изложено обычным газетным языком, крикливым и назойливым, с жирными заголовками, смакованием трагических подробностей, подсчетом жертв, с самыми невероятными комментариями. Но рядом была помещена короткая заметка за подписью одного из профессоров института, с уверенностью приводившего единственно возможное с точки зрения автора объяснение. Дело заключалось по его мнению в том, что покойному профессору Флиднеру удалось получить искусственно большого размера шаровидную молнию. Она-то и была виною пожара, возникшего в лаборатории; а затем, вырвавшись на свободу, причинила все беды, всполошившие вчера восточную часть Берлина. Надо думать, что затем, унесенная ветром в окрестные поля, она и взорвалась где-нибудь около Фюрстенвальда. Статья, разумеется, являлась грубой передержкой. В институте знали истинную причину происшедшего; знали прекрасно и то, что никаких опытов над искусственной молнией Флиднер не производил. Это было умышленное извращение значения происшедшего, попытка скрыть истину от общества. Зачем? Вот в чем был вопрос. Дерюгин не заметил, как дошел до института. По внешнему виду здесь все шло обычным порядком: читались лекции, шли работы в лабораториях, семинарах, практикумах, но чувствовалось, что жизнь идет только по инерции. Сдержанное возбуждение царило в аудиториях. Студенты собирались кучками, говорили тревожным шепотом и замолкали при приближении Дерюгина; профессора выглядели смущенными, усталыми и растерянными. Два-три раза, когда разговор поднимался о вчерашнем событии, они резко прекращали его под тем или иным предлогом. Гинце в лаборатории не было вовсе. Он явился около полудня, угрюмый, молчаливый, почти больной на вид. Дерюгин решил добиться от него истины о положении дела во что бы то ни стало. Ассистент сначала тоже отмалчивался, глядя куда-то в сторону и избегая взгляда собеседника. — Послушайте, — заговорил решительно молодой инженер, — я, наконец, требую ответа. Вы прекрасно понимаете, чем угрожает все случившееся, и какую берут на себя ответственность те, кто смеет это замалчивать. — А что же, прикажете трезвонить во все колокола, что земле угрожает неминуемая гибель? Кто же решится высказать подобную вещь? — Да ведь это же дичь какая-то! — вскричал Дерюгин. — До каких же пор молчать? Ведь надо сейчас же, сию минуту что- то делать, бороться, искать выхода! Гинце молча пожал плечами. — Я сейчас же отправлюсь к профессору Миллеру и буду требовать, чтобы он поставил в известность власти и общество. — Он с вами и разговаривать не станет. — Послушайте, Гинце! Один из нас сошел с ума. Да вы понимаете ли, что случилось? Какое право он имеет молчать? — А кто рискнет заговорить об этом первым? — угрюмо спросил ассистент. — Ведь это значит рисковать потерей репутации ученого и серьезного работника, если в итоге обнаружится ошибка, и дурацкий шар лопнет, как мыльный пузырь… — И это может остановить сказать истину? — резко спросил Дерюгин. — Ну, все равно, я обращусь к Грубе, к Грюнвальду… — Бесполезно. Вчера, поздним вечером, мы обсуждали положение, — и… сейчас никто вас не станет и слушать. — Ах, вот как? — Дерюгин почти задохнулся от гнева. — Тогда я действительно попусту трачу здесь слова. Он выбежал из аудитории, весь дрожа от негодования и смутной тревоги. Что делать? Куда броситься? И затем другое, может быть, еще более важное: где Дагмара? Что с ней случилось? На улице стоял несколько минут совершенно растерянный, не зная, что предпринять. Когда, наконец, он несколько пришел в себя, перед ним выросла фигура высокого человека в военной форме, выходившего из дверей дома Флиднера. Он знал это холеное лицо с упрямо сжатыми губами и бараньими навыкате глазами, хотя и не был знаком с сыном профессора. Но сейчас об этом думать не приходилось. Важно было одно: это был человек, близкий Дагмаре, — он мог о ней что-нибудь знать. Дерюгин преградил ему дорогу и спросил срывающимся голосом: — Господин Флиднер! Вы не знаете, где ваша сестра? Волонтер кавалерии рейхсвера смерил инженера взглядом, в котором было столько злобы и холодного презрения, что Дерюгин невольно отступил назад. — Об этом я вас должен был бы спросить, господин Дерюгин. И… я полагаю, что нам вообще разговаривать не о чем, — и Эйтель твердой, размашистой походкой, засунув руки в карманы, пошел прямо на инженера, будто перед ним было пустое место. Тот молча посторонился. — Что, кажется, не особенно приятное объяснение, земляк? — услышал он сказанные по-русски слова, и кто-то положил ему руку на плечо. Дерюгин обернулся, — перед ним стоял Горяинов. Он улыбался, как обычно, одними углами рта, а глаза смотрели холодно и устало. Молодой инженер в первую минуту хотел было уклониться от разговора с соотечественником, которого он встречал всего раза два и в котором чувствовал человека иного мира. Но пустота, окружившая его на грани близких событий, о которых страшно было думать, остановила Дерюгина. Может быть, звуки родной речи усилили иллюзию близости. Александр схватил протянутую ему руку. — Дело не в этом, — ответил он на вопрос Горяинова, кивая головой в сторону удаляющегося Эйтеля, — не в моих личных переживаниях, которые никому не интересны. Но что делать, какими доводами убедить этих тупоумных и трусливых животных? И на недоумевающий взгляд собеседника Дерюгин, торопясь и путаясь, рассказал о смерти Флиднера, о событиях вчерашнего дня, о своем разговоре с Гинце. Когда он кончил, Горяинов несколько минут смотрел на него молча, как бы решая в уме какую-то задачу. Потом вдруг неожиданно рассмеялся, остановившись среди тротуара, сдвинув шляпу на затылок и глядя на собеседника глазами, в глубине которых вспыхивали странные огоньки. — Послушайте-ка, земляк, — ведь это же великолепно то, что вы рассказали. В первую минуту я грешным делом подумал, не спятили ли вы, извините за откровенность. Но, честное слово, это так хорошо, что было бы жаль, если бы оно существовало только в вашем воображении. Дерюгин смотрел на старика с изумлением, почти со страхом, и в свою очередь ему начинало казаться, что перед ним кривляется буйно помешанный. А тот продолжал хохотать. — Подумайте, какая эффектная и своевременная развязка. Человечество запуталось, зарвалось, залезло в тупик, барахтается в крови и болоте, задыхается, как ломовая лошадь под непосильной тяжестью, и воображает, что этим готовит почву какому-то будущему раю, и вдруг — пшик, этакий головокружительный фейерверк, и в результате — немного гари и вони, которых даже некому будет нюхать. Ей-богу, теперь я доволен, что дожил до сегодняшнего дня… — Вы это говорите серьезно? — остановил собеседника Дерюгин. — Как нельзя более, голубчик. Уверяю вас. Это самое лучшее, что могло случиться. И напрасно вы это так близко принимаете к сердцу. Борьба, вы сами говорите, бесполезна. Плюньте на все и созерцайте. А что вас не хотели слушать там, — Горяинов кивнул в сторону института, — так иначе и быть не могло. Вы слишком многого ждали от всех этих почтенных Geheimrath'ов и превосходительств. Если хотите наделать шуму, — стучитесь в газеты, — там скорее пойдут на риск, да и треску будет больше! А всего лучше — бросьте волноваться и оставайтесь спокойным зрителем последнего спектакля. Но Дерюгин уже не слышал последних слов старика. В самом деле, как же он сам не подумал? Печать — вот где есть еще надежда нарушить это проклятое молчание. Он бежал по улице, провожаемый изумленными взглядами, ничего не видя и не слыша. Однако в первых трех редакциях его ждало разочарование. Сообщение его было выслушано с холодным изумлением, не оставлявшим никакой надежды. Тогда он отправился в «Rote Fahne». Он собрал весь запас своего спокойствия, он говорил медленно, останавливаясь на деталях и стараясь не пропустить ни одной подробности, чувствуя, как живые и острые глаза редактора не отрывались от его лица во все продолжение рассказа. Когда Дерюгин кончил, редактор молчал минут пятнадцать, неподвижно сидя в кресле и не выпуская изо рта сигару. — Видите ли, товарищ, — начал он, наконец, — вы, конечно, правы, указывая на ответственность, которая ложится на меня, если подобно тем, к кому вы уже обращались, я промолчу. Но вы должны понять и ту ответственность, которую я беру на себя, предавая ваш рассказ гласности… Через час я дам вам ответ. А пока взгляните на вечерние газеты… По-видимому, они подтверждают ваше предположение. Свежие листки, только вышедшие из-под станка, рассказывали в телеграммах с восточной границы, что шар не взорвался, как ожидалось в статье Обера, а, увлекаемый ветром, двигался на восток вдоль долины Варты и Нетце, зажигая леса и селения, убивая все встречающееся на пути и неизменно увеличиваясь в размерах. Его все еще считали шаровидной молнией, но размер его был теперь свыше полутора метров.Глава VII Тайное становится явным
Утром в четверг в «Rote Fahne» появилась статья, которая произвела поистине впечатление громового удара. Спокойно, без выкриков и истерики сообщалась сущность всего происшедшего, давалось истинное освещение дальнейшему движению атомного шара, сведения о котором были помещены накануне в вечерних газетах и дополнялись сегодня утром. И затем следовали выводы. Произошла катастрофа, не имеющая ничего аналогичного в истории Земли. Человечеству угрожает гибель. Надо в это вдуматься спокойно и до конца. Борьба с надвигающимся бедствием должна стать делом рабочего класса и народных масс. Рассчитывать на разрозненные, друг другу враждебные силы отдельных правительств — бессмысленно и преступно. Каждый день промедления — лишний шанс против окончательного успеха в предстоящей борьбе. Лозунг дня — сосредоточение всей власти в руках ученой ассоциации, куда должны быть привлечены лучшие научные и технические силы всех стран, — под контролем народных масс. Единственная возможность спасения — в объединенном человеческом разуме, организующем коллективную волю. Или это, или — распыление сил, бестолочь, анархия. В рамках современного строя другого выбора нет. И притом все должно произойти немедленно, молниеносно, как бы дико и трудно оно ни казалось. Надо спасать человечество. Это было до того неожиданно, самое содержание статьи казалось таким нелепым, что только к полудню власти спохватились и отдали распоряжение о конфискации газеты. Но было уже поздно. «Rote Fahne» имела в этот день небывалый еще, невероятный тираж, наводнив собою Берлин, — точно все почтенные буржуа и худосочные клерки, официанты в ресторанах, манекены-чиновники и нафабренные лейтенанты — стали вдруг коммунистами. Новость передавалась из уст в уста, комментировалась на бесконечное количество способов, витала над улицами, рынками, в магазинах, банках, торговых конторах, ресторанах, трамваях, казармах, — всюду, где по заведенному порядку или случайно собирались люди. Незнакомые останавливали друг друга на улице и расспрашивали о подробностях. А начавшаяся с полудня охота полицейских за номерами газеты заставила только исчезнуть ее из открытой продажи и стать предметом неожиданной спекуляции. Цена номера к концу дня достигла двадцати марок. Какой-то чудак на Фридрихштрассе устроил аукцион на три имевшихся у него экземпляра и успел-таки продать один из них за сто марок — остальные два были захвачены подоспевшими блюстителями порядка. Мнения по поводу статьи были самые разнообразные. Большинство, однако, отнеслось к ней с недоверием и считало, что это просто трюк, мистификация, имеющая целью вызвать беспорядки. А на рабочих окраинах было, действительно, неспокойно: начиналось брожение, собирались летучие митинги, разгоняемые полицией, появились группы, настроенные далеко не миролюбиво. Дерюгин в этот день метался, как в кошмаре. Утром он забежал в меблированные комнаты, — Дагмара все еще не приходила. Он бросился в дом Флиднера. Горничная, отворившая было на его отчаянный звонок, захлопнула дверь самым решительным образом перед его носом. Фон Мейден, вернувший уже после пожара свое олимпийское величие и торжественность и предупрежденный Эйтелем, также отказался вступать в какие бы то ни было разговоры с молодым инженером и добавил, что он в качестве иностранца, вмешиваясь в происходящие события, рискует очень крупными неприятностями. Выйдя от советника, Дерюгин некоторое время метался без всякой цели по городу, не зная, что с собой делать. Тревога за судьбу Дагмары, страх, неизвестность, и, наконец, любовь — он окончательно признался себе в этом — заслонили все остальное. Он проклинал себя за то, что отпустил ее из лаборатории одну, несколько раз на улице бросался в погоню, завидя женскую фигуру, напоминавшую Дагмару, и, убедившись в ошибке, опять бежал, сам не зная куда, в безысходной тоске. Так продолжалось часа четыре. Наконец уставшие нервы потребовали отдыха. Было ясно, что такая бестолковая беготня по улицам огромного города не могла привести ни к какому результату. Надо было действовать обдуманно. Но к кому обратиться за помощью в этом чуждом человеческом муравейнике? И вдруг он вспомнил, что обещал вчера редактору «Rote Fahne» быть у него не позже полудня. А вместо этого он мыкался по улицам, как влюбленный гимназист, вздыхая и охая. Это было из рук вон плохо. Через четверть часа инженер был у подъезда редакции, и вовремя: редактор садился в автомобиль, и вид у него был встревоженный. Он жестом пригласил Дерюгина сесть рядом с собой, и они помчались к Моабиту. — Вы явились кстати, — сказал редактор Эйке, оглядываясь с еле сдерживаемым волнением, — еще несколько минут, и вы застали бы там других хозяев… И добавил в ответ на вопросительный взгляд спутника: — Обыск и арест. Любезные гости сейчас переворачивают у меня все вверх дном. Ну, пусть развлекаются. Наше место теперь там, — он протянул руку к дымному облаку над трубами заводов впереди. Потом, будто вспомнив что-то, обернулся снова к Дерюгину. — А знаете, кто был у меня полчаса тому назад? Один из ваших соотечественников… — Горяинов? — невольно вырвалось у Дерюгина. Эйке кивнул головой и усмехнулся. — Довольно забавный экземпляр человеческой породы… — Просто сумасшедший, по-моему, — ответил инженер, вспоминая вчерашний разговор. — Как вам сказать? Вернее, доведенный до логического конца живой парадокс современного общества. Он, по-видимому, в восторге от всего случившегося; улыбается гримасой костяка и потирает руки в предвкушении невиданного спектакля… — Фигляр, паяц… Зачем он был у вас? — спросил Дерюгин, представляя себе с содроганием взгляд запавших под голым черепом глаз вчерашнего собеседника. — Не знаю толком, — пожал плечами Эйке, — профессиональное любопытство журналиста, быть может… Между прочим, в обмен на то, что он узнал или хотел узнать у меня, он и мне привез новости. Рассказывал о судьбе этой злополучной девушки. — Кого? — вскинулся вдруг Дерюгин, с силой сжимая руку собеседника и потрясенный внезапной дрожью. Редактор в изумлении взглянул на инженера и вдруг опустил глаза, пряча мимолетную улыбку в углах жесткого рта. — Дочери покойного Флиднера, — ответил он спокойно, наблюдая исподлобья, как густая краска медленно заливала лицо Дерюгина. — Что же с ней? — с трудом выдавил из себя тот. — Ее упрятали в лечебницу для душевнобольных за сообщение о грозящем мировом пожаре. Дерюгин чуть не задохнулся от неожиданно свалившегося груза. Он побледнел так, что Эйке взял его за руку и сказал, указывая на улицу, по которой все с большим трудом пробиралась машина. — Теперь не время думать о личных делах. Взгляните сюда: здесь разгорается пламя, в которое мы бросили искру… В самом деле, вокруг творилось что-то необычайное. Улица запружена была народом. Группы синих блуз выливались из ворот заводов, хлопали двери маленьких домиков, и живой поток метался взад и вперед, будто волны, налетевшие вдруг на преграду и закружившиеся в пенистом водовороте, прежде чем хлынуть разом через препятствие. Дерюгин несколько минут молча смотрел на взбудораженное человеческое море. — Вы правы, — ответил он, наконец, — наше место здесь… Но все же мне хотелось бы знать… Эйке в нескольких словах рассказал своему спутнику то, что ему было известно о судьбе Дагмары. — Откуда обо всем случившемся узнал этот беззубый Мефистофель? — спросил инженер, выслушав молча рассказ редактора. — Со слов молодого Флиднера, с которым он видался сегодня утром. — А этот хлыщ ничего не предполагает предпринять, чтобы освободить сестру? — Горяинов говорил, что, по его впечатлению, он сам был бы рад запрятать ее еще покрепче. Лицо Дерюгина потемнело, и руки невольно сжались в кулаки. — Посмотрим, — процедил он сквозь зубы, хотел было еще что-то спросить, но в это время машина окончательно стала, окруженная плотной стеною голов и рук, и гул голосов повторил имя Эйке, узнанного ближе стоявшими. Редактор стал на сидение автомобиля и поднял руку. Прокатившись до последних рядов, постепенно улегся шум людского моря, и над притихшею толпою звенели и бились острые, четкие слова, в унисон которым стучали удары тысячи сердец. Дерюгин слушал и чувствовал, как захватывает и его эта волна, как все его существо подымается ей навстречу и дышит тем же вздымающимся ритмом. Образ девушки с пепельными волосами отодвинулся в глубину, растворился, слился с необъятным морем людским, в котором он и Эйке были будто пловцами, взмываемыми то там, то здесь на пенистые гребни, чтобы затем снова погрузиться в колышащиеся недра. Инженера охватило странное состояние полусна, полубодрствования; картины сменялись одна другою, и порою ему казалось, что он когда-то не то в далеком прошлом, не то в смутном тумане сновидения видел все это, метался и колыхался в живом потоке. Он смутно помнил рядом с собой Эйке, вокруг которого всегда гуще и лихорадочнее завивался водоворот, и глубже трепетала тысячеголовая сила. То там, то здесь бросалась в глаза необычная деятельность людей в блузах и куртках, весело тащивших куда-то бревна, бочки, телеги, ящики… Кто-то стоял на высокой груде сваленных предметов и оттуда взмахами рук управлял этой оживленной вознею, и было похоже на озабоченную суетню муравьев, торопливо заделывающих брешь в муравейнике, проделанную небрежной рукою. Но ворвалось слово в беспорядочную суматоху, осмыслило ее, и сонная греза исчезла в грозно-веселой яви: — Баррикады! И опять метались они из улицы в улицу, увлекаемые бушующим потоком, среди гомона толпы и оглушающего рева фабричных гудков, будто кричали от нестерпимой вековой боли дымные, мрачные корпуса, переглядываясь мутными зрачками окон и тяжело дыша железными легкими. Дерюгин не помнил и не сознавал, сколько времени прошло в этой веселой и страшной сумятице. Новый крик дошел до его сознания и захватил грудь внезапным глубоким вздохом в ответ мгновенно затихшей толпе: — Солдаты! Вдоль улицы, звеня подковами о плиты мостовой, молча двигалась вереница всадников с каменными лицами и неподвижным взглядом, устремленным перед собою. Раздались резкие, металлом звенящие слова команды, и белесыми молниями разрезали воздух клинки; лязгнула сталь, и топот подков перешел в тяжелую частую дробь. Угрюмые лица надвинулись вдруг вплотную в вихре стонов, криков и проклятий. Дерюгин очутился лицом к лицу с храпящими, опушенными пеною мордами, грызущими железо. Над ними — стена мундиров, ряд одинаковых, высеченных из камня лиц и жала клинков, блестящих на солнце. Он не успел еще отдать себе отчета во всем происходящем, как увидел себя, Эйке и еще несколько десятков человек оттесненными от толпы, окруженными синими мундирами и прижатыми к стене. Где-то неподалеку хлопнул короткий гулкий выстрел. И в этот миг среди серых лиц, надвигающихся за стеною храпевших лошадиных морд, Дерюгин увидел знакомые черты с выпуклыми глазами и надменно сжатым ртом. На короткое мгновение взгляды их встретились, и лицо волонтера кавалерии зажглось злорадным торжеством. Узкой полоской блеснула сталь, описав свистящий круг, и Дерюгин упал ничком под ноги лошадей. Очнулся он поздно ночью и долго не мог осознать свое положение. Он лежал на узенькой койке в темной, маленькой и сырой комнатке. Голова была забинтована и болела невыносимо; все тело ныло, и каждое движение отзывалось острою болью. С трудом повернув голову, он увидел высоко над полом узенькое окно, забранное железной решеткой. Он вскочил, преодолевая страдания, и потащился к двери. Она была заперта. Дерюгин стал стучать в нее кулаками. Через несколько минут загремел замок, и на пороге в узкой щели появился человек. — Если арестованный будет буйствовать, то он рискует большими неприятностями. Дерюгин молча повернулся, с трудом добрел до койки и повалился на нее, потрясенный внезапным открытием. В тюрьме! Сейчас, когда каждая минута дорога, когда ужасный шар несется по воле ветра, как ангел смерти, растет с каждым мгновением, втягивая все новые массы воздуха в свое раскаленное жерло! Сейчас, когда Дагмара одна, запертая среди сумасшедших! Что они делают, безумцы! О чем они думают!Глава VIII Под Варшавой
Майор Козловский был сильно не в духе. Уже несколько дней, как в воздухе пахло грозою. Положим, это бывало не раз и раньше. Правительство Речи Посполитой любило побряцать оружием, огрызаясь на соседей то на восток, то на запад, то на север, а услужливая печать находила тысячи поводов, чтобы напомнить «нашей славной армии» ее былые подвиги, и неуклюже намекала, что, быть может, в недалеком будущем «великие тени прошлого» укажут путь молодым орлам. Но проходило несколько дней, великие тени мирно укладывались на покой до новой надобности, и жизнь продолжала идти обычным порядком. И все же майор каждый раз ощущал темную тревогу и неопределенную злобу к этой «теплой компании», не отдавая себе ясного отчета, кого он разумеет под таким определением: соседей ли, со всех сторон скаливших зубы на Речь Посполиту, или политиков из Бельведера, которые, чего доброго, и в самом деле накличут когда- нибудь войну. Войны он боялся панически, хотя, разумеется, никогда не обнаружил бы этой слабости в товарищеском кругу и вообще на людях. Зеленой молодежи, вроде хорунжего Крживинского, было, может быть, простительно мечтать о вступлении с барабанным боем в Москву или Берлин, — но он слишком много жил и видел, чтобы увлекаться подобным вздором. Он провел па фронте всю великую войну в качестве офицера русской армии, потом участвовал в кампании 20 года против тех же «москалей» под Киевом, под Гродно, под Варшавой, был дважды ранен и сейчас еще прихрамывал на левую ногу и охал в сырую погоду. Нет, с него хватит этих подвигов. Он знает им цену и предпочитает домашний уют маленькой квартирки на Праге, неуверенные гаммы десятилетней Стаси в сумерках гостиной и вечерний преферанс по маленькой у кого-нибудь из приятелей или в офицерском казино. Слушая воинственные разглагольствования молодежи под бряцанье шпор и сабель, неизменные мечтания о победах над московским быдлом или швабскими свиньями, заносчивые речи под пьяную руку при всяком удобном случае, — майор Козловский ежился, как от визгливой фальшивой ноты. В сущности, ему здесь было не место. Но ведь таких людей, получивших отвращение и страх перед войной, было много. Он мог указать их безошибочно и среди своих товарищей. Однако надо же было как-нибудь существовать! А на что мог годиться он, как и многие из них, избравшие это ремесло кондотьера в дни глупой молодости? И как полтора десятка лет назад Козловский исполнял его под знаменами двуглавого орла, так теперь остался тем же ремесленником орла одноглавого. Вот и все. Каждому надо зарабатывать свой хлеб, как он умеет. И он вкладывает в свое дело всю добросовестность, на какую только способен. Но желать войны — нет, слуга покорный. Но вот опять уже дня два-три, как газеты вопят о каких-то кознях со стороны Германии, ксендзы в костелах бьют себя в грудь и кричат о провиденциальной миссии избранного богом народа, по городу носятся дикие слухи, в кафе и на улицах кучки возбужденных людей громогласно решают судьбы Европы, офицеры ходят с необыкновенно важным, победоносным и таинственным видом, тщательно закручивая усы и бросая презрительные взгляды на все это шумящее море штатского люда, смягчая свой взгляд только для хорошенького женского личика… Все это как две капли воды похоже на то, что бывало и раньше, но есть кое-что и похуже. Совершаются таинственные передвижения войск на запад, и не сегодня-завтра ожидает отправки к границе и их полк. Это уже совсем скверно. Но мало того. Вот и сейчас, ранним пасмурным июньским утром он едет во главе своей батареи по полученному накануне секретному предписанию, чтобы занять позицию около Млоцин на случай появления со стороны Модлина таинственного огненного шара, из-за которого и поднялась вся эта сумятица. Вот уже двое суток, как он пересек границы Польши, сжег и уничтожил несколько сел, задел Торн, где взорвал два форта и пороховые склады, и сейчас катится вдоль Вислы по направлению к Варшаве, сея на пути пожары, смерть и разрушение. Это было нечто совершенно непостижимое. Газеты утверждали, что все случившееся — дело рук германских инженеров, бросивших на Польшу какой-то адский механизм, создав инсценировку случайности, неудачного научного опыта и так далее. Вся история была шита белыми нитками. Следом за этой подготовкой (недаром пострадал Торн) должны были появиться колонны ненавистных швабов. Майор вначале не очень верил сбивчивым россказням и считал их обычными газетными утками. Но теперь он не знал, что думать обо всей этой странной истории. Он сам видел вчера вечером только что приехавшего из Торна своего приятеля, где тот служил также в артиллерийском полку; у него рука была на перевязи, ушибленная при взрыве форта, а язык заплетался, отказываясь дать истинную картину виденного. — Иисус, Мария, святой Иосиф! — восклицал злополучный капитан Гзовский, растерянно потирая голову здоровой рукою, — это наказание, ниспосланное богом за наши грехи… Так думал, конечно, не он один. Всюду, в городах и в селах, в мрачных готических храмах Варшавы и Кракова и в скромных деревянных сельских костелах, и под открытым небом, на межах между полосами желтеющих нив, несся кверху кадильный дым, молитвенные песнопения, и тысячи людей воздевали руки к небу, моля его отвратить надвигавшееся неведомое бедствие. Это было понятно в конце концов: оно не приносило никому вреда, а может быть, и в самом деле могло умилостивить высшую силу, — на этот счет майор не был сам убежден твердо. Но вот такая задача — оберегать своими пушками столицу от неведомой опасности — была ему совсем не по душе и заставляла ворчать и цедить сквозь зубы далеко не изысканные выражения, поеживаясь в седле и прикрывая рукою глаза от все усиливающегося ветра, гнавшего вдоль дороги тучи песку и пыли. Вот и место, впереди старого форта крепости, указанное для батареи. Майор свернул направо от дороги, и орудия, грохотавшие металлическим телом по шоссе, бесшумно покатились теперь по мягкому бархату недавно скошенного луга. Пахло мятой, полынью, влажной землей и лошадиным потом; сюда пыль не заносило, и далеко впереди на запад открывались желтеющие поля и зеленые полосы лугов, справа упирающиеся в разбросанные там и сям домики и стену редкого леса, скрывающего недалекую Вислу. Батарея остановилась, снялась с передков; запряжки отвели несколько назад, к небольшой дубовой рощице. Четыре пушки уставились круглыми зевами в серое туманное небо, и темные фигуры людей вокруг них застыли в молчаливом ожидании. Справа и слева видно было еще несколько батарей, образующих широкую оборонительную линию. Хорунжий Крживинский, высокий молодой человек с пушистыми светлыми усами и живым взглядом карих глаз, шел, потягиваясь, вдоль фронта батареи, разминая затекшие ноги, и ворчал себе что-то под нос. Он тоже был не в духе; но его недовольство было другого рода. В своей сегодняшней задаче и предстоящем деле он нимало не сомневался. Раз там — наверху — нашли нужным встретить эту удивительную штуку пушечными выстрелами, — значит, так и следует. Ксендзы молятся в храмах, а они будут защищать столицу своей грудью, как представители славной польской армии, — следовательно, все в порядке. Но что все это случилось именно сегодня, — было совсем нехорошо. Нехорошо потому, что в этот день в Варшаве должны были состояться выборы «королевы трудолюбия, добродетели и красоты», в которых хорунжий принимал самое горячее участие. Он сбился с ног за последнюю неделю, бегая, как угорелый, по ресторанам и цукерням, с кучкой таких же энтузиастов, агитируя в пользу красавицы Ванды, кельнерши из кафе «Версаль», которую противная партия, сторонники черненькой Стефании, кассирши из театра «Новости», называли его возлюбленной. Еще вчера такая история чуть не кончилась побоищем, так как хорунжий вытащил уже саблю, собираясь искромсать ею нахала штатского, усомнившегося по отношению к Ванде во второй из добродетелей, необходимых для избрания в почетное звание, открывавшее «королеве» в течение года бесплатное пользование целым ворохом благ земных, начиная от ложи в театрах и кончая духами, чулками, подвязками и прочими интимностями дамского туалета в лучших магазинах Варшавы. Драку предотвратили, растащивши противников. Еще и сейчас хорунжий сжимал кулаки и ворчал, как цепной пес, вспоминая вчерашнее. Крживинский остановился, глядя на восток, где первые лучи солнца указывали место милой, шумной Варшавы. К нему подошел майор Козловский. Хорунжий козырнул, а командир взял его под руку и пошел медленно к правому флангу батареи. — Послушайте, — спросил он у субалтерна, покусывая седые усы, — что за история случилась у Малиновских третьего дня? Вы, кажется, были там? — Да, я полагаю, что ему придется уйти из полка, — ответил хорунжий, вдруг вспыхивая негодованием при воспоминании об эпизоде на вечеринке у одного из сослуживцев. — Но что же произошло? Мне Малиновский казался всегда очень порядочным человеком… — Не знаю… Может быть, господин майор… Но вы знаете, у них за столом, в присутствии нас всех был подан самовар… — Ну, и что же? — Как, что же? Понимаете ли — русский самовар! — Ах, да… русский. Что же было дальше? — Ну, разумеется, мы все ушли, и я не думаю, чтобы пану Казимиру удалось выпутаться из этой истории. Ему, как женатому на русской, надо бы быть особенно осторожным в этом отношении. Майор Козловский промычал в ответ что-то нечленораздельное и отошел прочь, хмуря косматые брови. «Ненависть, звериная злоба — на них строится жизнь», — подумал он, и вдруг ему показалось, что фантастический враг, которого они ждали сегодня и готовы были встретить огнем и железом — таинственный шар, — был материализовавшимся, оформившимся духом вражды и смертельной ненависти, в котором человечество задыхалось все эти страшные годы. Майор содрогнулся. В это время до него донеслись звуки церковного пения. Из-за домиков деревни к волнующимся пажитям тянулась по пыльной дороге вереница людей. Звонил колокольчик, мутно дрожали желтыми пятнами огоньки больших восковых свечей; нестройные голоса выводили однообразную мелодию; за ксендзом в белом одеянии, овеваемом кадильным дымом, под колышущимися хоругвями тянулась серая толпа и воссылала к молчаливому небу молитвы о спасении от надвигающегося бедствия. Козловский снял фуражку и машинально перекрестился. Он хотел что-то сказать вновь подошедшему хорунжему, когда с фланга батареи, протяжно перекликаясь, словно падая со ступеньки на ступеньку, покатилась разноголосая команда: — Командира батареи к телефону… — Командира — к телефону… Майор, придерживая рукою саблю, побежал к телефонному посту. В трубку глухо забубнил знакомый бас командира группы, с которым он еще третьего дня мирно играл в преферанс. Голос вздрагивал нервными нотами и срывался, так что нельзя было понять, командует ли он или смертельно испуган и сам ищет совета и поддержки. — Противник показался, движется вдоль западного берега Вислы… Быть готовыми к открытию огня по видимой цели… гранатой… — Потом другим тоном: — Пан Болеслав, гвоздите этого дьявола в хвост и в гриву, выручайте, голубчик… Нельзя пустить его дальше Млоцин… Козловский взобрался на наблюдательную вышку и стал осматривать далекий горизонт. Уже через четверть часа можно было различить в бинокль столб дыма, подымающийся за синею стеною леса. Он увеличивался с каждою минутой, словно вырастая из земли. Еще немного, и на далекую опушку из-за деревьев брызнуло ослепительным потоком света в ореоле дымной завесы, клубившейся черными вихрями. Было похоже, будто солнце сорвалось с голубого свода и катилось по земле пламенным шаром. Нельзя было различить подробностей, но веяло стихийной, неодолимой силой от этого невиданного зрелища. Козловский почувствовал, как скверный холодок заполз в сердце и сжимал его медленной хваткой. Срывающимся голосом он передал команду на батарею: — К бою!.. Гранатою! — и потом отрывисто, словно ища спасения: — Огонь! Ухнули резкие удары один за другим, и черные зевы плюнули огнем в серое небо. Стальные чудовища дернулись назад и снова уставились кверху круглыми глотками. — Огонь! — уже вне себя кричал Козловский, не отрывая глаз от бинокля и глядя, как пламенеющий шар сквозь завесу черных взметов дыма, окутанный ими слева и справа, плавно катился вперед, вырастая на глазах и вздымая кверху вихри пыли, дыма и огня, то закрываясь облаками от разрывов снарядов, то прорываясь сквозь них, как яростное солнце из-за клубящихся грозовых туч. И снова грохали пушки, снова копошились вокруг них в дыму и пыли оглушенные люди, и теперь гремело уже далеко вокруг все поле, справа и слева, где линия орудий от леса за дорогой перекидывалась далеко на юг по направлению к Повонзкам. И майор, стоя во весь рост у крайнего орудия, кричал не своим голосом, стараясь превозмочь дикий рев и стон, потрясавшие землю: — Огонь! Первое! Ему вторили такие же неистовые крики, а где-то рядом хорунжий вопил, приставив рупором руки к губам: — Огонь! Второе! Огонь! Третье! И уж нельзя было различать отдельных ударов в сплошном грохоте канонады, как нельзя было разобрать вокруг приближавшегося огненного шара отдельных вспышек снарядов, — он весь был окутан темным облаком и сквозь него неизменно прорывался вперед неуязвимый и неотвратимый, как стихия. Козловский растерянно оглянулся. Сзади батареи, шагах в двухстах, в немом ужасе остановилась толпа людей под золотою парчою хоругвей. Ксендз жестом отчаяния протягивал вперед распятие; вокруг толпа на коленях стонала и плакала; длинные желтые свечи давно погасли и ненужными палками торчали в дрожащих руках; колокольчик умолк, и тонкая струйка дыма вилась возле белой фигуры священника, слабой и беспомощной.
Козловский взглянул вперед. Пламенный шар был уже впереди батареи метрах в двухстах. Временами, в короткие промежутки между выстрелами, оттуда несся треск и шум, словно от большого пожара, были видны тысячи молний, брызжущих к земле от пламенного вихря. Шар двигался. — Орудия шрапнелью! На картечь! Беглый огонь! — В грохоте, шуме и звоне потонули окончательно отдельные звуки. В дыму и пыли, поднятой выстрелами, люди метались, как в адской кузнице. Орудия вздрагивали при каждом ударе, точно живые, и от них веяло жаром раскаленной печи. Впереди не было видно ничего из-за густого облака, окутавшего батареи. Пушки уже без прицела брызгали огнем и дождем картечи в серую пропасть. И вдруг, словно по команде, захлопнулись горластые зевы: пушки молча осели, зарывшись хоботами во взрыхленную землю, а люди испуганными кучками сбились в стороне, с ужасом глядя на невиданную картину: по металлическим частям орудий и амуниции колебались и прыгали синеватые огоньки, и при каждом прикосновении к металлу из него вырывались с треском короткие искры-молнии, сотрясая тело людей резкими ударами, от которых они падали на землю, вскакивали и бежали прочь, спотыкаясь и сбивая друг друга с ног. В следующую минуту ветром снесло прочь завесу пыли, окутывавшую батарею, и на фронте пушек показался огненный шар, пульсировавший и вздрагивавший, как огромная студенистая медуза, налитая огнем и дымом. Майор окаменел, прислонившись спиною к дереву и обводя дикими глазами фантастическую картину. Он видел, как подхваченный порывом ветра пламенный шар вдруг прыгнул, словно сорвавшись с привязи, на толпу обуянных ужасом людей. Правее, по направлению к хатам деревни, в паническом беге неслись врассыпную люди, только что воссылавшие молитвы к безучастному небу. Впереди дикими прыжками, подобрав белую сутану, мчался священник; блестели в пыли на дороге брошенные хоругви, затоптанные ногами бегущей толпы. Шар катился вслед за нею, подгоняемый ветром, и видно было, как падали, будто сраженные молнией, люди, которых он настигал своими огненными стрелами. Левее кучка солдат бежала к лошадям. Майор хотел приказать им вернуться к орудиям, но голоса его никто не слушал. Он видел, как хорунжий первый вскочил на своего коня и, не оглядываясь назад, весь съежившись, стал бешено пришпоривать, направляя дикий бег по шоссе к Варшаве. Рядом бежали пешие и скакали, обгоняя друг друга, всадники. Огненный шар катился к дубовой рощице, где стояли запряжки. Майор в ужасе закрыл глаза. Еще минута, и грохот взрыва потряс землю, и море пламени охватило лесок: шар налетел на зарядные ящики и взорвал их. Теперь за дымом пожара не было видно пламенного вихря, несшегося между рекою и дорогой к беззащитной Варшаве.
Глава IX В доме на Доротеенштрассе
Эйтель Флиднер ходил один по опустевшему дому из комнаты в комнату и не мог найти себе места. Смерть отца сильно поразила Эйтеля, но всё, что последовало за нею, было настолько необычно, что заслонило собою дела семейные. Порою ему казалось, что он грезит и не может стряхнуть с себя тяжелый кошмар. Развертывая утром газетные листы, он читал тревожные телеграммы, крикливые, истеричные корреспонденции, официальные и полуофициальные, осторожные и лживые сообщения и чувствовал, что не в силах справиться со всей этой путаницей. Первые дни, пока сведения приходили из Германии, все происходящее, хотя и казалось загадочным, но не носило угрожающего характера. Писали о большой шаровой молнии, причинившей пожары в нескольких селах и городках в долине Нейсе, — и только. Это были сообщения, которые можно было поставить наряду с другими, пестревшими обычно на газетных столбцах: где-то пронесся ураган, где-то произошло наводнение или землетрясение, разразилась эпидемия. Все это имело начало и конец, и затем, каковы бы ни были разрушения, — проходило, раны затягивались, и постепенно все забывалось. Но здесь было другое. Это был какой-то снежный ком, который катился по взбудораженной Европе, и перед ним бессильными оказывались люди со всеми орудиями и машинами, со всеми ухищрениями современной техники. Пожар Варшавы был первым ударом такого рода, который заставил почувствовать, что в мир ворвалось что-то новое. Первоначальные сообщения были смутны и сбивчивы, но затем газетная шумиха выбросила сразу столько подробностей, что в них можно было захлебнуться. В общем, картина рисовалась в таком виде. После взрыва фортов в Торне весть об этом облетела Варшаву с невероятной быстротой и взбудоражила город, который к вечеру уже шумел, как разворошенный пчелиный улей. В костелах ксендзы служили молебны, прося заступничества невидимых сил, по городу метались толпы народа, возбуждаемые разноречивыми слухами, рождавшимися неведомо где и как. Вся ночь прошла в смутной тревоге ожидания. Перед рассветом лязг и грохот катившихся орудий разбудил беспокойный сон обывателей. Батареи, одна за другой, в угрюмом молчании катились по каменной мостовой на запад, к старой цитадели. С утра словно тяжелая туча нависла над столицей, и в кочующих по улицам толпах поползли новые слухи, сплетаясь со страшным словом «война!» А затем сюда перебросилась родившаяся в редакциях газет нелепая легенда — виноваты немцы. Это они напустили на Польшу страшное бедствие, их инженеры бросили в ход дьявольское изобретение, и следом за ним надо ждать наступления полков проклятых швабов. Этого было достаточно. Лихорадочное возбуждение толпы нашло выход. Людская волна хлынула к германскому посольству, разгромила и подожгла его. Случилось это около 11 часов утра. А в то же время у города показался увлекаемый ветром огненный шар. Он был встречен огнем батарей, выставленных на запад от столицы, но вся эта цепь пушек и гаубиц остановила его столько же, сколько могли бы это сделать оловянные солдатики. Шар прорвал гремевшую линию около Млоцин, разогнал крестный ход, взорвал несколько орудий и зарядных ящиков, через полчаса миновал цитадель и очутился в лабиринте переулков старого города и еврейских кварталов. Спустя четверть часа узкие кривые переходы пылали, окутанные дымом. Громовые раскаты, шум огня, треск пылающих стен, крики и вопли обезумевших людей наполнили собою тихие еще недавно улицы. Пламенный шар вылетел из их пустынной сети на площадь у съезда к Висле, задел статую Сигизмунда, рухнувшую грудой мусора, и двинулся вдоль Краковского Предместья и Нового Света. Крестные ходы, толпы людей, наводнивших с утра бульвары,праздные зеваки на тротуарах, — всё это неслось теперь, сломя голову, в невыразимом ужасе среди свиста пламени и шума пожара. В течение получаса грозный смерч пересек весь город по направлению к Мокотову и исчез на востоке, а за ним в дыму и огне несчастный город корчился в судорогах и клубился черными тучами. Вот что случилось в Варшаве. И это, пожалуй, было не самое страшное. Следом за катастрофой газетные столбцы сообщали, что возбужденные толпы позволили себе ряд эксцессов, что к столице стянуты войска, и, по всей вероятности, порядок будет быстро восстановлен. Эйтель вспомнил баррикады в Моабите третьего дня и ненавистное лицо Дерюгина в тот момент, когда он опустил свою саблю на эту рыжую, словно огнем полыхающую голову. Проклятый азиат! В нем олицетворялся для Флиднера мятежный хаос, страшное лицо апокалиптического зверя, подымающего свою многомиллионную голову над старым, таким благоустроенным, покойным и удобным миром. Он скомкал газету и швырнул ее на пол. Да, на мир надвигалось что-то такое, перед чем стал в тупик не только он, волонтер кавалерии, — сведущий лишь в достоинствах лошадей и эскадронном учении. По крайней мере, когда он пытался разобраться во всей истории по двум-трем статьям в последних книжках научных обозрений и журналов, пришедших уже после смерти отца на его имя, — то и здесь не нашел путеводной нити. Правда, в этом не было ничего удивительного. Статьи были написаны языком, который сам по себе являлся китайской грамотой. Эрги, джоули, диссоциация, ионизация, ионы, протоны, нуклеарные заряды, кванты, — вся эта дикая тарабарщина делала совершенно непонятными самые обыкновенные фразы. И она, разумеется, была переплетена хитроумными формулами, разбивавшими там и здесь ровные строчки убористого шрифта замысловатыми кривыми и диаграммами, схемами и таинственными обозначениями, — словом, всем ассортиментом специальных статей, представлявшим непроходимую преграду для непосвященных. Эйтель с нетерпением перелистывал их и вчитывался в короткие послесловия, подводившие итоги изложенному, и хоть сколько-нибудь похожие на обыкновенный человеческий язык. Но и в этих всё же туманных сводках Флиднер не нашел ничего утешительного. Две основных мысли то робко, то более открыто сквозили всюду: во-первых, начавшийся процесс, несомненно, захватывал в свою сферу всё большую массу вещества, иначе говоря, проклятый, шар, хотя и медленно, рос с каждою минутой, будто снежный ком, катящийся по мягкому насту, и, во-вторых, что было хуже всего, наука в данный момент была бессильна бороться с этой неожиданной опасностью. Правда, в газетах и популярных журналах за теми же подписями появлялись другие статьи, где авторы старались успокоить общественное мнение, но даже для неискушенного мозга Эйтеля был ясен их казенный оптимизм, которому не верили ни на грош те, кто писал эти заметки. Некоторые из авторов были знакомы Флиднеру, как сотрудники и товарищи покойного отца, бывавшие у них в доме. Один из них, длинный и сухой, как жердь, старик с желтым, болезненным лицом и свалявшейся неопрятной бородою, слегка презрительно называвший Эйтеля «наш юный воин», писал в «Berliner Tageblatt», что «на определенной стадии процесса должно наступить равновесие, когда количество выделившейся энергии будет равно ее естественному рассеянию в пространство, после чего шар перестанет расти, а тем временем несомненно будет найден способ ликвидировать охваченную разрушением материю». Между тем в «Zeitschrift fur Physikalische Chemie» тот же Мельцер кончал свою статью туманной фразой: «Конечно, влияние массы вещества в таком значительном объеме, какой имеется налицо в данном случае, еще не исследовано, и хотя по аналогии можно было бы предполагать возможность установления равновесия, трудно сказать, когда именно оно наступит и в какой мере сможет послужить гарантией в развитии новых, еще более разрушительных процессов». Наконец, самым страшным было даже не сознание растущей опасности, — она казалась еще далекой, — а то, что виновником всех несчастий был его отец, что здесь было замешано их имя, которое трепали с пеною у рта газеты, словно собака треплет грязную тряпку, подхваченную ею в мусорной яме.Глава X Статья в «Фигаро»
По внешнему виду ничто, по-видимому, не изменилось на улицах города. Так же катились людские волны, так же гудел, грохотал и звенел тысячами металлических голосов механизм, опутавший жизнь человека. Поверхностный наблюдатель не заметил бы ничего особенного в привычной сутолоке, автоматически управляемой торжественными фигурами в кожаных касках на перекрестках. Но внимательное ухо открывало в этом гудении новые ноты — тревожные, гневные и растерянные. С окраины, где третьего дня происходило что-то грозное, — ползли зловещие слухи. На стенах улиц появились беленькие квадратики, возвещавшие установление в городе военного положения. А газеты приносили все новые сведения о бедствиях и пожарах, выжигавших на востоке долину Буга и Днепра. Эти известия вливались в напряженную, полную тревожных ожиданий атмосферу улиц и зажигали глаза удвоенным страхом. Дагмара чувствовала себя бесконечно затерянной и одинокой в этом трепетном, насыщенном как будто грозовым электричеством хаосе. Она не отдавала себе отчета в том, что видела на улицах, так как была слишком подавлена своим личным горем. Но инстинктивно она отзывалась на трепетание толпы, и это усиливало ее тревогу до физической боли. Выйдя из дому, она некоторое время шла бесцельно по Доротеенштрассе, почти не замечая прохожих и не зная, что с собой делать. — Арестован, в тюрьме, — вот все, что стучалось в мозг назойливыми ударами. Этот высокий, кряжистый человек с серыми глазами заслонил сейчас для нее все совершающееся вокруг. Он казался ей одним из тех немногих, которые твердо стоят на ногах и уверенно смотрят вперед. А несколько дней, проведенных вместе, — дней, когда так мало еще было сказано слов в быстрой смене странных и грозных событий, — связали их неразрывными нитями. Дагмаре стало ясно, что вся ее тревога, тоска и одиночество происходят от того, что нет подле этого крепкого, ясного и спокойного человека. Она не знала еще, какими словами встретила бы его, если бы вдруг он стал сейчас перед нею, но это были бы значительные слова, полные ласки и доверия. И вот его не было рядом. Между ними выросла тюремная решетка. Дагмара перебирала в уме всех, к кому можно было бы обратиться за помощью, за советом, но как- то вдруг оказалось, будто она — одна в шумной, но мертвой пустыне. Еще утром, прежде чем позвонить у дверей мрачного дома, в котором прошла ее юность, она зашла в институт. Но знакомые профессора, к которым она обращалась, ассистенты отца, замкнулись в холодной, вежливой настороженности, а когда девушка заговаривала о Дерюгине, — на лицах появлялось выражение удивления и негодования, и разговор прекращался. В группах студентов она подметила кислые усмешечки и шепоток, замолкавший при ее приближении. Очевидно, история ее ухода из дому была уже известна и, конечно, была связана с именем инженера. Дома, у брата, она встретила ту же слепую злобу, которая, казалось, захлестывала теперь весь мир. Она остановилась в недоумении. Ну, что же? Опять к фон Мейдену? Он, как официальное лицо, должен был знать больше других. Дагмара колебалась несколько минут, вспоминая сцену в его кабинете на прошлой неделе, но затем решительно направилась к ратуше. Советник принял ее необычайно учтиво, бросился усаживать в кресло, рассыпался в тысячах извинений по поводу «досадного недоразумения». — Согласитесь, фрейлейн, это было слишком необычайно — то, что вы рассказали мне тогда. Мне и сейчас иногда кажется, что я сплю, когда читаю газеты… — он кивнул головою на ворох печатных листов на столе. — Вот господин Горяинов находит все это в порядке вещей, — добавил он, указывая на собеседника, расхаживавшего большими шагами по кабинету. Дагмара невольно взглянула на него, и ей показалось, что она видела где-то высокий голый череп, выцветшие глаза и остренькую бородку. Старик слегка поклонился ей и продолжал свою прогулку, изредка взглядывая на нее исподлобья. — Но, послушайте, все же это безумие — печатать подобные статьи, — обратился фон Мейден к Горяинову, продолжая начатый разговор и нервно черкая карандашом по строчкам свежего номера «Figaro». — Они там с ума сошли в Париже! Они готовят революцию! Собеседник пожал плечами и усмехнулся углами рта, тогда как серые глаза смотрели устало и равнодушно. — А если все же это правда? — Безразлично, — ответил советник, ломая карандаш сильным нажимом, — бывает правда, которая опаснее всякой лжи. Нельзя в политике применять мещанские мерки ходячей морали. — Да, да, разумеется, — улыбался, гримасничая, старик, — жалко, что господа политики избегают говорить об этом вслух. — Нет, вы только послушайте этого сумасшедшего, — продолжал фон Мейден, обращаясь к новой собеседнице и медленно переводя вслух фразы из подчеркнутой карандашом статьи. «Уже давно человечество знакомо с явлением новых звезд, вспыхивающих внезапно с необычайной силой то там, то здесь в мировых пространствах. Такова была легендарная звезда Нового Завета, предвещавшая якобы рождение Христа, подобного же рода была на нашей памяти так называемая „Новая“ в созвездии Орла, загоревшаяся в июне 1918 года, и много других. Эти звезды, вспыхнув на несколько месяцев, затем постепенно гаснут, возвращаясь к своей первоначальной небольшой яркости. Не так давно причину явления видели в столкновении двух светил, кончающемся грандиозным пожаром. Но при колоссальной разбросанности небесных тел во вселенной такая причина очень маловероятна. И за последнее время стали высказываться предположения, что новые звезды — след необычайной силы вспышек внутриатомной энергии, охватывающих по неизвестной нам пока причине то одно, то другое из светил. И вот перед нами — начало такой катастрофы. На Земле разыгрался процесс, который должен кончиться колоссальным пожаром, и тогда в небе загорится новая звезда, которую астрономы где-нибудь в системе Сириуса будут наблюдать через несколько лет в свои телескопы и занесут в звездные каталоги». Фон Мейден остановился, снял пенсне и обвел недоумевающими глазами посетителей. Волнуясь, он кусал кончик давно потухшей сигары, не замечая, что она не курится. Дагмара молчала, Горяинов продолжал ходить по комнате, и с лица его не сходила насмешливая гримаса. Фон Мейден снова нагнулся над газетой: — А вот не угодно ли — конец. «Итак, вывод наш таков: процесс, начавшийся две недели назад в Берлине, уже не может быть остановлен никакими силами. Он будет идти с увеличивающейся скоростью, захватывая все новые массы вещества, освобождая все растущие количества энергии, пока бушующее пламя не охватит весь земной шар. Еще задолго до этого, разумеется, на земле погибнет все живое и вместе с ним человечество со всей своей техникой, своим кичливым разумом, со всеми страданиями и иллюзиями. Это неизбежно и является только вопросом времени. Борьба бесполезна и смешна. Человечество выполнило свою миссию, дошло до кульминационной точки развития и должно сойти со сцены. Пора подводить итоги. Земля доживает последние дни». Советник уронил пенсне, стукнул кулаком по столу, и лицо его покрылось красными пятнами. — Я вас спрашиваю, — почти кричал он, комкая газету, — разве это не бред умалишенного? Разве нормальный человек может говорить таким образом? Ведь это значит — будить зверя, звать на улицы бунт, революцию — разнуздывать дикие силы! Теперь уже фон Мейден бегал по кабинету от окна к двери, дергаясь всем телом и сжимая руками виски, а Горяинов сидел у стола и ленивым движением стряхивал пепел папиросы. — Мне кажется, господин советник, вы красного флага на улицах боитесь больше, чем стихийной катастрофы, которая грозит Земле? — саркастически спросил он, покачиваясь в кресле и охватив обеими руками колено. — О, да, — сердито ответил фон Мейден, — фантазии господ кабинетных ученых мы слышали не однажды по поводу каждой новой их теории, однако мир здравствует до нынешнего дня. Но революция — это то, что носится в воздухе! Это то, что лезет изо всех щелей, это то, что было вашим вчера и может каждую минуту стать нашим сегодня! Мир весь содрогается, как гигантский котел под непомерным давлением, он бурлит и клокочет, а эти идиоты подбрасывают угля в топку ради сенсации, ради лишнего десятка тысяч тиража! — А если дело вовсе не в этом? — Так в чем же, скажите на милость? — Если на этот раз здесь не иллюзия, а в самом деле Земля доживает последние дни? Попробуйте на минуту предположить подобную вещь… Фон Мейден досадливо махнул рукой. — Удивляюсь я вам, русским. Вам, прошедшим через горнило революции, меньше всего к лицу подобная беззаботность! А вы говорите так, точно сами являетесь автором этой статьи… Горяинов пожал плечами и загадочно улыбнулся. Дагмара воспользовалась наступившей паузой и встала. — Господин советник, я к вам зашла по делу. Может быть, вам случайно известно… — она на минуту замялась. — Видите ли, я хотела бы знать, что случилось с русским инженером, работавшим в лаборатории отца… Вы как должностное лицо, вероятно, в курсе дела… Его фамилия Дерюгин, Александр Дерюгин… Фон Мейден круто повернулся, и лицо его, только что полное тревоги и негодования, вдруг замкнулось в холодном недоумении. — Я удивляюсь, фрейлейн, вашему вопросу. Судьба господина Дерюгина меня нимало не интересует, она зависит от решения военного суда, — вот все, что я могу сказать. Грустно, что приходится слышать имя этого человека из уст дочери профессора Флиднера. И должен вас предупредить, фрейлейн, что за последнее время имелось и без того много оснований для весьма странных предположений по отношению к вам… Только из уважения к памяти вашего покойного отца на это закрывали глаза… Лицо девушки залилось пурпуром. — Я не просила об этой милости, — произнесла она холодно, направляясь к выходу. Фон Мейден не тронулся с места и только угрюмым, взглядом медленно проводил ее до двери. Горяинов слегка поклонился, но не сказал ни слова. На улице Дагмара в нерешительности остановилась, не зная, что предпринять дальше… Чья-то рука легла на ее плечо. Она обернулась. Перед нею стоял высокий старик с лицом утомленного Мефистофеля, бывший только что в кабинете у фон Мейдена. — Милая барышня, — заговорил он задушевным голосом, — я имел честь быть… почти другом покойного профессора Флиднера и мне хотелось бы в мере сил моих оказаться полезным его дочери… Наступают тяжелые дни, и вы в этой сумятице должны чувствовать себя страшно одинокой. Дагмара порывисто схватила протянутую ей руку. — О, если бы вы знали, — вырвалось у нее почти стоном, — я точно в лесу заблудилась в бурную ночь… — Да, да, милая барышня, идет гроза, и жутко быть человеку одному. Но разве ваш брат… — О нем я не хочу говорить, — остановила Горяинова девушка, — у него я встретила поддержки не больше, чем сейчас там, наверху. Она кивнула в сторону ратуши. Горяинов покачал головою. — Я так и думал. Это очень грустно, потому что, боюсь, хороших известий о господине Дерюгине я дать вам не смогу… — Вы знаете, что с ним? — За четверть часа до вашего прихода советник фон Мейден произнес передо мной целую филиппику по адресу злополучного соотечественника… Он сейчас — во Фридрихсгайнской тюрьме… — Это я знаю уже от брата… Но как все случилось и что его ожидает? — Арестован во время усмирения рабочих волнений в Моабите вместе с редактором «Rote Fahne», чуть ли не с оружием в руках, такова по крайней мере официальная версия. Дагмара побледнела. — Это грозит большими неприятностями? — Боюсь, что да. Иностранный подданный и вдобавок русский, следовательно, a priori человек опасный… Задержан вооруженным на месте преступления… И затем военное положение. — Значит, что же? — побелевшими губами почти шепотом спросила Дагмара. — Я не хочу вас пугать, но положение серьезное. И что хуже всего — очень трудно что-либо предпринять. Человек — единица, песчинка, бессилен перед сложной машиной, им самим созданной. Видя искаженное болью лицо девушки, Горяинов вдруг остановился и сказал нерешительно: — Пожалуй, одно я вам могу посоветовать. Попробуйте обратиться в советское посольство. Если они примут участие в судьбе соотечественника, то во всяком случае дело может затянуться, и будет выиграно время… — А дальше? — А дальше многое может случиться. Слышите? И оба обернулись в сторону Нейкельна, откуда заглушённые расстоянием долетели звуки выстрелов, и, цокая подковами по асфальту, проскакал вдоль по улице по тому же направлению отряд конной полиции. Люди на тротуарах вытягивали шеи, прислушиваясь к далекой перестрелке. — Нужно только получить отсрочку, — повторил Горяинов, — а освобождение придет оттуда, — он махнул рукою в сторону выстрелов: — дело идет к развязке. У меня на это есть нюх… и опыт на собственной шкуре. Он засмеялся коротко и невесело. — Вы говорите так, как будто сами бы этого хотели, — невольно вырвалось у Дагмары: — между тем такой исход должен только ужасать и отталкивать вас… — Отталкивать? Нет, милая барышня… — он покачал головою, — для меня это безразлично. Мне все равно: монархия, республика, социализм, коммунизм, красные, белые, синие… я давно научился расценивать явления с точки зрения значения их для узкого кружка близких и интересующих меня людей. В данном случае это может помочь вам и моему компатриоту, к которому я чувствую искреннюю симпатию. Вот и все. А к тому же, теперь не все ли равно? Идет гроза, которая сметет не только плесень, копошащуюся на земле, но обратит в прах и самую землю… Какое значение имеет рядом с этим все остальное: революции, войны, радости, страдания, героизм и преступление, любовь и ненависть, слава, наука, — если завтра все это исчезнет в пожаре, навсегда, навеки и без малейшего следа? Девушка остановилась, потрясенная этим мрачным пророчеством. Горяинов сказал, устало улыбаясь: — Простите, я напугал вас. Иногда необыкновенно весело быть Кассандрою, но сейчас мне это было больно. Пока до свиданья, милая барышня. Если вы дадите мне свой адрес, я завтра забегу сообщить новости. Он пожал руку Дагмары, и она еще несколько минут видела его высокую сутуловатую фигуру в толпе. Со стороны Нейкельна все чаще хлопали выстрелы то в одиночку, то целыми залпами.Глава XI Европа в огне
Фон Мейден оказался прав. Статья в «Фигаро» послужила сигналом. Уже на следующий день телеграф принес известия о волнении на парижской бирже, этом чувствительнейшем барометре общественной погоды. Полетели вниз бумаги многих предприятий, территориально связанных с районами, угрожаемыми атомным вихрем. Толпы рантье, дрожащих за свои франки больше, чем за судьбу мира, уже осаждали банки. Ходили слухи о полном крахе двух крупных металлургических фирм. Все это раздувалось сообщениями очевидцев о движении пламенного шара. Прокатившись долиною Буга, он выжигал все более широкую полосу лесов и пашен, задел несколько деревень, уничтожил Фастов и около Очакова вылетел в море. Вот как описывалось это событие со слов местных жителей. В воскресенье поздно вечером на севере показалось яркое зарево, окутанное облаками густого дыма. При все усиливающемся ветре вскоре из-за гряды прибрежных холмов выплыло пламенное облако, пронизанное изнутри ярким голубоватым светом, который, несмотря на застилавшую его пыль и дым, был настолько ослепителен, что вокруг стало светло почти как днем. Облако двигалось довольно быстро на некоторой высоте над землею, распространяя на большое расстояние вокруг непереносимый жар, от которого воспламенялась трава, деревья и все, что могло гореть. Из дымного вихря несся непрерывный треск, шипение и отдельные резкие удары грома. Все живое, разумеется, бежало прочь в паническом страхе. Но кучка любопытных издали осталась наблюдать грозное явление. Приблизительно в половине двенадцатого ночи клокочущее огнем облако приблизилось к берегу и, не останавливаясь, понеслось к морю. В тот же момент произошло нечто вроде сильного взрыва. Вода под шаром забурлила; огромный столб пара поднялся к ночному небу и окутал пламенный вихрь туманной пеленой. Видно было, как шар подпрыгнул кверху, подброшенный силою газов, и понесся в открытое море уже на большей высоте, на глаз до десяти метров, причем вода под ним не переставала кипеть и клокотать. Теперь вся картина представляла большое облако пара, подымающегося из взбаламученного моря, и пронизанное изнутри целыми снопами света, напоминающего солнце, прорывающее своими лучами грозовые тучи. Через полчаса грохочущий вихрь исчез в море, но еще долго на юге виден был отблеск далекого зарева. Другую встречу уже в открытом море описывал капитан итальянского парохода «Умберто», шедшего в Константинополь из Одессы. В понедельник утром невдалеке от Змеиного острова рулевой доложил, что что-то неладное творится с компасом. Действительно, стрелка в нактоузе заметно раскачивалась в обе стороны, как бывает во время сильных магнитных бурь. Капитан, удивленный этим явлением, внимательно осмотрел буссоль, — все было в порядке. Между тем стрелка волновалась все больше и около одиннадцати часов утра совершенно взбесилась и стала метаться на триста шестьдесят градусов по всем румбам. Небо было покрыто тучами, закрывающими солнце. Не имея возможности держать направление без компаса и без солнца, пароход потерял курс. В это время на северо-западе было замечено большое облако, низко нависшее над морем. Капитан принял его сначала за смерч, хотя в таких широтах еще не приходилось с ним встречаться. Когда пароход приблизился метров на четыреста, оказалось возможным рассмотреть подробнее странный феномен. Он представлял большое облако пара, подымавшееся из бурно кипевшего под ним моря и двигавшееся по ветру к юго-востоку. Размеры облака казались около ста метров в поперечнике, а в высоту оно терялось постепенно клочьями тумана, уносимого ветром приблизительно на такой же высоте. Сквозь густую тучу пара, метрах в десяти над поверхностью воды виден был ослепительно сверкающий шар, брызжущий в бурлящее море снопами искр, сопровождаемыми неустанным шипением и треском будто сотен ружейных выстрелов. Когда расстояние до облака уменьшилось еще на несколько десятков метров, экипаж почувствовал тяжелый зной, которым полыхало от него, как из жерла гигантской печи. В то же время на концах мачт, на железных перилах, на всех выдающихся металлических частях судна засияли кисточки голубоватых огней, знакомое морякам по южным широтам явление — огни св. Эльма, указывающее на насыщенность атмосферы электричеством. В то же время на правом борту, обращенном к огненному облаку, раздались крики изумления, почти страха. — Мертвая рыба! Действительно, у самого парохода качались на волнах целые стаи всевозможной рыбы, неподвижно плывшей по поверхности воды, мутно поблескивая беловатыми, серыми, синими, желтыми брюхами, будто пестрая чешуя огромного чудовища. Вместе с тем оказалось, что температура воды вокруг судна достигла почти 80 градусов; судно очутилось в полосе тумана. Капитану не оставалось ничего другого, как под всеми парами уходить наугад в открытое море прочь от опасного соседства. И только часа через четыре, когда столб пара скрылся за горизонтом, успокоилась магнитная стрелка, и судно могло взять правильный курс. Еще через два дня телеграммы из Болгарии известили мир, что атомный вихрь вновь появился на континенте у Варны, причем город и порт были почти начисто уничтожены огнем. Новая катастрофа всколыхнула всю Европу. Угроза стала настолько очевидной, что закрывать на нее глаза было уже немыслимо. Возбуждение общества и народных масс росло с каждым днем, особенно в крупных промышленных центрах. Из Парижа, Вены, Варшавы, Праги, Лондона, Манчестера, Бирмингема — летели тревожные телеграммы о народных волнениях, о стычках на улицах с полицией и войсками, кое-где о форменных побоищах, в которых силы правительств, видимо, с трудом удерживали господство. Власти растерялись, стали в тупик перед грозной задачей борьбы с двумя врагами. И если по отношению ко второму из них можно было еще рассчитывать на старое испытанное средство — штыки и пули, то перед первым была полная и до ужаса очевидная беспомощность. Оставалось только ждать, куда направит свой капризный бег неуязвимый противник, и при его приближении бежать, спасая все, что можно спасти. Это полное бессилие перед стихийною угрозою лишало власти твердости и уверенности во всем остальном. Колебание, слабость, сознание конечной бесплодности каждого шага были слишком очевидны. Железная рука поднималась то там, то здесь, чтобы долбить по привычке тяжелыми ударами, и падала бессильно на размахе в злобной судороге. А человеческое море бурлило, и волны его вздымались все выше и выше… Дагмара следила за бегом событий по газетам и наблюдала отражение их на улицах Берлина из окна своей каморки на Фриденштрассе, куда она перебралась из Шенеберга, чтобы быть ближе к месту, где за железными переплетами узких дыр в каменном мешке находился Александр. Помог ей устроиться на новом месте Горяинов; он каждый день заходил к ней и сидел подолгу, рассказывая обо всем, что слышал помимо газет в редакциях, кипевших новостями и процеживавших из них то, что можно было, на влажные еще листы, расходившиеся по взбудораженному городу. Она узнавала от старого эмигранта о стычках, происходивших на окраинах между народом и полицией, волнениях в частях рейхсвера, о том, что в город прибыли отряды Стального Шлема, и что, с другой стороны, ходят слухи об организации значительных дружин красных фронтовиков и рабочих союзов. Рассказывая об этом, Горяинов сидел, сгорбившись, у маленького стола, и нельзя было в его словах прочесть ни радости, ни изумления, ни страха или недовольства. Казалось, будто он читает повесть о давно отшумевших днях, на которые смотрит со стороны, равнодушно развертывая свиток событий. Так, через два дня он рассказывал Дагмаре, что Эйке и еще двое из арестованных в четверг были убиты во время инсценированной попытки к побегу, но что правительство не решается открыто на смертные казни, опасаясь, чтобы это не послужило той лишней каплей, которая могла бы вызвать общее возмущение. Дело Дерюгина, как и ожидал Горяинов, было отложено в виду переговоров, начавшихся с советским представительством, после того, как там стало известно об участи русского инженера. Но все же каждый день можно было ожидать самых неожиданных сюрпризов, так как власти метались из стороны в сторону, от одной крайности к другой, чувствуя, как почва ускользает из-под ног. В этом томительном ожидании и неустанном нервном напряжении Дагмара горела, как в горячечном бреду. Серая громада тюрьмы, видимая из окна ее комнаты, давила ее и во сне и наяву тяжелым кошмаром. Она не могла отвести глаз от этой каменной груды, чувствуя, как нарастает в ней глухая, мстительная злоба, какой не знала она за всю жизнь. Было странно чувство какого-то разрыва с окружающим. Все прошлое — детство и юность в суровом доме на Доротеенштрассе, методически размеренное, по расписанию томительное существование, замкнутое в гнетущие рамки запретного и дозволенного, — все это будто исчезло в бездонном провале и вспоминалось, как сон; а действительность сосредоточилась на узком тупике каменного муравейника, между угрюмым серым зданием и маленькой комнатой в третьем этаже, где рядом через каждые пять минут грохотали поезда воздушной дороги, потрясая лязгом и гулом дымный воздух, — да в грудах газет, приносивших со всех концов встревоженной Европы новые и новые странные вести. И только присутствие Горяинова рассеивало несколько это давящее ощущение одиночества, тревоги и растерянности. Сообщив необходимые новости, которые могли иметь значение в участи Дерюгина, он неизменно сводил затем разговор к рассказам о движении атомного вихря и явлениях, ему сопутствующих, зло высмеивая растерянность финансовых кругов и правительств, мечущихся между бессильным страхом перед стихийным бедствием и злобным ужасом в ожидании нарастающей грозы снизу; иронизировал по поводу паники, охватившей человеческое стадо, переплетая все это с воспоминаниями из своего бурного прошлого. Спокойная насмешка и холодный сарказм его импровизаций охватывали Дагмару волнующим чувством любопытства и почти страха к этому странному человеку, и она невольно следила за своеобразной логикой его выводов, не умея им противиться, но в то же время чувствуя инстинктивно в них какую-то коренную ошибку. — Послушайте, Горяинов, вы как будто рады всему, что случилось, — сказала она как-то, уловив торжествующие нотки в его рассказах. — А вы только сейчас догадались, милая барышня? Конечно же, рад. Разве вам не приходилось слышать разговоров на тему, что мы должны быть счастливы в качестве современников великих событий в социальном мире? Почему же не гордиться вдвое, вдесятеро, сделавшись свидетелями потрясений, которые должны завершить всю историю человечества вообще и с ним вместе земного шара? Разве не великолепно, что это выпало на долю именно нам, а не нашим потомкам какого-нибудь пятьдесят пятого столетия? На третий день своих посещений, уже после пожара Варны, Горяинов принес известие, что по инициативе Сорбонны в Париже собрался всемирный конгресс физико-химиков, который должен заняться изысканием мер борьбы с надвигающейся опасностью. — Парламент патентованных умников, — смеялся он, описывая открытие конгресса старейшим членом его, профессором физики Оксфордского университета. — Но ведь это прекрасно! — воскликнула девушка, — это то, что давно надо было сделать! — Ну, разумеется, — отвечал старик, — чтобы наговориться вволю и приложить штамп такой почтенной фирмы к протоколу человеческой немощи. — Но почему, почему? Разве они не смогут указать путь спасения? — Милая барышня, да чьими же руками выполнят они то, что будет нужно, если бы даже им удалось найти такое магическое средство? Кто послушает этих милых седовласых ребят, этих наивных умников, воображающих себя солью Земли, когда всяческие короли, министры, канцлеры и прочая, и прочая думают лишь о том, чтобы не дать разгореться пожару революции и усидеть на своих насиженных местах? Кто объединит их в таком всечеловеческом усилии, которое потребуется для борьбы с этим огненным волдырем на теле Земли? Дагмара молчала. — А вот не угодно ли послушать, что делают те, которые могут что-нибудь сделать! Американский миллиардер Перкинс ассигновал пятьдесят миллионов долларов на опыты и организацию работ по устройству снаряда для полета с пассажирами в междупланетные пространства. Недурно, не правда ли? Он рассуждает резонно. Здесь дело окончено. Сто процентов за то, что через месяц, два, полгода, — безразлично, — Земля станет обиталищем не совсем удобным. Отлично. Почему бы не попытаться устроить маленькую колонию земнородных где-нибудь на Марсе или Венере? Все-таки полпроцентика вероятности против ста безнадежных. И будут делать и, может быть, кое-что сделают. И, несомненно, найдутся охотники подражать. Там, на Земле, пускай разделываются, как знают, а мы себе приготовили тепленькое местечко на Венере… Великолепно! Другие, поскромнее — те пока просто бегут в Америку, в Австралию, — ну, это публика мелкого размаха. А Перкинс, по крайней мере, решает вопрос радикально. За всеми этими разговорами Горяинов не забывал следить за судьбой соотечественника и делился с Дагмарой всем, что удавалось узнать. Но это ее не удовлетворяло: хотелось что-то предпринять, работать для освобождения Дерюгина, искать с ним встречи, а вместо этого приходилось оставаться в тупом бездействии и смотреть издали на угрюмый фасад с решетчатыми окнами, слушая рассказы странного собеседника и ощущая неудержимое нарастание смутной тревоги и тоскливой злобы. Наконец, на четвертый день как будто дрогнула стена, разделявшая ее и Александра. Горяинов одновременно с сообщением об ожидающейся назавтра забастовке большинства заводов и городских предприятий рассказал, что ему удалось получить свидание с инженером по протекции фон Мейдена. Виделись они всего десять минут и, конечно, в обычной тюремной обстановке. — Милейший земляк сначала встретил меня недоуменно и даже не особенно приветливо. Но, узнав, что я часто вижусь с вами и по мере сил стараюсь быть вам полезным, — сменил гнев на милость. Он просил передать вам, что он здоров, бодр и только изнемогает от бездействия и неизвестности о вашей участи и о том, какие чудеса творит виновник всей суматохи — атомный шар. О своей судьбе не беспокоится, но, между прочим, сказал, что завтра около полудня небольшую партию заключенных повезут куда-то на допрос и что у них поговаривают, будто хотят повторить историю Эйке и его товарищей. Дагмара схватила гостя за руку в таком порыве отчаяния, что тот осекся на полуслове, сообразив, что сболтнул лишнее. Мысленно выругав себя идиотом за неуместную откровенность, он попытался смягчить произведенное последними словами впечатление, но Дагмара ничего не хотела слушать. Она вся дрожала и ломала пальцы в немом отчаянии. — Послушайте, Горяинов, — вдруг заговорила она порывисто, — я буду завтра там, около него… — Ну, вот, этого только недоставало, — с досадой ответил старый эмигрант, — ведь это же совершенно бесполезно. Да и, наконец, нет ничего определенного, — быть может, только разговоры, навеянные общей тревогой и тюремной атмосферой, — ничего больше. — Все равно — я пойду; иначе я чувствую, что сойду с ума. Ее голос был так решителен, что Горяинов пожал плечами и сказал ворчливо: — Ну, что ж, пойдемте… Затем по обыкновению перешел к болтовне на злобу дня, стараясь отвлечь девушку от тягостных мыслей. Рассказал о первом заседании конгресса физиков в Париже, на котором, по-видимому, подтверждались его ожидания. Первые доклады, сделанные там, звучали довольно уныло. Ввести в берега разбушевавшуюся стихию в настоящий момент не было средств, а между тем процесс распространялся все дальше, и разрушения становились день ото дня значительнее. В заключение были произнесены горячие речи, призывавшие в неопределенных выражениях к упорной, лихорадочной работе, к борьбе во что бы то ни стало — и только. Никаких конкретных способов, годных для немедленного использования, предложено не было. Правда, в Кембридже начались работы по синтезу, склеиванию, так сказать, распавшихся атомов, но это были лишь первоначальные опыты, которые требовали многих лет систематических исследований, чтобы воплотиться в практически осуществимые мероприятия. А между тем росла паника на бирже, лопались одно за другим предприятия, неудержимо разливался поток народных волнений, и над всем этим носился огненный призрак растущего вихря. Старая Европа трещала по всем швам. Дагмара рассеянно слушала на этот раз собеседника и упорно, сосредоточенно думала о своем.Глава XII Освобождение
В воскресенье с утра остановились большинство заводов и центральная электростанция в Моабите. Мертвыми пальцами воткнулись в серое небо потухшие трубы; пустыми линиями протянулись по черному зеркалу асфальта трамвайные рельсы. По улицам пробирались редкие автобусы, нагруженные людьми так, что из-под живых гроздьев не видно было тяжело дышавшей машины. Испуганно проносились автомобили, и гудки их напоминали тревожный рев загнанного зверя. По улицам ходили усиленные патрули и разъезжали отряды конной полиции и рейхсвера. В центре города маршировали отряды добровольцев в полувоенной форме со значками различных союзов во главе со «Стальным шлемом». А на окраинах, обычно пустынных в это время, кипели человеческие волны, и мрачные балкончики расцвечивались красными флагами. Дагмара с утра заняла наблюдательный пункт на улице, неподалеку от главных ворот тюрьмы, нетерпеливо расхаживая по тротуару. Горяинов был подле, медленно двигаясь своей усталой, падающей походкой и мрачно посасывая папиросу. Он молчал и, видимо, был очень недоволен всей затеей. Около одиннадцати часов ворота распахнулись, и три закрытых автомобиля один за другим медленно выползли на улицу и двинулись к Вестену. Горяинов позвал такси, сел в него с Дагмарой, и они последовали на некотором расстоянии за таинственными машинами. Впрочем, это было не трудно, так как вожатые их, видимо, не торопились. Горяинову показалось, что сидевший рядом с шофером на переднем автомобиле штатский перекидывался иногда несколькими словами с какими-то подозрительными личностями на тротуаре. «А ведь пахнет чем-то скверным», — подумал он, но ничего не сказал своей спутнице. По дороге все чаще встречались отряды добровольцев с черно-бело-желтыми значками, преграждая путь автомобилям. Машины постепенно замедляли ход, как бы не будучи в состоянии пробираться через толпу. Наконец, в одной из узеньких улиц, неподалеку от полицейпрезидиума, они окончательно остановились. Начались ленивые переговоры шоферов с людьми, подошедшими вплотную к машинам. С тротуаров к добровольцам присоединилось несколько десятков человек в штатском. Толпа окружила автомобили, раздались свист и крики. Полиции нигде не было видно. Чей-то злобный голос вырвался из общего гама: — Давай сюда проклятых шпионов! Высокий человек в студенческой фуражке протискался к первому из автомобилей и дернул за ручку дверцы; она свободно подалась, и в четырехугольнике ее проема показалось бледное лицо арестанта. Студент взмахнул дубинкой, и человек упал на мостовую лицом вниз. Толпа на минуту замерла и подалась назад, но затем крики и свист возобновились. Студент подвинулся ближе к открытой дверце и заглянул в нее. Сильный удар кулака угодил ему в переносье, и он тяжело упал на только что сваленного им арестанта. Жилистая, загорелая рука подхватила на лету выроненную им дубинку, и человек огромного роста выскочил на мостовую, размахивая захваченным оружием, так что вокруг его головы образовался свистящий мелькающий круг. Толпа невольно шарахнулась. Следом за высоким парнем показался Дерюгин с железным прутом в руке, выломанным, очевидно, из-под сиденья. Прежде чем вокруг успели очнуться, двое арестантов подбежали ко второму автомобилю и открыли дверцы. Еще трое заключенных присоединились к своим товарищам. От третьей машины их оттерла надвинувшаяся и сгрудившаяся толпа, ревевшая теперь звериными голосами. Пятеро людей в арестантском платье с неудержимой яростью отчаяния бросились на ближайшую кучку врагов, отделявшую их от тротуара. Двое из нее упали под ударами оружия, остальные очистили проход. Хлопнуло несколько выстрелов, но в общей сумятице трудно было целиться; послышался звон разбитого стекла, новые крики и чей-то стон. Дагмара с Горяиновым не могли видеть всех подробностей этой молниеносной борьбы, но спустя несколько секунд пять серых фигур большими прыжками проскочили улицу поперек, добежали до стены и остановились спиной к ней и лицом к наседавшим противникам. Дагмара, увидев Александра в этом положении, бледного, с яростно закушенной губой и окровавленным лицом, вскрикнула и бросилась вон из такси. Горяинов еле успел схватить ее за руки, а в следующую секунду толпа снова оттеснила их от места схватки. Слышен был только рев голосов и отдельные глухие выстрелы. Девушка все еще рвалась вперед и кричала пересохшими губами: — Постойте! Постойте! В это мгновение в конце улицы показался большой шестиместный автомобиль, мчавшийся полным ходом с отчаянными воплями сирены.
Эти тревожные гудки и стремительность движения заставляли невольно бросаться в сторону всех, кто был на его пути. Толпа раздалась в смятении, открыв широкий проход. Двое или трое из нападавших, не успевших или не захотевших посторониться, были на всем ходу подмяты машиной и брошены под колеса. Еще минута — и автомобиль резко затормозил, остановившись в нескольких шагах от прижавшихся к стене четырех людей, — пятый уже лежал на тротуаре в луже крови. На подножку вскочил сидевший рядом с шофером и крикнул, будто скомандовал: — Сюда, товарищи!.. Секунда — и все четверо очутились внутри, машина рванулась и тем же бешеным ходом понеслась дальше по улице, опрокидывая встречных и оглашая воздух воем сирены. Все это произошло в течение двух-трех минут, и когда нападавшие пришли в себя, то вдали, по черному зеркалу асфальта, клубилось сизое облако дыма, а со стороны Нейкельна, откуда примчался автомобиль, по улице двигалась другая толпа под красными флагами, и гремели выстрелы. Такси, в котором приехали Горяинов с Дагмарой, скрылось при первых звуках стрельбы. Приходилось выбираться пешком. Девушка тихо плакала, и вся дрожала, как в ознобе. Ворчливый спутник почти насильно тащил ее в сторону от разгоравшейся свалки, в боковые улички, что-то недовольно бормоча сквозь зубы. Когда они выбрались, наконец, на относительно спокойное место, он сказал с обычной усмешкой: — Ну, поздравляю, милая барышня. Выскочили целыми, можно сказать, из пасти львиной, да еще вдобавок были зрителями героической борьбы и чудесного спасения моего соотечественника. А теперь — домой и ждите новостей.
* * *
Весь остаток дня Дагмара провела у себя в каморке на Фриденштрассе. В столице разыгрывался последний акт кровавой драмы. По всему городу гремели залпы и одиночные выстрелы, бормотали жестко и торопливо пулеметы, бухали пушки где-то около рейхстага; в нескольких местах черными призраками встало зарево пожаров. К вечеру шумная толпа запрудила улицу, и через полчаса запылала серая громада тюрьмы, словно выплевывая языки пламени и клубы дыма из решетчатых окон. На следующий день к утру стало как будто тише. Только внизу, под окнами, лежало несколько неподвижных тел, раскинув руки и глядя в небо остекленевшими глазами. К вечеру явился, наконец, Горяинов с видом еще большей, чем обыкновенно, усталости и молча опустился на стул. Костюм его был в беспорядке. Помятое лицо носилоследы бессонной ночи. Дагмаре он показался якорем спасения. — Ну, что? Рассказывайте. Что делается? Старик пожал плечами. — Скучно… Старая история, которая всегда воображает себя новой. Все это я уже видел и знаю. Плесень земли пенится и меняет формы… Девушка нетерпеливо передернула плечами. — Да бросьте вы философствовать, — вырвалось у нее, — скажите, что творится в городе? Видели ли вы Дерюгина? — Простите, мне с этого надо было начать, конечно, — улыбнулся гость, — встретился с ним сегодня утром в редакции «Rote Fahne». Кипит в горниле событий, строчит какие-то воззвания… Я ему передал ваш адрес. Он просил вас поберечь себя, обещал забежать, как только найдет свободную минуту. Раздался стук в дверь, и, прежде чем кто-нибудь успел ответить, она широко распахнулась, и в комнату ворвался Дерюгин. Он был всклокочен, в костюме с чужого плеча, с грязной повязкой на голове, бледный, утомленный, но весь сияющий торжеством. — Победа, друзья, победа! — закричал он еще с порога охрипшим, надорванным голосом. Дагмару точно подбросило мощным ударом. Она вскочила, еще не веря своим глазам, и потом инстинктивным движением, не помня сама, что делает, забыв о присутствии постороннего человека, бросилась к вошедшему и обняла его, смеясь и плача. Дерюгин, вдыхая знакомый аромат волос, невольно закрыл глаза. Сплетаясь с радостью победы, это первое прикосновение было как крепкое, терпкое вино. Горяинов сидел в углу и улыбался.* * *
Настали новые дни, странные, радостные и вместе тревожные. В городе и по всей стране на развалинах старого шла лихорадочная, горячая работа. Да и победа, как всегда бывает в таких случаях, только в первый момент казалось полной. Старая жизнь упорно сопротивлялась. А между тем медлить было нельзя. Впереди была задача, от решения которой зависела участь всего человечества. То, что было сделано, являлось лишь прелюдией. И Дерюгин с энтузиазмом отдался этой работе, которая тянулась всеми нитями к тому жуткому дню, когда пламенный шар, сея первые жертвы, вырвался на улицы Берлина. Прежде всего, он с жадностью набросился на газеты и всю литературу последних дней, какую мог получить, чтобы наверстать потерянное в тюрьме время и воссоздать полную картину того, что происходит. Он следил за опустошающим бегом огненного шара за эти две недели, вчитывался в противоречившие друг другу гипотезы о его природе и возможном ходе процесса в ближайшем будущем и с каждой прочитанной статьей становился все угрюмее и задумчивее. Особенно подействовал на него мрачный тон докладов в заседании парижского конгресса физиков. Потом он принялся за сообщения из России, о которых до сих пор писали мало и вскользь. Теперь картина выяснялась. Первые сведения о странных явлениях в Германии и Польше, о большой шаровидной молнии, наделавшей бед в восточном Бранденбурге и Познани, были встречены русской печатью очень осторожно. Телеграммы были, конечно, тоже полны необычными фактами, но передавались они больше как слухи, и всей истории не придавали серьезного значения. Однако взрыв в Торне и пожар Варшавы заставили газеты сразу изменить тон и заговорить серьезно об угрожающей с запада опасности. А не успела еще высохнуть краска первых тревожных телеграмм и статей по поводу польских событий, как уже горели леса по Березине, гибли в дыму пожаров села и деревни Волыни по пути нежданного гостя, и широкою лентою пролегали в долине Днепра и Буга обугленные, выжженные луга и нивы. Московская «Правда» писала по этому поводу: «Мы не можем еще ясно представить сущности событий, происходящих на нашей западной границе, и истинного размера бедствий, которыми они угрожают. Однако пример Варшавы показывает, что дело очень серьезно; тревога и паника, охватившие Европу, подтверждают это предположение. Возможно, что мы стоим перед явлением, всего значения которого в данную минуту еще не в состоянии взвесить. Пренебрежение к происходящему может стоить слишком дорого. Поэтому мы говорим открыто: приближается опасность. Слово за наукой: она должна оценить размеры этой опасности и указать, как с ней бороться. Времени терять нельзя». И все же общественное мнение раскачивалось медленно. Необычность положения, недостаточное знакомство с механизмом происходящего процесса в том виде, как он рисовался уже по сведениям заграничной печати, — все это не позволяло почувствовать истинный масштаб событий. Но вот 10-го в один и тот же день пришло известие о пожаре Фастова, уничтоженного огненным шаром, и вместе с тем во многих газетах появилась в выдержках знаменитая статья, помещенная в «Фигаро», и стало известно о произведенном ею впечатлении на Западе. Теперь сомневаться было нельзя, — то, что случилось, должно было рассматривать как небывалую катастрофу, как угрозу, значения которой нельзя было преувеличить. Как ни туманен казался самый характер явления, — его практический смысл был очевиден. Этот день послужил переломом. Всколыхнулись широкие общественные круги, заговорили народные массы, вся жизнь была захвачена необычайным возбуждением. На заводах по всем промышленным центрам огромной страны шумели многолюдные собрания под знаком настроения, выраженного одним из выступавших на «Красном выборжце» ораторов в конце его страстной речи двумя словами: — Даешь науку! Мы не знаем, что надо делать, чтобы отвратить надвигающуюся грозу, — говорилось на этих собраниях, — но это должны сказать нам наши ученые. Нам ясно одно: нельзя сидеть, сложа руки; укажите нам дело, и мы его выполним под вашим руководством. Зашевелились и общественные организации. И прежде всех выступил Авиахим. На экстренном заседании его президиума уже 11-го числа было постановлено начать энергичную кампанию в печати по ознакомлению населения с создавшимся положением дел в возможно популярной форме, а вместе с тем обратиться, с одной стороны, к правительству, а с другой, к научным учреждениям с требованием немедленно, не теряя ни одного дня, взяться за дело научной организации борьбы с грозной опасностью. Правительство не заставило себя ждать. 12-го числа во все уголки Союза по радио и телеграфу было сообщено, что организована особая комиссия, составленная из представителей центральной власти, делегатов от общественных организаций и научных работников-специалистов. Чрезвычайные полномочия позволяли ей под контролем правительства руководить непосредственно всем делом предстоящих работ на территории Союза. В числе членов комиссии Дерюгин прочел фамилии двух известных профессоров, у которых он работал в Москве и лично хорошо знал. Вся эта картина постепенно охватывающего страну деятельного возбуждения, начало планомерно организованной работы, вся лихорадочная атмосфера горячего дела глубоко потрясли молодого инженера. Он почувствовал, что не усидит здесь, что он должен во что бы то ни стало окунуться в него с головой. Он сидел еще за ворохом газет и журналов, когда пришел Горяинов. — Что, батенька, услаждаетесь дымом отечества? — спросил он, пожимая руку хозяина. — Да, — улыбнулся тот, — хорошо теперь у нас там… — Гм, — промычал гость, — решетом воду носят. Резолюциями и воззваниями собираются заливать мировой пожар. Дерюгин пожал плечами. — Человек работает с толком, когда крепкие руки в союзе с ясной головой. Общество достигает цели, когда трудовые массы — в союзе с коллективным разумом, осуществляемым в науке. — Туманно и невразумительно. А по-моему — все это российская болтовня. Вообще же — пустое предприятие и бесполезное потрясание воздуха. Эту занозу из тела Земли уже не вырвать. Вы видите, генералы от науки говорят красивые слова, пишут умные статьи, делают ученые доклады, а дело ни на шаг не двинулось вперед. Между тем огненный ком растет и набухает с каждым днем, и остановить его рост не в силах человеческая мысль… Чему, впрочем, остается только радоваться, — закончил старик с обычной усмешкой. Дерюгин пожал плечами. — Вы рано радуетесь, многоуважаемый. Разве вы не читали сегодняшних газет? — Это вы насчет ползающих магнитов, при помощи которых собираются взять в плен бунтующую стихию? Но ведь это же просто покушение с негодными средствами… Речь шла о сообщении из Парижа относительно предложенного одним из членов конгресса физиков плана задержать движение атомного вихря при помощи колоссальных подвижных электромагнитов, которые создаваемым ими магнитным полем должны были влиять на электрические излучения шара и вместе с тем на направление и скорость его собственного движения. — Да, об этом, — ответил Дерюгин, чувствуя, как растет в душе глухое раздражение к странному собеседнику, — почему же вы считаете это дело невыполнимым? — Да вы прекрасно и сами знаете. Пока вы успеете соорудить такие махины, — потому что ведь они должны быть поистине чем-то грандиозным, — ваш миленький шар распухнет в такой пузырь и будет полыхать зноем на такое расстояние, что все ваши магнитики окажутся никому не нужными игрушками… Дерюгин молчал, не находя возражений. — Но допустим даже, что удалось бы взять его в плен и остановить его веселое путешествие, — продолжал Горяинов, — а дальше что? — Во всяком случае это дало бы отсрочку, возможность использовать время, чтобы найти способ ликвидировать несчастье… — Так. А разве вы не помните, — смеялся старик, — что работы в Кембридже рассчитывают дать ощутительные результаты не раньше, чем этак годика через три-четыре. Вы не подсчитали, во что обратится за такой срок шар, если он будет расти даже с той скоростью, как и до сих пор, что, как вы знаете, очень маловероятно? Дерюгин, ходивший по комнате из угла в угол, вдруг круто остановился перед собеседником и сказал, глядя в упор в бесцветные усталые глаза: — Ну, я вам вот что скажу, милейший: если бы даже то, что вы говорите, оказалось правдой, и борьба была бы бесполезна в смысле окончательного результата… если бы даже эта общая гибель была неизбежна, то все же человеческое достоинство требует борьбы до последней минуты! Мы должны сопротивляться, должны оставаться на посту до конца. Пусть нас с него снимут, но сами мы не уйдем! — Ну, это другое дело, — усмехнулся Горяинов, — только я думаю, что человеческое стадо взбесится задолго до этой последней минуты, несмотря на все ваши старания, и мне очень хотелось бы взглянуть на этот мировой бедлам.Глава XIII Выход найден
Дни по внешности были обычными; вовремя вставало солнце в привычном месте из-за моря крыш и леса труб знакомого города, вовремя разукрасились цветами клумбы скверов и наливались зеленью бульвары; по-прежнему приходили и отходили тысячи поездов к двумстам городским вокзалам, грохотали и звенели трамваи, неслись автобусы, автомобили, велосипеды; по-прежнему катились нескончаемые людские волны. В установленные часы открывались и закрывались учреждения, рестораны, театры, кинематографы, — весь сложный механизм большого города, пережевывавший четыре миллиона тесно набитых в каменных коробках людей. Но такова была только видимость. Дни были, точно годы, и каждый час нес что-нибудь необычное в необузданном беге времени. Страшно стало утром развертывать газету. Не потому, чтобы удручали развертывавшиеся события, а потому, что дикая стремительность жизни, сорвавшейся с твердых устоев, давила именно этой чрезмерной скоростью. Только накануне отшумели события в Берлине, опрокинувшие старую жизнь; третьего дня была охвачена восстанием Вена; вчера телеграф принес известие, что в Варшаве, глухо бурлившей после недавнего пожара, кипит на улицах бой, и правительство бежало в Краков; в Париже биржевая паника охватила уже весь финансовый мир, и одно за другим лопались крупнейшие предприятия, а предместия ощерились баррикадами. Балканский полуостров, который пересекал сейчас по долине Дуная атомный шар, весь охвачен был паникой и заревом пожаров. Дагмара воспринимала все это, как тяжелый болезненный кошмар, от которого мучительно хотелось проснуться. Два дня после встречи с Дерюгиным она не замечала окружающего. Поглощенная новыми переживаниями, захваченная безраздельно личной, интимной жизнью, вся трепещущая в таинственном и полном неожиданностей мире, она словно стеной отгородилась от всего постороннего. Но назойливое, оглушительно грохочущее настоящее оказалось сильнее ее. Уже на третий день Дерюгин с утра исчез из квартирки на Лейбницштрассе, где они устроились вместе, и явился только к вечеру озабоченный, возбужденный и усталый. Он был по-прежнему ласков, и знакомыми волнующими нотками звучал его голос, но он был уже не тот. Неотвязные мысли, видимо, волновали его; то и дело рассеянно и невпопад отвечал он на вопросы и всю ночь напролет затем работал над какими-то вычислениями и выкладками. А Дагмара, уткнувшись в подушки, тихо плакала, не в силах сдержать душевную боль. Это повторилось и на следующий день; вечером же, вернувшись домой, Дерюгин сказал как бы между прочим: — А, знаешь, мне придется съездить в Москву. Я не могу оставаться в стороне от огромной работы, которая идет там сейчас. Дагмара почувствовала, как кровь хлынула к неистово заколотившемуся сердцу. — Надолго? — Видишь ли, я и сам еще не знаю. Все зависит от того, как пойдут дела, и что я найду там. Возможно, что застряну основательно. — Ты едешь один? — Сейчас во всяком случае один — слишком неопределенно положение. И потом мне удалось получить место на пассажирском аэроплане, отправляющемся завтра ранним утром… — Как? уже завтра? — Да, ведь ты понимаешь, время такое, что нельзя терять ни одного часа. А я волею обстоятельств оказался, так сказать, у истока событий. Во всяком случае я тебе буду писать… Там видно будет. Возможно, что скоро и тебе можно будет присоединиться. Но пока… — Да, да, конечно… Дело прежде всего. Я помогу тебе укладываться… Больше между ними ничего не было сказано, но глухая боль и недоумение остались в душе неуемными. С отъездом Дерюгина одиночество сомкнулось вокруг девушки, казалось, еще угрюмее, чем в те дни, когда между ними была тюремная решетка. Горяинов также исчез: он уехал накануне в Париж, чтобы взглянуть поближе на «парламент генералов от науки». Правда, теперь появился Гинце, который просиживал у нее целыми часами, но его присутствие не облегчало Дагмару. Он сам был удручен всем происходящим, ворчал и жаловался, что в мире творится какая-то нелепость, что сейчас не время заниматься революциями; или сидел молча, как будто собираясь заговорить о чем-то более важном, но не решался. На улице как-то Дагмара встретила брата. Он шел в штатском (рейхсвер был распущен, и набиралась новая армия) и имел такой унылый, растерянный вид, что девушке стало жалко его. Она его окликнула и тут же раскаялась. Эйтель на секунду остановился, но при виде сестры лицо его застыло в маске угрюмой злобы, и он, заложив руки за спину, прошел мимо, не сказав ни слова. Так замыкался все теснее круг одиночества…* * *
Дерюгин в пятницу к вечеру опустился в Москве на Ходынском поле. Москва показалась ему тихой и пустой после грохочущего, суматошливого, словно готового взорваться, разлететься на куски от избытка внутренней энергии Берлина. Но уже скоро, окунувшись в знакомые кривые улицы, влившись в толпу, сновавшую по бульварам, он поймал бурливый ритм дыхания любимого города и почувствовал себя снова москвичом с головы до ног. Для этого нужно было немного: встреча с двумя-тремя приятелями и несколько часов времени, чтобы возобновить порванные связи. Москва жила обычной жизнью, похожей на пестрый, яркий узор. Азия и Европа, заскорузлый быт и задорная новая культура, колокольный звон и море красных плакатов и флагов над шумными толпами; грузные, молчаливо ушедшие в землю стены Кремля и грохочущие сталью и железом заводы, — тесно переплетенные прошлое и будущее сливались в многоцветное сегодня, бодрое и уверенное в себе. Правда, сейчас было что-то новое в этом кипении. Тревога переживаемых дней наложила свой отпечаток на жизнь. О ней говорили афиши со стен, возвещавшие о бесчисленных лекциях, докладах и митингах на злобу дня, заголовки газет, расхватываемых на лету, как в дни особенно важных событий, — но и только. Возбуждение первых дней уже миновало, непосредственной опасности не было, и, несмотря на неулегшуюся тревогу, росло сознание, что «все образуется». Этому сильно содействовала чрезвычайная комиссия, приложившая много усилий, чтобы наряду с широким ознакомлением населения с сущностью явления внедрить в массах уверенность в конечной победе. Таким образом, здесь работали в значительно более спокойной обстановке, чем на взбудораженном Западе. Дерюгин привез с собою довольно подробные схемы и основные расчеты по поводу выдвинутого в Сорбонне проекта постройки подвижных электромагнитов. Ему сообщил эти данные в Берлине один из профессоров института, который участвовал в Парижском конгрессе и вернулся на несколько дней в Германию по вызову только что сорганизовавшегося правительства. В виду важности доставленных сведений Дерюгин должен был на следующий же день сделать доклад в специальном заседании чрезвычайной комиссии. Предстоял «большой день», так как приглашен был целый ряд представителей от ученых и общественных организаций, не входящих непосредственно в состав комиссии, и, помимо сообщения Дерюгина, ходили слухи о каком-то необычайном предложении, которое собирался сделать профессор одного из окраинных университетов, работавший над взрывчатыми веществами, но до сих пор мало известный даже в академическом мире. Он выпустил несколько лет назад обстоятельную монографию о свойствах аммонала и, как говорят, работал над новым взрывчатым веществом необычайной силы. О нем ходило два-три анекдота, рисующих его как очень скромного и застенчивого человека и обладателя феноменальной памяти. Рассказывали, что он очень боялся своей жены, тщедушной и нервической дамы, прятавшей от него какую-нибудь необходимую принадлежность туалета, когда она находила, что муж слишком увлекается «несносной химией» и отбивается от рук. Злые языки утверждали, что все же был случай, когда профессор ушел из-под ареста в таком виде, который доставил немалое развлечение праздному люду и уличным мальчишкам богоспасаемого города Н. Вот все, что было известно об Андрее Петровиче Воздвиженском и что сообщил Дерюгину член комиссии, его давнишний университетский профессор, через которого инженер и получил предложение участвовать в предстоящем заседании. Когда Дерюгин за четверть часа до начала явился в университет, где должно было состояться собрание, — небольшой зал был уже полон. Сдержанный, тревожный гул стоял в толпе, разбившейся на кучки в ожидании звонка председателя. Видно было, что если город после первых волнений сравнительно угомонился и поверил, что «все образуется», то те, на кого возлагали надежды, далеко не были спокойны. Лица были бледны и угрюмы. Некоторые в задумчивости сидели молча; другие нервно ходили по залу и бормотали что-то про себя. То в одной, то в другой группе загорался вдруг оживленный спор и мгновенно падал под мрачной репликой кого-нибудь из собеседников. Среди пиджаков, толстовок и косовороток штатского люда виднелось несколько человек во френчах: это были представители военного ведомства, — и их замкнутый суровый вид подчеркивал тревожное настроение собрания. Точно в назначенный час раздался звонок, и все поспешили к своим местам. Председатель, длинный, костистый человек с высоким покатым лбом и упрямо сжатыми челюстями, коротким заявлением открыл собрание и предоставил слово Дерюгину. Инженер начал с подробного описания начальной стадии процесса, свидетелем которого он был, вплоть до того момента, когда огненный шар вырвался из объятой пламенем лаборатории. В общих чертах все это было известно, но подробный рассказ очевидца невольно привлек внимание. Описание смерти сторожа, первой жертвы в ряду последующих тысяч, вызвал содрогание, как предзнаменование грозного будущего. Затем Дерюгин перешел к изложению плана постройки электромагнитов. В принципе дело было сравнительно просто. Разлагавшаяся материя выделяла при своем распаде целый ряд электрических излучений, частью в виде положительно заряженных материальных же частиц, частью в виде потока отрицательных электронов и, наконец, волнообразных колебаний различного характера. Все они создавали вокруг шара на значительном расстоянии магнитное поле. Это подтверждалось наступлением необыкновенно сильных магнитных бурь, когда при приближении шара стрелка компаса начинала метаться во все стороны, как случилось на пароходе «Умберто»; магниты нередко перемагничивались, то есть меняли свои полюса, нарушалась работа радио, телеграфа и телефона и тому подобное. Отсюда вытекало и обратное положение. Достаточно мощное постороннее магнитное поле, не влияя на силу и скорость излучений шара, могло менять их направление в ту или иную сторону. Это открывало возможность оказывать воздействие и на движение источника энергии и до известной степени им управлять. Но практическое осуществление идеи наталкивалось на ряд крупных затруднений. С одной стороны, магниты следовало сконструировать невиданной еще мощности, чтобы проявлять их действие на известном расстоянии, а с другой стороны, они должны были быть подвижными, способными следовать за атомным вихрем по любой местности. Таким образом, дело сводилось к постройке огромной движущейся установки, по мысли автора — тракторной, заключающей группу двигателей в несколько десятков тысяч лошадиных сил, динамо и питаемые последней электромагниты. Механизм получался колоссальный, чрезвычайно сложный, однако ряд цифровых данных позволял думать, что проект не являлся неисполнимым. Во всяком случае, постройка таких машин требовала огромного труда и полного напряжения всей техники и промышленности страны. Во Франции, по-видимому, уже приступили к работам. Осуществить эту идею у нас было, конечно, очень трудно, но другого выхода не предвиделось. Надо было бросить все остальное, но в течение одного, максимум полутора месяцев построить десяток таких установок. Когда Дерюгин кончил и обвел глазами собрание, он увидел будто других людей. Сумрачные лица прояснились, глаза зажглись живым огнем. Язык цифр, ясный и убедительный, давал опору и возможность перейти к делу. Конечно, задача предстояла почти неодолимой трудности, и она не давала еще окончательной победы; но все же, наконец, ставилась осязательная, требующая работы цель. По предложению председателя, Дерюгину поставили ряд вопросов по деталям проекта, но было ясно, что его необходимо принять, как единственно пока возможный исход. После непродолжительных прений было постановлено просить правительство приступить немедленно к осуществлению намеченного вчерне плана. Слово было за Воздвиженским. К столу президиума вышел маленький, тщедушный старичок со взъерошенными волосами, реденькой бородкой и пронзительными, слегка раскосыми глазами. Он оглянул притихшее собрание рассеянным взглядом, сделал широкий взмах рукой, точно захватывая что-то в сухонький кулачок, и заговорил высоким тенором: — Я очень рад, что ясные данные докладчика позволили собранию стать па твердую почву цифр и формул. Если б не было этого доклада, я, вероятно, не решился бы выступить со своим предложением, так как принятый только что план является необходимой предпосылкой к тому, о чем я хочу говорить. Не забудем, что постройкой электромагнитов задача еще не решается. Атомный вихрь может быть на некоторое время взят в плен, но он все же будет неуклонно расти с прогрессирующей скоростью, и, значит, впереди все-таки катастрофа. Где искать выход? Первая мысль — попытка остановить процесс, заняться синтезом, связыванием материи из обломков разваливающихся атомов. Но надо честно и откровенно сознаться — это вещь безнадежная. На той стадии процесса, до которой он дошел уже сейчас, — перевести практически в дело миниатюрные работы в Кембридже — невыполнимо. Для этого нужны годы работы. Мы их не имеем. Но если злокачественную опухоль нельзя лечить, ее удаляют прочь. Я именно это и предлагаю: надо выстрелить атомным шаром в небо… Возгласы недоумения прервали докладчика; зал гудел, как раздраженный улей; сзади кто-то крикнул: — Бросьте шутки! Председатель зазвонил и сказал что-то Воздвиженскому, чего не слышно было за общим шумом. Старичок у стола весь взъерошился, задвигался и замахал руками. — Я вовсе не собираюсь шутить, — закричал он, — вам не угодно аналогий? Давайте говорить прямо. Пока атомный шар на Земле, — с ним ничего сделать нельзя. Следовательно, его надо выбросить туда! — старичок указал рукой на потолок. — Конечно, выстрелить им, как снарядом, немыслимо: он не сможет пронизать атмосферу, — благодаря своей малой плотности. Значит, надо заставить воздух двигаться вместе с ним. Надо создать газовую волну, которая вылетела бы за пределы атмосферы, как солнечные протуберанцы, и вынесла бы вместе с собою атомный шар, — вот моя мысль. — Но позвольте, — закричал кто-то с места, — даже стальные снаряды орудий теряют девять десятых своей скорости благодаря сопротивлению воздуха! — Да, разумеется, — вцепился Воздвиженский в нового оппонента, — потому что они летят в нижних, плотных слоях его. А с тех пор как немцы догадались под Парижем задирать дуло пушек круче кверху, — их бомбы летели большую часть пути на высоте 30 километров, где плотность воздуха уже ничтожна. И они стали бросать свои снаряды на сотню километров. Мы же будем стрелять вертикально кверху. А во-вторых, речь идет не о бомбе, повторяю, а о сплошной газовой волне и о заряде не в сто-двести килограммов, а в сотни, тысяч тонн взрывчатых веществ! Вот тут у меня тоже формулы и выкладки. Цифра получается солидная, но не фантастическая… — Воздвиженский замахал пачкой мелко исписанных листков. Неистовый шум снова покрыл его слова. Он постоял несколько минут среди несмолкающего гомона, потом засеменил к своему месту. Среди общего смятения слово снова взял Дерюгин. Он уже с самого начала, слушая странного старика, почувствовал, как его охватывает бурная радость. Для него стало совершенно ясно: найдено единственно возможное решение задачи. — Товарищи, — заговорил он медленно, ясным, торжественным голосом, — имейте терпение выслушать меня и вдумайтесь в то, что здесь говорилось. Андрей Петрович нашел единственный возможный выход. Вы считаете его идею неосуществимой? Давайте рассуждать. Разве вы не знаете о таких волнах, выбрасываемых за пределы газовой оболочки небесного тела? Профессор упомянул о протуберанцах. Я напомню вам то, что имело место на Земле. Вы знаете, конечно, о катастрофе 1883 г. на острове Кракатау. Во время огромной силы извержения вулкана из кратера его поднялся столб пара и газов на необычайную высоту. Вам должно быть известно, что эта газовая струя достигла верхних слоев атмосферы. Мельчайшая пыль, унесенная ею, была выброшена туда и, оставаясь на такой высоте в течение целого года, окрашивала в пурпуровый цвет небо во время солнечных закатов по всей земле. Вот вам пример нашего земного происхождения. А теперь несколько грубых цифр. Задача состоит в том, чтобы всю массу воздуха, расположенную над пушкой, поднять кверху, выбросить за пределы атмосферы, то есть произвести некоторую работу. Вес его, приходящийся на каждый квадратный сантиметр поверхности земли, как вам известно, несколько больше одного килограмма. При диаметре пушки в двести метров сечение ее канала получится около тридцати тысяч квадратных метров; возьмем с запасом тридцать пять тысяч. На такую площадь приходится груз воздуха около 350 миллионов килограммов. Если считать, что всю эту массу надо поднять на триста километров — высота земной атмосферы (это, конечно, преувеличено, так как верхние слои воздуха ближе к этому пределу), то необходимо произвести работу в 350 миллионов, помноженных на триста тысяч метров, то есть около ста триллионов килограммометров. Между тем один килограмм нитроглицерина при полном сгорании может дать до 730 тысяч килограммометров энергии, а миллион тонн его, как легко вычислить, до 730 триллионов килограммометров, то есть в семь раз больше, чем нужно. Ну, конечно, не вся эта энергия будет использована на работу, — много пропадет зря на нагревание воздуха, сотрясение земли и прочее, но если пятнадцать процентов пойдет в дело, — цель будет достигнута. Идея, как видите, в принципе не невозможная. И если вдумаетесь внимательно, то увидите, что и единственная. Или — или. Другого выбора нет! — Ну, прекрасно, — сказал среди наступившей тишины все тот же протестующий голос, — допустим, что все это так. Но каким же образом вы засадите шар в вашу фантастическую пушку? — Насколько я понял Андрея Петровича, он имел в виду направить его на приготовленный заряд именно при помощи электромагнитов и взорвать в момент прохождения над ним атомного шара, — ответил Дерюгин. Старичок стоял на своем месте, одобрительно кивая головою, и вдруг порывисто бросился к столу, схватил руку Дерюгина и стал трясти ее, не находя слов. На глазах у него показались слезы. После этого еще двое профессоров высказались за проект Воздвиженского. Посыпались, конечно, и возражения, на которые отвечали то Андрей Петрович, то Дерюгин, и которые не дали ничего существенного, так как касались второстепенных деталей. Подошел к столу представитель военного ведомства. — Насколько я понял из доклада и прений, — заговорил он сухим тоном, — для выполнения проекта потребуется весь наличный запас взрывчатых веществ Республики. Подумали ли авторы его о том, что мы не имеем права таким образом обезоруживать армию? Я, по крайней мере, не могу согласиться на эту меру… Ему ответил председатель: — Я полагаю, товарищ, что ваше заявление основано на недоразумении. Мы здесь не можем отстаивать интересы ведомств. Понимаете ли, речь идет об участи земного шара. Там, в Европе, такая постановка вопроса была бы понятна, но мы должны иметь мужество прямо взглянуть в глаза тому, что нас ожидает. Надо сначала подумать о судьбе человечества, а о наших делах вспомним, когда опасность минует. На этом прения были закончены. Собрание поручило комиссии, в которую вошли Воздвиженский, Дерюгин и еще до десятка участников, в течение двух дней разработать подробный проект и основные расчеты с тем, чтобы немедленно можно было начать работы, о чем было составлено обращение к правительству. Дерюгин вернулся к себе опьяненный пережитым возбуждением и сел за письмо Дагмаре.Глава XIV За и против
Проект был настолько детально разработан Воздвиженским, что оставалось обсудить только отдельные подробности и наметить общий план работ. В конечном итоге он рисовался в таком виде. Предстояло в трех-четырех пунктах территории Республики, в зависимости от общего запаса взрывчатых веществ, соорудить колоссальные пушки, представляющие толстостенные бетонные колодцы до двухсот метров диаметром и такой же глубины. На дне таких искусственных вулканов должно было быть сосредоточено свыше миллиона тонн пороха и различных взрывчатых веществ, в том числе и андреита, изобретенного Воздвиженским. Так как изготовление его было сравнительно несложно, а опыты показали колоссальную силу этого нового препарата, представляющего производное нитроглицерина, то намечалось немедленно же начать производство его в возможно большем масштабе. Каждый из зарядов на дне бетонных пушек делился на три, расположенных друг над другом части, которые предполагалось взорвать последовательно через полсекунды, чтобы дать нарастающую по силе скорость движению газовой струи. Впрочем, к этой мысли Дерюгин отнесся отрицательно, считая, что никакие меры не смогут предохранить нижние два заряда от моментальной детонации при взрыве верхнего, принимая во внимание невероятную силу удара, так что все равно вся масса пороха должна мгновенно превратиться в газы. Работы были рассчитаны на тридцать два дня при полном напряжении всех технических сил и материалов. Принимая во внимание постройку электромагнитов, которая являлась необходимой частью общей задачи, и учитывая короткий срок, — предстояло дело, не имеющее себе равного по грандиозности замысла и напряжения энергии. На несколько недель грохочущие железом заводы должны были день и ночь работать непрерывно с утроенной, удесятеренной силой. Весь этот план не встретил возражений, и при обсуждении его в комиссии, не считая некоторых подробностей, его одобрили полностью. Правда, некоторое замешательство вызвали слова одного из представителей медицинского ведомства. — Мы развивали до сих пор наши предположения, как будто всем этим событиям предстоит разыграться на шахматной доске. Но ведь ваши бетонные пушки будут сооружаться в населенных местностях, среди живых людей. Катастрофа на Кракатау стоила жизни сотням тысяч, и район разрушения охватывал площадь в сто-сто пятьдесят километров в окружности, на которой не осталось ничего живого. Такую же гекатомбу собираемся и мы принести сейчас при осуществлении этого плана. Представляете ли вы себе, чем угрожает такой выстрел? Не будет ли он сам страшнее того, что он должен уничтожить? Колоссальная катастрофа, невообразимой силы ураган, полное разрушение громадной площади, гибель в несколько секунд десятков, быть может сотен тысяч людей, — не слишком ли дорогая это цена? И опять Воздвиженский, весь взъерошенный, похожий на большую рассерженную птицу, махал руками и кричал надорванным голосом: — Вы несете вздор, товарищ! — на предупреждающий звонок председателя говоривший только отмахнулся, как от докучливой мухи. — Вы, значит, не хотите понять, какая угроза надвинулась на мир. Вы говорите о сотнях тысяч жертв, которые повлечет за собой выстрел! Но если мы его не сделаем, в огне космического пожара погибнет все человечество, понимаете ли: все — без всякого следа, со всей его техникой, культурой, со всеми радостями и страданиями, со всей мощью мысли, которую мы считали бессмертной, — все без остатка. И не только человечество, но и вообще и даже мертвая материя, колыбель этой жизни. Поймите же, наконец: полное всеобщее уничтожение, первозданный хаос, космическая пыль, ничто! Вот что впереди! Это не шутка, не сенсация дешевой газетки, а неотвратимое, неизбежное и недалекое будущее! А во-вторых, — продолжал Андрей Петрович уже спокойнее, — дело обстоит, конечно, иначе, чем при извержении на Кракатау. Там главной причиной огромного количества жертв была гигантская волна, хлынувшая на прибрежные местности из океана и смывшая целые населенные области. Собственно же разрушения от самого взрыва и урагана составляли меньшую долю в общем итоге. И в-третьих, мы имеем возможность подготовиться и эвакуировать заранее население из угрожаемых районов. — Ну, а непосредственные исполнители вашего фантастического плана? Те, кто будет участвовать в этой дикой охоте, загоняя шар к заряду, — что будет с ними? Воздвиженский пожал плечами. — Они, конечно, люди обреченные. Но неужели вы думаете, что не найдется нескольких десятков человек, готовых пожертвовать собой в таком деле? Разве даже здесь, среди нас, отыщется хоть один, который отказался бы от такой чести? Я вас спрашиваю: разве никто здесь не откликнется на призыв стать в их ряды? Несколько секунд длилось мертвое напряженное молчание. Казалось, дыхание остановилось в зале. Стук маятника больших стенных часов в углу падал тяжелыми глухими ударами в жуткой тишине. Дерюгину казалось, что она никогда не прервется, а вместе с тем каждое мгновение давило растущим непереносимым гнетом. Будто посторонняя, вне его лежащая сила вдруг подбросила его, и, разрывая молчание, он протянул руку клятвенным жестом: — Я готов! Все вскочили с мест и, охваченные общим подъемом, сгрудились к столу президиума. Воздвиженский стоял у стола с простертыми руками и мертвенно бледным лицом, на котором только раскосые глаза горели нечеловеческим огнем. Прошло с четверть часа, пока улеглись страсти, и наступило относительное спокойствие. План Воздвиженского был принят окончательно. Вместе с тем председатель собрания объявил, что получен уже список заводов, переходящих в непосредственное подчинение чрезвычайной комиссии, и сделаны соответствующие распоряжения всем заинтересованным ведомствам. Работы могли начаться немедленно. Непосредственное наблюдение за ними было поручено Воздвиженскому. Вместе с тем предстояло сделать все возможное, чтобы осуществить его мысль по крайней мере в европейском масштабе. В согласии Германии сомневаться не приходилось. Надо было настаивать, чтобы к начатой работе примкнули все народы континента. Для этого следовало, прежде всего, склонить на свою сторону Парижский съезд физиков, который третьего дня объявил, что не прекратит своей работы до тех пор, пока Земля не будет освобождена от угрозы. В состав делегации, отправляемой с этой целью в Сорбонну, был включен Дерюгин, и уже на следующий день утром он покинул Москву, кипевшую лихорадочной деятельностью.Глава XV Что произошло в Сорбонне
Остановку на два часа в Берлине Дерюгин использовал для того, чтобы повидаться с Дагмарой. За эти дни невольной разлуки он мало думал о ней, охваченный работой и подавляющим сознанием огромности начатого дела. Но когда он увидел очертания громадного города, когда встали по обе стороны грохочущих улиц знакомые силуэты многоглазых каменных чудовищ, пережевывавших в своих утробах миллионные толпы, то поглощая их в определенные часы, то выплевывая снова, как непереваренную жвачку, — инженера охватило сознание абсолютного одиночества, затерянности в этом клокочущем живом месиве, и вместе с ним вспыхнуло с новой силой знакомое чувство, заглушённое сутолокой и сменой впечатлений последних дней. Он почти бегом поднялся по крутой лестнице до четвертого этажа, и две-три минуты до того, пока открылась знакомая, обитая черной клеенкой дверь, — показались ему бесконечными. Когда, наконец, в темном ее четырехугольнике появилось бледное, похудевшее лицо девушки, вдруг вспыхнувшее радостным румянцем, — он ощутил что-то вроде угрызений совести. На минуту он забыл о начатой борьбе, об огненном шаре, где-то там, на юге, выметающем плодородные долины Болгарии, обо всей взбаламученной Европе, — он видел только девушку с пепельными волосами, радостно ему улыбавшуюся. Дерюгин бросился к ней с раскрытыми объятиями, но она, прежде чем протянуть руки, предостерегающе подняла палец к губам и оглянулась назад. В дверях из комнаты, служившей им столовой, стоял Гинце и смотрел на них с кривой усмешкой, прятавшейся в неровно подстриженных усах. — Вот вы и снова в наших палестинах, — протянул он в виде приветствия и добавил саркастически: — Ну, что же? Привезли магическое средство из благословенного отечества? Дерюгин с холодным недоумением взглянул на ассистента и, не отвечая ему, обратился к Дагмаре: — Я сюда проездом всего на два часа; еду дальше в Париж для доклада на съезде физиков. Мне хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз. Простите… — отнесся он в конце к Гинце. Тот стоял неподвижно, выжидательно глядя на Дагмару. — Я прошу извинения, — сказала девушка, слегка покраснев, — нам надо обо многом переговорить с господином Дерюгиным… — Ну, разумеется, — ответил ассистент тем же насмешливым тоном, — позвольте пожелать вам успеха… Он хотел еще что-то сказать, но под холодным и многозначительным взглядом инженера замолчал, съежился и, ворча что-то сквозь зубы, проскользнул в дверь. — Что этому господину здесь надо было? — с недоумением спросил Дерюгин, проводив его глазами. — Не знаю, — ответила Дагмара, снова заливаясь румянцем, но сразу же перебила себя с досадой, — то есть, пожалуй, и знаю, но не хочется сейчас говорить об этом. Он несколько раз заходил в твое отсутствие. Плакался по поводу революции, сыпал мрачными предсказаниями, восхвалял покойного отца, а сегодня кончил чем-то вроде признания… — Мне почему-то так и показалось, — усмехнулся Дерюгин, — ну, бог с ним совсем. Ведь мы с тобой еще и не поздоровались как следует, — кончил он, обнимая девушку, которая слегка отстранилась, глядя ему пристально в глаза. — И ты снова едешь? — спросила она печально. Инженер задумался на минуту. Он знал, что на этот раз оторваться от охватившего его чувства будет не так легко; да к тому же фигура Гинце маячила теперь темным пятном здесь, рядом. — Знаешь, что, — заговорил он, вдруг решившись, — я, пожалуй, поеду по железной дороге с пятичасовым парижским экспрессом. Это составит разницу часов в двенадцать, но к завтрашнему заседанию съезда я поспею. И, если хочешь, поедем вместе. Там и для тебя будет много интересного. Согласна? Девушка вместо ответа порывисто прижалась к нему и стала гладить его непокорные волосы. Париж встретил молодых людей неистовым шумом, стремительной суматохой переполненных улиц и бульваров, стонавших с утра до поздней ночи стотысячными толпами. Этот многоголосый гул людского моря, сливаясь со стуком, звоном и скрежетом машинного города, подавлял, оглушал, вызывал головокружение, охватывал страхом. Хотелось закрыть глаза и уши, спрятаться, врасти в стену, чтобы не быть смятым, раздавленным, уничтоженным стремительным потоком… Уже на пути в гостиницу Дерюгин, всматриваясь в мелькавшие тысячи лиц, увидел на всех отпечаток общего чувства — растерянности, страха и напряженного ожидания. Он заметил характерное движение: люди ежеминутно, не останавливаясь в бурлящем живом потоке, оглядывались назад, точно ожидая увидеть внезапно что-то или кого-то у себя за спиною. Неугомонные уличные гамены одни, казалось, не поддавались общему настроению, свистали, катались колесом, горланили какие-то куплеты, сыпали обычными прибаутками. Но это не возбуждало улыбок; люди сумрачно глядели на скаливших зубы детей улицы и пугливо жались в тесное стадо. В двух местах на перекрестках над пестрою толпою, точно зловещие черные птицы, трепались широкими одеяниями и, как крылья, воздевали к небу руки, сумрачные фигуры монахов. Глаза их горели огнем яростногофанатизма, они выкрикивали что-то, колотя себя в грудь, и толпа глухо стонала и охала им в ответ. Когда же около полудня, несколько устроившись и оглядевшись, Дерюгин с Дагмарой пробрались к Сорбонне, то их глазам представилось новое зрелище. Вся площадь перед зданием и прилегающие улицы были запружены народом; но это не была пестрая толпа бульваров. Виднелись почти исключительно синие блузы и плоские кепи рабочих; женщин было мало. Вся масса образовала подобие лагеря; на площади были разбиты импровизированные палатки; там и здесь на жаровнях готовили пищу, закусывали, сидели и ходили группами. Над всей площадью стоял сдержанный многоголосый говор. И здесь на лицах было написано напряженное ожидание, смешанное со страхом; но вместо растерянности, глядевшей из глаз уличной толпы, тут легла печать угрюмой сосредоточенности и сдерживаемого гнева. Ближе к зданию расхаживали вооруженные револьверами пикеты с красными повязками на рукавах. Поодаль стояли хмурые полисмены и делали вид, что ничего не замечают. В большой аудитории, где остановились инженер и его спутница, прежде чем пробраться в залу, они заметили издали высокую, сгорбленную фигуру и голый череп Горяинова. Он также их увидел и, протолкавшись через сновавшую толпу, протянул руку. — А, и вы здесь, друзья. Прелюбопытное зрелище, доложу я вам. — Что? — спросил Дерюгин. — Да все: и то, что творится здесь, в зале, и в особенности на улицах. Вы видали уже? — Пока мельком. Но вот что скажите мне: что такое делается вокруг, на улицах Сен-Жак, Дезэколь и других? Это мне совершенно непонятно. Лагерь инсургентов, сборище праздных зевак, делегации от рабочих районов, — что это значит? Старик засмеялся. — Ни то, ни другое, ни третье… Это добровольная охрана, почетный караул, так сказать, выставленный предместьями… — Не понимаю. — Очень просто. Надо отдать справедливость этому негласному парламенту, — он завоевал сразу большую популярность в низах. Почувствовав под ногами почву, господа ученые заговорили довольно бесцеремонным языком с правительством. Лавочники окрысились, пригрозили закрыть съезд, кое-кого арестовали. Тогда предместья двинулись сюда от Сен-Марсо, от Вожирара, оцепили своими отрядами весь район и взяли собрание под свою охрану. Вот уже три дня, как они несут этот караул, сменяют свои батальоны, наполняют галереи зала, а власти не решаются их тронуть. Я вам говорю: прелюбопытная история! — Ну, а как идут дела на съезде? — Да, по правде говоря, никак. Строят эти ползучие махины с магнитами, ждут, как чуда, магического средства спасения. Остальное — болтовня. Дерюгин улыбнулся. — Средство — у нас в портфеле. И это не чудо, а просто дело человеческого разума. Горяинов остановился и внимательно посмотрел на Дерюгина. — Вы не шутите, многоуважаемый? — Нисколько. Мы с тем сюда и прибыли из Москвы, чтобы предложить эту затею съезду. — Отечественного происхождения? Дерюгин кивнул головой. — А в чем она заключается, если не секрет? — Сегодня вы услышите о ней на заседании… — Послушайте, земляк, неужели вы серьезно верите в возможность борьбы с этой разбушевавшейся стихией? — Если бы я не верил, я не был бы здесь… — А вы знаете, что было вчера у Валоны… где этот волдырь прыгнул в Адриатику? Он расплавил в бесформенную груду железнодорожный мост, даже не коснувшись его, а пройдя в десяти — пятнадцати метрах расстояния; а собственный его размер, по-видимому, близок уже к двадцати пяти — тридцати метрам. Вы представляете себе, что это за страшная силища? — И все-таки мы будем бороться. — Дыромолы! — Что такое? — не понял Дерюгин. — А это секта была такая у нас на севере — дыромолы. Верили, что бог слушает их в каждую дырку, которую они проделывают. Ну, и сверлили дырки и молились в них, — в пустоту молились; так и вы в пустоту верите и работаете. — Хорошо смеется тот, кто смеется последний… В это время толпа в аудитории зашевелилась и двинулась в зал. Оставив Дагмару с Горяиновым, Дерюгин присоединился к своим товарищам; им отведено было особое место вблизи стола президиума, над которым возвышались бюсты Лапласа, Бюффона и Ньютона. Усевшись на своем стуле, Дерюгин осмотрел собрание. Невольно им овладело странное чувство раздвоения и смутного недовольства. С одной стороны, он ощущал легкое волнение, почти трепет при виде представителей европейской науки и мысли; здесь были те сотни избранников, в головах которых концентрировалась вся мощь человеческого духа и знания, все дерзание его непобедимого разума. Инженер узнавал среди серых в туманном свете пасмурного дня лиц знакомые черты людей с огромными именами, которых мысль привыкла окружать необычным ореолом, которые, казалось, должны были жить в каком-то особенном, недоступном простым смертным, мире. А с другой стороны, здесь, в этой толпе демократических пиджаков, все было таким заурядным, повседневным; и толпа казалась осколком все тех же скопищ, шумевших за стенами на площадях и бульварах Парижа в конвульсиях нарастающей тревоги. Потом взгляд Дерюгина остановился на галереях, окружавших зал с трех сторон и заполненных тысячами голов. Со своего места инженер не мог различить лица и их выражение; он видел только море синих блуз с редкими черными или светлыми пятнами на их однообразном фоне, глухо рокотавшее ровным, неуемным шумом. Закрыв глаза, можно было вообразить себя где- нибудь в дюнах Бретани, и тогда казалось, будто за недалекими холмами дышит и колышется вековечным прибоем океан. Это и была почетная охрана предместий, о которой говорил Горяинов, но Дерюгину вспомнились парижские толпы, наводнявшие когда-то галереи Конвента. — Только ли это охрана или нечто большее? И ему казалось, что люди на хорах — это глаза и щупальца огромной стихийной массы миллионов Парижа и за ним всей страны, с нетерпением и верою приковавших свои взоры к маленькому залу, где собралось несколько сотен человек в скромных демократических пиджаках. Начало заседания отвлекло Дерюгина от его мыслей. День начался докладом о ходе работ по сооружению электромагнитов. Дело, начатое с большим энтузиазмом и значительно двинувшееся вперед в первые дни, сейчас начинало тормозиться. Правительство, недовольное положением вещей, не решалось на открытое выступление против съезда, но мешало теперь работе затяжками, противоречивыми распоряжениями, ведомственной и бюрократической волокитой. Докладчик еще не успел кончить, как растущий слитный гул голосов с галерей, точно надвигающаяся буря, захлестнул потопом звуков его последние слова. Некоторое время ничего не было слышно; и когда Дерюгин взглянул в зал, ему показалось, будто ветер пошел по колышащемуся волнами полю; головы наклонялись, оборачивались назад, кверху к рокотавшим хорам, тревожно прислушиваясь к нараставшему шуму, и никли над пюпитрами будто под тяжелым грузом. Когда волнение утихло, была предложена довольно резкая резолюция, требующая допущения членов съезда по его указанию в состав правления организации, руководящей сооружением электромагнитов. Затем слово было дано представителю русской делегации. Молодой еще сравнительно человек с энергичными жестами и оживленной мимикой выразительного лица, больше похожий на привычного оратора, чем на скромного университетского профессора, начал говорить в замедленном темпе, словно затрудняясь в выборе слов. Однако, по мере развития речи, голос его креп, звучал все тверже и увереннее, и напряженное молчание, охватившее зал, без слов говорило о лихорадочном внимании, с которым встречал он этот фантастический и вместе с тем такой простой, по-видимому, план. Докладчик подробно остановился на всех возражениях, которые могли быть приведены, на всех возможных трудностях, повторив прения, бывшие в Москве, и кончил так: — Как видите, наш план не свободен от недостатков, его выполнение встретит целый ряд серьезнейших препятствий, масштаб работ, им намеченный, колоссален, — но его достоинство в том, что сейчас, в данную минуту, он — единственно возможный. Он дает надежду на успех. Никто не мешает искать лучшего. Но ждать мы не смеем. Всю энергию, всю мощь человеческого разума и техники надо бросить на это дело во имя спасения Земли. Несколько минут после того, как он кончил, длилось тягостное, выжидающее молчание. Все было рассчитано, все было предусмотрено, возражать было нечего, и вместе с тем необычность проекта была такова, что обезоруживала самых смелых; ни у кого не хватало решимости высказаться по поводу этого фантастического предложения. Тишина становилась угрожающей, невыносимой, словно тяжестью своей погребала смелый взлет человеческой мысли. Слышен был ясно шелест бумаги за столом стенографисток. И вдруг сверху с хоров раздался гулкий, порывистый возглас: — Ne soyez pas poltrons! Vive le canon![2] Будто лавина, увлеченная падением камня, оборвался вниз поток звуков, целая буря криков, рукоплесканий, неистовый топот и стук. И зал, подхваченный этим порывом, встал как один человек и неистово аплодировал тому самому плану, в защиту которого несколько минут назад ни у кого не нашлось слова. Когда, наконец, наступила относительная тишина, председатель съезда, маститый, всеми уважаемый профессор, прерывающимся голосом предложил в виду важности и необычности сделанного заявления, устроить перерыв до завтра для обмена мнениями и ознакомления с подробностями проекта. — Черт возьми, — только и мог сказать Горяинов, когда они втроем выходили из подъезда на площадь, кишевшую народом, — славную кашу вы заварили: они теперь будут бредить вашей пушкой. — А вы все не верите? — спросил Дерюгин. — Нет, — упрямо ответил старик, — ваш шар от удара при взрыве разлетится на тысячи кусков, из которых каждый будет продолжать ту же работу, — вот и все. — Это единственное возражение, которого я боюсь, — задумчиво ответил инженер, — хотя до сих пор о нем не говорили. Ручаться, что этого не случится, — трудно. — Ну, и что же? — Надо идти на риск. В этом все же есть шанс; а сидеть сложа руки — верная гибель. — Вздор, — повторил Горяинов, — химеры. Шар изжарит вас со всеми вашими машинами, прежде чем вы подойдете к нему на необходимое расстояние… — Вам, по-видимому, этого очень хотелось бы, — холодно возразил Дерюгин. — Не люблю трагедий без пятого акта, — усмехнулся старик, — да и по совести сказать, когда-либо человечеству придется же кончить свою земную карьеру, — так не все ли равно — тысячелетием раньше или позже? Я предпочитаю первое — вот и все. На бульваре С.-Жермен они остановились, задержанные огромной толпой, выливавшейся из улицы Варенн. Как одержимые, двигались тысячи людей с плачем и воплями, били себя в грудь и выкрикивали слова покаянных псалмов. А впереди в дыму кадильниц под золотом хоругвей маячили черные рясы и белые сутаны, и уныло звенел колокольчик.Глава XVI Париж бредит
— Это безумие! Это черт знает, что такое! Если они немедленно не закроют церкви и не заткнут глотки крикунам, — через три дня здесь не останется ни одного нормального человека, — говорил Дерюгин, пробираясь с Дагмарой и Горяиновым мимо церкви Св. Клотильды. Они вышли втроем около 10 часов утра, чтобы посмотреть, что делается на улицах и к полудню добраться до Сорбонны на прерванное вчера заседание съезда. На углу улицы Гренелль была невероятная людская толчея. Всех троих прижало сначала к домам на площади, а потом волною взмыло к церковной паперти. Двери храма были открыты настежь. В них видно было сплошное море голов, колыхались тихо серо-синие клубы дыма из кадил, доносились аккорды органа и заунывное, словно заупокойное, пение. В тот момент, когда новая волна подхватила невольных свидетелей этой сцены и прижала их к решетчатой ограде, — на ступенях церкви у выхода показались кресты и хоругви, сверкая золотыми переливами под июльским солнцем. Несметная толпа притихла так, что слышно было дыхание тысяч грудей и унылый звон колокольчика перед высоким балдахином, колышущимся в такт движению несших его людей. Ослепительные пятна света на золоте крестов и икон приковали все взгляды. Стоящие сзади вытягивались на цыпочки, взлезали на решетку, матери подымали детей на руках. Процессия остановилась на паперти. Высокий, худой старик с безбородым изможденным лицом кастрата и неестественно блестящими глазами, в белой, как снег, сутане, стоя над толпою на возвышении, широким взмахом осенил склоненное море голов, ответившее протяжным глубоким вздохом и шелестом сложенных крестом рук. В наступившей немой тишине раздался резкий голос, истерически выкрикивающий все более высокими нотами несвязные фразы. До того места, где стояли оба инженера с девушкой, доносились только обрывки этой речи, но по дыханию и движениям толпы можно было угадать остальное. — Возлюбленные братья и сестры!.. исполнилась мера гнева божия, и настал час возмездия… Покаемся в грехах наших, ибо велика бездна их, и вопиет к небу их скверна. Огнем всепожирающим очистится земля, и пламень его — свеча ко господу!.. В гордыне разума отринул человек бога своего, — и вот лежит прахом у подножия ног его! Страшен гнев бога живого! Покаемся, братья и сестры, и будем плакать кровавыми слезами, ибо близок день суда! Голос говорившего затрепетал на высокой ноте и захлебнулся в слезах. Конвульсия ужаса прошла по толпе и прорвалась морем звуков. Истерические вопли, громкие рыдания, крики потрясли огромную, обуянную безумием толпу. Невдалеке от ограды несколько женщин билось в судорогах. Какой-то высокий, худой человек, с безумно вытаращенными глазами, поднял обе руки к небу и кричал надтреснутым голосом: — Меа culpa, mea maxima culpa![3] Другие били себя в грудь и, задыхаясь от слез, выкрикивали что-то нечленораздельное. А человек над толпою, словно огромная, насмерть раненная птица, снова взмахнул белыми рукавами-крыльями и высоким фальцетом затянул слова покаянного гимна: — Dies irae, dies ilia!.. Многоголосым воплем ответило человеческое море и подхватило жуткую мелодию нестройным рыдающим хором. Звонили колокола; сияло золото хоругвей, синий дым курился в ясном воздухе; толпа пела. Александр оглянулся на Дагмару и невольно схватил ее за руку; девушка с трудом переводила дыхание; ее била лихорадочная дрожь. Горяинов криво усмехался, но тоже был бледен. Дерюгин чувствовал, как у него самого со дна души подымается какая-то мутная волна. Он тронул за руку спутника. — Надо отсюда выбираться, — сказал он, указывая глазами на девушку. Тот кивнул головою, и они принялись работать локтями, пробираясь сквозь беснующуюся толпу. Но долго еще слышно было нестройное пение, вопли взбудораженного человеческого моря и звон колоколов, которые, казалось, тоже захлебывались рыданиями. — Я вам говорю, — повторял Дерюгин, вздохнув свободнее на бульваре Распайль, — если не заткнуть рты этим фанатикам, весь город сойдет с ума. — А разве не любопытно? — спрашивал Горяинов, утирая пот и отдуваясь. — Я ведь предсказывал, что человеческое стадо взбесится раньше, чем вы успеете построить ваши машины. — А ну вас к черту, — огрызнулся Дерюгин, которому вдруг противно стало слушать странные реплики своего собеседника. Тот пожал плечами и замолчал. Некоторое время они шли молча, пробираясь по улицам, где было меньше сутолоки. Вблизи медицинской школы они взяли такси, но это мало помогло делу: было почти немыслимо двигаться среди сменяющих друг друга сплошных толп. В одном месте пришлось окончательно остановиться. Вдоль улицы подымалось странное шествие, совершенно запрудив ее и остановив на ней движение. Впереди шла целая ватага людей, взявшихся под руки и нетвердыми шагами одолевающих пространство. Вид у них был нелепый и жалкий. Сверх элегантных костюмов, словно снятых с модной картинки, яркими пятнами пестрели букеты и гирлянды живых цветов; на головах были полуувядшие венки, осыпавшие свои лепестки при каждом шаге. Среди черных смокингов и фраков цветными мазками вплетались светлые костюмы нарядных, декольтированных женщин. Одна из них, прикрытая только легкой газовой вуалью, сквозь которую белело матовобледное тело, во главе шествия исполняла какой-то вакхический танец, изгибаясь всем корпусом и вскидывая кверху изнеможенные руки. В такт ее движениям вся толпа раскачивалась, как одержимая, и временами начинала дикую пляску. Над странным скопищем стоял нестройный гул голосов, визгливый хохот, обрывки песен и пьяных возгласов. Когда начало шествия поравнялось с Дагмарой и ее спутниками, — к первым рядам подошли двое полицейских, и сержант стал что-то говорить долговязому молодому человеку, игравшему, видимо, роль главаря. На лице последнего изобразилось вдруг необычайное изумление. Фамильярным жестом он взял за пуговицу мундира блюстителя порядка, и до невольных слушателей донеслись возбужденные звуки его голоса: — О, уважаемый страж и хранитель мира, разве вы свалились только что с луны или еще не вырвались из объятий Морфея? Разве вам не известно, что вся эта милая вертушка летит вверх тормашками, — он щелкнул пальцами и засмеялся, — а с ней вместе и мы с вами, милейший, и все, что вокруг нас: наша прекрасная Франция, наш милый Париж со всем его весельем и смехом, со всеми его хорошенькими женщинами, — и он прижал к себе плясунью в газовой вуали, на лице которой из-под пьяного возбуждения выглянула гримаса тоски и страха. — О чем же хлопотать, о чем думать в оставшиеся дни? — продолжал с пафосом молодой человек. — Надо жить, надо захлебываться жизнью, пока она еще здесь, в нашем теле! А? что вы на это скажете? О, милый страж, вы говорите о нарушении тишины и порядка, но понимаете ли вы, что скоро наступит такая тишина, которой не услышит ни одно живое ухо? Бросьте же ваш ригоризм, приятель, и отправляйтесь к вашей Лоло, Мими, Фифи, — или как там еще? Или присоединяйтесь к нам, и будемте жить, пока не поздно! — и он подхватил смущенного сержанта под руку и потащил его с собою. — Что это такое? — спросил Дерюгин мрачного человека в кожаном переднике, недоброжелательным взглядом провожавшего странную процессию. — Это напоследок веселятся те, которым осталось недолго веселиться, — со злобой ответил спрошенный и прибавил цветистое, выразительное ругательство. — Говорят, вчера, — вмешалась в разговор стоявшая рядом женщина с испуганным лицом и заплаканными глазами, — они сотнями нагишом бегали по Итальянскому бульвару. — Мы точно перенеслись в средние века, — сказал Дерюгин, — религиозный психоз, мания плясок, не хватает еще процессий флагеллянтов и аутодафе. Никогда бы не думал, что современное человечество может быть охвачено такими эпидемиями. — А почему бы и нет? — возразил Горяинов. — Стадо всегда остается стадом и будет одинаково реагировать на внешние воздействия. По мере приближения к району, захваченному народом вокруг Сорбонны, картина приобретала другой характер. И здесь метались человеческие толпы, возбужденные нарастающей эмоцией, но в людях неустанного физического труда, для которых жизнь была непрерывной борьбой и напряжением мускулов, — это чувство принимало форму накипающего гнева и жажды деятельности. Здесь слушали бесчисленных ораторов, пламенными словами призывающих к борьбе, к работе, к горячему, живому делу. И так же, как у церкви Клотильды, люди отвечали многоголосым глухим шумом, точно рокот струн огромного инструмента, откликавшегося на созвучные ноты; и также нарастала волна острого возбуждения, грозящего в любой момент окончиться взрывом стихийной силы, сметающим все на пути. Но грань еще не была перейдена, еще не раскачалась колоссальная машина, а пока лишь гудела и вибрировала от не нашедшего выхода напора. Трое спутников оставили такси, ставшее совершенно бесполезным в тесноте переполненных улиц, и медленно пробирались к недалекой уже цели. Из обрывков разговоров вокруг они узнали последние новости. Около часу назад была, наконец, сделана попытка противопоставить открытую силу надвигающимся событиям. Вдоль улиц Дез-Эколь и Суфло были двинуты отряды полиции и войск, которые должны были очистить весь район вокруг Сорбонны, закрыть съезд и арестовать наиболее неприятных правительству лиц. Солдаты встретили угрожающую молчаливую толпу, сомкнувшуюся тесными рядами. Эта гневная возбужденная тишина, ожидающая лишь толчка, чтобы разразиться бурей, судорожно сжатые кулаки, угрюмые решительные лица и, главное, — море, неоглядное море голов, были достаточно красноречивы. Ни одна рука не поднялась к оружию, и под то же грозное молчание отряды всадников и колонны пехоты, продефилировав по ближайшим улицам, скрылись в их сети, растаяв по пути. Поднятый для удара кулак разжался и упал, как мягкая тряпка. Пикеты вокруг здания вооружились брошенными солдатскими винтовками. Когда Дерюгин со своими товарищами добрался сюда, — площадь еще более чем вчера, имела вид вооруженного лагеря; кое-где виднелись уже пулеметы, и вдоль улицы Сен-Жак глядела снятая с передка пушка. И только крикливые мальчишки носились там и здесь, точно живые волчки и распевали во все горло только что родившуюся песенку:
Когда, наконец, их выбросило в одну из тихих улочек Латинского квартала, они долго не могли отдать себе отчета в том, чему свидетелями им пришлось быть в этот жуткий день. И вокруг было то же. Люди оглядывались в изумлении, растерянные, недоумевая, куда забросила их волна пережитого ужаса, искали глазами причину всего происшедшего, преследовавший их пламенный шар, и не могли найти его и следа; нигде не заметно было признаков пожара или разрушений, о которых все знали по газетным сообщениям: шумел и грохотал обычной жизнью многомиллионный город. К вечеру стало известно, что нигде в других местах не было замечено ничего похожего на атомный вихрь, и на пути, по которому пронеслись испуганные люди, не было никаких следов его движения. Стало очевидно, что возбужденная за эти дни толпа стала жертвой массовой галлюцинации, увлекшей ее в дикое бегство. — Как же так? — недоумевала вечером Дагмара, вспоминая события дня. — Я готова чем угодно поклясться, что я видела его и слышала треск его молний. — Такова сила внушения, — ответил Дерюгин, — мне кое- что сразу показалось странным тогда, но и я не смог устоять против этой удивительной иллюзии.
Глава XVII Еще раз революция
На следующий день Дерюгин и Дагмара остались у себя в номере. Девушка была совсем больна после вчерашних потрясений, ночью бредила воспоминаниями минувшего дня и металась в лихорадке. Встревоженный инженер провел у ее постели бессонную ночь, только к утру забывшись тяжелой дремотой. Вызванный врач не нашел ничего опасного в данный момент, но предписал на несколько дней полный покой, предупредив, что новое потрясение может уже быть рискованным. Прощаясь с Дерюгиным у выхода, он покачал головою и сказал: — Бедный Париж! Он весь бьется сейчас в такой лихорадке; нет уже, кажется, дома, где не нуждались бы в помощи врача. Я сам сегодня у десятого пациента и от вас бегу дальше. — Вы говорите о необходимости покоя, отдыха нервам, — сказал Дерюгин, — но разве это возможно во взбудораженном муравейнике, где зараза, кажется, носится в воздухе, проникает сквозь стены? Врач пожал плечами. — Если можете, уезжайте. Здесь, действительно, трудно ожидать тишины. Говорят, уже с ночи где-то на Монмартре идет стрельба. Бедный Париж! — повторил он, беря в руки трость и открывая дверь. Дерюгин вернулся в номер и сел у постели больной. Дагмара взяла его за руку и долго не выпускала из своей. Ее охватил безумный страх одиночества; оно давило ее кошмарами и туманило больной мозг воспоминаниями о виденных сценах. — Вот теперь фон Мейден был бы прав, отправивши меня под опеку доктора Грубе, — слабо улыбалась она, — ты знаешь, мне кажется, я за эти три недели постарела на много лет. Дерюгин, нагнувшись к ней, тихо гладил ее по голове и вдруг в знакомых пепельных волосах, от которых шел такой одуряющий запах, заметил совершенно седую прядь, блестевшую серебряными нитями. Сердце у него сжалось от боли и жалости. «История шагает по раненым душам», — подумал он. «И по трупам», — будто добавил кто-то посторонний внутри его, вспоминая вчерашние сцены паники, во время которой, по слухам, ходившим в городе, погибло до тысячи человек. Около полудня, когда Дагмара забылась сном, и Дерюгин с тревогой прислушивался к ее неровному дыханию, явился Горяинов. Даже сквозь обычную для него сдержанность и усмешку было видно, что он чем-то взволнован. Дерюгин сделал ему предостерегающий жест, и старик спросил вполголоса: — Что случилось? — Последствие вчерашнего, — ответил инженер, — пока ничего серьезного, но надо избегать новых волнений. Расскажите, что нового в городе? По словам доктора, идут бои? Оба вышли в коридор, оставив дверь полуоткрытой. — Дело гораздо хуже, — ответил Горяинов, затягиваясь папиросой. — С утра, действительно, стреляли на Монмартре и у дома Инвалидов, а подле Одеона была горячая свалка. Но сейчас весь город мечется в припадке. На улицах творится что-то невообразимое. Можно подумать, что исполнились предсказания монахов, и настал день страшного суда. — В чем же дело? То же, что вчера? — Нет, на этот раз уважительная причина, если угодно. Часа три назад было получено известие, и газеты поспешили его выболтать, о грандиозной катастрофе в Риме… — В Риме? Атомный вихрь? Горяинов кивнул головой. — Дело скверное. В сущности, город почти уничтожен; судя по описаниям, уцелела только южная часть на Авентине. А к северу от излучины Тибра — Палатин, Квиринал, Ватикан — все это охвачено огнем. Собор Св. Петра — в развалинах; начиная от Латерана и до замка Св. Ангела, все горит. Паника неописуемая. Масса жертв, — их еще немыслимо подсчитать. Словом, Рим больше не существует… Дерюгин представил себе картину гибели вечного города и содрогнулся. Неужели, в самом деле, уже поздно? Можно ли будет обуздать разбушевавшуюся стихию? И все-таки… Новая мысль мелькнула у него в голове. — А уверены ли вы, что все это действительно было? — спросил он Горяинова. — То есть как? — не понял тот. — Не являются ли самые сообщения такою же галлюцинацией, как вчерашнее появление шара? — Ну, уж это вы, кажется, чересчур… — Почему? Видели же в семидесятом году тысячи парижан расклеенными на стенах столицы бюллетени об одержанной победе, оказавшиеся такою же иллюзией, самообманом больного духа толпы. — Боюсь, что не стоит убаюкивать себя такими надеждами, — усмехнулся посетитель, — я сам держал в руках газеты. Да вот они, — посмотрите сами, — он вытащил из кармана пачку измятых листов, — подробности настолько согласованы и отчетливы, что надо было бы предположить слишком сложный механизм такого наваждения. — Но почему же началась паника здесь? Рим ведь еще не Париж? — Ну, почва была подготовлена: это мы с вами видели вчера воочию. Достаточно было небольшого толчка, чтобы все эти миллионы, трепетавшие на грани безумия, окончательно сошли с ума… К тому же в сообщениях из Рима говорится, что шар оттуда пролетел на север и движется между Апеннинами и морем к французской границе. Оба собеседника замолчали, подавленные, угрюмые. Даже Горяинов больше не смеялся. Они вернулись в номер и некоторое время сидели у стола, занятые своими мыслями. Дерюгин перечитал телеграммы, и ему снова начало казаться, что все происходящее — дикий бред больного мозга. Погиб собор, творение бессмертного, как казалось, духа Микеланджело; в руинах лежали дворцы и лоджии Ватикана; дымились развалины Пантеона и Латерана, — все накопленные тысячелетиями сокровища человеческого духа, воплощенная, казалось, на долгие века в камне и полотнах его утонченная мысль и могучая воля, вековая культура, — все стало прахом от прикосновения слепой стихии. И то же ожидало, быть может на днях, и этот огромный Вавилон, мечущийся сейчас в судорогах предсмертного страха. Дерюгину представилось на минуту, что он со стороны, из далеких пропастей вселенной, смотрит на земной шар, и, казалось, видит, как разворачивается на нем, точно кровоточащая язва, огненная лента, и из-под нее вместе с дымом пожаров подымаются удушливые испарения охваченного бредом больного человеческого духа. Неужели же это конец? Века страданий, упорной кровавой борьбы, мучительные порывы к светлому будущему, страшные катаклизмы, победы и поражения, медленное высвобождение духа из оков инертной материи, слезы и кровь, целые моря их на протяжении тысячелетий, — и сейчас, в преддверии новой надежды — возвращение в первобытный хаос, бунт материи, которая, казалось, уже была окончательно порабощена! Голос Горяинова вывел инженера из задумчивости. Старик распахнул окно и подозвал к нему Дерюгина. — Слушайте! Даже здесь, на сравнительно тихой улице, чувствовалось биение огромного организма. Смутный гул стоял над морем крыш; звонили колокола, яростно ревели гудки далеких фабрик, со всех сторон доносилась беспорядочная стрельба; а с запада глухими ударами бухали пушки. — Бедный Париж! — невольно повторил Дерюгин недавние слова доктора. Горяинов стоял молча, с жадностью прислушиваясь к буре звуков, и жесткая улыбка снова стянула углы его рта, но он не сказал ни слова. В комнате послышалось движение, — это проснулась Дагмара. Дерюгин ушел к ней за ширму, а старый инженер остался у окна. Несколько минут спустя Александр подошел к двери и нажал кнопку звонка, служившего для вызова прислуги. Прошло с четверть часа, — никто не являлся. — Бесполезно, — сказал ему Горяинов, — сейчас вы никого не дозоветесь. Все разбежались; электрическая станция стоит, трамвай тоже; кое-как работает, по-видимому, только метро. Жизнь умирает… А ведь я, собственно, пришел за вами, — вспомнил он вдруг, — предложить побродить по улицам, взглянуть на то, что там творится. Дерюгин покачал головою. — Я не могу оставить сейчас Дагмару. Да и потом, откровенно говоря, боюсь опять потерять себя, поддаться общему психозу; мне нужно сохранить твердыми мысль и волю. — Как хотите, — ответил старик, — а я пойду. Вечером забегу к вам рассказать новости. Привет фрейлейн Флиднер. Но к вечеру он не явился. Дерюгин остался вдвоем с Дагмарой, взяв на себя роль и сиделки, и отсутствующей прислуги. В мелочной лавочке на углу удалось раздобыть кое-какой провизии. Воды не было. Ее приходилось покупать литрами за сумасшедшую цену у предприимчивых шоферов, развозивших ее бочками на своих машинах прямо из Сены, мутную, тепловатую. Вечером на столах появились свечи, желтоватым трепетным огоньком еле освещавшие комнату, оставляя в полумраке темные углы, где, казалось, копошились сумрачные тени. На улице было сравнительно тихо, но и здесь от времени до времени пробегали кучки людей, пробирались сторонкою какие- то подозрительные личности, иногда с шумом пролетал автомобиль, или скорым шагом проходил солдатский патруль. И по-прежнему надо всем стоял неустанный яростный гул и рев обезумевшего города. Дерюгин боялся открыть окно, чтобы этот тревожный шум не дошел до слуха Дагмары, но это не помогло; звуки отдаленной стрельбы все время бились в стекла дребезжащим звоном, а к вечеру разгорелась перестрелка где-то поблизости. Почти под самыми окнами треснул раскатистый залп, и звеня посыпались на пол стекла из рамы, разбитые пулями. Девушка забилась на кровати почти в истерике, и Дерюгин, ожидая каждый момент чего-то неведомого, просидел около нее два часа, держа ее за руку и не отрывая глаз от двери. Больше, однако, это не повторилось, и только через разбитое окно теперь беспрепятственно доносился шум конвульсирующего Парижа. — Что это? что это? — шептала Дагмара при каждом ударе орудий, и инженер успокаивал ее, как мог, уверяя, что все скоро кончится. О катастрофе в Риме он рассказать не решился. Вторая ночь прошла почти без сна. Улицы были окутаны мраком, — освещение погасло. Мигающими вспышками бороздили небо бледные пальцы прожектора Эйфелевой башни, и еще откуда-то справа да прямо перед окном за далекими крышами стояло зарево пожара. Только к вечеру явился, наконец, Горяинов с повязкой на голове и забинтованной рукой, с лихорадочно блестящими глазами, утомленный, бледный, но с неизменной кривой усмешкой на губах. — Что с вами? вы ранены? что-нибудь серьезное? — засыпали его вопросами Дерюгин и Дагмара, несколько оправившаяся и освеженная дневным сном. — Приключение на улице Сен-Доминик, или наказанное любопытство, — почти весело ответил гость, протягивая им здоровую руку. — Был, можно сказать, на краю гибели, но зато сейчас — с целым ворохом новостей. Ну и дела творятся, друзья мои! Спектакль, какой не часто приходится видеть. Если считать в Париже четыре миллиона человек, то вчера по крайней мере три миллиона девятьсот тысяч были буйно помешанными. Прежде всего, понимаете ли, паническое бегство, безумная мания уйти, куда глаза глядят, лишь бы вон из стен города, в близкой гибели которого убеждены были все эти ошалелые скопища. Объявился и пророк этого близкого конца, одна из зловещих птиц в черных и белых сутанах. Вчера около Нотр-Дам он собрал тьму народа своими сумасшедшими речами и объявил, что ему было видение, в котором открыта вышняя воля: городу осталось жить три дня. Можете себе представить, что произошло. Вся эта наэлектризованная толпа, сотни тысяч людей, двинулись вон из города всеми возможными путями. Вокзалы обратились в осажденные крепости; там происходили настоящие бои с пулеметами, пушками, чуть не со всеми измышлениями нынешней военной техники. Лионский вокзал загорелся, — его развалины до сих пор дымятся. — Не это ли зарево мы видели всю ночь? — перебил Дерюгин, указывая в окно. — По всей вероятности, хотя пожары вспыхнули и в других местах. Все дороги из города были запружены сплошной массой беглецов. Я видел эту толпу у Лувра; вы знаете, мне стоило больших усилий, чтобы не присоединиться к ней. На Орсейской набережной пришлось наблюдать любопытную сцену. На балконе особняка стоял над шумевшей толпою Биду, знаете — один из владельцев угольного синдиката, этакое жирное животное с одутловатым лицом и бычачьей шеей. Он помешался окончательно на мысли о неизбежной гибели земного шара. Он метался за перилами террасы, как зверь в клетке, рвал в клочья пачки ценных бумаг и кредиток и вместе с золотом пригоршнями швырял их на улицу. Это было поразительное зрелище… Блестящий дождь золотых кружочков и целые рои цветных бумажных лоскутьев падали вниз, будто тысячи ярких бабочек, и осыпали беснующуюся толпу. А сам он стоял над нею такой огромной тушей и кричал, пересиливая иногда неистовый шум внизу: «Кончается наша земля!» — И толпа отвечала ему воплями ирыданием. Рассказывают и о других случаях. Редактор «Journal des Debats» застрелился, оставив записку, что не в силах ждать общей катастрофы. Директор Восточного банка Гейземан бросился в Сену с Аркольского моста, прочитав известие о пожаре Рима. Генерал, которого мы с вами видели на съезде, помощник военного министра, расстреливал прохожих на улице из револьвера, уверяя, что кругом кишат немецкие и московские шпионы. — Но что же помимо этого делается в городе? — остановил Дерюгин рассказ гостя, — утром началось восстание, революция, — я не знаю что, и весь день и ночью шла стрельба… В чьих руках Париж? Горяинов развел руками. — Революция? Не знаю. Вчера ружья и пушки стреляли просто потому, что они были заряжены. Ничего нельзя разобрать. Правда, войска сражались с народом, но больше, кажется, друг с другом. Во всяком случае, уже к вечеру не стало силы, которая бы ими управляла, и они просто разбрелись по городу, частью смешавшись с уличной толпой, а частью присоединившись к шайкам грабителей, начавших ночью свои подвиги. — А сегодня? — А сегодня, когда улегся давешний приступ безумия, и люди несколько очухались, оказалось, что вчерашняя власть больше не существует, что вся она рассыпалась, растаяла, а жалкая кучка, оставшаяся еще и Елисейском дворце, не имеет силы, ни исполнителей и просто никому не нужна. — Значит, победа? — встрепенулся Дерюгин. — Называйте, как хотите, — пожал плечами Горяинов, — победа улицы, пожалуй. Ничего определенного не известно; говорят, в Сорбонне, рядом с ученым конгрессом, сформировалось временное правительство, взявшее его под свою высокую руку, — и они пытаются что-то сорганизовать. Но я думаю, они сами в плену у толпы, наводнившей все залы и галереи. — Так и должно быть в первые моменты. Помните миф об Антее, набиравшемся сил от прикосновения к груди матери-земли. Горяинов презрительно фыркнул. — Утешаетесь сказками? А на самом деле начинается пятый акт, дорогой мой… Я вам говорил еще в Берлине; человечество запуталось, зарвалось, а главное — устало, смертельно устало, — неужели вы и теперь этого не видите? Подумайте: неоглядный ряд столетий неустанной, мучительной и, тем не менее, бесполезной борьбы. Вечное взыскание, мечта о земном рае и взамен — растущая сумма страданий, дух неутолимой ненависти и кровь, кровь без конца… Неужели вы сами не чувствуете, как вас давит тысячелетний груз, эта страшная ноша, под которой стонет земля, не ощущаете в себе голоса бесчисленных изнемогающих поколений? Я лично временами чисто физически воспринимаю эту смертную усталость духа земнородных. Случается, я вижу себя во сне то Галилеем, то Джордано Бруно, то Серветом, горю на кострах священной инквизиции, умираю на полях кровавых битв, захлебываюсь в нантских нуайядах, вижу над головою блеск ножа гильотины или дула десятка ружей, глядящих на меня черными дырами… нет, я думаю, довольно этого всего. Лучше сразу конец в стихийном пожаре, чем еще века и века этого беспросветного, мучительного Сизифова труда. Дерюгин некоторое время молчал, испытующе глядя на собеседника. — Вы знаете, мне жаль вас, — сказал он, наконец, тихо, — должно быть ужасно дойти до такого мировоззрения. Но ведь это только самообман, иллюзия плененного духа. Изжило себя не человечество, не оно подошло к грани своего восходящего развития и катится под гору, а та кучка людей, которая считала себя солью земли, и плотью от плоти, которой вы являетесь. Это их усталость, их бесполезность и самоощущение заката говорит в вас голосами минувших поколений, а вы обобщаете эти упадочные настроения до общечеловеческих. Человечество никогда еще не было так активно и полно бодрости, как сейчас. — Пустая отговорка, дорогой земляк, — засмеялся Горяинов, — ответ по шаблону — классовые противоречия, буржуазная идеология и как там еще? Лихорадочное состояние безнадежно больного принимаете за действенную энергию выздоравливающего. А впрочем, все равно: так или иначе, дело идет к развязке, и скоро вся ваша мудрая диалектика вместе с ее материалом, навозом времен, человечеством, превратится в пыль, а еще раньше полтора миллиарда буйно помешанных перервут друг другу глотки от страха. — А я вам говорю, что человечество будет бороться и в конце концов взнуздает силу, не вовремя развязанную. — Ну, ну, дай бог нашему теляти волка поймали, простите на грубом слове. Оба замолчали. Дагмара, сидевшая уже в кресле у открытого окна, примирительно протянула им руку. — Бросьте вы эти споры, — ведь от них судьбы мира не изменятся. Расскажите лучше, где это вас так изукрасили, — обратилась она к Горяинову. — О, эта история не длинная и мало интересная, — ответил тот, — иллюстрация на тему: личность и толпа. Вчера вечером около дома Инвалидов я попал в одно из этих диких скопищ, расхаживавших по городу с пением псалмов и гимнов, и имел неосторожность улыбнуться, глядя на постные физиономии лавочников, оплакивавших свои грехи. Какой-то красноносый верзила завопил, что я оскорбляю чувства верующих, что из-за таких, как я, людей постигла божия кара, что кровь нечестивца послужит искупительной жертвой. Толпа заревела и надвинулась ко мне, забыв о своем покаянном настроении. Кто-то крикнул: «Бей эту гадину!». Я понял, что убеждать здесь бесполезно, и надо рассчитывать только на легкость ног. Но уйти было трудно. На меня наседали сотни разъяренных, ошалелых людей. Я отскочил на тротуар и вбежал в какой-то, кажется, ювелирный, магазин; человек тридцать бросилось за мной, остальные теснились на улице и яростно галдели что-то осипшими голосами. Я хотел выбежать через черный ход, но хозяин преградил мне дорогу, вообразив, вероятно, что ловят вора. Красноносый парень треснул меня по голове. Я успел отпарировать удар, но тут навалились остальные; кто-то пырнул меня ножом в плечо, кто-то схватил за ноги, — я упал. Началась общая свалка, в которой нападающие, кажется, больше тузили друг друга, чем меня. Тем не менее, конечно, я не остался бы в живых, если бы на улице, почти у самых дверей магазина, не раздалась ожесточённая стрельба. Я так и не знаю, что это было. Вероятно, просто одна из бессмысленных стычек, которые в этот день происходили по всему городу, когда люди стреляли друг в друга, не зная сами, почему они это делают. Так или иначе, вся ватага выбежала вон, а испуганный хозяин поспешил запереть двери. Узнав, что я чуть не сделался жертвой псалмопевцев, он рассыпался в извинениях, обложил меня пластырями и примочками и вывел потихоньку через заднюю дверь и сквозной проход на другую улицу: он оказался ярым антиклерикалом и сыпал громы и молнии на головы монахов, взбудораживших народ. Мы с ним расстались друзьями. После, уже в аптеке, мне сделали настоящую перевязку. Вот и вся моя история. — Для чего вы это делаете? — спросила Дагмара. — Ради чего рискуете собой? — Милая барышня, — улыбнулся Горяинов, — да ведь это именно то удовольствие, которое я предвкушаю давно: посмотреть, как будет вести себя обнаженный, так сказать, естественный, человек лицом к лицу с вечностью.* * *
На другой день утром вышли первые газеты, вернее, специальные бюллетени о создании временного правительства. В них сообщалось, что новая власть стала в городе твердой ногой и понемногу расширяет свою сферу влияния на соседние департаменты. Первым актом ее было воззвание к народу, указывавшее, что основной своей задачей, помимо защиты нового уклада жизни, она ставит широкую организацию борьбы со стихийным бедствием. К руководству этой работой привлекается конгресс физиков на правах правительственного органа с широкими полномочиями. Ближайшей целью ставится продолжение постройки электромагнитов и сооружение бетонных пушек по предложению русской делегации. Одновременно было опубликовано обращение съезда, призывавшего всю нацию к единодушной напряженной творческой работе. Дерюгин вздохнул полной грудью, прочтя это сообщение. — Слава богу: голова есть, и руки развязаны, — теперь остается только работать.Глава XVIII Конец Эйтеля
Дни после берлинского переворота были тяжелым временем для Эйтеля Флиднер. То, что творилось вокруг в городе, в Германии, во всем мире, представлялось ему лишенным смысла хаосом, какой-то пестрой и страшной путаницей, где все казалось враждебным и грозило неожиданным сюрпризом. Жизнь шла своим чередом и, видимо, жизнь кипучая, бурная, но он ее не понимал, не чувствовал; она катилась мимо него, как немые фигуры на экране кинематографа; он сам висел в воздухе, в зияющей пустоте, не зная, за что уцепиться, к чему привязать свое собственное существование. Рейхсвер был распущен; набиралась новая армия, ядром которой послужили рабочие дружины Нейкельна и Моабита, но в этом сброде ему не было места. Несколько дней в тихих комнатах угрюмого дома на Доротеенштрассе еще сходилась кучка его товарищей. Они украшали свои собрания черно-бело-красным флагом и крылатым орлом, говорили с таинственным видом о беспорядках в городе, о восстаниях в Баварии, в Вестфалии, в Ганновере, мнили себя заговорщиками, но очень скоро все рассыпались неведомо куда, и в мрачных комнатах наступила снова гнетущая тишина. На своей половине, растерянная и выбитая из колеи не менее Эйтеля, тихо и покорно умирала тетка Марта. Флиднер метался в пустом доме; он чувствовал, как растет в нем с каждым часом и ищет выхода беспредметная, неутомимая ненависть. Он избегал выходить на улицы: он всегда презирал толпу, а вместе с тем побаивался ее, и то, что теперь толпа завладела жизнью, выводило его из себя. Красные флаги, сменившие трехцветное знамя, доводили его до бешенства. И надо всем, как сорвавшийся с цепи дикий зверь, метался по Европе проклятый шар, источник всех несчастий, а за ним вставали в кровавом дыму зарева пожаров, и ползла жуткая неразбериха, имя которой — революция. И уже невольно со дна души подымалась смутная догадка. Post hoc — ergo propter hoc[5]. Разве нельзя предположить, что отец его — жертва заговора, что чьим-то дьявольским умыслом нарочно развязана бунтующая стихия в расчете на то, что ее разрушительное движение разбудит в человеке дремлющего зверя и бросит его в объятия разнузданных инстинктов, в бездну анархии, которую можно использовать для своих целей? Правда, игра казалась слишком рискованной, но кто знает, — быть может, пожар в любой момент возможно ликвидировать по желанию тех, кто его вызвал, и только не настал еще нужный срок? А может быть, дело зашло дальше, чем предполагали его виновники, и они сами теперь мечутся в поисках спасения? Случайно попавшееся на глаза Эйтелю имя Дерюгина в газетной заметке, в связи с участием его в только что отшумевших событиях и возвращением теперь в Россию, оформило накипавшую в экс-кавалеристе слепую злобу и направило ее по определенному руслу. Было совершенно очевидно, что если предположения его справедливы, то этот московский выходец был в числе главных виновников всего происходящего. Да и, кроме того, его имя будило с новой силой воспоминания о семейной катастрофе, о бегстве сестры, опозорившей их, о смерти отца. Правда, теперь эти события уже не должны были иметь такого значения, как раньше: жизнь соскочила с рельсов, и настала всеобщая переоценка ценностей. Но бывшего волонтера кавалерии старое еще цепко держало в руках: семейная честь, честь мундира, уже не существующего, — все это были еще не иссякшие источники переживаний сегодняшнего дня. Как-то встретил он полковника Шарнгорста, который уже не был больше полковником, а торговал газетами где-то на углу Лейпцигштрассе, и, когда тот в разговоре коснулся намеком грустной домашней истории бывшего волонтера, Эйтель чуть не задохнулся от стыда и гнева. Да, у него были серьезные счеты с проклятым азиатом. Однажды вечером по старой памяти зашел после работы в институте в опустевшую мрачную квартиру Флиднеров Гинце. Вид у него был сумрачный. Он рассказал последние известия о движении шара, попавшего в полосу переменных ветров на Балканах, о волнениях и беспорядках на улицах Белграда и Софии, этих неизменных спутниках бунтующей стихии, и хотел, по-видимому, еще что-то прибавить, но не решился. — Чем же все это кончится? — спросил Эйтель. Гость пожал плечами. — Кто может быть пророком в таком вопросе? Каждый верит своему. Пессимисты готовятся к гибели мира и каются в грехах или, наоборот, стремятся наделать их как можно больше; оптимисты, вроде этого инженера из Москвы, — он запнулся на секунду, — толкуют о победе и, кстати, не прочь половить рыбу в мутной воде взбаламученного человеческого моря… Флиднер насупился. — Черт бы взял этого мерзавца, — невольно вырвалось у него, — вы знаете, если б я встретил его сейчас на улице, я готов был бы задушить его голыми руками. Гинце пристальней взглянул на говорившего: по лицу Эйтеля прошла судорога, в глазах зажглись дикие отблески. — Таких людей надо уничтожать, как бешеных собак, — продолжал он, вспоминая разговор с полковником. В голове ассистента промелькнула мысль, заставившая его злорадно улыбнуться. — Я его, между прочим, недавно видел, — сказал он как бы вскользь. — Разве он не в России? — спросил Флиднер. — Я читал третьего дня, кажется, что он уехал в Москву. — Успел вернуться. И вчера уже отправился с каким-то важным заданием в Париж. — Ага! И там хотят все перевернуть вверх дном? — Возможно. Хотя теперь, пожалуй, ему будет не до того. Он совершает нечто вроде свадебного путешествия… — Гинце ехидно улыбнулся. Эйтель насторожился. — Что вы хотите этим сказать? — То, что он уехал не один. — С кем же? — С фрейлейн Дагмарой. Лицо экс-кавалериста побагровело, и в глазах опять загорелись недобрые огоньки. — Он долго пробудет в Париже? — спросил он срывающимся голосом. — Вероятно. Там предстоит большая работа. Да и, насколько мне известно, они, уезжая, ликвидировали свой pied á terre в Берлине. — Вот как… Разве они жили вместе? — А вы об этом не знали? Уже с неделю, с момента романтического и необычайного освобождения Дерюгина из рук полиции. — Я однажды уже имел возможность до конца свести счеты с этим господином, — злобно сказал Флиднер, — очень жалею, что тогда упустил случай. Постараюсь теперь этой ошибки не повторить. Гинце промолчал и скоро простился с хозяином. Выйдя на улицу, он с давно неиспытанным наслаждением закурил сигару. — Дозрел, — сказал он вслух, потирая руки, — ну, господин Дерюгин, пожалуй, вас ждет не особенно приятная встреча. Я не удивлюсь, если парень завтра же возьмет билет на парижский экспресс. Гинце не ошибся в своих расчетах. Эйтель уже не был человеком со свободной волей. Он, как заведенный автомат, двигался к намеченной цели, не замечая окружающего. Через два дня после разговора с ассистентом он сидел уже в вагоне поезда, уносившего его на запад, и слушал бесконечные разговоры, вертевшиеся вокруг одной и той же темы. В Париж он попал в разгар паники после пожара Рима. Больной мозг его окончательно захлестнула волна безумия, в котором бился огромный город. Он видел потрясающие уличные сцены, слышал беспорядочную стрельбу, то гневный, то тревожный шум мечущихся по площадям и бульварам несметных скопищ и заражался все больше энергией смятенного духа толпы. Он видел падение старой власти, рухнувшей в шуме событий, как карточный домик, и победу ненавистного красного флага. Точно упорными сильными ударами, раскачивалась его воля в одном направлении. Свертывалась тугая пружина, ожидая лишь толчка, чтобы вдруг выбросить накопленную больную силу. Однако, помимо упорной идеи, овладевшей его мозгом, он оставался, по-видимому, нормальным человеком в мелочах повседневной жизни. Он снял номер в меблированных комнатах па улице Вожирар у церкви св. Сульпиция, полагая, что здесь, вблизи Сорбонны, ему легче будет рассчитывать на встречу с Дерюгиным. Но он не надеялся на слепой случай, а начал упорные поиски, которые оказались нелегкими в городе, еще не очнувшемся от шумных событий. В адресном столе, пострадавшем во время уличных боев, все было свалено в кучу, и оказалось немыслимо добиться толку. Только по газетам Эйтелю удалось напасть на след своего противника. В сообщениях, касающихся работ съезда, попалась заметка о том, что русская делегация перед тем, как вернуться в Москву, знакомится подробно с постройкой подвижных электромагнитов на большом металлургическом заводе на Монмартре.* * *
Дерюгин в этот день с утра уговорил Дагмару сопровождать его в посещении завода, где производилась сборка подвижных магнитов. Девушка уже почти оправилась, и он рассчитывал, что поездка на Монмартр развлечет ее. Правда, город все еще содрогался предчувствием возможного бедствия, и по улицам сновали тревожные толпы; однако первый буйный пароксизм миновал. Кроме того, везде чувствовалась твердая направляющая рука, сознательная воля, превозмогающая панику. Большинство церквей было закрыто; усиленные патрули рабочих дружин, а частью и остатки полков республиканской армии, несли караульную службу в наиболее опасных местах, служивших обычно центрами возникновения буйных скопищ. В это время рабочие кварталы одни жили своей независимой жизнью. Среди общего смятения и ужаса они были островами в бурном океане, кузницей Гефеста, где в огне и зное плавильных печей, у горнов, станков и машин неустанно, упорно день и ночь пламенной струею лился металл, стучали молоты, лязгали цепи, бегали с грохотом, словно живые, металлические чудища. А вокруг, как гномы в подземном царстве огня и железа, копошились маленькие фигурки людей. Казалось, что эти жалкие муравьи — пленные рабы железных чудовищ, и странно было думать, что они здесь хозяева, что их упрямою волею, их неутомимым разумом родились из мертвой материи и сейчас бегут, долбят, свистят и грохочут многорукие стальные гиганты, послушные слабому движению руки маленьких пигмеев. И здесь были живые человеческие нервы, живые души, охваченные общим возбуждением, но в этом царстве машин под железными и бетонными сводами, содрогающимися от неустанного движения, от бьющей в них силы, этот трепет сердец, наполненных горячей кровью, нашел другое русло. Все напряжение духа ушло в кипучую, лихорадочную деятельность, в ней находило свое разряжение и выход. Там, за стенами каменных корпусов, изрыгающих клубы дыма в туманное небо, могли метаться в тисках страха людские толпы, могли взывать о помощи к неведомым силам или предаваться отчаянию, — здесь, стиснув зубы и сжав кулаки, стояли у станков, ковали оружие и верили в победу. Дух породил к жизни механических гигантов, содрогающихся от переполняющей их силы; машины стимулировали дух. Когда Дагмара попала в этот грохочущий ад, в первый момент она была оглушена и подавлена почти до потери сознания. Казалось, невозможно было уловить цель хаотической сутолоки, и невольный страх заставлял вздрагивать при каждом ударе стальных молотов. И только когда ухо несколько привыкло к немолчному шуму и улеглось первое подавляющее впечатление, она смогла вслушаться и уловить смысл в словах спутника, развертывавшего перед ней последовательность рождения к жизни сложных машин из бесформенной груды мертвого металла. В первом отделении огромные дюралюминиевые[6] рамы, составленные из решетчатых ферм, ставились на подвижной ход тракторного типа. Это был тот фундамент, на котором должна была покоиться вся постройка. Широкие ленты с медными упорами огибали мощные колеса, связанные с валами, идущими к двигателю. Вся конструкция напоминала мост, поставленный на катки и ожидающий утверждения на устоях. В следующем отделении, представляющем целый городок под легкими арками железобетонных пролетов, на готовые платформы ставили колоссальных размеров агрегаты[7], занимавшие под легкими металлическими кожухами всю заднюю половину механизма. — Это — сердце всей машины, — говорил Дерюгин, указывая на сложную систему цилиндров, труб, маховиков, рычагов, манометров и еще каких-то приспособлений непонятного назначения, — бензиновые двигатели общей мощностью до восьмидесяти тысяч лошадиных сил. Для них выбраны наиболее сильные и вместе с тем легкие конструкции аэропланного типа. Они приводят во вращение с одной стороны главную ось движущего механизма трактора, а с другой — большие генераторы тока, динамо-машины, установленные над серединою платформы. — Восемьдесят тысяч лошадиных сил? — переспросила Дагмара, — но ведь это что-то колоссальное! — Да, одна такая установка могла бы питать своей энергией небольшой промышленный центр, а два десятка их, изготовляемых сейчас во Франции и России, не уступили бы по мощности всем станциям Ниагары. А вот здесь, — продолжал инженер, переходя в следующий корпус, куда передвигалась платформа с собранным на ней агрегатом, — здесь к генераторам присоединяют наиболее ответственную часть всего механизма — электромагниты, питаемые током от динамо. Вокруг толстых железных сердечников идет сложный переплет проводов, охлаждаемых снаружи заключенными в кожух холодильниками. — А это для чего же? — Потому что по обмотке идет ток колоссальной силы, измеряемой тысячами ампер, дающий страшное нагревание проводов. Без энергичного охлаждения все они быстро перегорели бы, несмотря на их толщину. В результате получаются магниты колоссальной силы действия. Если сегодня будет производиться их испытание, ты сможешь увидеть поразительные вещи. Мне рассказывал главный инженер, что на расстоянии двадцати метров от полюсных наконечников при полном действии механизма эти магниты извлекали гвозди из трехдюймовых досок. И, во всяком случае, на полтораста метров в окружности приходят в движение железные предметы в десять-пятнадцать килограммов весом. Это нечто вроде таинственного ледяного сфинкса у Жюль Верна, только созданного руками человека. — А эти зубчатые дуги по бокам обмоток? — Они служат, чтобы придавать различный наклон оси магнитов, а вместе с тем менять направление выходящих из них магнитных сил, и таким образом иметь возможность приспосабливаться к различной высоте над землей атомного вихря! Молодые люди вместе с группой товарищей Дерюгина и сопровождающими их инженерами завода перешли в новое отделение, просторное здание в два света, в котором стояла еще одна почти собранная машина. — Это, пожалуй, самая интересная часть механизма, — продолжал Дерюгин, подымаясь с девушкой по небольшому трапу на верхнюю площадку, расположенную над машинным отделением, — здесь сосредоточен, так сказать, мозг этого гиганта, вся система управления; отсюда начинаются нервы, заведующие различными частями всего организма. Направо — доска со всевозможными приборами, указывающими состояние его частей в данный момент: давление газов в цилиндрах, силу и напряжение тока, угол возвышения оси магнита, скорость движения и так далее. Налево телефоны и говорные трубы в машинное отделение, к радиотелеграфному аппарату, на станцию оптической сигнализации, к механику, заведующему движением трактора. А здесь впереди система рычагов, кнопок и выключателей, служащая для непосредственного управления работой динамо и электромагнита, сосредоточенная в руках командира. Цветные кнопки направо служат для включения различных секций обмотки; подвижной рычаг со скользящим контактом регулирует наклон магнита к горизонту; такой же рычаг налево имеет назначением перемену направления тока на обратное. А вот эти два рычага впереди — главный нерв: они автоматически заставляют включаться тяжелые рубильники, закрытые под кожухом и замыкающие ток электромагнита. — Дерюгин повернул несколько раз костяную рукоятку в одну и в другую сторону. — Положение левое — ток дан, — говорил он, указывая на надпись над блестящим медным контактом; — положение правое — динамо разъединена с магнитом. Посмотри: легкое напряжение мускулов пускает в ход огромную силу и так же ее останавливает. Дагмара с любопытством взяла в руки рычаг и также передвинула его справа налево. — Одновременно впереди зажигаются цветные лампочки, указывающие на включение тока, — обратил внимание девушки инженер, указывая на красные и синие стекла между двумя рубильниками. — Сейчас, конечно, они не действуют, как и весь механизм, так как здесь еще идет его сборка. А в последнем отделении мы увидим вполне готовую машину, и, вероятно, можно будет наблюдать ее в работе: сегодня предстоит испытание ее технической комиссией. Однако, прежде чем попасть в это последнее отделение, посетители смогли проследить и еще ряд операций по заканчиванию установки. На площадке впереди командирской рубки поставлена была станция оптической сигнализации для переговоров между отдельными машинами в случае прекращения работы радио. Здесь стояли гелиограф и прожектор, точно два громадных подвижных глаза сказочного чудовища. Был и еще ряд деталей, на которых уже почти не останавливалось утомленное внимание Дагмары. И когда они вышли на большой внутренний двор, где стояла готовая к испытанию, собранная машина, девушка почувствовала невольное облегчение и вздохнула полной грудью. Здесь не было давящих сводов, под которыми с грохотом и лязгом сновали по рельсам где- то над головою тяжелые тележки со стальными щупальцами- крюками, не было визга и скрежета станков и цепей, не ощущалась так живо своя затерянность в этом царстве железа и стали. Правда, чудесный механизм, как бы сосредоточивший в себе всю силу воплощенной в материю человеческой мысли и вместе с тем напоминавший гигантских размеров ископаемую черепаху, мутно поблескивавшую металлическим панцирем, производил тоже подавляющее впечатление. Но в нем угадывалось сразу какое-то единство, можно было охватить глазом целое и представить себе человека, оседлавшего это чудовище. К тому же, над головою был высокий купол неба, которым скрадывалась величина приземистого, неуклюжего контура. Дагмара невольно залюбовалась этим творением человеческого духа. В тот момент, когда молодые люди подошли к машине, были пущены в ход двигатели. Задрожали массивные цилиндры, содрогнулось огромное тело, и тяжелым грузным дыханием его наполнился воздух; вместе с гудением маховиков этот гул был таким потрясающим, что в нем тонули человеческие голоса. Надо было кричать, чтобы быть услышанным соседом. Посетители поднялись снова в командирскую кабинку и стали наблюдать показания приборов, регистрирующих работу механизма. — Что-то неладно внизу, у холодильников, — сказал Дерюгин и добавил, касаясь главных рычагов: — Немного погодя пустят в ход и это, и ты увидишь любопытнейшие вещи. Сейчас остается только передвинуть рукоятку влево, чтобы превратить эту массу железа в магнит… Оба взглянули вниз: там метрах в шести под их ногами группа людей обходила со всех сторон медное чудовище, следя за ритмом его дыхания и работою всех частей. — Останься здесь на минуту, — вспомнил вдруг что-то Дерюгин: — мне надо сказать несколько слов главному инженеру. Он стал быстро спускаться по трапу, вздрагивавшему от тяжелого дыхания машины. Главный инженер, высокий и худой, как жердь, с растрепанной бородкой, в небрежном костюме, стоял около нижних цилиндров, тыкал пальцем в щель, откуда вырывалась тонкая струя пара, и говорил что-то недовольным голосом; один из техников, видимо, попробовал возразить, но инженер сердито прикрикнул на него и вздрагивающим шагом пошел к другой стороне механизма; его спутники молча последовали за ним. Дерюгин отошел в сторону, отмечая что-то в записной книжке, когда вдруг на фоне темного прохода из внутреннего здание показалась фигура человека, растерянно остановившегося посреди двора и, видимо, ошеломленного грохотом и лязгом, несшимся со всех сторон. Лицо странного гостя показалось Дерюгину знакомым, но он не мог сразу вспомнить, где он видел эти беспокойные глаза, выпуклый лоб и жестко сжатые губы. Что-то странное и порывистое было в позе незнакомца, и Дерюгин хотел уже спросить, как и зачем он сюда попал, когда внезапно взгляды их встретились. В один короткий миг память подсказала забытый образ, и в то же мгновенье глаза посетителя загорелись такой бешеной ненавистью, что молодой инженер невольно отступил назад. Рука Эйтеля опустилась в карман, и вслед за тем Дерюгин увидел против себя темное дуло револьвера. Еще не понимая, в чем дело, он крикнул и бросился в сторону грузовой машины. Треснул короткий выстрел, за ним другой.
Дерюгин почувствовал, как обожгло огнем левую руку у плеча. Он обернулся. Флиднер был от него в пяти-шести шагах и снова целился почти в упор. Из командирской кабинки над головою выглянуло испуганное лицо Дагмары. Люди у механизма, обернувшиеся на выстрелы, стояли, сбившись в кучу, не зная, что предпринять. Это было полнейшей нелепостью, диким бредом, казалось сном, а между тем на Дерюгина из черной дыры револьвера смотрела неизбежная смерть. В одно короткое мгновенье в голове его пронеслась внезапная мысль. Он сделал скачок в сторону магнита и крикнул наверх в кабинку: — Дагмара, дайте ток! Еще раз хлопнул выстрел. Дерюгин упал. Девушка машинально схватилась за рукоятку. В следующую секунду произошло нечто поразительное: револьвер, вырванный из рук Эйтеля чудовищной силой, пролетел по воздуху десяток шагов, отделявших его от магнита, и ударился с размаху о наконечник полюса. Сила толчка была такова, что револьвер, как это часто случается с автоматическим оружием, разрядился еще несколько раз, а затем остался неподвижным на магните, будто придерживаемый невидимой рукой. Эйтель опрокинулся навзничь, в нескольких шагах от своего противника, пронзенный собственными пулями. От машины и из обоих смежных корпусов к ним бежали уже люди, чей-то голос требовал врача и носилки. Сверху по трапу полумертвая от ужаса спускалась Дагмара, еле держась руками за перила. Кругом что-то кричали, но за шумом моторов ничего нельзя было разобрать. Главный инженер махнул рукой механику в машинное отделение, — двигатели стали. С наконечника магнита упал вниз револьвер, только что бывший в руке Флиднера, разбитые часы, железный лом, связка ключей, еще какая-то мелочь, приставшая к нему в тот момент, когда в обмотку был дан ток. Несколько человек хлопотали уже около Дерюгина; Дагмара первая расстегнула окровавленный костюм на груди инженера и приникла ухом, выслушивая биение сердца. Другие занялись Эйтелем. Через пять минут появился заводской врач с санитарами и носилками. Обоих раненых понесли в амбулаторию. Флиднер стонал и водил вокруг совершенно безумными глазами; Дерюгин лежал молча, следя взглядом за Дагмарой, метавшейся между ним и братом. Осмотр врача выяснил, что раны инженера — одна в левое плечо, другая в ногу — неопасны, во всяком случае не затронуты кости. Положение Эйтеля было гораздо хуже; у него было прострелено правое легкое, он стонал, харкал кровью и тяжело хрипел. На вопрос Дагмары доктор скептически покачал головой. — Здесь дело плохо, мадемуазель, если хотите знать правду. Если бы еще организм был сам по себе здоров… Но помимо всего прочего, по-моему, нервная система совершенно расшатана… Главный инженер после перевязки подошел к Дерюгину и пожал здоровую руку. — Ну, поздравляю, — сказал он, — счастливая мысль пришла вам в голову. Если бы вы не догадались вырвать магнитом револьвер из рук этого сумасшедшего, — мы бы сейчас не имели удовольствия с вами разговаривать. — Все хорошо, что хорошо кончается, — улыбнулся Дерюгин, — скверно то, что я на некоторое время выбыл из строя… А как там? Он указал глазами на Эйтеля, стонавшего на перевязочном столе. — Кажется, плохо. Пробито легкое, а главное — здесь не в порядке, — инженер стукнул себя пальцем по лбу и нахмурился, — впрочем, сейчас улицы полны такими же одержимыми. Paranoia, mania persecutoria и черт знает еще какие скверности по словам врача. Мировой бедлам какой-то. Вечером Эйтель потерял сознание. Он метался, стонал, бредил событиями, пережитыми за последнее время, звал отца и неустанно с упрямою злобою повторял имя Дерюгина. — Кто вырвал у меня револьвер? Какая у вас тут чертовщина творится? — вскрикивал он иногда, вспоминая, очевидно, неожиданный финал минувшего дня. К утру он умер.
Глава XIX Встреча с шаром
Прошла неделя после пожара Рима. Атомный вихрь, двигаясь вдоль побережья, достиг южных склонов Альп и повернул к северной Ломбардии, превращая в пустыню цветущий край. В Париже тревога понемногу улеглась. Правда, отдельны вспышки то здесь, то там еще охватывали уличную толпу, но после буйных дней наступила реакция; люди погрузились в апатию, холодное равнодушие ко всему происходящему. Трудно было узнать кипящий жизнью, шумный, бешеный город, — так унылы и пустынны стали его улицы. Отчасти и в самом деле он опустел: за несколько дней паники по крайней мере треть его населения рассеялась по окрестностям и ближайшим городам, и теперь очень медленно и нехотя возвращалась по домам. И по-прежнему только на заводах неустанно круглые сутки шла работа, а за переплетами огромных окон днем и ночью двигались, как головы и спины сказочных чудовищ, машины. Таким же оживлением и бодростью кипел Латинский квартал, ставший средоточием жизни Парижа. Здесь, в Сорбонне, продолжал работать съезд физиков, разбившийся на секции и превратившийся в штаб, управлявший работами на территории Франции. А рядом, в Люксембургском дворце, на месте старого сената, народное правительство строило камень за камнем новую жизнь и облекало живою плотью планы, рождавшиеся в Сорбонне. Крупнейшие металлургические заводы были привлечены к постройке магнитов. У Безансона и Седана сооружались бетонные пушки; опустошались арсеналы, и сотнями и тысячами тонн взрывчатые вещества, заготовленные людьми для истребления себе подобных, поглощались каменными утробами. Дерюгин лежал в клинике медицинского факультета на бульваре С.-Мишель и мог видеть из окна оживленные группы людей, отряды рабочей гвардии, манифестации, точно соединившие живым потоком эти два центра, вокруг которых кристаллизовалась рождающаяся жизнь. Сам он чувствовал себя прекрасно и только ждал с нетерпением дня, когда, наконец, сможет броситься в бурное человеческое море, погрузиться с головой в работу, кипевшую вокруг. Раны его быстро затягивались. К концу недели он ходил уже довольно бодро, слегка опираясь на палку, и только рука работала с затруднением. Зато с Дагмарой творилось неладное. Она не заболела, как случилось несколько дней перед тем, не слегла, но, видимо, ужасный день на Монмартре придавил ее непосильным бременем. Навещая Дерюгина в клинике, она в его присутствии старалась держаться бодро, но он видел, что это стоило ей больших усилий. Она сгорбилась, осунулась, на лицо легла неуловимая тень. Когда она заставляла себя улыбаться, Дерюгину, глядя на эту улыбку, хотелось плакать. Он знал, что смерть брата, в которой она оказалась невольной виновницей, надломила и без того смятенный дух. Как-то раз он попробовал было заговорить об этом, чтобы прийти ей на помощь, но сейчас же замолчал и больше не решился повторить свою попытку: у Дагмары вдруг задрожали губы, лицо передернулось судорогой, а в глазах появилось выражение, какое бывает у затравленного зверя. Она сжала его руку и прошептала чуть слышно: — Не надо об этом… Через неделю, когда инженер встал на ноги, он решил не выжидать окончательного выздоровления, а немедленно оставить Париж. Его тянуло к себе, в Россию, на горячую, буйную работу; здесь он чувствовал себя чужим. Вместе с тем и Дагмару пребывание в городе, связанном с такими ужасными воспоминаниями, тяготило непереносимо. И когда Дерюгин заговорил об отъезде, она в первый раз в эти дни встрепенулась, стала несколько живее, точно близкая разлука с ненавистным местом уже приносила ей облегчение. Была и еще причина, заставлявшая инженера торопиться с отъездом. Атомный шар прорвался, наконец, через Альпы по долине Дюрансы, растопив по пути массы льда и снега глетчеров Мон-де-Лана, которые хлынули вниз буйными потоками, наделавшими местами много бед. Дальше он покатился на север мимо Лиона по долине Рона. Теперь волна разрушения и с нею неодолимого страха двигалась по самой Франции, с каждым часом приближаясь к Парижу. Оставаться дольше — значило рисковать снова попасть в полосу паники. Лучше было переждать тревогу где-нибудь в пути, чем в каменном мешке, где стиснуты были миллионы людей. Тем более что волнения уже начинались, и в вечер отъезда с северного вокзала происходили знакомые им по недавним дням сцены безоглядного бегства. Точно какой-то смутный инстинкт заставлял эти миллионы людей раствориться в пространстве, разрядить накопление сгущенной энергии. Дерюгину со своей спутницей с большим трудом удалось отвоевать себе место в вагоне поезда, отходящего на Кельн. Горяинов остался в Париже. — Благословенное отечество для меня сейчас обиталище не из удобных, — сказал он, прощаясь с Дерюгиным, — я здесь, я — один из многих… К тому же если «зверю из бездны» вздумается заглянуть в эти места, любопытно будет на него взглянуть, пока это еще возможно. Поезд отошел поздно вечером. В это время было известно, что атомный шар около полудня пролетел между Дижоном и Везулем, направляясь довольно медленно на север. Поползли мимо окон вокзальные огни, станционные постройки, трубы далеких заводов, а за торопливыми гудками паровозов в глубоких вздохах над темнеющими силуэтами каменных громад постепенно угасал гул уходящего в сумерки города. В вагоне, разумеется, никто не спал. Сознание, что где-то неподалеку в нескольких десятках километров за темными виноградниками и полосою леса на горизонте совершается то неведомое и страшное, что уже около месяца потрясает земной шар, — не давало покоя. Кругом говорили только об одном, вспоминали всю историю возникновения злополучного шара, передавали бесконечные рассказы по газетам, по словам очевидцев, наконец, просто по изображению собственной фантазии. Какая-то дамочка, поминутно нюхавшая из флакона, распространявшего острый, пронзительный запах, рассказывала, изображая на лице живой ужас и смятение, что ее кузен видел «зверя из бездны» около Белграда, и что, по его словам, это целое море огня, заливающее землю настоящими волнами, перекатывающимися через многоэтажные дома. Толстый коммерсант из Гавра уверял, что Рим сожжен вовсе не атомным вихрем, а коммунистами, но об этом боятся говорить. Недаром же разрушен Ватикан, и святой отец сам еле успел оттуда выбраться, несмотря на обет не покидать до конца дней свою роскошную темницу. Дамочка усомнилась в этом предположении, очевидно, отстаивая авторитет своего кузена, описывавшего в таких ярких красках движение атомного шара. — Но вот что я слышала наверное, — продолжала она, положив нога на ногу и блеснув облегающим их розовым шелком, — это, что статуя мадонны из Санта-Кроче спасена из пожара чудесным, непостижимым образом. Еще накануне в церкви, где она стояла, совершались месса и молебствие, на котором была масса народа. Когда начался пожар, церковь была заперта. Ее так и не успели открыть, и она сгорела дотла. А наутро статуя совершенно целая и сохранная оказалась в часовне какого-то монастыря на Монте-Пинчио. — А вы слышали, что третьего дня из глаз богоматери в Лурде катились кровавые слезы? — спросила дама в пенсне и со значком Армии Спасения. Посыпались рассказы о таинственных явлениях, зловещими предзнаменованиями угрожавших миру новыми бедами. В углу у окна сидел мрачный человек с изможденным лицом и запавшими глазами, в которых метался дикий огонек: он бормотал что-то невнятное, в чем Дерюгину почудились звуки родной речи. Он прислушался. Незнакомец нараспев, голосом, каким читают в церквах Евангелие, говорил, ни к кому не обращаясь: — И изыде другий конь — рыж: и сидящему на нем дано бысть взяти мир от земли, и да убиют друг друга… Дерюгин вспомнил строки из давно забытого Апокалипсиса и подивился картинному изображению, точно нарочно подобранному к современным событиям. Пассажиры не обращали внимания на странные звуки чуждого языка и продолжали сыпать фантастическими рассказами. Из соседнего отделения доносились отрывки разговора другого характера. Делились впечатлениями два инженера, ехавшие в Рурскую область. — Да, бедняга погиб совершенно зря, по собственному недомыслию, — рассказывал один, — нашел время говорить по телефону, когда этот пузырь катился метрах в трехстах расстояния. Ну, ясное дело, — шарахнула молния, и его пристукнуло на месте… — В Тарасконе, говорят, перегорели почти все провода в уцелевшей части города, — добавил собеседник. — Знаете ли, в конце концов, как ни фантастична эта русская идея о бетонных пушках, но я начинаю думать, что лучше попробовать хоть это, чем сидеть, сложа руки… Иначе дело кончится черт знает чем. — Мне рассказывал приятель, приехавший вчера из Болоньи. Они там ухитрились довольно долго наблюдать спектр излучений этой штуки. По его мнению, дело пока не так скверно. Помимо обычных линий кислорода и азота до сих пор удалось обнаружить еще только, главным образом, наличие значительных количеств гелия, получающегося при выделении из распадающихся атомов альфа-частиц. Сами же они, видимо, еще довольно устойчивы. Линии водорода тоже видны, но пока не очень резко, и происхождение их такое же первичное, как и гелиевых ядер; но если дальше начнут разваливаться в большом количестве эти последние, — ну, тогда я нас не поздравляю. — Да, лучше было бы этого духа не выпускать из бутылки, — мрачно сказал первый и запыхтел сигарой. Разговор прервался. Рядом высокий молодой человек, с военной выправкой и лихо закрученными усами, придвинулся плотнее к дамочке, сверкавшей розовыми икрами, и говорил с пафосом: — Это была незабываемая картина, мадам. Представьте себе несколько сот пушек, изрыгающих снаряды в этого огненного дьявола… Грохот, треск! Целое море огня! Мы сделали все, что могли! Мы не отступили ни на шаг среди этого ада и не посрамили польской армии! Клянусь честью, — не будь я хорунжий Крживинский! Но что прикажете делать? Он прорвал нашу железную цепь, анаши снаряды рвались, не долетая до него, от невыносимого жара… — И хорошо делали, — донесся насмешливый голос инженера из соседнего отделения. — То есть почему это? — вспыхнул бывший хорунжий, хватаясь правой рукой за то место на боку, где когда-то висела сабля. — Да потому, что если б они могли разорваться внутри шара, то силою взрыва разбили бы его на несколько кусков, если можно так выразиться, из которых каждый продолжал бы свое веселое путешествие самостоятельно, и мы имели бы теперь не одного дьявола, как вы изволите говорить, а по меньшей мере сотню дьяволят, которые своевременно выросли бы до таких же почтенных размеров, как и их папаша. О результатах предоставляю судить вам. — Вздор, — хорохорился хорунжий, — об этом думали люди не глупее вас. Генерал Невенгловский… — Очевидно, такой же идиот, как и все остальное ваше начальство, отдавшее это умное распоряжение, — отозвался тот же иронический голос. — Милостивый государь! — вскочил, как на пружине, офицер бывшей польской армии, — потрудитесь взять ваши слова обратно! Или вам придется в них горько раскаяться! Дамочка ахнула. За перегородкой засмеялись. — Тоже из пушек стрелять будете? Крживинский бросился к неожиданному противнику, потрясая кулаками. Поднялся шум, соседи схватили рвавшегося вперед хорунжего; дама упала в обморок; человек в углу бормотал непонятные слова. Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, если бы поезд вдруг не остановился и в вагон не вошел главный кондуктор. — Господа, — заявил он, — только что получено известие, что поднявшийся сильный ветер, изменив направление, гонит атомный шар от Мезьера на запад. Поезду приказано все же идти вперед. Налетит ли шар на станцию или пересечет путь поезда, — сказать сейчас трудно. Но мы предупреждаем пассажиров, чтобы предоставить им выбор: оставаться в вагонах или выйти на вокзал и переждать тревогу здесь. На минуту наступило тревожное молчание. Потом все заговорили вдруг, растерянно, возбужденно, не зная, на что решиться. — Через десять минут поезд тронется, — предупредил кондуктор, переходя в следующий вагон. Дамочка, уже успевшая очнуться от своего обморока, металась между пассажирами, спрашивая с тоской то одного, то другого: — Что же делать? Что делать? Бывший хорунжий мрачно топорщил пышные усы и ерошил волосы, не в силах выдавить какой-нибудь мысли, подходящей к обстоятельствам. Мрачный субъект у окна первый принял определенное решение: с видом молчаливой покорности неизбежной судьбе он плотнее уселся в угол и подложил под голову дорожную подушку. Инженеры в соседнем купе совещались вполголоса. Дерюгин подошел к ним. Старший, тот, который рассказывал о смерти своего знакомого, сидел на скамье, разложив на коленях небольшую карту и водил по ней пальцем; младший, маленький и кругленький человечек, следил за товарищем и сквозь зубы чертыхался. — Как быть, господа? — обратился к ним Дерюгин, — надо бы дать какие-нибудь указания пассажирам: они мечутся, как загнанное стадо… Сидевший пожал плечами. — Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь мне самому дал указания. Как угадать, где этому огненному черту заблагорассудится пересечь наш путь? Повернул в районе Мезьера по ветру… Указаньице, нечего сказать! Вы пробовали определить направление ветра? Приблизительно юго-восток и сила шесть- семь баллов, — вон как засвистывает. Расстояние от Мезьера около ста километров. Значит, можно ждать появление этого гостя на нашем меридиане часа через два. Но где? Ошибка в определении ветра на 10 градусов уже меняет возможный пункт встречи километров на пятнадцать… А если ветер не останется постоянным? — Так, по-вашему?.. — По-моему, вероятность встречи там или здесь, примерно до Монса, почти одинакова. Так что наиболее правильный выбор — гадать на пальцах, — француз зло усмехнулся. Его товарищ покачал головой. — А по-моему, это не так. Если принять во внимание рельеф местности и стремление шара держаться, по-видимому, более низких мест, — то вернее ожидать его визита именно сюда. А во- вторых, оставаясь в поезде, мы имеем больше шансов в случае встречи удрать от него на всех парах. Вокруг собралась уже кучка пассажиров, прислушивавшихся к разговору; последнее замечание маленького инженера показалось особенно убедительным. Коммерсант из Гавра заявил громогласно, что остается и советует другим сделать то же. К нему присоединился Крживинский и вместе с ним дамочка в розовых чулках, окончательно отдавшаяся покровительству бравого хорунжего. Дерюгин вернулся на свое место и рассказал спутнице о том, что слышал. — Я тоже согласен с тем, что благоразумнее остаться в вагоне, — закончил он, — как ты думаешь? Дагмара покачала головою. — Мне все равно, — как ты находишь лучше. Ты предпочитаешь остаться? — останемся. Я даже рада не трогаться с места. Большинство пассажиров последовало их примеру. Исчезла дама со значком Армии Спасения и еще пять-шесть человек. Но из других вагонов набралось довольно много народа, запрудившего маленькую станцию шумной, тревожной толпою. Через несколько минут поезд двинулся, нырнув в темную даль полей и перелесков и будя ночное эхо за ближними холмами. Настроение в вагоне резко изменилось. Разговоры стихли; изредка перебрасывались отрывочными фразами. Все сгрудились в угрюмом молчании у окон, обращенных к востоку. Тревожное ожидание росло с каждой минутой. Каждая вспышка света на темном горизонте отзывалась волною трепета, пробегавшей по вагону. На следующей станции узнали, что телеграф на восток не работает, и о положении шара в данный момент ничего неизвестно. Кое-кто из пассажиров остался здесь; поезд снова погрузился в ночную мглу и, рассыпая потоки искр, помчался к северу навстречу неизвестности. Около часу ночи единодушный крик раздался из сотен грудей. Из-за темной гряды холмов на востоке точно выплыла луна, окруженная клубами дыма, пронизанного голубым светом. Еще не видно было подробностей, не доносилось звуков, заглушаемых грохотом колес, но было ясно, что пламенный шар летит наперерез полотну дороги. Раздирающие вопли понеслись по вагонам. Высокий инженер злобно кричал своему товарищу: — Черт бы вас взял совсем с вашим рельефом и с вашими дурацкими рассуждениями! Не угодно ли теперь выскочить из этой идиотской коробки! Хорунжий бегал по вагону с перекошенным от страха лицом и шептал побелевшими губами: — Иезус Мария! Юзефе свенты! А спутница его каталась в истерике, по-видимому, на этот раз совершенно неподдельной. Дерюгин стоял рядом с Дагмарой И держал ее за руку, лихорадочно всматриваясь в картину, открывавшуюся из окна. Поезд ускорил ход, — вероятно, машинист решил рискнуть и попытался проскочить впереди огненного вихря. Людей, запертых в тесных клетках вагонов, обуял вдруг звериный ужас. Казалось, что поезд несется прямо в раскрытое жерло ада. Раздались дикие вопли, звон разбиваемых стекол; из вагонов несколько темных фигур, очертя голову, бросились вниз на полном ходу. Другие схватились за автоматические тормоза. Заскрежетали колеса, тревожные свистки паровоза вонзились в ночную темень. Еще прежде чем поезд окончательно остановился, сотни людей посыпались с обеих сторон вагонов на полотно, падали, вскакивали и мчались на запад, подгоняемые неодолимым страхом. Дерюгин со своей спутницей последовал общему примеру; они бежали, взявшись за руки, не разбирая дороги, по кочкам и ухабам взрыхленного поля. Впереди них уродливыми силуэтами корчились их длинные синеватые тени, отбрасываемые трепетным светом за спиною. В этом неверном освещении шагов через двести оба налетели разом на какую-то канаву, свалились в нее и, не смея шевельнуться, остались лежать там, чуть не по пояс в воде, сбегавшей вниз, очевидно, к недалекой реке.
Рядом с ними справа и слева копошились и вздыхали еще какие-то тени. С востока несся ясно слышный теперь в ночной тишине все растущий смешанный шум. Шипение и треск, как от большого пожара, резкие сухие удары, похожие на короткие громовые раскаты, свист и гудение наполняли воздух. Голубоватое зарево охватило полнеба. Когда Дерюгин высунул голову из ямы и взглянул вперед, он весь съежился, будто хотел врасти в землю. Шагах в трехстах, за темной массою вагонов, в дыму и тумане, содрогаясь синими молниями, клубясь и волнуясь, несся на запад грохочущий вихрь. Размеры его трудно было определить: окружавшие его тучи дыма и пыли, пронизанные изнутри ослепительным светом, скрадывали очертания, сливаясь в пламенное облако. Всюду вокруг, на ветвях кустов, на выдающихся частях вагонов, на железнодорожном мосту несколько впереди, перебегали голубые огни, дополняя фантастическую картину ночного пожара. — Что это? — спросил из темноты чей-то дрожащий голос. — Огни святого Эльма, — ответил Дерюгин невидимому собеседнику, — воздух вокруг насыщен электричеством… Он не договорил. Ахнул оглушительный взрыв, и темные тени приникли ко дну канавы. Это — огненное облако приблизилось к паровозу, и мгновенно обратившаяся в пар вода разнесла котел. Над их головами просвистало несколько обломков. Когда Дерюгин немного погодя высунул снова голову из-за края канавы, — вихрь был уже шагах в ста, направляясь к реке. От него несло жаром как из раскаленной печи; глазам было больно смотреть на ослепительное сияние. Еще минута, — и целые тучи пара из вскипевшей под шаром воды окутали его плотной атмосферой. Горячие волны выбросились на берег; в реке все гудело, бурлило и грохотало. По дну канавы хлынула оттуда струя кипятка, обжигая обезумевших от ужаса людей. Ослепленные, полузадохшиеся, карабкались они наверх по откосу рва, цепляясь друг за друга. Дерюгин, наблюдавший страшную картину, примостившись у верхнего края ямы, успел неимоверным усилием вытащить к себе Дагмару; девушка была почти без памяти. В то время как инженер среди общего хаоса приводил ее в чувство, новый потрясающий удар грома возвестил о том, что шар налетел на железный мост. Когда через несколько минут удаляющийся шум указал, что опасность миновала, и вместе с тем Дагмара пришла в себя, — Дерюгин обернулся. Вместо моста виднелась на огненном фоне исковерканная разодранная масса обломков металла; сзади вагоны, ближайшие к паровозу, объяты были языками пламени, перебиравшегося все дальше; вокруг все застилало дымом, несло гарью и еще каким-то едким запахом. Горизонт был охвачен багровым заревом пожаров. У Дерюгина невольно рука сжалась в кулак, и он погрозил на запад, куда уходил за дымной завесой пламенный шар. — Погоди, мы еще поймаем тебя, рыжий дьявол! Инженер, поддерживая Дагмару, с трудом передвигавшую обожженные ноги, направился к горевшему поезду, рассчитывая, что здесь скорее всего можно дождаться помощи, которую должны были выслать с ближайшей станции. Почва, где только что пронесся атомный вихрь, была еще настолько горяча, что по ней больно было ступать, и от зноя захватывало дыхание; вся она была покрыта пеплом и обугленными остатками. Кое-где валялись человеческие тела. Это были те, кто не успел спастись от огненных стрел страшного врага. Невдалеке от паровоза, у небольшого бугорка, лежала бесформенная груда сбившихся в кучу людей. С разинутым ртом и вытаращенными глазами глядело из нее в небо мертвое лицо хорунжего, а рядом нелепо торчала вверх оголенная выше колена нога в розовом чулке. Дерюгин с содроганием отвернулся и ускорил шаги, уводя девушку от страшного места.
Глава XX Первая попытка
Прошло две недели. Дело близилось к развязке. Было очевидно, что или должна представиться возможность дать бой врагу, опустошавшему Старый Свет, или, если этого не случится в ближайшем будущем, всякая борьба станет вообще бесполезной, и надвинется неизбежная, окончательная катастрофа. Атомный шар все быстрее увеличивался в размерах, и впервые в то время как он пересекал южную часть Великобритании, в его спектре были замечены резко выступавшие яркие линии водорода. Это было грозным предостережением. Процесс вступал в новую фазу, сопровождающуюся бурным выделением энергии. Теперь шар уже не катился, покорный воле ветра, а сам служил центром образования циклонов и ураганов, причинявших то тут, то там значительные разрушения, помимо пожаров, все более широкой полосою за ним следовавших. Особенно сильно сказалось это влияние после того, как атомный вихрь вылетел в Соммерсете в Атлантический океан. Колоссальные количества пара, которые он подымал на своем пути из воды, послужили причиной невиданных доселе в Европе ливней, принявших местами тропический характер и вызвавших настоящие наводнения, от которых сильно пострадали западные департаменты Франции, Корнуэльс, Голландия, Бельгия и соседние с ними области Германии. Дожди сопровождались сильными грозами, во время которых получили необычайное развитие шаровидные молнии, вообще говоря, довольно редкие в этих местах. Большой их размер (они доходили до полуметра в поперечнике) и значительная сила удара породили тревожные разговоры о том, что от атомного облака оторвались новые осколки, ставшие самостоятельными очагами распространения бедствия. Несколько дней слухи эти упорно циркулировали даже в научных кругах и посеяли там немалое смущение и тревогу. Было совершенно очевидно, что если предположение это справедливо, то дело надо считать безнадежным. В народных же массах разговоры о новых центрах атомного распада, разбросанных якобы по всему континенту, породили дикие страхи, усилившие общую панику, ворвавшуюся в жизнь. Опровержения, исходившие из ученых кругов после того, как выяснилось истинное положение дела, мало помогали: им знали цену по старому опыту, а главное — настроение было таково, что любой слух принимал чудовищные размеры и доводил людей до исступления. Помимо климатических изменений, появились и другие признаки, указывавшие на наступление нового периода в ходе процесса. Все западное побережье Европы, примерно до второго меридиана, было охвачено сильнейшими магнитными бурями. В последнее время вообще наблюдалось это явление повсюду в связи с энергичным развитием солнечных пятен, но сейчас дело доходило временами до того, что почти невозможно было пользоваться компасом, — настолько беспокойно вела себя стрелка. Все это были угрожающие признаки, но последний давал и надежду, указывая на то, что магнитные силы смогут послужить цепью, при помощи которой удастся сковать разъяренную стихию, если только, конечно, машины, над сооружением которых работали день и ночь сотни заводов, окажутся достаточно мощными. А шар все двигался. Во всех газетах ежедневно на заглавном листе помещалась схематическая карта, на которой жирной черной линией отмечался путь «рыжего дьявола», завихрявшийся теперь путаными петлями по водным просторам Атлантики. В больших городах та же огненная дорога изображалась красной извилистой чертою на плакатах, а вечерами на световых экранах, и перед этими красноречивыми картинами с утра до глубокой ночи стояли сменяющие друг друга в мрачной тишине людские скопища. И странно было наблюдать среди уличного гомона и треска молчаливые толпы, следившие полными тревоги глазами за развертыванием зловещей черты, разрезывавшей мертвую карту. Точно чья-то незримая рука писала на стене таинственные, но полные страшного значения знаки. Правда, в общем паника несколько улеглась, и жизнь — худо ли, хорошо ли — шла своим путем. Счастливое свойство человека — забывать или во всяком случае отодвигать сознание даже неминуемой опасности в какой-то глухой уголок души, если нет непосредственной угрозы; ведь даже осужденные на смерть утоляют жажду и голод и кутаются от стужи. Таким приговоренным чувствовало себя теперь все человечество; и люди занимались своими повседневными большими и малыми делами, измеряя на досуге глазом на карте расстояние от головы змеи, извивающейся по цветным пятнам, изображающим моря и континенты до той или иной точки, обозначавшей средоточие мира для земнородных, скученных в каменной коробке, носившей то же название. И облегченно вздыхали, если голова змеи поворачивала прочь от точки А и ползла к точке Б. А теперь вот уже три недели наступило почти полное затишье; жирная линия на плакатах вила свои петли по синей кляксе, изображавшей Атлантический океан, потом повернула на юг, некоторое время как бы колебалась, не зная, куда направиться, и, наконец, перебросилась на желтое пятно Сахары и там на несколько дней пропала вовсе. Правда, телеграф по-прежнему приносил известия об отдельных эпизодах то с каким-нибудь пароходом, то в городишке или селении со странным названием, которое не сразу можно было найти на карте; но все это очень далеко — у арабов или негров, у людей, затерянных в безбрежных лесах и пустынях, символизируемых желтой загогулиной с надписью «Африка». Правда, проносились грозы и ураганы, и с неба низвергались порою целые водопады, причиняя много несчастий, но это было знакомое, земное, с чем так или иначе можно было бороться; оно приходило и уходило. И жизнь шла своей колеей. За движением шара с того момента, как он оставил берег Франции, следили отряды быстроходных миноносцев и эскадрильи аэропланов, сопровождая его, как неотвязная стая гончих, преследующая крупного косматого зверя. С этой неотступной свитой пересек он южный берег Англии, плутая две недели в водах океана, и снова вынырнул на континент на Золотом Берегу. В Сахаре на некоторое время след его был утерян, так как аэропланы не были подготовлены к длительному полету над пустыней. Но вскоре возле оазиса Куфры стая их настигла «рыжего дьявола», и во всех столицах Европы снова на плакатах и экранах стала развертываться красная лента его движения. Дерюгин наблюдал этот новый акт мировой драмы в Варшаве, где он застрял на несколько дней по пути в Россию из-за болезни Дагмары, окончательно свалившейся здесь после встряски во время встречи с шаром. Она была в таком состоянии, что продолжать дальше путешествие было немыслимо. Инженер снял две небольших комнатки на тихой улице нижней части города недалеко от съезда к Висле, и окружил больную всеми попечениями и заботами, какие были возможны в данных условиях. Город еще не пришел в себя после недавних потрясений, и жизнь не совсем наладилась. Дерюгин делал все, что мог, а между тем по телеграфу связался со своими московскими друзьями. Оттуда ему советовали не торопиться домой, так как, по-видимому, «дело найдется и там». И оно, действительно, нашлось. Новая власть, вообще еще не очень твердая, объявила важнейшей своей задачей участие в общем деле борьбы со стихийным бедствием. Но исполнителей найти было не так легко. Многие из тех, что до сих пор держали в руках механизм жизни, и самые нужные из них — инженеры-специалисты — отошли в сторону. Одни погибли во время переворота, иные бежали куда глаза глядят, как только началась революция; третьи попросту попрятались, ожидая, что будет дальше. Были и такие, которые сознательно сторонились от всего, презрительно поглядывая на «хлопов», завладевших Бельведером. И правительство, одной рукой борясь еще со старой жизнью, упорно цеплявшейся за разбитые осколки, другую руку протягивало за братской поддержкой на восток. Шли уже переговоры о формальном союзе, а пока необходимо было помочь людьми в организации дела на месте. На пятый день пребывания в Варшаве Дерюгин получил из Москвы предложение принять участие в этой помощи и остаться в Польше в качестве одного из техников-специалистов. Он согласился, и сразу же работа увлекла его целиком. Некоторое время в нем шла глухая борьба; казалось немыслимым бросить сейчас Дагмару в таком состоянии, а между тем в этой лихорадочной атмосфере деятельности оставаться созерцателем он был не в состоянии. В конце концов, он поручил больную попечениям врача и сиделки, а сам ушел с головой в горячее дело. Вечером, и то не каждый день, он возвращался домой, утомленный до изнеможения, и встречал каждый раз тревожный и подавленный взгляд, в котором пряталась молчаливая укоризна. На минуту в нем подымалось что-то вроде укоров совести, но они стихали перед более сильным голосом, говорившим о том, что дело, которому он себя посвятил, служит не праздной гимнастикой тщеславного разума, а работой для блага человечества. Это было ясно, и логика вещей была достаточно убедительна. И все-таки каждый раз, когда он видел обращенный к нему печальный взгляд, — в душе шевелилось смутное, неприятное чувство. Между тем Дагмара почти совсем оправилась; она уже выходила на улицу в сопровождении сиделки. Но в глазах ее не зажигалось любопытства при виде незнакомого города, новых людей, невиданного еще уклада жизни. В ней будто надломилось что-то, порвалась нить, привязывающая к окружающему. Хаос событий последнего месяца, дух страха и ненависти, гнавший по улицам бушующие толпы, зараза больного мозга человечества — давили невыносимым грузом. Нечаянное убийство брата — эта дикая, нелепая случайность окончательно сломила силу сопротивления. Она по ночам во сне десятки раз переживала все ту же сцену, часто в самой невероятной фантастической обстановке, просыпалась с мгновенным облегчением в сознании того, что это только сонная греза, и так же молниеносно память приводила недавнее прошлое, и все тело пронизывала острая мысль: «Нет, все-таки это было…» Она уже не плакала. Она металась в слепом ужасе под давящим бременем и жадно искала поддержки. А вместо этого кругом — чужой город, чужие люди — и полное одиночество. Правда, Дерюгин был рядом, где-то здесь в этом трескучем муравейнике; но он был таким же далеким, как и все снующее мимо окон и балкона людское месиво. Рассеянный и усталый, но вместе с тем неизменно возбужденный, он и с собою приносил запах и дух толпы, ее страхи и надежды, ее меняющиеся порывы. Он говорил только о своем деле и о связанных с ним событиях, о работе на заводах, о бетоне, о меди, о железе, о мертвой материи, заслонившей от него мятущуюся живую душу. Он был неизменно ласков и приветлив, но вместе с тем бесконечно далек в этом пароксизме деятельности. И город кипел вокруг, такой же чуждый и почти враждебный. Наступали решительные дни. Красная линия на экранах с бюллетенями повернула уже с неделю на север, пересекла синюю полосу Средиземного моря и запетляла опять на Балканах. Снова понеслись телеграммы, снова зашумели встревоженные людские муравейники. Дерюгин следил с лихорадочным вниманием за всеми сообщениями с юга. Там должна была произойти первая схватка между слепой стихией и человеком, первая попытка остановить движение огненного вихря. Правда, этот бой не мог быть решающим: здесь вся работа свелась только к постройке электромагнитов, да и то в очень ограниченном количестве, какие могли позволить скромные средства разрозненных правительств. Что касается сооружения бетонных пушек, работа над которыми приходила уже к концу в России, Германии, Франции и Польше, то здесь до сих пор дело не пошло дальше переговоров и обмена нотами, из которых видно было, что никто не хочет положить начала собственному разоружению, ожидая соседа, тогда как последний с таким же недоверием поглядывал из-за рубежа, не решаясь выпустить из крепко зажатой руки камень. Арсеналы оставались закрытыми, а дипломаты, вежливо улыбаясь, продолжали договариваться. В результате, когда атомный шар появился снова на континенте у Дедеагача, соединенные силы балканских государств смогли выставить шесть готовых (да и то, кажется не вполне) машин — и больше ничего. Встреча произошла на Великой Валахии близ Урзичени, в 60 километрах от Бухареста. Около десяти часов утра атомный шар, только что пересекший реку, под довольно сильным ветром наткнулся на фронт тракторов, развернутый в длину, примерно, на километр. Командир колонны применил такой прием: весь отряд двинулся вперед на противника с тою же скоростью, постепенно загибая крылья назад, пока таким образом не сомкнулось вокруг шара кольцо машин. Однако расстояние было еще велико — метров четыреста-пятьсот, и когда пущены были в ход динамо, шар только чуть дрогнул, но не остановил своего полета к северу. По сигналу командира круг стал суживаться до пределов возможности. Между тем ветер усилился, тракторы достигли предела своей скорости. Дистанция была сокращена до трехсот метров; подойти ближе было невозможно: шар дышал таким зноем, что и на этом расстоянии люди чувствовали себя, как в преддверии ада: они задыхались, глаза слепило от нестерпимого света, тело сотрясалось ударами при прикосновении к металлическим частям и обливалось потом. Динамо работали полной мощностью. Несколько минут казалось, что дело сделано; несмотря на довольно сильный ветер, шар после нескольких порывов вправо и влево остановился, вздрагивая и волнуясь. Полузадохшиеся люди ответили торжествующими криками. Но радость была непродолжительна. В этот момент что-то случилось с гелиографом на командирской машине: радио давно не работало. Отряд остался без руководства. Благодаря ли тому, что отсутствие связи нарушило согласованную работу механизмов, ослабила ли передовая машина по какой-нибудь причине свое действие, или, наконец, под напором внезапно налетевшего порыва ветра случилось дальнейшее, — так и осталось невыясненным. Шар вдруг сделал скачок к северу, перелетев в несколько секунд расстояние, отделявшее его от головного трактора. Остальные устремились в погоню; еще секунда, и оглушающий удар грома покрыл шум машин. Несколько минут ничего нельзя было разобрать за огнем и дымом. А затем пламенный вихрь, вырвавшись из сковывавшего его кольца, помчался дальше к Рымнику, на месте же осталась груда раскаленного, исковерканного металла, в которой после нашли лишь обугленные лохмотья и кости — все, что осталось от экипажа машины. Первая попытка окончилась неудачей. Стихия победила, и снова след «рыжего дьявола» клубился по Европе дымом и отблеском пожаров. Обо всем этом Дерюгин узнал в Варшаве в тот день, когда он должен был отправиться к новому месту работ по внезапному назначению. Накануне заболел инженер, заведовавший работами по постройке и подготовке к выстрелу из бетонной пушки у местечка Красносельцы, к северу от Пултуска. Между тем, обстановка складывалась так, что именно здесь могли разыграться решающие события. Колонна тракторов из Варшавы в количестве семи машин была направлена по железной дороге на Люблин и Львов навстречу врагу. С востока, из Брянска, и из Германии спешили на помощь еще две партии, общей численностью в тридцать однотипных механизмов. Таким образом, у Львова должно было сосредоточиться до двух десятков электромагнитов. Их задачей было встретить атомный шар на его пути где-нибудь в Галиции, если он туда направится, а между тем у Красноселец спешно кончали работы по подготовке к выстрелу из гигантского орудия. Ему предстояло сыграть роль искусственного вулкана, при помощи которого Земля должна была стряхнуть вонзившуюся в ее дряхлое тело занозу. Сюда-то и был назначен Дерюгин на замену выбывшего из строя инженера. Уезжал он с тяжелым сердцем; не потому, чтобы его ужасала мысль почти неминуемой смерти, в случае если придется пустить в действие пушку, а потому, что он теперь не уверен был в успехе. Бухарестская неудача была грозным предостережением. Возможно, конечно, что причиной в данном случае послужила неподготовленность механизмов, малочисленность отряда, недостатки организации, но кто знает? Быть может, это обозначало, что вообще дело проиграно. Было от чего прийти в уныние. А кроме того, Дагмара в день отъезда заявила решительно, что она не останется в Варшаве одна, — ее охватил панический страх одиночества, а еще больше — боязнь очутиться вновь в самой гуще обезумевшего человеческого моря большого города, уже начинавшего волноваться по мере приближения страшного врага. Пришлось уступить и взять девушку с собою хотя бы до Пултуска, где был центр организации работ как строительных, так и по перевозке и сосредоточению к месту заряда всей огромной массы взрывчатых веществ. Уже тут, в маленьком тихом городке Мазовии, дошли до молодых людей известия о том, что делалось в это время в стране янки в преддверии грозных событий. И там, как в государствах Европы, не затронутых революцией, сооружали колоссальные тракторы, придав затее истинно американский размах. Во-первых, по конструкции эти машины отличались от европейских, превосходя последние и по размерам, и по своей мощности, и по целому ряду остроумнейших приспособлений, позволяющих автоматически регулировать направление и напряжение магнитных сил каждого механизма в зависимости от работы соседей, что значительно смягчало затруднительность действий вразброд в случае нарушения связи. Во-вторых, установок было почти три десятка. Но пушек не строили и здесь. Как раз за последнее время отношения с Японией стали особенно острыми; в таких обстоятельствах правительство Штатов отказалось принять меры, которые фактически вели к обезоружению армии. Зато были приведены, наконец, в исполнение три попытки искать выхода вне пределов Земли, осуществлявшие вместе с тем давнишнюю мечту человека раздвинуть поле своей деятельности туда, где носились до сих пор лишь обломки мертвых миров. Это были те, кому впервые подал пример Перкинс своим фантастическим планом колонизации Венеры в виду того, что Земля стала обиталищем не слишком надежным. В основе всех этих работ лежала в сущности одна и та же идея — реактивного снаряда, ведшая свое начало от Кибальчича, развитая подробнее Циолковским и нашумевшая недавно в связи с проектами Оберта и Годдарда. Однако они отличались в деталях, и судьба их оказалась различной, хотя и одинаково печальной. Первый снаряд в виде большой ракеты, пущенной около Балтиморы без пассажиров, взлетел на высоту, которую определяли до двух тысяч километров, а затем упал по ту сторону материка милях в ста от берега в волны Тихого океана и потонул на такой глубине, что поднять его не представлялось возможным. Второй, построенный именно на средства Перкинса, представлял маленький вагон для двух смельчаков, взявших на себя роль пионеров в деле завоевания соседней планеты. Они были снабжены провизией на три месяца, запасом кислорода на неделю, и, помимо всевозможного багажа, необходимого для жизни на новом месте, и научных приборов, аппарат имел небольшую, но мощную радиостанцию. Но все оказалось бесполезным. Второй опыт постигла такая же неудача. Выстрел был произведен в пустынной местности в Сев. Каролине недалеко от Вильмингтона, и через полчаса снаряд с невообразимым шумом и свистом свалился на головы испуганных жителей маленького городка Аубурн в Орегоне, почти в 4000 километрах от пункта отправления. При падении он превратился в оплавленную от жара бесформенную груду, в которой погибли и пассажиры, и все их приборы, по которым можно было бы судить о некоторых результатах полета. Третьей попыткой была цилиндрическая бомба Винкельмайера, которая была выброшена при помощи электромагнитного орудия, построенного по идее Фошон-Вильпле. В ней также помещались два пассажира с многообразным багажом для первоначального устройства и научных опытов и радиостанция. Этот снаряд постигла иная судьба, которая осталась навсегда загадкой для научного мира. Брошенный с огромной скоростью, увеличенной затем действием собственных зарядов, он с шумом пронизал земную атмосферу и исчез навсегда. Больше о нем ничего не узнали, если не считать сбивчивых сигналов, доходивших в течение двух-трех часов до приемных радиостанций Земли. Это были отрывочные знаки, иногда как будто складывавшиеся в слова, в которых нельзя было уловить объединяющий их смысл: «Впереди… тридцать… лунное притяжение… ждем… или смерть…» и так дальше в том же роде. Затем прекратились и эти сигналы. Больше о судьбе экспедиции не узнали ничего. Погибла ли она от голода или недостатка воздуха среди мертвящей стужи мировых пространств, столкнулась ли с каким-нибудь космическим телом и превратилась в мертвую груду металла, присоединившись к рою метеоритов, или, быть может, достигла цели и опустилась в таинственных красноватых пустынях Марса, и что там случилось с отважными путешественниками, — никто никогда не узнает… Впрочем, можно ли быть пророком? Быть может, через много лет более счастливые конквистадоры космоса найдут следы своих предшественников на этом удивительном пути и откроют их судьбу нашим потомкам.Глава XXI Вокруг пушки
Маленький тихий городок, когда-то названный Туск за свой унылый и тусклый вид и ставший Пултуском после того, как половина его выгорела во время большого пожара, был оживлен необычайно. По Варшавской (когда-то Петербургской) улице день и ночь тянулись с вокзала вереницы грузовиков, направляясь на север с цементом, щебнем, железом и порохом; от импровизированной пристани на Нареве ползли с тем же грузом баржи под хриплые гудки и тяжелое сопение буксирующих их пароходов. На станции происходило столпотворение вавилонское, — она выросла за этот месяц по крайней мере в двадцать раз, и по сложной путанице стальных нитей без конца суетились маневровые паровозы. Круглые сутки двигались поезда, приходили и уходили все новые транспорты грузов, толпились рабочие, направляемые сюда со всех концов Польши, — и надо всем стоял немолчный грохот и гомон человеческой речи. Дерюгин устроился с Дагмарой в гостинице на берегу канала, разрезывавшего город на две части. Здесь неподалеку на Свенто-Янской было управление работами, где сосредотачивались все нити этой шумной деятельности. Но, конечно, инженер не собирался оставаться в городе: его место было на севере, где закончилась только что постройка каменной пушки, и оставалось еще двое-трое суток работы, чтобы напитать ее чрево остающимися сотнями тони пороха и покрыть их асбестовой забивкой, предохраняющей от преждевременного взрыва под действием жара, выделяемого атомами. Кроме того, не выполнены были очень важные приготовлений по организации связи. Последняя имела целью точно уловить момент прохождения огненного шара над центром заряда и поставить об этом в известность главную наблюдательную станцию, откуда должен был быть произведен взрыв. Надо было все это проследить на месте, проверить работу наблюдательной сети, линии связи, готовность запалов (их было десять), — словом, не пропустить ни одной самой ничтожной мелочи, которая могла бы в критический момент нарушить действие всей сложной организации. В первую свою поездку в Красносельцы инженер взял с собой Дагмару. Она не проявляла, правда, особого любопытства осмотреть сооружение, которому предстояло сыграть такую роль в судьбе земного шара, но охотно согласилась сопровождать Дерюгина, боясь остаться одной. Легкий «фиат» помчал их на север. Пронеслись мимо бывшая православная церковь на горе, среди живописного, перебрасывающегося по дорожкам террасами сада, остался позади военный городок, занятый сейчас рабочими артелями, промелькнули за невысокой серою стеною купы деревьев и кресты кладбища, и пошли развертываться по обе стороны шоссе однообразные картины лугов и пашен, перемежающихся кое-где зелеными рощами; порою на горизонте вставала синею полосою стена леса; проносились одна за другою небольшие деревушки с их чистенькими белыми хатками, длинными журавлями колодцев и неизменным шпицем серого костела. То и дело на перекрестках дороги широко распахивали руки деревянные кресты с иконами и надписями или вставали часовни со статуей, задрапированной каменными складками. Тихая речка в лозняке струилась под глухо вздрогнувшим мостом, — и снова, куда ни достанет глаз, луга и пашни до края горизонта. А по широкому шоссе среди этого мирного ландшафта катились в обе стороны нескончаемые волны человеческого моря. На север тянулись непрерывные вереницы тяжело пыхтевших грузовиков, верхом заваленных поклажей под зелеными брезентами, а навстречу тащились без конца и края на тощих клячах телеги, брички, еврейские балагулы с крытым латаным верхом, старомодные рыдваны, трещавшие всем своим дряхлым телом на выбоинах дороги, и надо всем этим стоял стон охрипших, озлобленных человеческих голосов. К полудню показался Маков, маленький грязный городишко с низенькими кирпичными домиками, пыльными улицами и большой немощенной площадью, служившей местом базара. Здесь остановились на несколько минут подлить воды в радиатор. Дагмару поразил пустынный вид местечка. Редко где попадался прохожий, чаще всего еврей в длинном лапсердаке, пугливо жавшийся к сторонке; большинство окон было заколочено досками; двери наглухо закрыты. Даже собак почти не было видно; три-четыре голодных пса подняли было лай, провожая машину, но сейчас же скрылись, как только она остановилась. Город производил впечатление вымершего, опустошенного свирепой эпидемией. — Эвакуация, — ответил инженер на вопрос девушки, — все население вокруг Красноселец предупреждено о возможности катастрофы, связанной с выстрелом, и уже две недели как из этого района удалены все учреждения, и исчезло три четверти жителей, перебравшихся в безопасную зону. И деревни, которые мы встречали на пути, — тоже пусты, то есть почти пусты, как и здесь. Теперь, когда выяснилось, что по всей вероятности, именно здесь будет произведен выстрел, придется прибегнуть к принудительному выселению всех оставшихся. Они уже знают об этом, — поэтому так пугливо от нас сторонятся. Завтра с утра здесь раздастся вопль и скрежет зубовный… — Так что эти телеги, фуры, которые тянутся по дороге нам навстречу… — Одна из последних волн переселения народов. — Где же начинается безопасная зона? — Трудно сказать определенно. Считают, что, например, Пултуск уже вне угрозы; его расстояние, примерно, и принято за радиус опасного района. — И все, что будет внутри этого пространства, осуждено на гибель? — Ну, нет, этого нельзя утверждать категорически. Но, конечно, шансов уцелеть для оставшихся немного. Дагмара замолчала. Ей впервые с необыкновенной ясностью представилась мысль о том, что ведь и Дерюгин принадлежит к числу этих осужденных, и что, быть может, сегодня последние часы, когда она его видит. Острое чувство ужаса и какой-то нелепой беспомощности охватило ее; она схватила руку инженера и молча сжала ее судорожным движением. Дерюгин понял и ответил тихим пожатием, таким же бессловесным. Да и о чем было говорить перед лицом неизбежности? Через час въехали в местечко Красносельцы; здесь, в противоположность Макову, было полно жизни и деятельности. Но это было, конечно, не население городка, давно оставленного жителями, а армия рабочих, занявшая опустевшие домики и копошившаяся вокруг немолчным муравейником. Еще недавно тут, на лугах за околицей и на месте работ, был огромный временный лагерь, расположенный в бараках и палатках, так как местечко не могло вместить всей армии рабочих различных специальностей, собранной сюда. Число их в разгаре работ доходило до шестидесяти тысяч. Сейчас с окончанием собственно строительной задачи, главная масса людей схлынула; осталась едва ли десятая часть, занятая прокладкой проводов, перегрузкой асбеста и пороха и обслуживавшая специальную ветку железной дороги и пристань на реке, по которой пароход продолжали тянуть караваны барж. Остатки лагеря и пустующих теперь мастерских раскиданы были теперь на большой площади вокруг городка, производя впечатление странного разгрома. Когда машина остановилась перед двухэтажным кирпичным домом, где раньше помещалось тминное управление, из дверей вышел высокий плотный человек в военной форме без погон, боевом снаряжении. Он приложил руку к козырьку и отрапортовал официальным тоном на вполне сносном русском языке: — Начальник охраны работ майор… — он заикнулся и проглотил сорвавшееся слово, от которого еще не мог отвыкнуть, — командир Козловский. Нахожусь в вашем распоряжении. Дерюгин протянул руку и взглянул на говорившего. Обыкновенное лицо сорокалетнего, несколько отяжелевшего мужчины, на котором написана служебная исполнительность да, пожалуй, еще легкая усталость. — Вы состоите в революционной армии? — спросил инженер, угадывая в нем недавнего офицера. — Конечно, — ответил бесстрастно командир и добавил: — Какие будут распоряжения? — Погодите, — улыбнулся Дерюгин, — я сам еще не знаю. Прежде всего, какова ваша задача? — Охрана работ от возможных случайностей, помощь в организации, — вообще все, что будет приказано. — И, вероятно, на вас же ляжет дело выселения оставшихся жителей?.. — Если на то последует распоряжение… — А какова численность вашего отряда? — Два эскадрона, батальон пехоты и рота самокатчиков, не считая телеграфных и искровой команды, находящихся в распоряжении администрации работ… — И сейчас ваши люди… — Несут службу охраны и патрулируют район работ. Дерюгин задал еще несколько вопросов. Бывший майор отвечал немногосложными официальными фразами, прикладывая каждый раз руку к козырьку. Автомобиль тронулся дальше на север по шоссе, запруженному грузовиками и подводами. Справа, рядом с дорогой, тянулись поезда временной колеи, тяжело пыхтя и хрипло посвистывая. Пушка была расположена в двенадцати километрах от Красноселец на вершине отлогого куполообразного холма.
Уже издали можно было угадать ее местоположение по окружающему ее лесу легких деревянных построек, по трубам различных мастерских, грудам мусора в низине и оживленной суете сотен людей. Машина остановилась у большой бетономешалки; дальше посетители пошли пешком, шагая через покрытые цементной пылью кучи железного лома, щебня, пустых бочонков, досок и просто взрытой земли, и скоро достигли вершины холма, откуда можно было окинуть взглядом всю площадь, на которой производились работы. Под их ногами было подобие кратера вулкана с совершенно вертикальными гладкими стенками; в поперечнике этот колодец имел шагов триста. Вниз бетонная стена, обшитая деревом, уходила метров на сто. Только здесь, стоя у края обрыва, можно было убедиться, что холм, в котором находилась пушка, был не естественный, анасыпан землей, вынутой из глубины; в низине стояли не увезенные еще по окончании работ три колоссальных землечерпательных машины, изгибаясь горбатыми железными фермами и массивными металлическими челюстями-лопатами. По наружному склону холма, в нескольких шагах от толстой бетонной стены, всю ее обегала кругом рельсовая колея, по которой сновали, шумно пыхтя, тяжелые подъемные краны. Они подымали и опускали свои решетчатые железные руки, гремя цепями, над двигавшимися непрерывной вереницей грузовиками и вагонетками, схватывали клещами оттуда грузные тюки, неуклюже поворачивались и бежали один за другим по стальному кругу, опуская по пути свои щупальца в яму и складывая серые и черные кипы правильными рядами на дне. Они напоминали огромных сказочных насекомых, заботливо бегающих вокруг своего муравейника. А под их ногами маленькие фигурки людей так же суетливо копошились около тюков, доставленных сверху, тщательно и плотно уравнивая их и прокладывая в промежутках черные жилы кабеля. Странное чувство жути, почти страха, и вместе с тем гордости охватило Дерюгина при виде всей этой суеты, осуществляющей въяве отвлеченную идею, которую они с Воздвиженским так горячо защищали в Москве. Миллион тонн пороха под ногами! Колоссальная, невероятная сила! Энергия, которая на протяжении нескольких лет войны бросала в воздух свинец и железо, теперь находилась вся на дне этого колодца и ждала только движения руки, чтобы взметнуться к небу раскаленным ураганом в короткое мгновение. Это была концентрация сгущенной, материализовавшейся человеческой воли. Инженеру казалось временами, что земля вздрагивает у него под ногами, с трудом сдерживая страшное накопление погребенной здесь силы. Дерюгин передал свои мысли Дагмаре. Девушка, рассеянно глядевшая на все окружающее, на этот раз внимательнее посмотрела вниз на темные груды в глубине шахты, вдруг вздрогнула и прижалась к плечу спутника. — А это что за черные тюки среди общей серой массы? — спросила она, указывая на дно колодца, напоминавшее местами шахматную доску. — Андреит — взрывчатый состав, изобретенный Воздвиженским; его прокладывают в известной пропорции между другими зарядами в качестве сильного детонатора и передатчика взрывной волны. — Он обладает большой силой? — Да, он превосходит энергией взрыва раза в два нитроглицерин, но совершенно безопасен в обращении. — И что же: этот колодец будет набит до краев порохом? — Что ты. Для этого не хватило бы, пожалуй, запасов всей Европы. Нет, сейчас идет загрузка последних слоев. Затем будет уложен пласт асбеста небольшой толщины в качестве пыжа, так сказать, а также — для предохранения от преждевременного взрыва. Пустая же часть пушки на сто с лишним метров высоты оставлена для того, чтобы дать направление газовой струе, не позволить ей сразу же разбросаться во все стороны. — А почему стенки ее обшиты внутри деревом? — Не только внутри, но и снаружи, со стороны земли. Это остатки каркаса, той формы, в которой отливался бетон. Чтобы не терять времени, порох загружают, не ожидая затвердевания цементной массы, — поэтому каркас пришлось не разбирать. Да он и не мешает, конечно: ведь снаряда в этой пушке не будет. Дерюгин сам спустился в лифте на дно будущего вулкана проверить правильность укладки кабеля, по которому предстояло дать ток в запалы. Все оказалось в порядке. Здесь в сущности больше делать было нечего. Налаженная работа подходила к концу. Оставалось самое главное: сеть наблюдательных постов и система связи. Автомобиль запыхтел снова и понес своих пассажиров по шоссе к шпицу недалекого костела. Здесь был установлен ближайший обсервационный пункт. Посетители поднялись по винтовой каменной лестнице на вершину звонницы (колокольни) и встретили там молодого человека лет двадцати пяти, бледного и сумрачного, оказавшегося старшим наблюдателем (их было по два на каждом пункте). Он говорил по-французски, и вся беседа шла на этом языке. Начальник поста показал инженеру свою установку и объяснил ее несложное устройство. Под снятыми колоколами костела была утверждена небольшая цементная площадка, на которой помещался медный круг с делениями на градусы. В середине его двигалась теодолитная труба с вертикальным лимбом, направленная на центр бетонной пушки; линия визирования была отмечена на местности несколькими вехами. С правой стороны, под рукой наблюдателя находился контактный ключ, вроде телеграфного, при помощи которого замыканием тока давался сигнал, и телефонная трубка. Это было все. Назначение всего устройства заключалось в следующем: на центральной станции сходились уложенные глубоко под землею и тщательно изолированные провода от десятка таких наблюдателей, расположенных кольцом вокруг заряда на расстоянии одного-полутора километров. В момент появления огненного облака в поле зрения трубы каждый из них давал на главный пост первый сигнал, призывавший к вниманию. Затем, когда центр атомного шара проходил через визирную линию, наведенную на вертикальную ось пушки, следовал второй сигнал, и рука не снималась с ключа, пока этот центр не сдвигался с вертикального волоска в середине поля зрения теодолита. Имея сигнал одновременно, по крайней мере, от трех наблюдателей, человек, находящийся на центральном пункте, мог быть уверен, что в данный момент атомный шар находится как раз над центром заряда и, давая со своей стороны ток в его запалы, должен был произвести выстрел. Это и была будущая роль Дерюгина. Еще до этого обо всех передвижениях огненного вихря вблизи орудия наблюдатели давали знать на центральную станцию по телефону. В данный момент не везде еще закончилась проводка кабеля, требовавшая чрезвычайно тщательной работы. Отсюда было видно, как тысячи людей копошились на длинной линии, уходящей за соседнюю гряду высот, равномерно взмахивая лопатами. Во всяком случае, уже сейчас шесть из десяти пунктов были совсем оборудованы. Что касается двух десятков наблюдателей, то они вместе с экипажем тракторов были теми осужденными, которые должны были своей жизнью заплатить за победу. Дерюгин пристально взглянул на бледное лицо стоявшего перед ним поляка. Что толкнуло его сюда? Самоотверженная идея служения человечеству? Личное несчастие, замкнувшее круг жизни? Чувство долга или просто самолюбие, не позволившее отказаться от смертельного жребия? Кто знает? Человек как будто угадал значение взгляда посетителя, — по лицу его пробежала короткая судорога, а затем оно застыло в каменной, почти враждебной, неподвижности. — Какое тебе дело? — ответил холодный взгляд его на немой вопрос инженера. Дерюгин удержал готовые вырваться слова и, простившись, стал спускаться обратно по истертым каменным ступенькам. Таким же образом объехали и все остальные посты. И везде видели одно и то же: десяток стеклянных глаз, уставленных неподвижно на верхушку куполообразного холма, и людей, готовых к смерти. И везде слова замирали в груди перед замкнутыми лицами, и разговор ограничивался официальными вопросами и ответами по-русски или по-французски. Один только раз на мгновение сломан был лед, и выглянула трепещущая смертным ужасом душа человеческая. Это был юноша с матово-бледным лицом. После обычного разговора он спросил Дерюгина, стараясь сохранить спокойный тон: — Какие новости? Когда можно ждать… этого? — Трудно сказать, — ответил Дерюгин, — суток через пять, я думаю… Дрогнули мускулы лица, и смертельной тоскою зазвучал голос: — Только через пять? Неужели не раньше? С недоумением Дерюгин проследил лихорадочный взгляд человека, ожидавшего с таким нетерпением страшного конца. Тот смотрел на работу землекопов, только что начавших прокладку кабеля к центральной станции. Дерюгин понял: бедняга надеялся, что до развязки не успеют оборудовать отсюда связь, и он избегнет участи, уготованной двадцати. «Ну, этот ненадежен, — мелькнула быстрая мысль, — придется заменить». Но он ничего не сказал. Теперь предстояло еще осмотреть центральную станцию, с которой Дерюгин должен был послать искру в запалы орудия. Таких пунктов было оборудовано два на тот случай, если один из них будет разрушен движением огненного шара, и расположены были они — один на окраине Красноселец, на покатом безлесном холме, а другой — на таком же расстоянии к северу, у самой германской границы. Их отнесли на двенадцать-пятнадцать километров от пушки, так как не было нужды в такой непосредственности их близости, как для наблюдателей, а вместе с тем самая их отдаленность давала возможность более спокойной работы. Но это обстоятельство очень мало меняло положение находящихся здесь людей: они находились в районе, где землетрясение от взрыва и ураган должны были смести и уничтожить все живое; едва ли был шанс на тысячу уцелеть в этой волне общего разрушения. Станция у местечка представляла совершенно открытую площадку на обратном скате холма, несколько закрывавшего ее от удара взрывной волны с севера. На легком деревянном столе, поставленном слегка покато внутрь, расположены были веером два десятка цветных лампочек с проводами от горизонтальной распределительной доски. На стойках, скрепленных с сидениями, висели телефонные трубки. В середине стола, в центре дуги, образованной лампами, лежала карта, изображавшая в крупном масштабе район на двадцать километров вокруг заряда. Наблюдательные посты на ней были отмечены яркими красными кружками и перенумерованы. Соответствующие цифры стояли и у каждой пары лампочек. На станции ждал посетителей молодой инженер, уже несколько дней живший здесь же, у подножия холма, в небольшой походной палатке. Он довольно свободно говорил по-русски и встретил гостей с видом радушного хозяина. Крепко пожав руки обоим, он сказал, тщательно выговаривая слова, как это бывает с иностранцами: — Добро пожаловать! Потом назвал свою фамилию: инженер Козловский. Дерюгин вспомнил встречу в Красносельцах с бывшим майором польской армии, — ему почудилось что-то общее в голосе и в чертах лица обоих людей. — Вы не сродни командиру Козловскому, начальнику охраны работ? — спросил он молодого человека. Тот улыбнулся широкой улыбкой беззаботного человека. — Ну, как же: родной племянник. Дядюшка мне уже говорил о вас по телефону, так что я успел озаботиться легким завтраком. — Не угодно ли? — И он все тем же широким, немного дурашливым взмахом, указал на свою палатку. Дерюгин с любопытством посмотрел на этого странного, беззаботного человека. Тот спокойно выдержал испытующий взгляд, и на открытом загорелом лице не шевельнулся ни один мускул. — Спасибо, — ответил Дерюгин, — мы сначала смотрим вашу установку. — Милости просим, — последовал ответ с тем же радушным жестом, — она теперь столько же ваша, и даже больше, — ведь вы — начальство. — Осторожнее, сударыня, — любезно предупредил он Дагмару, прислонившуюся к легким деревянным перилам, — здесь недавно крашено и, вероятно, еще не совсем высохло. Дерюгин еле сдержал улыбку, слушая этого чудака. А тот уже рассказывал о назначении приборов на столе, с видом фокусника, демонстрирующего особенно удачный и любопытный трюк. — Начинается с телефонов… Звонят по очереди… Указывают створы, через которые движется шар… Следим по карте… Напряженное внимание… Загораются зеленые огни, — сигнал первый: противник появился в поле зрения наблюдателей… Ждем… Вспыхивает красная лампочка, — шар попал на визирную линию трубы… Рука на кнопке контакта… Загорелся второй огонек, но первый погас… Еще один… Смотрим, не отрывая глаз… Третья вспышка: все перед глазами. Нажимаем ключ, — трах и готово! Инженер махнул рукою, растопырив пальцы, словно бросая что-то в воздух. Дерюгин с беспокойством взглянул на Дагмару, близкую к обмороку при описании драмы, которая должна была разыграться здесь через несколько дней. Козловский и сам заметил впечатление, произведенное его словами, будто вспомнил что-то, смутился и заторопил гостей зайти закусить «чем бог послал». Все трое направились к палатке. За столом инженер, стараясь загладить свою невольную оплошность, говорил не умолкая, рассказал два-три анекдота, вспомнил недавнюю революцию. Но все это не помогло. Девушка, охваченная тоскою и ужасом, рассеянно слушала болтовню Козловского и думала о своем. В Красносельцах, куда Дерюгин заехал после осмотра обеих станций, ждала телефонограмма из управления, вызывавшая его срочно в Пултуск. Прощаясь с начальником охраны, Дерюгин сказал ему: — Познакомился с вашим племянником. Вот, кажется, неунывающий человек… — Молодчина, — ответил бывший майор, — один из немногих, умеющих глядеть в глаза смерти с веселым лицом. Впервые разговор коснулся этой темы открыто. — Как он попал на это место? — спросил Дерюгин, — добровольно? — И да, и нет. Вызвали специалистов. Никто из многих, оказавшихся налицо, не почел вправе отказаться. Вопрос решили жребием. Вот и все. — А если бы его заменить другим лицом? — Он почел бы это для себя величайшим оскорблением. — Но ведь там верная смерть. Козловский пожал плечами. — Это — долг. К тому же Владислав принадлежит к числу счастливых людей, которых надежда не покидает ни в каких обстоятельствах. Если есть один шанс из тысячи, — он убежден, что этот шанс будет его. Автомобиль тронулся в обратный путь. Через полтора часа были в Пултуске. Оказывается, в полдень пришло известие из Люблина, что атомный шар, встреченный тракторами около Равы Русской, окружен ими и теперь движется, увлекаемый магнитами, на Щебжешин.
Глава XXII Охота
Итак, жребий был брошен и выпал на долю заряда № 5, как именовалась официально пушка у Красноселец, среди полудесятка других, сооружавшихся в Европе. Только теперь, увидев собственными глазами все, что символизировало это короткое обозначение, и узнав о движении атомного шара в Польшу, — Дерюгин впервые осознал ясно все значение совершающегося и свою собственную роль в нем. Эти ползущие нескончаемым потоком по дорогам грузы, сотни машин, громыхающих среди копошащихся вокруг людей; толпы оставшихся без крова беженцев; наконец, два десятка осужденных, ожидающих в тоске смертного часа, — это была та страшная игра ва-банк, для которой наступали последние моменты. И ставкой в ней была судьба Земли и всего на ней живущего. Нелепая сказка, фантастический бред, ставший явью сегодняшнего дня. А выигрыш или поражение в этой игре зависели от движения руки Дерюгина, маленькой единицы из полутора миллиардов, судьба которых была привязана к комочку нервов и мускулов, составляющих его тело. Одно неверное движение, — и вся напряженная работа за жизнь борющегося человечества пойдет насмарку, все будет уничтожено, и вырвавшаяся из плена стихия сделает свое дело. На одно короткое мгновение Дерюгина охватил ужас. Ему хотелось бросить все, закрыть глаза, последовать примеру старика Флиднера. Но страшным напряжением воли он постарался взять себя в руки. Теперь не время было впадать в истерику; он должен превратиться в машину, такую же точную и бесстрастную, как механизмы, которыми он будет управлять. Эмоции — роскошь, которую могут позволить себе люди, не обремененные ответственностью. «А смерть?» — будто шепнул кто-то на ухо давно жданный вопрос. Что-то смутное шевельнулось в ответ в глубине души; трепетало и корчилось в предсмертной муке маленькое, жадное к жизни, неугомонное «я». Но и эта борьба была непродолжительной. Спокойно, словно выбирая из кучи хлама нужные предметы, Дерюгин развернул перед собою ряд картин: знакомые, многомиллионные города, бурлящие шумной, веселой сумятицей, просторы полей и лугов, где из века в век сотни миллионов таких же комочков протоплазмы добывают из земли право на существование в неустанном труде; длинные корпуса заводов, где дышат, грохочут, поют свою неутомимую песнь миллионы машин, ткущих стальными пальцами пеструю ткань новой жизни; вековые леса и знойные пустыни, прорезанные стремительными лентами путей; неоглядные просторы океанов, изборожденные фосфоресцирующими следами стальных чудовищ, управляемых маленькими пигмеями; самый воздух, пронизанный полетом ширококрылых механических гигантов, — словом, полтора миллиарда земнородных, сплетающих ежедневно, ежечасно все новую сказку, именуемую жизнью. Дерюгин прислушался: маленькое чудовище, копошившееся на дне души, еще топорщилось. «А Дагмара?» — напомнило оно, ехидно хихикая. Дерюгин усмехнулся. Дагмара — одна из многих тысяч, попавших под колесо. Локомотив не может остановиться из-за маленького размолотого им камешка. Тысячи Дагмар ждут решения своей участи… Что еще? Голос молчал. Борьба была кончена. Человек умер, — осталась машина, действовавшая с размеренностью и спокойствием часового механизма. Первое, что нужно было сделать, — отдать распоряжения о последних необходимых работах. Загрузка пороха и окончание работ у самого заряда требовали еще суток, — такой срок, во всяком случае, был в распоряжении. Прокладка кабеля к наблюдательным пунктам была рассчитана на четыре дня; Дерюгин отдал распоряжение сократить срок до семидесяти часов, уменьшив на четверть глубину укладки. Вспомнил бледного юношу на наблюдательном пункте № 7, — посоветовался с работавшим здесь с самого начала инженером — немцем Клейстом и приказал заменить молодого человека младшим наблюдателем того же поста. Потом позвонил Козловскому. — Пора приступать к выполнению последней задачи, командир. В ближайшие дни будет сделан выстрел. Надо выселить за пределы угрожаемого района оставшихся еще жителей. — Срок? — Трое суток. — Средства перевозки? — Все грузовики, баржи и вагонеты, которые будут освобождаться по мере окончания работ. Кроме того, если нужно, мобилизуйте местный транспорт в ближайших районах безопасной зоны. — Есть. А как с рабочими? — О них позаботится администрация. — Прекрасно. Еще вопрос: куда стягиваться войсковым частям по выполнении задачи? — К Пултуску. — Ясно. Других приказаний не будет? — Нет. Можете действовать. Помните, что от вашей энергии зависит жизнь тысяч людей. — Это неважно, инженер. — Как так? А что же важно? — Приказание. Раз приказано — будет исполнено. Дерюгин улыбнулся. — Ну, отлично, до свидания, — ответил он, вешая трубку, и подумал: «Вот настоящая машина, действующая без отказа». Спросил о нем Клейста. — Прекрасный служака. Любит поворчать про себя, но если существует власть, то для него все в порядке. Был офицером царской армии, потом воевал под знаменем одноглавого орла, сейчас так же добросовестно служит красному флагу. — Значит, все будет сделано как следует? — Можете не сомневаться. На этом распоряжения были закончены. Оставалось терпеливо ждать развязки. Но такая перспектива не представлялась заманчивой. Дерюгину тяжело было оставаться рядом с Дагмарой, которая, видимо, мучилась непереносимо. Помочь ей он был не в силах, — он был уже как бы по ту сторону черты и лишь по недоразумению оставался среди живых. А смотреть на нее равнодушно он все же не мог: то и дело подымало голову спрятавшееся в темный уголок маленькое чудовище и начинало нашептывать смутные мысли. Пришел на выручку худенький, востроносый человек в форме военного летчика, начальник авиационного отряда, прикомандированного к работам. — Не слетать ли нам навстречу тракторам к Люблину, инженер? — предложил он Дерюгину, мрачно ходившему из угла в угол по кабинету в управлении. Дерюгин чуть не расцеловал летчика за его идею. Как ему самому это раньше не пришло в голову? — Прекрасно, — ответил он, — мы увидим сверху всю картину этой охоты, как на ладони, и успеем вернуться восвояси задолго до нужного момента. К Дагмаре он не решился даже зайти, а оставил записку, в которой сообщал, что отлучается на двое суток по неотложному делу. Самолет, легкий «Ньюпор», был выведен в поле за большим деревянным мостом через Нарев, где стояли ангары. Механиком был краснорожий, обветренный парень со здоровыми кулаками и бычачьим затылком, в руках которого, очевидно было, руль не дрогнет ни на волос. Рядом с Дерюгиным устроился на легком сидении худенький авиатор. Аппарат разбежался по зеленому полю, незаметно отделился от земли; гудение мотора слилось с шумом пропеллера, и под ногами стали развертываться пестрые картины игрушечных ландшафтов. Черно-зеленые шахматные доски лугов и пашен; темные пятна лесов и рощ; блестящие под солнцем синеватые ленты речек, группы строений, напоминающих детские картонные фермы и домики. Вогнутая чаша земли уходила все дальше. Спустя полчаса вошли в гряду облаков и некоторое время летели среди пронизывающего белесого тумана; затем снизились, вынырнув из этой промозглой ваты, и увидели впереди Люблин. Здесь остановились сделать запас бензина и узнать новости. Горючее раздобыли с трудом, так как в городе была суматоха, несмотря на предупреждения властей, что населению опасность не грозит. Новости получили на правительственном телеграфе. Атомный шар миновал Томашев и двигался к Красноставу, эскортируемый машинами, удерживающими его против крепнущего юго-западного ветра. О катастрофах и крупных разрушениях не было слышно, так как выбор пути теперь зависел в значительной степени от воли человека. Час спустя поднялись снова, и когда внизу поползли из-за горизонта ставшие историческими со времен войны села и местечки, вокруг которых несколько лет назад кипели титанические битвы, — за холмами встало широкое дымное облако, похожее на зарево огромного пожара. Аэроплан снизился, чтобы рассмотреть поближе сцену фантастической охоты. Черная туча росла на глазах, и внутри ее вспыхнули синие молнии. Скоро Дерюгин увидел знакомые очертания огненного вихря, окутанного волнами дыма и пыли. Но что сталось с ним за месяц! Это был уже не шар, ограниченный более или менее определенными контурами, а целое море пламени, бушующее и клокочущее, как лава в кратере вулкана перед взрывом; оно охватывало площадь не менее чем в полдесятины, насколько можно было судить сквозь густую завесу дымной тучи, которая подымалась кверху высоким столбом, разметываемым на вершине ветром в виде огромного черного султана. Сзади широкая полоса зияла обугленной пустыней, на которой местами бушевало пламя еще не догоревших рощ и строений. Вокруг по несожженным еще кустам и деревьям, по всем предметам близ пламенного вихря перебегали и вздрагивали голубые огни, как брызги холодного света. Благодаря этой феерической иллюминации Дерюгин заметил и кольцо машин, похожих сверху на неуклюжих черепах, окруживших лохматого рыжего зверя. Каждая из них была охвачена сиянием этих блуждающих огней, а на верхних площадках сверкали вспышки оптической сигнализации. Тракторы шли на расстоянии метров четырехсот от краев огненного облака и в полутораста-двухстах метрах друг от друга, задрав кверху стержни своих магнитов, как тупые рыла сказочных животных, и уставив их на центр атомного шара. Спереди и с наветренной стороны ряды машин были сдвоены, сзади они шли в одну линию, обегая выжженную полосу.
На некоторое время механик выключил моторы, и теперь снизу ясно доносился смешанный шум и грохот пламенного вихря и преследующих его грузных чудовищ. Летчик схватил руку Дерюгина и лихорадочно сжал ее; Дерюгин оглянулся и увидел торжествующее, расплывшееся в улыбку лицо. — Посадили на цепь проклятого зверя! Наконец-то! Теперь не уйдет… Дерюгин покачал головою. Этот вид огненного моря посеял смутную тревогу в душе. Не поздно ли? Быть может, и страшная сила, дремлющая на дне бетонного колодца, окажется ничтожной перед таким бушующим вихрем? К тому же он видел то, что ускользнуло от глаз авиатора. Машины, видимо, с трудом справлялись со своей задачей. Расстояние между ними и шаром не оставалось постоянным; он метался в этом круге из стороны в сторону, будто пружинили туго натянутые невидимые нити, еле сдерживая его на привязи. А ведь ветер был наиболее благоприятный, градусов в 30 под углом к направлению пути. Правда, благодаря восходящему току теплого воздуха над шаром вокруг него образовался широкий вихрь, неизменно его сопровождавший, — это видно было по движению пыли и дыма, ими увлекаемого, но все же вся масса газов подавалась в сторону широкого воздушного течения. И, кроме того, рыжий зверь, мечущийся в грохотавшем кольце, огрызался. Невдалеке от затерянного в поле хуторка он рванулся, окутанный парами из речушки, линию которой он пересек вместе с преследующими его грузными черепахами, и резким скачком приблизился к одной из боковых машин; началось перестроение, соседние тракторы поползли на поддержку товарища, — усилился грохот их механизмов. Шар метнулся еще раза два в ту и другую сторону, но затем покорно потащился на невидимых цепях. Однако раненая машина осталась на месте, и около нее закопошились муравьи — люди; в бинокль можно было разглядеть, как движутся носилки к следовавшим в стороне санитарным автомобилям. Одним из преследователей стало меньше. Так продолжалось часа три. Охота довольно быстро продвигалась к северо-западу, выбирая открытые места вдали от лесов и населенных пунктов и обходя подальше крупные реки и болота, непроходимые для тяжелых тракторов. Дерюгин хотел уже приказать механику держать курс восвояси, когда летчик снова вцепился в его руку. Лицо его было искажено страхом; он показывал на север и кричал, превозмогая гул моторов. — Ветер, ветер, матерь божия! Да, гнало от дальнего леса тучи песку, пыли и сухой травы и крутило их столбами завивающихся вихрей справа и слева. Дерюгин лихорадочно прижал к глазам бинокль. Почти одновременно от налетевшего вихря бросило в сторону аэроплан, и огненный шар дрогнул под ударом, дернулся два раза, как рыжий конь на привязи, и вдруг сделал огромный скачок к южному краю сжимавшего его кольца. Забегали беспокойно огоньки на площадках тракторов, сигнализируя новое перестроение. Подхваченный ветром атомный шар в несколько секунд пролетел расстояние, отделявшее его от магнитов, окутал пламенным покровом ближайший из них и прорвал первую линию машин. Дерюгин в ужасе невольно закрыл глаза; рядом авиатор дрожал всем телом. Аэроплан, только что выровнявшись, рванулся вперед и попал вдруг в горячий столб воздуха, подымавшийся над огненным облаком. Пассажиров охватило зноем; аппарат соскользнул на левый бок, и картина внизу, скрытая наклонившимся крылом, исчезла из глаз. — Кажется, падаем, — закричал механик сквозь шум моторов, судорожно вцепившись в рычаги управления. «Неужели свалимся в это раскаленное пекло! Какой нелепый конец!» — мелькнуло в голове Дерюгина. Он держался обеими руками за поручни и смотрел вниз. Земля словно подымалась стремительно им навстречу. Под ногами клокотало огненное озеро; от нестерпимого жара захватывало дыхание, и кровь била в виски гулкими ударами. Механик сделал какое-то движение; самолет снова швырнуло в сторону. Зноя больше не чувствовалось, но воздух с силой свистал снизу-вверх, и страшное чувство падения стиснуло сердце колючей судорогой. Огненное облако грохотало и гудело теперь где-то справа за дымной завесой. Еще секунда, — и шум в ушах ослабел; механику удалось еще раз справиться с аппаратом, однако слишком поздно: самолет с размаху сел на обожженное поле, подпрыгнул несколько раз, как подстреленная птица, и тяжело рухнул на бок. Дерюгина ударило в грудь, но он не потерял сознания и, едва коснувшись земли, стал выкарабкиваться из-под обломков; рядом слышались брань и проклятия, произносимые хриплым, озлобленным голосом. Это был механик, тоже уцелевший, хотя весь в ссадинах и синяках, с лицом, залитым кровью. Став на ноги, он вытянулся во весь рост и, погрозив кулаком к югу, куда уходил пламенный вихрь, преследуемый шумно дышавшими машинами, выпустил целый залп отборных ругательств. Болезненный стон заставил обоих обернуться назад. В нескольких шагах от аппарата лежал ничком летчик: он выпал из самолета во время одного из его прыжков и сильно разбился. Несколько придя в себя, Дерюгин с механиком устроили импровизированные носилки, из обломков разбитого аэроплана, положили на них раненого, и тронулись к строениям, видневшимся в километре к северу. Это был Луков, скверный, грязный городишко, оставленный сейчас жителями, бежавшими при приближении страшного врага. По дороге носилки скоро поравнялись с трактором, оставшимся на месте после столкновения с шаром; это была еще неостывшая, раскаленная докрасна, исковерканная груда железа и меди. Дерюгин невольно подумал о людях, бывших там живыми еще несколько минут назад, и стиснул зубы. Показалось, что ветер доносит запах жареного человеческого мяса. Но делать здесь было нечего: помощь была уже бесполезна, а на носилках стонал и метался раненый. Через полчаса они достигли города со стороны вокзала. Толкнулись в несколько домов, — все было или пусто, или наглухо закрыто. Наконец, нашли живую душу, указавшую им гостиницу против станции. Правда, она больше походила на грязный, подозрительного свойства притон, но, по крайней мере, здесь были люди, которые помогли устроить пострадавшего, и нашелся даже мрачный субъект, назвавший себя фельдшером и сделавший первую перевязку. Дело оказалось хуже, чем думал Дерюгин: были сломаны правая нога и два ребра; можно было опасаться сотрясения мозга. Два часа ушло на то, чтобы разыскать врача и устроить раненого в железнодорожной больнице. Только после этого можно было подумать о возвращении назад, к месту работ. К вечеру удалось найти исправный автомобиль, хозяин которого согласился за сумасшедшую плату доставить потерпевших крушение в Пултуск. К утру с высокого поворота на шоссе открылся уютный живописный городок с его садиками, шпилями костелов и высокой зубчатой башней на площади, памятником давно минувших дней старого Туска, времен нашествия шведов и кровавых войн казачества. По дороге навстречу тащились нескончаемые обозы жителей, уходивших с насиженных мест под конвоем вооруженных всадников. Блеяли и мычали стада, плакали женщины и дети, хрипло лаяли собаки, и под резкое щелкание бичей над напуганной толпою висели брань и озлобленное понукание возниц.
Глава XXIII Выстрел
Первое, что сделал Дерюгин, как только машина остановилась перед зданием управления, — было броситься на приемную радиостанцию, обслуживавшую работы. Исход схватки тракторов с атомным шаром у Лукова, невольными свидетелями которой стали пассажиры самолета, — не давал ему покоя. Неужели он вырвался из магнитного круга и теперь опять на свободе мчится по воле ветра, пожирая пространство огненной пастью? И напрасны были все приготовления, вся лихорадочная работа, все напряжение воли и духа вокруг ожидающей разряда затаенной силы? Но тревога его оказалась напрасной. Уже в полночь радио из Люблино разнесло радостное известие. Вскоре после прорыва фронта тракторов ветер упал; атомный шар был подхвачен вихрем, им самим созданным, и стал описывать большой круг около холма, где и был настигнут преследовавшими его магнитами. Последние получили подкрепление в виде еще пяти механизмов, только что законченных на заводах и переброшенных к Брест-Литовску из разных пунктов по железным дорогам. За вычетом выбывших из строя были налицо двадцать две вполне исправных машины. Охота возобновилась, и весь отряд медленно, но неизменно двигался к северо-западу и сейчас находился на уровне Коцка. Дерюгин облегченно вздохнул и направился к себе в номер отдохнуть после встряски. Дагмару он застал без сна, в состоянии полной прострации. Она полулежала в кресле, бессильно уронив руки на колени, и даже не поднялась ему навстречу. Только в глазах, лихорадочно воспаленных, билась искра жизни. Она знала уже об эпизоде у Лукова и молча выслушала рассказ Дерюгина о подробностях драмы, чуть не стоившей ему жизни, и о возобновленной погоне за шаром. — Хорошо, что так кончилось, — сказала она, машинально сжимая руку Дерюгина, и добавила тихо: — Несчастный отец! — сколько горя дал он миру… Оба замолчали. Он поторопился прервать тягостное свидание и вызвал Клейста, чтобы узнать, как подвинулись работы в его отсутствие. — Все в порядке, — ответил инженер, явившийся на зов из управления. — Зарядка кончена, асбест уложен; запалы на месте; не приращены пока провода, как вы распорядились. Сейчас вся работа сосредоточена на прокладке кабеля к наблюдательным пунктам; задержались на номере 4-м — напали на скверный грунт; но все же к сроку будет выполнено и здесь. — А как с выселением жителей? — Козловский со своими отрядами действует молодцом, — настоящая машина. Плачут, жалуются, пытаются спрятаться, но он выуживает их отовсюду. Особенно трудно было в Макове, но сейчас там не осталось никого, кроме патрулей. Сегодня с утра он орудует в северном районе, около Прасныша. Немцы у себя, по ту сторону границы, видимо, уже кончили с этим делом. — Хорошо. Я сейчас проеду по работам проверить все в последний раз. Не хотите ли со мной? — С удовольствием. Засиделся за эти дни в канцелярии. — Начнем с центральной станции у Красноселец и поста № 7. — Да, кстати, о посте № 7. Забыл сообщить вам об одной неприятности. Вчера вечером застрелился этот юноша, Петрусевич, которого вы сменили. — Это еще что такое? — Да трудно сказать. Нервы у них у всех, конечно, взвинчены до крайности. В другое время, возможно, прошло бы и без особых последствий. А сейчас… Публично высказанное недоверие… Больное самолюбие. Дерюгин пожал плечами. — Сейчас нам не до сантиментов. Оба еще помолчали. — И еще одно, — снова заговорил Клейст, — это мелочь, быть может, но… я должен принести извинение за одного из сотрудников. — В чем дело? — Вчера произошел неприятный разговор. Мы в управлении толковали о событиях дня в присутствии фрейлейн Флиднер. Ну, и начальник технического отдела, — быть может помните, высокий белокурый детина с раскосыми глазами, — не зная, кто она такая, отозвался очень резко о покойном профессоре, как о виновнике всей этой истории. Я не успел замять разговор, и фрейлейн все слышала… Дерюгин нахмурился. Он вспомнил фразу Дагмары об отце полчаса тому назад. — Это произвело на нее впечатление? — Мне кажется, да. Она не сказала ни слова и сейчас же ушла, но у нее был такой вид, как будто на нее свалилась непосильная ноша. — Да, для одного человека это, пожалуй, слишком много, — сказал Дерюгин, отвечая вслух на собственные мысли. Больше к этой теме они не возвращались. В течение дня они осмотрели все работы от Красноселец до германской границы. Довольно долго побыли у заряда, где производилась, что называется, подчистка: увозили ненужные уже машины, разбирали и уничтожали все деревянные постройки, чтобы не дать лишней пищи пожару, который мог бы мешать наблюдению с постов. Огромный кратер, заполненный в глубине серой плотной массой асбеста, разевал к небу широко раскрытую пасть; по десяти радиусам бежали от него линии вех к недалеким вышкам, и все еще тысячи лопат подымались и опускались равномерно вдоль рвов, уходивших в лощину за холмами. На наблюдательных постах были все те же люди с каменно-неподвижными лицами; и только на номере седьмом, вместо двух, был один человек, не скрывавший своего враждебного отношения к «москалю». Дерюгин пожал плечами; дело шло хорошо, — остальное было неважно. В северном районе встретили Козловского с отрядом всадников, надсаживавшегося перед толпой крестьян, о чем-то униженно его просивших. — В чем дело, командир? — спросил Дерюгин, вылезая из автомобиля и подходя ближе. Серые свитки почтительно расступились и закланялись пуще, а потом надвинулись снова молчаливой, угрюмой стеною. Бывший майор вытер обильно струившийся со лба пот и сказал хриплым, надорванным голосом: — Все одно и то же, инженер, — просят на сутки отсрочки. — Для чего им это нужно? — Да вздор все. Говорят, что не успели привести в порядок свой скарб. А на самом деле, просто надеются улизнуть и спрятаться по каким-нибудь им одним известным норам. — Что же вы будете делать? — Буду действовать как приказано… Козловский сказал что-то своим людям. Те спешились и стали таскать из ближайших изб рухлядь в грузовые автомобили, стоявшие на дороге. Мужики некоторое время стояли молча, наблюдая происходящее. Раздались вопли и плач женщин, выбегавших из халуп за своим добром. Тогда, точно по команде, крестьяне надели шапки, которые держали в руках, опустили покорно головы и отправились помогать вытаскивать вещи из изб. Спустя час по дороге вытянулась вереница груженных верхом автомобилей, несколько подвод, мычащее и блеющее стадо и толпа людей, эскортируемая десятком всадников. — Как эти несчастные цепляются за свои хаты, — задумчиво сказал Клейст. — Еще бы, — ответил отдуваясь Козловский, — оторвать их от клочка земли, с которым они срослись, от сложенных их руками халуп, от закут и овинов, — значит оторвать от жизни. Автомобиль двинулся дальше на запад; эскадрой во главе с Козловским исчез в облаке пыли на востоке. Дерюгин умышленно не торопился с объездом. Когда он вернулся в Пултуск, получена была телеграмма, что шар, увлекаемый магнитами, перекинулся через Нарев у Зегржа и должен быть в районе заряда часов через восемнадцать-двадцать. — Интересно, как они справились с переправой, — полюбопытствовал Клейст. — Я знаю, как это предполагалось, — ответил Дерюгин, — они должны были разделиться на два отряда. Пока один из них, развивая максимум мощности при слабом ветре (это было необходимым условием, которого следовало дождаться), удерживал шар на ближайшем берегу, — второй по мосту переходил реку, затем машины напрягали свои усилия в направлении, перпендикулярном к реке, и когда шар перебрасывался через нее, его встречал уже готовый фронт тракторов, между тем как первый отряд переправлялся в свою очередь. Тогда вся колонна должна была соединиться, и движение возобновлялось в прежнем порядке. — Но почему они так близко подошли к Варшаве? — Во-первых, вероятно, их все время отжимал боковой ветер; а главное, если бы они подались дальше к востоку, то пришлось бы совершить две таких переправы — через Вислу и через Нарев вместо одной; а эта операция, как видите, нелегкая и очень рискованная. — Итак, теперь близко конец? — Да, слава богу, если не случится чего-нибудь неожиданного. Дерюгин, в самом деле, был рад недалекой развязке, — слишком тягостно было это тревожное ожидание. Оставалась еще одна тяжелая задача: проститься с Дагмарой. Дерюгин застал девушку в том же состоянии молчаливого отчаяния. Всмотревшись пристальнее в страдальческое, обескровленное лицо, он внутренне содрогнулся: перед ним была старуха с безжизненными, больными глазами, прядями седых волос и вялыми апатичными движениями. «Да, тем, у кого слабые нервы, — не место сейчас на земле, — подумал Дерюгин, глядя на девушку, еще так недавней заставлявшую сильно и радостно биться его сердце, в котором сейчас осталось только тихое сострадание. — Идет безжалостный, неумолимый отбор…» — Дагмара, — сказал он вслух, протягивая ей руки, — я пришел проститься. Девушка съежилась в своем углу как под ударом и смотрела молча жалобным, молящим взглядом. Дерюгин угрюмо отвернулся. — Этого никак избежать нельзя? — услышал он неуверенный, вздрагивающий голос. — Нет, милый друг, — ответил он как можно мягче. — Отдельные люди — песчинки в урагане времен. Надо уметь подчиняться неизбежному… Оба помолчали. — Это случится скоро? — еще раз спросила она. — Вероятно, завтра после полудня. — И мне нельзя быть с тобою? — Нет, голубчик. Это слишком ответственный момент. Малейшее отвлечение может грозить неисчислимыми последствиями… Снова наступило молчание. — Ну, что ж, простимся… — послышался шепот в гнетущей тишине. Дерюгин обернулся. Девушка бросилась к нему в последнем порыве угасающей воли. Александр гладил седые, небрежно развившиеся кудри и думал о тысячах слабых душ, не устоявших под ураганом бурной эпохи… Выйдя из комнаты, он вздохнул облегченно, когда за ним захлопнулась тяжелая, скрипевшая на петлях дверь. Самое трудное было сделано, впереди оставалась ясная, близкая цель. Прощаясь с Клейстом, Дерюгин просил инженера взять Дагмару под свое покровительство. Через два часа он был в палатке молодого Козловского и отдыхал под немолчный говор инженера, стосковавшегося за двое суток без собеседника. На этот раз Дерюгину показалось, что шумным многословием веселый малый старался подавить подымавшуюся игру нервов. День кончился без тревог. Ночь оба спали по очереди, сменяя друг друга у телефона. Утро занялось спокойное и ясное. Тишина и безлюдие вокруг стояли удручающие. Странно было видеть неподалеку опустевшее унылое местечко; там не шевелилось ничего живого среди осиротелых угрюмых домиков; изредка где-то на окраине выла забытая собака, да посвистывала в роще иволга. Охватывало удивительное чувство пустоты и заброшенности, будто мир вымер весь, и красное солнце, лениво выползавшее из-за высокого берега, освещало косыми лучами последних насельников земли. Около девяти утра на юге показалась гряда облаков, постепенно закрывавшая горизонт, и спокойная гладь реки подернулась легкой рябью. Одновременно затрещал телефон. Далекий глуховатый голос Клейста говорил, что атомный шар в кольце машин появился в виду Пултуска километрах в десяти к западу. По-видимому, там все шло благополучно. — Откуда вы говорите? — спросил Дерюгин. — С наблюдательной вышки на башне, — ответил невидимый собеседник: — здесь и фрейлейн Флиднер, наверху. Быть может, попросить ее к телефону? — Не надо, — почти резко ответил Дерюгин, — прощайте. Звоните еще, если будет что-нибудь важное. — Прощайте, коллега, — вздрогнул голос в трубке. Дерюгин повесил трубку. Мира для него больше не существовало; он весь сосредоточился на этом клочке земли, на скате зеленого холма, на гладкомстоле с развернутой картой и веером цветных пятен вокруг. Оставалось еще два часа. С востока потянуло сухим, теплым ветром. Облака закрыли почти все небо; только на севере оставались еще голубые просветы, словно окна в глубокую, бездонную ширь. Козловский сидел молча, нагнувшись над планом, и по спине его изредка пробегала легкая дрожь. Ветер, постепенно усиливаясь, перешел на два румба к югу. — Это циклон вокруг шара, — сказал Дерюгин, наблюдая движение флюгера и все энергичнее вертевшийся анемометр. Козловский ничего не ответил. «Неужели трусит?» — скользнула быстрая мысль. Дерюгин окликнул товарища. Широкая спина медленно выпрямилась, но голова повернулась к собеседнику не сразу. В глазах прятался еще беспокойный огонек, но лицо уже было спокойно и открыто. — Простите, Дерюгин, — сказал он просто, — минутная слабость, — и протянул руку свободным, почти веселым движением. Оба инженера обменялись крепким рукопожатием и заняли каждый свое место для последней операции: Дерюгин сел перед столом с сигнальными лампочками, держа руку на контактном ключе, а Козловский устроился у телефона.
Почти в то же время ветер перешел к югу, и слева от зрителей за гребнем холма показалась большая клубящаяся туча, излучающая изнутри голубое сияние. Из-за возвышенности не видно было сопровождающих ее машин, и лишь доходил издали смешанный гул и треск, относимый в сторону ветром. Земля глухо гудела под ногами, и деревья в роще под невидимым напором гнулись, качали вершинами и тревожно шумели. Снова завыла собака в пустом местечке, и в голосе ее была теперь не только тоска, но и звериный, безотчетный ужас. Смерч прошел к северу, и гул постепенно затих. Тучи надвинулись вплотную, будто прилегли к земле, и вспыхнула ослепительная молния. Последние раскаты грома потонули в шуме хлынувшего дождя. Козловский нажал одну из кнопок под рукою, и над головами и со стороны ветра раскинулся легкий тент на металлическом каркасе, закрывший площадку от непогоды. Прошло еще минут двадцать. Оба инженера замерли в напряженном ожидании. Зазвенел телефон. Козловский отрывочными фразами передавал то, что гудели в трубки аппаратов далекие голоса. — Доносят шестой и седьмой: шар появился на юго-западе. Расстояние около двух километров… Движется прямо на них… Молчание… — Пятый и восьмой сообщают то же… Видят шар и машины… Расстояние полкилометра. Еще пауза… — Третий, четвертый и девятый видят огненное облако между шестым и седьмым постами, — ближе к седьмому… По всей вероятности, он выведен из строя, шар прошел очень близко… На доске вспыхнули первые зеленые лампочки: одна, две, три, четыре. Козловский говорит еще что-то, но это теперь уже неважно. Шар попал в зону наблюдения стеклянных глаз… И только красные огни должны указать момент… Напряжение доходит до последних пределов; нервы точно страшно натянутая, вибрирующая струна. Кажется, еще немного, и не выдержит сердце. Секунда, другая… Горят зеленым светом девять лампочек, кроме одной, номера седьмого, — там уже принесена жертва, молчание смерти. Жуткая мысль откуда-то врывается в сознание, — слова Горяинова, сказанные когда-то в Париже, давно — месяц ли назад, тысячу ли нет… «Ваш шар разлетится на тысячу кусков, из которых каждый будет продолжать ту же работу»… Неужели это возможно? И напрасны будут все жертвы? И он никогда даже не узнает об этом… Через несколько секунд… Вспыхнула красная лампочка. Дерюгин окостеневшими пальцами впился в контактный ключ… Козловский бормотал что-то рядом… Еще одним усилием инженер отбросил все постороннее, собрал всего себя в туго свернутую пружину… Загорелся второй красный глаз… Пальцы вздрогнули легкой судорогой… Метнулся в глаза еще один огонь. Захватило дыхание на короткое мгновение, и первая лампочка погасла. Неужели момент упущен? Сердце колотится бурными ударами… Судьба земного шара в коротком движении слабых мускулов! Ну, что же? Вспыхнул еще один красный огонь на боковой линии, — это хорошо, — правильная засечка… Итак, три сигнала… Четвертый! Дерюгин нажал контакт. Впереди что-то ахнуло страшным гулом, и тяжело вздохнуло далекое поле. Взметнулся кверху гигантский ураган чернопламенной тучей, будто лопнула утроба земли и выплюнула в небо свое содержимое. Несколько коротких секунд длился дикий хаос звуков, — с севера неслось что-то невообразимое. Два человека успели взглянуть друг на друга, и в следующее мгновение обрушилось на них самое небо в вихре, огне и оглушающем грохоте.
Глава XXIV Рассказ Клейста
Еще на смутной грани между сознанием и бредом, несколько раз приходя в себя и вновь впадая в забытье, Дерюгин оставался во власти все той же картины хаоса разрушения, которая поразила его мозг в последнее мгновение. Моменты просветления тонули в общем мраке и сливались в одном и том же воспоминании. Смутно мелькали на этом фоне какие-то лица, порою странно знакомые, звучали слова, лишенные смысла, но все усилия связать разбросанные отрывки не приводили ни к чему: мысль, с болью ворочавшаяся по извилинам мозга, погружалась неизменно в полудремотную мглу. Это было невыразимо мучительно, потому что рядом с бессильными попытками росло неодолимое желание, лихорадочная жажда что-то вспомнить, собрать, решить какую-то задачу. Первой фразой, дошедшей полностью до его сознания, были слова, сказанные по-немецки незнакомым голосом: — Думаю, что теперь он останется жив. — «Неужели это обо мне?» — сформировалась в ответ смутная мысль. Дерюгин с усилием, преодолевая острую боль, открыл глаза. Над ним склонились два как бы просвечивающих сквозь туман бледных лица; одно из них он, несомненно, где-то уже видел. Дерюгин не успел еще связать это мимолетное впечатление, как запекшиеся губы, с трудом разжавшись, выдавили сами слабый шепот: — Клейст, это вы? Знакомое лицо с окладистой русой бородкой наклонилось ближе, и другой голос произнес мягко: — Да, коллега. Только лежите спокойно и не разговаривайте. А первый добавил: — Выпейте-ка вот этого… Дерюгин послушно разжал губы, и жгучая влага обожгла рот и разлилась живым теплом по телу. Легкое облако окутало мозг сонной дремой… Когда Дерюгин после этого проснулся, вокруг уже не было прежнего тумана; предметы приняли обычные отчетливые очертания; легкий свет сквозь полуспущенные шторы ложился на лицо теплой лаской. Голова казалась еще странно большой, будто чужой, но в ней медленно ползли уже и складывались воспоминания, образы, мысли… Первое, что остановило на себе внимание Дерюгина, была согнувшаяся над книгой фигура Клейста, отчеркивавшего на полях что-то карандашом. Теперь Дерюгин начал вспоминать еще неотчетливо, смутно, как сквозь завесу густого дождя, но постепенно расплывчатые черты связывались в целую картину. Он лежал некоторое время молча, с наслаждением ощущая, как в него вливается жизнь, и удивляясь равнодушию, с которым сознание воспринимало все, что недавно было важнее жизни и смерти. Он повернулся, подставляя голову свету. На это движение Клейст оторвался от книги и подошел к постели. — Ну, как дела, коллега? — заговорил он, садясь рядом. — Спасибо, — ответил Дерюгин, протягивая руку, — слабость большая… но жить хочется, как никогда раньше. Голова понемногу приходит в порядок, хотя толком не могу еще сообразить, что случилось… — Сейчас лучше и не соображайте, — вы еще очень слабы… — Нет, Клейст, пустяки. Я совсем спокоен, — это-то и удивительно. Я могу сейчас выслушать что угодно. Скажите, как шар? — Исчез, — ответил немец торжествующе. — Исчез? — повторил Дерюгин, чувствуя, как со дна души подымается волна опьяняющей радости, — значит, все-таки победа? — Да, очевидно, потому что этот проклятый пузырь, наделавший столько бед, как в воду канул, если можно так выразиться, и астрономы в своих обсерваториях уже две недели напрасно ищут его следов по небу. — Две недели? Значит, и я столько времени лежал здесь без памяти? Клейст на минуту замялся, заметив свою оплошность, но, видя, спокойный вид больного, кивнул головой. — Да, повозились-таки мы с вами. Первое время казалось, что дело совсем безнадежно. — Послушайте, Клейст, но каким же образом в самом деле я остался жив? Ведь это против всяких правил. Немец улыбнулся и развел руками. — Один шанс из тысячи… Ваш товарищ тоже уцелел, хотя помяло его больше вашего. Очевидно, сыграло роль то обстоятельство, что вы были закрыты гребнем холма, и главную волну удара перенесло через ваши головы. — А остальные? — Кто это? — Те, на постах и на тракторах? — От них ничего не осталось, коллега. Вы не узнаете сейчас местности вокруг заряда. Строения, целые деревни, деревья, рощи, — все это снесено начисто. На месте пушки — большое озеро, из которого вытекает теперь Оржиц. Нарев сильно обмелел, северные притоки его изменили русло. Вообще все исковеркано до неузнаваемости. Оба помолчали. — А где фрейлейн Флиднер? — спросил снова Дерюгин. Клейст нахмурился и отошел к окну. — Ее нет сейчас здесь… Да и вообще вы слишком много разговариваете. Для первого раза вопросов достаточно. Дерюгин и сам это чувствовал. Утомление сковывало мозг неодолимой дремотой; мысли все ленивее ворочались в мозгу; не хотелось ни думать, ни чувствовать, — только бы лежать так недвижно, отдаваясь сладкой истоме. Скоро он опять погрузился в забытье. И только когда Дерюгин окончательно пришел в себя, Клейст рассказал ему о судьбе Дагмары. Бедной девушки не было больше в живых. Во время взрыва она находилась на наблюдательной вышке, на башне, и стояла у самого парапета. Сила удара при выстреле оказалась значительнее, чем предполагали, и Пултуск попал в зону сильного действия взрывной волны. Сотрясение почвы, соединенное со свирепым ураганом, обрушилось на город и причинило много разрушений. Башня дала значительную трещину вдоль северного фаса, а выступающий карниз ее местами обвалился. У ее подножия в груде мусора нашли утром изуродованное тело Дагмары. Первоначальное убеждение было, что ее сбросило силой удара вместе с обрушившейся частью парапета.
Но два техника-геодезиста, бывшие в момент взрыва также на площадке, уверяли, что фрейлейн Флиднер стояла как раз посредине фаса, приходившегося над большими часами, показывавшими время обитателям города, и оставшегося целым, а что тело было найдено несколько в стороне, объяснялось очень просто тем, что оно соскользнуло с покатой крыши пристроек, прилепившихся у подножия башни. Кроме того, Клейст рассказал Дерюгину эпизод, о котором он боялся упоминать раньше, пока больной несколько не окреп. В день взрыва утром в Пултуск явился неизвестный человек, пожелавший видеть фрейлейн Флиднер. В номере у них произошел непродолжительный, но очень горячий разговор, после которого посетитель вышел сильно взволнованным и весь день бродил по улицам города с таким видом, что обращал на себя всеобщее внимание. — А как вела себя после этого фрейлейн? — спросил Дерюгин, в голове которого сложилась смутная догадка. — Мне кажется, она тоже была встревожена, — ответил Клейст, — и как будто чего-то боялась. По крайней мере, она пришла в управление, вызвала меня и попросила разрешения побыть там и затем вместе со мной подняться на башню. — Ну, и что же дальше? — После взрыва незнакомец появился снова в управлении. Узнав о смерти фрейлейн, он был, видимо, страшно потрясен, казался положительно невменяемым. На похоронах на него жалко было смотреть, — такой убитый и растерянный у него был вид. Сейчас же по окончании обряда он уехал, но перед этим зашел ко мне и оставил письмо, которое просил передать вам, когда вы придете в себя (в то время уже было известно, что вы живы). — Где же оно? Клейст протянул Дерюгину маленький конвертик, адресованный по-немецки крупным разгонистым почерком. Вскрыв его, Дерюгин вынул клочок бумаги, на котором прочел несколько коротких фраз:
«Вы правы, Дерюгин: люди — песчинки в урагане времен, но беда в том, что они не хотят этому верить, а живут и истекают горячей кровью, когда, споткнувшись, попадают под колеса. Одна из таких жертв на вашей совести, и я бы дорого дал за то, чтобы вы когда-нибудь это почувствовали. Люди — песчинки, Дерюгин, но песчинки с живою душой, о которой вы позабыли. Гинце».
Дерюгин несколько раз перечел этот странный обвинительный акт, потом решительным движением разорвал его в клочки и выбросил их в открытое окно. — Что-нибудь неприятное? — спросил Клейст. — Да, — задумчиво ответил инженер, — трагедия слабых душ, не умеющих сохранить равновесие с коллективом. — О, это задача не из легких, — возразил немец. Дерюгин пожал плечами. — Когда-нибудь она перестанет быть задачей, а сделается инстинктом, всосанным с молоком матери. — Да будет так, — улыбнулся Клейст.
* * *
Еще несколько дней воспоминания о грустном конце Дагмары смущали радостное возбуждение выздоравливающего организма. Мысли невольно возвращались снова и снова к роковому дню. О чем думала она в это ужасное утро? Зачем явился сюда отвергнутый вздыхатель, превратившийся теперь в сурового обличителя, и о чем они говорили? Хотел ли он облегчить бремя, легшее на слабые плечи, или только увеличил его и разбередил не затянувшиеся раны? Чего он ждал, бродя по улицам маленького городка тихой Мазовии? Впрочем, это ясно, разумеется: ведь площадка на скате холма должна стать могилой Дерюгина. И лишь случай смешал все расчеты. Если только это был случай… Неужели она сама пошла навстречу смерти? На эти вопросы ответить было некому. Между тем жизнь брала свое, и воспоминания, заволакиваясь дымкой тихой печали, вытеснялись живыми делами и заботами насущного дня. А они кипели вокруг широким потоком. Прошел месяц, и еще не были ликвидированы разрушения и бедствия, причиненные выстрелом. Район их значительно превзошел предполагаемые раньше размеры. Пултуск и даже Ломжа попали в полосу значительного землетрясения и урагана и сильно пострадали; от Млавы, Прасныша, Макова не осталось камня на камне. Даже в Варшаве сотрясение было настолько сильно, что некоторые дома дали трещины, и не осталось почти целых стекол. Несмотря на эвакуацию населения, число жертв в зоне, захваченной катастрофой, превышало тридцать тысяч человек. Очень значительны были разрушения и в прилегающей области восточной Пруссии. Сила удара была такова, что она отмечена была сейсмографами всех станций обоих полушарий, как не уступающая сильнейшим землетрясениям, известным в истории. Воздушная волна, ослабевая постепенно, обошла вокруг земного шара, как это было и во время знаменитого извержения на Кракатау. Освобождение дорого стоило человечеству, но все же оно торжествовало победу, и оба инженера, как герои дня, очутились в центре этого радостного возбуждения. Еще в Пултуске, лежа в больнице, Дерюгин был завален потоком приветствий изо всех углов земного шара и особенно, конечно, от московских и ленинградских друзей. Конгресс физиков в Париже прислал пространную телеграмму, в которой выражал свою радость по поводу спасения инженера и просил его принять звание профессора honoris causa Сорбонны. Когда Дерюгина перевезли в Варшаву и он лежал в Уяздовском госпитале, окруженный всеобщим вниманием и уходом, — не было конца посещениям бесчисленных делегаций, уполномоченных от учреждений и просто отдельных лиц, особенно восторженных варшавянок, превративших палату, в которой помещался Дерюгин, в какую-то выставку сувениров и живой сад, засыпанный букетами. Вместе с тем объявлен был конкурс на лучший проект памятника героям долга, положившим жизнь под Красносельцами за счастие человечества. Этот прекрасный, полный тихой печали и торжественного величия монумент можно видеть сейчас в Варшаве, на Саксонской площади, на месте православного собора, когда-то срытого после объявления независимости Польши. Все это торжество было тем более значительным, что развертывалось на фоне зари занимавшегося нового дня. События, которым толчок был дан катившимся по континенту атомным шаром, развивались неуклонно, по неизбежным законам, против которых бессильно было еще вспыхивавшее то там, то здесь сопротивление. Народы Европы праздновали зарю своей свободы среди обломков дряхлого, умирающего мира. Конгресс физиков, видоизмененный и расширенный включением специалистов из других областей мысли, был превращен в постоянное учреждение, занятое разработкой научного плана организации жизни Союза свободных народов. Все это настолько захватывало колоссальным размахом событий, что все личное тонуло в нем, как в неоглядном океане. И почти незамеченным прошло для Дерюгина полученное им уже в Варшаве сообщение о конце Горяинова. Старый скептик был найден мертвым в номере гостиницы в Лондоне, куда забросила его скитальческая судьба. Он сидел у стола над развернутым номером «Times», сообщавшим о событиях у Красноселец, о победе человеческого духа над взбунтовавшейся материей, и через всю страницу выведенные красным карандашом бежали неровные, будто падающие, буквы: «vanitas vanitatum et omnia vanitas!»[8] Он умер от паралича сердца.Эпилог
Судьба атомного шара довольно долго оставалась неизвестной. В момент выстрела все ближайшие к месту события обсерватории и отдельные наблюдатели лихорадочно всматривались в ту точку горизонта, где предстояло увидеть полет странного снаряда. Но все надежды были обмануты. В огромном вихре огня и дыма, поднявшемся к небу в момент взрыва, нельзя было различить и следа огненного шара. Да и скорость движения газовой волны была слишком велика, чтобы уловить его траекторию. Впрочем, в обсерватории в Варшаве, по-видимому, удалось заметить его след уже в верхних слоях атмосферы в виде огненной линии, слегка склоняющейся в сторону вращения Земли, но это было все. Дальше всякий след атомного шара терялся на недосягаемой высоте. Некоторое время это странное исчезновение служило причиной серьезного беспокойства в научных кругах, не знавших, чем его объяснить. И только спустя почти месяц после катастрофы — в обсерватории Mount Wilson в Калифорнии была обнаружена новая звезда, совершающая самостоятельное движение по небесному своду между созвездиями, лежащими близко к плоскости эклиптики. Она сияла голубоватыми лучами, похожими на свет Ориона, и перемещалась с востока на запад с угловой скоростью, указывавшей на очень близкое расстояние ее от нашей планеты. Внимательное вычисление элементов ее орбиты указало, что имеют дело с неизвестным спутником Земли, обращающимся вокруг нее на расстоянии около трех тысяч километров. Тщательное изучение спектра нового светила и всех особенностей его движения сделало очевидным, что найден, наконец, выброшенный за пределы Земли атомный шар, превратившийся во вторую маленькую Луну, излучающую в междупланетных пространствах никому теперь не страшную энергию, еще так недавно угрожавшую гибелью земному шару. Не получая пищи извне, будущий вихрь должен был постепенно угаснуть, истощив накопленную в нем силу, и умереть естественной смертью.
 ИЗ ДРУГОГО МИРА
Рассказ
ИЗ ДРУГОГО МИРА
Рассказ
1
Неоглядными рядами справа и слева, косматясь пеною поблескивая брызгами, пропитанными солнцем, бежали к берегу бесконечные волны. На песке среди гальки и мелких ракушек, оседали они клочьями белой ваты, тающей и вновь нарастающей. До самого горизонта не было ничего, кроме мерного ритма колышущейся водной пустыни. Рождались волны в туманной дали, где нельзя было отличить небо от моря, зыбились рядами без конца и меры и угасали в немолчном шуме сегодня, как вчера, как год назад, как в продолжение сотен, тысяч, миллионов умерших лет… Сзади, в туманном мареве, громоздясь уступами, окутанные дымкою, синели горы. А справа, между горами и морем, взбираясь со ступеньки на ступеньку, одетый зеленью садов, подставлял солнцу свое каменное, запыленное лицо город. Мешканцев сидел на гранитной скамье, в незапамятные времена поставленной чьей-то заботливой рукой на взморье, у самых волн, источивших уже до половины каменные столбики. Здесь думалось легко и свободно обо всем, что казалось путанным и неясным в тиши кабинета. И сегодня опять осаждали мысли все о том же, как и год, как и пять лет назад, когда он еще начинал только свою работу. Не умирали сомнения, что, может быть, эти годы прошли впустую, в погоне за фантазией, за нелепой мечтой, рожденной в сутолоке новых идей, хлынувших в мир за это сумбурное время. А вот теперь, когда он смотрел на ряды бегущих под легким ветром пенистых волн, с шорохом облизывавших берег, — все опять становилось понятно и просто. Уже давно он скрывал от всех свою работу, нарочно удалившись в этот почти захолустный городок, где официально занимался изысканиями по добыче ценных солей из местных источников и заведовал лабораторией опытного завода, который в сущности больше значился на бумаге, чем существовал в действительности. Жил он впроголодь, перебиваясь уроками в местных школах, случайными лекциями и статьями в столичных журналах. И все эти скудные доходы вместе с тем, что удавалось урвать от скромных средств, отпускаемых на лабораторию, уходили целиком на осуществление заветной мысли. И вот когда ему становилось страшно, что все его жертвы, лишения, многолетний упорный труд проваливаются в пустоту, в ничто — он уходил к морю и здесь думал. И, как всегда, тут им овладевала опять спокойная уверенность и угрюмая настойчивость. Несомненно, он стоял на верном пути, и когда он добьется окончательного результата — это будет величайшим из открытий современности. Правда, основная мысль не принадлежала ему: гениальный немец первый приоткрыл завесу. Но Эйнштейн приходил к этому рядом удивительных умозаключений, заставляющих мысль отказаться от проторенных путей, переворачивающих кверху ногами обычные представления, но как-то мало связанных с действительностью. Мешканцев должен был претворить эти отвлеченные теории в реальность, ощутимую руками здесь, на земле. И всякий раз, когда он от мелочей и подробностей повседневной работы переходил к общей идее, лежащей в ее основе, у него начинала кружиться голова. Ведь обычно об этом не думали серьезно и углубленно, принимали сознанием до смешного легкомысленно. Без особого труда соглашались с тем, что Эвклида надо сдать в архив, что наша Вселенная имеет внутреннюю кривизну, что она изогнута по направлению четвертого измерения, что, следовательно, кратчайшее расстояние между двумя точками вовсе не есть прямая линия и т. д. И как — то проходили мимо неизбежного, колоссального вывода: значит, это четвертое измерение существует, значит, это уже не предмет гимнастики ума для досужих математиков, а реальность такая же, как это море, тысячелетиями облизывающее песчаный берег, синие горы на горизонте и глубокий провал пламенеющего неба. Это совершенно ясно. Ведь было время, когда здесь же, на отлогом берегу, дикарь скиф или сармат следил взором за неуемным бегом волн, и ему в голову не приходило, что безграничная плоскость водной пустыни перед ним — вовсе не плоскость. И мысль об этом он почел бы бредом безумца. А позже за эту же мысль святая церковь жгла на своих спасительных кострах тех, кто осмеливался изогнуть эту плоскость в шар, несущийся в необъятных пустынях мира по законам Вечного Разума. Но вот человек оторвался от двух измерений поверхности земли, опустился в ее недра, наконец, поднялся торжествующе вверх, осознал себя в трехмерном мире. Теперь настала пора сделать следующий шаг, перестроить мозг, воспринять в душу новый мир, раздвинуть его пределы по непонятному, неведомому до сих пор направлению. И он, Мешканцев, должен был положить эту ступеньку, на которую подымется человечество. Это он поставил задачею своей жизни. Путь для ее решения логически был ясен: надо было заставить наше обычное трехмерное пространство изогнуться, хотя бы в небольшом объеме, по этому таинственному измерению, больше, нежели равномерная его кривизна вокруг, как это имеет место, например, по утверждению Эйнштейна, в местах средоточия огромных масс материи, около солнца и других звезд. Средством же должна была служить усиленная концентрация радиоактивных излучений, имеющих, по мысли Мешканцева, связь с этой загадочной областью пространства. И тогда оставалось исследовать свойство этого пространства в новом состоянии. Кое-что он уже угадывал и мог предсказать заранее. Час, когда сбудется его предвидение, должен был стать величайшим торжеством его жизни. Но пять лет прошло — и пока безо всякого результата… Так неужели же все это только мечта, пустой вымысел, ложная дорога? Вот какие сомнения обуревали его от времени до времени и заставляли, как и сегодня, спасаться к простору древнего, тысячелетнего моря. И, как всегда, оно не обмануло: упрямая, спокойная уверенность вернулась к Мешканцеву. Облегченный, он бросил последний взгляд на дымок парохода на горизонте и белые пятна парусов в зеленовато-голубом мареве и зашагал по песку к городу. На заводе его ждала неприятная встреча. Когда он вошел в свой маленький кабинет, у стола сидела изящная женская фигура в бледно-сиреневом платье и с пышными золотистыми волосами. Мешканцев остановился, вопросительно глядя на посетительницу. Она поднялась порывисто и пошла ему навстречу. — Простите, вы товарищ Мешканцев? — услышал он певучий грудной голос, заставивший его взглянуть пристально в лицо говорившей. — Я Мешканцев. Чем могу служить? Серые глаза смотрели твердо и спокойно. — Я — студентка Н-ского института. Прислана сюда из краевого центра на три месяца производственной практики. Вот мои документы. Мешканцев, не двигаясь с места, спросил угрюмо: — Ваша специальность? — Минеральный анализ. — Боюсь, что для вас мало найдется материала для работы на заводе… — Я уже была предупреждена об этом. Но у меня определенная командировка, и выбирать не приходится. К тому же, я полагаю, что везде можно найти материал, если суметь за него взяться. — Вы думаете? — сумрачно улыбнулся Мешканцев и продолжал про себя: — Ого, девица с апломбом. Но на кой черт мне ее прислали! Уж не соглядатай ли из центра? Кажется, там кое-что пронюхали о моих работах… Этого еще недоставало. А впрочем, нет, слишком уж красива, до безобразия красива. С такой физиономией и прочими онерами — прямое дело — крутить головы нашим молодым инженерам и техникам. Гм, минеральный анализ. А сама, наверное, путем ни одной установки не соберет и путается в простейших вопросах. Ну, посмотрим. Мешканцев задал посетительнице еще несколько вопросов, осведомился, как она устроилась с квартирой, и сказал сухо: — Ну, что ж, недельки две походите по заводу, приглядитесь, познакомьтесь с работой и… сотрудниками, а там — посмотрим… Девушка хотела было что-то возразить, но, видимо, раздумала, решительно встала и, кивнув головою Мешканцеву, вышла. — Однако фрукт… — подумал он, провожая ее глазами, и вдруг, как бы нехотя подошел к окну и стал глядеть на выходную дверь. Через минуту светлая, вся будто пронизанная солнцем фигура вышла на крыльцо, постояла в нерешительности несколько секунд, досадливо передернула плечом и направилась к главному корпусу завода. Шедший навстречу молодой инженер молча остановился и, разинув рот, провожал девушку взглядом, пока ее не проглотила массивная, окованная железом дверь. — Ну, начинается, — с усмешкой подумал Мешканцев и сел рассматривать документы, оставленные посетительницей на столе.2
20 июня. Прошло почти две недели с тех пор, как эта странная девушка появилась на заводе, и, кажется, она обманула самые разнообразные ожидания, с нею связанные. Наша молодежь разочаровалась прежде всего в своих расчетах на легкий флирт (а может быть, и на кое-что не столь безобидное) с обладательницей хорошенького личика. Первые же поползновения в этом направлении были остановлены самым решительным образом, настолько решительным, что попавшие в переделку дня три ходили мокрыми курицами, со сконфуженным видом и старательно избегали встреч с Корсунской. Обманулись и наши дамы, предполагавшие найти в ней участницу своих интимных и неинтимных бесед на обычные темы, начиная с алькова и кончая кухней. И, наконец, обманулся я сам. Эта девушка не только прекрасно разбирается в своей специальности, она обладает живым и ясным умом, огромными познаниями и широкой начитанностью во многих областях знания. У нее удивительная способность схватывать сущность вопроса, строгая и прямолинейная логика. Словом, эта прямая противоположность тому, что я, откровенно говоря, рисовал себе, как специфически женское, и вместе с тем она бессознательно женственна, полна скрытого горения и… красива до неприличия, надо отдать ей справедливость. Но это, разумеется, только к слову.
Я любуюсь в ней редким случаем гармонии всего человеческого. И так как я не собираюсь растопыриваться перед ней по петушиному, то и она не топорщится, как с нашей молодежью, говорит обо всем просто, умно и свободно, а разговор с ней — истинное наслаждение. Работает она на заводе, и не далее как вчера указала в процессе производства ошибку, которую повторяли из года в год. Благодаря небрежности, рутине, привычке к старым, непроверяемым критически методам. Само по себе это, пожалуй, мелочь, но ведь, однако, до нее никто ее не замечал. Нет, это удивительный человек. И беседы с нею, точно проветривающие душу, как нельзя более пришлись кстати моим разболтавшимся нервам. Это такая кристальная ясность, такая уверенность в силах человеческого разума. А вентиляция моим мозгам нужна. Помимо обычных сомнений, от которых я бежал к морю, я чувствую что-то новое, странное и тягостное. Какая-то неясная тревога, томление, беспричинная подавленность мешают мне работать. Иногда бывает похоже на состояние ночного кошмара, когда хочешь бежать — и ноги не двигаются, хочешь крикнуть — и из стиснутого горла не вырывается ни звука. Скверно — гайки развинтились основательно. Надо бы в сущности бросить на время всю работу и отдохнуть самым прозаическим образом: лежать где- нибудь на солнцепеке, есть, пить, удить рыбу, читать глупую книжку и ни о чем не думать…
22 июня. Вчера я был невольным свидетелем интересного разговора. Выйдя вечером в садик около заводского клуба, я увидел две темные фигуры на скамье под корявою липой. Один голос, вибрирующий тенор, в котором я узнал нашего юрисконсульта, молодого и неглупого парня, немножко экзальтированного, говорил, слегка декламируя: — Дело, конечно, не в грубой физиологии, Нина Павловна. Основное — это известное созвучие душ, одинаковое или во всяком случае сходное восприятие мира, общие идеалы… — Бросьте, Николай Иванович, — ответил голос Корсунской, дрожавший еле сдерживаемым смехом. — Какую старину вы перетряхиваете: сродство душ, общность идеалов… добавьте еще о двух половинках сердец, ищущих друг друга, — и арсенал будет полный. — Я вас не понимаю, — обиженно запротестовал тенор. — А вы почитайте старика Дарвина, Мечникова, Фрейда и еще кое-что в этом роде, — тогда поймете. Именно физиология и есть основное, а все остальное — побрякушки, сахарная водица. — Позвольте, однако… — недоумевал тенор, — ведь мы не животные… — Самые настоящие: тип — хордовых, подтип — позвоночных, класс млекопитающих, подкласс — живородящих, отряд — гомо сапиенс и так дальше, — вставая, сказала Корсунская, и голос ее вдруг стал серьезен, — я не говорю, чтобы я сама была от этого в восторге… Мне показалось, что она содрогнулась. — Все это в достаточной мере омерзительно. И если бы я была на месте творца, я постаралась бы устроить это иначе. Да, с этой девушкой публике нашей делать нечего. Но почему-то и мне самому стало не по себе после этого разговора.
24 июня. Вчера поздно вечером, занимаясь в лаборатории, я почувствовал себя настолько скверно, что бросил работу и еле добрался до постели. Глаза застилал серый туман, кровь стучала в виски так, что казалось, будто там отбивают десятки гулких молотов. И смутная тревога, томящая меня уже несколько дней, перешла в щемящее чувство беспричинного страха. Почти всю ночь я не сомкнул глаз. Только под утро забылся тяжелым, мутным сном и видел Корсунскую. Она стояла на крутом берегу над темным морем, кишащим какими-то неясными, зловещими силуэтами, и твердила монотонно: «Омерзительно… омерзительно…» Боюсь, что она начинает слишком сильно занимать мое внимание.
26 июня. Сегодня я впервые наблюдал явление, которого ждал с нетерпением все эти долгие годы: отдельные линии в спектрах газов сместились в сторону, особенно в зеленой его части, а некоторые распались на ряд более мелких, неясно очерченных полос. Никакого другого объяснения этому я не могу подыскать, кроме того, что мне удалось наконец обнаружить это таинственное четвертое измерение здесь, у себя под руками, удалось его заставить проявить себя. Но странно: я не ощущаю необузданной радости, какой ожидал, когда рисовал этот момент в воображении. Ничего, кроме заботы о том, что надо тщательно проверить еще раз опыты, чтобы гарантировать себя от ошибок. Я думаю, это объясняется тем, что я совсем расклеился за последнее время: по ночам мучаюсь бессонницей или тяжелыми кошмарами, днем вздрагиваю при каждом стуке двери или шорохе, а с вечера на глаза опускается серая пелена и все предметы в ней получают странные, фантастические очертания.
28 июня. Сегодня я до того раскис в этой неустанной нервной тревоге, подхлестываемый возбуждением от недавнего открытия, что сделал непростительную вещь: после пяти лет упорного молчания, под впечатлением минуты рассказал о своей работе, о своих сомнениях и достижениях человеку, случайно брошенному на моем пути, который скоро исчезнет с моего горизонта в толчее жизни, так же внезапно, как и появился. И это только потому, что мы встретились в недобрую минуту, когда молчание и одиночество стали окончательно невыносимыми. Началось с безобидного разговора об идеях Римана и Лобачевского. И, конечно, Корсунская знала об них не только понаслышке. Риманову геометрию четырех измерений она проштудировала добросовестнейшим образом, а Лобачевского цитировала чуть не наизусть и говорила о нем с энтузиазмом. От них перешли к Эйнштейну, переведшему теоретические построения математиков на почву реальных возможностей. — Я бы не удивилась, — сказала Корсунская, — если бы в один прекрасный день мы здесь, на земле, оказались в состоянии увидеть, прощупать это таинственное направление, заглянуть через него в такие провалы, перед которыми наша Вселенная — щепка в океане. Это оказалось толчком, от которого я точно с горы покатился. Я рассказал все, начиная с первых моих попыток, ряда неудач, сомнений, новых исследований и кончая последним результатом, осуществившим то, о чем она сказала в своей последней фразе. 30 июня. Что — то странное творится или со мною самим, или вокруг меня. Если это протянется еще несколько дней — я сойду с ума. О вчерашнем вечере я не могу вспомнить без острого ужаса. Я сидел в лаборатории, возле спектроскопа и изучал изменения в цветных линиях его поля. Дверь в соседнюю комнату было приоткрыта; за окном бушевал ветер и швырял в стекла пригоршни песка, так, что казалось, что там, во тьме, стоит кто-то и царапает их шершавой лапой. Знакомое чувство тревоги росло непрерывно. Мерно постукивал маятник часов, мелькая медным диском и отмеривая умирающие секунды. Вдруг мне показалось, нет, не показалось, а я почувствовал с несомненностью сзади меня в комнате чье-то присутствие. Однако я знал, что никого нет, так как наружная дверь была заперта. Тишина стояла мертвая. Несколько минут я держал себя в руках и продолжал работать. Вдруг пламя горелки на столе вспыхнуло и погасло, будто от внезапного порыва ветра. У меня было ощущение, что кто-то вплотную подвинулся ко мне и дышит за спиной. Я быстро обернулся — пустота и тишина. Падали секунды, и шуршал песок за окном. Сердце билось сильными ударами, не хватало дыхания. Я сел к столу. Присутствие невидимого посетителя стало физически невыносимым. — Кто тут? — крикнул я не своим голосом и, вскочив, обернулся назад. Молчание… Распахнувшаяся настежь дверь чернела провалом в темноту… Какие-то беглые тени метались по углам. Серый туман колыхался перед глазами; сквозь него огни лампочек мерцали, окруженные цветными ореолами. Мхе казалось, будто я один во всей Вселенной, будто все провалилось в первобытный хаос, и я, жалкий, одинокий, запуганный человек, песчинка мироздания, остался лицом к лицу с тем, кто стоит где-то тут рядом со мною, невидимый и молчаливый, и дышит мне в лицо… Я не помню, как я выбрался из комнаты. В эту ночь я не спал.
4 июля. Три дня я пролежал у себя дома и не выходил из комнаты, совершенно разбитый этой дикой галлюцинацией. Ведь не бесплотные же духи удостоили меня своим посещением! И все- таки если еще раз со мной случится что-либо подобное, я не знаю, чем это кончится. На следующий день у меня был милейший доктор Асатуров. Он нашел невроз сердца или что-то в этом роде на почве переутомления. Разумеется, он прав: все это просто усталость, и мне необходим отдых. Но не хочется бросать работу сейчас, когда я подошел к таким результатам, — страшно потерять нить. И потом странно: эти дни, что я лежу дома, я чувствую себя в сущности довольно сносно — во всяком случае галлюцинации не повторяются. А когда я встану — я опять увижу Нину Павловну.
3
Мешканцев встал и увидел Нину Павловну. Они шли вдвоем по темнеющим аллеям парка, среди двух стен тополей, вонзающихся оперенными стрелами в вечереющее небо. Прямо перед ними, купаясь в холодных провалах звездных пустынь, зажегся уже Орион, торжественно тихий и многоокий. Густели тени фиолетовыми пятнами, буйная зелень стряхивала истому пыльного знойного дня и набухала темной пьяной дурью и ароматами. Из грота по серым камням звонкою капелью, со ступеньки на ступеньку журчал источник. Мешканцев шел, слушал, вдыхал всей грудью густой воздух и всем существом ощущал близость девушки. Они говорили о далеких веках юности человечества, когда скованный разум только начинал расправлять крылья, бросая удивленные взгляды- молнии на открывающийся неведомый, таинственный мир. — Какая прекрасная легенда — этот жаждущий и немогущий насытиться доктор Фауст, — говорила Корсунская — великий искатель, отказывающийся от вечного блаженства ради того, чтобы знать… знать, какою бы то ни было ценою. Мешканцев плохо вникал в смысл ее слов и слушал только их музыку; они звенели в унисон с капелью струй и пропитаны были ароматами южной ночи. Потом спросил, отвечая больше собственным мыслям, чем фразам девушки. — А Маргарита? — О, — измышление тайного советника Ваймерского Двора. Я предпочитаю Фауста таким, каков он в старинных легендах и хрониках. — Измышление Великой Матери Природы, — ответил Мешканцев и вдруг спросил, глядя в упор на собеседницу: — Неужели вы никогда не испытывали ее зова? Девушка молчала, и в наступившей темноте не видно было ее лица. Это мучило его, но он не мог уже остановиться и опять, словно с горы разбежался, как давеча, в разговоре о своих работах. — Нина Павловна, наша встреча с вами — конечно, случайность, которыми полна жизнь, и мне жутко подумать, что наши дороги, скрестившись, быть может, уже больше не сойдутся. — Почему же? — как-то неуверенно спросила Корсунская, слегка касаясь его руки. — Можно, будучи разделенными сотнями верст, работать над одним и тем же и обмениваться мыслями… — Я не об этом, — и голос Мешканцева задрожал, — я завидую не доктору Фаусту немецкой легенды, а Фаусту тайного советника, господина Гете… Девушка отодвинулась вдруг, и голос ее зазвучал чужим, далеким: — Дмитрий Александрович, неужели и вы о том же? — Было слышно, как хрустят пальцы заломленных рук. — И я? Но что же делать? Мне кажется, что я всю жизнь ждал этой встречи, искал именно вас… — Не надо, ради бога, не надо… Мне было бы так больно, если бы омрачилось то светлое, что связало нас за эти дни… Простите меня, голубчик, но я… не гожусь в Маргариты. Я не знаю, как вам сказать… Во мне нет струи, которая могла бы отозваться на этот зов… Я — пустая… — Безлюбая? — повторил машинально Мешканцев когда-то слышанное слово. — Да, безлюбая… Нельзя служить сразу двум господам. Мой уже выбран раз и на всю жизнь. А относительно вас… — Не надо, — заговорил теперь Дмитрий Александрович, и папироса его ярко вспыхнула, освещая бледным пятном жестко сжатые губы. — Будем считать, что этот разговор кончен. — Вы сердитесь? — спросил из темноты голос, дрогнувший теплыми нотами. — Нет, Нина Павловна, — ответил он угрюмо после некоторого молчания, оставим это, и пусть все будет, как было. Возвращались они молча, и Мешканцеву казалось, что пылающий Орион померк в высоте. Дмитрий Александрович не вернулся к себе, а прошел в лабораторию, где он обычно работал вечерами, когда кончалась заводская кутерьма. — Она права, — думал он, пуская в ход бездействовавшие приборы, остается одно: работать, работать без передышки! Два дня прошли спокойно. С Корсунскою он виделся на заводе, все время на людях и не искал встреч наедине. Она была все такая же сосредоточенная, углубленная, и только иногда в глубине глаз ее он читал как-будто немой вопрос. На третий день вечером странные явления возобновились. Опять лампочки сияли цветными кругами в сероватом тумане. Опять метался Мешканцев по лаборатории, чувствуя у себя за спиною, то тут, то там, в темнеющих углах или совсем рядом притаившееся нечто, невидимого посетителя, наполняющего своим присутствием просторную комнату. Стиснув зубы, он сидел на своем месте, у аппарата, и продолжал работу, решив пересилить свои нервы и закончить начатую серию опытов. Но это становилось все труднее. Цветные круги перед глазами врывались в поле зрения и путалинаблюдение. Мешканцев сидел спиной к открытой двери в соседнюю комнату и вдруг поймал себя на мысли, что ему страшно оглянуться назад, в ее зияющую пустоту, как бывало в далеком детстве, когда он начитается жутких книг. Мешканцев через силу улыбнулся своим ребяческим страхам и быстро обернулся. Все было пусто, но эта пустота показалась еще страшнее, чем если бы он увидел самый ужасный образ, созданный фантазией. Мертвая тишина давила мозг тяжелым грузом. Вдруг он почувствовал струю ледяного ветра, охватившую его с головы до ног. Он вскочил в испуге и остался стоять у стола, остановив широко раскрытые глаза на темном углу лаборатории. Оттуда бесшумно выплыла туманная темная фигура, почти вдвое выше человеческого роста. Тихо колеблясь, будто под дуновением ветра, и слегка меняя свои очертания, она медленно двигалась, пересекая комнату по диагонали и направляясь к столу, у которого стоял Мешканцев. Она была похожа на пыльный вихрь, поднятый летом знойным ветром на желтеющих пожнях, но временами вершина ее заострялась, и тогда казалось, что это огромного роста темный монах в рясе и клобуке несется по воздуху, не касаясь пола. Мешканцев не мог двинуться с места и в диком ужасе следил за движениями странной фигуры. Наконец, когда она была от него в двух-трех шагах и его охватило нестерпимым холодом, он дико вскрикнул и бросился в сторону. Темный вихрь вырос до потолка, качнулся вперед и, дойдя до противоположной стены, исчез так же беззвучно, как и появился. Мешканцев выбежал вон.4
7 июля. В сущности после всего, что случилось вчера вечером, благоразумие требует оставить работу и месяца на два уехать отсюда совсем. Раз дело дошло до каких-то видений, от которых я шарахаюсь в ужасе и бегу, как ребенок от почудившейся ему чертовщины, — значит, дело дрянь. Так недолго и совсем свихнуться. Надо основательно подвинтить гайки. А с другой стороны, именно сейчас немыслимо бросить дело, не доведя до конца этих исследований, которым, может быть, суждено открыть новую эру в истории науки. По правде говоря, я просто не в силах оторваться от этой работы, как одержимый, как пьяница от своего яда. Я хочу сделать еще попытку. Продолжать эти исследования одному в таких условиях — значит рисковать попасть в желтый дом. Что, если попробовать вести их вдвоем? Быть может, присутствие другого человека даст некоторую точку опоры, рассеет этот дикий мираж? Ведь днем, когда я бываю на людях, я не испытываю ничего подобного. И человеком этим может быть только Нина Павловна.8 июля. Разговор был коротким. На предложение Корсунской принять участие в моих работах она несколько времени молча в упор глядела на меня; я храбро выдержал испытание и не опустил глаз. Это был немой поединок. Затем она протянула мне руку. — Благодарю, Дмитрий Александрович. Я сама хотела просить вас об этом, но не решалась после… — После того разговора? Но ведь мы условились, что ничего не было… Она слегка покраснела и нахмурилась. Во всяком случае — договор заключен.
10 июля. То, что случилось сегодня вечером, выходит совершенно из границ вероятного. Я стою перед загадкой, к которой не вижу ключа. Довольно поздно вечером мы пришли с Ниной Павловной в лабораторию, где приборы работали автоматически весь день. Сразу же знакомые ощущения нахлынули на меня Надежды мои не сбылись: присутствие Корсунской не меняло дела. Но что удивительнее всего, это то, что и Нина Павловна сразу же стала проявлять признаки тревоги и беспокойства. Она поминутно оглядывалась назад, будто ища кого-то, кто стоял у нее за спиной, вздрагивала, хмурилась, и я ловил на себе временами ее растерянный, испуганный взгляд. Я думал, что просто ей передается мое напряженное нервное состояние, хотя я изо всех сил старался его не обнаруживать. Но едва я начал подробное объяснение установки приборов, как снова, по-давешнему, потянуло смертельным холодом. Корсунская задрожала с головы до ног и оглянулась в немом изумлении. И опять в дальнем углу лаборатории встала беззвучно огромная темная фигура и, медленно раскачиваясь, двинулась в нашу сторону. Следом за нею там же родился второй силуэт, за ним еще и еще…

И в гробовом молчании двигалась мимо нас воздушная процессия призраков, будто вереница черных монахов, в суровом безмолвии шествующих в какой- то погребальной процессии. Фиолетовые отблески вспыхивали в их вершинах, будто метали они огненные взгляды из-под насупленных капюшонов. Стояла мертвая тишина. Я сидел у стола, не отводя глаз от этой картины. Корсунская, бледная, как мертвец, дрожа всем телом, прижалась к стене, провожая глазами мрачное шествие. Слышно было отчетливо, как в немой, потрясающей тишине падали однотонно удары маятника. Вдруг резко треснуло стекло в приборе, который задела в своем движении одна из темных фигур, и осколки его со звоном полетели на пол. Вслед за тем раздался нечеловеческий крик — объятая ужасом девушка бросилась ко мне и забилась в истерической дрожи. Схватив ее на руки, я хотел выбежать в дверь, но вереница черных вихрей пересекала мне путь, и я не мог заставить себя к ним приблизиться. Я не знаю, чем бы это кончилось, если бы через минуту или две темные фигуры не потеряли своих очертаний. Они заволновались, будто раздуваемые невидимым ветром и, не останавливаясь в своем немом беге, вдруг стали серыми и прозрачными, как вечерний туман над рекой, и наконец беззвучно растаяли, оставив после себя лишь чуть уловимый странный запах да ощущение мертвящего холода. И в комнате стояла по-прежнему угрюмая тишина. Я держал на руках неподвижное тело девушки, весь во власти противоречивых чувств. Еще не улегся в душе только что пережитый ужас и колотился глухими ударами замиравшего сердца, еще мелкая, зябкая дрожь трясла меня с головы до ног, а вместе с тем хотелось, чтобы не кончались эти жуткие минуты. Казалось, что без конца готов я стоять вот так, среди пустой комнаты, прижимая к себе вздрагивающее теплое тело. Но это длилось недолго. Корсунская открыла глаза и оглянулась с изумлением. Я оставил ее и в невольном замешательстве отвернулся, делая вид, что рассматриваю разбитый прибор. Несколько мгновений она, видимо, собиралась с мыслями; потом я услышал неуверенный, дрожащий голос: — Простите меня, Дмитрий Александрович — Я, вероятно, вас напугала. Я сама не знаю, что со мной случилось… Какая-то дикая игра воображения, странная галлюцинация… И тут мозг мой пронзила мгновенная мысль но ведь, значит, это именно не была галлюцинация… Значит, мы оба видели какую- то дикую загадочную действительность, и я почувствовал, что по спине ползут мурашки, и душу мучит снова звериный, непреодолимый страх. Но я ничего не сказал Нине Павловне и, успокоив ее несколькими словами, вышел проводить домой. Стояла темная, звездная ночь. Орион на Востоке лучился и мерцал далекими огнями и кругом — брызги света, мириады миров в безднах пространства, в торжественной тишине двигались железными кругами. Что же это было? Все-таки галлюцинация? Странный мираж, одинаковым образом отпечатлевшийся в сознании двух людей? Как объяснить такое совпадение? И потом: почему разлетелся в осколки прибор, задетый шествием этих таинственных теней? Но тогда что же? Действительность, похожая на бред больного мозга? Факты, которые можно принять за сон и видение? Призраки и тени, словно вынырнувшие из седых легенд и сказаний и разгуливающие среди колб и реторт лаборатории XX века? Так или иначе в жизнь ворвалось что-то таинственное и стоит передо мною каменным сфинксом, требуя разгадки.
12 июля. Несколько дней прошло спокойно. Аппаратура моя после знаменательного вечера, когда разлетелся вдребезги один из главных ее приборов, все еще бездействует, дня через два, вероятно, можно будет снова пустить ее в ход. Но, откровенно говоря, интерес моей работы в значительной степени заслонен событиями этих дней и бесплодными попытками их объяснения. Нина Павловна ходила дня два необыкновенно подавленная и угрюмая: случай в лаборатории произвел на нее огромное впечатление. Она, по-видимому, была убеждена, что стала жертвою игры воображения. Я угадывал ее тревогу. Как-то на днях она вскользь упомянула о тяжелой наследственности в смысле психических заболеваний. И уже тогда мне послышалось в ее словах смутное беспокойство. Все, что случилось в этот вечер, она могла принять за внезапное проявление этого страшного наследства. Мне стало больно мучить ее дольше. И, кроме того, у меня выросло к ней какое-то новое чувство мягкой нежности. После того вечера, когда проснулась в ней слабая, испуганная женщина и эта минута бросила ее инстинктивно ко мне, под защиту мужской руки, — я вижу в ней другого человека, и воспоминание о коротких мгновениях, когда я держал в руках прижавшееся ко мне в поисках защиты трепетное тело, кружит голову. Вчера я рассказал ей обо всем: о явлениях, бывших до этого вечера, о собственных тревогах и странных оптических явлениях. Корсунская резко отодвинулась от меня, и недобрыми нотками зазвенел ее голос: — И вы меня об этом не предупредили? — О чем, Нина Павловна? Ведь я сам был убежден, что все это только игра больных нервов, кошмар, бред — что хотите, только не ощутимый факт, о котором можно было бы предупреждать. Несколько минут длилось молчание. Потом уже другим тоном она спросила: — Но что же это было в таком случае? Я пожал плечами. — По совести говоря, я сам ничего не понимаю… Явь? Сон? Обоюдный гипноз и самовнушение или ряд новых фактов, новый мир явлений, ожидающий своего Эйнштейна? Кто знает? Глаза моей собеседницы загорелись живым огнем. Мне почудилось, что в них зажглось лихорадочное любопытство. — Мы будем работать над этим? — спросила она, протягивая мне руку — Мы раскроем эту тайну. — А вы не боитесь? — ответил я вопросом, задерживая на секунду ее теплые пальцы. — Но ведь мы будем вместе. — Вы — маленькая храбрая женщина, — сказал я, вложив в свои слова всю нежность, которая переполняла душу. Так подтвержден был наш договор.
5
В течение трех дней работы в лаборатории протекали спокойно. Была восстановлена поврежденная аппаратура, и вновь начали сдвигаться и двоиться линии в спектроскопе, но таинственные явления не повторялись. Мешканцев начинал склоняться к мысли, что все случившееся надо было объяснить странной одновременной оптической иллюзией, своеобразным фактом обоюдного гипноза. На четвертый день к ненормальностям в линиях спектра присоединились новые излучения, сопровождающие радиоактивные процессы, энергия которых возросла сразу во много раз. И в тот же вечер, когда ветер снова шершавою лапой царапал окна стекол, а вдали глухо шумело море, — в комнате притаился невидимый кто-то, ходил по углам и, казалось, дышал за спиною. А к полуночи, когда Мешканцев хотел уже кончать работу, — все в том же дальнем углу одна за другою встали безмолвные черные тени и понеслись по воздуху, пронизанные фиолетовыми молниями. Холодом нестерпимым веяло от них, а на пол с еле слышным звоном падали голубоватые осколки, будто мелкие кристаллики прозрачного льда. И все же, несмотря на холод и непреоборимый страх, который против воли сковывал душу, Мешканцев и Корсунская продолжали наблюдения, лихорадочно отмечая все происходящее. Но это оказалось возможным не дольше нескольких минут: стужа стала совершенно непереносимой; дыхание густым паром вылетало изо рта, все тело, особенно пальцы, совершенно закоченели. Мешканцев схватил девушку за руку и увлек ее к двери, путь к которой был открыт. В то же время снова со звоном разлетелась в осколки стеклянная трубка с разреженным газом. И еще не успел Дмитрий Александрович со своей спутницей выйти из комнаты, как черные вихри померкли, осели туманным облаком и рассеялись, как дым. Мешканцев бросился к тому месту, где только что двигалась вереница таинственных фигур, и нагнулся, разглядывая разбитый аппарат и полосу пола, над которой они только что пронеслись. — Нина Павловна, — закричал он дрожащим голосом, — смотрите, это замерзший воздух! Действительно, голубоватые кристаллы на полу быстро таяли, обрастая снежной пеной, и обращались в легкое облачко, расходившееся в холодном воздухе. При дальнейшем исследовании Корсунская обнаружила в том месте, где черная тень задела стеклянную часть прибора, небольшую кучу красноватого пепла, необычайно легкого и в темноте фосфоресцирующего зеленоватым светом. Эта щепотка странного порошка была тщательно собрана. На следующий день вновь приступили к приведению в порядок поврежденных приборов и к изменению схемы их установки с тем, чтобы они не лежали на пути движения загадочных вихрей, каждый раз пересекавших лабораторию по одной и той же линии. Вместе с тем Мешканцев занялся исследованием пепла, собранного на полу. Результат оказался изумительным: и по линиям спектра, и по химическим реакциям вещество оказалось совершенно неизвестным, не имеющим себе подобных среди земных элементов. Сообщая Корсунской результаты анализов, Мешканцев сказал, пожимая плечами: — Знаете, Нина Павловна, я сейчас положительно не уверен, что не сплю и что вас и всю эту таинственную абракадабру не вижу в сонной грезе. Потому что если это не сон, то — нечто гораздо худшее: чертовщина, чудо — черт знает что!.. Девушка подняла голову и, пристально глядя ему в глаза, сказала медленно и раздельно: — Дмитрий Александрович, а ведь это, пожалуй, четвертое измерение… Мы прикоснулись в этой лаборатории к другому, соседнему миру. — Вы это серьезно? О другом мире… — переспросил Мешканцев. Загробное существование? Потусторонние таинства?.. — Он не находил слов. — Вы напрасно иронизируете, — спокойно возразила девушка. — Я говорю, конечно, не о загробных мирах, а о вполне реальной Вселенной, расположенной параллельно нашему миру… — Параллельно нашему миру? — Ну да! Почему это вас удивляет? Неужели вы, работая над этими идеями, не допускали такой возможности? Если четвертое измерение существует как реальная действительность, то почему бы в этом истинном четырехмерном пространстве не существовать еще одной, двум, десяти, тысячи вселенным, расположенным параллельно друг другу, как листы в книге. — Ну и что же? — Ну, и если вам удалось, как вы полагали, изогнуть наше пространство по этому недоступному до сих пор направлению так, как это имеет место на солнце и других больших массах, то весьма естественно, что мы могли соприкоснуться с этим соседним миром, если он расположен близко от нашей Вселенной. Мешканцев сидел, совершенно растерянный и оглушенный. — И, значит, все, что мы здесь видели… — Есть след каких-то явлений и процессов, происходящих в этом параллельном нам мире. — А нервное состояние и оптические феномены, которые я приписывал переутомлению… — Не более как реакция организма на необычайное состояние пространства. Мешканцев вскочил, как подброшенный электрическим ударом. — Нина Павловна! Голубчик! Родная моя! Но ведь это именно так и есть! Ведь иначе и не может быть! Как же я-то, старый дурак, не догадался? Корсунская сидела молча, улыбаясь одними глазами, видимо, наслаждаясь произведенным впечатлением.15 июля. Я до сих пор еще не могу прийти в себя. Разгадка найдена, но мрак от этого не стал яснее. Мы соприкоснулись с другим миром. Мы заглянули в такие провалы мироздания, перед которыми пространство нашей Вселенной забава для детей. И вместе с тем эта тайна оказалась тут, рядом, на расстоянии протянутой руки, быть может, еще ближе. Но до сих под это было просто вне поля нашего сознания. И вот оно здесь, в этой обычной на вид комнате, с ее проводами, рычагами, ретортами, колбами — со всем тяжеловесным и сложным ассортиментом современной науки. Но что такое это «оно»? Какие законы им управляют? Тени каких явлений пронеслись перед нами в эти дни, пахнув на нас холодом нездешних пространств? Конечно, и там существует свой круг железной необходимости, и там следствия цепляются за причины в неразрывной цепи незыблемых зависимостей… Но каких? Что отразилось в темных фигурах, проносившихся мимо нас? Обломки мертвых миров, увлеченных неведомой силой, или рождение новых среди неустанного бега? Или, может быть, тени живых, разумных существ невиданных форм и очертаний промелькнули, творя какую-то свою удивительную историю? Быть может, отголоски гигантских социальных потрясений, титанической борьбы, невообразимых разрушений и катастроф? Или просто беглые тени обычной, по-своему где-то там будничной и серенькой жизни. Или, наконец, события невиданные и невообразимые для нашей Вселенной, закономерные в своем кругу, но недоступные сознанию существ, рожденных под другими небесами? Я вспоминаю молчаливую вереницу черных призраков, и в душу закрадывается страх перед неизвестностью. Что вы такое, мрачные вестники немого моря?
6
Работы по приведению в порядок аппаратуры продолжались, но Мешканцев занимался этим вяло и неохотно. Энтузиазм и лихорадочная деятельность Корсунской раздражали и пугали его. Сознание близости страшной пропасти, в которую он заглянул, космического хаоса, в котором трепетало огромно-таинственное и неизмеримое, сковывало душу ужасом перед мраком грозной тайны. Он готов был бросить всю работу. А рядом была эта удивительная девушка, в глазах которой он видел неугасающий энтузиазм, увлечение работой, лихорадочную жажду неутомимого мозга. Однажды Мешканцев решился все же заговорить с нею о том, что его мучило. — Нина Павловна, имеем ли мы право продолжать нашу работу? Ведь страшно подумать, чем может грозить это неизвестное. Девушка остановила на нем широко раскрытые глаза. — Как? Прекратить работу сейчас, когда мы приоткрыли уголок такой тайны? — Вот именно потому, что это тайна… Подумайте, отблеском каких неведомых и грозных явлений могут быть эти странные тени. С какими пространствами мы соприкоснулись? Ведь воздух у нас падал мгновенно ледяными кристаллами. Эти температуры, быть может, ниже тех, которые мы здесь, на земле, вообще считаем возможными… Это смерть не только всего живого, но смерть самой материи, застывающей в неподвижности. Девушка молча качала головой. — Ведь тут простор самым невероятным предположениям… — Да, да, — подхватила она, — и знаете ли, что мне приходит в голову До сих пор не решен вопрос об источнике пополнения солнечной энергии. Быть может, она течет к нам именно из этого соседнего мира, если наша Вселенная там сильно изогнута по четвертому измерению и соприкасается с ним так, как это случилось здесь у нас. — Быть может, Нина Павловна, об этом можно много говорить и спорить. Но если так — тем хуже. Можете ли вы предугадать, не хлынут ли вдруг через открытую нами дыру в наш мир грандиозные потоки какой-нибудь неведомой силы, и чем они могут грозить нам и, быть может, всему человечеству? Корсунская упрямо качала головой. Глаза ее потемнели, голос зазвенел напряженно: — Бросить работу? Остановиться в самом начале пути? Это немыслимо! Вы шутите, конечно. Работать осторожно, шаг за шагом двигаясь вперед, — я понимаю… Но отказаться от нее? Сейчас? Это — невозможно, нелепо, об этом думать нельзя! Если вы это сделаете. Я не знаю… Я завтра же уеду отсюда, я все брошу. Мешканцев сидел молча, сгорбившись и глядя на девушку исподлобья. Да, она, конечно, уедет. И тогда что же? Без нее, без дела, которому отдано пять лет упорного труда это значило потерять вообще смысл и цель жизни.20 июля. Работа по приведению в порядок аппаратуры почти закончена. Еще день-два, и можно будет опять начать опыты. Но я не знаю, хватит ли у меня решимости в последний миг включить ток и привести в действие эту страшную машину.
21 июля. Сегодня я оказался невольно весьма нелюбезным хозяином, настолько нелюбезным, что только сумбур событий и впечатлений, закруживший меня, может служить оправданием. В сущности я несомненно сейчас не могу утверждать, что нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Вчера я дошел до того, что, выйдя вечером освежиться из дому, побрел бесцельно по городу и в конце концов очутился перед окнами дома, где живет Нина Павловна, и, прячась в темном углу, через улицу, высматривал, не появится ли в освещенном окне ее силуэт. Ну, Дмитрий Александрович, кажется, ты допрыгался. Гимназистом, в давние годы, ты тоже проделывал подобные штуки, и то сгорел бы со стыда, если бы кто-либо узнал о твоих подвигах. А ведь сейчас у тебя половина головы седая. Да… о чем это я хотел сказать? Ага, вспомнил о своей нелюбезности в роли хозяина… Сюда приехал из Ленинграда мои давний приятель, товарищ по университету, ныне профессор, член академии, член какой-то коллегии и еще чего-то, милейший человек, немного шумный и суетливый. Вначале я очень обрадовался его приезду, словно струей свежего воздуха пахнуло из раскрытого окна в душную комнату. Но уже через час меня охватило сложное чувство беспокойства, зависти, угрюмой досады. Он засыпал меня ворохом новостей и вопросов. — Ты читал новую статью Освальда относительно перспектив фиксации азота? — Слышал о новой книжке, которую выпустил Валентинер о квантовой теории? — А знаешь, что Молохов получает кафедру в Самаре? Я молчал. Я ничего не слышал, ничего не читал, ничего не знал, кроме своего маленького уголка. Я был обитателем пустынного острова. Кедров внимательно посмотрел на меня и сказал вдруг понизив голос: — Да что ты, батенька, тут как в берлоге законопатился? Да и вид у тебя… гм, гм, довольно похоронный. Ты что, болен, переутомился или, может быть, влюблен на старости лет? — И он подмигнул в сторону Нины Павловны, сидевшей над какими-то вычислениями за дальним столом. И тут меня прорвало. Я запальчиво заявил, что совершенно здоров, что мои личные дела нимало никого не касаются, и вообще наговорил столько резких и диких вещей, что сейчас без стыда не могу об этом вспомнить. Бедняга Кедров завял, просил извинения, начал говорить о каких- то пустяках и при первой возможности исчез. Окно захлопнулось, и я опять в душной комнате.
22 июля. Пришла телеграмма из краевого центра. Меня вызывают немедленно для срочного доклада о ходе работ. Думаю, что дело не в этом. Там пронюхали о моих опытах. Я давно этого боялся. Надо ехать, иначе может выйти крупная неприятность. Но я безумно боюсь каких-то новых событий — сам не знаю наконец чего. Аппараты сегодня установлены, и машина начала работать.
7
Мешканцев долго колебался, прежде чем решиться на поездку; смутная тревога сковывала волю. Накануне отъезда он, как обычно, работал в лаборатории с Ниной Павловной. Приборы действовали исправно, но ничего особенного не наблюдалось. Очевидно, результат их работы нарастал с течением времени, а не был мгновенным. Дмитрий Александрович сообщил девушке о предстоящем путешествии и просил быть педантично осторожной. — А лучше бы на это время остановить работу, — сказал он наконец нерешительно. — Не доверяете знанию и опытности бестолковой студентки? — засмеялась Корсунская. — Нина Павловна, вы знаете, о чем я говорю… Мне грустно, что вы хотите отделаться шуткой… — Ну, простите, — она примирительно протянула руку. — Обещаю быть умницей и не идти дальше того, что мы делали вместе. А в глазах ее зажглись огоньки, словно у школьника, вырвавшегося из-под опеки взрослых. Но Мешканцев ничего не заметил. Прощаясь перед отъездом на пристани, он долго держал пальцы Корсунской в своей руке и неожиданно для самого себя поднес их к губам. Девушка слегка покраснела и выдернула руку, а он, не ожидая ее слов, отвернулся, сгорбившись, и зашагал по дороге к морю. На повороте он оглянулся: в сумерках белела еще неподвижная стройная фигура на фоне темной зелени сада. Вдали нетерпеливо ревел пароход. Путешествие было для Мешканцева невыносимой пыткой. Тревога росла с каждым часом. Ночью, среди мучительной дремы, он вскакивал несколько раз, обливаясь внезапной испариной. Утро принесло некоторое облегчение, а попав к полудню в Окружной Отдел, он в сутолоке нужных и ненужных дел забыл на время о своих страхах. Он оказался прав в своих предположениях: здесь кое-что подозревали о его работах, веденных под сурдинку, и пришлось изворачиваться, чтобы выгородить себя и обеспечить возможность их продолжения. На следующий день он принял участие в заседании технической комиссии. Надо было пробыть здесь еще суток двое. Но уже к вечеру его охватило вновь такое беспокойство, что он не находил себе места. Утро он встретил совершенно больным человеком. В 10 часов, вместо того, чтобы идти на очередное заседание комиссии, он бросился на пристань и взял билет на отходящий пароход. Десятичасовой переезд показался ему бесконечным; он бегал по верхней палубе, как одержимый. Глядя на восток, он впивался руками в поручни, потрясал их лихорадочным движением и снова метался взад и вперед. Когда в темноте ночного неба зажглись над морем огни города, Мешканцев готов был броситься головою вниз в черную массу воды; ему все казалось, что пароход еле движется. Наконец, пыхтя машиною, разрывая ревом ночную тишину и гремя цепями, он подошел к берегу. Мешканцев еле дождался, пока перекинули сходни, и бегом бросился к заводу. Уже издали ему показалось, что в лаборатории что-то неладно. В двух окнах средней комнаты горел свет, но он падал на камни мостовой странным багровым отблеском; одно из стекол было выбито, и только через него прорывался в ночную тьму пучок белого света. Мешканцев остановился, с трудом переводя дыхание, у двери; она оказалась запертою изнутри; он постучал — ему ответил слабый стон, и снова наступила томительная тишина. Он начал стучать кулаками — еще раз послышался стон, но дверь не отворяли. Вне себя Мешканцев налег на нее всем телом; крючок расскочился, и он ворвался в комнату. Он не сразу узнал привычную обстановку лаборатории. Пол, стены окна, все предметы в комнате были покрыты красноватым налетом знакомого уже пепла. Казалось, будто все вокруг обрызгано кровью. В этом зловещем тумане Мешканцев не сразу увидел, откуда неслись поразившие его стоны. И только когда глаз привык к странному освещению, он различил в углу, около выключенного рубильника, скорченную у стены фигуру. Одной рукой она держалась за стену, ощупывая ее жестом слепого человека, в другой сжимала странной формы предмет, похожий на осколок зеленоватого камня. Скорей по голосу, чем по чертам искаженного страданием лица, он узнал Корсунскую в этом жалком комочке, покрытом слоем красной пыли. Мешканцев бросился к ней и схватил на руки вздрагивающее тело. — Нина, Нина, — вырвалось у него стоном. Невидящие глаза медленно повернулись в его сторону, но в них не отразилось ничего. Губы задрожали, и снова тихий стон сорвался с них. — Нина, — рыдал Мешканцев, прижимая к себе девушку. — Что с вами? Что здесь случилось? Видно было, как глаза опять искали безуспешно, поворачивая во все стороны слепые зрачки, и как с трудом разжались запекшиеся губы. — Это вы, Дмитрий… Я вас не вижу… Тьма вокруг… Она с трудом перевела дыхание, потом вдруг вся затрепетала, и на лице изобразился дикий страх. — О, если бы вы видели… Это такой ужас… Бегите отсюда. Они опять придут… — Кто придет, Нина? Что с вами? — Бегите, уничтожьте все… — Она задыхалась и хватала руками воздух. Мешканцев оглянулся. Ему показалось, что в красноватой полутьме копошатся странные тени. Сжимая в объятиях девушку, он направился к двери, подгоняемый страхом, но едва сделал несколько шагов, как судорога пробежала по телу, лежавшему у него на руках, и оно повисло вдруг безжизненной ношей. Он остановился, охваченный ужасом, и прислушался. Дыхания не было, сердце не билось. Мешканцев обвел лабораторию дикими глазами. Он медленно положил холодеющее тело на стол, и взгляд его упал на предмет, который сжимала безжизненная рука. Осколок странного вида был весь испещрен знаками и черточками не то неведомыми письменами, не то следами работы вековых стихийных процессов. Он попробовал вынуть камень из мертвой руки, но коченеющие пальцы его не отпускали. Тогда он тихо поцеловал прекрасный, уже холодный лоб и сел, сгорбившись, в кресло, окруженный гнетущей тишиною. Мысли неслись скачками, кружились, путались и кувыркались, как канатные плясуны в хороводе смерти. Трудно было уследить за их лихорадочной сменой. Одно было ясно: сегодня кончилось все — и работа, и любовь, и с ними сама жизнь. Человечество еще не имело права приподнимать эту завесу. Вещи имеют свою логику. Когда-нибудь, через сотню лет, когда человек будет твердо стоять на ногах, когда разум его развернется в неведомом доныне направлении, тогда он смело откроет эту дверь, в которую случайно заглянули раньше времени двое земнородных, — и войдет в новый мир твердой поступью. А сейчас эта тайна была тем же, как если бы древнему человеку, едва научившемуся обращаться с огнем, попали в руки огромные запасы пороха. Сколько жертв таких преждевременных дерзаний принесло человечество за тысячелетия своей истории. А сейчас такой жертвой лежала здесь прекрасная девушка, заглянувшая туда, куда не проникал еще взор рожденных на земле. Но больше этого не будет. Он, Мешканцев, этого не допустит. Он схватил тяжелый рычаг от насоса и, переходя от прибора к прибору, с какой-то сладострастной радостью ломал, бил и коверкал все, что поддавалось силе рук человеческих. Потом сел около стола и застыл, как изваяние. Когда утром, обеспокоенные тишиною в лаборатории и странным видом сквозь разбитое стекло, пришли люди, они увидели совершенно седого человека, сидевшего сгорбившись в кресле, среди хаоса обломков и осколков аппаратуры, покрытой слоем багрового пепла. На вопросы вошедших он засмеялся и сказал, таинственно приложив палец к губам: — Друзья, я только вам сообщу тайну: они скоро придут. Они — хитрые, они вернутся… Это она мне сказала… — и он указал на стол, где лежал труп девушки, сжимая в руке осколок камня, покрытого загадочными знаками.
 БОЛЕЗНЬ ТИММИ
Рассказ
БОЛЕЗНЬ ТИММИ
Рассказ
Тимми заболел в пятницу утром. Маленькое пояснение: Тимми отнюдь не чахоточная мартышка Зоосада, тоскующая по своей знойной родине, и не джентльмен с Пикадилли, занятый шесть дней в неделю игрою в гольф. Тимми просто Тимофей Павлович Вязигин, молодой человек лет двадцати от роду, здоровый и жизнерадостный, студент первого курса. Тимми, так звали его любвеобильные родители, и сам Тимми тут не при чем.
Заболел Тимми какою-то странной болезнью, перед которой оказалась бессильна медицина. Началось дело с того, что он попросту ослеп, и ослеп внезапно, молниеносно во время игры в футбол, в момент яростного удара по мячу, в результате которого попал под увесистые каблуки своих партнеров.
Бедняга лишился чувств, и когда уже дома очнулся под причитания домочадцев, то оказался погруженным в абсолютный мрак. Врачи опасались паралича зрительного нерва и полагали, что дело из рук вон плохо. Но Вязигин-отец не хотел сдаваться. Он лично повез сына в Москву. Здесь знаменитый окулист нашел, что положение не так уж безнадежно. Он взялся за лечение. Тимми поместили в темную комнату, и начались уколы, примочки, прижигания. Мучительная процедура длилась три месяца, в течение которых Тимми успел потерять половину своего веса и чуть было не умер от скуки, несмотря на заботливый уход окружающих. Лечение дало результат. Понемногу слабый свет красной лампочки, зажигаемый сначала на минуту, потом на две, на три и так далее, стал озарять больному новый мир. Именно новый!
Когда курс лечения закончился, то выяснилось чрезвычайно странное обстоятельство. Тимми не испытывал решительно никаких болевых ощущений, и был здоровым человеком, но все окружающее превратилось для него в дикий раздражительно-пестрый калейдоскоп. И что хуже всего, помимо обычных цветов, знакомых глазу, в этот пестрый ковер ворвались новые незнакомые, которым нельзя было подыскать названия. Камни на мостовой походили на куски разлагающегося мяса; лица людей сделались не то зелеными, не то фиолетовыми, а вид собственного тела доводил его чуть ли не до тошноты. Однако Тимми, обрадованный, что к нему все же вернулось кое-какое зрение, не жаловался, в ожидании, что это глупое ощущение постепенно пройдет, и он увидит окружающие предметы окрашенными в привычные семь цветов радуги. Но время шло, и на исходе пятого месяца знаменитый окулист развел руками и заявил, что он бессилен перед этой новой, совершенно непонятной формой многообразного дальтонизма.
Вязигин-отец порешил везти Тимми за границу к берлинским профессорам, благо Вязигину представилась возможность получить командировку в Германию.
* * *
Берлин был, как Берлин: шумный, громадный, словно распухший от переполняющего его грохота и суеты человеческого муравейника. Но для Тимми, попавшего в этот оглушающий гомон после тихих ленинградских мостовых, он показался просто Бедламом. Шальная пестрота красок, искажавшая действительность, превращала улицы в трагически смешной карнавал дурацких масок, сменявших друг друга в беспрерывном мелькании. Отец старался рассеять больное состояние Тимми, показывая ему все, что могло заинтересовать беднягу. Отдыхал больной только в концертах или опере, когда, закрыв глаза и не глядя на кривлявшихся на эстраде арлекинов, отдавался власти звуков. Консилиум немецких профессоров совершенно растерялся и заявил, что только длительное наблюдение обещало надежду найти причину и характер этой удивительной болезни. Обнаружилось новое обстоятельство, окончательно поставившее в тупик собрание знаменитостей. Тимми стал видеть насквозь. Это было нечто уж совершенно неслыханное. В первый раз это обнаружилось тогда, когда Тимми вертел в руках только что полученное с родины письмо. — Какая скверная бумага у нас идет на конверты, ворчал он раздражительным тоном. — А в чем дело? — отозвался отец. — Да, помилуй, все написанное видно насквозь, неужели мать не могла найти ничего лучше этой дряни! Вязигин в недоумении взял в руки письмо. — Послушай, но ведь он из самой плотной бумаги, — я по крайней мере решительно ничего не вижу.
— Ну что ты рассказываешь? Все можно разобрать, как через кальку, — и Тимми прочел несколько фраз. Отец вскрыл конверт, — он оказался из толстой добротной бумаги с цветной подкладкой. Однако строки, прочитанные Тимми, в точности отвечали тому, что писали мать и сестра. Некоторое время отец и сын смотрели друг на друга в немом изумлении, обоюдно подозревая друг друга в обмане. Но очень скоро это удивительное обстоятельство выяснилось с полной очевидностью. Тимми видел насквозь. Не только толстая бумага, картон, но даже деревянные стенки не представляли больше преграды для его глаз. Правда, очертания замкнутых за ними предметов или строчка письма были видны неясно, как будто слегка размазанными или подернутыми туманом, но все же они были несомненно видны. Бедному Тимми противно было садиться за письменный стол, противно смотреть на самые обыкновенные вещи. Шкаф, буфет, стол, все это казалось ему сделанным из грязноватого полупрозрачного стекла, за которым неясно громоздились разнообразные предметы, скрытые от постороннего глаза. Тимми замечал даже, что просвечивают человеческие тела, не говоря уже о том, что он видел их голыми, как бы завернутыми в пестрые вуали. Профессор, под наблюдением которого лечился Тимми, был удивлен. Вначале он даже обиделся, подозревая дерзкую шутку и всяческими способами старался поймать своего пациента в умелом шарлатанстве. Но Вязигин замечательно читал записки, перечислял содержимое замкнутых шкатулок и с честью вышел из всех предложенных ему испытаний. Профессор вынужден был признаться, что он ничего не может понять, и что подобной болезни не существует вообще в диагностике. На это Тимми крепко выругался, а затем заявил, что ему совершенно безразлично, существует ли эта болезнь в диагностике, ибо для него гораздо важнее то, что она существует в действительности, и затем спросил, не сможет ли профессор порекомендовать ему более сведущего специалиста. На этот раз настроение у больного было чрезвычайно удрученное. Два дня сидел он безвыходно в комнате, отказываясь от пищи и приводя в отчаяние Вязигина-отца, умолявшего его ехать в Дрезден. — Говорят, профессор Оттен делает там настоящие чудеса в своей клинике, — говорил он, утешая сына. — Шарлатаны они все, — отвечал всхлипывая тот, глядя в сторону, чтобы не видеть отца в том нелепом виде, в каком представлялись ему все окружающие. Все же на просьбу отца Тимми в конце-концов сдался, согласившись ехать в клинику Оттена. — Но это в последний раз, — сказал он отцу: — если и тут ничего не выйдет, ей богу, я застрелюсь… Надоело мне смотреть на эту дурацкую арлекинаду и чуть ли не наблюдать пищеварение в желудках своих ближних… Довольно, не хочу больше. Накануне отъезда в Дрезден Тимми вышел побродить по улицам, и утомленный, присел на скамейку в одной из тихих аллей Тиргартена, вдали от шумной толпы. Через несколько минут перед ним остановился высокий молодой человек. Вежливо приподняв шляпу, он опустился рядом с Тимми на скамью и закурил сигару. — Не угодно ли? — не много погодя, сказал он, протягивая Тимми щегольской портсигар. Тот подозрительно покосился на соседа и поморщился, но из приличия взял сигару. — Вы, вероятно, иностранец? — как бы вскользь сказал молодой человек еще через несколько минут. — Почему вы думаете? — недовольно проворчал Тимми. Говоривший улыбнулся углами рта и выпустил клуб дыма. — О, это нетрудно угадать. Немца я узнаю в миллионной толпе наверняка… А вы поляк, вероятно? — Нет, русский. — Да что вы? И давно из России? — Около месяца. — Простите мне мою назойливость, но это необыкновенно интересно для тех, кто знает вашу родину только по газетам. Ведь мы — точно жители разных планет, не правда ли? Мы столько любопытного и невероятного читаем ежедневно о вас, что хочется выслушать свидетельство очевидца. И собеседник засыпал Тимми сотней вопросов на самые разнообразные темы. Они были настолько нелепы, что Тимми, пожимая плечами, то досадовал, то смеялся и часто недоумевал, не шутит ли новый знакомец. Но в конце-концов сам увлекся и говорил, говорил без конца и о России, и о себе самом, рассказал о том, что привлекло его в Берлин, о своей странной болезни, о своих надеждах и разочарованиях. Собеседник сочувственно качал головою, ахал, изображал на подвижном лице крайнюю степень изумления и разжигал собеседника новыми вопросами. — Но почему вы так огорчаетесь? — спросил он, — ведь это очень интересно — такое состояние; оно дает вам громадное преимущество перед простыми смертными. Тимми зло рассмеялся. — Да, вы думаете? А какое же собственно в этом преимущество? Вы полагаете, это очень весело, например, видеть; что у вас вот не хватает нижней пуговицы на жилете, у другого какая-нибудь необыкновенно волосатая грудь, у третьего еще что- нибудь совсем неудобно сказуемое… А эти нелепые краски, зеленые лица, красные волосы… Хотел бы я, чтоб вы побыли на моем месте хоть один день. — Гм, да, — немец невольно схватился рукой за указанное место недостающей пуговицы и пощупал его сквозь пиджак: — замечательно любопытно… замечательно. И так-таки читаете замечательные письма, считаете деньги в закрытых кошельках? — Не совсем так… Но в этом роде… — Да, да, я понимаю… Расплывчато, как в тумане, но все же… И вы собираетесь теперь в Дрезден? — Да ведь надо же что-нибудь делать. — Ну, разумеется… Но вы знаете, Оттен… Как вам сказать… его известность сильно раздута. Если уж говорить о серьезном специалисте… — И он пустился в рассказы о берлинских знаменитостях медицинского мира, дал несколько советов, как себя с ними держать, рассказал пару анекдотов, так что Тимми и не заметил, как в пылу разговора они поднялись со скамьи, прошли до главной аллеи, выбрались на улицу и в конце-концов очутились в многолюдном ресторане, где и устроились за отдельным столиком в углу. Немец потребовал рейнского, чтобы выпить за новое знакомство. Он говорил не переставая. Тимми что-то ел, цедил глотками ароматное вино, курил какие-то необыкновенные крепкие сигары и был в странном состоянии приятного расслабления. Потом он вдруг почувствовал себя скверно. Дальше он помнил только, что спутник вел его куда-то под руку, бережно поддерживая; кажется, они сели в автомобиль, а затем все путалось в мутном тумане, в котором мелькало низко наклоненное женское лицо, с хищно приподнятой верхней губой. Когда Тимми очнулся, он увидел себя лежащим на оттоманке в небольшой комнате, напоминавшей гостиную в маленькой буржуазной квартире. Незнакомая обстановка сбила его с толку, и он некоторое время не мог собрать мыслей и сообразить, где он и зачем сюда попал. Странная истома держала в плену мозг и волю, — лень было шевельнуть пальцем. Когда же наконец, поборов себя, Тимми сделал движение, чтобы встать, — дверь из соседней комнаты распахнулась, точно там только этого и ждали. Появился его недавний собеседник в сопровождении нарядно одетой женщины, лицо которой показалось Тимми странно знакомым. Одетый по-домашнему в полосатую пижаму, немец казался теперь совсем другим. Широко расставленные глаза со странным пристальным взглядом, оттопыренные уши, плоское лицо с бесцветными губами делали его отталкивающим. Он улыбнулся прежней холодной усмешкой и пожелал Тимми доброго утра. Тот, как ужаленный, вскочил было с оттоманки, но сейчас же испуганно нырнул под одеяло, вспомнив о присутствии дамы, стоявшей у окна и молча глядевшей на улицу. — Как утро, разве я провел здесь ночь? Что же со мной случилось? Немец продолжал улыбаться. — Да, вы вчера почувствовали себя дурно, и я увез вас к себе. — Я очень вам благодарен, — сконфуженно пробормотал Тимми, — но… вы мне разрешите теперь одеться и вернуться домой. Отец, вероятно, страшно беспокоится моим отсутствием… — Боюсь, что вам придется еще некоторое время испытывать терпение вашего батюшки… — Но я чувствую себя теперь совершенно здоровым. — Возможно, но дело вовсе не в этом… — Так в чем же? — Тимми с удивлением смотрел насобеседника. В это время женщина, стоявшая у окна, вдруг повернулась в комнату и засмеялась, и Тимми сразу вспомнил, где он видел этот хищный рот со вздернутой верхней губой, обнажавшей белые, крепкие зубы, и веселые, дерзкие глаза. Это было лицо, виденное им не то в бреду, не то во сне сегодня ночью. Ему стало вдруг почему-то не по себе. Он молча переводил взгляд с мужчины на женщину, ожидая ответа. Она, продолжая смеяться, сказала несколько слов на непонятном языке, и товарищ ее обернулся к Тимми. — Пожалуй, в таком положении вам действительно не совсем ловко объясняться. Оденьтесь, — тогда поговорим. — Вслед за тем оба вышли из комнаты. Тимми с лихорадочной поспешностью оделся и бросился к двери, но на пороге в позе почти угрожающей снова появился странный хозяин со своей спутницей. Он запер за собою дверь, повернул ключ и положил к себе в карман. Тимми застыл на месте с разинутым ртом и выпученными глазами. — Что это значит? — только и смог он пробормотать, следя глазами за вошедшими. Иностранец подошел к столу и уселся, закинув нога на ногу, между тем, как женщина отошла к окну. — Послушайте, многоуважаемый, — заговорил этот странный человек, — прежде всего, сядьте и не волнуйтесь. Вы сейчас услышите не совсем обыкновенные вещи, но… право же жизнь только тогда и имеет цену, если в ней встречается что-либо незаурядное, не правда ли? Тимми молчал. — Начнем с того, что познакомимся. Кто вы, я уже знаю. Что касается нас, — он сделал жест в сторону дамы, — то мы принадлежим к тому разряду людей, к деятельности которых общественная мораль и в особенности полиция относятся с некоторым, я бы сказал предубеждением… Понимаете? Тимми ничего не понимал, кроме того, что он попал в какую- то скверную историю. — Раньше мы смогли бы быть баронами, графами, владетельными князьями, жить в укрепленных замках и совершать свои подвиги открыто. Нынче мода другая. Приходится идти в ногу с веком и по возможности прятать концы в воду. — Так вы?!. — Тимми захлебнулся словом, которое страшно было произнести. Иностранец рассмеялся. — Ну да, — бандиты, грабители, называйте, как хотите, — от слова не станется. Вас удивляет участие в подобном деле этой милой леди. Дорогой мои, вы безнадежно отстали. Разве вам неизвестны подвиги Ребекки Роджерс в Техасе, специализировавшейся на ограблении банков, или знаменитой мисс Джером Пфаффор, этой необыкновенной женщины с лицом мадонны и сердцем льва, кончившей дни на электрическом стуле за морские разбои в Сан-Франциско. Что делать. Женщины всюду пробивают себе дорогу… — Послушайте, вы шутите, — пролепетал Тимми, чувствуя, что у него кружится голова. — Да нет же, нисколько, — уверяю вас, я очень серьезен. Так вот видите ли, я повторяю, что приходится следить за веком и использовать все, что дает прогресс науки и техники во всех областях. Вам и не снится, какие усовершенствования сделаны в последнее время в нашем деле. У нас, например, имеется целая лаборатория, очень недурно поставленная, — уверяю вас; небольшая механическая мастерская и так дальше. Ну, а так как в нашей профессии бывает необходимо знать то, что скрыто от обыкновенного глаза человеческого, то вы понимаете, какой находкой для нас оказалась встреча с вами. — Так значит, моя болтливость во всем виновата? — Ошибаетесь. — Откуда же вы обо мне узнали? — А статья в газете, в которой описывалась ваша странная болезнь, как необыкновенный патологический случай… — Статья? Кто же ее напечатал? — Боже мой, да ваш же врач, конечно. Неужели вы ее не читали? Тимми сжал кулаки и про себя посулил болтливому профессору тысячу всяческих неприятностей. — Так что же вам от меня нужно? — спросил он упавшим голосом. — Мы предлагаем вам вступить членом-корреспондентом, так сказать, в наше братство. — Мне? — Тимми даже привскочил на своем стуле. — Ну да, вам. И на очень выгодных условиях. — Мне? Сделаться бандитом, то-есть… извините, ради бога… — Ничего не стесняйтесь, — дело не в словах. Именно это я вам и хотел предложить. Понимаете ли, читать нужные нам запертые или запечатанные документы, определять содержимое шкатулок, шкафов, портфелей… Боже мой, — это великолепно. А вы говорили, что не находите преимуществ в вашем положении?.. Тимми молчал несколько минут, собираясь с мыслями. — А, если я… откажусь? — сказал он наконец, глядя в сторону. Бандит вынул из кармана тяжелый браунинг, положил его ручкой к себе и стал гладить длинными холеными пальцами его вороненую поверхность. — Я вас предупреждал, что вы услышите необычайные вещи… — Но дайте ж мне хоть подумать… — Нет, милейший, думать не о чем… Надо делать. И не дальше, как сию минуту. — Что это такое? — Это документ, очень интересный с нашей точки зрения. Он попал к нам в руки на полчаса. Как, это вас не касается. Его можно было бы конечно вскрыть и потом запечатать, но это потребует много времени. А благодаря вам дело упрощается. Тимми побледнел и пробормотал нетвердым голосом: — Я не хочу быть участником ваших преступлений. Бандит поднял пистолет, и черное отверстие дула уставилось в лоб Тимми. — Не дурите, милейший. Ведь вы понимаете: после того, что мы вам уже рассказали, для нас другого выхода нет: или связать вашу судьбу с нашей или… пустить в дело эту птичку. Тимми вовсе не был героем. Зияющая дыра револьвера оказала для него решающее впечатление. — Давайте, — сказал он хриплым голосом. Иностранец положил перед ним конверт, и бедный Тимми стал разбирать мутные очертания отбитых на машинке знаков, просвечивающих сквозь плотную бумагу. Это было секретное извещение банка о перевозке завтра крупной суммы денег с указанием маршрута движения и мер охраны. Лицо бандита оживилось. — Ну, вот видите, — сказал он одобрительно: — я говорил, что это интересная бумажонка. — Ну, пока до свидания; иду использовать ваши сведения. Постарайтесь не скучать без меня. Впрочем, вы останетесь с дамой, — он рассмеялся, фрейлейн Магда, поручаю вам нашего гостя. — Бандит вышел, фрейлейн Магда закрыла за ним дверь, и, вернувшись к столу, любезно предложила Тимми сесть, предварительно положив подле себя маленький никелированный револьвер. Тимми подошел к окну. Глубокий провал в мрачный внутренний дворик не дал ему никакой нити. Только что прошел дождь; по небу неслись еще разорванные тучи, сбоку еще невысокое солнце пронизывало уже их широкими снопами света. — Высоко. — Четвертый этаж, — насмешливо сказал сзади голос Магды. Тимми обернулся. В это время раздался резкий звонок где-то в глубине квартиры, вероятно у входа. Тюремщица его подошла к двери и приотворила ее. Послышался мужской голос, резкий и бранчивый. Из-за полуоткрытой створки Тимми увидел темный коридор, в конце которого была небольшая прихожая, и прямо против чуть притворенная дверь, в которую только что вошел человек. Отсюда очевидно был выход на лестницу. Фрейлейн Магда говорила с вошедшим, придерживая одной рукой ручку двери, а из другой не выпускала револьвер. Тимми взглянул еще раз в окно, потом в коридор и решился. Отойдя к стене для разбега, он внезапно стремглав бросился к двери и изо всей силы распахнул ее наружу. Крик боли в темноте коридора показал, что удар не пропал даром. На женщину, опрокинутую его стремительным натиском, Тимми не оглянулся и бурей помчался вперед. Сзади раздались вопли, щелкнул выстрел, пуля отбила штукатурку у самой головы. В одно мгновение Тимми оказался у выходной двери и толкнул ее ногой. Он не ошибся, — перед ним была лестница. Не оглядываясь назад, прыгая через несколько ступеней, он летел вниз.
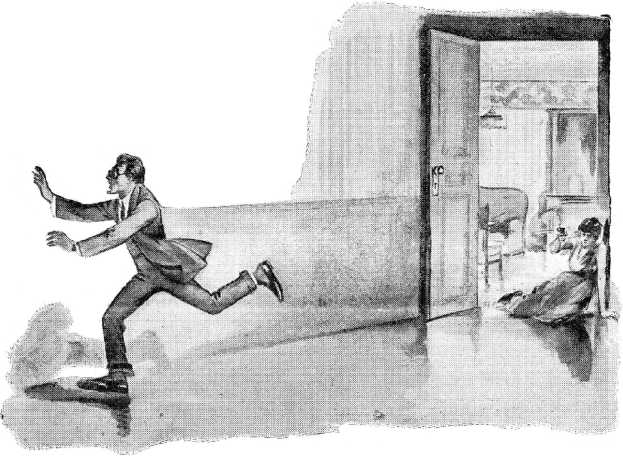
Вслед ему неслись озлобленные крики и топот ног. На нижних ступеньках он со всего маху налетел на поднимавшегося вверх человека. Только на секунду мелькнуло перед ним плоское лицо Роберта. Не останавливаясь, Тимми опустил сжатый кулак между широко расставленных глаз и перепрыгнул через свалившееся под ноги тело. Вот и конец лестницы. Маленькая площадка, еще дверь, — он задержался на полсекунды открывая ее, — дальше улица, вернее узкий, глухой переулок. Тимми перескочил две ступеньки подъезда и повернул направо по мокрому от дождя асфальту. Тяжелые шаги преследователей нагоняли его. Он выглянул вперед, — в просвет улицы над крышами домов, на фоне туч стояла пестрой аркой яркая радуга и в последний момент Тимми успел заметить, что она занимала на небе гораздо более широкую полосу, чем обыкновенно, что внутри многоцветного свода переливались еще и еще какие-то странные краски, похожие на те, которыми пестрел для него мир с момента его странной болезни. Эта картина осталась у него в мозгу, как последнее яркое впечатление. В следующий момент он споткнулся в своем сумасшедшем беге на уличную тумбу и со всего маху грохнулся на асфальт, чувствуя, как настигают его преследователи. Страшный удар по голове оглушил его, и он потерял сознание. Очнулся Тимми не очень скоро, это он и сам чувствовал. И когда пришел в себя, новая странная история, приключившаяся с ним, которую он не без труда вспомнил, казалась далёкой, отдаленной чуть не годами. Тимми думал сначала, что он видел сон. Но он шевельнулся и, сам не зная, почему, застонал; тогда теплая рука легла ему на лоб и знакомый голос сказал. — Что, голубчик? У Тимми вдруг к горлу подкатил сладкий ком, и он сжал руку отца. — Папа, папа, я вижу тебя настоящим, ты уже не зеленый и не фиолетовый, и комната синяя, — ведь правда синяя? — Да, милый, синяя!.. — И потолок белый!.. — И потолок белый. И Тимми заплакал радостными, тихими слезами. С этого дня его выздоровление пошло быстрыми шагами и отец, не боясь взволновать его воспоминаниями о пережитом, рассказал то, что знал. Два месяца тому назад Тимми был найден случайными прохожими в одном из глухих переулков Берлина, около Люстгартена, с разбитой каким-то тупым предметом, головой. Его считали мертвым, но в больнице, куда свезли Тимми, он обнаружил признаки жизни. На другой день вызвали отца по адресу, найденному в бумажнике. У Тимми открылось воспаление мозга, как следствие сотрясения, полученного при ударах. Два месяца он не приходил в себя, если не считать мимолетных проблесков сознания. Наконец, крепкий организм взял свое и вот теперь вместе с выздоровлением мозга исчезла и таинственная болезнь, повергавшая Тимми в такое уныние. Мир приобрел прежний вид, и синее небо снова улыбалось зеленым садам под золотыми лучами горячего солнца. — А Роберт и Магда? — спросил Тимми, вспоминая последний день, оставшийся у него в памяти. — Это кто же такие? И Тимми рассказал о своем приключении, кончившемся таким неожиданным финалом. Отец ничего не знал. Вспомнил только одно: что как раз около этого времени весь Берлин был взволнован необычайно смелым нападением на автомобиль, перевозивший крупную сумму денег одного из банков на окраину города. Были убитые и раненые. Бандиты похитили около миллиона марок и исчезли бесследно. Розыски их до сих пор не увенчались успехом. — Но как же меня они оставили все-таки в живых? — удивился Тимми. — Вероятно, сочли мертвым. Ведь голова твоя была совершенно разбита. А может быть, помешали, трудно сказать. — Теперь еще одно, — сказал Тимми задумчиво, — почему я видел такую странную радугу? — Ну, это уж не важно, — отозвался Вязигин, — раз ты освободился от своей болезни. — Нет, — покачал головой сын, — мне хочется разгадать эту загадку. Когда он окончательно оправился и стал на ноги, первый его визит был к профессору, с которым он расстался так недружелюбно. Профессор и на этот раз встретил Вязигина чрезвычайно сухо. — Что вам угодно, молодой человек? Как будто мы не собирались больше встречаться. Посетитель примирительно протянул руку. — Не сердитесь, профессор. Я сознаюсь, что был не прав. А сегодня я явился к вам уже не в качестве пациента. Я совсем здоров. — Как здоровы? Вы вылечились? — Да, и очень радикальным средством. И я уже больше не считаю пуговиц на вашем белье и денег в вашем кошельке. Я пришел к вам за решением загадки, которая не дает мне спать. И Тимми рассказал вскользь о своем приключении. Профессор сидел несколько минут потирая рукой лоб, потом вскочил с места и оглушительно захохотал. — Молодой человек, что же вы мне раньше этого не сказали. Теперь для меня все совершенно ясно. — Да? — Ну, конечно. Необычайная гипертрофия зрительного ощущения. Расширение диапазона лучей, воспринимаемых глазом, — вот в чем дело. Мы, нормальные люди, видим световые лучи определенной длины волны, в сравнительно узких пределах. От и до. Не больше и не меньше. К остальным лучам с более длинными и более короткими волнами наш глаз невосприимчив, хотя они, разумеется, существуют. — Ага! — Понимаете? Ваша болезнь заключалась в том, что сетчатка вашего глаза стала ощущать огромное количество лучей с более короткой волной. — Почему именно с короткой? — Да потому, что вы видели продолжение радуги не в наружную сторону красных лучей, а внутрь, в сторону фиолетовых именно с более короткой волной. Вот эти-то лучи, смешиваясь с лучами видимого спектра, создали для вас целый ряд новых цветов и, накладываясь на старые, спутали и их. Ведь вы знаете, что если смешать желтую краску с синей, то вы увидите зеленую. Таким же образом разные комбинации видимых нами лучей с невидимыми для обычного глаза, но ощутимыми для вас, создали пеструю картину, так огорчавшую вас. — Ясно. Ну, а почему же я стал каким-то ясновидящим. Почему я стал видеть насквозь? — И это вполне понятно. Повторяю, пространство вокруг нас наполнено всевозможными лучами. Мы видим из них лишь небольшую долю. При этом лучи с очень короткой длиной волны имеют свойство проникать через многие тела, особенно органического происхождения. Таковы, например, лучи Рентгена. Мы ловим их на фотографическую пластинку или на особый экран, а вы их видели собственными глазами. Эти-то лучи, отражаясь от более плотных предметов, от строчек, написанных чернилами, просвечивали сквозь различные оболочки и давали очертания, улавливаемые сетчаткой ваших глаз. — Но откуда же они берутся, эти лучи с короткой волной? — Я вам говорю: оттуда же, откуда и все остальные, от многих источников света. А наиболее жесткие, как говорят, то-есть наиболее проницаемые, знаменитые лучи Милликена, идут откуда-то из космических пространств. Возможно, что именно их вы видели, когда читали письма в запечатанных конвертах. Тимми почудился какой-то намек в последних словах, — он вспомнил ограбление банка, в котором он сыграл такую странную роль, и нахмурился. Но радость его была слишком велика, чтобы надолго поддаваться мрачным настроениям. — Почему же, однако, все это так внезапно прошло, профессор? Доктор развел руками. — Сильное сотрясение, самое воспаление мозга могли произвести изменения в мозговых центрах, отозвавшиеся на работе ваших глаз. — Скажите, а может это повториться? Профессор пожал плечами. — Почем я знаю? Я впервые встречаюсь с такой болезнью. Тимми встал и начал прощаться. — Так значит, мы видим мир таким, как он есть, только потому, что наши глаза устроены так, а не иначе. А если бы они были у всех такими, как у меня во время болезни… — То это не называлось бы болезнью, и мир выглядел бы совершенно иным. Ведь даже дальтонисты видят его не таким, как мы с вами. На этом Тимми простился с профессором, а через два дня и с Берлином. Скоро снова зазеленели перед ним родные поля и синяя полоса леса замкнула далекий горизонт. Тимми чуть не плакал от радости, и с восторгом, с наслаждением смотрел на знакомые бледные краски северных пейзажей и думал о том, что жизнь — чертовски приятная и забавная штука.
 ЧЕЛОВЕК, УКРАВШИЙ ГАЗ
Рассказ
ЧЕЛОВЕК, УКРАВШИЙ ГАЗ
Рассказ
Глава I
Бегут дни за днями, серые и одинаковые, как унылые капли дождя, который шумит сейчас за окном и бороздит его мутными, дрожащими струйками. Опять замкнулся круг обыденности, вереницы суетливых дней, похожих друг на друга так, что нельзя различить вчера от сегодня и сегодня от завтра. И странно думать, что еще недавно я кипел в центре событий, куда бросил меня случай, вырвав нежданно из такого же круга безглазых дней, отмеривающих время, как равнодушный стук маятника. Сегодня почему-то особенно ярко вспомнились мне все подробности той удивительной истории, и потянуло занести их на бумагу, чтобы пережить снова тревоги и радости пестрых дней. Помню, и тогда, год тому назад, я томился неопределенной скукой и с удовольствием перебирал воспоминания молодости, когда буйный и непоседливый нрав бросал меня то туда, то сюда, в поисках новых впечатлений для жадного, неутомимого мозга. Волны, несшие меня до сих пор, схлынули куда-то, а я остался распластанным на песке, как неуклюжая черепаха, не зная, что с собой делать. Семьдесят пять рублей жалованья, закоптелая комната в шестом этаже мрачного дома на 20-й линии у бранчливой хозяйки; вороха отношений, сношений, запросов и предписаний с 10 утра до 4-х вечера, и раз в неделю кинематограф, великий лжец, рассказывающий заманчивые сказки о яркой, необыкновенной жизни — вот круг, в котором замкнулось мое существование, с тех пор, как меня выкинуло на спокойный берег. Однажды, в середине мая, охваченный этим беспокойным зудом, отправился я в Сестрорецк — взглянуть хоть на краешек моря, о котором я думал с нежностью, как о любимой женщине. Но это было не то море. Мутно бежали серые, тяжелые ряды пенистой зыби под бесцветным небом; солнце катилось по нему холодным, бледным шаром. В ложбинах и на северных склонах дюн лежал еще не растаявший снег; сосны качались и шумели унылым звоном; пронизывало насквозь холодным ветром. И все- таки, на горизонте маячило несколько парусов, и влево вдали большой пароход пачкал серое небо клочьями черного, плотного дыма. Я следил за ним с чувством смутного беспокойства и досады, когда услышал свое имя, произнесенное знакомым сиповатым голосом. Я обернулся. Передо мной, засунув руки в карманы просторного пальто и поеживаясь от холода, стоял низенький, круглый человек в пенсне, с остренькой темной бородкой и жидкими усиками. Это был Алексей Юлианович Туровский, мой давнишний знакомый, с которым я встретился впервые лет пятнадцать назад, во время моих странствований по Туркестану. Мы не были с ним друзьями, но было общее, что сближало нас невольно: он был геолог по профессии, и уже по одному этому — бродяга и цыган, как и я, грешный. — Что поделываете, Николай Яковлевич, — спросил он, протягивая мне руку и отворачиваясь спиной от резкого ветра. Я пожал плечами и ответил: — Думаю о других морях и о другом небе, глядя на эту лужу. Туровский нахмурился. — Да, здесь стало неприветливо за последние годы. Настолько неприветливо, что начинает внушать серьезные опасения. Я посмотрел на него внимательнее. — Что вы этим хотите сказать? — А вы разве не читаете газет? — вопросом на вопрос ответил Алексей Юлианович. — Откровенно говоря, не слишком усердно. Больше насчет происшествий. — Напрасно. Сейчас, и помимо происшествий, что-то страшное творится на земле. — Вы говорите насчет морозов в мае месяце, которые трещат на нашем севере. Но ведь такие случайные капризы погоды бывали и раньше, и большой беды от них не происходило. Туровский покачал головою. — Это не случайные капризы, как вы говорите. Уже третья зима, как климат почти повсеместно становится более суровым. В позапрошлом и прошлом году еще можно было говорить о запоздалой весне и случайных заморозках, но сейчас… Знаете ли вы, что Архангельск, Мурманск, Онега, Кемь не освободились до сих пор от снежного покрова, а на Северном Урале завывают метели и вьюги. Что озимые погибли от мороза почти на всем- протяжении от Ладоги до Вятки и дальше на восток. Да вот и здесь… — он махнул рукой по направлению к парку: — в ложбинах до сих пор не стаял снег… Разве это когда-нибудь бывало? — Что же это значит? — спросил я, сильнее съежившись от холодного ветра, точно услышав в нем дыхание снежных бурь на просторе унылой тундры. — Это значит, что, если дело пойдет тем же темпом, то года через два мы здесь в Ленинграде будем в июле ездить на санях и кутаться в шубы. Наступил бы новый ледниковый период.
Наступил бы новый ледниковый период.
Я взглянул на Алексея Юлиановича, ожидая увидеть на его лице улыбку, но глаза его глядели сурово и тревожно. — Я мельком и вразброд, конечно, слышал кое-что о том, что вы говорите, но, откровенно говоря, не придал этому особого значения, — сказал я задумчиво: — теперь я даже вспоминаю, что как-то мне попалась статья, кажется, в «Правде», предсказывавшая чуть ли не наступление нового ледникового периода. Но ведь это вздор, разумеется… Ледниковые периоды не сваливаются, как снег на голову, а захватывают сотни тысяч дет, помнится… а здесь… Туровский пожал плечами. — То, что в одних условиях требовало колоссальных периодов времени, — при иных данных может уложиться в несколько десятков лет… — Но, позвольте… Самые причины этого движения снега и льдов от полюсов не молниеносны… — Причины наступления ледниковых периодов до сих пор не выяснены, — неохотно ответил Алексей Юлианович, с трудом закуривая на ветру в ладони жилистой руки дымящуюся папиросу. — Во всяком случае, то, что творится сейчас, не обещает ничего хорошего. Он замолчал, провожая задумчивым взглядом дымок удаляющегося парохода. Больше мне ничего не удалось от него выудить, а через четверть часа он со мной распрощался. Я вернулся домой в тревожном, неприятном состоянии, под тягостным впечатлением загадочной угрозы, надвигающейся с севера.
Глава II
Прошло две недели. Смутная тревога, которую заронили в мою душу слова Туровского, не только не улеглась, а перешла в тягостное чувство непрерывного, почти болезненного беспокойства. Я старался уверить себя в том, что все это — пустые ребяческие страхи, о которых нельзя говорить серьезно, что Алексей Юлианович или подшутил надо мной, или сам поддался игре расстроенного воображения, — тревога меня не оставляла. И, что хуже всего, — назойливо стали попадаться известия, ускользавшие ранее от внимания. Вспомнились многочисленные телеграммы минувшей зимы из различных уголков Европы и Америки. — Небывалая снежная буря в Англии. В некоторых местах толщина снежного покрова достигает четырех с половиною метров. — Суровые морозы в Польше. В вагонах товарного поезда обнаружено несколько замерзших трупов. — Рим под снегом. Морозы, каких не запомнят старожилы. Все эти сообщения, скользившие ранее бесследно, не останавливая на себе внимания, теперь получали новый, угрожающий смысл. В нынешнем же году намечалось кое-что посерьезнее. Стояла середина июня, а между тем, север Европы, Азии и Америки, от берегов Северного Ледовитого океана вплоть до 64–65 параллели, лежал еще под снегом. Мурманск, Архангельск были в объятиях зимы, реки были скованы льдом, над угрюмой тундрой и в таежных лесах завывали метели. Южнее, примерно, на уровне Ленинграда и Вологды, весна наступила, но необычайно поздняя и холодная, при чем то и дело снова выпадал снег, а по утрам заморозки губили всходы озимых и молодые почки деревьев. Становилось ясно, что на земле действительно творится недоброе, и что нашей стране в первую очередь грозит тяжелое испытание. Газеты по этому поводу болтали обычный вздор, хватаясь за первое попавшееся объяснение, но, по-видимому, больше всего склонны были приписывать нежданное бедствие внезапному ослаблению солнечного излучения, хотя определенных данных в пользу этой гипотезы не было никаких. Так или иначе, беспокойство начинало охватывать широкие круги населения Старого и Нового Света. Что касается меня, то все это время я жил в состоянии непрерывного нервного напряжения, словно ждал чего-то. И действительно, в один из этих странных июльских вечеров, когда бледное, немощное солнце освещало необычную картину города, одетого в снежный саван, — я получил коротенькую телеграмму: «Важные сведения о нашествии льдов. Приезжайте немедленно Вырицу Туровский». Разумеется, я не стал медлить. С первым же поездом, отвозившим с Детскосельского вокзала несколько хмурых субъектов, природе вопреки, наперекор стихиям, отбывавшим в это странное лето неизменную дачную повинность, — я выехал из Ленинграда. Дача Туровского стояла на высоком берегу Оредежа, в сосновом лесу, и глядела неприветливым облупленным фасадом на остатки беседки с провалившейся крышей и запущенные заросли шиповника и малины. Хозяин, небритый, со взъерошенными волосами, одетый в какой-то засаленный архалук, встретил меня на единственной сохранившейся дорожке, ведшей к спуску на реку; он ходил взад и вперед в мрачной задумчивости, потирая поминутно руки не то от холода, не то от волнения. — Ну, вот и вы, — сказал он, увидев меня, и отвечая рассеянным рукопожатием. — Я, кажется, могу предложить вам новые впечатления, по которым вы так стосковались. Я в изумлении взглянул на Алексея Юлиановича, так как ожидал совсем другого разговора. Но он уже замолчал и торопливой походкой направился к дому. Мне не оставалось ничего другого, как следовать за ним. Поднявшись в верхний этаж по скрипучей ветхой лестнице, Туровский ввел меня в просторную комнату, служившую ему, очевидно, рабочим кабинетом. Большой стол был завален книгами, планами, бумагами, на стене висела огромная карта обоих полушарий, испещренных цветными линиями и цифрами; на подоконнике стояла тарелка с недоконченным завтраком и недопитый стакан чаю, в котором плавали три или четыре мухи; углы комнаты были затканы паутиной. Два шкафа с книгами и два стула завершали обстановку, при чем один из них был на трех ножках и предусмотрительно приставлен к стене в угол. — Знаете ли вы, в чем дело? — внезапно обернулся ко мне хозяин, как только мы вошли в кабинет, и, не давая ответить, перебил себя отрывистой фразой: — Исчезает углекислота — вот в чем весь ужас. Я стоя ошеломленный, глядя на него во все глаза. — Какая углекислота? О чем вы говорите? — вырвалось у меня. — Ведь вы телеграфировали о льдах и морозах… Теперь Туровский стоял передо мною с видом человека, налетевшего со всего размаха на стенку и стукнувшегося об нее лбом. Для полноты сходства он даже потирал рукою лоб, собираясь с мыслями. — Да… ведь вы не знаете, — выговорил он, наконец, садясь к столу и оставляя в моем распоряжении колченогий стул. — Придется вам прослушать маленькую лекцию на эту тему. Я поморщился, но он ничего не заметил и в рассеянности пододвинул ко мне какую-то коробочку с зелеными камешками, предлагая радушно: — Закуривайте. Потом крикнул вниз, в открытую дверь: — Даша, чаю! Ему никто не отозвался, и он сейчас же забыл об этом и спросил меня тоном профессора-экзаменатора: — Вы знаете, что воздушная оболочка земли служит для нее как бы шубой, не позволяющей земному шару терять в окружающие пространства получаемую от солнца теплоту? Я кивнул головою. — А известно ли вам, сколько в атмосфере находится углекислоты? Я пожал плечами. — Не помню, право… — Ага, в этом все дело. Примерно, около трех сотых процента. — Гм. Немного… Я все еще ничего не понимал. — Вот именно. И, тем не менее, она играет колоссальную роль в защите земли от охлаждения, так как обладает способностью особенно энергично задерживать отраженные от поверхности земли невидимые тепловые лучи. Высчитано приблизительно, что при уменьшении его содержания в атмосфере втрое, т. е. до одной сотой процента, потеря тепла нашей планетой усилилась бы настолько, что весь север Европы, Азии и Америки покрылся бы сплошным снежным покровом, т. е. наступил бы новый ледниковый период. — Уж не в этом ли была причина распространения льдов и в минувшие геологические эпохи? — Вот именно. Такова, по крайней мере, теория Аррениуса. И, по-моему, это — единственно возможное объяснение внешних потрясений в жизни земли… — И вы говорите… — Что углекислота исчезает с поразительной, катастрофической быстротой. — Каким же образом это стало вам известно? — спросил я с недоверием. — Я произвел анализы воздуха в разных местах Северо- Западной области и запросил ряд лабораторий в самых разнообразных уголках земного шара. — И результат? — Один и тот же: содержание газа уменьшается чуть ли не с каждым месяцем. Я был совершенно ошеломлен этим странным сообщением и все еще не мог связать кропотливые лабораторные исследования и теоретические умозрения с угрозой надвигающегося бедствия и тревожными известиями газет. Но куда же она девается, эта углекислота? — вырвался у меня вопрос, изобличающий все мое недоумение и растерянность. — Куда девается? В этом весь вопрос. Если бы только знать. — Он мрачно уставился перед собой с видом молчаливого уныния и беспомощности. — Позвольте! — еще раз заговорил я: — А куда она девалась раньше, когда наступал ледниковый период? — Вообще ее поглощают растения. А главным поставщиком являются вулканы, а теперь отчасти наши фабрики и заводы, сжигающие топливо… В давние эпохи вулканы, по-видимому, периодически резко ослабляли свою деятельность. — Но почему? Туровский досадливо передернул плечами. — Это неизвестно, да сейчас и неважно, так как в данном случае о подобной причине не может быть и речи; чтобы в два-три года произвести такое заметное влияние, все вулканы на земле должны были бы вовсе потухнуть. К тому же, у меня есть кое-какие данные; если я не могу сказать как, то, приблизительна, могу указать, где совершается процесс, который поглощает этот газ… — И это место? — Новая Зеландия. — Ого! Далеконько. А каким образом, вам удалось прийти к такому выводу! — Благодаря цифрам тех же анализов. Туровский встал из-за стола и подошел к карте на стене. — Вот видите. Я нанес эти данные сюда. Почти везде цифра, приблизительно, одна и та же: несколько больше двух с половиной сотых процента. А ближе к Австралии она начинает уменьшаться: в Мельбурне она уже ровно две с половиною сотых, а в Окленде, Вильмингтоне, на северном острове Новой Зеландии надает ниже этой величины. — И это значит? — Это значит, что где-то в тех местах таинственным образом исчезает из воздуха благодетельный газ, будто что-то высасывает его, вызывая таким путем охлаждение земного шара. — Что же вы намерены делать? — спросил я, чувствуя, что мы у цели всего разговора. Туровский помолчал с минуту, потом спокойно, будто дело шло об увеселительной прогулке, с самоваром и бутербродами, на пикник, ответил: — Надо съездить туда и узнать, в чем дело. — И вы меня вызвали?.. — Чтобы предложить отправиться вместе со мною. Я даже разинул рот от удивления. Путешествие в Новую Зеландию в поисках чего-то неведомого, поглощающего из атмосферы ее живительный газ. Какая фантастическая перспектива! Но колебался я недолго: какова бы ни была цель путешествия, предложение было слишком заманчиво и искушение слишком сильно. Оказалось, что Туровский говорил уже по этому поводу в Москве и заручился согласием надлежащих инстанций, при чем выговорено было и мое участие в экспедиции, которая до времени должна была оставаться в тайне. На этом настаивал Алексей Юлианович. Он, подобно многим ученым, обладал изрядной долей до болезненности обостренного самолюбия и боялся обнаружения ошибки, если бы предположения его о причине странных явлений оказались несостоятельными…Глава III
Однако, двинуться в путь мы смогли только через три месяца. Помимо неизбежных формальностей, осложненных особой подозрительностью правительства доминиона к нашей научной экспедиции, много времени ушло на специальную подготовку к путешествию. Необходимо было заготовить целую походную лабораторию, которая позволила бы на месте с наибольшим удобством производить анализы воздуха и целый ряд других химических и геологических исследований. Видимо, у Туровского были уже кое-какие предположения, которыми, однако, он со мною не поделился. Таким образом, к концу сентября все было готово, и в один хмурый осенний день, под зарядившим с утра мелким дождем пополам со снегом, мы вышли на немецком пароходе в Штеттин. Дальнейшие этапы нашего путешествия: Лондон, Гибралтар, Суэц, Аден, бурный простор Индийского океана — были для меня, как сон: наконец-то я снова колесил по земному шару в невиданных еще мною местах. Через две недели мы обогнули Австралию и вышли из Сиднея в последний переход. Три дня спустя, утром, в голубом мареве далекого горизонта, под целым потоком солнечных лучей, показались на востоке обрывистые скалы, громоздившиеся у самого берега темной кучей. Это был мыс Реинга, откуда души умерших маорийцев погружались в пучину океана перед тем, как предстать на суд великого Ату, властителя вселенной. Об этом рассказывал нам длинный субъект в клетчатом кепи, посасывая трубку и тыкая сухим пальцем в новые открывавшиеся нам виды. Немного погодя, вынырнул из моря маяк на крайней оконечности северного острова, древнего Ика-ну-Маун, а слева встали мрачные утесы островков Трех Королей, отвесно поднимающиеся из окаймляющей их пены прибоя, разбивающегося об окружающие их рифы. А дальше развернулась великолепная панорама холмов, покрытых кудрявою шапкою леса, а море, ленивое, роскошное южное море колыхалось у недалекого берега и пестрело там и здесь парусами рыбачьих шхун и китобоев. В одном месте эта стена раздвинулась, и пароход вошел в залив Хаураки, огромный естественный рейд, весь усеянный сотнями буйно зеленеющих островков, среди которых прямо изводы подымал свою мохнатую шапку конусообразный Рангитото, потухший вулкан с давно застывшими потоками лавы, круто сбегающими к морю. Здесь-то, в глубине живописной бухты, открылся перед нами вид на город, охваченный полукольцом зеленых холмов.
Это был Окленд — цель нашего путешествия. После выполнения полицейских и таможенных формальностей, мы отправились искать себе пристанище. Это оказалось нетрудным. На углу улицы Королевы, в одном из оживленных мест города, под большой вывеской якоря над фасадом нарядного трехэтажного дома, в гостинице «Темза», нашли мы недорогую и достаточно комфортабельную комнату. Алексей Юлианович, даже не отдохнув с дороги, ушел в лабораторию университетского колледжа получить нужные ему справки, а я отправился бродить по городу. Странное он произвел на меня впечатление: я не мог отделаться от чувства, близкого к разочарованию. Вместо живописного первобытного пейзажа с дикарем, украшенным кольцами в носу на первом плане, которого я смутно ждал, вокруг меня бурлила жизнь культурного европейского центра. Улицы шумели, звенели и грохотали обычной сутолокой делового дня. Трамваи, автомобили, велосипеды мчались нескончаемой вереницей среди немолчного гама, и толпа на тротуарах струилась в обе стороны знакомым торопливым и озабоченным потоком, в погоне за бегом времени. Разбегались во все стороны, одетые камнем улицы, оплетенные сетью проводов, по которым танцевали синеватые молнии трамвайных вспышек. Это был Лондон в миниатюре. Но только Лондон, перенесенный под горячее южное солнце и окруженный кольцом зеленых гор, среди которых поднимались лысые конусы трех погасших вулканов, а у подошвы покатых склонов, зажимая город с двух сторон, плескалось изумительной синевы море. Вернувшись в гостиницу, я застал Туровского, рассеянно смотревшего через открытое окно на шумную улицу. — Вот и вы, — сказал он нетерпеливо. — Я жду вас уже больше часа. Мы сегодня же отправляемся дальше. — Куда? — остановился я в изумлении. — Пока в Роторуа, вулканическую область недалеко отсюда, а там видно будет… — Вы что-нибудь узнали? — Нет. Но именно потому надо ехать. Здесь, видимо, ни о чем не подозревают даже после анализов воздуха. Надо искать. И, так как скорее всего причина связана все же с вулканической деятельностью, то мы и начнем с Роторуа. — Ладно. Пусть будет Роторуа. Может-быть, там мы найдем настоящую Новую Зеландию. — А вы уже, кажется, разочарованы? — Да помилуйте: ведь это же просто уголок Лондона — не больше. Английский язык, английские физиономии, английская деловитость. Хоть бы на грех одна маорийская рожа попалась. Куда они все провалились, эти воинственные каннибалы? — Маори? Вы поздно спохватились, — усмехнулся Туровский. — Просвещенные колонизаторы их давно уничтожили. Неподалеку от тех мест, где мы будем, сохранились, кажется, кое-какие остатки этого когда-то свободолюбивого народа, еще в некоторых глухих местах островов, но это и все… — Ну, что же делать. Едем в Роторуа. К вечеру мы были на вокзале, копирующем в миниатюре лондонский Чэринг-Кросс, и двинулись вглубь острова. Ночная темень не позволяла мне любоваться пейзажами, но зато я завязал интересное знакомство. Здесь, в вагоне, я впервые встретил настоящего маори. Это был студент инженерного отделения колледжа, ехавший к родным на каникулы, высокий, стройный малый с золотисто-коричневым цветом кожи и приятными чертами, выразительного лица. Он говорил на чистейшем английском языке, что не мешаю ему далеко не любезно отзываться о хозяевах его родины, а когда он узнал, что я — русский, его точно прорвало. Передо мной развернулась целая эпопея, проникнутая глубокой любовью к умирающей культуре когда-то свободного, предприимчивого племени, бороздившего своими «каноэ», весь этот угол Тихого океана, вплоть до Австралии и Новой Гвинеи. Студент рассказывал мне о жестоких войнах, которые его предки вели в течение многих десятилетий с выходцами из-за моря, целые сказания и легенды об их героях и, в особенности, о великом Хене-Хеке, трижды поднимавшем знамя восстания против ненавистных «пакеха» и долго державшем северный остров в страхе своими кровавыми набегами. Теперь все это отошло в прошлое и жило только в воспоминаниях угасающего народа, смешанных с неугасающей враждой к поработителям. В свою очередь, Охакуна, мой новый знакомый, засыпал меня вопросами о России. Мы расстались друзьями, и я обещал студенту навестить его дома, в Охинемуту, живописном уголке, сохранившем черты туземной культуры, неподалеку от Роторуа. Начало наших работ на новом месте не обещало ничего хорошего. Мы устроились в одном из маленьких отелей хорошенького курорта и недели две путались по этой удивительной области, похожей на дурно замазанную отдушину из утробы земли, сквозь трещины которой вырывалось на воздух ее содержимое. Бесчисленные гейзеры, выбрасывающие целые облака пара и воды, горячие ключи, клокочущие там и здесь, по ноздреватой пемзе, всевозможные фумаролы, обдающие путника тяжелыми испарениями; и над всем — кратеры дымящихся вулканов — все это говорило о неустанной деятельности подземных сил, но все это было таким же, как год, как десять, как сто лет назад. Нигде не было и следа грандиозного процесса, в поисках которого мы пересекли земной шар и теперь блуждали по этим живописным местам. Алексей Юлианович с каждым днем становился мрачнее. Он таскал с собою большие металлические баллоны, в которые набирал пробы воздуха в разных местах наших скитаний; затем, вернувшись в Роторуа, где устроена была небольшая походная лаборатория, возился с анализами, отыскивая решение загадки. Однако, дело, видимо, не двигалось вперед, и он упорно отмалчивался на мои вопросы. Наконец, в исходе третьей недели он заявил, что решил обследовать местность к востоку от Роторуа, вплоть до моря. Я в душе начинал подсмеиваться над нашей нелепой затеей, но не высказал своих сомнений, тем более, что экспедиция к восточному берегу давала мне возможность сделать обещанный визит к Охакуна.
Глава IV
Мы тронулись в путь на следующий же день, и пока Туровский возился со своими баллонами, я, воспользовавшись близостью поселка, где жил Охакуна, направился к нему. Встретили меня с радушием, которое могло бы показаться тягостным, если бы не было таким искренним. Отец, старик с благообразным морщинистым лицом, сохранившим еще следы татуировки, говорил довольно сносно по-английски и с необыкновенной любезностью, но и с достоинством потомка вождей предоставил свой дом в мое распоряжение. Убогий это был дом, в сущности, скорее хижина, под плотной крышей из маисовой соломы с незатейливой резьбой по деревянному фронтону, с наивными архаическими фигурами идолов на коньке кровли и у концов стропил. Над домом, обнесенным палисадом, качались густолиственные «тава», а сзади был разбит фруктовый сад, где с утра до вечера возились подростки, младшие члены семьи. Оттуда доносился смешанный аромат цветущих яблонь, персиков, померанцев и еще какие-то незнакомые запахи, от которых слегка кружилась голова. В Охинемуту я пробыл всего сутки; а затем мы со студентом присоединились к Алексею Юлиановичу. Путешествие наше мы объяснили геологическими изысканиями, и маори этим удовлетворился, с удовольствием взял на себя роль проводника по всей округе от Тауранга до Восточного мыса, откуда открывался безбрежный горизонт Тихого океана. Мы бродили по берегам тихих озер, среди холмов, поросших буйным кустарником и странными, невиданными мною деревьями, среди гейзеров и горячих ключей, где нередко видели семью маори, сморщенных старух и курчавых ребят, занятых варевом прямо в земле, в естественных очагах, выбивающихся кипятком из-под горячей пемзы. Дальше к морю мы попали в буковые рощи, леса кипарисов, эвкалиптов, высокоствольных каури, похожих на бесчисленные колонны неведомого храма, перемежающиеся с великолепными зарослями папоротника, среди которых вилась узкая шоссированная дорога с прячущимися в густой поросли телеграфными столбами. И над всем этим благодатное весеннее солнце мягкой теплой ладонью гладило набухающую тучными соками землю. Неподалеку от Восточного мыса я обратил внимание на странное сооружение. Два небольших островка, километрах в десяти от берега, и в таком же, примерно,расстоянии друг от друга соединялись с землей длинными эстакадами, на которых темносерые стенки поблескивали на солнце миллионами подвижных искр, будто стекали по ним и растекались брызгами потоки воды. К берегу эстакады сходились, и между их началами раскинут был обширный городок, и дымили трубы заводских корпусов. — Что это такое? — спросил я нашего спутника. Студент пожал плечами. — Содовый завод, во главе которого стоит ваш соотечественник с какой-то странной фамилией. — Русский… В Новой Зеландии. Господи, куда только не раскидало людей в это буйное время. Ну, и что же? Стал теперь настоящим businessman’ом и делает соду, а, вместе с нею, и деньги? — Да, соду, хлор и еще какие-то химические продукты. За последние два-три года он сильно пошел в гору и начинает прибирать к рукам нашу химическую промышленность. — Один? — Да как сказать… Это акционерное общество, но в нем он, да еще англичанин один всем верховодят. — Так… Ну, а что же это за странные стенки, которые тянутся в море? — Ничего не знаю. Работа на заводе окружена строжайшей тайной, но, по-видимому, они добывают свои фабрикаты из морской воды и воздуха. — Из воздуха? — Ну, да. Кажется, этим путем они получают углекислоту, как составную часть соды. Смутная мысль мелькнула у меня в голове. Я взглянул на Туровского, — он весь превратился в слух, и мне показалось, что рука его, опирающаяся на палку, слегка вздрагивает. — Скажите, — вмешался он в разговор деланно равнодушным тоном — давно работает этот завод? — Не помню, право. Но я думаю, года четыре-пять. — И велика его производительность? — Я вам говорю, что он забивает весь здешний рынок. Да одни эти эстакады показывают, что масштаб тут не маленький. Мы с Алексеем Юлиановичем переглянулись, — он сделал мне предостерегающий знак, а затем задал маори еще несколько вопросов, но тот больше ничего не знал. Вспомнил только фамилию воротилы предприятия — Булыгин. Товарищ мой покачал головой. — Я знал одного Булыгина — очень талантливого инженера — химика и необыкновенно странного и озлобленного человека, — сказал он задумчиво. Мы долго стояли молча, рассматривая картину, открывающуюся под нашими ногами с поворота дороги, огибающей высокий холм. Когда мы с Туровским остались одни, он сказал мне срывающимся голосом: — Ну, Николай Яковлевич, или это очень странное совпадение, или мы бродим у цели. — Мне тоже пришла в голову эта мысль… Но трудно себе представить, чтобы явление чуть не космического масштаба было делом рук человека. — Как знать! Мы на пороге эпохи, когда человечество становится именно космической силой. Во всяком случае, оставить это открытие без исследования нельзя. — Что же делать? Отправиться на завод? Туровский пожал плечами. — Мы не знаем ни целей, ни значения всего происходящего. Надо быть очень осторожными. Особенно если это тот Булыгин, которого я знал когда-то. Прежде всего, надо поискать союзников. — Охакуна? Туровский кивнул головою. — Пока больше не к кому обратиться. А он, кажется, человек, которому можно довериться, и который может оказать помощь, как местный житель. Я взял на себя роль парламентера. Маори долго не мог взять в толк сути моего рассказа, когда я передал ему о событиях, послуживших причиной нашей экспедиции, и о возникших у нас подозрениях. Он не мог отделаться от мысли о какой-то нелепой мистификации, — до того невероятной казалась связь событий на противоположных точках земного шара. — Послушайте, — спросил я, — а разве у вас тут не заметно никакой перемены в климате? Охакуна задумался. — Да, да, — ответил он, наконец: — ну нас за эти годы солнце будто греет не так ласково… Нынешней зимой бывали морозы и выпал несколько раз снег… Ну, если только это исходит оттуда… — и маори погрозил кулаком на восток. Это последнее обстоятельство больше всего, по-видимому, способствовало тому, что Охакуна решил принять посильное участие в нашем предприятии. Помощь его оказалась ценной с первых же шагов. У него на заводе нашлось трое знакомых земляков, из которых один, работавший техником на силовой станции, был женат на сестре моего приятеля. — Это славный парень, — сказал он, — которому вы вполне можете довериться, и который сделает все, что может, в особенности, если дело идет о судьбе нашей родины. Но только… Маори не кончил и в сомнении покачал головою. Тем не менее, мы, окинув еще раз взглядом поле наших будущих подвигов, двинулись вниз по направлению к заводскому поселку все по той же дороге, среди густой зелени папоротников, дубов, буков, развесистых тава, акации, от которых шел густой одуряющий аромат, дурманивший голову легкой истомой. После полудня мы добрались до рабочего городка, раскинувшегося своими беленькими домиками, спрятанными в зелени садов и палисадников, между стеной, ограничивающей заводскую территорию, и пологими склонами лесистых холмов. Техника мы застали дома, — он отдыхал после дежурства и принял нас с таким же радушием, какое я уже видел в доме моего приятеля. В маленькой, уютной квартирке пела, аккомпанируя себе на гавайской гитаре, смуглая, худенькая женщина, с задумчивыми глазами, удивительно похожая на брата. Она, казалось, была встревожена нашим визитом и не спускала с мужа беспокойно вопрошающего взгляда. Узнав, что мы явились по делу, Мацуи увел нас в заднюю комнату, служившую спальней, и здесь молча, не выражая ни удивления, ни недоверия, выслушал наш рассказ. — Я не сумею дать вам ключ к этой тайне, если только она существует, — сказал он задумчиво, — во-первых, сам я не химик, а во-вторых, именно химическая сторона дела хранится здесь в строжайшем секрете, в который посвящены очень немногие, да и то, я думаю, только поверхностно. Но в общих чертах, я, разумеется, кое-что знаю, и, пожалуй, то, что вы говорите, похоже на правду. А теперь, давайте по порядку. Какие вопросы вас больше всего интересуют? — Прежде всего, — сказал Туровский, — основное: действительно ли источником углекислоты для фабрикатов завода служит воздух? — Да, углекислота из воздуха, а поваренная соль — из морской воды; в результате их взаимодействия образуются сода и различные газы, между прочим, хлор и водород. — Так. Но ведь это — процесс неестественный, если угодно. Очень легко из соды и соляной кислоты получить поваренную соль и углекислый газ, но наоборот… — В этом-то и состоит основной секрет производства. Булыгиным найден способ, заставляющий реакцию идти обратным путем. Поверхности двух эстакад, которые вы видели в море, являются уловителями газа. Они набиты хворостом на подобие соляных градирен. Наверх непрестанно накачивается морская вода и стекает вниз колоссальной раздробленной стеною на протяжении двадцати километров. В ней растворяется при накачивании какое-то вещество, вероятно, типа катализатора, под влиянием которого падающая вода высасывает из воздуха углекислоту и превращается в окончательные продукты, при чем сода затем выпаривается из раствора, а газы идут по особым трубам в хранилища и частью направляются обратно в производство, а частью поступают в продажу. — Но, послушайте, — прервал техника Туровский, — одного я не понимаю. Если работа завода служит причиной изменения климата земного шара, то он должен выбрасывать на рынок колоссальные, невообразимые количества фабрикатов, вероятно, миллиарды тонн в год. Куда же все это девается? Мацуи пожал плечами. — Разумеется, продукция его гораздо меньше. Но возможно, что главная масса соды просто уносится течением, и в эксплуатацию попадает лишь небольшая доля. — А газы? — Не знаю. Может-быть, тоже уходят в воздух, по крайней мере, водород. А хлор, вероятно, связывается химическим путем, да и в большом количестве идет снова в работу. Мы долго сидели молча, обдумывая удивительное сплетение обстоятельств. — Что же теперь делать? — не выдержал, наконец, я. — Надо ознакомиться на месте с подробностями, — ответил Туровский. — То, что мы знаем сейчас, недостаточно для какого- либо решения. Можно нам проникнуть на территорию завода? — отнесся он к технику. — Нет, — последовал ответ: — охрана входов здесь строжайшая, и посторонним попасть немыслимо. — Ну, например, под предлогом найма на работу. — Не выйдет. Вербовочные конторы имеются в Окленде и Роторуа, и помимо их никого не принимают. — Как же быть? Техник задумался. — Вот что, — сказал он, немного погодя: — я знаю один ход, никем не охраняемый, но, войдя через него, вы будете рассматриваться, как шпионы в неприятельском лагере… — Ну, что же делать… Значит, только ночью? — Да, иначе нельзя. Это отверстие под стеной от бывшей когда-то дренажной трубы, теперь заброшенное и заросшее сорными травами. — Пусть будет так. Ведите нас туда сегодня же вечером. Но только вот… Ваше участие в этой разведке, очевидно, грозит вам большими неприятностями? Маори усмехнулся. — Смею вас заверить, что вы рискуете еще большим. Здесь шутить не любят. Но об этом что толковать… Вы идете на риск ради своей родины… Мы нашу любим не меньше… Остаток дня мы провели над изучением поля наших будущих подвигов по схеме, набросанной Мапуи и изображающей территорию завода.Глава V
Около десяти часов вечера, когда погасло совсем пламенеющее закатом небо и зажглись на нем чуждые, незнакомые созвездия, мы втроем отправились в нашу странную экспедицию. Мы быстро дошли до стены, охватывавшей заводскую территорию, и стали пробираться вдоль нее, стараясь не шуметь и прислушиваясь на каждом шагу к смутным ночным звукам. Таинственно шелестели листья деревьев, копошилось в них что-то живое, — то ли зверь, то ли птица, — порою налетала бесшумно летучая мышь и шарахалась в сторону; предательски хрустела под ногою сухая ветка; и всюду чудились какие-то шелесты, чьи-то шаги, и казалось, что следом за нами крадутся таинственные тени. И кругом было странно и чуждо, и почти страшно. Чужое небо, невиданные звезды, причудливые силуэты не похожих на наши деревьев, а рядом— глухая, темная стена с колючей решеткой наверху, и вдали все нарастающий глухой шум прибоя. Я чувствовал почти до боли, как колотится сердце в груди и стучит в виски кровь, и казалось, что эти звуки слышны далеко вокруг. Пробиравшаяся впереди нас темная тень механика вдруг остановилась. — Здесь, — услышали мы осторожный шепот. Вслед затем смутный силуэт человека словно провалился сквозь землю и послышался шорох раздвигаемых кустов. — Двигайтесь за мной, — произнес тот же голос. Мы опустились ничком и стали ползком пробираться через заросль. Пахло сырой землей и какими-то пряными ароматами; ветки и стебли травы, казалось, так и метили выхлестнуть глаза; какие-то насекомые ползали по лицу; юркое животное, вероятно, ящерица, скользнуло по пальцам рук и исчезло в траве. Через пять минут открылась темная дыра в стене у самой поверхности земли; оттуда несло гнилью, сыростью и приторным, тошнотворным запахом. Я затаил дыхание, карабкаясь ползком по каменной трубе со скользкими, липкими стенами, в которых руки не находили опоры. На этом жутком пути пальцы мои ощупали было на момент круглый гладкий предмет, напомнивший мне змею. Я еле сдержал крик ужаса, отдергивая руку от страшного препятствия. Вероятно, это была просто старая, покрытая слизью ветка дерева или кусок каната, снесенный сюда водою, но никогда в жизни, кажется, не испытывал я такого жуткого чувства, как эти несколько минут в темной, липкой могиле, в ожидании нападения невидимого врага. Затем вдруг пахнуло свежим воздухом, и над головою снова заблестели звезды. Мы были внутри вражеской территории. В нескольких шагах от нас, впереди подымалась масса большого деревянного сарая, послужившего для нас первоначальным прикрытием. В это время из-за темной груды заводских корпусов выползла ущербленная луна, погасив мерцание ближних звезд. Четкими синими тенями залегли вокруг таинственные здания под мертвыми, бледными лучами. Четкими синими тенями залегли вокруг таинственные здания под мертвыми, бледными лучами.
Четкими синими тенями залегли вокруг таинственные здания под мертвыми, бледными лучами.
Это было очень кстати, потому что ориентироваться и запоминать подробности топографии в темноте, в незнакомой обстановке было бы невозможно; но, с другой стороны, каждый шаг под этим предательским светом грозил опасностью и требовал сугубой предосторожности. Мы стали почти ползком пробираться от одного, темного перекрытия до другого, стараясь, как можно больше держаться в тени. Вскоре, невдалеке от широкой шоссированной дороги, пересекавшей территорию завода и ярко блестевшей белой полосой на лунном свете, выросло мрачное двухэтажное здание, окруженное решеткой. Одно из окон было освещено к глядело на дорогу белесым, немигающим глазом. — Главная лаборатория и рабочий кабинет Булыгина, — шепнул маори. Мы остановились, и Туровский внимательно огляделся вокруг и отметил что-то крестиком в самодельном плане, составленном для нас техником. Затем двинулись дальше. Потянулись большие корпуса, из труб которых ползли черные клубы дыма, пробегая по освещенным местам скользящими тенями; там шла неустанная работа, — гудели пламенем топки; шевелились стальными членами машины, — ночная смена бодрствовала в этом таинственном царстве. Особое внимание Туровского привлекли огромные круглые сооружения из клепаного железа, глухие и темные, напоминавшие цистерны с нефтью. — Газохранилища, — ответил Мапуи на немой вопрос Алексея Юлиановича: — в них собираются углекислота, хлор, водород, и отсюда частью идут в продажу, а главным образом, в дальнейшее производство здесь же на заводе. Чувствовалась все сильнее близость моря. Громче и громче шумел прибой за темными зданиями; соленый, влажный ветер овевал лицо. Здесь нам пришлось пережить несколько странных и жутких минут. Только что мы собирались пересечь открытое место между двумя сараями, когда почти рядом послышались голоса, и на дорожке, рядом с пустой колеей заводского пути показались две темные фигуры. Они медленно двигались мимо нас, перебрасывались отрывистыми фразами. В руках у одного был ручной фонарь-прожектор, которым он освещал от времени до времени путь перед собой и темные углы зданий по сторонам. Мы точно вросли в землю, в тени высокого корпуса, тесно прикрывшись друг к другу и затаив дыхание. Луч света скользнул мимо, почти у наших ног, потом перебросился правее. Мы услышали конец фразы, произнесенный сиповатым, словно простуженным голосом: — Вы слишком уж нетерпеливы. — Какой чёрт, нетерпелив, — возразил другой голос, и скрипучий, и раздраженно-ворчливый, — пять лет уже прошло, а чем вы можете похвастать. Десятком отмороженных носов, да парой метелей, несколько запоздавших… Это немного. — Напрасно вы иронизируете, — возразил первый голос. — Вы прекрасно знаете, что дело не в паре метелей, а гораздо серьезнее. А главное — вспомните наше первоначальное условие. Я обещал вам результат лет через двенадцать-пятнадцать. — Да, но при таком темпе вам и столетия не хватит, по- моему… — А я вам говорю, что еще через десять лет дело будет сделано. — А до тех пор сто тысяч раз наша затея может быть открыта. — Конечно, известный риск есть. Но ведь не даром мы с вами забрались в отдаленнейший уголок земного шара… Кто станет искать здесь причину. А уже на нашу территорию, кажется, мышь не проскочит без нашего ведома. — И вы так и не откроете секрета вашего катализатора? — А-а, — иронически протянул первый голос: — я так и знал, что вы к этому клоните. Да зачем вам? Результат налицо. Вы знаете, что я в нем заинтересован так же, как и вы. А что до времени, то заверяю вас честным словом, что ускорить процесс немыслимо. — Ну, а если, скажем, с вами что-нибудь случится до конца срока? — Я открою вам свою тайну в духовном завещании, — засмеялся первый из собеседников. Это была последняя услышанная нами фраза. Голоса смешались и понемногу стихли. — Это Булыгин? — шепотом спросил Туровский нашего спутника, провожая глазами мелькающий по дороге свет фонаря. — Да, — ответил маори — а второй — его компаньон О’Бейли, один из богатейших людей Соединенного Королевства. — Я так и думал. Ну; теперь вам ясно, что тут затеяна недобрая игра, и что мы действительно попали в неприятельский лагерь. Техник кивнул головой. — Да, но какую же они преследуют цель? Туровский пожал плечами. — Это-то и надо вам выяснить. А теперь двинемся дальше. Мы стали продолжать свое путешествие. Через четверть часа мы достигли невысокого бетонного парапета, за которым внизу, метрах в десяти, перекатывались волны прибоя. Недалеко отсюда начиналась эстакада, уходившая в море бесконечной серой стеной. Это и было странное сооружение, виденное нами издали. От него несся ровный, неустанный шум, напоминающий монотонный звук падающего дождя. В воздухе носилась мелкая, соленая водяная пыль и примешивался странный запах, раздражавший дыхательное горло. — Вот главная артерия завода, — сказал маори, повысив голос, чтобы его можно было услышать за шумом воды, и протянув руку вдаль, где по зыби океана искрилась серебром дрожащая дорога к ущербленной луне. — Две таких огромных градирни в расстоянии трех километров одна от другой захватывают своей поверхностью газ из воздуха, а по трубам, проложенным вдоль них, и затем на берег поступают продукты реакции, главным образом, хлор и водород. Вода же, насыщенная содой, отводится в особые водоемы, несколько ниже по течению, и там выпаривается. Мы долго молча лежали у края парапета, прячась в тени и всматриваясь в блестевшую под луной стенку эстакады и толстые трубы, подобно огромным змеям, извивавшиеся по берегу, по направлению к темным куполам круглых цистерн. Алексей Юлианович прополз к ним ближе и, осмотрев внимательно, вернулся к нам. — Что это за отростки на трубах расположены через десять- пятнадцать шагов? — спросил он у техника. — Пробные краны, — ответил тот — для определения состава газов в разных местах трубы. Туровский кивнул головою. — Я так и думал. Это может оказаться очень кстати. А теперь, я думаю, нам пора подумать и о возвращении. В самом деле, до рассвета оставалось часа два, и путь до потайного хода был не малый. А так как луна все еще заливала местность своим бледным светом, то двигаться приходилось по- прежнему медленно и с величайшей осторожностью. Однако, на этот раз счастье нам изменило. Мы были уже недалеко от стены, когда я несколько замешкался, привлеченный странным видом грубо обтесанного камня, попавшего сюда, очевидно, с туземного кладбища. Товарищи несколько опередили меня, и я хотел уже их нагонять, когда рядом послышались снова голоса, и яркая полоса света из фонаря поползла вдоль дорожки. Это был, очевидно, дозор, обходивший запретную территорию. Я застыл на месте. Бледный луч подбирался все ближе среди гнетущей тишины, в которой удары собственного сердца казались мне оглушительными. Вот он подполз до моих ног и вдруг уперся в лицо, ослепив на мгновение яркой вспышкой. В тот же момент раздался встревоженный голос: — Пусть меня повесят на первом дереве, если там в углу не прячется какой-то молодчик… — Эй, джентльмен! Что вы там делаете? — закричал другой, и я услышал щелканье взводимого курка. Совершенно инстинктивно, не давая себе ясного отчета в своем поступке, я бросился бежать в сторону, противоположную той, где были мои спутники. — Стой! — закричало сразу несколько голосов, и вслед затем гулко треснул короткий выстрел. Пуля просвистела подле моей головы и ударилась в стену. Я остановился. Было ясно, что мне не уйти. Надо было, по крайней мере, отвлечь внимание преследователей от моих товарищей. Но я не успел принять никакого решения, как меня окружили. Один из дозорных водил по мне лучом фонаря, точно ощупывая быстрыми пальцами, другой почти в упор держал у груди револьвер.
 Один из дозорных водил по мне лучом фонаря.
Один из дозорных водил по мне лучом фонаря.
— Не трогайтесь с места, — говорил он злобно — или я проделаю дырку у вас между ребрами. А другой спрашивал: — Откуда вы сюда свалились? Я молчал. — Выверните-ка ему карманы, — приказал один из дозорных с какой-то повязкой на рукаве, — вероятно, старший. Начался обыск. Тут только я вспомнил, что в моей записной книжке были заметки, которые могли навести на след заводских жандармов. Но сделать уже ничего нельзя: карманы были буквально вывернуты, и блокнот с бумажником перешли в руки дозорных. — Чёрт знает, какая тарабарщина, — сказал один из них, заглянув в книжку, и увидав очертания незнакомых букв. — Ну его к бесу, — ответил старший. — Идем к дежурному и сдадим этого молодца, а там разберут. — А ведь у него могли быть и товарищи, — сказал человек с фонарем — мне и то послышался какой-то подозрительный шорох… — Ну, вы вдвоем пошарьте тут вокруг, а мы с Джексоном отведем его. У меня сердце замерло, когда я увидел, что две темные фигуры двинулись по направлению к стене и луч фонаря пополз, как противное щупальце, то по земле, то по стенам и углам встречных зданий. Мои конвоиры двинулись к шоссе, держа меня под дулом револьвера. Через десять минут мы оказались у небольшого домика, куда сходились нити телеграфных проводов с нескольких сторон. В окнах горел огонь. Из двери вышел высокий, угрюмый человек, с револьвером у пояса, в полувоенной форме. Он выслушал доклад старшего и, не взглянув на меня, ответил: — Запереть в номер шестой. Спустя несколько минут за мной захлопнулась тяжелая, окованная железом дверь из коридора, в начале которого расположено было помещение дежурного. Я оглянулся. Это была настоящая тюремная камера с решеткою на окнах. Итак, я был в плену.
Глава VI
Невесело я провел эту ночь. Погоня за впечатлениями завела меня слишком далеко, и будущее представлялось в довольно мрачных красках. Особенно беспокоила меня мысль, что моя неловкость могла привести к аресту и обоих спутников. Правда, я до рассвета оставался один в своей камере, но ведь их могли запереть и в другие помещения. С наступлением утра тишина моей тюрьмы понемногу наполнилась смутными отголосками пробуждающейся на заводе жизни, но тяжелая дверь оставалась запертой и сквозь решетчатые окна под потолком видны были только высокие перистые облака, бороздившие клочок ослепительного синего неба. Около полудня молчаливый служитель принес мне завтрак и ушел, захлопнув дверь и ни слова, не ответив на мои вопросы.
Снова потянулись друг за другом угрюмые часы одиночества. Еще раз принес мне пищу все тот же бессловесный слуга, а затем, почти без сумерек, как обычно в этих местах, наступила ночь. Мне казалось, что она никогда не кончится. Я провел ее в полудремоте, прерываемой внезапными пробуждениями, когда все тело сотрясалось вдруг мгновенной дрожью и покрывалось холодным потом в ожидании чего-то ужасного. И только под утро, когда из темноты вырисовался четырёхугольник окна, затянутый железным переплетом, — я вздохнул свободнее и уснул. Разбудил меня стук открываемой двери. Я вскочил мгновенно при первом же звуке. На пороге стоял грузный, немного сгорбленный человек с окладистой бородой с проседью и седыми же лохматыми бровями, прикрывающими тревожный блеск глубоко сидящих глаз. Я без труда узнал в нем одного из участников разговора, подслушанного нами минувшей ночью. Он несколько минут безмолвно наблюдал за мной угрюмым взглядом исподлобья. Потом, когда я уже готов был закричать, чтобы прервать это невыносимое молчание, он повернулся назад, сказав что-то в глубину коридора невидимым мною спутникам, прикрыл дверь и сделал шаг в мою сторону. — Что вы делали здесь вчера ночью и кто вы такой? — заговорил он знакомым уже мне, глуховатым, будто придушенным голосом. Вопрос был сделан по-русски. Это сбило меня с толку, и я молчал, боясь необдуманным ответом испортить игру. Лохматые брови поднялись и тяжелый, неподвижный взгляд остановился на мне. — Вы собираетесь отмалчиваться, уважаемый? Пустая затея. Документ-то у вас достаточно красноречивый, — он положил перед собою на стол отнятую у меня при обыске записную книжку и стал ее перелистывать. — Так вас интересует, куда девается углекислота? — жестокая улыбка искривила его губы: — не в добрый час одолело вас любопытство… Но уж теперь позвольте и мне полюбопытствовать. Я продолжал молчать. — Видите ли, милейший, — медленно и раздельно продолжал посетитель, — мы здесь не в бирюльки играем, и раз вы ухитрились проникнуть в дела, которые вас не касаются, то придется настаивать на том, чтобы вы ответили на кое-какие вопросы, хотя бы ценою не очень туманных мер… Угроза, прозвучавшая в этих словах, заставила меня содрогнуться. — Что же, вы пытать меня собираетесь? — вырвалось у меня. Булыгин холодно улыбнулся. — Ну, вот, видите — вы и заговорили. Я знал, что мы сумеем столковаться… Вы говорите — пытка. Мы, дорогой мой, страшных слов не боимся, но, смею вас уверить, что развязать вам язык сумеем… У нас слишком крупная ставка в этой игре, чтобы гуманничать некстати… — Какая ставка? О чем вы говорите? — не удержался я от вопроса, вспоминая таинственный разговор минувшей ночи. Страшные, безумные глаза уставились на меня. — Об уничтожении скверной заразы. О дезинфекции земного шара, чёрт возьми! — Ни больше, ни меньше… Не понимаете? Ну, вот, подумайте над этим ребусом… Он помолчал с минуту, потом заговорил прежним голосом, в котором слышалась сдерживаемая буря. — Так вот, милейший. Дело много серьезнее, чем вы, может быть, полагаете, и разговор наш не может кончиться взаимным обменом любезностями. — Я ничего вам не скажу, — ответил я, хотя чувствовал, гак голос мой дрожит. — Вы так уверены? — Булыгин снова засмеялся неестественным деревянным смехом. — Советую вам подумать об этом на досуге. Надеюсь, при следующем свидании вы будете сговорчивее. Он повернулся и, прежде, чем я успел что-либо сделать, тяжелая дверь захлопнулась и щелкнул замок. Я остался снова один, и уже до вечера никто не появлялся в моей тюрьме. Долго и бесплодно бился я над решением вставшей передо мной загадки. Стало очевидно, что влияние на климат не было случайным побочным явлением в работе завода. Наоборот, — в этом была цель Булыгина, но для чего? На это я ответа не находил. К ночи я почувствовал голод, а главное — неутолимую жажду, возбуждаемую духотою в спертом воздухе моей тюрьмы. На мои крики и стук в дверь никто не отзывался, словно захлопнулась надо мной крышка гроба. Уж не этой ли пыткой грозил мне Булыгин. Я чувствовал, как страх, непреодолимый звериный страх охватывал душу. Одна мысль несколько утешала: ив слов моего тюремщика видно было, что товарищи мои на свободе. Значит, была надежда и для меня вырваться из этого каменного мешка. Но пока была невыносимая жажда и все растущее чувство одиночества и тревоги. К вечеру я ухитрился куском штукатурки выбить стекло в решетчатом окне. В комнату потянуло свежим снаружи. Но дверь по-прежнему оставалась запертой. Я притих и снова отдался болезненной дремоте, прерываемой поминутно тяжелыми кошмарами. Было, вероятно, далеко за полночь, когда через разбитое окно донеслись до меня недалекие крики и несколько выстрелов. Я вскочил, дрожа с головы до ног, и стал прислушиваться. Но спустя несколько секунд, вновь наступила мертвая тишина. Я ждал, весь превратившись в слух. И через несколько времени — час ли, полчаса или еще меньше, — я не в состоянии сказать, — вновь загремел замок, и две темные фигуры вошли, — вернее, упали — в комнату. — Кто здесь? — бросился я к ним. — Это вы, Николай Яковлевич? — послышался дрожащий, растерянный голос Туровского. Я протянул руки в темноте и коснулся лежащего на полу тела. Раздался болезненный стон и хрипение, бурно клокотавшее в горле. — Это Мапуи, — сказал, тот же голос, — его подстрелили и, кажется, тяжело. Меня тоже слегка задело, но это пустяк. Потом вдруг почти закричал, меняя голос: — О, чёрт! Будь они трижды прокляты! Провалилось все из- за пустой случайности, — Туровский застонал, как от тяжелой боли. — Да что такое случилось? Как вы сюда попали? — спросил я, найдя в темноте его руку. — Как попали?! Влопались, как кур во-щи, по-мальчишески. И ведь главное, — дело было почти сделано… — А вы что же собирались предпринять? — Что?! Взорвать к чёрту это осиное гнездо. — Как? Чем взорвать? — Да их же материалами. Помните, мы запрошлой ночью лазали подле труб от градирен. Мне уже тогда это пришло в голову. По трубам шли к хранилищам хлор и водород. А смесь их образует сильно-взрывчатый газ. Я и решил его воспламенить. — Но ведь они шли по отдельным магистралям. — Ну, да. Но их нетрудно было смешать. Когда мы с Мапуи ушли в дыру под стеной после вашего ареста, я и Охакуна в то же утро вернулись в Роторуа. Тут я набрал из своего запаса каучуковых и стеклянных трубок, раздобыл автомобильное магнето и нынче же вечером вместе с техником пробрался снова на завод. — А Охакуна? — Остался в поселке в качестве резерва с автомобилем, нанятым в Роторуа. — И оба они согласились принять участие в этом предприятии? — А что же делать. На мирный исход, очевидно, в данных — условиях надежды не было, а на карте стояла слишком большая ставка… — Ну, и что же дальше? — Мы доползли до труб. Я просверлил их в нескольких местах попарно на пробных кранах и соединил каучуковыми трубками. Оставалось подождать, пока газы сметаются. — А потом? — Потом взорвать. В одном месте между резиновыми трубками я вставил стеклянную со впаянными, в нее близко друг к другу платиновыми проволочками, от которых шли длинные провода в укромное, темное местечко у парапета. К ним надо было в нужный момент присоединить магнето и пустить ток. От искры между проволочками вся смесь и, вместе с нею, градирни должны были взлететь на воздух. — Ну, и что же? — Ну, на этом нас и накрыли. Спрятались мы в темном углу и стали ждать. А в это время нанесло на нас патруль. Я завертел было ручку машины, — не тут-то было, — ни черта. Вероятно, провода оборвались или магнето закапризничало, не знаю — только вся затея полетела к чёрту. — Туровский снова застонал. — Этим все и кончилось? — Да. Машинку я успел выкинуть через парапет, и мы бросились бежать. Поднялась стрельба; меня оцарапало в плечо, а бедняга Maпуи поплатился. Мы замолчали. Темное тело подле нас было также безмолвно. — Что это с ним? — пробормотал Туровский, и слышно было, как он шарит в темноте руками. — Ах, чёрт, кажется, готов, — услышал я дрогнувший голос и, протянув руку в свою очередь, наткнулся на холодный лоб в сгустках липкой крови. — Что же делать? Надо позвать кого-нибудь… — Бесполезно, — ответил я. — Это — настоящий гроб. И я рассказал, что произошло со мной за истекшие двое суток. Туровский слушал, полный недоумения, и глухо чертыхался… — Ну, и попали мы в переплет, нечего сказать. Пожалуй, нам с вами теперь, действительно, крышка. Мы с головою в руках у этого сумасшедшего, а у него лапы цепкие. Но для какого чёрта он вообще затеял всю эту историю? Неужели только дикое проявление мизантропии, и ничего больше? Этот вопрос остался без ответа. Туровский сам пробовал стучать в дверь и звать, — отклика не было. Темнота как будто поредела, и стал виден уже похолодевший труп, темной, неясной грудой распластанный среди комнаты. В разбитое окно под потолком доносились смутные шумы ночи. Мы говорили почему-то полушёпотом, стараясь заглушить все возраставшую душевную тревогу. Алексей Юлианович рассказывал, что он рассчитывал, пользуясь суматохой после взрыва, освободить меня и затем, через старую лазейку, добраться до автомобиля, в котором Охакуна ждал нас в укромном месте за поселком. Туровский снова заметался в темноте, разражаясь проклятиями. — И все насмарку. Все к чёрту теперь. И этот мерзавец будет продолжать свое дело, как ни в чем не бывало. Неожиданный поток света вдруг ослепил нас и заставил моего товарища на полуслове остановить свои сетования. Зажглась лампа посредине потолка, и скорченное тело у наших ног стало ясно видно в луже крови. Загремел замок, на пороге показался Булыгин, а за его спиной — трое или четверо вооруженных людей.
Глава VII
Мы с Туровским, ослепленные внезапным светом, вскочили и, инстинктивно встав рядом у стены, обернулись в сторону вошедших. — Ну-с, кажется, новая рыба попалась в сети, — услышал я знакомый глуховатый голос, — посмотрим, кто такие. Он нагнулся над недвижным телом маори и тронул его носком сапога; труп остался в прежнем положении. Булыгин сделал знак своим спутникам, — они приподняли мертвого и обернули к свету лицом. — А… из своих… Я так и знал… — процедил угрюмо инженер и обернулся к нам. — Ну, а это что за птицы. Как, многоуважаемый, не надумали еще отвечать? Он вдруг осекся на полуслове, начал пристально всматриваться в лицо моего товарища и вдруг многозначительно свистнул: — Черт возьми? Вот неожиданный сюрприз. Знакомое лицо, готов пари держать. Господин… виноват, товарищ Туровский? — он саркастически улыбнулся: — Неправда ли? Вот удивительная встреча! Алексей Юлианович молча наклонил голову. — Ну, дорогой коллега, неужели и вы хотите играть в молчанку? Так и вас тоже одолело любопытство насчет углекислоты? Сильно же оно у вас должно быть, если заставило тащиться к антиподам и ползать под покровом ночи у меня на заводе. Ну, уж не взыщите, если я приму меры, которые лишат вас этой возможности в будущем… — Послушайте, — заговорил вдруг Туровский: — Я прекрасно понимаю, что мы всецело в ваших руках и что наша игра проиграна. Давайте действовать начистоту. Я расскажу вам все, для чего я попал на ваш завод, но скажите и вы, какую цель вы преследуете вашей страшной затеей? Зачем вам это нужно? Неужели вы не знаете, что делается там, у нас на родине. Воют метели, гибнут хлеба, замирает жизнь… Люди умирают, — понимаете ли вы это? Булыгин жадным взглядом следил за выражением лица говорившего. — Неправда ли? Умирают, говорите вы… Прекрасно. Вы знаете, я теперь в восторге от нашей встречи… Слышать реляцию о победе из уст очевидца и… врага — удивительное наслаждение. Туровский почти с испугом смотрел на собеседника. — Вы сумасшедший! — вырвалось у него невольно. Инженер засмеялся. — Вы полагаете? — он на минуту задумался: —Ну, что ж, это дела не меняет. Моя снежная армия все-таки делает свое дело. — Да чего вы добиваетесь вашими машинами? Что вы делаете? — закричал Туровский, видимо, теряя самообладание и бросаясь к собеседнику. Булыгин не тронулся с места. — Вы не понимаете? А ведь это так просто… Вымораживаю скверные микробы, уничтожаю заразу… Как это вы любите говорить: «выжечь каленым железом». А я вот ледком да морозцем… И тоже действует недурно, а? — Да что вы кривляетесь? О чем говорите? Чёрт возьми! — О чем? Да о нашем со-ци-а-ли-сти-ческом отечестве, разумеется. Всяческие там ин-тер-вен-ции, заговоры и прочая дребедень ни к чему не привели. А я вот потихонечку, мирным, так сказать, путем, годиков в десять превращу в снежную пустыню этот ваш пролетарский рай, и земля очистится радикально, дезинфицируется, так сказать… вроде мяса на холодильнике. Как вы находите эту идею? Алексей Юлианович весь дрожал от гнева и ужаса. — Вы… вы — сумасшедший, — только и нашелся он пробормотать еще раз. — Я это уже слышал, — засмеялся снова Булыгин: — теперь вы понимаете, что выпустить вас гулять на свободе не в моих расчетах… Туровский не обратил внимания на эти слова. Он весь был во власти только-что сделанного открытия. — Из-за этого духа непримиримой ненависти осудить на вымирание миллионы ни в чем неповинных людей, погубить свою родину… И не только ее… Весь север навсегда превратится в мертвое снежное поле… — Зачем же навсегда. Не надо так трагически смотреть на вещи. Когда дело будет сделано, мы сумеем в короткий срок вернуть в воздух позаимствованное, так сказать, сокровище… А что касается миллионов, — то сами виноваты… Лес рубят — щепки летят… — Булыгин пожал плечами. — Вы ведь не останавливались в свое время перед тысячами, — ну, у нас масштаб шире, — вот и все. — Кто же это мы? — спросил Туровский. — Вы слишком много хотите знать, дорогой коллега. Те, кто также не прочь заняться дезинфекцией. А кто, — не важно… Nomina sunt odiosa… — Но как вы достигаете этого ужасного результата? — Ну, вот опять нескромный вопрос. Не прикажете ли вам прочесть лекцию по химии катализаторов? Нет уж, увольте… А общий результат вы разгадали: поглощаю газ на большую высоту в градирнях, насыщаю им морскую воду, которая постоянным течением уносит его к югу в виде соды, — вот и все. Весь секрет, конечно, в том продукте, которым насыщается хворост в градирнях и который вызывает поглощение углекислоты водою. Но уж это разрешите оставить мне при себе. А теперь пора, я думаю, и мне приступить к вопросам. И предупреждаю, что рано или поздно я заставлю вас на них ответить. — Верю, — бледно улыбнулся Алексей Юлианович. — Но ваша угроза, пожалуй, излишня. Раз дело провалилось, — мне скрывать нечего. — Вот и прекрасно, — саркастически улыбнулся Булыгин: — вы гораздо сговорчивее вашего товарища. Итак, зачем вы сюда пожаловали, и что это за дело, которое, по-вашему, провалилось? Туровский ответил не сразу. Он с тоскою оглянулся вокруг, словно ища выхода из тюрьмы. Но все было по-прежнему. Глухие стены, высокий потолок с бетонными сводиками и железный переплет окна, за которым ночное небо слегка побледнело в предчувствии далекого утра. За дверью стояли вооруженные люди. — Мы приехали в Новую Зеландию в поисках причины резкого изменения климата на нашем севере. Потому что тут больше всего заметна была утечка углекислоты из воздуха, судя по его анализам. — А… резонное соображение. И вы были намерены? — Взорвать завод со всеми его установками и прекратить вашу сумасшедшую работу. Настала очередь Булыгина побледнеть. Он подошел вплотную к Туровскому и смотрел на него в упор, дико горящими глазами. — Взорвать! Вы смеете это говорить мне? Вы… Я из вас жилы вымотаю… — он задыхался от злобы. Я поморщился от этой нелепой откровенности, видя бешенство нашего тюремщика. — Да, к сожалению, ваши дозорные нам помешали, — упрямо продолжал Алексей Юлианович, но кончить ему не удалось. Первый луч солнца скользнул в разбитое окно, и в то же мгновение страшный удар потряс стены нашей тюрьмы. Земля заколебалась под ногами, посыпалась штукатурка с потолка, дверь широко распахнулась настежь, и в нее донесся дикий хаос звуков со взбудораженного завода: испуганные крики, беготня, новые удары, от которых качались стены дома, как во время землетрясения… Мы все стояли пораженные неожиданностью, в ужасе прислушиваясь к возраставшему шуму. Инженер, бледный, как мертвец, не сводил глаз с Алексея Юлиановича и казался охваченным столбняком. Я видел, как медленно оживлялось лицо моего товарища, и торжествующая улыбка зажигала его глаза. — А ведь, кажется, дело кто-то доделал за нас, — выговорил он вдруг взволнованным голосом, обращаясь ко мне. Эти слова послужили сигналом. Булыгин вдруг бросился на него и схватил за горло. Глаза его дико горели, лицо исказилось звериной злобой, даже зубы оскалились в припадке бешенства. Это был несомненно сумасшедший. Из перекошенного судорогою рта вместе с пеною вылетали отрывистые слова: — А, мерзавцы… шпионы… предатели. Вся жизнь… вся работа насмарку. Он сыпал площадными ругательствами, дрожал всем телом и цепкими пальцами сжимал горло Алексея Юлиановича, который, видимо, задыхался в этих объятиях, тщетно стараясь от них освободиться. Я бросился на помощь товарищу, и мы покатились по полу втроем, сцепившись в дикой свалке. Я стал, в свою очередь, душить сумасшедшего, — и руки его медленно разжались. Потом он вдруг оттолкнул нас и вскочил на ноги. Туровский остался лежать, оглушенный падением. Булыгин вытащил из кармана револьвер, но, прежде, чем он успел прицелиться, я изогнулся, прыгнул к его ногам и изо всей силы дернул за них. Инженер с размаха грохнулся на пол, стукнувшись о него головой и выронив оружие, которое я подхватил почти налету. Он не успел подняться, как я два раза выстрелил в него почти в упор. Он ткнулся лицом вниз и застыл в нелепой скрюченной позе. В это время Туровский зашевелился и поднял голову. Я помог ему встать, и мы несколько секунд в недоумении и ужасе созерцали поле молниеносной, неожиданной битвы. У наших ног лежали два трупа, в окно и раскрытую дверь доносился все нараставший шум и крики, прерываемые от времени до времени новыми гулкими взрывами. Лампа под потолком вдруг погасла, — очевидно, остановилась силовая станция, но дневной свет уже проникал в комнату. — Убит? — спросил Туровский, указывая на своего недавнего противника. Я кивнул головой. Он подошел к телу и повернул его лицом кверху: во лбу чернела обожженная дыра, в которую просачивалась серовато-красная масса. — Что же теперь делать? — спросил я, прислушиваясь к шуму за стенами тюрьмы. — Бежать, пока выход свободен, — ответил Туровский. Действительно, дверь осталась открытой, и за ней никого не было видно. Очевидно, спутники Булыгина выбежали, испуганные взрывами, и освободили нам путь. Мы вышли в коридор и, руководясь скорее чутьем, чем памятью, добрались до выходной двери, не встретив никого на дороге. Снаружи нас ждала картина, которой я не забуду, пока жив. На востоке, там, где шумело недалекое море, весь горизонт был затянут густыми облаками пара и дыма, сквозь которые во многих местах прорывались языки пламени. Правее, где сосредоточены были склады и сараи, огонь уже бушевал сплошною стеной; оттуда доносились звуки будто ожесточенной канонады — вероятно, рвались в пламени баллоны с газами. Левее большие цистерны, ужеразвороченные взрывом, на фоне зарева вырисовывались уродливыми очертаниями. У дальнего пакгауза на рельсах виден был свалившийся на бок поезд вагонеток с паровозом, парившим целыми облаками. Вдоль дороги, справа и слева, и между строениями в паническом ужасе бежали люди, обегая груду дымившегося камня от обвалившегося при взрыве двухэтажного строения.
— Это, кажется, лаборатория? — спросил я, глядя на развалины. — Слава богу, — ответил Туровский, — надо думать, что с ней погибнет и секрет этого безумца. Мимо нас со звоном и грохотом пронеслись автомобили пожарной команды. Люди на повозках были в противогазах. — Это почему же? — спросил я, указывая на маски. — А разве вы ничего не чувствуете? Я вздохнул поглубже и ощутил едкий запах, от которого запершило в горле и закружилась голова. — Хлор. Туровский кивнул головою. — Надо бежать. Хорошо еще, что ветер не оттуда. Теперь мне стала понятной причина паники, охватившей людей, застигнутых смертоносным газом, вырвавшимся из цистерн. Мы с Туровским бросились к нашей лазейке. Но едва я опустился на землю, чтобы ползти в трубу, как дух захватило мертвой хваткой, на глазах выступили слезы, я закашлялся и стал задыхаться. Алексей Юлианович поднял меня на ноги, но, видимо, и его шатало, и он был бледен, как мертвец. — Дело дрянь, — вымолвил он побелевшими губами. — Тяжелый газ стелется уже по земле и затопил все низкие места. Этот путь отрезан. Надо бежать к воротам. Я думаю, в этой суматохе на нас не обратят внимания. Да и все равно, — другого выхода нет. Мы помчались огромными прыжками вдоль стены направо, чувствуя, как все больше проникает в легкие ядовитый газ. Сюда уже неслись без оглядки со всех сторон люди, задыхавшиеся от быстрого бега и смертоносного удушающего запаха, и обезумевшие от страха. Многие падали и уже не имели сил подняться, попав в отравленную атмосферу. Теперь стало видно зеленоватое облако, колыхавшееся под боковым ветром мутными волнами и захватывавшее все большую площадь. Для нас было вопросом жизни и смерти вырваться через ворота раньше, чем нас нагонит эта отравленная волна. К счастью, мы достигли ворот прежде, чем у входа столпилось много беглецов. Как и полагал Туровский, на нас никто не обратил внимания, — все думали только о своем спасении, и через несколько минут толпа людей вынесла нас по другую сторону стены. Сюда газ еще не проник, и мы вздохнули всей грудью, с жадностью глотая свежий воздух. — Куда теперь? — спросил я своего спутника. Он молча указал рукою на заросли папоротника за поселком, похожим сейчас на потревоженный муравейник. Улицы были запружены испуганной толпой, и крик стоял над ней неумолкаемый. Женщины и дети сновали взад и вперед, с плачем разыскивая мужей и отцов, и бежали к воротам, откуда прибывали все новые группы полузадохшихся рабочих. А за стеною клубился дым, свистело пламя, и все еще не прекращались от времени да времени гулкие удары. Пробираясь вдоль стены в этой сумятице, мы достигли скоро рощи, на которую указал Туровский. Тут, укрытый зарослью, стоял автомобиль, и в нем Охакуна, бледный, дрожащий, весь — напряженное ожидание и тревога. — Наконец-то, — встретил он нас с облегченным вздохом и добавил, содрогнувшись: — Боже мой. Что там делается. Вероятно, вырвался газ. Туровский молча кивнул головою и торопливо уселся на заднее сиденье. — А Мапуи? — Его уже нет… Маори нахмурился и пробормотал сквозь зубы: — Бедная сестренка… Больше ничего не было сказано. Машина вышла из скрывавшей ее заросли и помчалась по знакомой дороге на север. Мы сидели молча, занятые своими переживаниями. Только один раз я заговорил, высказав мысль, которая — неотвязно меня преследовала: — Кто же взорвал градирни? Туровский пожал плечами. — Если б я знал… Случайность… Быть может, неожиданный союзник… Это, вероятно, тайна, которую нам не суждено разгадать. На высоком подъеме дороги у восточного мыса перед нами снова открылся вид вдаль на только что оставленные места. От двух эстакад, тянувшихся к островкам, не осталось ничего кроме торчащих кое-где обломков, с трудом различимых простым глазом. Над ними перекатывались волны набегающего прибоя, а рядом, на берегу, на всем протяжении до стены дымились развалины и обгорелые обломки заводских строений. Только теперь заговорил Охакуна, попросив рассказать все, что произошло в эту ночь на заводе. Мрачно выслушал он рассказ Алексея Юлиановича и молча двинул машину по напоенной весенними ароматами дороге. Прощаясь с нами в Роторуа, он сказал: — Уезжайте скорее к себе… Вы, конечно, были правы, сделав то, что сделали… но… не слишком ли много жертв… Во всяком случае, вам здесь оставаться дольше опасно. Это была правда. На следующий день в газетах появились сообщения о катастрофе. Завод оказался уничтоженным дотла: от градирен, цистерн с газами, больших лабораторий, где изготовлялись основные продукты, не осталось камня на камне. Погибла и центральная лаборатория, где производились опыты, и хранились детали всей работы. Трупов Булыгина и техника не распознали в общей груде развалин, очевидно, тюрьма наша также сгорела, а арестовавшие нас дозорные либо погибли во время катастрофы, либо молчали почему-то о том, что им было известно. Тем не менее, сообщалось, что подозревается злоумышление и ведется расследование. Это было грозное предупреждение, тем более, что гибель свыше тысячи человек во время пожара и от газов произвела огромную сенсацию и привлекла общее внимание. Охакуна был прав: жертв было много, но они оказались искупительными жертвами ради спасения миллионов. Молодого маори мы больше не видели, и при первой возможности, пока полиция не напала еще на наш след, покинули Новую Зеландию, все еще взбудораженную необъяснимой катастрофой. Во все время переезда Алексей Юлианович был мрачен и задумчив, — вероятно, и его мучила мысль о многочисленных жертвах его предприятия. Один только раз я видел его в возбужденном, почти довольном состоянии. Мы сидели на палубе под тентом, следя рассеянно за игрой световых зайчиков на скатерти столика, как вдруг Туровский вскочил и ударил себя по лбу. — Послушайте, какой же я был идиот! Вы знаете, почему взорвался газ? Солнце… Я испуганно оглянулся, боясь нескромных свидетелей, которые могли бы услышать эту неосторожную фразу. Но русских на пароходе не было никого, кроме нас, и никто не обратил внимания на восклицание моего спутника. — Тише, — все-таки не удержался я от упрека. — Ну, в чем же дело? — Хлор и водород… — Ну? — Эта смесь взрывается не только от нагревания, но и от достаточно сильного света… — Так что же? — Взрыв произошел в тот момент, когда взошло солнце… — Да, кажется, так… — Ну, вот… Яркий луч упал на вставленную мною стеклянную трубку, соединявшую газовые магистрали… — А… — Вот и все. Так решена была и эта загадка, и Алексей Юлианович снова впал в молчаливую задумчивость. Через две недели мы высадились у пристани на набережной лейтенанта Шмидта и, проходя вдоль каменного парапета, я невольно остановился перед памятником смелого русского мореплавателя[9], бороздившего более ста лет тому назад на утлом корвете южные моря, из которых мы только что вернулись. Это был словно прощальный привет издалека, оттуда, где греет южное солнце и плещется синее, прозрачное море. Путешествие было окончено, и результаты его сказались скоро. Уже через месяц Туровский сообщил мне, что утечка углекислоты из воздуха прекратилась. Оставалось ждать, пока деятельность вулканов восстановит равновесие и вернет в атмосферу поглощенный газ. Кажется, есть признаки, что процесс этот, хотя и медленно, но происходит. А главное, помимо того, когда в советской печати, а за нею и за границей, высказано было предположение, что погибший завод был причиной климатических изменений, грозивших превратить в снежные пустыни высокие широты земного шара, — появилось несколько проектов, имеющих целью в короткий срок не только вернуть потерянную углекислоту, но и увеличить значительно ее содержание в атмосфере.
 Недалек срок, когда человек сам даст земле тот климат, который он найдет нужным…
Недалек срок, когда человек сам даст земле тот климат, который он найдет нужным…
И теперь уже смелые умы мечтают о том, как одетая этой теплой шубой земля вернется к тем далеким временам, когда пространства Сибири были покрыты роскошной растительностью субтропического характера, а в Средней Европе и России шумели пальмы и цвели олеандры. Быть может, недалек срок, когда человек сам даст земле тот климат, который он найдет нужным, и превратит в цветущий сад свое обиталище.

 БЕЗ ЭФИРА
Рассказ
БЕЗ ЭФИРА
Рассказ
Глава I
Мистер О'Кейли вернулся домой около полуночи и долго не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок и вспоминая странный вечер, выпавший на его долю. Когда он шел по приглашению своего приятеля Джеремии Гевита на заседание Франклиновского общества, он рассчитывал в сущности спокойно подремать, он предполагал, что докладчик битых два часа будет говорить об отклонении плоскости орбиты Меркурия на угол в одну секунду в течение ста лет или что-либо в этом роде. В этой усыпляющей обстановке предстояло ему посмотреть в тесном кругу на оригинальных чудаков, занятых тайнами неба больше, чем делами земными. Однако, дремать ему не пришлось. Мистер Джемс Ховард профессор астрономий Института Карнеджи делал сообщение о своих наблюдениях над «угольными мешками», как называют темные части звездного неба, лишенные светил и составляющие до сих пор для астрономов неразгаданную тайну. И первые же слова этого странного доклада заставили мистера О'Кейли навострить уши и наполнили душу его смутной тревогой. Маститый профессор, похожий на большого марабу с голым, черепом и уныло опущенными крыльями, начал свою речь сенсационным заявлением, сразу разогнавшим сон мистера О'Кейли. — Джентльмены, — сказал он сухим, трескучим голосом, подняв к потолку палец, — я должен говорить о вещах, которые покажутся вам необычными, но именно потому требуют вашего особого внимания. По моим расчетам через шесть месяцев Земле грозит неизбежная катастрофа, которая кончится, вероятно, гибелью всего живого населения нашей планеты.
К удивлению О'Кейли слова эти не произвели особенного впечатления на почтенное собрание. Кое-кто улыбнулся, кое-кто пожал плечами; большинство остались на своих местах с видом полного равнодушия и безмятежного покоя. Мистер Джемс Ховард, извинившись, что должен начать издалека, коснулся своих многолетних исследований, относящихся к природе странных уголков вселенной, называемых «угольными мешками». Эти беззвездные провалы неба считались до сих пор скоплениями темной материи, где совершаются, по всей вероятности, таинственные процессы, еще неизвестные на Земле. — Путем длительных наблюдений и выводов я пришел к совершенно иному результату, — заявил оратор: — данные спектрального анализа, которые мне удалось добыть, говорят явственно в пользу того предположения, что эти странные космические образования обязаны своим происхождением не скоплению материи, хотя бы и очень разреженной, а наоборот— полной и абсолютной пустоте, пустоте в смысле отсутствии в них не только весомого вещества, но и светового эфира. По мысли докладчика эти темные пятна звездного неба представляют собой как бы вихревые пустоты, пузыри, плавающие в море эфира, из которых какими-то необъяснимыми процессами он выброшен наружу или во всяком случае сильно разрежен, подобно воздушным ямам в нашей атмосфере, представляющим большую опасность для самолетов. Так как лучи света не могут проникнуть через эти пустоты за неимением в них среды, передающей колебания, то нам они и кажутся черными провалами, угольными мешками вроде больших пятен в области Скорпиона, Южного Креста и в других местах. Во вселенной разбросано множество таких пустот, плавающих в бездне светового эфира, при чем по данным мистера Ховарда они движутся в различных направлениях, как вихри в воздухе, пересекая пути небесных тел. — Одно такое облачко мне удалось открыть недавно в области созвездия Лебедя, — продолжал профессор, — оно сравнительно небольшой; величины, едва достигая объема, в который может уместиться орбита Меркурия, и по моим вычислениям мчится по направлению к нам со скоростью около 300 километров в секунду. В настоящий момент оно должно пересечь орбиту Земли и столкнуться с ней, если только можно в данном случае говорить о столкновении. Последствия подобной встречи вы можете оценить сами. О'Кейли имел очень смутное понятие об эфире и не мог себе представить, какими именно неприятностями может грозить подобное событие, но, будучи подготовлен вступительными словами докладчика о недалекой катастрофе, ждал необычайного волнения, вызванного таким сенсационным сообщением. К его удивлению ничего подобного не произошло. Члены собрания скептически отнеслись к мрачному — предсказанию своего собрата. Один из них, принявший участие в прениях, с насмешкой, заметил, что коллега Ховард настроен вообще чересчур пессимистически и уже не первый раз предсказывает мировую катастрофу. Ховард презрительно пожал плечами, точно марабу встряхнул крыльями, и направился к выходу; его никто не остановил, и заседание общества продолжалось своим порядком. Но в этих разговорах О'Кейли уже в сущности ничего не понял. Спорили о том, возможно ли допустить существование пустот. В мировом эфире, толковали о том, что следует понимать под словом «эфир» и существует ли он в действительности. Ссылались на Ньютона, Канта, Пуанкаре, Эйнштейна, и никто ни словом не заикнулся больше о зловещем пророчестве Джемса Ховарда. Когда О'Кейли вышел вместе с Гевитом на улицу, он невольно, стал искать глазами созвездия Лебедя в торжественной тишине ночного неба. Гевит улыбнулся. — Тебя, кажется, напугал; этот чудак? О'Кейли вздрогнул. — Признаться, да. И меня удивляет, как мало обратили внимания на его слова. — Да ты его не знаешь, — он вообще маньяк. С тех пор, как он двадцать лет назад ждал гибели Земли при столкновении с кометой, он просто бредит мировыми катастрофами и всюду видит их приближение. — Да, но ведь он приводил доказательства, говорил о своих наблюдениях. — Сказки. Он столько раз преподносил свои сенсации, что смешно было бы об этом говорить серьёзно. — А все-таки чем такая встреча могла бы грозить Земле, если б она была возможна? Гевит на минуту задумался. — Боюсь тебе сказать. Ведь это чистая фантазия. Ну, разумеется, наступил бы полный мрак, так как исчезла бы среда, в которой распространяется свет. Вероятно, зверский мороз, благодаря прекращению поступления солнечной энергии; остановились бы другие явления, связанные с лучистой энергией, вроде передачи радиоволн. — Но ведь это в самом деле ужасно… — Брось… Я тебе говорю, он чуть не каждый год ожидает кончины мира. О'Кейли замолчал. Он был не чужд суеверия; зловещее пророчество Ховарда точно оставило в душе занозу, чувство какого-то страха, от которого он не мог отделаться, глядя в темное глубокое небо. Но глаз видел только мириады звезд, мерцающих в вышине бесчисленными огнями и молчаливых в своем вечном движении.
Глава II
Прошло несколько дней. О'Кейли чувствовал себя отвратительно. Неотвязная мысль о предсказании Ховарда портила ему аппетит и лишала сна. На следующий день после доклада он прочел в New-Iork Tribune маленькую заметку о заседании Франкменовского общества, в которой вскользь упоминалось о курьезном предположении маститого профессора, на котором собрание не сочло нужным остановиться в виду полной его необоснованности. Заметка канула в бездонное бумажное море, и бурная, трескучая жизнь большого города текла по-прежнему в грохоте повседневных больших и маленьких дел. Но О'Кейли не спал по ночам и во сне видел огромное черное пятно, заволакивающее непроницаемой тенью половину неба и несущееся к Земле с невообразимой скоростью. Это было мучительно, несносно, но он не мог с собой сладить и знал, что не успокоится до тех пор, пока не — узнает всех подробностей возможного бедствия. Он решил отправиться к Ховарду и добиться у него разъяснений. Уже стемнело, когда О'Кейли вышел из дому, и небо покрылось звездами, когда он добрался до обсерватории Института Карнеджи, где работал профессор. На вопрос, где можно найти мистера Ховарда, спрошенный, им мрачный субъект бросил на ходу. — Второй этаж, десятая дверь направо. А из-за двери знакомый уже трескучий голос закричал сердито: — Ну, какого еще чёрта там нужно? Войдите! О'Кейли, несколько смущенный странным приглашением, все же переступил порог и в нерешительности остановился. Лысый марабу ходил по комнате широкими шагами и временами, точно встряхивая крылья, пожимал плечами, бормоча себе под нос что-то нечленораздельное. Так продолжалось минут пять. Затем старый профессор круто остановился перед посетителем и спросил отрывисто: — Что нужно? О'Кейли не сразу собрался с духом ответить. — Видите ли, мистер Ховард, — начал он, медленно подыскивая слова: — я слышал во вторник ваше сообщение в заседании Франклиновского общества. — Так… ну и что же вам угодно? — угрюмо спросил профессор, засунув руки в карманы пиджака. — С тех пор я не могу спокойно спать… — признался О'Кейли. Лицо Ховарда смягчилось. — А… значит, вы не такой уж безнадежный идиот, как все эти ученые мужи, — сказал он усмехнувшись, — и вы, вероятно, теперь интересуетесь подробностями? — Да… вы меня извините, что я решился вас потревожить, но это такая необыкновенная вещь. И главное, я не представляю себе ясно, чем может грозить эта встреча? Ховард закрыл глаза, как бы представляя себе подробности предстоящей катастрофы. — Прежде всего, абсолютная непроницаемая темнота, с которой нельзя бороться никакими способами. О'Кейли кивнул головой. — Затем прекращение доступа на Землю солнечной теплоты и отсюда лютый мороз… — Это ужасно… — Но это не все. По всей вероятности, прекращение работы всех электрических установок… — Почему же? — Потому что электрические явления неизбежно связаны с нарушениями равновесия, с какими-то процессами в эфире, а раз исчезнет среда, в которой они распространяются, трудно предсказать, что произойдет… — И это все? — Нет… Может случиться нечто гораздо худшее: исчезнет, разлетится в мельчайшую пыль весь земной шар со всем его живым и мертвым багажом… О'Кейли смотрел на собеседника полный недоумения и страха. — Разлетится в пыль? При столкновении с пустотою? Я ничего не понимаю. — Джемс Ховард передернул плечами. — Я не могу утверждать этого наверняка, но, по-моему, такой исход весьма вероятен. По нашим представлениям самые атомы материи или. вернее электроны и протоны, т. е. заряды их составляющие, являются не чем иным, как вихревыми сгущениями все того же эфира. И раз он исчезнет, — очевидно будет нарушено равновесие между частицами вещества и средой, в которой они находятся. Останутся ли они целыми при таких условиях, — более чем гадательно. — А если нет, то что же случится? — Я уже сказал. Самое вещество земли со всем живым и мертвым грузом должно рассыпаться в эфирную пыль, рассеяться в пространстве, вероятно, с колоссальным космическим взрывом. — И это произойдет… — Через полгода по моим расчетам. — И избежать этого невозможно? — Что вы можете сделать, чтобы отклонить Землю от ее пути или увернуться иным, способом от столкновения? — Но… может быть, могла произойти ошибка в вычислениях? Неужели мало места в этих бездонных пространствах, чтобы в них не могли разминуться две таких крупинки, как наша Земля и этот плавающий в эфире пузырь? — Математика непогрешима, сэр, — холодно возразил Джемс Ховард, вытянув руку жестом первосвященника. — Неужели так велика опасность этой встречи? Как-то трудно себе представить, чтобы какое-то непостижимое ничто, невидимое, неощутимое… — Невидимое? Вы ошибаетесь, сэр. Увидеть его ничего не стоит, и если угодно, вы сами можете взглянуть на этого космического странника. — Я был бы вам очень признателен… — сказал О'Кейли, охваченный смутным волнением. Они двинулись по бесконечным коридорам, лестницам и переходам, пока не попали код большой купол, сквозь который громоздкое тело телескопа уставилось немигающим шаром в глубину ночного неба. — Вот, — сказал Ховард через несколько минут, повозившись у инструмента и направив его в нужную точку. О'Кейли взглянул и замер охваченный невольным трепетом. В бездонном провале, открывавшемся глазу, лучились и мерцали в торжественной тишине далекие, бесконечно далекие звезды, и вокруг них весь фон был точно усеян серебряной пылью миллионами светящихся солнц, слишком отдаленных, чтобы различить в отдельности их мигающие точки. И это чувство беспредельности пространства, ощущение бездны было так жутко, что у О'Кейли закружилась голова. Ведь средний человек так редко поднимает глаза к небу. Но, как ни напрягал он свой взгляд, он не мог различить ничего, что было бы похоже на страшного гостя, угрожающего солнечной системе. — Не видите? — спросил голос Ховарда: — присмотритесь внимательнее. У перекрестка нитей справа внизу черное пятнышко. Теперь О'Кейли увидел. Это было похоже на маленькую чернильную кляксу на серебряном фоне, такую маленькую, что в телескоп она казалась не больше горошины. — Это и есть то, что грозит Земле такими ужасами? — в голосе О'Кейли было разочарование. — Да. Это темное облачко мчится к нам с невероятной быстротой, превышающей в тысячи раз скорость полета земных снарядов; примерно, через три месяца оно ворвется в пределы солнечной системы, а через полгода настанет последний день жизни Земли. О'Кейли вздрогнул. Ему показалось, что он видит, как движется среди эфирного вихря, в бездонных провалах, наполненных светящейся пылью, где-то там на расстоянии нескольких миллиардов километров жуткий гость, словно камень, брошенный из гигантской пращи таинственной силой. О'Кейли оторвался от телескопа и взглянул на Ховарда. Тот стоял, скрестив руки на груди и пристально глядел на посетителя. — Мир тесен все-таки, как видите, — сказал он с грустной улыбкой: — хотя человеку трудно этому поверить. — И вам не верят… — нерешительно произнес О'Кейли. — Я знаю… — профессор пожал плечами — в данном случае, впрочем, это безразлично. Поскольку катастрофа неизбежна, пусть человечество проведет последние дни в неведении близкого конца. — По правде сказать, трудно с этим примириться, — покачал, головой О'Кейли: — конечно, математика непогрешима: но… могут ошибаться люди. Например, комета Галлея… — Довольно, — резко оборвал, его Ховард, вдруг багрово покраснев и сжимая кулаки: — не вам судить о заблуждении, которое было естественно двадцать лет назад, но стало невозможным теперь, когда мы вооружены такими приборами и такими методами исследования, которые еще недавно нам и не снились. О'Кейли понял, что сделал ошибку, но загладить ее было уже поздно. Напоминание о несбывшихся предсказаниях и торжестве его противников слишком больно задело старика. Он вернулся к себе в кабинет и перед самым носом гостя демонстративно хлопнул дверью, и повернул ключ в замке. О'Кейли отправился домой, волнуемый самыми противоположными чувствами и смутной щемящей тоской.Глава III
Время шло, а с ним, уходили в прошлое тревоги вчерашнего дня. О'Кейли стал постепенно забывать свое беспокойство по поводу предсказаний Ховарда. Жизнь текла своим порядком, и никто не вспоминал больше о мрачных пророчествах смешного старика. Правда, проскользнули сообщения о появлении в пределах солнечной системы темного облака, состоящего, вероятно, из несветящейся космической пыли, но на них не обратили внимания. Мало ли какие передряги происходят постоянно в межзвездных пространствах. Кто ими интересуется, помимо присяжных астрономов? Да и кроме того, на Земле происходили такие события, что было не до небесных катаклизмов. Давнишнее соперничество Америки со своим соседом на Тихом океане привело, наконец, к неизбежному взрыву. Уже гремела канонада по всему берегу от Ванкувера до Сан-Диего, уже лежала в развалинах Манила, уничтоженная японской воздушной эскадрильей в то время, как морской флот блокировал Филиппины и видима готовился к десанту.
Уже волны Тихого океана бороздили стальные гиганты, сопровождаемое тучами аэропланов, выискивая и высматривав врага, прежде чем сцепиться с ним в смертной схватке. Уже в Сан-Франциско горели дома и склады, подожженные аэробомбами, а госпитали были полны калек и слепых, отравленных газами, а в отместку американская эскадра бомбардировала Токио… Словом, опять работала полным ходом прожорливая машина войны. Однако, решающих ударов ни та ни другая сторона еще не наносила. Было ясно, что судьба новой схватки решится на море, и обе стороны, оттягивали время, собираясь с силами и нащупывая слабое место противника. Между тем по всему Тихоокеанскому побережью кипела лихорадочная работа. Возводились временные форты и убежища, громоздился бетон на железо и железо на бетон; строились береговые батареи, росли со сказочной быстротой новые и новые укрепления, и берег опутывался колючей проволокой, ощетинившись на протяжении тысяч километров на запад в ожидании врага. Сюда-то маленькой песчинкой в человеческой пыли, поднятой бурей войны, попал и О'Кейли одним из младших офицеров, обслуживавших группу береговых батарей севернее Ситля. Уже больше месяца, как весь мир для него сосредоточился на том уголке суши, где за бетонными брустверами двигались по рельсам неуклюжие платформы, на каждой из которых примостилось по три горластых пушки, прижавшихся тесно друг к другу, а сзади глубоко вниз шли крутые ступени в подземное бетонное убежище, в котором помещалась команда. Здесь был свой особый мир, своя жизнь, полная напряженной тревоги и ожидания. Предполагали, что японцы намерены высадиться где-то в районе устья Колумбии. Уже с неделю ходили слухи, что большая эскадра, сопровождавшая транспорты с войсками, рыскает неподалеку. В эти дни О'Кейли еще раз вспомнил о предсказании Ховарда, прочитав в обрывке газеты сведение о черном облаке, пересекшем орбиту Урана и двигавшемся по направлению к Земле. Заметка была написана довольно путанно, но не носила тревожного характера. Автор ее уверял, что если Земле и придется попасть на несколько часов в область этой темной чрезвычайно разреженной космической пыли, то это будет еще менее заметно, чем встреча с кометой Галлея в 1910 году. Он вспомнил черную горошину, виденную им летом в обсерватории Ховарда, и смутная тревога сжала сердце, но ненадолго. Слишком много работы было днем, излишком крепок сон ночью, чтобы отдаваться бесцельным, ненужным мыслям. К тому же это было недели две назад. С тех пор стояла ненастная унылая погода; небо было затянуто тучами. За неимением сведений затихли и разговоры о небесном госте, и с тем большим, напряжением стали ждать гостей земных. И они, наконец, появились. С утра дежурные миноносцы и самолеты дали знать о приближении противника. Скоро весь горизонт затянуло дымками идущей к берегу эскадры.
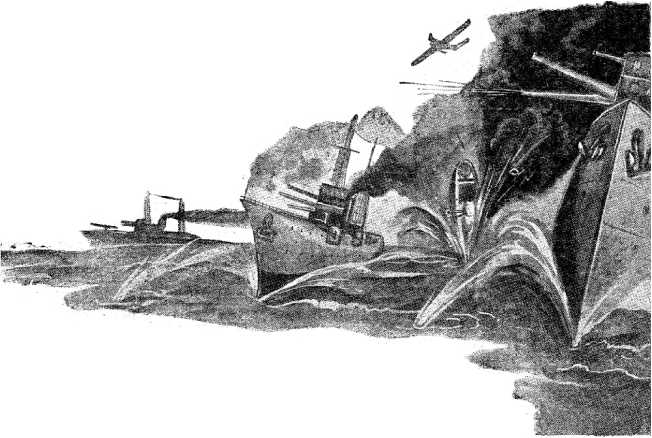
Около полудня начался бой, и О'Кейли почти потерял сознание в этом диком грохоте и гаме, сотрясавшем небо, море и землю. Люди, оглушенные, ошалелые с налитыми кровью глазами и вздувшимися мускулами метались от орудия к орудию, к зарядным ящикам, к прицельным механизмам, возились у маленьких электрических кранов, подававших тяжелые снаряды к пушкам, открывающим жадно, стальные зевы и глотавшим эти куски металлах тем, чтобы через секунду выплюнуть их в огне и громе к кипевшему и бурлившему морю. А оттуда, из-за плотной завесы дыма, окутавшей фронт крейсеров и дредноутов, неслись с гудением и свистом такие же куски стали, буравя землю, взметая ее кверху. И вот тут-то произошло нечто удивительное, нечто поистине сверхъестественное. Одно короткое мгновение О'Кейли показалось, что с востока движется с колоссальной быстротой какая-то черная стена, которая вдруг обрушилась на него абсолютным непроницаемым мраком. В первое мгновение он подумал, что попросту ослеп. Но также внезапно наступившая тишина, в которой растерянные голоса людей звучали жалкими, одинокими всплесками, доказала О'Кейли, что случилось что-то необычайное. Стрельба стихла мгновенно по всему фронту, и эти испуганные вопли перекликавшихся людей были отчетливо слышны. — Какого дьявола? Что там случилось? — заревел под самым ухом оглушительный бас командира батареи, в котором слышался не столько страх, сколько злоба человека, которому помешали выполнить важное и ответственное дело. — А чёрт его знает, ответил голос старшего офицера: — похоже на то, что пущен, ослепляющий газ. — Ну, это вы вздор несете, — ответил капитан, — ведь эта чертовщина налетела с востока, а не с моря. Да мне кажется, и их захватило, — замолчали ведь желторожие… — Не знаю, — сказал снова старший офицер, — но если это не газ, то значит сам сатана накрыл нас своей шапкой. Я ни зги не вижу в этой чёртовой тьме. — А вот посмотрим, — гудел командир: — эй, Джонни! — Есть, сэр, — ответил из темноты испуганный голос фейерверкера. — Зажгите факелы для ночной стрельбы. — Есть, сэр… Послышалась возня, чиркнула спичка, одна, другая, зашипела загоревшаяся смола, но ни один — луч света не озарил как будто еще более сгустившийся мрак. — Ну что же вы там, копаетесь? — нетерпеливо крикнул командир. — Они не горят, сэр, — ответил жалобно Джонни. — Что вы болтаете, пустоголовое чучело? Разве вы в них налили воды вместо горючего? — Нет, сэр, — начал было фейерверкер и вдруг вскрикнул голосом, в котором смешались страх и внезапная физическая боль. — Что там еще такое? Чего вы орете? — Они горят, сэр, — плакал дрожащий голос Джонни: —я больно обжёгся, но… они не светят. Энергичное ругательство, сопровождаемое угрозой по адресу фейерверкера, было ответом на эго странное заявление. Командир двинулся ощупью в город и, видимо споткнувшись в темноте, грохнулся с платформы на землю. Слышно было, как он стонет и чертыхается, обещая повесить и расстрелять своих подчиненных через двух третьего. — Позвать радиста! — заорал он наконец, несколько придя в себя, как будто можно было двигаться куда-нибудь в этой кромешной тьме, не рискуя сломать себе шею на каждом шагу. — Радиста к командиру! — передали приказание испуганные голоса куда-то в недра непроглядного мрака. И через пять минут, перекидываясь от человека к человеку, побежало ответное сообщение, приводя людей в неописуемый ужас: — Аппарат не действует… — Телефонист!.. — как труба архангельская, ревел голос взбешенного командира… — Есть, сэр, — отвечал откуда-то справа с телефонного поста дискант Гарри Паркера — телефониста. — Вызовите командира группы… — Телефон не работает, сэр…. В темноте послышались испуганные вопли, кто-то читал молитву, кто-то сыпал богохульными ругательствами. — Фу, чёрт, да зажгите же наконец хоть свечу, — приказал старший офицер. — Они не горят, сэр, не дают огня… Тогда чей-то обезумевший истерический голос завопил сзади: — Конец пришел, братья! Последняя великая ночь мира! — Замолчите, безмозглое животное! — снова раскатился мощный бас: — или я пулей заткну вашу глотку… Слышно было, как щелкнул курок револьвера. Но голос не унимался. — Спасайтесь! Гулко треснул выстрел. Пуля свистя полетела в темноту, но ни малейшей вспышки, ни намека на огонь не рассеяло ее. Теперь двигались десятки ног, шаркая ощупью, как слепые, уходя куда-то вглубь, в тьму, в неизвестность. И О'Кейли пошел вместе с другими. То есть не вместе, потому что никто друг друга не видел, а просто вперед, прямо перед собой. Он понял теперь все. Предсказание Ховарда сбылось. Земля попала в область пустотного вихря и неслась теперь в абсолютное ничто, лишенная света, лишенная всего, что связано было с наполняющим мир эфиром. — Но ведь это еще не все, — вспомнилось ему, — земной шар должен взорваться, должен разлететься в пыль и рассеяться в пространстве, как пепел по ветру. В эту минуту до его слуха донесся смутный шум, идущий сзади и нарастающий с каждой секундой. Было похоже, будто во мраке несется огромное стадо, и от топота его дрожит земля. — Ну вот, идет конец… — подумал О'Кейли и лег ничком на землю в ожидании того страшного, что должно было уничтожить и его, маленькую песчинку, затерянную во тьме, и все живое вокруг.
Глава IV
Однако это еще не был конец, предсказанный Джемсом Ховардом. Грохот, поразивший внимание О'Кейли, был предвестником свирепого урагана, налетевшего с невероятной силой на блуждающих во мраке людей. Воздух наполнился таким неистовым шумом, который поглотил все остальные звуки. Буйный ветер ревел, свистал и визжал в уши, неся тучи пыли, и валил с ног; дышать можно было только обернувшись к нему спиной, иначе он душил, врываясь в легкие и забивая их песком. Слышен был шум и лязг опрокидываемых металлических предметов, треск ломающихся деревьев, крики людей, еле различимые в вое бури. И с каждой секундой усиливался свирепый холод, точно ураган нес с собою дыхание ледяных пустынь всего мира. О'Кейли снова вспомнил Ховарда, предвидевшего и эту подробность недалекой катастрофы. Начинали уже коченеть пальцы рук и ног, тело сотрясалось зябкой дрожью, а буря бесновалась. по-прежнему, и ни зги света не было видно во мраке. О'Кейли, стиснув зубы и сжав кулаки, обернулся спиною к ветру и сделал несколько шагов куда-то в пространство. Ему посчастливилось наткнуться на бетонную стенку бруствера. С трудом перебравшись на подветренную сторону, он несколько отдышался и старался отогреть движениями озябшие руки и ноги. Он был здесь один, и ему стало казаться, что во вселенной не осталось ничего живого и он стоит здесь среди бушующего мрака и ждет своей смерти. Это было невыносимо жутко. Его потянуло к людям. Захотелось, во что бы то ни стало, услышать еще раз звук человеческого голоса, почувствовать подле себя живое существо. Он решил попытаться ощупью, ползком, как. угодно добраться до бетонного убежища. Там можно было найти и защиту от леденящего ветра, бесновавшегося по-прежнему на просторе. Надо было сначала отыскать правую платформу батареи, а оттуда пробраться еще шагов на сто дальше вдоль рельсового пути, однако это предприятие оказалось делом не легким. Идти в открытую было невозможно, так как; ветер буквально валил с ног. И О'Кейли топал на четвереньках, ощупывая коченеющими пальцами попадающиеся по пути предметы. Где-то неподалеку, хлопнул короткий еле слышный выстрел, — точно откупорили тугую бутылку, — вероятно, кто- нибудь из товарищей предпочел добровольно умереть. Через несколько шагов О'Кейли наткнулся на тело человека, лежавшего ничком, лицом вниз и еще вздрагивавшего в последних конвульсиях. А немного поодаль он стукнулся головой о железные ступеньки лестницы орудийной платформы и услышал знакомый голос наводчика первого орудия. — Кто тут? — Это вы, Мойк? — закричал в свою очередь О'Кейли, стараясь побороть шум ветра. — Господин лейтенант? Да, сэр, это я… Спаси нас, святой Патрик. Что это такое творится, сэр? Кажется, началось светопреставление. — Похоже на то, Мойк, — ответил О'Кейли, — дело плохо. Что вы тут делаете? — Жду смерти, сэр, — ответил унылый голос наводчика, — я уже наполовину замерз. — Вы не знаете, кто это сейчас стрелял рядом? — Кажется, командир, сэр. Он был здесь у первого орудия, я узнал звук его кольта. — Так это первое орудие? — Да, сэр, я не двигался с места с тех пор, как налетела буря. — Надо бежать отсюда, — сказал. О'Кейли — ведь тут рукой подать до убежища вдоль рельсов. — К чему? Не все ли равно… где умирать? Да я и не могу двигаться… Пальцы совсем не действуют. — А все-таки лучше, чтобы конец пришел на людях, чем в этой пустыне. И потом может быть удастся- немного отогреться. — Отогреться? О да, сэр… Если бы чуточку стало теплее…? — Ну так двигайтесь, Мойк, будьте мужчиной. И два человека, цепляясь друг за друга, поползли вдоль рельс, припадая к земле и отворачивая лицо от ветра, останавливающего дыхание. Песок, поднятый им, забивал рот, хрустел на зубах, проникал в легкие и вызывал тяжелый, болезненный кашель. Так прошло с полчаса: они сделали, вероятно, не больше половины пути, когда вдруг ветер упал так же внезапно, как и налетел, и в наступившей тишине ясно стали слышны крики и стоны людей, копошившихся в темноте, и отчаянные вопли сирен откуда-то издали, — очевидно с кораблей, блуждающих наудачу вблизи берега и лишенных возможности ориентироваться без света, без компаса, без каких бы то ни было указаний о направлении движения. Обрадованные путники встали на ноги и продолжали путь, взявшись за руки и шагая по шпалам. Но едва сделали они таким образом десятка два шагов, как пошел сухой и колючий снег, в несколько минут покрывший землю толстым ковром, в который ноги уходили выше щиколотки. Почти в то же мгновение Мойк наткнулся на стоящий на пути вагон, возле которого слышна была возня десятков людей, сдавленные крики, звуки борьбы, изредка револьверные выстрелы. — Что это такое? — с недоумением спросил О'Кейли, прислушиваясь к необычайному шуму. — Неужели японцы ухитрились в этой темноте сделать десант? — Нет, сэр, — ответил, стуча зубами от холода Мойк: — я понимаю, в чем дело. Это не японцы. Мы попали на запасный путь, на который сегодня утром доставили вагон с теплой одеждой к зиме. — Теплая одежда… — О'Кейли точно осенило. Это был луч надежды, возможность согреться, спастись от леденящего холода, становившегося с каждой минутой непереносимее. Мороз захватывал дух, острыми иголками покалывал легкие, трепал все тело страшной неуемной дрожью; руки и ноги коченели все больше, пальцы с трудом можно было разжать. И вот судьба посылала на спасение, нет — об этом О'Кейли не смел думать, — но по крайней мере отсрочку. Но что было делать? Принять участие в этой звериной схватке и кулаками и зубами отстаивать свое право на жизнь? Это было почти безнадежно в том состоянии, в каком были они с Мойком, с окоченевшими руками и ногами, обессиленные борьбой и ураганом. Счастливый случай пришел им ка помощь. Сверху, очевидно с платформы вагона, раздался зычный голос сержанта Пирса, человека с пудовыми кулаками и весьма решительным характером, которого все уважали, а многие и побаивались. — Эй, вы дурачье, — орал он в темноте; — и казалось, видно было, как разевается его непомерная глотка. — Куда вы все лезете? Ведь вы околеете, прежде чем добьетесь толку таким образом! — Тебе хорошо говорить, — перебил его из темноты чей-то голос: — небось, напялил уже на себя пару полушубков… А мы здесь дохнем. — Молчи, Паркер, — ответил голос сверху — не то я сверну тебе шею, коли ты сюда сунешься. Я говорю для твоей же пользы. Вас тут десятка два-три не больше. А в вагоне запас одежды по крайней мере на тысячу человек! Послышался одобрительный гул голосов. — Ну вот — значит хватит на всех с избытком. — И если вы не будете кусаться, как бешеные звери, а станете по порядку спокойно получать вещи, вы все оденетесь гораздо скорей. Понятно? — Верно, — закричали со всех сторон: — давай, Пирс, вещи… Подходи, ребята, по очереди. Привычка к дисциплине взяла верх, и люди, держась друг за друга, стали подвигаться к дверям вагона, подбодряя впереди стоящих ругательствами и тумаками. В темноте началась перекличка. — Эй, Тимми, — кричал один голос, дрожа от — стужи и заикаясь: — ты здесь? — Здесь, дружище, — отвечали сзади: — двигайся скорей, а то я окочурюсь, не дождавшись очереди. — А где Симмонс? — Симмонсу еще два часа назад оторвало башку японским снарядом. — Бедняга! — Кой чёрт, бедняга! Я ему завидую. Разве лучше замерзнуть в этой чертовой тьме, где не видишь огонька собственной трубки, когда она торчит в зубах? — Да что же такое случилось, скажите ради бога? — спрашивал кто-то, и в голосе его дрожал и бился смертельный страх. — Может быть, затмение? — предположил другой голос. — В голове у тебя затмение — сказал тот, кто справлялся о Симмонсе: — видал ты во время затмения такую непроглядную темень, в которой отказываются светить земные огни? — Так в чем же дело? — А чёрт его знает. Телеграф, телефон, радио не работают. Ничего не известно, что творится на свете. Хотели снестись с соседней батареей оптическими сигналами, — ни один прожектор не действует. — Почему? — Вот погадай на пальцах, почему. Динамо не дают тока… — Так попробовали бы ацетиленовый… — То-то у тебя не спросили совета. Двадцать раз пробовали… Шипит, горит, а света ни на полцента… Точно весь мир в какую- то бездонную черную яму провалился. О'Кейли думал о том, что он один очевидно знает истинную причину катастрофы, но ведь не читать же было лекцию по астрономии этим обезумевшим от ужаса и полузамерзшим людям. Да и зачем? Чтобы подтвердить неизбежность конца, обманчивость всякой надежды. И все-таки у него в душе эта надежда теплилась неугасимым огнем. Он думал о том, что предсказание Ховарда не сбылось до конца: материя не рассыпалась эфирной пылью, не взорвалась внутренними силами, хотя и застывала постепенно, охваченная стужей межпланетных пространств. Но ведь в таком случае рано или поздно это должно кончиться… Только именно чтобы не было слишком поздно… Снег падал по-прежнему густыми хлопьями, иноги вязли в нем уже по колени. Мороз усиливался, становилось труднее и труднее дышать. Некоторое облегчение наступило в вагоне, куда О'Кейли попал наконец вместе с другими и закутался во все теплое, что только можно было найти в разбросанной по полу куче одежды. Сюда понемногу собрались все двадцать человек, которые набрели случайно на спасительный вагон. Они сбились в кучу, прижавшись друг к другу и стараясь согреться своим и чужим дыханием. Идти на поиски убежища теперь было бесполезно, — в темноте, под толстым слоем снега все направления были одинаковы. А здесь была хоть какая-нибудь защита от ветра, груда теплого платья, в которую можно было зарыться, а главное… люди, ставшие внезапно такими близкими, — точно родные братья. По мере того как крепчал мороз, все теснее жались они друг к другу, и понемногу затихали разговоры, заменяясь всхлипываниями, бормотанием и стонами. И в наступившей постепенно тишине доносились яснее звуки снаружи, доказывавшие, что и там, за тонкими стенками вагона, корчился в предсмертной агонии еще недавно такой шумный и полный жизни мир. Где-то заржала лошадь, собака завыла ей в ответ и вдруг замолкли обе, точно пораженные молнией. Изредка раздавались выстрелы, еле слышные, почти заглушенные снежной бурей, надрывно ревели сирены. Один раз все эти разрозненные звуки покрыл тяжелый гул далекого взрыва, от которого вздрогнула земля и задребезжали стекла. — Что это? — спросил кто-то испуганно. — С моря, — ответил голос сержанта: — что-нибудь случилось у желторожих. — Да не мудрено, если в этой темноте они все друг друга перетопят, — сказал еще кто-то, и снова наступило молчание. О'Кейли чувствовал, как его с каждой минутой все более одолевает странная дремота. Он попробовал было стряхнуть ее, но сознание замирало, сковываемое неодолимой силой. «Я замерзаю», — подумал он, хотел было шевельнуться, позвать на помощь, но ни рук, ни ног у него больше не было, а из груди вырвался только невнятный стон, в котором он не узнал своего голоса. Потом его охватил полный покой и безразличие ко всему окружающему. Была еще смутная мысль о близком конце, но она не пугала, как раньше, а связывалась с неодолимым желанием сна, которому он больше не мог противиться.Глава V
И все-таки ему суждено было проснуться. Кто-то тряс его изо всех сил за плечи, растирал чем-то холодным лицо, руки, ноги, переворачивал с боку на бок, точно куль с мукой. О'Кейли открыл глаза и пробормотал что-то невнятное, протестуя против нарушения покоя. Над ним нагнулось скуластое лицо Мойка с побелевшими оттопыренными ушами и огромным красным носом. — Очнитесь, сэр, — твердил он продолжая растирать ноги О'Кейли: — все кончилось… Надо приниматься за дело. О'Кейли повернул голову и зажмурился от целого потока солнечных лучей, врывавшихся через раскрытые двери вагона. — Что кончилось? — спросил он, не отдавая еще себе отчета в случившемся… — Все, сэр… Эта черная буря пронеслась мимо так же быстро, как и налетела. — Черная буря? — О'Кейли вспомнил теперь все, что произошло с утра этого жуткого дня. — И мы с вами остались живы? — пробормотал он в недоумении: — А другие? — Не знаю, сэр. Но думаю, что многих мы не досчитаемся после сегодняшнего дня. О'Кейли оглянулся на ворох меховой одежды, в котором копошились, стонали и двигались закутанные фигуры. — Нет, сэр, не здесь, — сказал Мойк, качая головой — те, кому посчастливилось попасть сюда, остались живы, а вот там… — Он махнул рукой по направлению открытой двери. О'Кейли дотащился до нее и выглянул наружу. Далеко вокруг, насколько хватал глаз, лежала снежная мертвая пустыня, в которой не было заметно никакого признака жизни. Полузасыпанные снегом, пушки так и остались с поднятыми кверху зевами, как застал их момент катастрофы, кое-где на платформах можно было различить скорченные, безжизненные фигуры, также покрытые снежным саваном. Сзади, где был когда-то рельсовый путь, торчали местами из- под снега поваленные бурей телеграфные столбы, опутанные проволокой, семафор; с беспомощно поднятым крылом, и одиноким островом маячила водокачка: Все было мертво и неподвижно вокруг — от края и до края горизонта. О'Кейли вздрогнул. Ему показалось, что они остались одни в этой пустыне, одинокая кучка измученных людей. Он бросился внутрь вагона, к товарищам по несчастью. Здесь — понемногу всё приходили в себя. Только двоих так и не удалось привести в чувство, — они уже перестали дышать. У нескольких, были отморожены руки и ноги. Их устроили в теплом углу, на куче мехов, а те, кто могли держаться на ногах, открыли совещание. Прежде всего решено было связаться с внешним миром. Телеграф и телефон работать не могли, — столбы всюду были опрокинуты ветром. Оставалось радио, и вот, пробираясь через сугробы снега, утопая в них выше пояса, кучка людей двинулась к полевой станции, стоявшей в нескольких десятков шагов от их вагона. Здесь они нашли еще человек десять, укрывшихся в бетонной убежище. Среди них был и батарейный радист. Около часа прошло на очистку станции от снега, и только тогда затрещал аппарат, посылая в пространство тревожные призывы. Долго ждала кучка бледных взволнованных людей, стеснившаяся у аппарата, ответа откуда-нибудь из окружавшей их мертвой пустыни. Мир молчал… И только когда напряжение достигло высшей степени и люди боялись глядеть друг другу в глаза и предчувствии страшной истины, — застучал аппарат, и поползла змеей испещренная знаками лента. Радист передавал товарищам значение сигналов. — Портланд… Портланд… Правительственная станция… небывалая катастрофа… пронеслась снежная буря… два часа абсолютный мрак… холод сто градусов по Фаренгейту… город почти вымер… много обмороженных, больных… врачей нет… просим помощи… Кто вы? Аппарат замолк. Снова начал передачу радист. — Находимся на береговой батарее № 7 у Ситля… Выдержали бурю… Все вокруг завалено снегом… От батареи уцелело двадцать три человека… Далекий собеседник перебил нетерпеливо: — Где японцы? Только теперь вспомнили об утреннем бое и вражеской эскадре. — Они ушли, — сказал маленький Джонни-фейерверкер: — я поднимался на наблюдательную вышку. Море чисто. Недалеко от берега торчат трубы двух или трех броненосцев, разбитых бурей. — Ушли? — мрачно переспросил Паркер, — по-моему отправились на завтрак к акулам… Надо думать, воевать теперь будет некому и незачем. Землю основательно повымело. Придется строить жизнь наново. Это было похоже на правду. По крайней мере, очевидно весь этот угол Штатов был опустошен на протяжении сотен километров. На общем совете решили, воспользоваться двумя из грузовиков, бывших не батарее, и двинуться в Портланд, на соединение с теми, кто уцелел в городе. Но машины надо было сначала откопать из-под снега. Кроме того, пробиваться сейчас по сугробам, глубиною в рост человека, было немыслимо. Осталось ждать утра в надежде, что снег осядет под лучами солнца, и станет возможным тронуться в путь. Пока занялись приготовлениями, заключающимися в приведении в порядок автомобилей и сборе пищевых запасов, Последнее правда, было нетрудно, так как продовольственный склад бал полностью к услугам горсточки людей. О'Кейли вместе с Мойком отправились на наблюдательный пункт взглянуть на море. Оно хмурилось темными свинцовыми волнами, по которым шурша и толкаясь плыли плоские опустошенные снегом льдины. На горизонте действительно дымков не было видно. Зато ближе, милях в двух от берега, неподвижно застыли два крейсера, точно объятые сном среди водной равнины. Трубы их тоже не дымили, и, насколько можно было различить в бинокль, на палубе незаметно было признаков жизни. Вымпела и флаги лениво трепались по ветру, и течением оба судна медленно уносило к северу. Очевидно там никого не осталось в живых, а если и осталось, то в таком количестве и состоянии, что люди не могли управлять огромными машинами кораблей, ставших теперь игрушкою океана. Еще ближе, на прибрежной мели, высовывались из воды трубы и мачты нескольких больших судов; волны бежали через них, и по мере того, как откатывалась от берега полоса прибоя, обнажались их корпуса, глубоко засевшие в песок и безжизненно неподвижные. Затем наступила ночь, жуткая, кошмарная ночь, неповторимая для тех, кто ее пережил. Кучка людей собралась в вагоне и разговаривала вполголоса, обсуждая происшедшее. Кругом стояла непередаваемая, удручающая тишина. Не слышно было ни голосов людей, ни криков птиц или лая собак, — ни одного звука, который нарушал бы безмолвие снежной пустыни. Мир притих, замер, точно пораженный столбняком. О'Кейли вышел из вагона и взглянул на запад: там среди ясного звездного неба зияло черное облако, похожее на резко очерченную, несколько удлиненной формы тучу, закрывавшую все семь звезд Большой Медведицы. Но он знал, что это не было тучей. Там, сделав свое дело, несся с тою же молниеносной быстротой пустотный вихрь куда-то дальше, в бездонные провалы, в таинственную глубину вселенной, из которой он так внезапно вынырнул, — быть может, в поисках новых жертв. О'Кейли вспомнил черное пятнышко в телескопе обсерватории института Карнеджи и содрогнулся. Какие страшные тайны хранит в своих недрах холодная бездна пространства, и как бессилен еще человек перед этими космическими силами! Кто знает, что ждет его впереди через день через год, через сотню, тысячу или миллионы лет! До каких пор будет земля нести на себе живую, плесень, не знающую своего завтра и когда наступит неизбежный конец и откуда он придет? Ночь прошла, и раннее солнце осветило все ту же картину безмолвного опустевшего мира. К полудню снег осел, и две машины, тяжело пыхтя, двинулись в путь, пробивая его по глубокому насту. К вечеру прибыли в Портланд, и тут только выяснились истинные размеры происшедшей катастрофы. Паркер оказался прав. Жизнь приходилось строить сызнова. То, что произошло на берегах Пэджет Соунда, охватило небывалым еще бедствием весь земной шар. Три часа отсутствия эфира, о котором спорили люди науки, существует ли он в действительности, перекроили судьбу человечества. Невероятная стужа, отмеченная самопишущими приборами местами почти до ста градусов ниже нуля по Цельсию, уничтожила две трети населения земного шара. Особенно пострадали зоны, близкие к тропикам, — они, — в сущности, превратились в пустыню.
На севере, где в момент катастрофы стояла уже зима, влияние этого небывалого холода было менее значительно. И здесь, разумеется, число погибших исчислялось миллионами, но в этих широтах люди были более подготовлены к морозам. Привычка к холоду (правда менее всего), а главное теплые одежды и теплые жилища, которых не было на юге, спасли жизнь десяткам миллионов. Но и помимо снежной бури разыгрался целый ряд несчастий, превративших эти ужасные часы в форменный ад. Отсутствие света и прекращение работы всех электрических установок вместе с паникой, охватившей людей, вызвали множество пожаров, уничтоживших целые промышленные центры. Особенно ужасны они были потому, что огонь не находил себе никакого сопротивления и бушевал в абсолютном мраке, не давая ни луча света и тем не менее сжигая все, что попадалось ему на пути. Теперь предстояло колонизовать сызнова огромные пространства обезлюдевших — и опустошенных районов Старого и Нового Света, где погибли не только люди и животные, но и вся растительность. И центрами, откуда предстояло начаться этой колонизации, были в Западном полушарии Канада, а в Восточном — Россия. Отсюда человек должен был снова двинуться на завоевание земли, на которой он, казалось, так прочно обосновался. О'Кейли вернулся в Нью-Йорк и здесь узнал о судьбе профессора Джемса Ховарда.

Старик до последней минуты оставался в своей обсерватории, наблюдая приближение, пустотного вихря. Он так был уверен в своей правоте и в неизбежности общей гибели, что не принял никаких мер для своего спасения. Он так и умер у окуляра телескопа на своем посту, встретив лицом к лицу наступление предсказанного им бедствия, и теперь покоится на обширном новом кладбище, и на могиле его стоит памятник, на котором высокий старик с вдохновенным лицом протягивает руку к небу, как бы указывая на приближающегося, к земле космического странника.
 ШТЕККЕРИТ
Рассказ
ШТЕККЕРИТ
Рассказ
Глава I
— Война? Война, милый мой, прекратится на земле не раньше, чем последняя инфузория сожрет предпоследнюю, — не раньше. Штеккер закончил свою энергичную сентенцию не менее энергичным жестом, стукнул пустой кружкой по мраморному столику и окинул взглядом жующий и чавкающий зал. — Все это — материал для будущей войны, — продолжал он, жестко улыбаясь. Они и их дети, и дети их детей. Собеседник проследил за его взглядом и содрогнулся, глядя на живое человеческое море. — Ну, и вы тоже… готовитесь? — Да, только об этом нельзя говорить вслух. — Отравляющие газы? Штеккер барабанил пальцами по столу, следя за дымом сигары. — Д-да, — сказал он наконец, поворачиваясь к собеседнику: — это будет в свое время сюрпризик, перед которым побледнеют иприт, льюисит и все, что было до сих пор в области военной химии. — Секрет, конечно? — Надеюсь, да… Хотя вынюхивают его усердно. Но ведь это у нас — «меры борьбы с вредителями и болезнями злаков», — мирная химическая промышленность, так сказать, — он сухо засмеялся. — В чем же будет сила этого яда, на который вы возлагаете такие надежды? — Видите ли, он должен быть средством для ударов молниеносных, оглушающих… Вещество, которое своим действием наводило бы неодолимый ужас, уничтожая в бойцах всякую мысль о возможности борьбы… Одно прикосновение его вызывает жгучую, невыносимую боль. При вдыхании его смерть почти мгновенна. Оно проникает сквозь все оболочки органического происхождения, прожигая их насквозь… — Но ведь против всякого яда, в конце концов, существует противоядие! — Противоядие, разумеется, найти можно и должно, чтобы оградить своих бойцов. И я его открыл… после двух лет работы… Но пока его будут искать те, на кого обрушится мой газ, он свое дело сделает. Ибо обычная защита здесь бессильна: яд просачивается сквозь ткани одежды, если в ней есть хоть доля органических волокон или малейшие поры. Ну, вот… Вообразите себе, какое впечатление будет производить такая туча, когда она широкою волной поползет на противника… Понимаете ли? паника, безумие, отчаяние. Ничего живого на пути не останется… Гейслер смотрел на собеседника почти с ужасом. — И вы можете говорить об этом так спокойно? Неужели вы, занимаясь подобными исследованиями, не думаете о том, что они направлены на живых людей, которым они несут страдание и смерть? Штеккер помолчал с минуту. — Страдания единиц и миллионов единиц не идут в расчет на весах истории, — сказал он наконец сухо, — и когда помнишь об этом, то все становится очень просто и ясно. — Страдания единиц и миллионов единиц не идут в расчет на весах истории, — сухо сказал Штеккер.
— Страдания единиц и миллионов единиц не идут в расчет на весах истории, — сухо сказал Штеккер.
— И что же, работа над этим новым оружием уже закончена? — К сожалению, далеко нет. Еще много придется повозиться. Но я своего добьюсь. — И он будет называться, этот новый газ? — Он будет называться «штеккерит». Полагаю, что на это я имею право? Гейслер молчал, глядя в задумчивости на копошившийся людской муравейник.
Глава II
В лаборатории сгущались сумерки, и Штеккер зажег огонь. Исчезли неясные тени под ровным светом, струившимся от матовых полушарий под высоким потолком. За окном вдруг сразу стало темнее, будто опустили на него мутную завесу. Тишина стояла невозмутимая, какая бывает в предвечерний час в обширных пустых помещениях, когда останешься в них один, утомленный дневной суетой и шумом. Штеккер сегодня задержался здесь дольше обыкновенного для выполнения новой работы и на полчаса перед этим отдался ленивому far niente, куря сигару. Он перебирал в памяти все, что видел и слышал в течение последних дней. Гейслер сказал как-то: — Попробуйте поставить себя на место тех сотен тысяч, которых будут травить вашими газами, как крыс или сусликов. Штеккер презрительно усмехнулся. — Странное сопоставление! Сотни тысяч — это пушечное мясо, предназначенное железными законами пополнять статистические рубрики убитых и раненых. А он принадлежит к числу тех, которые являются сами движущей силой в сложном ходе дел человеческих. Случайность, конечно, возможна всегда, — он вспомнил трагическую судьбу Саккура[10], погибшего в разгаре своей работы. Ну что же, он сумеет встретить смерть достойным образом, как подобает ученому и мыслителю, без воплей и ужасов. Но это нисколько не меняет сущности дела. Штеккер бросил докуренную сигару, потянулся и перешел к рабочему столу, где стоял прибор для испытания физиологического действия исследуемых газов. Под большим стеклянным колпаком сидела уже очередная жертва, большая серая крыса, беспокойно забегавшая при приближении человека. Штеккер посмотрел на нее несколько секунд, выжидая, пока она отодвинется к дальнему краю резервуара, в стороне от подводящего крана, потом впустил облачко красноватого газа под колокол и стал наблюдать. Крыса забилась, в угол, не трогаясь с места, и только когда первая багровая струйка, стелющаяся по дну, лизнула ноги, она, почувствовав ожог, жалобно закричала и заметалась в прозрачной клетке, стукаясь носом о стеклянные стенки, поднимаясь на задние лапки, царапая передними преграду и вытягивая кверху голову в смертной боли и ужасе. Штеккер равнодушно следил за Знакомыми этапами действия газа и ждал. Крыса, бегая от стенки к стенке, наткнулась на небольшую колодку, поставленную посреди дна и возвышавшуюся над ним на несколько дюймов. В одно мгновение она вскарабкалась наверх и глядела на подымающееся снизу багровое море, вся дрожа и облизывая обожжённые лапы. Но дышала она по-прежнему спокойно, — вне облака присутствие газа не беспокоило животное. С этим то и приходилось бороться больше всего и пока безуспешно. Газ имел колоссальную плотность и чрезвычайно медленно смешивался с воздухом, двигаясь густой волной. И сейчас было то же, несмотря на примеси, имеющие назначением облегчить распространение ядовитого облака. Правда, оно давало о себе знать издали слабым приторным запахом, уже знакомым Штеккеру, но запах этот, вызываемый именно летучими примесями, не был ядовит, хотя и причинял легкое головокружение. Штеккер прекратил впуск газа под колпак. Затравливаемая крыса, сидя на подставке, несколько успокоилась и только жалобно попискивала. Тогда экспериментатор пустил в ход пропеллер, вделанный в верхнюю крышку колокола. Завертелись лопасти, и волна воздуха всколыхнула осевший внизу газ. Красноватые струйки его завихрились спиралями и быстро поползли кверху. Одна за другой стали лизать они дрожащее тело загнанного зверька, заметавшегося снова от страха и боли. Но вот плотный клубок ядовитого дыма, подхваченный вихрем, взвился кверху и окутал голову животного. Крыса пронзительно закричала, подняла кверху лихорадочно раскрытый рот и задышала тяжело и прерывисто, потом в судорогах свалилась на бок. Еще полминуты — и багровый туман колыхался уже над совершенно неподвижным телом. Штеккер остановил пропеллер и открыл кран, через который вбрызнулась под колокол струя распыленной жидкости, в течение минуты поглотившей газ, наполнивший уже почти весь резервуар. Опыт был кончен. Он снял колпак с тарелки и осмотрел внимательно мертвое животное. Наружные признаки ничем не отличались от виденных уже много раз раньше. Воспаленная кожа, клочья выпадающей шерсти, помутневшие глаза, окрашенная кровью пена во рту — ничего нового. Штеккер равнодушно взял труп через бумагу, швырнул его в ящик и позвонил. Явился служитель, ленивый и сонный парень, взятый временно взамен заболевшего старожила лаборатории. — Уберите, — сказал ему Штеккер, — показывая на ящик. — И приготовьте к завтрашнему утру морскую свинку из большой клетки. Служитель все с тем же апатичным видом взял за хвост мертвую крысу и пошел к двери. Штеккер покачал головою. Он недолюбливал этого неповоротливого, странного человека, глядевшего всегда исподлобья и скупого на слова. — Экая сонная тетеря, того гляди каких-нибудь глупостей наделает сдуру. Ну, да, слава богу, через три дня вернется старый Густав. Он подошел к маленькой двери, от которой несколько ступеней вели вверх по узенькой лестнице в небольшую темную комнату, служившую для опытов над действием различных лучей на исследуемые вещества. Помещение было глухим тупиком, не имевшим другого выхода, и без окон, так как работы производились без дневного света. По пути Штеккер оглядел несколько стальных баллонов, стоявших подле двери. Они были наполнены готовым газом под большим давлением и стояли здесь временно, перед отправкой на испытательный полигон. Смутная мысль мимолетной тревогой шевельнула мозг: —Убрать бы их отсюда поскорей! — Проверил манометры, осмотрел краны, — все было в порядке. Сзади послышались шаги, снова вошел служитель и стал передвигать что-то на столах. — А как с собакой, господин профессор? — спросил он таким голосом, точно ему лень было ворочать языком. — А как с собакой, г-н профессор? — спросил служитель.
— А как с собакой, г-н профессор? — спросил служитель.
Штеккер взглянул на небольшую клетку, стоявшую на высоком столе у окна, в которой дремала, свернувшись клубком, маленькая собачка. Она подверглась накануне воздействию газа в слабой концентрации, и на завтра ее ожидало вскрытие для исследования состояния внутренних органов. А пока она спала, повизгивая по временам и вздрагивая всем телом. — Дайте ей корму и оставьте здесь, я займусь ею завтра утром. Служитель молчал, словно прячась в затаенном углу лаборатории. Штеккер поднялся по узким крутым ступенькам, зажег свет и задернул штору, закрывавшую плотными складками проем двери. Он подошел к столу, на котором стоял большой спектроскоп, плоский стеклянный сосуд, наполненный газом, катушка Румкорфа и еще несколько приборов. Здесь работа была спокойной, методической, в ней не замечалось бега времени. Сменяли друг друга цветные линии в поле спектроскопа, то яркие, то еле различимые, жужжал однообразно индуктор, в дальнем углу скреблась мышь. Часы внизу пробили девять, — Штеккер машинально сосчитал удары; где-то далеко хлопнула дверь. Так прошел час, может быть, больше… И вдруг протяжный, полный смертельной боли и страха собачий вой ворвался в темную комнату и замер… Штеккер вскочил на ноги, вдруг охваченный внезапным ознобом. Минуту он прислушивался, — вой сменился визгом надрывным, пронзительным… Он повернул выключатель и бросился к двери, но, отдернув штору, остановился как вкопанный, не смея ступить дальше. Узкая дыра внизу была заполнена багровой массой, которая тихонько колыхалась и медленно ползла вверх со ступеньки на ступеньку, подобная отвратительному, гниющему студню.
Глава III
Ужас сковал его неподвижностью. Он не смел верить своим глазам, он еще не отдавал себе отчета в том, что случилось, но где- то в глубине шевелилось уже сознание непоправимой беды и душу захлестывал неодолимый страх. Газ вырвался из баллонов, — это было несомненно. К тому, что он видел, присоединился и едва уловимый знакомый сладковатый запах, в значении которого ошибиться было невозможно. Но тогда… тогда конец. Ядовитое облако, двигаясь кверху, закупорило единственный выход и поднималось дальше, заполняя постепенно каменный мешок, в котором он оказался захлопнутым, как в ловушке. Штеккер облокотился на стену, чтобы не упасть, — у него кружилась голова, и во рту вдруг стало отвратительно сухо. Он не знал, сколько времени прошло в этом оцепенении, но когда он пришел в себя и взглянул вниз, помимо воли жалкий, растерянный крик вырвался из его груди. Он помнил твердо, что при первом взгляде на лестницу верхние четыре были свободны от газа; теперь из-под багровой колыхавшейся массы поднимались только две, — все остальное было уже затоплено. Он закричал еще раз, но теперь уже умышленно, надеясь услышать какой-нибудь, отклик. Ответом был визг собачонки, бьющейся в железной клетке внизу. Тогда Штеккер вспомнил о небольшом окошечке, бывшем в стене его западни, открывавшемся, правда, не на улицу, а внутрь лаборатории, откуда шла лестница. Он бросился к этой темной дыре, словно ожидая оттуда спасения… Но это, конечно, оказалось иллюзией. Из окна, приходившегося почти под потолком просторной высокой комнаты, ничего нельзя было рассмотреть. Свет был погашен, и в окно вливалось еле заметное мерцание звезд. В этом скудном освещении казалось, что черная масса колышется чуть не под самым окном. Штеккер распахнул его и высунул голову, — тишина и мрак. Он вынул коробку спичек, зажег одну из них и попытался осветить темнеющий провал. На несколько секунд в трепетном мерцании огонька увидел он ближайший угол комнаты и откинулся назад: пола, столов, табуретов уже не было видно, — они скрывались под пеленой багрового тумана, очертания и границы которого трудно было уловить. На фоне чуть освещенного извне окна еле намечались контуры клетки, в которой металась и выла затравленная собака. Штеккер еще раз крикнул в темную бездну — новый жалобный вой ответил ему из глубины. Снова он бросился к двери. Красноватые волны покрыли еще одну ступеньку, и приторный запах ощущался все сильнее. Первым его движением было — спуститься вниз и захлопнуть дверь, закрывавшую узкую щель, но, сделав шаг, он остановился. Для того, чтобы добраться до двери, надо было чуть не до плеч погрузиться в ядовитое, жгучее облако, — Это было равносильно смерти. Он задернул штору в надежде хоть сколько-нибудь задержать движение газа, отошел к столу и, опустившись в бессилии на табурет, сидел так некоторое время, не отрывая глаз от темных складок материи, из-за которых скоро должна была появиться отравленная волна. Трудно было собрать мысли, метавшиеся в воспаленном мозгу. — Что делать? И как это случилось? Служитель ли по нечаянности или из любопытства отвернул кран баллона, или газ сам прорвался через неплотный затвор? И почему оказалась открытой дверь внизу? Неужели он сам забыл ее захлопнуть за собой? Но это все не то. Сейчас главное — что делать. Неужели конец… сегодня… в этом каменном мешке? Собачонка внизу взвизгнула еще раз отчаянным голосом и замолкла. Он вспомнил крысу, затравленную два часа назад… Неужели и он испытает через час, через два все то, что чувствовали эти животные, умирая в своих клетках? Страшным усилием воли Штеккер взял себя в руки. Надо спокойно обсудить положение и поискать пути к спасению. Из комнаты выхода нет. Телефон? Он внизу, чтобы добраться до него, надо прорваться через узкую дыру, закупоренную газом… Да и все нижнее помещение полно им, он сам видел… Значит, что же? Долбить стену? На столе лежал маленький молоток с заостренным концом. Он ухватился за эту мысль. Сколько же времени потребуется, чтобы пробить таким орудием кирпичную кладку? Часа три — четыре? Он взял молоток и ударил им по стене. Посыпались мелкие осколки штукатурки, известковая пыль. После нескольких минут обнажился кирпич, от которого самые сильные удары отбивали лишь незначительные обломки. Штеккер оглянулся назад: багровый туман выползал из-за складок шторы и змеился струйками у порога. Он почувствовал, как давящий ком подкатил к горлу и захватил дыхание… Короткое рыдание вырвалось из груди надорванным звуком, в котором он не узнавал своего голоса. Все тело вдруг покрылось холодной испариной. Он машинально вытер платком лоб и продолжал смотреть на струйки тяжелого газа, расползавшиеся по направлению к его ногам. Еще минута, и стоять на этих холодных плитах будет немыслимо. В это мгновение странный звук привлек его внимание. В дальнем углу копошились две темные фигуры и пищали визгливыми голосами. Это были крысы, выгнанные газом из подполья, — те самые, которым впоследствии, вероятно, было бы суждено также попасть сначала в капкан, а затем под колокол в большой лаборатории. Животные метались по комнате, попадая временами в дрожащие бурые клочья, и каждый раз вскрикивая от боли. Вдруг обе они, словно сговорившись, прыгнули к длинному столу, стоявшему вдоль стены, противоположной окну, и вскарабкались на его гладкую поверхность. Штеккер окинул взглядом пол, — газ лизал уже подошвы его ботинок. Непроизвольным движением бросило и его туда, где жались в углу напуганные зверьки. Он вскочил на верхнюю доску стола и встал, прислонившись к стене, бледный, растрепанный, страшный, с блуждающими глазами, сжимая в руке рукоятку молотка. — Что же дальше? бороться против неизбежности или… Он снова взглянул вниз, где багровые волны колыхались у основания стола и между ножками табуретов. В сущности, так просто было положить конец всему: броситься вниз и вдохнуть раз этот тошнотворный студень… Он вспомнил страшный крик затравленного животного под стеклянным колпаком и вдруг весь задрожал мелкой, неуемной дрожью. Нет, это всегда успеется… Надо бороться, пока есть еще хоть искра надежды. Выбрав место на высоте груди, он придвинулся к стене и стал ожесточенно долбить ее молотком. Снова посыпалась штукатурка, обломки кирпича, белая пыль. Он работал с исступлением, не останавливаясь ни минуты, обливаясь потом. И работа принесла успокоение. Не то, чтобы родилась надежда, а просто он всем существом ушел в эти лихорадочные удары, чувствуя, как медленно падает перегородка, отделяющая его от мира. Надо проломить только небольшое отверстие, позвать на помощь, увидеть людей. Он взглянул еще раз назад. Газ поднимался уже до половины высоты стола, а выбоина в кирпиче была глубиной не больше кулака. Штеккер вздохнул всей грудью; голова закружилась от приторного противного запаха. Какое безумие! Надо было начать работу гораздо выше, как можно выше, чтобы газ не успел подняться к ногам. Взгляд его снова упал на табурет, стоявший шагах в трех от стола. — Чёрт… как мог он допустить такую ошибку? Ведь через полчаса на столе уже нельзя будет стоять. Несколько секунд он простоял в нерешительности, потом вдруг положил молоток у стены, застегнул почему-то наглухо пиджак, стиснул зубы и прыгнул вниз… Жгучая нестерпимая боль охватила ноги до колен. Казалось, что по коже водили раскаленными зубьями железной пилы; эта боль сверлила мозг, сводила судорогой мускулы, туманила глаза. Он испустил звук, похожий на рычание, и сделал шаг вперед… Судорожным движением схватил он табурет и бросил его на стол. В глазах темнело, ноги горели невыносимо. Шатаясь, как пьяный, шагнул он назад к столу, почти упал на его край и со страшным напряжением втащил на доску вдруг осевшее, расхлябанное туловище. Минут пять лежал он на столе, корчась от боли, и плакал бессильными, холодными слезами. Потом боль несколько улеглась и вместе с тем началась снова работа мысли. Он взглянул через край стола и всмотрелся пристально в колеблющееся красное море: оно колыхалось почти на том же уровне, по- видимому скорость движения его убывала. Или это только показалось? Он посмотрел на часы, было четверть двенадцатого, но он не знал, когда началась катастрофа. Во всяком случае впереди была еще вся ночь, — помощь придет не раньше утра, если до тех пор он останется жив. А пока надо что-то делать, чтобы не сойти с ума в этом жутком ожидании. С трудом ступая на обожженные ноги, он дотащился до табурета и передвинул его в угол стены, чтобы дать больше устойчивости телу. Затем, преодолевая страдания, сжав зубы, чуть не плача от боли, вскарабкался на шаткую деревянную площадку и встал на ноги. Он вспомнил вдруг свою недавнюю жертву, как она спасалась на колодку, предусмотрительно поставленную посреди резервуара. Ему почудилось что-то странное в этом сопоставлении, какая-то дьявольская насмешка судьбы. Но еще раз взял он себя в руки и отбросил назойливые мысли. Нелепая фантастика, игра возбужденных нервов. Сейчас надо думать об одном и даже не думать, а только делать — долбить, долбить, пока еще могут пальцы держать молоток. И он принялся в третий раз за свою работу, выбрав место в стене недалеко от угла. Он весь как-то сжался, стиснул зубы и, не оглядываясь назад, наносил удары. Они падали один за другим частые, гулкие, упорные, под ними сыпалась белая и красная пыль, и отчетливо слышно было ее шуршание в напряженной тишине, становившейся с каждой минутой непереносимее. Казалось даже, что самое страшное это не то, что творится там, за спиной, на каменном полу, куда он боится оглянуться, а именно эта грызущая, убийственная тишина. И он бил по стене с остервенением, шепча проклятия сквозь стиснутые зубы, борясь гулом ударов с пугающим молчанием. Он уже потерял сознание времени в этом неустанном напряжении, когда снова шум под ногами заставил его взглянуть вниз. Это крысы бегали от угла к табурету, тыкались головами в молчаливые стены с жалобным писком. Газ поднялся до уровня стола и, обжигая их, полз клочьями по его поверхности. Штеккер опустил руки и только теперь почувствовал, насколько он утомлен и разбит этой лихорадочной работой. Все тело было в поту, мокрые волосы падали на глаза, пальцы дрожали от напряжения и еле держали молоток. Сердце стучало больными толчками, легким не хватало воздуху. Он машинально следил глазами за суетой загнанных животных и вдруг вздрогнул. Крысы остановились у табурета и, подгоняемые болью, начали карабкаться по деревянным ножкам. Еще секунда и одна из них, добравшись до верху, в слепом ужасе бросилась на человека и, цепляясь за костюм, стала взбираться по ногам, по туловищу, все дальше к голове. Штеккер закричал от страха и отвращения и свободной рукой схватил вздрагивающее тельце.
Крыса забилась под его пальцами с жалобным писком и впилась зубами в мякоть ладони. Он оторвал ее от себя и швырнул в угол комнаты, потом ногой стал сбивать второе животное, копошившееся на табурете и увертывавшееся от ударов. Табурет качался и грозил каждую секунду опрокинуться в этой молчаливой упорной борьбе. Наконец ударом носка он подбросил крысу в воздух, и, описав дугу, она погрузилась в студень, лежавший под ногами, и исчезла. Штеккер облокотился об угол стены, задыхаясь и дрожа с головы до ног. Силы его покидали, он с трудом мог стоять. Казалось, что дощечка, на которой он нашел спасенье, подымалась и опускалась ритмическим движением. — Ну, что же? Продолжать работу дальше? Поздно… Газ настигнет его раньше, чем он сделает половину дела. К тому же он чувствовал, что не может двинуть рукой, что мускулы отказываются действовать. Глаза его машинально приковались к огню лампочки, точно она гипнотизировала его своим немигающим светом. Мысли путались, он терял сознание действительности. И вдруг случилось что-то новое, что он даже не сразу понял в своей странной летаргии: свет погас… Штеккера окутал непроглядный мрак, в котором клубился близко под ногами смертный туман. Полная, всеохватывающая, мертвая тишина… Несколько секунд он растерянно вглядывался в непроницаемую темень, думая, что он стал жертвой галлюцинации, что нужно только сделать над собой усилие, чтобы совладать с нервами и заставить себя снова увидеть свет. Но все попытки оказались тщетными. Это не был оптический обман. Лампочка погасла, в этом тоже виноват был газ, нарушивший где-нибудь неплотный контакт, а может быть она просто перегорела. Штеккер стоял неподвижно на своем шатком убежище, оглушенный ужасом случившегося. Теперь он не мог даже видеть, как подбирается к нему то неумолимое, что колышется где-то тут, под ногами, — близко ли, далеко ли, он не мог теперь этого знать. Подымается ли оно? А может быть остановилось? Может быть волна начала спадать и возможно еще спасение? Штеккер вспомнил о спичках. Осторожно, стараясь не выронить маленькую коробку, он вытащил ее из кармана и дрожащими пальцами пересчитал деревянные палочки. Их было только три, три вспышки света в хаосе тьмы. И сейчас же, не в силах сдержать непреодолимое желание взглянуть вниз, он зажег одну из них. Вспыхнул желтоватый огонек, но то, что он выхватил из мрака, было смутно и неясно. Во всяком случае поверхность стола не была видна, ее скрывала густая темная пелена; однако уловить, до какой высоты она поднялась, было невозможно при этом трепете мерцания. Штеккер все же жадно вглядывался в багровое море, окружавшее его убежище, пока спичка, обжигая пальцы, не погасла. И тьма вокруг снова сомкнулась плотной завесой. Теперь мыслей в голове уже не было. Оставался слепой инстинкт, Заставлявший бороться за жизнь до последней возможности. Он снова сжал в кулаке рукоятку молотка, которую не выпускал все это время, нащупал пальцами левой руки сделанную в стене выбоину и уже вслепую, почти наудачу, стал долбить каменную стенку, останавливаясь только временами, чтобы перевести дыхание. В горле пересохло, в голове стучало, перед глазами метались огненные вихри. А он все стучал, стучал, не думая ни о чем, почти забыв об опасности. Но это не могло продолжаться без конца. Удары становились все слабее, падали наудачу, пальцы дрожали, от времени до времени их перехватывало легкой судорогой. И вот, наконец, при сильном косом толчке, заостренный конец соскользнул по неровной поверхности, пальцы разжались, и молоток, вырвавшись из руки, упал в темноту и глухо стукнулся где-то под ногами. И наступившую тишину прорезал дикий, уже почти нечеловеческий крик: — Спасите! Спасите! Как бы в ответ внизу раздался бой часов. Прозвучало двенадцать ударов и воцарилось окончательное молчание. Круг неизбежности замкнулся. Впереди оставалась смерть, но когда? Сейчас? Через пять минут, через десять, или через час? А может быть позже? Может быть проклятое облако остановилось и уже оседает вниз? Или оно продолжает подниматься? Ничто не говорило больше о приближении или удалении невидимого врага. Ни звука, ни искорки, ни запаха… Даже и запаха, — вероятно, притупившееся чувство перестало воспринимать его. Казалось нелепым стоять здесь в темноте на табурете, чуть не под потолком, еле удерживаясь на дрожащих, обожженных ногах. Так просто казалось — соскочить и выйти, выбежать вон, на свет, к людям… А между тем… Жгучая боль в ступнях пронизала его до глубочайших извилин мозга. Конец? Яд захватил его последнее убежище! Он вытащил из кармана спички и дрожащими пальцами попытался зажечь одну из них. От неуверенных ли движений, или от сырости она вспыхнула мгновенно слабой искоркой и погасла, ничего не осветив. Не раздумывая он схватил последнюю и чиркнул по коробке. Спичка загорелась и снова бледный огонек осветил темный угол… Штеккер нагнулся, лихорадочно глядя вниз. Табурет торчал еще одиноким островом в багровом море, — боль обманула его приступом от старого ожога. Но туча поднималась, это было ясно. Спичка погасла — последняя… Он торопливо обшарил карманы, пощупал подкладку костюма, потряс коробочку, — ничего… На этот раз все. Бороться дальше было бесполезно. Он хотел броситься вниз, покончить поскорее с ужасным ожиданием, но воспоминание об испытанной от прикосновения яда боли удержало его снова. Он скорчился на табурете, опершись в угол, и глядел воспаленными глазами в темноту. Кто-то сказал вдруг почти рядом насмешливым голосом: — Страдания единиц и даже миллионов единиц не принимаются в расчет на весах истории… Он испуганно оглянулся, будто ожидая кого-то увидеть в мертвом хаосе, потом вспомнил: ведь это его собственные слова, сказанные вчера Гейслеру. Вчера? Или тысячу лет назад? Когда все это началось? Мутный образ пятном выдвинулся из темноты… Он вгляделся: крысиная голова, неестественно большая, с оскалом зубов в разинутом рту. Он отмахнулся, — пятно потонуло во мраке. Кто-то вздохнул за спиною и тронул его влажной ладонью… Он закричал еще раз таким жалобным, совсем звериным криком. Потом мрак наполнился невнятными шорохами, вздохами, движением смутных контуров. Теперь Гейслер говорил откуда-то из дальнего угла: — Попробуйте поставить себя на место тех сотен тысяч, которых будут травить вашими газами… И запекшиеся губы выдавили жалкий ответ: — Да, это страшно — умирать… Потом наступил хаос и забвение.
* * *
Только к вечеру следующего дня лаборатория была очищена от газов. В первой комнате нашли мертвую собаку в клетке. Вся кожа ее была покрыта волдырями и язвами, шерсть, висевшая клочьями, почернела и истлела. Морда была оскалена в судороге предсмертного воя. Краны у баллонов с газом оказались отвернуты: служитель, заменявший старого Густава, исчез. Розыски показали след его в направлении французской границы, гостеприимно открывшей свои объятия тому, кто впоследствии, при тщательном расследовании, оказался офицером французского генерального штаба. В верхней комнате на столе, подле табурета, лежал человек с совершенно седыми волосами и выражением непередаваемого ужаса в остекленевших глазах. Тело его было нетронуто ожогами, кроме нижней части ног. Очевидно, он упал на стол после того, как движение облака прекратилось и газ осел вниз, просачиваясь в наружные щели. В куче мусора, подле головы человека лежал молоток и пустая коробка из-под спичек. На полу, изуродованные ядом, в клочьях висящей шерсти валялись трупы двух крыс с вылезшими из впадин глазами. Это было все. Штеккера хоронили через три дня с большой торжественностью. Говорились речи, центром которых была мучительная смерть на научном посту героя долга. Гейслер слушал эти слова и думал упорно о своем, о том времени, когда безумие человечества останется в далеком прошлом и история развернет новую страницу, о которой сейчас мечтают и упрямые фантазеры, и люди крепкой воли, идущие к далекой, но неизбежной цели.
 Приложение
The Revolt of the Atoms
Приложение
The Revolt of the Atoms
The present story comes to us from Russia and it is an extremely absorbing narrative based on excellent science. For the past decade, scientists predicted that if man ever harnessedatomic energy, things would probably begin to happen. They pointed out that the key to atomic energy was like the fulminate cap of a charge of dynamite. Dynamite is harmless and can be handled and sawed without danger. It requires the explosion of the little detonating fuse to set it off.
Scientists in the past have pointed out that if we discovered the key to atomic energy, we might very likely blow up the earth itself. A later school of scientists, however, disclaimed this entirely and they maintain that there is no such danger.
In any event, the present story is based on sound science and it makes exciting and interesting reading.
I
 ROFESSOR Flinder was in very bad humor. In spite of his customary self-control, he felt that, he was in no position to hold himself together, to consciously and soundly lead his thoughts through the channels of clear, logical and correct inferences. Their harmonious flow through the gray convolutions of his brain always afforded him immense pleasure. But today, he was unable to direct the flow along the calm and sound channel; this, of course, affected his mood to such an extent, that even his favorite cigar seemed bitter and tasteless.
Indeed, there were reasons for it.
In the first place, this morning Flinder discovered, in his working cabinet adjoining the laboratory, the absence of several of his documents pertaining to his work. The theft had been committed at night with incredible and almost incomprehensible boldness. The laboratory was situated in the garden, in a separate building, in the rear of the large detached building in which he resided. The windows were protected with iron grating and from them radiated a net of wires connected with the burglar alarm system, not mentioning the special night-watchmen, old mon-commissioned officers. The result was that the wires were cut, the grating had apparently been cut through the comers with the oxy-hydrogen blowpipe, or something of that kind, and the window-panes had been cut out and removed.
The room was topsy-turvy. Two table-drawers Were pulled out and their contents were littered all over the floor. The thieves, it seemed, were pressed for time, for they had left the others undisturbed. But worst of all was the breaking open of the fireproof safe and the emptying of one of its compartments.
Something must have frightened the night intmders, pouting them into flight before they had succeeded in completing their work, for they left many traces behind: a handkerchief bespattered with dirt and ashes; drops of blood at the safe, apparently from excoriations on the hands; and scraps of newspapers of the preceding day. There were no tracks to be found in the garden. The Police Commissioner and a detective summoned by the professor, nodded their heads approvingly, inspected and examined everything, put what was of interest into their brief-cases, and left, to return shortly with a police dog. The hound jumped out through the window, leading his guides towards the stone wall, in which they found a large hole covered up with bushes. From there he led them into the garden and then into one of the crowded streets of Berlin. In a word, everything turned out to be just as it always happens in similar cases, but Flinder could not overcome the grief and excitement, even when the agents of the Police Department assured him that everything, so far, was progressing in their favor.
ROFESSOR Flinder was in very bad humor. In spite of his customary self-control, he felt that, he was in no position to hold himself together, to consciously and soundly lead his thoughts through the channels of clear, logical and correct inferences. Their harmonious flow through the gray convolutions of his brain always afforded him immense pleasure. But today, he was unable to direct the flow along the calm and sound channel; this, of course, affected his mood to such an extent, that even his favorite cigar seemed bitter and tasteless.
Indeed, there were reasons for it.
In the first place, this morning Flinder discovered, in his working cabinet adjoining the laboratory, the absence of several of his documents pertaining to his work. The theft had been committed at night with incredible and almost incomprehensible boldness. The laboratory was situated in the garden, in a separate building, in the rear of the large detached building in which he resided. The windows were protected with iron grating and from them radiated a net of wires connected with the burglar alarm system, not mentioning the special night-watchmen, old mon-commissioned officers. The result was that the wires were cut, the grating had apparently been cut through the comers with the oxy-hydrogen blowpipe, or something of that kind, and the window-panes had been cut out and removed.
The room was topsy-turvy. Two table-drawers Were pulled out and their contents were littered all over the floor. The thieves, it seemed, were pressed for time, for they had left the others undisturbed. But worst of all was the breaking open of the fireproof safe and the emptying of one of its compartments.
Something must have frightened the night intmders, pouting them into flight before they had succeeded in completing their work, for they left many traces behind: a handkerchief bespattered with dirt and ashes; drops of blood at the safe, apparently from excoriations on the hands; and scraps of newspapers of the preceding day. There were no tracks to be found in the garden. The Police Commissioner and a detective summoned by the professor, nodded their heads approvingly, inspected and examined everything, put what was of interest into their brief-cases, and left, to return shortly with a police dog. The hound jumped out through the window, leading his guides towards the stone wall, in which they found a large hole covered up with bushes. From there he led them into the garden and then into one of the crowded streets of Berlin. In a word, everything turned out to be just as it always happens in similar cases, but Flinder could not overcome the grief and excitement, even when the agents of the Police Department assured him that everything, so far, was progressing in their favor.

Having examined the remaining papers and documents, he discovered the absence of several which contained rough outlines of his recent work. Others embodied data which he kept secret, and which served him as connecting links for his future work. He knew with certainty who stood behind this affair. It was quite clear that it was directed by one who knew his business thoroughly. For the past few years in Nancy, France, they were conducting experiments similar to his own. The little, dry, old man with that penetrating look in his deep-set eyes, gray tuft of hair on his forehead and sharp beard, whose photographs Flinder was examining with curiosity and animosity, in the “L'Illustration, directed this work and was stretching his avid and tenacious fingers in his direction. These two rivals had never met in their life, yet they hated each other with all the depth of feeling, of which each was capable in his own way. Which of the two would be the first to harness this power and direct it by his own will, depended, to a great degree on the issue of the silent struggle between two nations, that struggle which, in fact has not ceased for a single moment, even after the cannon had ceased to roar and human flesh had ceased to be shot to pieces. In to-day’s conflict, his opponent had the upper hand, a circumstance sufficient to spoil his best mood. In addition, there was another unpleasant feature connected with this affair. Danger threatened from another side. For the past two years, a young Russian engineer commissioned here by Russia, had worked as a scientific collaborator in Flinder’s laboratory, commissioned by this amazing country, where only recently they had been feeding on human flesh and where people were dropping dead from hunger on the streets of the cities. This same country is now interested in electrification, in breaking up the atom, in the study of the nerve system and what not — which lines of work, according to Flinder, were not at all suited to savages and cannibals. At first, Deriugin, the Russian collaborator, displayed 110 qualities entitling him to any greater consideration than that given to his fellow-workers. In fact, he appeared rather to be possessed of a dull mind, or, at least, a mind not likely to lead him to the fore in this particular field. He worked along the lines of chemistry and radioactivity and, although this was in close contact with the research work of the professor, it never provoked any alarm in the latter’s mind. Of late, however, it began to dawn upon Flinder that Deriugin knew more than he was willing to show; in fact, more than he was supposed to know. This, of course, was impossible to ascertain with any definiteness; nevertheless, after carefully observing the nature of some of his experiments not directly connected with his work, the professor began to divine the curious mind, persistent and bold, which was striving to fathom the great mystery. The glitter, which this somewhat round-shouldered man could not always extinguish, and which continued to glow in the depth of his eyes at lectures or during the hours of practice, whenever the subject of the breaking up of the atom came up, filled Flinder with discomfort and alarm. Perhaps, there was more danger in this young man than in the little old man from Nancy. Something was happening right here, under his very eyes. And the thought of ridding himself of the uncomfortable collaborator began to occupy the professor’s' mind. Eitel, the professor’s son, who was serving as a volunteer in the cavalry division of the Reichswehr, detested Deriugin with all the passion of his heavy and sad hatred. He had been telling his father, that if he were in his father’s place, he would have sent this “Moscow spy” to all the devils, or, at least, he would keep him from the laboratory at a distance of a cannon shot. Flinder was beginning to agree with his son’s contentions, now. But, after all, one must have some plausible excuse. And all this is hardly calculated to serve as a cure for depressed spirits, not to mention the fact that the newspapers had been offering food for the most somber reflections every day. Those fellows beyond the Rhine, lost all control over themselves; they permitted themselves to go to the very limit. They continued to slap the back of the vanquished adversary, until it made Flinder clutch his fists and gasp for breath. “Well, so be it,” he thought. “He laughs best, who laughs last— and this is their own adage. We shall see who will do the laughing. Flinder will give to Germany, that mighty, indomitable power, which he feels will soon flow in powerful torrents into his laboratory. We shall see! Yes, we shall see!” Flinder pushed his unfinished cigar into the ash-tray with such disgust and anger, that a heap of ashes scattered over the table, and he left the room. IT was dinner time, a meal which was observed with great precision in his home. At the window, drumming with his fingers on the glass, stood a tall young man in military uniform. “Hello, father!” said the young man as he greeted his parent. “I met your red-headed Moscovy idiot again. When are you going to get rid of him? I just can’t look at him without disgust. He invariably spoils my temper, this Asiatic…” The professor silently shrugged his shoulders. At the table, Eitel began telling his father, who was listening very absent-mindedly, about his service, about the horses at the squadron- stables and about his fellow-soldiers, and he spoke with high esteem of his Colonel. “By the way, he spoke of you with great respect; he said that Germany is much indebted to you and is expecting still more from you.” The professor smiled. Queer though it was, yet it was pleasant to hear such recognition of his merits from the lips of a Hussar Colonel. “But, what I was going to ask you, father,” he continued, “is to give me a general outline of your latest work. It seems to me that every Tom, Dick and Harry in our Casino knows more about it than I do.” Flinder smiled again. “I think you are right, my son. I shall do my best to enlighten you… Do you realize that man’s greatest problem on Earth is the struggle for energy, which he draws from nature in manifold forms?” The Hussar shook his head. “Each new explosive, each newly constructed machine, is a new, more convenient, cheaper, or more expedient method of pumping out new energy from the earth — that energy which moves our ships and trains, works our factories and mills, carries in the air our airplanes, drives our dirigibles, and hurls our projectiles over ranges of scores of miles. But the supply of the Earth’s coal is constantly diminishing; besides they have taken our coal away from us; nor have we oil… At the same time inexhaustible sources of energy are scattered all about us in abundance.” “Where are they?” “Everywhere; in this piece of iron lying on the table; in the puddles of filthy water in the streets; in the road- dust beneath our feet— wherever you turn your eyes.” “I do not understand.” “Well — do you know what an atom is?” Eitel smiled. “I have heard something about it. I think it is something very small.” “That’s right,” said the professor with an involuntary smile, “and in those infinitesimally small bricks, of which all bodies of the universe are made, all those colossal supplies of energy are stored. Atoms consist of concentrated, condensed electricity. They resemble an endless mass of miniature, tightly coiled springs, or, better still, little charges of powerful explosive matter. And when we learn to release the detent of those springs, to explode those charges and to control them and their energy, we will usher in a new era in the history of mankind; we shall enlist in our work the dormant power that lies about us; we shall flood the world with cheap and inexhaustible energy; we shall free mankind from the curse of unequal and strength- sapping toil; we shall direct it into new channels; we…” “We shall first feed up our war weapons with that new power and dictate our terms to Paris and London…” interrupted Eitel, standing in the center of the room, with glittering eyes, threatening with his fists some region in space.
II
FLINDER turned on the current and shut the door of the laboratory behind him. A flood of light illumined the familiar picture, at once arresting one’s attention with the serenity and peacefulness of a working atmosphere. Wires in rigid lines stretched all over the walls; porcelain insulators, like ivory fingers, protruded here and there and between them; on the — tables and shelves sparkled glass utensils; brass parts of the apparatus glittered in yellow reflections; a marble switch board with its appliances and colored lamps, added a cold, yet solemn appearance to the spacious room. Upon a large marble-top table, at the rear wall, stood a mechanical appliance, from which the work was to start. Flinder stopped before it with a feeling of inward satisfaction and throbbing expectation. Everything he saw before him was the reflection and incarnation of his thoughts. Each lever, each screw, each contact of the wires — everything to the minutest detail — up of atoms, by means of bombarding them with grains of helium, that are discharged by radioactive matter, he added the action of the electromagnetic field of high tension. This enhanced the speed of flight and the power of explosion of the miniature charges. And to-day he intended to test the influence of some admixtures upon activated nitrogen, admixtures that are dissolved in the tube with gas and represent minutest molecules. He examined carefully the scheme of arrangement of the appliances and focused the microscope over the fluorescene stage over which the explosions were to register the path of the fragments of the atoms, and turned on the switch. A deep, heavy buzz of the transformer filled the room, as if a giant drone from out the wilderness of the night, beat his wings and whizzed upon the window-sill, shaking the concrete walls with his blows. The professor turned off the light and looked into the microscope. There was the usual scene: like falling stars on a calm August night, flashes of racing atoms glimmered in the dark field, left and right, in the direction of the current; paths of light intersected the field of sight, crossing in places, indicating colliding, extinguishing and flashing up again, and strange seemed the silence in which this fiery rain was pouring down. Then, turning a small stop-cock, Flinder admitted into the tube of the apparatus a tiny cloud of dust, which was to serve as a stimulator and augmenter of the process. And at once the picture in the dark field changed. Into the pattern of fiery lines, broke in a volley of rays, scattering themselves in all directions like explosions of miniature charges. These' were no longer integral; the atoms were being scattered into tens and hundreds of fragments by the force of the bombardment. Microscopic worlds were being destroyed, silently rumbled the catastrophies, one after another splashing flashes of rays followed one another. And now dead silence reigned as before, broken only by the monotonous humming of the transformer. Flinder almost doubted his own eyes. This meant, that the problem was solved at last. The key to the mysterious treasure was found; an unparalleled victory was won. Impotently and slowly he dropped into his armchair, in a sense shocked by the achievement. After ten years of persistent work, he had apparently reached his goal. It was difficult for him to realize it all at once. He sat steeped in a confused state of semi-forgetfulness and semidelirium. The door clicked; apparently, Hinez, one of the assistants, finished his work and left. Flinder did not notice him. He remained under the influence of the excitement that possessed him, trying to visualize the dizzy perspectives that were being opened to mankind. An insignificant dot of matter will yield enough energy to drive ocean liners, and ponderous trains, for many hours. Millions of millions of horse-power! The end of the struggle for energy! We are the masters of energy! Thus, for about a half an hour Flinder remained in his semi- dreaming state, which completely enthralled his mind. When he finally bent over the eyeglass of the microscope again, that which he saw there was so unexpected, that he uttered a cry. He no longer saw the separate fiery lines or the volleys of rays; but the Whole circle was enveloped in a raging sea of fire; flaming vortices circled and danced right and left and all along the current stream. Flinder instinctively grabbed hold of the current control lever and shut off the power. The transformers stopped and the dead silence that hovered in the room, filled his heart with a longing premonition. The scene under the microscope had changed very little. The fiery sea continued its rage, but no longer in one direction. The whirls rotated, collided and scattered in all directions in utter chaos. Flinder stretched out his hand to the switch and lighted up the laboratory. Everything stood in its place; the apparatus, the retorts, the flasks and the insulators with their ivory fingers, and the switches stuck out from the walls and ceiling; the windows were darkened by night shadows and at the right stood a bright, reddish star, apparently, Arcturus. Everything about was simple, familiar and comprehensible. What was it, then, that had frightened him so? The foolish play of his high-strung nerves. Simply, looking down upon this phenomenon, still new to him, he recalled Deriugin’s recent phrase, in the words of Aston: “The research work into the inner-atomic energy, is like playing with fire on top of a barrel of gun-powder.” And it appeared to him, that this very minute the force he himself had just freed, would crush into fragments the laboratory and everything about it. What nonsense! Here he has stopped the work of the apparatus and nothing at all happened. Apparently, the process, once begun, continues by itself. So far, so good! The only question to be decided on now is, how to utilize this new energy without wasting it without purpose? He now examined the microscope. Under the object- glass gleamed a bright dot, discernible with the naked eye. Bending over closer, he convinced himself, to his great surprise, that the glass tube had melted away and the tiny pale-blue star quivered without the apparatus, at the brass mounting. An unpleasant chill again ran up his spine. Mechanically he extended his hand to the glittering object, but withdrew it immediately; his fingers were burned as by a red-hot iron and his body was rocked as by a heavy blow. And it suddenly appeared to him that the glittering dot was growing in size before his very eyes; that it was not a dot any more; that it had become a smal ball, the size of a pea. He wiped his eyes and looked up again; he felt the hair on his head rising and his forehead was covered with cold perspiration. No longer responsible for his actions, Flinder grabbed a glass of water from the table and splashed it under the microscope. The red-hot tube burst with a whir; the fragments of glass scattered all over the floor; a cloud of steam rose with a buzz from under the fiery ball, while the ball, agitated and rocked, moved aside and perched upon the marble table, slightly quivering, as if the scant power it contained, was pulsating. It was quite clear now that it was growing from minute to minute, slowly but surely. Flinder suddenly became conscious of the fact that his lower jaw was jumping and the teeth were chattering. He stood motionless, his hands clutching the table, his face pale as death and his eyes widely bulged. Everything was clear now. This was a catastrophe, the kind our Earth had not yet experienced. The breaking up of the atom, which he had caused in the minute volume of gas, had ’been so energetic, and the fragments were scattered with such force and rapidity, that, when colliding with the neighboring molecules, they, in turn, broke their constituent atoms, and now the process was spreading unchecked from one place to the other, liberating the dormant power and releasing light, heat and electric radiation. He had set free the spark which was to cause a world conflagration! And there was nothing in all the world that could avert the destruction that was to follow. Nothing! Nothing! Certainly, we are powerless to exert any influence upon the process within those microcosms not yet known to us. None, whatever! And the world was not yet aware of anything; it did not dream that here, in the quiet of the laboratory, a catastrophe had taken place — that would ultimately reduce this globe into cosmic dust. Everybody was oblivious of the impending danger! They slept, walked, ate, worked, laughed and were occupied with a million trifling matters! Yet the shadow of death had swept over our Earth… And this he, Conrad Flinder had done; Conrad Flinder, the gray- bearded old man, to whose health the Hussar Colonel drank last night. He suddenly began to laugh, ever louder and louder, his teeth chattering, his lower jaw jumping up and down, as if it were suspended on a rubber string. He thrust himself at the door forcing it open, and rushed out in dishevelled condition. Running along the garden tracks, he rebounded from the trees, fell, rose and ran on toward the house, ceaselessly laughing…III
IN bold-type captions appeared the news of Professor Flinder’s suicide in the morning newspapers. The newsboys announced this with piercing and shrieking voices, and waving their sheets, they tucked them under the arms of the passers-by. Deriugin had found out about the dreadful occurrence, while on his way to work. Flinder! Cool-headed, stone-calm Flinder, resembling a machine rather than a man! The news stunned the engineer. He sensed in it an event more significant than could be deduced from the newspapers accounts, which ascribed the incident to a sudden' attack of mental alienation. This, they deduced from the note left by the professor and from the unintelligible phrases written therein, which, in all probability, bore witness to the chaos of his last thoughts. “General destruction!.. World conflagration!.. Aston was right… I did it… It grows larger each second…” While this was merely a string of words, the incoherent phrases produced an overwhelming impression upon Deriugin. He was shaken with fear. In these words he read of an incredible and absurd menace, which suddenly appeared to him as a possibility. He quickened his pace, jostling his way through the human tide, toward the Institute where, at the very entrance to the laboratory, he met Hinez, the assistant. “What happened?” he inquired of the assistant who stood before the locked door. The latter shrugged his shoulders. “I know as much as you do, colleague. At any rate, this is a colossal loss to Germany — it is almost irreplaceable.” “A dreadful occurrence, indeed,” returned the Russian, “but I am afraid that this is not the end of it.. “What do you mean to say?” “It seems to me that something has happened in the laboratory. Have you any idea, colleague, what special work the professor was doing there yesterday?” Hinez suspiciously looked up at the speaker and replied reluctantly: “I believe he was making preparations to test the newly installed apparatus, which was to accelerate the breaking up of the atoms of several gases…” “Listen, Hinez,” exclaimed Deriugin, his voice ringing with excitement, “I understand that my words seem strange to you, perhaps brazen, but the situation is too serious for us to fret about formalities. I have been watching the work of the professor for a long time and was very much interested in it. But now, I repeat, I am afraid that some mishap has occurred there.” Hinez silently shrugged his shoulders, yet, he too felt that he was becoming affected by an incomprehensible alarm. They unlocked the door of the laboratory. In the assistant’s room, a servant with a long iron rod, on one end of which a rag was tied, was cleaning the room. The servant welcomed the entering pair with a curt: Guten Tag. The two whisked through the room directly into the laboratory of the professor. Hinez led the way. On the threshold of the large room he halted unwillingly and covered his eyes with his hand, blinded by the unexpected light. Behind him stood Deriugin; silent and pale as a ghost, he was contemplating the picture that lay before their eyes. Upon a large marble table, where the new adjustments were gathered, shone, with unbearable brightness, a fiery sphere the size of a man’s head. It quivered, as if it pulsated. Upon its dazzling background, bluish veins crossed themselves and everything about it was covered with a bluish mist. At the place where the sphere had touched the surface of the table, a light sizzling and crackling was heard. The room was hot and suffocating, as it is before a big storm, and a sharp smell of ozone assailed the nostrils. Hinez and Deriugin stood like a pair of statues, not daring to move from their places nor to remove their eyes from the strange phenomenon. “Herr Hinez,” exclaimed the surprised servant, who had followed them into the laboratory, “something is burning there!” And before either of them had a chance to stop him, he ran over to the table and drove the end of his iron rod into the face of the fiery sphere. A dry, loud crack followed. A dazzling spark, resembling a short lightning, flashed out at the end of the rod and the old man dropped backwards, spreading his hands and knocking his head against the hard floor. His body twisted up in spasms and remained motionless. All this took place, it seemed, within the twinkle of an eye. When Hinez rushed over to the old man, bending over him and trying to raise him up, he no longer breathed. “Dead!” confusedly announced the assistant, retreating unwillingly and turning back his head to his colleague. Deriugin, standing at the door, repeated mechanically one and the same phrase: “I knew it…! I knew it…!” About ten minutes passed before the visitors regained a little of their composure. They carried out the body of the old man into the assistant’s room, and tried every means to revive him, but all their attempts failed; the unfortunate man was dead. “What is this anyhow?” demanded Hinez, at last, when he realized the futility of their efforts. “This,” repeated Deriugin, and the sound of his voice resembled the burst of thunder before a rainstorm, “this is a mutiny of the atoms, revolting against the man who dared to disturb them.. “You mean to say, that. began Hinez with uncertainty. “I believe,” interrupted Deriugin harshly, “that the destruction of matter has begun and, in all probability, nothing in the whole world will be- able to check it. This old man is the first victim of the millions that are to follow.” “But, why do you speak about a catastrophe, colleague? And even if what you expect to happen, does happen, it will not pass beyond the bounds of the laboratory and can be disposed of right here.” “Disposed of? And this I hear from you, assistant to Professor Flinder? Don’t you realize that we are powerless when it comes to the element? Can we, in any way or with any thing influence the work that goes on within the atoms? Can we stop the growth of this fiery vortex?” “Growth?” this new idea impelled Hinez to withdraw hastily into the main laboratory. Indeed, this was quite apparent: the flaming sphere, in the last half hour, had increased about a fraction of an inch in diameter. Besides, it was becoming more and more difficult to breathe in the room. The air was all pregnant with electricity. The twinkling of little bluish lights upon all the prominent parts of the apparatus and other appliances, transformed the whole picture into a fairy-scene. Deriugin and Hinez left the laboratory, shutting the door tightly behind them. Actions and measures to forestall an impending calamity began immediately. Hinez took upon himself the task of informing all the professors of the Institute of the actual prevailing condition; Deriugin, meanwhile, departed to see Eike, a friend of his and the editor of a leading newspaper. To find him was not an easy task. But about one o’clock in the afternoon, he found him in his editorial office. At first Eike was hesitant and undecided about going with him. Professional curiosity finally, triumphed however. They entered a machine that puffed at the street-door entrance, and whisked away in the direction of the Institute. On the Frankfurt Strasse they noticed a pillar of smoke standing almost motionless in the air. Along the streets, hissing, whistling and pealing their bells, hurried the fire-engines. Men in copper helmets, with hatchets in their hands, clung to the sides, like operatic warriors on the stage. “There must be a fire somewhere,” remarked Eike, flaming up again with the curiosity, which is so much part of a newspaper man. “It’s there…” insisted Deriugin with growing alarm. “We are late! It’s there!” His premonition did not deceive him. Their noses were soon assailed by a scorching sensation. Opposite the house in which Flinder lived, a large throng of people had assembled. From the garden, now and then, firemen were running to their engines; beyond the iron fence and between the trees, where the laboratory stood, tongues of flames danced and smoke rose and whirled, gradually being carried away into the street which was becoming enveloped in a thick and corrosive cloud. In this hubbub, Eike immediately lost sight of Deriugin, so he decided to go around the burning house to the windy side to quietly view the scene of fire, from there. Suddenly, from the side of the laboratory came loud shrieks from the firemen and the crowds of curious people who had broken into the garden. Eike threw himself in the direction of the shrieks and almost collided with Deriugin, who ran up at demoniacal speed. “Look out! It has broken out into the open! Look out, Eike!” he shouted, waving everybody away with his hands. At that moment, a gust of wind wafted a cloud of smoke upon the two, and the editor saw a sphere of fire, about eighteen inches in diameter, quivering and tossing, borne by the wind, directly towards the dumbfounded spectators. “Save yourselves!” shouted someone in the crowd. “It’s ball lightning!” The crowd of people scattered in all directions. Eike remained on the spot, as if nailed to the ground, but only for a few fleeting seconds. Soon, he too, threw himself aside, as the flaming whirl, flying past and only a few feet away from him, breathed forth its sultry heat and blinded the eyes with its dazzling glitter. As it moved over the sand of the road, thousands of fiery sparks fell from it upon the earth and upon objects it met on its way. Dazed and stunned, Eike fell down, stumbling over bumps. Lying there, his terror-filled eyes continued to follow the flight of the sphere. He saw how the trees, with which the fiery sphere collided, caught fire; how a sudden gust of wind flung it upon a group of people that tried to cross its path; how a shower of fiery rays poured down upon them and, without having had a chance to even utter a cry, three of them dropped flat on the ground and remained motionless. The last thing Eike succeeded in seeing was how the fiery globe reached the iron fence. A loud crackling was heard, as if a shock of lightning had passed between the iron bars and the fiery cloud, and in the next moment the sphere found itself on the outer side of the fence in which yawned a large opening, lined by tom and melted fragments of metal. The streets were filled with wild shoutings, stamping of feet, pealing of bells and loud cracklings.IV
THE following two days were astonishing days. To some of the people who witnessed the strange events, it was perfectly clear that something unusual was occurring; it seemed dear that beginning with this day, the real agony of the Earth would lead up to imminent destruction. Yet, they did not seem to have made up their minds to speak about it in the open. Such a supposition seemed entirely too wild and absurd. Although in Eike’s newspaper, on the day following the event, there appeared an article which quite carefully explained the significance of the events, the edition was immediately suppressed by order of the authorities, who found in the news nothing but a common newspaper-bait, capable of creating a panic and of causing an undesirable commotion. Those few, who succeeded in getting copies, simply shrugged their shoulders in wonderment; how could a respectable newspaper lower itself by running after cheap sensationalism? On the other hand, there were other eye-witnesses and victims of the destruction caused by the flight of the fiery globe through the streets of Berlin. But their number was too small to be reckoned with — ten or fifteen souls altogether. The fires that occurred in several parts of the city were rapidly extinguished. Besides, upon reaching the eastern outskirts of the city, the sphere disappeared in the direction of Furstenwalde. Nothing at all was heard about it for two days. It did not in the least resemble an elementary catastrophe. In a word, no one seemed to think the event cither serious or significant. Hinez, however, did not rest; like a poisoned beast he ran from one City Office to the other; he rushed to the Council of professors, to editorial offices, everywhere insisting, demanding, himself not knowing what. Nobody wanted to listen to him; they shrugged their shoulders and smiled in his face. Two — three professors of the Institute, indeed, shared his alarm and were certain that the affair was not yet finished. But not one was willing to stake his reputation or risk falling into a ridiculous position, if the whole affair should perchance turn out to be a false alarm. Deriugin did not show himself anywhere. He had apparently forgotten about the dreadful occurrence, while he worked continuously and feverishly over some research work in the laboratory of the Institute. He hadn’t even shown up at the professor’s funeral, at which all the flower of the scientific world of Berlin and Germany had gathered. So completely absorbed was he in his work. For all that, Eitel had played a conspicuous part on that day, and strange it was to see his bright uniform in the background of black frocks of the professors and their colleagues. Here, for the first time, since that significant day, young Flinder met Hinez, now an absent- minded, ill and irresponsible person. Eitel could not, for some time, explain to himself the meaning of the fantastic tales the young engineer had been telling him. “You mean to say, that the air is burning over there?” he queried, bewildered, wiping his forehead. “Not burning,” nervously replied Hinez, twitching and twisting, as if on springs, “not burning, but destroying itself. Its atoms, broken up and exploded into their infinitesimally small bulkiness by your father, are drifting with their fragments, with such rapidity, that they are gradually destroying the neighboring atoms, thereby freeing the dormant energy that is hidden within them; they, scattered into hundreds of fragments, in their turn destroy new layers of gas, thus, a terrific gangrene is gradually hemming in more and more volumes of ether…” “Does this presage anything serious?” asked Eitel confusedly. “This presages a world conflagration!” "But isn’t it possible to stop that wandering sphere, somehow? Extinguish its growing flame, or — whatever you call it?” “That’s just where the fear lies — it is impossible, absolutely impossible, at least, in the present state of science. This process is homogeneous with the phenomenon of radioactivity and upon them we can exert no influence whatever. They are absolutely beyond our control.” The poor brain of the soldier was tangled hopelessly in the wild perspectives. Hinez was right. On the same day, Friday evening, the first news was received from the east about the appearance of a large exhibition of ball lightning and, as described by an eyewitness, it moved in a direction towards the Polish border. The phenomenon resembled a fiery ball, five feet in diameter; it flew slowly with the wind, close to the ground. At night it emitted a dazzling bright radiance; in the daytime, it seemed like an incandescent flaming cloud. The nature of the strange appearance, doubtless, was electrical. Upon its approach, the work of the telephone and telegraph stations ceased completely; in places of weak insulation and upon the apparatus, sparks poured down in showerlike fashion; compass needles turned in all directions, as in time of severe magnetic storms. In general, it was very difficult to pass any judgment upon the details, but from the information thus far received, it was deducible that a danger of an unknown nature was actually threatening. The path of the sphere’s movement was a streak of growing destruction. Fields and meadows stretched in wide burned- down ribbons; wherever it encountered forests, fires flashed up and long red flames rose high into the sky. Several villages were completely wiped out. To keep silent and conceal the truth was impossible. The Sunday newspapers were filled with alarming dispatches, articles and questions addressed to the scientific societies and individual specialists working in the fields of electro-chemistry and radioactivity. Despite the fact that it was a holiday, a special meeting of all the professors of the Institute was called, and the most prominent representatives of scientific thought, that were in Berlin at that time, were also invited. Amongst them was Hinez — tired, emaciated and apparently grown older by many years. Deriugin, who had been working on some questions, on the solution of which now depended the fate of mankind, perhaps, was there also. The thought was wild and absurd; it sounded like a fairy-tale; yet, despite it, the chairman, opening the meeting, introduced that first. Never before had the walls of this meeting hall, within which a majestic spirit of sober discussions and cold understanding, always reigned, heard similar orations. The fantasy and the fairy-tale combined with reality; mathematic formulae and apocalyptic predictions were all blended into a strange chaos. But the most terrible thing of all was, that the meeting at once declared its complete incompetence for solving the problems they were confronted with. Man was impotent. The spirit he provoked turned against him and threatened complete annihilation. The meeting suddenly became pervaded with inexplicable alarm, and with a painful feeling of hopelessness; there seemed to be no way out of it. Then Deriugin asked for the floor, and briefly summed up the situation on hand: “The process is enlarging and growing. To wait till the obstinate work of the brain or a fortunate chance or accident will disclose to us a method or a means to stop it — is unthinkable. We must do now, at least, whatever is possible; we must check the further movements of the sphere — arrest it…” The hall reverberated with exclamations of wonderment, almost indignation, on the part of the assembled scientists. Some delegates openly declared that they had not come there to listen to the hollow prattle of dilettanti. Deriugin, having waited till the noise subsided, asked that he be heard carefully till the end. And concentrated attention, a few minutes later, was the answer to his speech. His project had the following salient points: to adjust upon a huge caterpillar-tractor, moving at a speed of 40 kilometers an hour, a powerful dynamo, fed by electric motors of several thousand horsepower. Its current should pass through the armature of the electromagnet, thereby supplying the latter with colossal force. Four — five such colossal magnetos, in Deriugin’s opinion, would suffice to cause the sphere to move against a moderately blowing wind to reach the magnet poles. Of course, the execution of the project demanded a colossal effort and a large sum of money. Germany was not the only country where precautions were necessary. It was of paramount importance to organize a system of construction of electro-magnets in several points on the continent, because it was impossible to foretell whither the tide would toss the strange enemy in the near future. Besides, the work would have to be completed in the shortest possible time; else it might be too late. The operations seemed very difficult, indeed — almost beyond possibility of fulfilment — but upon them rested the fate of mankind. It was absolutely necessary to try. All this was so evident, that it did not provoke any disputes or discussions. After a brief exchange of opinions, it was decided to appoint a commission to work out every detail of the project proposed by Deriugin. In addition to that, the assembly decided to bring the case before the people and appeal to the government to immediately appropriate an adequate sum of money in order to carry out the work. Similar appeals were addressed to all the scientific societies and to the governments of the other countries, urging them to join in the common cause.V
THREE weeks had passed. Old Europe was crumbling on every step. From one end to the other, by the will of the wind, hovered the flaming sphere, increasing steadily in size and sweeping away everything that was alive. Cities and villages were burning, forests were aflame, day and night enshrouded the sky with curling clouds and asphyxiating smoke. Meadows and fields in ever greater strips, were* becoming reduced into carbonized deserts, stretching in winding ribbons over the map of terror-stricken Europe. Crossing the Polishborder, the flaming sphere on the same day reached Torna and, passing over the fortress, it destroyed two forts, several batteries and some large powder-depots. The city proper, remained on the safe side of the moving atomic whirl, but it suffered much from the explosions in the forts; the number of dead and wounded reached several hundreds. The news of the Toma catastrophe reached Warsaw Saturday evening. Sunday morning an enraged mob broke into the building of the German Consul General and ransacked it, due to a rumor that had passed amongst the people, that "the Germans were at the bottom of everything,” and that the approaching disaster was intentionally precipitated upon Poland by Germany. In the churches, the bells were ringing and the Miserere was solemnly being sung; people were imploring the Lord to rid them of the elemental disaster. An endless procession, with cross and banners, wound through the streets, and the blue smoke of the censers rose high into the bright sky. East of Warsaw a chain of batteries stood ready to meet, at midnight, the unwelcome enemy with the thunder of their metallic mouths. This was the mobilization of religion and science; heavenly and earthly army. At two in the afternoon, the enemy appeared. Enveloped in a halo of smoke, the flaming sphere moved along the shore of the Vistula, setting the forests of Belian and Mlotzin on fire. The chain of batteries, lined up in front of the fortress, was broken up in twenty minutes, the arsenal was blown to pieces and ten minutes later the sphere burst into the streets of the city. The bells were silenced, the procession was dispersed in panic, fright and horror. Cries of despair, the hissing of the flames, the crackling of breaking glass and the roar of falling walls signified the course of flight of the atomic vortex. A quarter of an hour later, having laid waste the New World and Lazenki, it disappeared in the direction of Mokotow; behind it the vast city roared and sighed in smoke and flame. The burning of Warsaw served as an impetus to force the other nations to join the movement sponsored by Germany. Fervidly interested became the world’s greatest scientists, such as Rutherford, Bohr, Aston and many others. Laboratories worked day and night; lathes and machines roared full-throatedly in the ironworks; metal grated against metal and one after another there appeared upon the Earth iron and brass giants that were to combat the inexorable foe. Toward the end of the week, Deriugin was commissioned to Paris to set aside all the difficulties that impeded the work in the Creusot ironworks. From there he was- supposed to go to Genoa, where the works of Italy were concentrated. The flaming sphere, meanwhile, continued its course over Europe, leaving in its wake fires, devastation and thousands of victims. Passing Warsaw, it set fire to Kovel and then disappeared for some time in the marshes of Poliesie. Thence it moved southward, flying between Kiev and Zhitomir and wiping Ouman completely off the map, it descended over the river Boog, then brushing by the eastern outskirts of Nikolaev, it wended its course over the Black Sea. The destruction caused by it began to assume actual cosmic dimensions. Aside from the fires and victims, now it bore with it new calamities. Dreadful thunderstorms and hurricanes of unusual proportions — similar to tropical showers — were descending from the atmosphere which was pregnant with vapors from the rivers, lakes and seas, caused by the immense heat that had been radiating from the destroying globe. Passing through the Balkan Peninsula and inflicting great damage and suffering on Belgrade, the fiery vortex, by way of Tyrol and Baxaria, entered France, and devastating the north-eastern comer, disappeared into the ocean. At this point, between Cologne and Paris, it was met by Eitel Flinder. The turbulent days, after the death of his father, bore heavily upon the young man. He was completely lost in the chaos of strange occurrences. Ever since the time he had spoken to Hinez, after his father’s funeral, he found it impossible to collect his thoughts, or direct them along proper and sound channels. The strips of fires and min that had swept over Europe seemed to have cut deep crosses into his breast. He could not, under any circumstances, reconcile himself to the fact that his father was the cause of the disaster now ravaging all Europe. Besides, his old hatred for Deriugin, about whom he continued to hear and read daily, had not ceased for a single moment. And despite the fact that he could not himself explain on what this strange feeling toward the young Russian was being fed, yet, in his utter ignorance, he did not notice how that feeling of reasonless malice was gradually changing into the blind conviction that, it was the Moscovite, who was the cause of his father’s death, as well as of the dreadful nightmares that continued to ravage all of Europe for the last three weeks. Though the thought was wild, without any foundation, still it continued to torment the weak mind of the young Hussar. He felt certain that all misfortunes emanated from Moscow, for, while the fiery sphere had only grazed a small part of the Russian territory, it had played great havoc everywhere else in Europe. And without giving due consideration to his actions, Eitel turned about face to Paris, right on the heels of his detested foe.VI
DERIUGIN was no longer in Paris. Though hot on his trail, Eitel did not follow him immediately to Italy. In these days of frightful nightmares, it was not easy to travel from one country to another. All depots were beleaguered by enormous crowds of people. Bloody encounters were fought in order to get into a railroad car. The immense city was in hot delirium. Eitel observed with timid curiosity the panic which possessed the human ant-hill and it found a live response in his own heart. And what he saw redoubled his hatred for the supposed author of the unprecedented catastrophe. Paris was dying before his eyes. All this occurred two days before Eitel’s arrival in Paris. As soon as the news about the appearance of the atomic vortex in the Vosges and about its movements westward were received, an unprecedented confusion broke out on the Bourse. The most solid values tumbled with amazing speed. In the next twenty-four hours, several of the largest concerns in the country were forced to discontinue payments. Hordes of people hastened to withdraw their money from-the banks. In a word, it was an ordinary financial panic multiplied several times by ten. A human sea inundated the streets and squares of the city and splashed out there all its hatred, malice and fear that was kept locked within the stony boxes— their houses. Here and there, amid the living tempestuous stream, gonfalone fluctuated and statues of saints and of the Madonna vascilated on their litters in the processions that implored Heaven to deliver them from the impending disaster. Improvised choruses alternated, church bells pealed and women shrieked. On the day of Eitel’s arrival in Paris there appeared in “Figaro” an article which played the role of a barrel of gasoline poured upon an incipient fire. One of the most renowned authorities in the field of radioactivity was summing up the course of events and reached the following definite conclusion: that the earth was coming to an end, that man is in no position to arrest the breaking up of the atoms within the atomic vortex, that by now the speed of its growth has been constantly progressing, that it is expected in the near future to reach colossal dimensions and velocity, precluding almost an immediate cataclysm. This is imminent and seemed only a question of time. Any struggle with the enemy was fruitless and ridiculous. Civilization has fulfilled its mission, reached its culminating point of development and must leave the stage… As an aftermath of the article, it appeared as if some sluices have opened in the gigantic city as well as in the hearts of the people. Prayers and anathemas, wailing and sighing, licentious songs and gospels of priests were intermingled and rolled into one. Throngs of insensates appeared in the streets. Some raised their hands to heaven in mute prayer, others openly gave vent to wild profligacies. One great financier and millionaire, now the possessor of only worthless securities, appeared on the balcony of his palatial residence and gazing down upon the maddening crowds, he began to tear into shreds, notes and paper currency worth hundreds of thousands of dollars, shouting in wild frenzy: “Our earth is coming to an end! It’s the end of the world!” The wild scenes completely possessed Eitel’s mind. He was certain now that he was summoned from above to save the Earth from the impending destruction and, the only way to accomplish this, was to wipe off from the face of the Earth that person who, in his opinion, was the embodiment of all the dreadful occurrences. When the atomic vortex flew past Paris without causing any damage, the first wave of refugees that sought salvation outside the walls of Paris, surged back into the city. Eitel dashed off for Genoa. Despite the fact that at that moment the city was not in immediate danger, young Flinder found in it almost the same picture as in Paris. In the city full of commotion and beset with despair, there was a little island against which live waves dashed themselves to pieces. Here, day and night, in fire and heat of the melting furnaces, and amid the clank and din of machines, thousands of people worked, like the children of Vulcan in the blacksmith shops of hell. The world could rage with madness, as it saw fit, but here they forged implements for the struggle for its existence, while there still was a drop of hope left. At the time of Deriugin’s arrival, three powerful engines were completed, while another five were still in work. Every day, from early morning, leaving behind him the filthy and narrow streets of the noisy city, the engineer would enter the smoky kingdom of iron and steel, whence it was destined to launch at the needed moment the iron giants, wherever the enemy was expected. It was here that young Flinder had found him, after an untiring chase. Deriugin was in the yard of the gigantic plant which produced yesterday a new electromagnet which was to be tested this day. At first the engines were tested. The groaning of their oppressive weights shook up the machines with a heavy tremor, so that the earth began to shake under them. Several mechanics, together with Deriugin, walked around the iron monsters, observing their rhythm, breath and the workings of each and every part of them. The chief engineer, a tall, slim Italian, pointed out some inaccuracies in the refrigerator; a group of mechanics stopped to watch a tiny stream of gas that had been leaking out from somewhere. Deriugin stepped aside, writing something into his notebook, when suddenly, in the rear of the dark passageway of the interior building, appeared the figure of a man who stopped bewildered in the center of the yard, apparently stunned by the clanking and noise that filled the air from all sides. The visitor’s face seemed familiar to Deriugin, but, for the moment, he could not recollect where he had met these restlessly seeking eyes, the protuberant forehead and hard-compressed lips. Something strange, impetuous and alarming was in the stranger’s pose, and Deriugin was about to inquire how and wherefore he had come here, when their eyes suddenly met. Within a trice, Deriugin’s memory conjured up the forgotten image for him, and within the same trice the intruder’s eyes became inflamed with such rabid hatred, that the engineer unwillingly retreated. Eitel’s right hand dropped into his pocket and within a twinkle of an eye, Deriugin saw before himself the dark gap of the pistol’s bore. Not realizing what it was all about, he uttered a cry and dashed off to the side of the ponderous engine. A shot rent the air, followed by another. Deriugin felt a burning sensation on his left shoulder. He turned around. Eitel stood a few feet away from him, aiming at close range for a new shot. From the cabin of the electromagnet a frightened face was peering out. At the refrigerator, the mechanics had gathered into a group, not knowing what to do. 'In this very brief moment, there flashed through Deriugin’s mind a bright thought. He made a sprint to the side of the magnet and shouted to the mechanic: “Enrico, turn on the current!” Another shot rent the air. Deriugin dropped to the ground. In the next moment something very astonishing had occurred: the pistol, tom out from Eitel’s hand by the great power of the magnet, flew up into the air the dozen feet 'that separated it from the magnet, struck with all its might against the frame and remained there, as if held up by an unseen hand. Confounded, Flinder remained standing unmoved, gazing about himself with frenzied eyes. When the people ran up to him and grasped him by the arm, he did not try to resist, but followed silently after them. Turning back his head, from time to time, he looked up bewilderingly at his weapon, which hung upon the strange monster as though it were glued down to it. Several people ran up to Deriugin and busied themselves about him. Happily, his wounds, one in the shoulder, the other in the left leg, were not dangerous; at any rate, the bone was not touched. He was carried into the central building. “Well, well, Signor Deriugin, I am happy to congratulate you!” said the chief engineer, after he was bandaged. “You certainly had a lucky escape. Had you not torn the pistol from the fiend’s hand with the aid of the electro-magnet, we would not have had the pleasure of speaking to you now.” Indeed, the current turned into the field coils had transformed it into a powerful magnet, which attracted Flinder’s pistol. “Everything is well — that ends well!” replied Deriugin smilingly. “But it is too bad, for the accident will retard my work for a few days.”VII
A CROSS-EXAMINATION of Eitel proved beyond conjecture that they were dealing with a mentally-deranged person. He was one of those innumerable victims of the turbulent quarter of this century, whose fatigued and strained mind could not resist the powerful attacks of these frightful days. To turn him over to the authorities was not considered a wise move, as the streets nowadays were overfilled with similar madmen. Besides, the city itself resembled a huge Bedlam. It was decided to detain him on the factory grounds under special guard, in one of the rooms of the resident body of engineers. However, in the pellmell of new events, he was completely forgotten. At the end of the week a dispatch came that the fiery vortex had again appeared on the French coast and it was coursing along the southwestern boundary toward the Mediterranean Sea. Three electromagnets from the Creusot Works were sent out by railroad to intercept it, but they arrived too late. Destroying Toulouse and converting the Haute-Garonne into a veritable desert, the fiery vortex again wended its course over the maritime expanse. Now, within about forty-eight hours, it was expected somewhere on the western coast of Italy. Five new engines, fully equipped, were mounted on platforms in Genoa and shipped to Rome, whence it was easy to move them to any point on the coast. Locomotives stood in readiness, day and night, awaiting orders to fling their loads into action. Deriugin, the chief engineer, and a number of mechanics were all ready at any moment to meet the treacherous foe. However, after reading through the details about the movements of the atomic flame, the young engineer suddenly began to doubt the expediency of his own project. The cursed sphere continued to grow ever larger and larger, making the approach to it difficult and dangerous. An entirely new question now arose. Would it be possible to get near enough the sphere — within the proximity of about 70 or 100 feet, for instance, without being exposed to the danger of being scorched in its sultry atmosphere? Would the electromagnets be effective at such a distance? And, if so, suppose they succeeded in encircling and arresting it? What then? Wasn’t it too' late?… Deriugin, however, did not share his views with his comrades, but continued to work as obstinately as before. But this was not all; there was still another discouraging feature of this affair. Alarming dispatches were arriving from Naples; Vesuvius was speaking in a manner never heard before. Tremendous pillars of vapor, 12 to 18 miles high, were rising from the crater. The Earth was sighing and rumbling as on the day of the Last Judgment. Naples was already destroyed and the inhabitants were fleeing from under the ruins in wild terror. All this was sufficiently awe-inspiring in itself, without adding to the already difficult struggle with the atomic vortex. All the railroads were crammed with train-loads of refugees from the South. The panic, doubled by the new catastrophe, completely disorganized the authorities. Besides, even here, about two hundred kilometers away from the volcano, light tremors of the Earth were beginning to be felt. And most of all, a noticeable wind was beginning to draw. The chief engineer was grumbling and scowling, it seemed, as if he too were beginning to wonder whether the struggle was worth the pains. On Tuesday evening, June 1, the radio announced that the vortex had passed between Corsica and Sardinia, taking an eastward course; at the same time another engine had arrived in Rome from Genoa and five from Le Creusot, France, to assist in the work. This was considered sufficient power to cope with the situation. The whole division of engines moved further south, every necessary step was taken to facilitate the unloading, when the hour of battle arrived, or to trail the fiery enemy, if a chance presented itself. A chain of observation posts were stationed all along the coast; on belfries, churches and field watch- towers. Everyone’s nerves were strained to the extreme by feverish expectations. Meanwhile, from the south-east, the din of the volcano was clearly audible and a fiery pillar, like a giant torch, stood high in the darkening sky. Deriugin was filled with apprehension, as he anticipated the new, impending storm and shook his head sadly when he realized suddenly that the wind had begun to play stronger and sharper. At two in the morning, the flaming cloud appeared alongside the shore. The engines were immediately started eastward toward the sea. At three o’clock, in two lines of a semi-circle one kilometer in diameter, they rolled down to the sea at the very moment when the flaming sphere, in curling vapor, whistling, hissing, with rolling thunder, reached the contingent almost in the center of the arc formed by the iron giants. Deriugin was in one of the electro-magnets; he sat in a small cabin together with the commander and mechanic in the curve of the left line. It was dawning and in a few minutes the whole panorama was as clear as daylight. On the right and on the left puffed and roared the metallic parts of the massive monsters, resembling huge crabs. On the upper platforms gleamed flashes of light — optic signals, transmitting orders from the chief engineer, whose engine was outside the arc of the second line. Directly in front the fiery, fuming Sphere, freed from the vaporous atmosphere, darted lightning, emitted sparks, roared and thundered and breathed forth its heat and blinding light. Here, at a distance of a half a kilometer, the intensity of the heat was being felt. Everywhere, on the engines, over the bushes and trees along the shore, untouched as yet, jumped and quivered lights, like drops of cold water. At the same time, from the south-east ever louder roared the distant mountain and a huge black-gray pillar standing in the air, tossed its smoky peak up high on the crest of the wind. The strange chase began. The center of the arc remained stationary while its ends gradually were bending in, encircling the sphere from all sides and from the rear. The electro-magnets were put into action, but, at such a distance their influence, apparently, was insufficient. The fiery vortex moved eastward into the depth of the continent and the engines were retreating at the same speed. Retreating thus about six miles amid thundering, booming, crackling and dinning from all sides, the chief engineer decided to start the offensive. The center of the front tractors halted, the others closed on to the center from all sides, locking the ring tighter. The fiery sphere was approaching. The engines shuddered, sighed, and bellowed, as if alive. The dazzling light cut the eyes and the air was stifled with heat, as if hell itself had burst open. It was becoming more and more difficult to breathe; the blood rushed up the temples; the body reeked with perspiration, ached and grieved. The cloud continued its approach. Was it possible that all the efforts would be reduced to naught— turned into child’s play? Was it possible that the attempts were made with inadequate means and that the vortex would fly past over their corpses on to the Apennines? The fiery cloud was so near that the eyes were about to burst with heat; the head was spinning; there was no air in the chest. Deriugin unwillingly shut his eyes; he was about to faint. Suddenly someone grasped his arm. He opened his eyes. The chief mechanic, his face disfigured and his eyes bulging out, pressed his fingers painfully against Deriugin’s, shouting madly, trying to overcome the furious din of the engines: “It is stopping! It is stopping!” Indeed, the sphere was no longer approaching; this huge flaming bubble wavered, to and fro, making a few attempts to break away, and finally became congealed on the spot. Deriugin felt that hot tears burst out on his eyes. “Devil take it! It is a victory just the same! Although temporary and shaky, still, it is a victory! This- accursed human scourge was imprisoned after all!”SUDDENLY darkness set in — as if a blanket of gray-had covered up the turbid sky. Deriugin turned his head back over his shoulders and fell into a tremor; half of the horizon from south-east was enveloped irk utter darkness; a lace-like black cloud spreading all the way from the volcano, blotted out the sun. In proportion thereof, the fiery sphere in the front shone brighter and lighter. From above fell heavy flocks of gray dust. The animal instinct enslaved his heart and filled up the body with wizened imbecility. Someone clutched Deriugin’s arm again. The chief mechanic, whose face was disfigured with horror, pointed to the East and shouted hoarsely: “The wind, the wind, Santa Madonna!!” Indeed, from the northwest the wind bore clouds of sand, heaps of ashes, dry grass and twirled them into pillars of whirlwinds from right and left. The fiery sphere shuddered under the blows, rocked and sighed: then, making two attempts to free itself, it suddenly gave an enormous leap toward the southern end of the enclosed circle. On the platforms of the tractors little fires — began to jump restlessly, signalizing the new formation. But it was too late. Cut up by the hurricane, the atomic vortex within a few seconds flew past the distance between the line of magnets and, enveloping in a flaming shroud the nearest of them, took itself off into the booming and rumbling darkness. For several minutes the tractors tossed about confusedly like a herd of awkward turtles. Then, they stretched out in three lines and thundering and clanking with the metals, they took up the chase. Meanwhile, the darkness continued to spread, blanketing more than half of the sky The wild chase continued for fifteen minutes. The fiery trail of the whirl disappeared completely in the blinding darkness which now had enveloped the full horizon. A torrent of rain poured clown, mixed with dirt and ashes. To continue, was both absurd and impossible. Deriugin sat apathetically in his place, his arms crossed on his chest and his eyes shut, completely crushed by the enraged elements. Indolently his thoughts roved in his head, stopping at nothing. Thus passed half an hour. Then it appeared as if the Earth had heaved a heavy sigh from its depths and quaked all the way down to its bottomless abyss. A shuddering, incredible roar devoured everything else and was precipitated in rumblings of sounds upon the trembling darkness. A giant fiery pillar grew up in measureless height, as if the Earth’s womb had belched out its contents into heaven. A hot wave of heat smote Deriugin and he lost his. conscience. When he recovered, he found himself in one of Rome’s hospitals amid tens of thousands of wounded, maimed and half-crazed people who had escaped death during the unusual catastrophe which had befallen their unfortunate country. He could not conceive for a long time what had happened. The events resembled too much the nightmares of a sick brain. But here’s what happened: The earthquake in Campagna ended with such a colossal eruption, that it could be compared only with the catastrophe on the Krakatao Island in the Strait of Sunda, in 1883. Three consecutive subterranean shocks discharged from the crater of Vesuvius incredible amounts of glowing lava, pumice and ashes. The power of explosion was of such nature, that the air-wave produced by it, was impelled into the upper layers of the atmosphere. These were the shocks that impressed themselves uppermost in Deriugin’s mind. All the cities and villages within and about 100–150 kilometers around the center of the catastrophe were either destroyed by subterranean shocks and hurricanes, or buried under the layers of ashes and liquefied rock dirt. The coast was inundated by a huge wave swept upon it from the sea. The number of killed was not yet known, but it was estimated to exceed several hundred thousands. But together with that, in the general chaos of destruction, disappeared the atomic vortex. It was difficult, however, to say with any degree of certainty what had happened to it, but the postulate forwarded by Professor Umbero Medona, of the Bologna University, was accepted as plausible and logical. Apparently, the fiery sphere fell into a cyclone formed about Vesuvius, owing to the rising currents of air above the crater. Attracted by it, the sphere tore out of the ring of engines and sped away along the wide spiral toward the center of the tornado, and at the moment it reached the crater, the main explosion occurred, ejecting the atomic vortex together with the ether wave out of the bounds of the Earth’s atmosphere. Opinions were current to the effect that such coincidence was not of common nature, but was caused by a chain of phenomena. Yet, to prove that this was so, was a thing beyond possibility. At any rate, the Earth rid itself of the dreadful menace albeit at a dreadful price. Eitel Flinder suddenly disappeared from Genoa, but, in all probability met his death in the catastrophe that buried the beautiful Campagna.
Биография
ГРУШВИЦКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГРАФОВИЧ
(Владимир Орловский) (1882–1942)

Владимир Орловский родился 28 июня 1889 г. в г. Луков (ныне — Польша) в семье военного ветеринарного врача. В 1907 г. окончил кадетский корпус, в 1910 — артиллерийское военное училище в Петербурге. До начала войны 1914 г. состоял слушателем Николаевской Инженерной академии. В 1910–1913 гг. проходил службу в Варшаве, причем «романтическая история довольно запутанного характера» едва не привела молодого подпоручика к гибели в связи с попыткой самоубийства. К слову сказать, ровно через десять лет он еще раз попытается покончить счеты с жизнью, причиной тому послужит страшная нужда и голод… С 1914 по 1917 — на фронте. В октябре 1917 г. вызван в Петроград для продолжения курсов Академии. В 1919 г. получил назначение в 9-ю армию Южного фронта, где дослужился до поста начальника инженерной службы армии Южного фронта. Позже, в автобиографическом очерке, он лаконично и предельно честно напишет: «За время войны утвердился окончательно в отвращении к этому страшному делу, с которым пришлось столкнуться вплотную на позициях». В 1920 г., сразу после окончания боевых действий, военный инженер Грушвицкий демобилизовался (в 1922 г. перебрался с семьей в Петроград) и перешел в учебное ведомство, где преподавал физику и химию. Одновременно учился на физико- математическом факультете Ленинградского Государственного университета, учебу в котором успешно окончил в конце 20-х гг. Стал профессором Ленинградского Фармацевтического института. Там же с 1939 по 1942 гг. возглавлял кафедру неорганической химии. Профессор В. Е. Грушвицкий является автором научных и научно-популярных статей и работ по химии. Умер в январе 1942 г. в блокадном Ленинграде. Если говорить о делах литературных, то сам писатель с определенной долей самоиронии вспоминал, как будучи юнкером написал «фантазию, навеянную Андреевскими страхами», но, получив вежливый отказ в редакции, был столь огорчен, что на целых пятнадцать лет забросил сочинительство. Однако удачный дебют все же состоялся — в 1925 г. Тогда ленинградское издательство «Прибой» публикует его научно-фантастическую повесть «Машина ужаса». Всего написано Владимиром Орловским (именно под этим псевдонимом писатель стал известен) немного: роман, повесть и ряд рассказов. В 1927 г. в журнале «Мир приключений» публикуется рассказ «Из другого мира», который несколько выделяется из общего скромного литературного наследия Орловского. Это научная фантастика в своем чистом виде, где совершенно отсутствует социальная проблематика, а все внимание автора сосредоточено на исследованиях ученого, вторгающегося в тайны Природы. Рассказ вошел в десятку победителей (из 810 допущенных к конкурсу рукописей) на литературном конкурсе журнала «Мир приключений» 1927 года, и это был несомненный успех, так как в жюри конкурса входили известные ученые, литературные критики и писатели. Рассказ «Бунт атомов» был переведён на английский язык и был напечатан в 1929 года в журнале «Amazing Stories», кстати в последнем номере, который отредактировал Хьюго Гернсбек. Заметным явлением в довоенной отечественной фантастике стал роман «Бунт атомов», переработанный из опубликованного ранее одноименного рассказа, — одно из первых произведений на тему использования атомной энергии. Многие критики, в том числе и зарубежные, весьма высоко оценивая творчество писателя, в первую очередь называли «Бунт атомов», отмечая безусловное значительное влияние романа на произведения «атомной» тематики последующих лет.Изданный в 1928 г. ленинградским издательством «Прибой» тиражом всего в 4000 экземпляров, «Бунт атомов» заведомо был обречен стать библиографической редкостью, что, собственно, и произошло. Еще одна особенность творчества Владимира Орловского — в отличие от многочисленных коллег по перу, бойко и неутомимо раздувающих мировой революционный пожар в своих красных боевиках, красных утопиях и романах «тайн», писатель пытался давать мотивировку социально-политическим событиям, исходя из объективных реальностей современного ему мира. Хотя, надо признать, идеи «мировой революции» присутствовали и в его произведениях, материализовываясь по ходу развития сюжетов.
Библиография
В. Орловский: Машина ужаса//Л.: Рабочее издательство «Прибой», 1925 г.
В. Орловский: Бунт атомов//Л.: Рабочее издательство «Прибой», 1925 г.

V. Orlovsky: The Revolt of the Atoms//Amazing Stories, April 1929.

Владимир Орловский: Из другого мира//«Мир приключений 1927'9».
 Иллюстрации Н. Кочергина.
Иллюстрации Н. Кочергина.
Владимир Орловский: Болезнь Тимми// «Вокруг света 1928'46(Л)».
 Иллюстрации И. Королева.
Иллюстрации И. Королева.
Владимир Орловский: Человек, укравший газ// «Вокруг света 1928'33–35 (Л)».
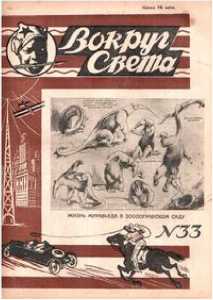 Иллюстрации Г. Фитингофа.
Иллюстрации Г. Фитингофа.
Владимир Орловский: Без эфира // «Вокруг света 1929'5-6(Л)».
 Иллюстрации Г. Фитингофа.
Иллюстрации Г. Фитингофа.
Владимир Орловский: Штеккерит// «Мир приключений», 1929, № 3–4.
 Иллюстрации Н. Ушина.
Иллюстрации Н. Ушина.
На обложке Иллюстрация на обложке Н. Ушина: Мир приключений № 3, 1927 г.
Примечания
1
Прибор для преобразования переменного тока в постоянный. (обратно)2
Не будьте трусами! Да здравствует пушка! (обратно)3
Моя вина! Моя величайшая вина! — возглас покаяния у католиков. (обратно)4
Мы сделаем пушку, чтобы выстрелить в небо! (обратно)5
После того — значит, вследствие этого. (обратно)6
Дюралюминий — сплав алюминия с магнием. (обратно)7
Агрегат — соединение двигателя и динамо-машины. (обратно)8
Суета сует и всяческая суета! (обратно)9
И. Ф. Крузенштерна. (обратно)10
Немецкий химик, погибший во время мировой войны. (обратно)
(обратно)
Последние комментарии
26 минут 10 секунд назад
43 минут 14 секунд назад
1 час 3 минут назад
3 часов 45 минут назад
11 часов 8 минут назад
16 часов 53 минут назад