Баронесса Вревская: Роман-альбом [Марина Кретова] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Баронесса Вревская: Роман-альбом
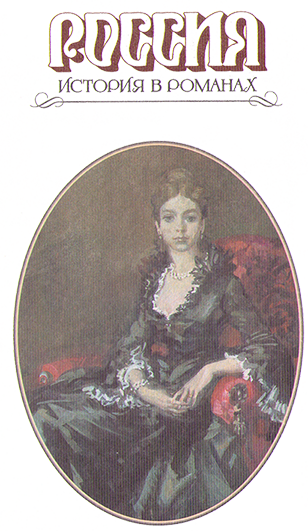

ПОЧЕРК НА ВЕТХИХ ЛИСТАХ
От Вас, Юлия Петровна, осталось всего несколько писем, написанных лично Вами, Вашей рукой, и то, что они сохранились, вышло против Вашей воли. Вы хотели, чтобы не осталось ничего. Старый болгарин, профессор военной медицины Вылчо Куртев (а в Болгарии Вы национальная героиня) боготворит Вас и говорит о Вас часами, со всеми, кто готов слушать; как он ругал, на чём свет стоит всех, кто посмел «поднять руку» (выполняя Вашу волю) на любую мелочь, принадлежащую Вам. Ну какое, казалось бы, имеет значение, у какого портного Вы заказывали платья, по каким счетам платили и какие хозяйственные распоряжения давали своему приказчику орловского имения; что отвечали людям, любившим Вас, и в чём признавались тому, кого любили сами. — Ну как же, как же это возможно, — горячился профессор, и кончик его крупного рыхловатого носа покраснел, очки от возбуждения сбились. Вздохнул и сказал: — Да. Нам, болгарам, этого не понять. У нас никогда не было своей аристократии. Военный врач Павлов исполнил Вашу предсмертную просьбу и прямо у остывающего тела сжёг все Ваши бумаги. Их оказалось немного — два небольших пакета с письмами и несколько фотографий. Вряд ли доктор испытывал сожаление, подбрасывая в печку листы. Что значат несколько страниц, исписанных мелким почерком, в сравнении с болью от потери?! Но несколько листочков с Вашим летящим почерком уцелели. Чернила почти не выцвели; тонкие, убегающие за край бумаги строчки всё ещё можно прочесть. Письма Тургеневу: в одном Вы зовёте его кататься на тройке и беспокоитесь о рябчиках, коих отправили ему с оказией к ужину, в другом мягко журите за долгое молчание и не советуете перепрыгивать ров с мелкой весенней водицей, который образовался меж вами. Вы мягко просите его сохранять дистанцию в отношениях, потому что заботитесь о сохранении вашей дружбы. Когда Вы не хотели его видеть, то посылали швейцара сказать, что нет дома — хитрили, и он уходил, уезжал в Спасское или в Париж — влюблённый, но не очень назойливый старик поклонник. И посматривали, наверное, из-за занавесочки — отъехала ли карета — и снова садились за рукоделие и погружались в невесёлые мысли, ведь светская дама могла не принять гостя только в исключительных случаях. Дурное настроение, хандра — роскоши общения в подобном состоянии духа этикет не допускал. А в письме, адресованном Великому князю Константину Николаевичу, Вы деликатно печалитесь о том, что Вам запрещено молиться в дворцовой церкви (из-за придворных интриг), и сами приносите извинения за выражение преданности, которая никому не нужна. Вы молитесь за царскую семью, желаете всем здоровья и счастья и остаётесь наедине со своим горем и обидой, скромно подписавшись: «Ваша верноподданная баронесса Вревская». Душный запах старых книг и ветхих бумаг в Пушкинском Доме; Ваш почерк на полуистлевших листах. Я сражалась с этим почерком до рези в глазах, разбирая неровные строчки, часто угадывала, а не вычитывала смысл. Дивилась перьевой скорописи, мелкости букв, небрежной пунктуации — возможно, следствие привычки к французскому языку. Пространство листа будто заполнено арабской вязью, буквы выползают, как из норки, и быстро и легко перебегают к краю листа. Как же они не похожи на те, что сходят на бумагу с наших шариковых ручек! А когда прочла и поняла, что это ВСЁ, стало грустно и тревожно, как перед болезнью; и резал глаза электрический свет; я вышла на улицу, в ветреную свежесть электрических сумерек. Нева набухала тяжёлой чёрной водой, игла Адмиралтейства потускнела, трамваи с отвратительным звоном переползали по горбу моста с Васильевского на Дворцовую набережную. Несколько писем, Юлия Петровна, — это слишком мало для биографического романа, и я думаю, Вы поняли бы моё отчаяние. Я шла по городу и думала о Вас. Правда, в этом есть что-то одновременно завораживающее и жуткое? Через сто с лишним лет по чужому городу идёт человек и думает о другом человеке, непонятном, незнакомом. Я думала о том, что мы никогда не могли бы встретиться с Веши, если позвать Вас в наше время. Вы не дошли бы до меня. Семнадцатый год остановил бы пулей или удалил чужбиной, да и любой другой всё равно догнал бы и отправил в вечность, где Вы и пребываете. Но преимущество Вашей вечности в том, что она выбрана Вами добровольно. А это такая жемчужная редкость в XX веке, в России, самому выбирать свои пути. Если бы я родилась на столетие раньше, мы тоже никогда бы не окликнули друг друга, потому что, как ни поверни моё прошлое, я бы в лаптях и длинной холщовой рубашке жала калужскую рожь или возделывала виноградники в Македонии, и только во время одного из Ваших путешествий в свите императрицы Вы могли увидеть меня мельком из дорожного экипажа и душистым облаком пронеслись мимо, а я посмотрела бы Вам вслед, ничуть не завидуя, — каждому своё. Вот и всё — нет точек в этом мире, где мы могли соприкоснуться, нет ничего общего между нами, кроме разве что Вашей прекрасной судьбы, без которой моя душа не стала б тем, что она есть. М. Кретова
ОТРАЖЕНИЕ
(Этюд)
«Итак, Вы окончательно поселились в Петербурге, любезнейшая Юлия Петровна, в том самом Петербурге, который был Вам всегда так противен!»(Из письма И. С. Тургенева Ю. П. Вревской)
Петербург, город идеалистов и мечтателей, почитателей «высокого и прекрасного», идеальных мыслей и чувств, бомбометателей, властителей дум, богемы; аристократов, которые любили народ и себя заодно с ним; Петербург мягкосердечных, кротких дядюшек, играющих на виолончели, всякий красивый вид из окна экипажа встречающих слезами умиления и стихами из Шиллера, Гете или Пушкина, Петербург романсов Алябьева «Ея уж нет», Варламова и Даргомыжского; Петербург помещиков, которые не умели разобраться в собственных делах и из-за стеснённых средств проводивших зимы в своих загородных имениях; Петербург вельмож, выходивших к завтраку в прекрасных английских сьютах, галстуках, с белоснежными манжетами, застёгнутыми тёмным опалом; Петербург, где одежда так же идеальна, как и те, кто её носит. Петербург с его неспешностью, мягкосердечной манерой разговаривать и жить. Петербург романов и писем на надушенной бумаге. Петербург, оставшийся в воспоминаниях, на газетных страницах, в гербовниках, расписаниях поездов, ресторанных меню и программках балов. И где-то за этими грубыми отражениями бывшей когда-то жизни я пытаюсь отыскать одинокую фигурку баронессы. Хочу увидеть её на улицах этого города, когда девятилетней девочкой из Старицкого уезда привезли её в Смольный монастырь под присмотр заботливых монахинь. Осени и зимы она молилась, училась и, как все воспитанницы, смотрела в окно, за которым шумел пленительный и недоступный город. В шестнадцать — самое время надеть лучшее платье и на первом балу блеснуть тем, что дал Господь Бог и чему научили строгие наставницы, — она выходит замуж за боевого генерала, и он увозит её на Кавказ, в совсем другой мир — мир выстрелов и странной горской речи. И может быть, пропало бы её блестящее образование в российской глухомани, если б не овдовела она от чеченской пули и не получила за заслуги мужа приглашение ко двору. Может, Петербург так и остался бы в её жизни прекрасной сказкой, но он вошёл в её жизнь, переплёлся с ней слишком прочно, неразрывно. И ей понадобилось всё же разорвать эту связь, чтобы погибнуть на далёких Балканах. Конечно, хорош ты, Петербург, но — от петровских времён до наших — скажи, кого ты сделал счастливым? Но он не даёт закончить эту мысль, врываясь звуками, суетой, скрипом каретных рессор и перекидных качелей, визгом шарманки, пронзительным криком Петрушки из-за ширмы, бубенцами и колокольцами, благовестом колоколов; он не даёт мне додумать, потому что наступает неотвратимо, и вот его уже видишь! Видишь освещённым газовыми рожками, одинокими, подобными светящимся рюмочкам или составленными в вензеля. Видишь, как весной, когда выставляют вторые рамы, дворы наполняются оттаявшим или воспрявшим от спячки загадочным людом.

Молодые, обветренные, пропахшие насквозь рыбой селёдочницы разносят голландскую сельдь в корзинах и ранцах за спиной; за ними идут серьёзные, просоленные мужички — такого и тронуть страшно, рыбный запах липучий, неделю не отмоешь, поэтому даже посланный слуга норовит на расстоянии договориться о цене, чтобы не звать продавца на кухню. Но если пошлют мальчишку, так тот рад руками ловить в плоской бадье лещей, линей, окуней. Развлечение, пока кухарка не выйдет и подзатыльником не поторопит. Появляются во дворах и смуглые молодцы с лотками на голове; в лотках россыпью ягоды, редис, хрустит на весеннем ветерке яркой обёрткой неаполитанский шоколад. По широкой мостовой тянутся кареты с гербами, лакеями на козлах, глядишь, мелькнёт в вытянутом узком окошке прелестное личико Великой княжны. И вздрогнет от благоговейного умиления и трепета чиновник, спешащий на службу, и остановится у дверей лавки, где собирался выпить сбитня. Да вот и жена коллежского асессора Пупарева[1], приехавшая в Петербург за штукой ситца и прочими товарами. Не удержится да купит пахнущую дымом, печённую на соломе ароматную и мягкую, как вата, сайку. На углу Садовой и Гостиного двора стоит аккуратно одетая хозяйка, разложив товар на длинном столе, покрытом чистым холстом. А то и сам Пупарев следом за супругой нагрянет по весне в столицу, и тогда уже будут ходить они вдвоём, оставив дома скучную двоюродную тётушку, у которой обыкновенно гостят, и смотреть, как крутят сальто-мортале акробаты на площади, как тут же, подстелив облезлый ковёр, играет худая шведка на арфе, а латыш в высокой шапке с пером жарит на скрипке. Может, соблазнятся Пупарев с супругой и подойдут погадать на счастье к слепому шарманщику. И чахоточного вида обезьянка в красной треуголке вытянет мохнатой детской ручкой розовый билетик из кармана красного фрака: «Не лучше ль повенчаться и друг друга любить». И Пупарев переглянется с супругой и потянется за вторым билетиком в надежде на обещание наследства, нечаянной радости или должностного повышения, но жена ласково остановит его — немного из суеверия, немного из экономии. А вечером, обложившись газетами и в столице верный своей привычке, он запишет наиважнейшее событие прошедшего дня: «Императрица Мария Александровна в Ливадии приняла от граждан Одессы мраморную статую Пенелопы и посетила оранжерею». Если Пупарев с супругой разгуливают по Петербургу шестидесятых — то вот и первые доходные дома. Новинка для Петербурга. На первом этаже — магазины, выше — дорогие квартиры. Пупареву не по средствам, а вот Вревская — нанимала. У грека, из десяти комнат, на Литейном, 27. Для многих этот дом памятен, Тургеневу и Полонскому — особенно. Частенько свои головы они тут склоняли в любезном поклоне. Если на Вербное воскресенье попадёшь, под арками Гостиного двора торг развернут: абажуры из цветной бумаги, чулки, шапочки, перчатки. А на масленицу на Адмиралтейской площади представление дают: «Плен Шамиля, или Битва русских с кабардинцами». И каждое представление заканчивалось пушечной пальбой и патриотическим гимном: «Славься, славься, наш Русский царь». Тут Пупарев мысленно перекрестится и пожелает здравия и многия лета всей императорской фамилии. А Фанни Лир, если мимо проезжает в коляске, улыбнётся, потому что это немного и ей, ведь она тайная жёнушка племянника царя, и русская казна уже трещит под тяжестью скромных запросов американской авантюристки. На ту же масленицу и традиционный балаганный дед с пеньковой бородой. Остроты его незамысловаты, все про свою старуху. И как она без зубов орехи грызла, без иголки рубашку шила. «А, — подмигивает дед коллежскому асессору, — вот у меня старуха — клад, обменяемся на твою молодуху?» И все хохочут, а Пупарев с Любовью Дмитриевной громче всех. На открытом помосте в Летнем саду звучит вальс, и дирижирует в оркестре всеобщий любимец шестидесятых, король вальсов Иоганн Штраус. Слушает его в открытой ложе, сбоку от эстрады, Великий князь Константин Николаевич, и взволнованно поблескивает его монокль в правом глазу, а в самых летящих местах вздрагивает козырёк малинового кепи. Почтальоны разносят письма прямо по квартирам, за три копейки; Фанни Лир переписывалась с его светлостью бесплатно — переписка с императорской фамилией давала такую привилегию. Если Пупаревы приехали в Петербург в октябре 1862-го, когда праздновалось тысячелетие России, вседневные спектакли в театре — бесплатно. И коллежский асессор мог насладиться игрой Каратыгина, Самойлова или госпожи Жулёвой в Александрийском театре без ущерба для кошелька. В моду входят водевили и буффы. Пробиваются, как цветочки из-под снега, первые оперетки: «Орфей в аду», «Синяя Борода». Большим успехом пользуется пьеса но роману Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Она оказалась очень русской по духу, и восприимчивые зрители причисляли её к пьесам русского репертуара. Гремит, восхищая меткими афоризмами, Островский. Дамы с нарядными детьми и офицеры после обеда в дорогом ресторане с воодушевлением снимаются на дагерротип.

После театров Петербург затихает, разъезжается по домам, и становится слышен ещё один звук, довольно надоедливый, с которым всяк по-своему волен бороться: «Чтобы не оставались на ночь комары в спальне, так как Великая княгиня не ложилась в постель, если слышала писк комара, употребляли следующее средство: откроют все окна, потушат все огни, лакей внесёт умывальную чашку, наполненную водою, и зажигает ветку можжевельника, держа её над чашкой, чтобы искры не падали на ковёр. Комната наполняется можжевеловым дымом, и комары вместе с ним стремятся в открытые окна. Когда воздух более или менее очистится, тогда закрывают окна и вносят снова огонь». Что же это за Петербург, где всегда хорошая погода и у всех хорошее настроение; зимой серебрятся белоснежные сайки, летом слушают комаров, едят иней и выгоняют можжевеловыми ветками вальсы. То есть, простите, зимой конечно же серебрится белоснежный иней, летом слушают вальсы, едят сайки и выгоняют можжевеловыми ветками комаров. Что это за Петербург? И чей он? Чьими глазами увиден? Пупаревым, который как всякий провинциал проездом, а для праздного путешественника нет плохой погоды? Глазами ли юной вдовы? Вписать ли Вревскую в Петербург Достоевского и объяснить её жертву во искупление проникновением в больной тягостный мир продуваемых подворотен и подвалов? Вписать ли её в Петербург Толстого и вместе с ним, поразившись лицемерию светской жизни, через прозрение и отрицание объяснить её загадочную судьбу? Но приписать ей тот или иной Петербург — не значит ли подогнать под некую схему характер героини? Нет источников, подтверждающих её духовный путь, поэтому и город этот, так тесно с ней связанный, не Петербург Достоевского, Толстого или Пупарева, а Петербург Вревской, такой же таинственный и неизвестный, как и она сама. И не честнее ли выбрать Петербург фасадов и уличных толп — ничей и никакой, а значит, и Петербург всех отчасти; тот Петербург, по которому можно только пройти, отражаясь в весенних лужах, витринах и глади каналов или на солнечных дагерротипах той эпохи. Петербург скрыл от нас Вревскую; на единственном её фотографическом изображении ничего нельзя разглядеть, кроме того, что она была красива. Тайна — тоже документ.
ПЛЮС ФОТОГРАФИЯ
«1871 год. Англичане взамен воздушного телеграфа в Индию через Европу проложили подводный кабель от Англии мимо Гибралтара по всему Средиземному и Чёрному морям в Суэцкий канал до Индии».(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)
Несколько писем и одна фотография. Пожелтевшая, истончившаяся бумага, ещё немного времени — и всё это истлеет. Также и Ваш дагерротип, конечно же спасибо этой единственной уцелевшей фотографии (их было много. Вы любили сниматься, вот и Тургеневу посылали), что можно увидеть хотя бы застывший слепок с Ваших черт (вот чем со временем стал Ваш снимок), но, родись Вы немного раньше, нашему воображению не за что было бы зацепиться. Хотя кое-кто пару слов о Вашей внешности всё же сказал. Например, граф Соллогуб в письме поделился с адресатом, что Вы прелестны, и не только внешне; некто Ободовский сообщил, что черты Ваши «чисто русского типа», да Ваш будущий супруг, Ипполит Александрович, в письме брату похвастался, что юная невеста высока, лицом бела, голубоглаза и белокура. Да ещё добавил: успокойся, дескать, не я придумал, что она красавица, таково мнение общества. Значит, вообще был склонен к преувеличениям. Да и сказать о женщине, что она голубоглаза и белокура, — значит почти ничего не сказать, так как каждая третья женщина на Руси такова. Да и «прелестна» Соллогуба тоже смахивает на светскую отписку. Что же вы не нашли, господа, слов для её глубокого и тёмного от задумчивости взгляда, для смелого разлёта длинных бровей, для нежного рисунка большого чувственного рта, безукоризненного овала лица, чистого и ровного пробора в густых волосах? Что же вы ничего не сказали о грации её походки, умении сидеть, как сидят королевы, значительно и небрежно, чуть склонив голову к правому плечу, вольно бросив левую руку на колено, когда каждая складка платья, каждая часть тела находятся в гармонии не только друг с другом, но и с духом их обладателя? Что же вы ничего не сказали о её избранности, то есть «лучшее, отборное», о её аристократизме, которым в конечном итоге и объясняются все её поступки (от сдержанности в письмах и чувствах до умения выбрать и принять с достоинством любую судьбу — от опалы при дворе до стирки гнойных, пропахших мочой рубах — и, наконец, до уничтожения личного архива в случае смерти)? Что же вы не сказали о главном в ней, господа? А ведь вы же видели её живую, видели, как она смеётся, и слышали, как говорит, какой у неё голос — высокий или низкий, грудной или резкий, — как мало вы обращали на неё внимания, а считалось, что влюблены. Что же теперь могу сказать я, когда за сто лет на единственном её снимке лежит такая ретушь, что хочется смыть её, как грим, чтобы под чёрно-белой маской открылись истинные черты. Может, первыми начали чернить и ретушировать болгары, приближая её к себе, делая чернобровой и черноволосой. Даже портрет Вревской утратил живые черты и слился с легендой! Разглядываю одежду баронессы и ничего не могу сказать. Не вижу фактуры ткани, покроя, не вижу, как падают складки, всё смазано, только контуры да этот контрастный, режущий глаза перепад: белое на чёрном. Одеяние по типу монашеского; забыв, что тогда в цвете не снимали, до недавнего времени была уверена, что костюм так и есть белый с чёрным, и только Вылчо Куртев, старый болгарский профессор, объяснил, что нет: белое с красным. И так пристал к ней этот строгий наряд, прилип, как короста, и закрыл просто женщину (а не только подвижницу), какой она и была всю свою жизнь. Наверное, Юлия Петровна шила у дорогих портных, но у кого именно? У самого модного Руча? Или у другого?.. Как хочется знать, каковы были её вкусы и пристрастия в одежде, какие ткани она выбирала, какой стиль и цвет предпочитала? Если бы портные писали воспоминания... можно было бы узнать, расточительна она была или скупа, скромна или экстравагантна, — и тем самым и немного больше о ней самой. По тому, как заказывала или меняла наряды, можно было бы предположить, в каком платье вступала в брак и насколько изыскан был её траур на Кавказе. А не ездила ли она верхом, не шила ли себе амазонок? Не наряжалась ли подобно императрице (в свите которой состояла) в русские кокошник и сарафан? Если да, то тем самым приоткрылся бы, возможно, в ней тот самый русский дух, что стал неотъемлемой частью её легенды... И как менялись с возрастом её взгляды на одежду и вкусы, а значит, и на жизнь?

Ах, как, должно быть, упоительно звучит для молодой девушки: муслин, батист, кисея; как манят тонкие, словно выдавленные из тюбика каблуки, узкие мыски, шнуровкам пряжки из слоновой кости на дамских туфлях... Молодой воспитанницей она застала эпоху кринолинов. Кто теперь знает, что это такое? «Кринолин — конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металла для придания пышной формы женским юбкам». Выдумал их англичанин Чарльз Ворт, как, впрочем, и многое в основном выдумывали иностранцы. Приходится честно признать — Россия никогда не была законодательницей мод. Нам всегда было не до этого. Кринолины продержались до 1867 года, то есть столько времени, что Юлия Петровна успела и вырасти, и Смольный закончить, и замуж выйти, и овдоветь. И все в кринолине. Что в моде долголетнее, то потом и вышучивается больше. Купчиха узнается по салопу, провинциальный помещик — по венгерке. И как хорош был, должно быть, Аполлон Григорьев, когда входил в бальную залу уездного городка в чёрной венгерке и в начищенных сапогах с высокими голенищами, вырезанными под коленями сердечками. Венгерку носил и «Венгерку» написал. В нём и самом была эта цыганщина. В любви, в жизни, в стихах. «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. Душа полна тобой одной, а ночь такая лунная...» В 1870 году в моду ворвался турнюр. Женский силуэт из пышного в боках вытянулся назад — в отлёт. «Специальное приспособление в виде ватной подушечки под платье для формирования особого силуэта». Достоевский рвал и метал по поводу турнюров, сравнивал женское седалище с крупом лошади, изливался желчью на некоторых особ мужского пола, которые готовы молиться на неестественно преувеличенные размеры и непристойный изгиб нижней части женского стана. Более ироничный и мягкий Чехов писал, что мужья и любовники сажают в эти подушечки цепных собак для безопасности. Чем ответил Лев Николаевич на эту дамскую причуду... и пересказывать неловко.

Найдено было даже звукосочетание, передающее шуршание шёлка. Фру-фру. Это слово служило также и для обозначения фривольного поведения. Слова взяты из французской песенки о том, что шелест женской юбки способен потрясти мужскую душу.
Турнюры называли фру-фру. Фру-фру звали лошадь Вронского. «И многие молились тогда за перчатки, кареты, духи, помаду, шёлковые платья, когда дама садится в кресло, а платье зашумит вокруг её ног и стана». А какое жалящее, упругое и кокетливое своей краткой строгостью слово — ток. Одна эта маленькая женская шапочка без полей была настоящим произведением искусства. Материал: бархат, шёлк, атлас; гарнировали, то есть украшали, же их живыми цветами, ворохами перьев. Такие шляпки надевались только на выезды или в театр, где можно было встретить и насмерть поразить избранника. В семидесятые дамы носили костюм «Денис», скроенный по гусарской форме 1812 года. «Гарибальдийки» предпочитали студенты и нигилисты из политических симпатий к Гарибальди. Дамы из высшего света — для шика — одевались даже и под «нигилисток» — в синие платья и чулки. Промелькнули манто «сара» в честь актрисы Бернар, манто «Скобелев» — с узкими рукавами и отделкой мехом по бортам в стиле русского национального костюма. Да, о многом говорила одежда в XIX веке. Каждый одевался согласно своей социальной принадлежности, и Акакий Акакиевич и мечтать бы о шинели не мог, не будь он титулярным советником. Не опоздал ли ты в дом женихом? Не поторопился ли (девица ещё в добрачном возрасте), есть ли у хозяйки дети, какие её годы, и пахнет ли приданым? — всё по одёжке. Рассматриваю пожелтевшие картинки в модных журналах. Они — как бабочки, эти нарядные грациозные дамы, кавалеры и дети. Их наряды из области искусства — изящны и поэтичны. Их голоса красивы, ведь каждый из них может сесть за рояль и пропеть романс или арию; певуча их речь, обогащённая знанием языков, и так же изящна кажется их жизнь, изысканны мысли и поступки. Пролистываю страницы, пытаясь и за ними увидеть баронессу, приблизиться к ней. Ведь и она стояла у зеркала, придерживала булавки губами; и свистел узкий шёлк, цепляясь за крючки корсета, когда она натягивала платье. И стан в блестящем шёлку казался облитым медью. Носила ли Вревская турнюр? Неизвестно. Но она надела куда более смелый костюм, который модницы не решались примерить. Его цвета: красный и белый. Чистота и кровь. Костюм сестры милосердия. И ведь, возможно, не без кокетства прикалывала фартук к юбке, смотрелась в зеркало; ну так это — до первого раненого, до первой самостоятельной стирки смятой, измазанной кровью и гноем, грязной солдатской одежды. Да, она молодая красивая женщина, и если играла немного — отдадим ей должное, — доиграла до конца. Зачем Вы пошли на эту войну, Юлия Петровна? Не должны женщины ходить на войну... хотя что может быть глупее рассуждений: должны, не должны. Когда дело сделано, судьба состоялась. И не хочется говорить только о жертве. Юлия Вревская ушла на войну на красных каблучках и стала легендой. Прекрасное мгновение века.
ВОКРУГ ДА ОКОЛО...
«1841 год. Из Одессы отправлен первый русский пароход «Нахимов» с грузами хлеба через Суэцкий канал, который прошёл благополучно 23 февраля и обратно 11 апреля».(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)
Так уж вышло, что прожила баронесса на свете Вревской почти столько же, сколько и Варпаховской. О ней писали: «...дочь прославленного генерала...» Если генерал такой прославленный, достаточно взять одну из справочных книг (гербовник, дворянские рода, придворную или наградную) и всё узнать... Сразу натыкаюсь на Варпаховского, капитана 2-го ранга (может, он потом стал генералом?) — очень симпатичного: «Любил море так, что уехал было в деревню поправить свои дела, да бросил хозяйство и сбежал на службу. Не охотник был ни до общества, ни до женщин, ни до учения. На берег съедет на несколько часов и опять на бриг. Стоял со своим «Птоломеем» в Пирее. Воодушевляясь, любил говорить: «Лучше взорву бриг на воздух, чем увижу посрамление русского флага». Так он и сделал. Взорвался вместе с собой под Исакчи в 1853 году». Очень коротко, но уважение вызывает. Инициалы А. Ф. (а она Петровна), значит, не тот. Просто дальний родственник? Из энциклопедий и справочников, включая военные и дореволюционные, только у Брокгауза и Ефрона: «Варпаховские — русский дворянский род, ведущий начало от поручика Станислава Варпаховского (поляк?), вёрстанного за службу поместьем в 1679 году. Хотя Варпаховские и внесены в VI часть родовой книги Смоленской и Могилёвской губерний, но герольдия утвердила их в потомственном дворянстве по личным военным заслугам Антона Осиповича Варпаховского в 1791 году». Значит, целый век с их дворянством не очень-то считались, и никаких особых заслуг перед отечеством, богатства или славы у этой семьи не было. Ещё в газете «Голос» за 1868 год маленькая заметка о кончине генерал-майора Петра Петровича Варпаховского (здесь всё сходится — и имя, и звание), да в «Петербургском некрополе» перечислены усопшие этой фамилии: Варпаховский Иван Петрович—19 декабря 1875 года (гофмейстер Высочайшего двора, брат Юлии, умер в Париже — об этом у Тургенева в письме и в одной придворной книге); Варпаховская Каролина Ивановна —25 апреля 1864 года, рядом с Иваном Петровичем, в Сергиевой пустыни близ Петербурга (матушка Юлии Петровны? И поэтому рядом с сыном? Или просто родственница?); Варпаховский П. П. — 18 февраля 1868 года (здесь всё ясно — отец); Варпаховская Наталья Петровна, в замужестве тоже Вревская — 5 ноября 1889 года (это сестра Юлии, только странно — в замужестве Вревская, а умерла и похоронена как Варпаховская — разведена была??), похоронена в Александро-Невской лавре на Никольском кладбище. Вот, пожалуй, и все упоминания о Варпаховских в официальной печати, есть ещё в мемуарной литературе о некоем полковнике Варпаховском очень нелестные воспоминания. Может, этот полковник и есть в будущем тот самый генерал Пётр Петрович, хотя инициалов в тех мемуарах нет, но по возрасту и датам похоже, что он, да и про неизвестных людей полковых анекдотов не рассказывают. Не знаешь даже, как и подобраться к уравнению со столькими неизвестными, вот и ходишь вокруг да около; ничего не знаем об отце, кроме того, что был начальником резервной дивизии в Ставрополе на Северном Кавказе да имел увечья и контузию (это тоже из мемуаров). Ничего не известно о матушке (в одной газете имя жены генерала П. П. Варпаховского — Софья Саввишна. Ошибка? Или второй брак? Так что, может, имела Юлия Петровна и мачеху), разве что родила шестерых детей (четыре сына и две дочери). Неизвестно, старшей или младшей была Юлия, даже о месте и годе её рождения имеются самые разные сведения. В одной газетной заметке писалось: родилась в 1841 году на Кавказе, что выглядит вполне достоверным, а в статье Вылчо Куртева (тот самый болгарский профессор) по-другому: родилась в Старице, уездном городе Тверской губернии, год рождения тот же — 1841-й[2]. А ведь очень важно было бы знать — где именно? Ведь детство на Кавказе, в тыловом или военном городке, и детство в мирной среднерусской Старице — совсем два разных детства. Конечно, хотелось бы знать, какими были дом, слуги; вот, правда, история словно по причуде сохранила имя экономки — мисс Босс. Были ли они богаты? Судя по всему — не очень, иначе не торопились бы выдать замуж блестяще образованную дочь за пожилого генерала незаконного происхождения. Поскольку в реконструкции образа героини какая-то просто необозримая свобода, почему бы не представить усадьбу, такую среднестатистическую, не очень богатую, в меру запущенную, где-нибудь на окраине Старицы, с двором, обнесённым клёнами, с рябиновым садом и липовой аллеей? Аллею можно довести до поля, а в глубине представить пруд, заросший, но рыбный. Перед домом разбита клумба, а в гостиной стоит огромное трюмо; за вышиванием сидят девочки: Жюли и Натали, уютно и красиво. Даже если и не так. Судьба жены боевого генерала скорее всего была судьбой обычной небогатой в девичестве и кроткой русской женщины. А матушка Юлии наверняка была такой, независимо от того, звали её Каролиной Ивановной, Софьей Саввишной или как-нибудь по-другому. Возможно, что едва исполнилось ей четырнадцать лет и она не рассталась ещё с куклами, присватался к ней не первой уж молодости офицер, Пётр Варпаховский. Дождались шестнадцати да и выдали. А может, женившись и навоевавшись, муж надел халат, закурил трубку, набитую крепостным, да так и не оставлял этого наряда и занятия во всю оставшуюся жизнь. В быту, вероятно, бывал невыносим со своими полковыми замашками. Жена терпела, многие тогда на Руси женщины терпели и тихо угасали, становясь жертвой многоплодия и раннего замужества. А детей у Варпаховских было шестеро; мучилась, рожала, а её даже и в отношении детей не упомянули: в генеалогии семьи в центре П. П., и лучиками от него в разные стороны — шесть отпрысков, среди которых и Юлия. И наверняка всех новорождённых принимала какая-нибудь одна акушерка Антонина Карловна; возила с собой объёмистый сундучок с медицинскими причиндалами и по секрету говорила детям, что в нём скрывается их будущий брат или сестра.

Так наверняка и шло детство Юлии Петровны с прогулками по липовым аллеям, вязанием букетов, редкими гостями, лаской матери и умеренной строгостью отца — свою долю родительской любви она наверняка получила. Обычное дело для офицера в отставке сесть за мемуары и вспомнить, что было в молодости весёлого и грустного. И трое таких офицеров — Н. В. Веригин, А. А. Одинцов и Н. А. Макаров — записали один и тот же анекдот. Видимо, знаменитый в своё время в армии герой его — некто Варпаховский (инициалы не указаны). По возрасту, чину да и редкости фамилии не исключено, что этот эпизод имеет прямое отношение к доблестному отцу Юлии Петровны. Было это в 1823 году, во время стояния русских полков в Варшаве, при императоре Александре Павловиче. Вышеназванные офицеры наперебой писали, что Варпаховский был нетерпим. Раздражало в нём всё: отсутствие манер, тупость, неумение выучить несколько слов по-французски, апломб, жестокость к солдатам и то, что он был настоящим «карточным вампиром»: обыгрывал свои жертвы, как под гипнозом, доводил до отчаянных шагов. Особенно раздражал он дворянина Н. Н. Пущина (будущего декабриста) и П. А. Габбе. Варпаховский догадывался, как относятся к нему в полку, и неоднократно жаловался цесаревичу Константину Павлович), что против него действует целая шайка с целью причинения ему, пострадавшему за царя и отечество, неприятностей. Действительно, поговаривали, что офицеры во главе с Пущиным составили письмо к цесаревичу, в котором просили перевести Варпаховского в любой другой полк, в противном случае грозились подать в отставку. Макаров в своих «Семидесятилетних воспоминаниях» пишет, что Варпаховский «слыл хорошим товарищем в Литовском полку, пока служил в обер-офицерских чинах. Когда же стал батальонным командиром, то совершенно изменился... и получил прозвище «шут гороховый». Как-то Варпаховский порол солдата перед всем полком. Пущин увидел это, подскакал на лошади и, оставаясь верхом, закричал на своего полкового командира: «Ежели вы будете бить солдат моей роты, то я спущусь и сделаю с вами то же самое». Полковник прорычал в ответ, что будет бить того, кого считает нужным, а Пущина арестует. Варпаховский пожаловался цесаревичу и потребовал через него удовлетворения своей задетой чести старшего по званию. Константин Павлович вызвал Пущина, любимца полка, к себе, усадил рядом. «Уладьте это дело, — ласково сказал он, — Думаете, я не знаю, какой дурак этот Варпаховский, но он будет жаловаться выше, пока не дойдёт до императора. Мне не хотелось бы неприятностей для вас. Уладьте быстрей это дело, и забудем об этом»[3]. Пущин с приятелем отправились к полковнику, чтобы узнать, какое удовлетворение он желает получить. Варпаховский вышел к ним с бумагой: — Подпишите это! Подпишите бумагу в том, что вы мне этих оскорбительных слов не говорили. — Но я не могу этого подписать, — почти взмолился Пущин. — Я их говорил. — Хорошо, — сказал Варпаховский, — тогда напишите, что эти слова ко мне не относятся. — Нет, не могу, я буду посмешищем в глазах всего полка. Ведь все слышали, что я их говорил вам, — гневно ответил Пущин. — Тогда можете идти, больше мне ничего не нужно. Пущину ничего не оставалось, как снова отправиться к цесаревичу и рассказать о курьёзной неудаче с этим олухом. «Вы сами олух, раз не умели уладить это дело. Этот... (здесь, видимо, совсем крепкое выражение. — М. К.) пожалуется выше», — вмиг вспылил цесаревич и, вплотную подойдя к Пущину, возмущённо задышал ему в лицо. Пущин неожиданно: — Отойдите от меня, Ваше высочество! Цесаревич: — Что??? Пущин (твёрдо и уверенно, но словно в сомнамбулическом состоянии): — Отойдите, не смейте стоять ко мне так близко. (По версии Н. Макарова ещё хлёстче: «Ваше высочество, осторожно — вы плюётесь!») Цесаревич: — Да как вы смеете со мной так говорить, я вас разжалую! (По Макарову: «Как вы смеете это говорить! Я на своего лакея не плюну, не то что на офицера»). — Я и сам не желаю носить мундир одного с вами полка. (Срывает эполеты). Цесаревич: — Я вас арестую, я давно подозревал в вас вредные мысли. (В ярости цесаревич изорвал свою шляпу и стоял весь в перьях и вате). Так Пущин был арестован из-за ссоры с Варпаховским. В результате Варпаховский был переведён командиром в один из армейских полков, но цесаревич с Литовским полком рассорился. Когда он собрал приближённых и спросил, что, по их мнению, следует делать с зарвавшимся Пущиным, самый преданный из собравшихся тут же заключил: расстрелять в двадцать четыре часа. Без суда. Но суд был, и Пущин был разжалован в рядовые. Через год благодаря личному обаянию и храбрости прощён. Каким в старости был генерал-майор Варпаховский, неизвестно. Может, так и остался свирепым солдафоном, сёкшим крепостных, а может, это был оттаявший, добродушный человек, сам временами удивлявшийся своему прошлому: картам, ссорам... И можно допустить, что матушка Юлии воспитывала дочь в уважении к заслугам и увечьям отца, и тогда становится понятно, почему молодая девушка легко вышла замуж за пожилого человека, сродни отцу. Ипполит Александрович Вревский вполне мог оказаться его приятелем но Кавказу[4].
СМОЛЬНЫЙ
— Где ты воспитывался? — В Гёттингенском университете, Ваше высочество. — Отчего же не в России? — В России трудно получить хорошее образование. — Ах ты, дерзкий мальчишка. В России воспитывался твой император, воспитывался я. Что же, я дурак, что ли? — Не могу знать, Ваше высочество.(Из разговора Великого князя с побочным сыномграфа Аракчеева Пукаловым)
Наверное, не обошлось без слёз. Матушка уж точно плакала, да и ветераны народ на слезу лёгкий — сердце к старости размягчается, а тут ещё родная дочь. А сама Юлия, ещё вчера Юленька, Жюли — беготня по комнатам с сестрой, клумбы, вышивки, любопытство из-за матушкиной спины к гостям — отныне воспитанница Варпаховская, «смолянка» — что-то строгое, чужое, с отзвуком одиночества, тоски. В слезах ли всё-таки уезжала или с радостью? Вдруг с радостью? Вряд ли! Маленькая девятилетняя девочка, одна, в казённый мир. Страх, дальняя дорога, каково ей было? И как могло провинциальным родителям прийти в голову послать любимое беспомощное дитя за сотни вёрст? Такова сила идей на Руси, и одинакова эта сила и в чопорной столице, и в добродушной провинции. Попал в её жернова — ребёнок ли, взрослый, вертись, пока в пыль не перемелешься. ...Идея была замечательная: создать на Руси институт русских матерей. Смольный — детище Екатерины Великой. Царица была женщина образованная, дружила с энциклопедистами и любила говорить, что «корень всему добру и злу — воспитание». Основано в 1764 году общество для воспитания благородных девиц, которые в отличие от своих отцов и матерей, больше полагавшихся на нанятых учителей, могли бы сами отвечать на любые вопросы своих детей и имели тот нравственный и интеллектуальный статус, чтобы растить и образовывать своих детей, не рассчитывая, повезёт или нет с учителями. Начиная с Екатерины II Смольный был заботой всех русских цариц, и каждая вносила посильные новшества и усовершенствования. Много сделала для Смольного Мария Александровна. Главное её достижение — она назначила нового инспектора, К. Д. Ушинского. Педагогический гений Константина Дмитриевича озарил Смольный такой яркой вспышкой, что вся жизнь монастыря делится на период до Ушинского, период при Ушинском и период после, во время которого, по свидетельству образованных современников, «Смольный погрузился во тьму». Не в буквальном конечно же смысле, но таково свойство яркой личности. Блеснёт, как комета, — и вот уж кажется, что остаётся тьма. Итак, до Ушинского: преподавали Закон Божий, русский и иностранный языки (французский, немецкий, итальянский), рисование, танцы, музыку и пение (церковное и итальянское), рукоделие, арифметику. Последнюю учили постольку, поскольку она была необходима в домашней экономии: в пределах четырёх правил. Дальше с годами прибавляли историю, географию, домашнее хозяйство. Круг предметов со временем всё расширялся, и тринадцатилетние «смолянки» уже постигали архитектуру, геральдику и опытную физику (с улыбкой представляешь, как все эти нарядные, нежные существа сообща взрывали какую-нибудь жидкость в пробирке), занимались скульптурой, и что совсем трогательно — токарным ремеслом. Смекалки требовала домашняя экономия на практике. Стряпать их не учили — всё же благородные девицы, но суметь не растранжирить, а разумно потратить деньги на съестные продукты, разбираться в счетах, чтобы не надул управляющий, и иметь всегда порядок и чистоту на кухне — всё это совершенно необходимо для будущей хозяйки большого дома. Но ещё важней иметь терпение, кротость, твёрдую веру и любовь... к детям. В этом суть, венец смольного образования. И поэтому в пятнадцать лет девочки сами становились как бы мамами, воспитательницами и учителями. Ко всем предыдущим предметам прибавлялось ежедневное преподавание в младших классах. И выходили юные княжны и графини из стен монастыря не со страхом перед будущей жизнью, а только с лёгким нетерпением перед своей судьбой, со всем необходимым внутренним багажом, чтобы достойно, серьёзно и спокойно принять её. А судьбу женщины в прошлом веке (да, может, и во все века) определяло замужество. Удачное — счастливая судьба, нет — вся жизнь загублена. На двадцать четыре учительницы, включая монахинь, — семь учителей. Танцмейстеры, рисовальщики и музыканты — только мужчины. Иностранок-преподавательниц брали неохотно. Считалось, что они работали в основном для денег, а тут как-никак генерация новых матерей рождалась, вот иотказывали от места. Учительницы из образованных монахинь и знатных дам всегда находились с девочками, чтобы те не перенимали дурной вкус и манеры от служанок. Журили их за провинности только наедине, чтобы не озлоблять сердце, а прочих не приучать к насмешкам и злословию. Достаточно назвать Совет учителей, чтобы ясно представить, кто взял на себя дело образования: княгиня А. С. Долгорукова, граф Панин, князь Трубецкой — они же жертвовали и деньги. В 1765 году открылось Мещанское училище, переименованное в 1842 году в Александровское, в память бракосочетания Великого князя Александра Николаевича и Марии Александровны. Почти точная копия Смольного по уровню и объёму знаний, с той только разницей, что девицы сюда принимались из купеческих и мещанских семей да вступительный взнос был 200 рублей против 350. Отсюда, как правило, выходили в услужение в богатые дома. И в училище, и в институте девочки вставали весной в шесть утра, осенью и зимой в полседьмого. Полтора часа до начала занятий они имели на одевание, молитву, прогулку и мысли о том, как будет прожит наступающий день. Есть что-то удивительно правильное в этом неспешном, осмысленном приготовлении к новому дню. С 8 до 8.30 — чай или молоко с булкой. С 8.30. до 10.00 и с 10.00 до 11.30 — два урока с 15-минутным перерывом. С 11.30 до 13.00 — завтрак и снова прогулка. С 13 до 16.00 — два урока с перерывом на 15 минут. С 16 до 18.30 — обед и отдохновение. С 18.30 до 20.30 — приготовление к урокам и танцы. В 20.30 — чай, а с 1 октября до 1 апреля вместо чая — лёгкий ужин из одного блюда. Классы, где проходили занятия, назывались по цвету стен: радует слух, к примеру, кофейный класс, не хуже, правда, звучит — голубой класс или белый. Заведены были три отделения: слабых, посредственно успевающих и наиболее успевающих. Может, и неправильно сразу указывать ребёнку его место (ты, мол, слабый, и всё тут), но зато меньше обид, зависти внутри класса. На занятия отпускалось 25,5 часа в неделю и на учебную часть 25 тысяч рублей серебром в год. Во времена Константина Дмитриевича Ушинского многое в Смольном изменилось[5]. Вместо девятилетнего курса — семь лет, а вот арифметика поважнее, чем только для счетов наука, — логику и рассудок развивает, а в счетах и прачка разберётся. «Странные рассуждения для женского института», — перешёптывались классные дамы, но Мария Александровна была в восторге от смелости нового инспектора и просила ему не перечить. На уроках литературы теперь стали прежде читать произведение, а уж потом рассуждать о нём, желательно, кто во что горазд, для чего и преподаватели подбирались с самыми разными взглядами. Сочинения до определённого возраста (пока у ребёнка не разовьются собственные мысли) Ушинский вообще считал ненужными и даже вредными. Ну что толку повторять только слова преподавателя да списывать у товарищей... И Константин Дмитриевич, ко всеобщему изумлению, сочинения отменил, а вместо них ввёл переводы книг с иностранных языков на русский. «Но, позвольте, а переводы-то тут при чём?» — спрашивали его. «При том, что много надо ума и воображения потратить, чтобы приискать подходящее выражение». Консервативная часть педагогов недовольно пожимала плечами, но не перечила. На то и Мария Александровна со своим покровительством. В биологии Ушинский предлагал начать с изучения человека, чтобы сразу заложить главное — сознание ответственности именно этого существа за всё живое: животных, растений и даже мир неорганический. Такой порядок был заведён в лучших немецких учебниках. Считал необходимым краткий курс гигиены, необходимый для будущей матери и хозяйки дома. Смело шёл вразрез со старыми институтскими правилами: приказал отпускать девочек на каникулы домой — не отрываться совсем от той жизни, какой они заживут после Смольного. Да, с приходом К. Д. Ушинского многое изменилось, но по-прежнему не допускалась на выпускные экзамены публика — не тревожить застенчивых девиц; по-прежнему только самые лучшие и знатные из воспитанниц сразу приглашались ко двору (Юлии Варпаховской не было в их числе); по-прежнему перед выпускным балом получали медали и подарки: серебряные игольники, золотые серьги, чернильницы и табакерки, оправленные в золото. Что нужнее молодой выпускнице, решал Совет учителей: просто ли подарок на память или деньги на жизнь. Беднейшим девицам выдавалось пособие. Среди «смолянок», а их к 1864 году было более 3 тысяч, попадались и писательницы, и учёные, и музыканты, и сёстры милосердия. А потом появился донос. Ушинский обвинялся в безверии и политической неблагонадёжности. Царица не поверила — чушь, сама жизнь и деятельность Ушинского отметали всякие подозрения, но вот тут — внимание — колорит века: «...сам факт доноса произвёл на него впечатление потрясающее. Он тут же подал в отставку, не смог больше работать...» А в семидесятом году скончался на 46-м году жизни! «Я желал бы от всей души, — говорил перед выпускницами Константин Дмитриевич, — чтобы на моей родине развивалась в русской женщине наклонность и умение самой заниматься первоначальным воспитанием и обучением своих детей. Я желал бы, чтобы русская женщина, испытав глубокое наслаждение самой учить и развивать своего ребёнка, не уступала этого наслаждения никому без крайней необходимости». С того момента, как генерал Варпаховский подал прошение в царскую канцелярию об участи дочки, жизнь Юлии Петровны круто повернулась. Но можно поставить вопрос и по-другому: какой след в душе маленькой девочки может оставить дальняя дорога к чужим людям, отрыв от матери и привычного детского мира, отсутствие ласки и вживание в чужую, чуждую коллективную среду? Всякое закрытое заведение несёт серьёзное испытание, а иногда и надлом для личности. И не эти ли кофейные, голубые и белые стены целый год, одни они, приучили её быть замкнутой, сдержанной на всю оставшуюся жизнь? Но, как бы там ни было, образование Юлия Петровна получила блестящее, вот только своих детей у неё не было. Она и стала сестрой русским солдатам.
ЭТЮД О ТРЁХ БАРОНАХ
«Сам я по медицинской части в Твери. Там имею свой дом, застрахованный. В августе 1858 года спросил меня сам император: «По-прежнему ли дурны женские больницы?» Отвечаю: «Совершенно переустроены». «1860 год. Учреждено Общество восстановления православного христианства на Кавказе под покровительством императрицы Марии Александровны».(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)
Скорее всего, V часть родовой книги Псковской губернии постигла та же участь, что и VI часть Смоленской и Могилёвской губерний (где записано дворянство Варпаховских) — во всяком случае, мне не удалось их разыскать, а Брокгауз и Ефрон этими книгами не пользовались. «Вревские — русский баронский род, происходящий от вице-канцлера князя А. Б. Куракина (1752—1818) и получивший наименование от Вревского погоста Псковской губернии[6]. Грамотой австрийского императора Франца I в 1808 году Борис, Степан, Мария (дети Куракина. — М. К.) были пожалованы в баронское австрийское императорское достоинство, и тогда же им было дозволено пользоваться этим титулом в России. В 1822 году младшие братья Александр, Павел, Ипполит тоже получили право именоваться баронами... Воспитанники генерал-лейтенанта Ипполита Александровича (умер в 1858 году) Павел, Николай и Мария Терские получили дозволение именоваться баронами. Бароны Вревские записаны в V часть родовой книги Псковской губернии». В Пушкинском Доме сохранился генеалогический чертёж (явно неполный) Вревских — не баронов. Там три мужских имени, к Куракину отношения не имевших; чины не громкие: один полковник, другой камер-юнкер. По годам намного старше детей Куракина. Самостоятельная приличная фамилия и семья; проживали явно в Псковской губернии. Уж не их ли сестрица или племянница матушка Вревских-баронов? Не исключено. В Историю приходят разными путями. Из шести новоиспечённых баронов особенно отличились трое. Один тем, что был женат на исторической особе, второй — неудачной битвой в Крымской войне, а третьему поставили памятник на Кавказе. Именно они представляют теперь род Вревских, да ещё Юлия Петровна. И хочется рассказать о ней, но она верна своей тайне, и получается, что о родственниках сохранилось больше упоминаний... Что ж, поговорим о них, тем более в характере и отношениях родни тоже кроется ключик к баронессе.
БОРИС
Борис Александрович сделался знаменитым с 1831 года, когда женился на дочери Прасковьи Александровны Осиновой (владелицы Тригорского) Зизи Вульф, которая мерилась с Пушкиным поясами и кому он написал:
Надо сказать, что молодой Пушкин перевлюблялся во всех дочерей П. А. Осиповой, включая падчерицу Александру Ивановну. Ей он посвятил одно из лучших стихотворений о любви: «Я вас люблю — хоть я бешусь...» Скорее всего, он был вообще влюблён в Тригорское и его обитателей; с братом Зизи Алексеем собирался бежать за границу, переодевшись лакеем. Самой владелице Тригорского Прасковье Александровне он писал:
Красавица Зизи, Евпраксия Николаевна, родила барону Борису Вревскому одиннадцать детей, и довольно понятны мотивы, по которым Борис Александрович в 1856 году отказался принять в свою семью ещё и сыновей Ипполита Александровича[7]. А после смерти брата отсудил у Юлии Петровны большую часть имений, принадлежавших Вревским (одиннадцать ртов диктуют свои законы и мораль). Не хотелось бы повторять, что «отношения Юлии и Бориса Вревского плохие», но и наивно думать, что они очень любили друг друга. Скорее всего — выручал этикет. Во всяком случае, большую часть расходов и забот по установлению памятника погибшему на Кавказе Ипполиту взял на себя именно Борис, может быть и чувствуя свою вину.
ПАВЕЛ
Павел Александрович Вревский известен прежде всего тем, что состоял генералом свиты Николая I; его имя чаще других Вревских упоминается в официальных, наградных и парадных книгах. С 1837 года был частым гостем на Кавказе, где тогда уже служил его брат Ипполит Александрович. В ту пору там было много декабристов — по указу отслужившие в солдатах могли вернуться домой. Желали многие: М. М. Нарышкин (брат Маргариты Тучковой, первой игуменьи Спасо-Бородинского монастыря), Назимов и Н. И. Лорер, вспоминавший, что «брат Ипполита Вревского Павел был молодой человек красивой наружности, отличавшийся большой личной храбростью и любивший наше общество». Ещё Лорер добавлял, что Павел дружил с армейским капитаном Львом Сергеевичем Пушкиным — всеобщим любимцем[8]. Четыре года сгорал от любви к Марии Сергеевне Ланской. Мать Машеньки Варвара Сергеевна долго боролась с аристократической спесью и отвращением, вызванным одной только фамилией жениха. «Борьба» увенчалась в 1844 году весёлой сельской свадьбой. «Я думаю, что другая мать никогда бы не дала согласия на подобный неравный брак, — говорила она близким знакомым по-французски. — Но я слабая мать, я люблю Мари, пусть делают, что хотят...» Её бросались утешать, но она жестом останавливала радетелей и снова с презрительным негодованием и брезгливостью повторяла: «Воспитанник! Какой бесславный выбор!» Венчались на Клязьме, в имении Ланских, в сельской церкви. Чопорная сановница не хотела венчать дочь в Петербурге под прицелом презрительных моноклей. Впрочем, молодым везде весело: катались на лодках, поставили два спектакля, упились шампанским, за исключением, разумеется, новобрачных. Через год в родах умерла обожаемая жена, ещё через год — единственный ребёнок. «Жизнь Павла Александровича, — пишет его знакомый граф М. Д. Бутурлин, — была разбита навсегда, и он целиком отдавался службе, чтобы не сойти с ума». В 1850 году составил очень толковую записку «О состоянии русской армии» для австрийского императора. Тот остался доволен хорошей книгой и наградил Вревского орденом Железного креста I степени. Если читатель помнит, титул и фамилию Павлу даровал именно австрийский император. Так что барон Вревский милости не забыл, баронство своё честно отработал — отблагодарил.

Знаменит Павел Александрович, хотя скорее печально, ещё и тем, что собирался повлиять на исход Крымской войны. От обороны Севастополя он предлагал перейти в немедленное наступление и сам хотел идти впереди войск. Своей страстью заразил всех: императора, министра военных дел Долгорукова и даже осторожного Горчакова. Кончилось дело приказом из Петербурга о наступлении и неудачной битвой 4 августа 1855 года у Чёрной речки — позором проигранной войны. Павлу Александровичу так не терпелось участвовать в собственном проекте, что он носился по полю боя как сумасшедший. Первым ядром под ним убило лошадь, вторым — контузило в голову. Он не унимался. Третье ядро сорвало фуражку, а четвёртое убило наповал. За горячую веру в наступление он расплатился жизнью. Ему было сорок шесть, и если бы тогда остался жив, то всё равно бы застрелился. По долгу чести.
ГЕРОЙ КАВКАЗА
Ипполит Александрович Вревский родился в 1813 году; где и кто была его матушка — неизвестно. В девять лет благодаря хлопотам отца получил титул и фамилию; учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, на класс старше Лермонтова. Закончил в чине прапорщика и тут же поступил в военную академию. В экспедициях и сражениях участвовал с 1838 года и до смерти, то есть двадцать лет ходил в атаки, готовился умирать, убивал сам и наводил страх на горцев. Вся его военная жизнь (а другой он не знал) связана с Кавказом. В 1840 году жил в Ставрополе, успевал и усмирять Чечню и принимать гостей: Лев Сергеевич Пушкин, декабрист Назимов, А. А. Столыпин, да и поручик Лермонтов, сосланный за год до смерти на Кавказ за дуэль с французским бароном де Барандом, бывали здесь частыми гостями. С 1841 года Ипполит Александрович принялся гоняться за Шамилем, ну и продолжал разорять чеченские сёла. В этот год он оплакал смерть однокашника и друга Михаила Юрьевича и погулял на крестинах розовощёкого младенца у старого приятеля генерала Варпаховского[9]. Может быть, малютку для смеха даже дали подержать хмурому, впрочем, довольно любезному на людях, молодому офицеру. Тогда ли она уже очаровала его или позже — доподлинно неизвестно, но спустя шестнадцать лет женился он именно на ней. Правда, после смерти своей черкешенки, а так, верно, другой жены бы не искал. «Население терских станиц резко отличается по красоте обитательниц от прочих жителей Северного Кавказа...» — пишет некий В-ский, служащий в тех местах[10]. Этот юноша объясняет, что здесь черкесская кровь перемешалась с русской казачьей (так как терских горянок казаки взяли в обычай воровать у мужей), так что детки от таких «браков» случались прехорошенькие — «дикость» смирялась славянскими чертами. У Ипполита Александровича повенчанная жена была как раз терская горянка, и дети его носили фамилию Терских. В-ский описывает, как проходили дни в крепости Грозной, сооружённой ещё генералом Ермоловым. «Кавказский офицер, — говаривал Ермолов, — непременно должен либо спиться, либо жениться на женщине лёгкого поведения». Офицеры убивали время в пирушках или за «зелёным» столом... «Каждый день с песнями и плясками несколько рот приходили в гости друг к другу. И не по одному разу». Пирушки. Ссоры. Дуэли. Таинственный Кавказ. Интересно, как чувствовала себя Юлия Петровна среди гор, разномастной публики, военного быта? Что стоит за её словами: «...и вспомнилось детство мне. Былой Кавказ...»? Наверное, ей было хорошо. Дети и молодые девушки всюду живут по особым законам и на особом положении. «Трудно описать чувства при первом походе, надобно самому их испытать, — восклицает В-ский и всё-таки описывает с обезоруживающим милым озорством. — Лихорадочность. Чудовищные фантазии. То орудия наводят на меня, но я не боюсь: тем лучше — я поучу вас, как надо умирать». Кого? Да всех, всем он покажет свою смерть бесстрашного героя. Но тут мечта меняется, и он, забывая, что должен упасть замертво, уже даёт советы генералу, да вот тому же Вревскому, подъехавшему спросить, как лучше расположить орудия. В-ский, прищурив глаз, отвечает, и генерал стремглав бросается исполнять приказание. «И совестно мне, — думает В-ский, — и вместе с тем, что же, если я так умён?!» И пусть уж лучше дальше не убьют, а ранят. Это приятнее. Пошлют в отпуск, родные не сразу заметят повязку, матушка только зарыдает, ну да это ничего. «Нет, тебя не ранят, а убьют», — шепчет чей-то голос зловещий. В-ский вздрагивает и видит, что рассвело. Да, понимает он, меня убьют. И всерьёз грустит, что у него нет невесты. Кто будет рыдать и хранить верность его гробу? Да и всё предыдущее: генерал с просьбой, повязка на лбу, отпуск — с невестой выходило гораздо интереснее.

А дальше поход. ДЕЛО. И В-ский разочарован. «...Потом все завалились спать. Неужели все походы против горцев таковы? А в газетах так красочно пишут о кровопролитиях. На деле же несколько горцев ездили вдоль нашей цепи и вяло перестреливались». Думаю, что не все походы против горцев таковы. С момента присоединения к отряду Вревского (а об этом В-ский обмолвился) сделалось, наверное, достаточно кровопролития. Не так всё это безобидно, и, может, славный юноша отчасти и поэтому не написал больше никаких воспоминаний. А может, был удачлив, и Бог хранил. Вревскому эти грёзы не показались бы смешными, и за ним водилась жажда геройства. Ещё в 1840 году, чтобы попасть в герои сразу, да ещё с приятелем-декабристом А. II. Беляевым, капитан Вревский решил отбить у черкесов пушку. Так, не напрягаясь, между шампанским и преферансом. Черкесы прямо протелепатировали намерения молодого барона и пушку, постреляв по русскому лагерю, всегда увозили. А потом и вовсе перестали таскать за собой. Может, кто и украл её, но не Вревский. Это факт. Быстрое геройство не состоялось. Вревский специализировался на набегах. Быстро продвигаясь по службе (значит, хорошо набегал), уже в 1845 году сделался командиром Навагинского пехотного полка (его «невесте» четыре года). Затем ещё несколько лет непрерывных набегов, разорений, вылазок — и он командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии. С 1852 года уже начальником Владикавказского военного округа успешно охранял русскую пограничную линию от покушений Шамиля. С 1856 года — генерал, назначенный командовать войсками Лезгинской кордонной линии. Женился на Юлии Петровне, юной, нежной и прекрасно образованной, но из формы не вышел: весь пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой годы удачно смирял Чечню. В 1858 году окончательно прижал Шамиля, разорив сорок аулов и взяв три каменных укрепления с орудиями. Когда он возвращался в крепость, в крови и копоти, что чувствовала его юная жена? Бежала ли ему навстречу, бросалась ли на шею? 20 августа 1858 года при штурме аула Кетури уложила барона чеченская пуля. Ипполит Вревский так увлёкся атакой, что забыл, как опасен укреплённый аул, где каждая сакля — крепость. Его погубил азарт человека, любящего драться. Сослуживцы отмечали, что это «...чуть ли не единственный пример в Кавказской войне смерти в бою генерал-лейтенанта». В Телави его привезли на арбе. Через два дня он умер. Шамиль чуть не спятил от радости, Юлия плакала. Генерал Н. И. Вольф в некрологе заверял: «И. А. Вревского будет оплакивать весь Кавказ, ибо он был из тех генералов, которые воспитывались в преданиях школы генерала Ермолова и сохранили дух, внушённый Ермоловым Кавказскому корпусу. Он был храбрый и правдивый, берёг своих солдат, бил горцев не на бумаге, а в бою. Шамиль три дня праздновал смерть «этого рыцаря без страха и упрёка». Воспоминаний о «рыцаре без страха и упрёка» немного. Точнее, написали о нём только двое. Декабрист А. II. Беляев (с которым задумывалось похищение пушки в сороковом году) и личный секретарь Вревского штабс-капитан Зиссерман. Их воспоминания сходятся в оценке личной храбрости барона, который «всегда сам командовал батальоном и выбирал опасные позиции», его азарта и страсти в бою. Беляев знал Вревского в сороковые годы, молодым, очень образованным офицером с правильными чертами лица немного южного типа, с вкрадчивой походкой и неизменным чубуком в зубах. Невысокого роста, складный кареглазый брюнет. Манера общения несколько застенчивая. В Дерптском университете он прошёл курс медицины, отчего, вероятно, имел одну оригинальную привычку: не пропускал мимо ни одного офицера с больными зубами. Всюду возил с собой ящик со щипцами и наводил страх на жителей крепости. Беляев было подумал, что это шутка, но барон не умел и не любил шутить и как-то на глазах у приятеля мастерски вырвал зуб графу Штейнбоку. Беляев потерял аппетит (дело было за обедом), Штейнбок — сознание, а барон преспокойно сложил инструменты, откланялся и бесшумно удалился. В молодости очень много танцевал на импровизированных балах в собственном доме. Завёл оркестр полковой музыки и очень заботился о нём. Держал сани для пикников, если вдруг выпадет снег, и увозил понравившихся девиц на своих резвых лошадях далеко вперёд, так что родственники очень нервничали, а один дядюшка даже хотел с бароном драться из-за племянницы, но вмешались гости... и снова выручил этикет. А. Л. Зиссерман узнал Вревского позже (в середине пятидесятых), за несколько лет до смерти, и составил своё мнение о характере начальника. Пристрастие к дёрганию зубов запомнилось ему меньше, чем ещё одна оригинальная черта. Летаргические приступы, в которые барон впадал от волнения накануне важных событий. Заснуть мог за столом, прямо во время военных сборов — трясли его все по очереди и вместе — батальон-то готов выступать. Солдатам же не скажешь, что генерал спит и атака отменяется. Лицо у него делалось бледным, как у мёртвого. Трясли, толкали, поднимали — «...он на секунду откроет глаза, скажет: «Хорошо, подай трубку», и спит дальше».

Зиссерман подчёркивает, что Вревский был очень смел, в бою жесток и кавказская служба очень к нему шла. Он не уставал делать бесчисленные набеги на Чечню, часто просто из-за того, чтобы его там не забывали. Имел в голове всякие полезные прожекты, например по восстановлению христианства на Кавказе для смягчения хищных нравов. Начальник штаба удивлённо пожал плечами, выслушав «записку» Вревского, и его недоумение можно объяснить примерно так: «Барон Вревский, — наверное, думал он, — прекрасно справляется с этими «хищными нравами», а вот как он будет резать кроткое оправославленное население, ещё неизвестно». Зиссерман не без злорадства доложил Ипполиту Александровичу об отказе. Тот «ничего не сказал, но по привычке посмотрел исподлобья, что означало у него тайную досаду». Вообще же Зиссерман подозревал Вревского в крайнем эгоизме. Хотя тот ни с кем не был груб, скупости за ним не водилось, но всё это «на такой лад, что никто его особенно не любил». У него не было явных врагов, но не было и преданных друзей. О нём знали, с ним считались, но он держал людей на расстоянии, ни в ком не принимал горячего участия, с подчинёнными был безучастно презрительным, патологически не мог признавать свои ошибки. Заметно, что он чем-то здорово раздражал своего секретаря, может быть, своим «стародавним барством», «...страстью окружать себя приживалами, арапчонками, бульдогами, большой крепостной и некрепостной дворней, фаворитами и пр. Третировалась эта компания тоже чисто по старым барским преданиям; преимущество не оказывалось ни арапчонку, ни бульдогу — ко всем презрительное отношение». О Юлии Петровне Зиссерман высказался однозначно: «...сиявшая молодостью, красотой, образованием». Он встретил супругов где-то за Ростовом, они возвращались на Кавказ из орловского имения. Генерал катил с юной женой и её сестрой в открытом шарабане. На дорогах была распутица — март месяц, дорожный плащ барона сплошь заляпался весенней грязью. Он сам правил лошадьми — женщины пищали и хохотали — и казался очень симпатичным. За четыре месяца до своей смерти. После Смольного института Юлия приехала в Ставрополь к отцу, здесь в скором времени сыграли и свадьбу. И если княгиня Ланская считала «позором» отдать дочь за «воспитанника», то Варпаховские, думается, с радостью согласились на эту честь. В декабре 1855 года Ипполит пишет брату Борису в село Голубово Псковской губернии: «Я тебя ещё не известил о моём очень скором браке с Юлией Варпаховской. Я уверен, что ты примешь живое участие в моём счастии, и я хочу надеяться на твоё любезное отношение к Юлии, которая со своей стороны расположена уже к вам. Жюли будет 18 лет (скорее всего, описка — 16 лет. — М. К.); она блондинка, выше среднего роста, со свежим цветом лица, блестящими умными глазами; добра бесконечно. Ты можешь подумать, что описание это вызвано моим влюблённым состоянием, но успокойся, это голос всеобщего мнения»[11]. Дом во Владикавказе, где Вревский поселил молодую жену, вести было непросто. Постоянные гости — цвет русской армии и их жёны, сосланные знаменитости, дети от умершей черкешенки, сестра Наталья с гувернанткой мисс Босс. Каково окунуться во всё это после беззаботного родительского дома? Вскоре Вревский снова пишет в Голубово: «...Мы, слава Богу, живы, здоровы и понемногу привыкаем друг к другу... Я, впрочем, не теряю надежды, что мы сделаемся настоящими друзьями». Значит, они не были «настоящими друзьями», что же мешало? Что может быть проще, чем подружиться с таким кротким ангелом, каким по описанию была Юлия Петровна? Или за внешней мягкостью, приветливостью и послушанием крылся характер, может, только озорной, а может, и строптивый? Кто расскажет об этом? Никто. Этикет запрещал со всей откровенностью говорить о молодых знатных особах. Ипполит завещал похоронить себя рядом с братом Павлом в Успенском монастыре в Крыму или во Владикавказе около храма, сооружённого на его средства. Сослуживцы же и грузинская знать хотели распорядиться по-своему и уговорили юную вдову похоронить его в Телави. Она уступила. Однополчане не успокоились и принялись сооружать генералу памятник. В архиве Вревских сохранилась «записка», отражающая все страсти, которые разгорелись вокруг этого. Сослуживцы и именитые кавказцы сами так поверили в то, что растроганно наговорили заплаканной вдове о его славе и «великой чести», которой он заслуживает, что стали доказывать, будто памятник — именно то, что достойно увенчать память героя. А поскольку герой знаменитый и народный — за пожертвованиями дело не станет. Далее в «записке» сказано, что «...осуществить преднамеренно дело не представлялось возможным (не собралось достаточно средств)». Деньги собирали четыре года. Потом брат покойного дал шестьсот рублей, и дело пошло на лад. Памятник и теперь стоит в городе Телави — из чугуна, с решёткой, заказанной в Париже. Всё это сказано не для того, чтобы заставить усомниться в достоинствах генерала, а для того, чтобы наглядно показать ту разницу, что существует между легендой и жизнью. Если обозначить жизнь человека за одно целое, то девять десятых из этого целого мы никогда не узнаем. Нам не дано узнать о людях, которые не оставили своих имён в истории, но так же мы не узнаем и о тех, кто не ушёл в забвение — был увековечен и знаменит. Слава — только сверкающая верхушка огромного айсберга, одна десятая его часть, тающая в тумане времён. Остальное и вовсе же скрыто от постороннего взгляда. Поэтому, рассказывая о Вревском, Александре II, Фанни Лир и Пупареве, да и о самой Юлии Петровне, и автор и читатель должны твёрдо помнить и знать, что речь идёт только об одной десятой их жизни. Девять десятых — это то, чего нет ни в этой, ни в какой другой документальной книге. Нет и не может быть. Это правда, любезный читатель, её надо уметь принять.
ПРИ ДВОРЕ...
«1853 г. Жена моя Любовь Дмитриевна Пупарева поднесла чрез почту Ея Императорскому Высочеству Великой княгине Марии Николаевне собственной работы акварельный рисунок плодов с натуры (апельсин целый и в разрезе, малина, земляника и ежевика)». «1854 г. В день тезоименитства императрицы Великая княгиня Её Императорское Высочество Мария Николаевна поблагодарила Любовь Дмитриевну за присланные рисунки и подарила браслет и серьги».(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
«...Я понимаю, как трудно получить согласие государя; я боюсь, что в наше время эта милость даруется чрезвычайно редко, но умоляю Вас и Н. И. Вольфа и других, знавших И. А. и имевших влияние, добиться этого. Я, конечно, смотрю на этих детей как на своих собственных, никогда их не оставлю своим попечением и постараюсь, насколько мне это будет возможно, сделать их людьми, достойными их отца...» — писала Вревская брату мужа Борису о присвоении фамилии отца детям Ипполита Александровича (незаконнорождённым от черкешенки Терской), носившим фамилию Терских. В это время, в 1858 году, Юлия Петровна с семьёй — тремя приёмными детьми, старший из которых был ей почти ровесник, — жила в Тифлисе. Можно представить её отчаяние, растерянность перед будущим и ту нечаянную радость, когда государь откликнулся на просьбу. Она получила приглашение ко двору и глубокой осенью отправилась в Петербург. Представим: Петергоф, низкие тяжёлые облака, на душе тоскливо; она без любопытства смотрела на дворец, на расчищенный от снега парк и закутанные фонтаны; экипаж остановился перед подъездом у дворца, и холодно-вежливая фрейлина провела в низкую комнату с тёмной мебелью и крошечными окнами; не решаясь сесть, Юлия Петровна подошла к зеркалу поправить причёску — и увидела позади себя императора. Это было так неожиданно, что она застыла, не в силах оборотиться. Он подошёл ближе и ласково заговорил с её отражением. И всё ушло: и серость дня, и неловкость, и тревога. Случилось то, отчего каждый вечер, стоя на молитве, она будет повторять: «Господи! Спаси Царя и услыши ны, в он же аще день призовём Тя». Дети были приняты в привилегированные учебные заведения, получили фамилию отца и наследовали земли Баталпашинского округа, которыми был награждён их отец, а сама она стала почётной дамой в свите императрицы. Девочка из незнатной дворянской семьи, прекрасно образованная, но не имевшая случая блеснуть, вдруг обрела возможность общаться со светскими людьми, не только придворными, но и лучшими людьми искусства, военными, учёными; и в свою очередь была ими замечена. Вот что писал известный литератор граф Соллогуб. «Ведя светский образ жизни, Юлия Петровна никогда не сказала ни о ком ничего дурного и у себя не позволяла никому злословить, а, напротив, всегда в каждом старалась выдвинуть его хорошие стороны. Многие мужчины за ней ухаживали, много женщин ей завидовало, но молва никогда не дерзнула укорить её в чём-нибудь, и самые злонамеренные люди склоняли перед ней головы. Всю жизнь свою она жертвовала собой для родных, для чужих, для всех. Юлия Петровна многим напоминала тип женщин александровского времени, этой высшей школы вкуса, — утончённостью, вежливостью и приветливостью. Бывало, слушая часто незатейливые, но всегда милые речи, я думал: как желательно в нашем свете побольше таких женщин и поменьше других». Жизнь придворной дамы — не такое простое дело, именно дело, а не развлечение. Это жизнь на виду, когда всё время подчинено выполнению многочисленных обязанностей, от скучных до приятных, но всегда почётных — и только на взгляд пролетария всё это было пустой тратой денег, — а между тем это была одна из великих традиций, без которых нет государства. Дармштадтская принцесса — предмет обожания молодого цесаревича, восхитившая грацией и умом В. А. Жуковского, — эта девочка вместе с Великими княжнами и свитой в сороковом году подъезжает к Петербургу. В ридикюлях у них меховые маски, чтоб не обморозить лицо, у охраны — наизготове ружья, чтоб отстреливаться от волков, а в сундуках русские платья, в которые они переоденутся, въехав в русскую столицу. Ей предстояло научиться любить щи и кашу, а поверх одеяла класть не плюмо (покрывало на пуху), а, по русскому обычаю, — шёлковый салоп. Венчалась Мария Александровна в белом шёлковом сарафане, на голове сиял драгоценными камнями русский кокошник. Зимними ночами любила кататься в одном только домашнем платье. Гуляла до изнеможения, так что одежда делалась вся мокрая, а вернувшись, залпом выпивала большой стакан ледяной сельтерской воды и принимала холодный душ в шкафу. Была добра и это качество сохранила до конца своих дней. Именно при ней сотнями стали ехать на жительство в Россию немцы-соотечественники, и всех она старалась принять и помочь найти занятие. Вскоре просителей сделалось столько, что Мария Александровна, поначалу не умевшая отказать, пряталась от них, а потом, по воле императора, издала указ, что в России могут жить только те, кто имеет занятие, а прочим давала денег на обратную дорогу. О её характере говорит небольшой эпизод — она назначила пожизненную пенсию в 400 рублей камер-юнгфере, укравшей дорогое жемчужное ожерелье. Посочувствовала пылкой любви воровки к молодому проигравшемуся врачу, для которого та пыталась, продав жемчуг, достать деньги. Мужа любила до самоотречения. Не отсюда ли это желание быть близкой, русской, своей? Если он с утра уезжал в Государственный совет и возвращался только вечером — обедать, она даже не завтракала без него и целый день ходила голодная. После Екатерины II русские царицы не правили Россией, но занимались благотворительностью — Мария Александровна вместе с хирургом Пироговым создала в стране Общество Красного Креста, которое живо до сих пор, и попечительствовала образованию молодёжи. Была и ещё одна сторона деятельности, мало известная в русском обществе, — покровительство людям искусства. Любимым обществом Марии Александровны были (и защищённые ею от произвола цензуры) князь Вяземский, Фёдор Тютчев, граф А. Толстой. Поэты сложили ей вроде гимна:
Согревала домашний очаг; как простая крестьянка, родила восьмерых детей; трудилась на ниве образования, медицины, милосердия; а могла и в ноги государю броситься и просить за кого-нибудь — сохранить чью-то жизнь. Такая бы и в Сибирь пошла. На серебряной свадьбе сказала: «Да, я имела много печали, но также много счастья и благополучия». Маршруты царской семьи известны: Царское Село, Петергоф, Павловск, где так понравились во дворце часы с боем и куда императрица с императором ездили в английском экипаже — послушать музыку в павильоне в саду. И государь сам правил лошадьми. Ездили в Гатчину, в Александрию, летом — в Ливадию, в Крым, но самым любимым было Царское Село. Ещё был Монплезир — маленький дворец на берегу Финского залива... В саду пили чай, разливала какая-нибудь фрейлина (может быть, и Юлии Петровне выпадала удача быть хозяйкой за царским самоваром), а с моря неслись русские песни — это кадеты в шлюпках подплывали совсем близко; дамы вышивали, кто-нибудь читал вслух. Каждый год путешествия за границу, за годы своей придворной жизни Вревская побывала вместе с императрицей во Франции, Италии, Сирии, на лучших курортах Европы, в Африке, в Палестине, Иерусалиме. Её альбомы тех лет пестрят автографами политиков, принцев, пашей, знаменитых певцов и поэтов. Путешествия сделались её страстью; она собиралась съездить в Индию, Испанию, Америку, о чём после не раз писала Тургеневу. А зимой — Петербург с его чопорным этикетом, Зимний... Холодный блестящий паркет, по нему, цокая когтями, впереди императора бегут две собаки — рыжая и чёрная. Все, кто знал царскую семью, обязательно отмечали, как она проста в обращении — это признак высшего тона, Вревская сама была такой. На Пасху императрица выходила в парадную залу в белом чепце, в кашемировом капоте с бриллиантовой брошью на груди и с корзиной, полной фарфоровых яиц. Государь позволял целовать себя в щёки, но, как правило, яиц не дарил, может, только изредка доставал из корзины красное мраморное и подавал бледной красивой рукой, в знак особого расположения. Во время войны императрица отказалась шить новые платья, а все сбережения отдала вдовам, сиротам, раненым и больным. А через два года «сухо и долго кашляла. Зародыш её смертельной болезни разрастался. Её катали на кресле по комнатам, и несколько раз в день она вдыхала кислород посредством воздушных подушек для облегчения дыхания. В 1880 году, 22 мая, на пятьдесят шестом году жизни, скончалась. В суматохе не успели позвать детей. Она очень жалела об этом». Приёмный сын Юлии Петровны барон Терский-Вревский окончил Пажеский корпус и служил в чине камер-юнкера. Женой его стала Наталья Варпаховская, сестра Юлии, красавица с античным профилем. Ни Наталье, ни Николаю брак этот счастья не принёс. Черкесская кровь не мирилась с фривольными намёками на её прошлое, он ревновал жену, бил и без конца упрекал. Служить не хотел. Одно время увлекался исцелением страждущих в невской воде. Его вообще тянуло к воде. И, считая свою жизнь ненужной и конченой, он оборвал её, бросившись с городского моста. Императрица по-своему истолковала неудачную семейную жизнь сестры своей приближённой дамы, усмотрев в ней подтверждение придворным слухам о том, что Наталья до брака испытала внимание Высокого лица. И поступила, как поступает всякая женщина: удалила Юлию Петровну от себя, но, видимо, потом чисто по-русски раскаялась в своём поступке — во время войны интересовалась её делами, выражала, как и император, заботу о её судьбе и здоровье. «Ваше Императорское Высочество, — писала Ю. П. Вревская Великому князю Константину Николаевичу, — вот уже два месяца, как я в Петербурге, где я снова поселюсь, и до сих пор не имела счастья ни встретить Вас, ни увидать даже издали. На первой неделе поста я была один раз в церкви, в Мраморном дворце, но на следующий день письмом от ген. Комаровской получила запрещение от Е. В. Великой княгини когда-либо приходить туда. Не умею выразить, как мне было это больно, обидно, грустно; тем более что в этот день именно я горячо молилась о счастье всех, которые близки Вашему сердцу. Простите... неуместность этих строк. Я ничего не прошу. Это от полноты душевной хотелось выразить Вам беспредельную и, к несчастью, ненужную преданность. Да пошлёт Милосердный Господь Вам здоровья и удачи во всём. Вашего Императорского Высочества верноподданная баронесса Юлия Вревская Литейная, № дома 27».
ЦАРСКАЯ ОХОТА
(Отступление от темы №1)
«Десятого декабря 1862 года Александр II в 85 вёрстах от Москвы охотился на медведя, которого и убил, и подарил обществу Владимирской губернии, В память этого события Московское общество охоты в 1866 году испросило Высшего позволения носить членам общества значок медведя на фуражке и пуговицах».(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
Александр был прекрасным охотником, в отличие от батюшки своего Николая Павловича. Тот обыкновенно мазал, но на егеря — который под руку из азарта шептал: «Держите ниже и правее, правее» — цыкал: «Молчать». Егеря этого, Иванова, Александр Николаевич из уважения двадцать лет продержал на службе, когда тот уже меток не так был, а напоследок наградил золотой медалью с надписью «Благодарю» и своим портретом. Охоты всегда устраивались летом и зимой. Весной в лес не проберёшься, топко. Приглашались русские генералы, иностранные послы, английские, германские наследники, гостившие при дворе. Не везло обыкновенно персидскому шаху — тот почему-то наезжал в самую распутицу. Неизвестно до сих пор, что больше восхищало иностранных гостей: меткость государя, охотничий азарт или блины с зернистой икрой и русской водкой — они подавались к завтраку прямо в лесу, в глуши, за длинным столом.
Выстрел государя, всегда смертельный, не причинял животным мучений; меток был так, что однажды егерь держал задние ноги оленя в овраге и совершенно не боялся, что пуля попадёт в него. Охоты обыкновенно проводились между железных дорог — Варшавской и Балтийской, куда стекалась масса народа, хотя это и было запрещено. Хозяйки с сыроварен несли батюшке царю попробовать сыры, так сказать, представить свою продукцию — чем черт не шутит: приглянется царю сыр — всей жизни перемена, нет — память на всю жизнь, как царя сыром угощала; шли и с мёдом, и с холстами, и с прочим товаром. Уверенно, с достоинством приходили отставные солдаты, изувеченные за отечество. Стояли в сторонке от конвоя, покуривали табак, ждали, когда подойдёт государь — подарит по рублю, а Георгиевским — по три заведено было. Все трезвые, подтянутые, руки (у кого есть) махоркой проедены; как-то затесался среди них один инвалид пьяный; приятели его за спины прятали, да государь всё равно углядел, а пьяных терпеть не мог. Вытянул его вперёд и спрашивает с неудовольствием: «Пьян?» Все притихли, сейчас рассердится батюшка, ничего не подаст. «Точно так!» — глядя на государя, гаркает во всё горло солдатик. «С какой же радости?» — ещё строже спрашивает царь. «С радости, что вижу Ваше Величество!» — отвечает тот и в ноги царю — бух! И получил такую же долю, как остальные. В поисках царской милости хитрили. Мужику полагались хорошие деньги, если выследит, где медведь в берлогу залёг, и в егерскую контору об этом сообщит. Мужик деньги получит и бегом к берлоге вперёд егеря, выгонит медведя криками да стуком, медведь поворчит да на другое место уйдёт, а хитрец опять в контору, гонорар за него, как за нового, получит. Потом раскусили, деньги стали задним числом платить — после охоты, за убитого зверя. И вот, бывало, крадётся государь за этим самым медведем, старается неслышно ступать, ружьё уж наготове держит, до назначенного места близко — целится, а тут из-за куста... растрёпанная голова в шапке. А чтобы царь со зверем не спутал и не выстрелил — пришпилен на шапке листок с просьбой. Так молча и стоят друг против друга: мужик по шею в снегу, потупив лукавые очи, и император, покорно разбирающий корявую надпись. Иногда, пока охотник до места доберётся, до пяти таких «говорящих» голов встретит. Но почему-то не сердился, хотя охотник был страстный. И просьб не забывал. Так охотился царь. А как охотились на царя — речь впереди.
АМЕРИКАНСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК
(Отступление от темы №2)
«1872 г. Московский зоологический сад Нового Русского общества обогатился всякими животными из Египта, добытыми через нашего посланника в Константинополе ген.-адм. Игнатьева».(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
Он писал ей: «...Смешно сказать, но ничего не пробуждает во мне столько гордости и высокомерия, как любовь женщины, избранной мною из толпы». Он упивался своей самостоятельностью, не зная, что это она выбрала его. Ещё в детстве мечтала любым путём пробиться к трону и узнать любовь коронованной особы. Это она выбрала его — статная белокурая красавица с шекспировской фамилией Лир, с весёлым именем Фанни, с туманной национальностью «американка». Кто она, из какой семьи, почему встала на этот путь — ничего не известно, кроме того, что выбрала возлюбленного и явилась за ним в Петербург, в громоздкой карете времён Екатерины, в 1871 году (Вревская уже в опале и удалена от двора). На границе с Россией её задержали за фальшивые документы, но всё уладил генерал Трепов, любезный, по её словам, начальник жандармов, с которым она когда-то познакомилась в Вене. Первые впечатления: вкусный хлеб и россыпь орденов на груди у одного генерала — семнадцать штук. Петербург — столица военных, а военных она обожала. Её научили пить на брудершафт, и ужинать до семи утра. Фанни решила, что они с Россией созданы друг для друга, но «серебряная старость» — увлечение платоническое. Прицел был на «золотую молодёжь». И она добилась своего: изысканно фамильярные, в военных мундирах, с кутежами у Дорота, под цыганские песни. Впервые в жизни Фанни «испытала от песен слёзы и восторг». Не удержалась и бросила в пёстрые шали бриллиантовый браслет. На маскарадном балу в Большом театре она решила испытать удачу; залюбовалась молодым высоким красавцем — и сразу попала. Но как-то мало верится в то, что Фанни Лир отдалась только первому порыву[12]. Он подал ей руку — и кружок офицеров почтительно разомкнулся. Спросил, знает ли она его. «Нет, — благоразумно отвечала Фанни, — Но ты молод, красив, этого достаточно». — «Я сын богатого купца, но сам бедняк, потому что всё состояние проиграл и прокутил с женщинами». — «Да? — улыбнулась она. — Значит, ты ветеран любви. А это почётное звание». Он повёл её в ложу, офицеры и дамы кланялись ему; а когда откинул бархат портьеры, чтобы пропустить её внутрь, увидела на шторах вензеля с двуглавыми орлами. Он сел рядом на диване и, перестав играть в подгулявшего купца, спокойно произнёс: — Ну вот, Фанни, вы никогда не видели Великого князя, так можете теперь смотреть сколько угодно... Но снимите же маску, мне угодно знать, красивы вы или дурны. — Судите сами, Ваше Высочество, — сказала она и открыла лицо. Поехали в гостиницу ужинать. Кареты с лакеями, коврами, яствами, винами и цветами следовали за ними. Пройдя в комнаты, он очень внимательно осмотрел обстановку, подошёл к окну, долго молчал и, словно в продолжение своих мыслей, сказал: — Дайте мне только честное слово. Фанни молчала, понимала, что здесь нельзя торопиться. — Так дадите или нет? — Я слишком легкомысленна для честного слова, — без тени кокетства сказала она. И решила свою участь. Он взял бумагу, написал несколько строк, расписался и подал ей — это был брачный контракт. Великий князь предлагал постоянную связь. «Клянусь всем, что есть для меня святого в мире, никогда, нигде и ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя, обязуюсь верно, как благодарная американка, соблюдать эти клятвенные обещания и объявляю себя душою и телом рабою русского Великого князя». И вторую бумагу — его обязательство на сто тысяч рублей. Она подняла глаза, несколько раз вдохнула, чтобы заговорить, но не смогла. Заговорил он: — Подпишите это, дорогая Фанни, и будьте моею жёнушкой. «После этого, — взволнованно пишет Фанни, — он обнял меня, дал мне первый поцелуй и сказал: «Милая, ты отныне моя, я никогда не женюсь...» Он сказал чистую правду, но в отношении себя. И вынес себе приговор. Через несколько часов Великий князь уехал, сказав, что заедет вечером и повезёт её в оперу. Сказал, что пришлёт ей что-нибудь пошикарней и жемчужный парюр (комплект). Она была вне себя, не знала, что делать, главное было — не потерять рассудок. До четырёх часов она лежала в постели с мокрым полотенцем на лбу и дикими глазами смотрела на людей, которые входили, оставляли коробки, корзины, телеграммы от Великого князя, низко кланялись и бесшумно выходили. Она чувствовала себя как человек, которому подарили слона. К пяти, больная и опустошённая, кое-как натянула парижское платье с драгоценностями, напудрилась, взбила волосы и, заслышав стук подъехавшей кареты, толкнула дверь и вышла... в другую жизнь, жизнь избранных мира сего. Из оперы он повёз её в Мраморный дворец (в церкви которого уже было запрещено появляться Вревской), и больше они не расставались. Ночью князь много откровенничал среди семейных портретов, каминов и гобеленов. Фанни слушала, и ей казалось, что она грезит наяву. Он показал портрет принцессы, в которую был влюблён и на которой ему не позволили жениться. Бой часов гулким эхом отдавался в бездонных пространствах дворца. Потом они завтракали в маленькой уютной комнате, и им прислуживали пять лакеев, каждый в особой ливрее, в соответствии с кушаньем, которое он подносил. Дворцовая кухня показалась Фанни неудачной, но вина были недурны. От волнения и венгерского она не смогла подняться из-за стола, да так и заснула, откинув прелестную головку на высокую бархатную спинку стула. Фанни подружилась с венгерским и дни проводила в полусне — так было легче привыкать к новой жизни. На третий день на половину Великого князя Николая зашёл его отец Константин Николаевич, родной брат императоров. В ужасе Фанни заметалась по комнате и спряталась на кровати, задёрнув полог и зарывшись лицом в подушки. Константин Николаевич, как нарочно, заинтересовался новой кроватью; после беседы с сыном о последних новостях и финансах он принялся её внимательно осматривать, громко рассуждая о том, что русский дуб всё же лучше карельской берёзы. Раздёрнул полог, обнаружил ворох платья и скомканного белья и среди этого дрожащую от страха и смеха одновременно (венгерское давало себя знать) Фанни. — Что за женщина? — удивлённо спросил он сына. — Пришла по благотворительному делу, — не моргнув глазом строго сказал князь Николай, — и спряталась, испугавшись вас. — А хорошенькая! — Великий князь пытался заглянуть за подушку. — Нет. И старая, и некрасивая, — признался сын. — Ну тогда не стоит и смотреть, — согласился отец и покинул комнату. Так была отбита первая атака августейших родственников. На следующий день во время прогулки на санях в Павловск Фанни переодели мальчиком, чтобы её не увидела мать князя Николая, Великая княгиня Александра Иосифовна. Морозная мгла летела в разгорячённое личико Фанни, и ей, не любившей холод, теперь приятна была эта перемена, она знала, что скоро войдёт в натопленный дворец и отогреется среди великолепных картин, золочёных диванов, бронзы, ковров. В Павловском дворце её встретили боем двадцать стенных часов различных эпох. Это было так красиво, что весёлая американка немножко поплакала. Фанни привыкла. Да и Великий князь так душевно пел ей свои любимые романсы за ужином. Они бродили по дворцу ночью, взявшись за руки, и он показывал ей залы и комнаты, рассказывал истории их семьи, таинственные и трагические. Великий князь рассказал ей о Павле I, и Фанни снова прослезилась от жалости к сыну, не любимому матерью. «Если бы у меня была любимая собака, то мать её велела бы утопить, — изображая Павла, говорил Николай. — Он произвёл в генералы солдата, который первым доложил о смерти императрицы». Великий князь Николай Константинович любил прадеда, чувствовал его близким себе и обещался поставить ему памятник. Но больше всего любопытства у Фанни вызывал царствующий император Александр II. Однажды, гуляя утром во дворцовом парке, она увидела его — красивого немолодого офицера с задумчивыми глазами, к его ногам жались две большие собаки. — Да, у него добрые, внимательные глаза, — согласился Великий князь, когда она поделилась с ним наблюдением, — а вот дедушка Николай гордился своим «змеиным» взглядом и всё время проверял, стынет или нет от него кровь в жилах у министров, фрейлин и вестовых. Фанни хохотала, показывая белые крепкие зубки. — Если со мной случится несчастье, дядя Александр один пожалеет меня. — Только он? — Да, потому что у него золотое сердце и он любит родню, а отцу всё заменяет власть и танцовщица Кора Парль. — И грустно добавил: — Видно, брачные измены у нас в крови. И он принялся перечислять императриц, императоров и их любовные связи. — Вот у дяди всегда настроение хорошее, и мягок он, и весел, отчего? Да оттого, что всегда в кого-нибудь влюблён... Многое поразило Фанни в русском дворе. Например, то, что князя Николая били воспитатели-немцы, что с детства он питался в основном хлебом и чаем, имея состояние в двести тысяч. Для развлечения она завела дневник, где записывала кое-какие рассуждения и свои чувства. «Бездна неприятностей. Муки ревности, любви и ненависти попеременно терзают меня. Вчера я убила бы его, а сегодня душу в объятьях; нет, это не тот, о котором я мечтала. Отчего же я не в силах совладать со своей страстью?..» «Если бы женщины были свободнее, было бы меньше таких, как я; но жизнь моя — не преступление. Я предпочла свободу тюрьме в стенах добродетели. За это свет меня осуждает и презирает, а я борюсь с ним и пренебрегаю его мнениями...» «Женщину любят то как добычу, то как игрушку, то как богиню. Иные видят в ней любовницу и товарища — такова любовь ко мне Николая». «Париж для меня то же, что Мекка для мусульманина. Там я желала бы жить и умереть. Я люблю Россию, но Франция с её дьявольской столицей мне милей всего...» «Порой я чувствую усталость и отвращение ко всему: от служанки, которая распоряжается моими туалетами, до Великого князя, который распоряжается мной...» «За пять месяцев нашей связи он ни разу не отлучился от меня...» «В пятнадцать лет невинность женщины называется наивностью, в двадцать — простоватостью, а после этого — глупостью...» «Накануне Пасхи я была в соборе вся в белом и со свечой в руках, как прочие православные. В полночь архиерей, обратившись к толпе, произнёс: «Христос воскресе!» После чего началось христосование. Государь должен был целоваться с публикой три часа кряду, отчего под конец походил лицом на мулата». «Летом 1872 года мы отправились в Павловск, где Николай предоставил мне свою дачу с прекрасным садом. Я была счастлива его любовью и, со своей стороны, любила его как ребёнка, любовника и покровителя. Отчего не дали мне дольше платить своей преданностью за его доброту ко мне?» Царская казна давно трещала от скромных запросов «благородной американки». Фанни Лир внесла в отношения со своим возлюбленным южный темперамент и колорит. Бывали у них и потасовки, когда он орудовал кулаками, а она увесистой щёткой для волос; бывали и чувствительные обмороки, в основном у Великого князя — от страха, что она бросит его. Иногда Фанни нарочно подбивала его на ссору, когда ей хотелось новое платье или браслет с изумрудами. Она хорошо изучила родовые черты Романовых и помнила дворцовый анекдот о боярине, который в пору безденежья навлекал на себя царский гнев, чтобы вскоре разбогатеть (ведь раскаяние царей — это деньги).

В Вене, где Фанни было очень весело и она упивалась укоризненными взглядами дам и нескромными — эрцгерцогов, она застала в лесу своего возлюбленного с грязной и красивой цыганкой. Одной рукой он совал ей монеты и кольцо, другой пытался обнять стройный стан. Фанни завопила не своим голосом, цыганка улизнула, а Великий князь дал Фанни звонкую пощёчину, так как сам был смущён; они решили расстаться навсегда. Тут же подвернулся «любезный русский», увёз Фанни с собой и скрасил дни одиночества. — Оставьте меня, я вас не люблю. Я люблю Великого князя, — говорила Фанни, расстёгивая перламутровую пуговицу на груди. — Это мне совершенно всё равно, — хладнокровно отвечал «любезный русский» уже в одной длинной исподней рубахе и лез под шёлковое одеяло в двуспальную кровать. Прожили месяца два. Когда получила-таки покаянное письмо Великого князя, сбежала. Возвращение сулило много приятного. На радостях они поехали в Италию, с ними был воспитатель и доктор Великого князя Гаурович, который и «стучал» на них аккуратно императору, наслаждаясь красотами Рима. В Бари Великий князь полдня проторговался с папой Григорием XVI, предлагая суммы, от которых у Фанни мутилось в голове, за мощи святого Николая-чудотворца. Папа не уступил. За границей Великий князь покупал, менял и снова продавал разные мелкие вещицы с таким жаром и упоением, что Фанни было не по себе. Они побывали в Неаполе, Риме, Флоренции, Генуе, Милане, Венеции и Варшаве — и полки с музыкой торжественно выходили навстречу. Фанни гордилась своим возлюбленным и собой, а маленький плешивый доктор всё слал депеши и не скупился на описания алчной и ветреной американки. В это время готовился Хивинский поход, и юный Скобелев умирал от желания броситься очертя голову в самую кровавую кашу. Туда же Великий князь Константин звал и сына, суля славу и Георгиевский крест (вожделенную мечту Скобелева); когда в уговоры вступил обожаемый дядя-император, Николай сдался. Уходил в канун Рождества и, как мог, позаботился о подруге. Нанял прекрасную квартиру на Михайловской площади, подарил рождественскую ёлку, короб платьев и драгоценностей, а также сани, запряжённые парой вороных, с медвежьей полостью и кучером Владимиром. Весёлое было у Фанни Рождество, хотя, по её собственным словам, она и «горевала после разлуки». Его письма тревожили, он мечтал убежать с ней в Америку — вот уж что ей совершенно было ни к чему. Понимая, что его могут убить, Великий князь составил завещание, очень выгодное для Фанни, и оставил у неё. Оба рыдали. На груди он увёз прядь волос возлюбленной. Ему не нужны были ни подвиги, ни кресты; ему хотелось в отставку. И понеслись отчаянные любовные письма. Фанни читала их за бокалом шампанского с очередным кавалером — в Париже. «Чувство к тебе, — писал Великий князь, — будет иметь влияние на всю мою жизнь. Такие чувства нынче не в моде. В них, может быть, нет шика, но что до этого!.. При тебе я способен на великие дела, без тебя в Россию не вернусь... лучше пойду на смерть. Думай почаще обо мне, и это принесёт мне облегчение...» И последнее — оно звучит мольбой: «...не ужинай с военными, не щеголяй нарядами. Это скучно и трудно, но необходимо. Мы так будем счастливы, когда снова увидимся». За поход в Хиву ему не дали Георгиевский крест. В нём совсем не было честолюбия — одни чувства. Любовь занимала все помыслы, отнимала все силы. Он был очень молод — двадцать три; американская авантюристка вскружила ему голову, и всего себя он сложил к её ногам. Чувства его были обострены до предела, обострилась и болезнь. Он страдал клептоманией, но это была только его тайна. Стыд делал его бдительным и осторожным. С тщательностью и неутомимостью паучка её возлюбленный тащил в свои комнаты шкатулочки, веера, скляночки с духами, ложечки и ножи. Как вспыхивали его глаза в грошовых меняльных лавках, с каким упоением он покупал понравившуюся вещь, но тут же обменивал её на другую, да и ту вскоре продавал. Он был очень замкнут и одинок, но Фанни могла бы догадаться, ведь даже у неё иногда пропадали вещи, но она, не задумываясь, говорила о пропаже возлюбленному, и тот, залившись краской, поспешно покупал «жёнушке» что-нибудь с бриллиантами взамен веера или кошелька; преподносил, целовал руки, низко склоняясь головой, словно извинялся; она с удивлением и восхищением вскидывала брови. Из образа, принадлежавшего Великой княгине (матери Николая), украли драгоценные камни. Схватили адъютанта Великого князя Евгения. Видя, что тот не может оправдаться и ему грозят каторга и позор, Николай сознался в краже. Вошёл в залу дворца, где у перепуганного адъютанта требовали признания, сказал: «Это сделал я». Теперь Фанни мечтала только унести ноги с ценными подарками и бумагами. Один Господь, верно, только и утешил его, ведь изо всех дорожек он выбрал прямую. Был объявлен сумасшедшим, лишился всякой собственности, над ним издевались даже солдаты, потому что он больше не имел власти, он ходил в рубище и сам добывал себе огонь и пропитание, он освободился от всего суетного — стал почти юродивым или святым. Последнее, о чём он беспокоился, пока врачи набело сочиняли историю его помешательства, как уберечь возлюбленную от неприятностей. Он просил, чтобы она взяла все деньги, считал, что она заслужила их, и скорее уезжала, чтобы не выслали в Сибирь. — О, друг мой, — вскричала Фанни, — они не сделают такой подлости! — Все сделают, — тихо и спокойно сказал он. Её арестовали. Затрепетало сердечко Фанни Лир, когда повели её по Петербургу два жандарма и когда большой тюремный ключ лязгнул в замке. Фанни совершенно не выносила голода. — Ну, что смотрите, будто у меня три глаза, — прикрикнула она на жандармов, — несите мне ростбифу, чаю, хлеба и шампанского, мне угодно завтракать! О себе в те дни она говорила: «Они совсем не знают моего характера: я могу кричать от пореза, но если мне отрежут всю руку, я не разожму губ и другою рукой сама похороню отрезанную». Впрочем, на такие пытки идти не пришлось. Любезный Трепов (тот самый, кто два года назад встретил её на русской границе и в которого потом стреляла В. Засулич) уладил дело почти без скандала. Император приказал ничего не отбирать у Фанни. Только один Великий князь Константин (отец Николая) пытался вытребовать у неё завещание сына и обязательство на сто тысяч рублей. Ему было жаль семейных денег, которые уплывали за океан вместе с бойкой шлюшкой, погубившей сына. Фанни сдалась и уступила половину — не годится испытывать судьбу дольше, и только твердила, что «поступила глупо». Она сидела в поезде, напротив доверчиво дремали провожатые в жандармской форме; последние берёзки мелькнули за окном — граница, — и Фанни отметила про себя, а потом и на бумаге, что дышать сделалось свободнее. Несколько раз князю Николаю снился сон, он рассказывал о нём Фанни: он стоит на коленях в большой тронной зале, затянутой в чёрный креп. «Расстрелять!» — коротко говорит император солдатам в ослепительных белых мундирах и кивает в сторону племянника. Потом подходит, гладит по голове — Николай приникает губами к душистым мягким пальцам. «Дядя, — шепчет он, — ты меня любишь?» Император кивает задумчиво, отходит, плачет навзрыд, слёзы катятся по усам и бакенбардам, а платком машет, машет как огромный невидимый пресс. «Ах да, — вспоминает Николай, — царская честь!» — и понимает, что дядя прав. Когда перед Александром II разложили кошельки, веера, склянки от духов, найденные на половине племянника и подтверждающие болезнь, а не подлость, он побледнел и тихо сказал: — Разжаловать — и на Кавказ. Но в ноги ему бросилась императрица, умоляя пощадить убогого и больного, который и так уже всё потерял. — Хорошо, — согласился император, — делайте с ним что хотите, но чтобы я больше не слыхал о нём. Да, только избранным достаётся высшая любовь и высшая ненависть. Это их участь. Бремя.
МЕЖДУ БОГОМ И ЛЮДЬМИ
«20 февраля 1855 года. В час пополудни, во время звона на Ивановской колокольне (панихида по Николаю I и молебствие с присягой Александру II), обрушился колокол весом до 2000 пудов и, пробив три свода, убил трёх женщин, двух мужчин и ушиб семь человек».(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
Как-то стоит Достоевский со знакомым у витрины магазина и спрашивает его: — Вот вы бы донесли, если бы знали о покушении? — Нет, — говорит знакомый и щурится в модные окуляры. — И я нет, — соглашается Достоевский. Отрочество свободы. Ненависть сына к отцу. И всё во имя матери — России. Принцип дороже чужой жизни. И забыли, что царь не только символ, но и человек. Живой. Красивый офицер с мягким взглядом. 4 апреля 1866 года. Каракозов стрелял в Летнем саду в четвёртом часу пополудни, когда царь с племянницей и племянником поднимался в коляску. Толпа, пришедшая смотреть на батюшку царя, стояла и смотрела, как «батюшку» убивают. И только Осип Комиссаров — крестьянин — не растерялся, толкнул злодея под локоть, и тот промахнулся. Июнь 1867 года. Березовский в Париже — во время Всемирной выставки — в Булонском лесу царь прогуливался в коляске с двумя сыновьями — поранил лошадь французского подданного. На вопрос — «за что?» ответил: «Хочу отомстить за Польшу». На обратном пути через Варшаву царь снова ехал в открытой коляске. 2 апреля 1879 года. Соловьёв, во время прогулки императора рано утром возле дворца; ничем не примечательный господин в штатском пальто и канцелярской фуражке. «Царская улица» пустынна. Стрелял пять раз. Александр бежал, петлял (кто-то острил — «как заяц»); а сам под пулями бегал; в него, безоружного, любимого мамой, — стреляли? Слава Богу, не ранен. Ноябрь 1879 года. Во время возвращения из Ливадии. Взрыв на Курской железной дороге. Бомба сделана Кибальчичем, готовили взрыв Желябов, Перовская и Михайлов. Охрана уже более грамотна. Пустили два поезда — царский и свитский. Никто не знал, какой из них пойдёт первым. Пострадавших не было. 5 февраля 1880 года. Взрыв в Зимнем дворце — полировщик царской мебели Халтурин, дружок Желябова. Взрыв раздался в малой столовой. Убито одиннадцать солдат — наповал. Александра и на этот раз Господь уберёг — не было его в столовой. От взрыва вылетели стёкла, погас газ. Взрывали упорно, как горную породу. 1 марта 1881 года. В этот день у императора было хорошее настроение. Возвращался с развода лейб-гвардии сапёрного батальона. С Инженерной улицы кортеж свернул на Екатерининскую набережную. Перовская махнула белым платком — не зря боялся стриженых девушек в синих платьях (светские же дамы, отдавая дань моде, одевались также «под нигилисток») — начали: бомба разорвалась под ногами лошадей царского экипажа. Александр остался невредим.

Знал бы Василий Андреевич Жуковский, что его воспитанника будут в течение пятнадцати лет убивать, упражняясь в меткости, вряд ли ввёл в курс обучения урок ненависти. Кто будет воспитывать будущего правителя России? Колебания, предложения, предположения. Выбран — поэт.
Когда сообщили о царском решении, Жуковский разволновался до слёз. «Не отвечаю за свои способности, — писал он государю, — но отвечаю за любовь к моему делу. Его Высочеству нужно быть не учёным, а просвещённым... Образование и почитание необходимы для правителя, ибо они дают способы властвовать благотворно...» Составил план. На первом месте — цель учения. Питомец должен знать, что он есть, что его окружает, для чего он предназначен и чем должен быть со своей бессмертной душой. Компас для этих знаний — вера. Это — основное. Человек состоялся как человек, он больше не безответственный шалун в собственной жизни; на веру, как на фундамент, можно настраивать любые знания, всё пойдёт на благо. Прежде — надо развить сердце, потом — ум. Так же необходимо снабдить питомца орудиями для приобретения сведений — обучить языкам и обозначить ему карту — обзор всевозможных наук, помогающих освоить и изучить мир. Всё — в отроческом возрасте, до тринадцати лет, дальше — свободное плавание. Компас и карта и вёсла в руках; ум приготовлен, любопытство возбуждено — так в путь! Теперь следовало разделить науки: первые, связанные с человеком (история, география, философия); вторые, открывающие предметный мир, — физика, математика, технология и т. д. С семнадцати до двадцати — составление правил жизни, которые питомец готовил бы сам, опираясь на полученные знания и совесть. В этом периоде необходимо, чтобы будущий монарх уже задумывался над тем местом, которое Господь уготовил ему в обществе, и над обязанностями, с ним соединёнными. Предметы обучения так были отобраны Жуковским, чтобы ученик, изучая их, постоянно отвечал на пять вопросов: 1. Кто я? (Логика, учение Спасителя, геометрия, русская грамматика). 2. Где я и что меня окружает? (География, зоология). 3. Что я? (Психология, естественное право, история, статистика). 4. Что я должен быть? (Мораль и политика). 5. К чему я предназначен? (Метафизика как учение о человеке — существе духовном и бессмертном и Богопознание). Форма преподавания — самая свободная: разговорная речь, обсуждения, побуждающие к самостоятельности. Очень важны языки (французский, немецкий, английский, польский (!) — для освоения мировой культуры, возможности наслаждаться поэтическими первоисточниками, чувствовать язык и стиль, а значит, и характер народа. И само собой — рисование, музыка, гимнастика и даже игрушечное кораблестроение, ручная работа — токарное и столярное ремесла. Сейчас это называлось бы «воспитание гармоничной личности», и правильно: гармоничный царь — гармоничное государство. «Надобно читать мало, — советовал Жуковский, — и одно полезное; нет ничего вреднее привычки читать всё, что ни попадёт в руки. Это приводит в беспорядок идеи и портит вкус, да и отнимает много времени...» И добавлял, что для детей только на немецком и французском написано много хорошего, а на русском — ничего почти нет, нужно многое переводить, а многое и самим писать по-русски. Однажды на военном параде в Москве Жуковский увидел наследника верхом, пришёл в негодование и так писал императрице: «Эпизод этот, государыня, совершенно излишний в прекрасной поэме, над которой мы трудимся. Ради Бога, чтобы в будущем не было подобных сцен... не подвергается ли он опасности почитать себя уже человеком?» Русский поэт больше всего опасался, что в России вместо царя появится ещё один генерал, который привыкнет видеть в отечестве — казарму, в народе — полк. «Вы думаете, — продолжал Жуковский, — что я говорю лишнее, а событие — пустяк? Нет, не лишнее. Никакие правила не могут уравняться в силе с впечатлениями живой жизни». Военное образование — нужно, но на него только одно время года — отдельно, не касаясь остального учения. Ежемесячные экзамены проходили в присутствии императрицы, а полугодовые — более важные — при государе.

Отец в жизни ребёнка, особенно мальчика, гениально прозревал Жуковский, играет совсем особую роль «тайной совести», и потому он настаивал перед государем, чтобы тот не хвалил сына слишком часто, достаточно и просто ровного ласкового обхождения. И только в исключительных случаях — чтобы развить в ребёнке здоровое честолюбие, желание заслужить редкую похвалу. Не ругать по мелочам, чтобы «гнев отца» не разменивался, а был испытан ребёнком только однажды и этим уже удерживал бы от дурных поступков. Даже подарки делались наследнику ограниченно, чтобы мальчик не имел много «бесполезного» и не тонул бы в побрякушках. Учитель был настоящим другом своему питомцу. Был он уже стар, но разделял все его порывы, прислушивался к его мечтам и желаниям. В 1840 году в Дармштадте он предложил Александру притвориться больным, чтобы провести лишний день с очаровавшей его девушкой, но воспитанный им цесаревич отклонил эту шутливую ложь и отправил письмо императрице и императору с просьбой о браке. Вот так. Серьёзно и просто умел он уже решать свою судьбу. Тридцать пятый год. С портрета смотрит большеглазый задумчивый мальчик с чуть оттопыренными ушами и высоким лбом. Через два года этот мальчик вместе со своим учителем совершит поездку в Сибирь — не для развлечения, как турист, а как будущий хозяин. «Верь в Бога! — наставлял учитель ученика. — Он защитит твою душу от презрения к человечеству. А презрение к человечеству есть самое пагубное в правителе людей». Митрополит Филарет пророчествовал: «Не я, но молодые мои прихожане доживут, пожалуй, до царя-единомышленника». Список своих царских дел Александр II открыл амнистией в 1856 году — вернулись из Сибири декабристы. Новые веяния нового царствования заметны повсюду. Былые запрещения и ограничения скидываются в архив — для истории. Чернышевский в восторге от обилия либеральных мер и не скрывает этого; Герцен публично призывает молодого монарха дать свободу слова русским гражданам и, наконец, покончить с позором крепостничества, что почти в ответ на его слова и сбывается. Крестьянская реформа (19 февраля 1861 года) если потом — в экономическом смысле — и была дискредитирована, то в духовном, нравственном не могла утратить своего значения никогда. Люди перестали считаться и считать себя рабами.
такие стихи посвящали монарху полные надежд подданные.
Появилась общественная жизнь в её европейском понимании: множество журналов различных направлений, возможность действовать, высказываться и быть выслушанными получили все. «Русская беседа», «День» говорят на языке «московских мечтателей» — славянофилов. «Отечественные записки» и «Современник» высказывают демократические суждения и дают слово и «нигилистам», вызревшим в лоне новой свободы, — многие возбуждали их ненависть, но лютую — сам реформатор. Свободу, дарованную им, они в конце концов истолковали как право его убить. В 1864-м — подавление Польского восстания. Современники не ответили восторженными стихами. Им легко, современникам: «Ты, царь, думай да делай, а мы тебя судить будем». А нигилисты приготовили пули. Виновников покушений, конечно, наказывали, но как-то робко, со стыдом, без смака. А уж родственников, даже ближних, не привлекали; так, иногда, предложат сменить фамилию, чтобы сограждане не заклевали, и всё. Засулич стреляла в Трепова. Её вовсе оправдали — неслыханно! Царь отвечал соблюдением законности, как и положено в европейском государстве. Начали просветителями, кончили убийцами. И это — их путь. А путь реформатора — это путь законов. Разобравшись с польскими делами, он принялся за другие, и каждое из них на целый шаг приближало Россию к общемировой цивилизации. 1 января 1864 года — устройство земских учреждений (а отсюда и те самые, составившие славу России, и земские врачи, и учителя, и духовенство, не наскоком просвещавшие народ с помощью скороспелых брошюрок, а связавшие с народом свою жизнь). 20 ноября 1864 года — введение судебных уставов (появление судов присяжных, позволивших массе людей устремить свою энергию на благо законов и справедливости в государстве). 16—18 июня 1870 года — новое городовое положение. 1 января 1874 года — отмена рекрутства и введение всеобщей воинской повинности, включая и граждан еврейской национальности. 19 февраля 1878 года — победа в русско-турецкой войне и заключение Сан-Стефанского договора, по которому Сербия делается самостоятельным королевством, Болгария — особым княжеством, Босния и Герцеговина — отданы под защиту Австрии. А в целом — конец многовекового османского ига над славянами. 1 марта 1881 года — подписан проект о выборных людях, который, по существу имел все основания, чтобы стать первой русской конституцией. Воистину — от дел своих осудишься, от дел своих оправдаешься! У Зимнего дворца всегда дежурили просители. И когда император выходил в восемь утра на прогулку — выслушивал их и, если видел, что к нему городовые кого-то не пропускают, так гауптвахтой на месяц наказывал. Не было в нём презрения к «маленьким людям».

В последние месяцы пришлось закрыть свободный вход для публики в дворцовый сад. К стыду всей России, царь-освободитель, Великий реформатор, первый дворянин России, стал живой мишенью для одержимых преступников. С 76-го года они забросили всякую пропаганду и даже помощь своим каторжанам, у них не было другой цели, кроме одной — убить русского царя. — Слава Богу, цел. Но вот... — и показал на раненного взрывом мальчика-прохожего, который кричал, катаясь по земле. Лицо у императора было виноватое. Ему предложили тут же отправиться во дворец, не возвращаясь к изуродованной карете, но он пожелал вернуться... Крики: «Давайте его нам, мы его разорвём!..» Ненависть и страх в глазах задержанного, бросившего в лицо: «Ещё слава ли Богу?»... Вторым взрывом были убиты несколько человек, включая метавшего бомбу. Царь же сидел, вжавшись спиной в ограду, лицо его было бледно. Ноги оторвало ниже коленей. И навалилось: участливые лица запоздавших всего на минуту придворных и охраны... толпа зевак, стонущих от возбуждения и любопытства... Всё навалилось и завертелось в однообразном и рвущем тоской душу хороводе. Потом пришла боль. И усталость. И тогда-то большеглазый, ушастый, задумчивый мальчик, читавший Евангелие, думавший о Боге, счастье Отечества и строгавший игрушечные корабли, посиневшими, в запёкшейся крови губами тихо сказал: «Холодно», — «Что?» — жадно наклонились все. «Холодно, — повторил он, глядя в любопытные лица, и откинулся спиною на ограду. — Скорее домой, там — умереть». Всю жизнь между Богом и людьми. Всю жизнь один. И смерть на мгновение показалась желанной. В дороге он дважды спросил конвойного: — Кулебякин, ты ранен? Он всегда всё замечал. Потому что думал о людях, которые его окружают. — Да что я? — ответил, рыдая, Кулебякин, может быть единственный, кто понимал, что произошло. — Вас, государь, жалко! Накануне рождения конституции, которая на следующий день должна была бы быть опубликованной, он был убит. Странное совпадение. Однако почему в России столько странных совпадений? Целили в царя. Целили в Россию, целили в Бога. И не промахнулись. Первый раз Россию расстреляли не в семнадцатом, а в восемьдесят первом. «Погиб без славы, как орёл двуглавый», — говорит народ. Сколько злорадства и горечи в этой поговорке. Нет, он не погиб «без славы», он пал в бою. Если бы Юлия Вревская не лежала уже три года в могиле, она бы пришла проститься с ним. Прошла бы с дежурным проводником в спальню и увидела бы, как «он покоился на низенькой железной кровати; под головой у него была подушка, на которой он постоянно спал: красного сафьяна, набитая сеном и покрытая белой наволочкой; ноги укутаны шинелью, как он любил. Образок на груди. Лоб и руки изранены. В ногах стояло духовенство в светлых ризах. Читали Евангелие». После ранения он прожил один час двадцать минут. Один час двадцать минут — и не стало того, кто неоднократно давал деньги в долг отцу Вревской для спасения чести и кто приблизил ко двору овдовевшую восемнадцатилетнюю Юлию Петровну; дал титул и образование её приёмным детям, а ей возможность блистать в светском обществе, имея статус придворной дамы, а это уже род социальной защиты. На одном этом примере ничем не примечательной особы, какой, безусловно, и была Вревская в те годы, уже можно судить об императоре и его отношении к своим подданным. Да, у неё было много поводов быть благодарной и обиженной, но она бы искренне плакала и жалела его, так как любила царскую семью, и эта любовь не считалась с мелочными обидами. Уже в госпитале, во время войны, она никогда не поддерживала ёрнических разговоров о царе. Скорее всего, она была классической монархисткой с либеральным уклоном и, переписывая для Тургенева процессы нигилистов, жалела тех за слепоту по-христиански. Александр II, может быть, лучшее из того, что дала Романовская династия. В Европе мало найдётся столиц, где не стоял бы ему памятник. Никогда ещё Россия не знала такого созвездия гениев — от естественных наук до музыки, живописи и литературы, предпринимателей, издателей, меценатов с изысканным вкусом. Это время вершинных достижений во всём и у всех. Славянофилы и западники, монахи и праведники. Земские учителя и врачи, полководцы и земледельцы. Целая новая генерация людей — аристократов не по крови, а по духу. А доставалось ему от новой генерации — уж они его и склоняли, благо он дал им на это право: и освобождение крестьян — не то и не так, и остальные реформы — мало, и с русско-турецкой войной тянет — трус, врёт, что ему русская кровь дорога — зря Каракозов промахнулся, а ввязался — опять-таки кровопиец, солдафон, завоеватель. А нигилисты? Они что, хотели, чтобы он с ними на баррикады полез? И глаза у него сделались под конец как у зверя, которого травят (по наблюдению Толстого), молчал, стеснялся признаться, что страшно, — ведь первый дворянин России. Конечно, символ, но в отличие от символа — уязвим, его можно убить. Выходило — по газетам и брошюркам, — что плохо делал царь своё дело, плохо правил страной. А профессионализм, как известно, важен везде и во всём. Настоящий крестьянин, портной, да и чиновник при любом режиме нужный человек. Вот Желябов и свора чувствовали в себе этот минус, тут же сами и причислили себя к профессионалам: профессиональные революционеры, хотя скорее плохие пиротехники и убийцы. Должность ли царствование? Может, в современном понимании, например, президент — да, должность, но царь — неисчерпаемо больше. Это фигура не политическая и профессиональная, не символическая и представительская — это фигура нравственная. Не случайно Толстой обратился к сыну убитого отца с просьбой помиловать убийц, а Владимир Соловьёв выступил с публичной лекцией перед студентами. Нравственный дух эпохи убитого царя дал им это право. К нигилистам они не обращались — не убивать: те публика невменяемая. Также эта эпоха дала право светской даме пойти и умереть на войне. Всегда было добро истинное и добро ложное (то есть зло во имя добра). И каждое имело свои примеры. Столкнулись они на фигуре царя. Его трагическая судьба есть вечное столкновение замысла Божьего с неразумными детьми. Эпоха Александра II — эпоха, в которой началось отмирание привилегий сословных, эпоха, когда стал формироваться класс новых аристократов, имевших одну привилегию, вне сословных границ — привилегию духа. И конечно же эта эпоха духа не могла быть видна современникам изнутри, потому что они Вревскую с её кротким подвижничеством и проглядели. Современникам не дано верно оценить себя.
«КРОВЬ — ЛЮБОВЬ»
(Отступление от темы №3)
В библиотеке я заказывала не только книги, но и рукописи. Вместе с запахом старых бумаг приходил и оживал век минувший. Тоненькая тетрадь, на которой старательно было выведено: «Болотина Анисья Давыдовна». И пониже: «Жизнь (записки) — воспоминания в 2-х частях». Этой рукописи я не заказывала, но ничего случайного не бывает, и я решила прочесть эту тетрадку... Это были записки бывшей нигилистки, которая за свои юношескиепроделки успела «посетить» Сибирь, потом по амнистии освободилась, вернулась домой в Петербург, училась в академии, обзавелась семьёй и детьми, но молодость такой занозой, видно, засела в душе Анисьи Давыдовны Болотиной, что она решила описать её. Вот молодая девушка из хорошей семьи, умная, в меру образованная, как её могли не коснуться мысли о всеобщем счастье народа? Стала революционеркой. Сочиняла листовки, конспирировалась до одури, рифмовала «кровь — любовь», мечтала о тюрьме, мечтала страдать за народ. Вот её слова: «Я столько раз репетировала, как буду вести себя на допросах, что жила без страха. Ждала тюрьмы как блага. Меня будут пытать, рвать ногти, а я ничего не скажу...» Ну как ей теперь объяснишь, что жила она без страха не потому, что всё отрепетировала (как можно репетировать вырывание ногтей?), а потому, что все они тогда были абсолютно непугаными, больше бегали из тюрем, чем сидели в них; политика, власть была ещё лояльна, не размежевалась окончательно с нравственностью, вот и ждали они тюрьмы как блага, как новых впечатлений, не больше. Посадили её в тюрьму, но вместо вырывания ногтей она вволю надерзила начальнику Бутырки, который под конец беседы смущённо заметил арестантке: «Вы надо мной, барышня, смеётесь, а я человек простой, необразованный. Да и старик». И сам проводил в чистенькую, аккуратную одиночку. Умывальник, стол, стул, кровать, газовый рожок. Ежедневные прогулки с игрой в мяч для барышень. Это не я выдумываю тюремную обстановку — это она описывает её так. И ещё свой стыд ночью за хамское обращение со стариком. Дальше отправили её с товарищами по этапу. Ехали на телегах. Якутск. Красноярск. Вилюйск. На ночь выдавали пледы, шерстяные платки, чтобы теплее спалось на нарах. Питались как? За пять копеек полагался молочный поросёнок с картошкой — это на обед, ужинали когда щами, когда кашей. Вечеряли по молодости вместе с казаками, с конвойными: угощения, песни, смех. А однажды одного истерического пропагандиста заковали в кандалы за буйство, так барышни, узнав, тут же попадали в обморок — не смогли на ногах пережить такое посягательство на человеческое достоинство. «Часто, — пишет Анисья Давыдовна, — нет сна, аппетита». Представляете себе заключённого, у которого нет аппетита? А варёные ремни или подмётки не пробовали отведать? с аппетитом? Эх, милая, милая барышня, уберёг вас Господь, сподобил вовремя родиться, не побывали вы в тех лагерях, которые построило то светлое будущее, за которое вы так боролись.

Вера Ивановна Засулич тоже хотела с жизнью на свободе «скорее покончить». Это её слова. Как они рвались в тюрьму, словно им там мёдом мазали. Нет слов, приятно страдать за народ, да ещё почти с комфортом. Решила она убить градоначальника Трепова, того самого, кто помогал Фанни Лир благополучно выбраться из России и чью любезность она не раз отмечала в своих мемуарах. Мало убить, задача у Засулич была посложней. Одна террористическая группа уже выбрала Трепова своей жертвой, и Засулич надо было постараться, чтобы... опередить их. То есть не просто убить, а убить первой. Вот это задача! «Страшной тяжестью легло на душу завтрашнее утро: этот час у градоначальника, когда он вдруг приблизится там вплотную... В удаче я была уверена — всё пройдёт без малейшей зацепинки, совсем не трудно и ничуть не страшно, а всё-таки смертельно тяжело...» Конечно, нелегко убивать человека, который не сделал тебе ничего дурного, близким твоим не сделал, но противоречит какой-то идее, не вписывается в какие-то рамки, живой, конкретный человек — враг твоей идеи — убей его. Засулич хотела выглядеть эффектно, поэтому нарядилась по случаю в новое платье и тальму. После выстрела впала в оцепенение, близкое к безумию, ей всё виделась какая-то лестница, которой не было, и на следующий день в газетах написали: «На преступницу напал столбняк». Нелегко, значит, всё-таки убить человека. Поразительно и почти невероятно, но мечта Засулич не сбылась. Её даже не посадили в тюрьму. Спасла её судебная реформа Александра II, которая ввела абсолютные полномочия для суда присяжных. Суд присяжных оправдал Веру Ивановну, и она в тот же день отбыла за границу. Интеллигенция сочла ниже своего достоинства сочувствовать градоначальнику, друзья Засулич на радостях принялись готовить очередное покушение на государя, а раненого Трепова навестил только Александр II, как писали в демократической прессе, «нарочито выразив своё монаршее соболезнование». Надо сказать, что Засулич стала ярой противницей индивидуального террора, а Октябрьской революции вовсе не поняла и отошла от дел. Забавно, что современники считали, что она не пишет воспоминаний о покушении на Трепова из скромности. Возможно же, что ей просто было стыдно писать об этом. Популярностью нигилисты не пользовались. Пятьдесят лет бросали свои бомбы, но ничего, кроме омерзения, вызвать к себе не сумели. Как пишет Бердяев, хотели утверждать идеи свободы, братства и любви, но в отрыве от христианства, и одним этим вливали в движение такой яд, который отравил на корню и все результаты. Тургенев и Лесков с их тонким юмором оставили потомкам настоящие «похождения нигилистов», где те постоянно переодевались, как в маскараде, заучивали простецкие слова, приучались пить водку, от которой их неуклонно рвало, чтобы агитировать в кабаках, ведь все остальные в иоле — на работе; писали письма то кровью, то сажей, то навозом, то молоком; говорили девушкам: «люби не меня, но идею», но всё же смертельно влюблялись; вступали для дела в фиктивные браки, которые становились настоящими; а в результате всей этой нелёгкой жизни их вёл в участок тот же мужик, за которого решили пойти на смерть. Но вряд ли будет грехом перед истиной сказать, что каждое поколение одинаково в своих духовных устремлениях. Все хотят добра и правды. А уж какими средствами эта правда утверждается... Так что нигилизм — скорее трагедия поколения. И не одного.
ОКО ДЬЯВОЛА
«1847 г. Московское общество сельского хозяйства и Комитет сахароваров имели заседание в воспоминание столетия с открытия Маркграфом кристаллизирующего сахара в свекловице».(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
«1875 г. В день своего рождения заигрался я в «ералаш» по полкопейки, играл до двух ночи и всё проиграл. Случай этот мне, старику, был научением, что в такой день «в карты не играй, а Богу молись да больных навещай!».(На этом записи коллежского асессораК. В. Пупарева обрываются)
От Вас, Юлия Петровна, осталось несколько писем, фотография да переписанные письма с фронта, письма Тургенева к Вам. Кое-что стало известно про Вашего батюшку, мужа, некоторых близких Вам людей, среди которых Вы мелькнёте прозрачной тенью, и снова Вас нет. Стоишь в библиотеке среди огромных стеллажей, как в дремучем лесу. Сколько томов! Монументальные, в тяжёлых переплётах, однозначные своей почтенностью, как будто их авторам неведомы сомнения. Было ли всё это так серьёзно в жизни, как в библиотеке, где хочется только благоговеть? Благоговели ли Вы перед авторами? Вряд ли. Для Вас — это живые люди, которых Вы могли встретить в свете, на водах; живые люди со смешными и грустными чертами. Вы ещё резвились на лужайках старицкого имения, а революционеры-демократы уже обращались к народу, уже искали пути для спасения России — бедная Россия, её всегда надо было спасать?! Пылкий Белинский матерно клял Христа перед молодым Достоевским и сам умилялся тому, какое лицо делалось у юноши, «точно заплакать хочет». Нашёлся в этом споре и тот, кто вступился за Царя Небесного: «Да теперь бы Христос пошёл бы с нами!» — «Ну да, — обрадовался Белинский, — с нами, с социалистами». А иногда неистовый Виссарион закатывал глаза и кричал: «Социальность, социальность — или смерть! Люди так глупы, что их насильно нужно вести к счастью». И о народе кое-что: мол, не в парламент бы пошёл русский народ, а в кабак побежал, пить вино и вешать дворян. Словом, каким настроение было, таким народ у Белинского и выходил. Гегеля знал в пересказах Бакунина и перед смертью, харкая кровью, говорил: «Будем нацией рабов, если не переварим эту немецкую философию». А в те годы её ещё не переваривали, её ещё примеряли, как заморский костюм. «Не хочу жить на свете, если не найду счастья в Гегеле!» — восклицал Станкевич, и это звучало примерно, как «не хочу жить на свете, если этот сюртук мне не подойдёт»[13]. Детство свободы, начальная школа, где перемены любили больше, чем уроки. Время шалостей, необязательных рассуждений, нахватываний, застольных споров за бутылкой доброго вина, время игр, каламбуров и всё-таки время идей, многие из которых стоили кому славы, кому рассудка, кому каторги, кому чахотки, а кому и того и другого.

И всё-таки — прежде просветить, а потом действовать. Просветительские идеи добирались, доносились в благодушную гостеприимную провинцию. Вот и Вас, Юлия Петровна, забрали и повезли учиться в Смольный в соответствии с идеями века. Страшно Вам было? Думали Вы о пользе? Вот когда и видна разница: одному — что-нибудь для пользы придумать, а другому — оторвут от мамы и кукол и к чужим людям, к молчаливым обидам и слезам в подушку. Спросите-ка его в тот момент, что он об идее думает? Из голубого класса Вы перешли в кофейный, повзрослели, примирились с судьбой и пользой и теперь старательно молились и старательно учились, а где-то на соседних улицах, в ресторанах под застольный звон сходились, собирались, спорили. — Посмотрите на себя, разве вы русские? — вопрошал К. Аксаков. — У вас на ногах смазанные сапоги, а сверху французский жилет, вот и вся ваша национальность. — А батюшка Аксаков оделся до того по-русски, что его на улице принимают за персиянина, — острил Чаадаев. — Что, не хотите мирно лежать в гробу? — спрашивали одни. — Упьюсь ли я кровью мадьяров и немцев, а? — задорно подзуживали в ответ другие. Фужеры летели на пол, серебряная вилочка на фарфоровую тарелочку, а огурчик в рассольчик, и они возмущённо расходились по домам, чтобы вскоре снова захотеть мириться. ...Славянофилы. Золотая молодёжь. У каждого впереди карьера, выбор поприща. Связи со двором, возможность влиять... Будущие идеологи Великой крестьянской реформы, видевшие красоту в древнем славянстве, верившие в общину и чтущие православие... ...Западники. Не менее золотая молодёжь, нашедшая красоту в развалинах Колизея, считавшая, что рано или поздно России придётся повторить западный путь, ибо иного прогресса быть не может... И те и другие ездили обучаться в Берлинский университет, и те и другие любили Россию, «одни как мать, другие как дитя», и те и другие шли от красоты и гармонии... И как бы красиво плыл дальше их корабль под флагом «двуликого Януса», когда бы не перекренило его во время шторма. Моряки знают: самое страшное — попасть в центр тайфуна («око дьявола»). На какой из бортов легло больше идей о всеобщем счастье народа? И что это такое — всеобщее счастье? «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Как бороться с этим искушением, одним из первых понял Владимир Соловьёв: как подойдёт к тебе бес о всеобщем счастье толковать, как ты ему сразу: чур меня, чур, отойди. Знаю я, чем это всеобщее счастье оборачивается: вначале коварство и ложь (для добывания земной власти, чтобы всех потом к счастью вести), убийство и насилие — в конце. А потом заткнуть уши и осенить себя крестом. Отойдёт. И всё-таки тогда, в сороковые — пятидесятые, больше говорили, чем делали. И сами над собой подтрунивали. Едет молодой Фет в гости к Тургеневу в Спасское (и Вы там, Юлия Петровна, бывали), а тот возьми по дороге да и обругай встретившегося мужика последними словами. Фет рот разинул и смотрит на певца «хорей и калинычей», а тот усмехается только и объясняет ему по-французски: делай, как я говорю, но не делай, как я делаю. Вот уж кто и тогда понимал разницу между идеей и живой жизнью. Надо сказать, что Фет послушался совета Тургенева и был отменным хозяином в отличие от Ивана Сергеевича. И если ругал мужиков, то не за то, что холмик некрасиво нарыт у дороги, а за дело. Случалось, кто-нибудь терял идею, и все принимались шарить, а когда находили... это была уже другая идея. Что ж делать? Бывает. Брались за неё. Так и перетекала идея из одного в другое и обратно в себя. Да, Юлия Петровна, когда Вы закончили Смольный, идеи уже не имели над Вами большой власти, а лишь овевали Ваше юное личико, лишь были разлиты в воздухе, которым Вы дышали. А воздух тогда был чистый. Слегка, очень слегка Вы чувствовали их аромат и в воздухе Кавказа. Может быть, супруг рассказывал о забияке-поручике с грустными глазами Лермонтове. У вас была одна общая дата: год смерти поэта и год Вашего рождения. Офицерские разговоры за столом? Интересно, готовится какая-то реформа? Отпустят крестьян? «Да помилуйте, — наверное, говорил ваш муж, покусывая короткий чубук, с которым не расставался, — да они пропадут тут же, пьянствовать побегут. Нонсенс, господа». И от волнения прямо за столом впадал в спячку или шёл выдирать кому-нибудь зуб, и кто-то, держась за щёку, поспешно скрывался в задней комнате, заслышав шаги командора. А потом, когда Шамиль три дня «гулял» на поминках Вашего мужа, Вы стали матерью взрослых детей с черкесской кровью. Ваши наставницы из Смольного были бы довольны — дождалась применения та самая идея, по которой из Вас воспитали мать с младенческих лет. Вы сделали для этих детей всё, что считали должным.

А дальше... Дальше идеи перестают быть ветерком, необязательным и приятным упражнением для ума и остроумия. Они поднялись из-за столов и вышли из гостиниц на улицу, на газетные и журнальные полосы. Наступило время работы. Сбывались слова Филарета: навстречу всем этим людям с их идеями и желанием действовать пришёл царь с целым рядом реформ, которые, как по волшебству, отражали их чаяния и мысли... И общество на миг захлебнулось от восторга. Отменена цензура (как раз для пикировщиков и острословов); введены местное самоуправление (земства — поприще для самых славных и незаметных); суд присяжных — надежда на справедливость, но это всё потом, потом, а прежде грянула Великая крестьянская реформа 1861 года. Не знаю, как всё остальное, а уж это не могло не коснуться Вас лично, Юлия Петровна, ведь были же у Вас души, доход? Всё это надо было осмыслить, списаться с управляющим, роднёй, а может, и поехать, справиться на месте, а для этого отпроситься от двора, ведь год крестьянской реформы — ещё только начало Вашей петербургской жизни. Нет сведений, как Вам всё это удалось устроить, но, наверное, устроилось неплохо, имения продолжали приносить доход, а Вы с императрицей путешествовали по всему миру. Конечно, если у Вас всё получилось довольно быстро и легко, то могло показаться, что и на самом деле не произошло ничего особенного, а между тем с этой реформой «...и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность», — так писал Фёдор Михайлович Достоевский. Но, как бы там ни было, Вашу головку вряд ли мучили тревожные раздумья об этой «полнейшей неизвестности». Вы знали не на словах о трудной государевой работе. Вам было двадцать лет, хотелось жить и надеяться на лучшее, и с развитием железных дорог (при Александре II их протяжённость выросла в тридцать раз) в планах императрицы появился настоящий размах, и дальше почти десятилетие Вы провели в приятных разъездах.

Накануне реформы в Петербурге гуляли пожары. Говорили, что поджоги — дело студенческих рук. Молодой журналист Лесков написал об этом заметку, и порядочные люди отныне не подавали ему при встрече руки. Из этого следовало, что не всякая правда уместна во времена свободы: разве можно ругать передовое студенчество — это уж вы того, сморозили, мягко выражаясь. Ругать всегда должно только правительство и императора, чем, кстати, сразу после реформы и занялись с большим подъёмом. Руки Лескову так и не подавали (есть у них, у порядочных, уговор — как поступать, а кто так не поступает, тот непорядочный). В 1862 году Тургенев напечатал «Отцы и дети». В России впервые прозвучало слово «нигилист». Но и это вначале показалось ещё одной краской в палитре свободы. Несколько лет спустя раздались первые выстрелы. Вряд ли Вы, Юлия Петровна, читали брошюрки, которые аргументировали эту «охоту», да и реакция Ваша представляется довольно однозначной. В это же время наливается спелостью идея народа, народного счастья. Идеи всех направлений стягиваются в гордиев узел. И узел этот — народ. Дворяне начинают стыдиться и происхождения, и образования, и состояний. Боже, где, кроме России, встретишь аристократа, винящегося перед босяком? Немногие разночинцы «идут в народ», чтобы не на словах разделить его тяготы и лишения, пашут землю, как простые мужики, тачают сапоги, лечат и образовывают, а не пропагандируют; пресса полемизирует, как и куда направить российский корабль, хотя он уже плывёт усилиями первых, немногих; нигилисты в дыму и сере, как в аду, поют песни с рифмой «кровь — любовь», и всё то же о народных страданиях — и все они вместе создают живучую химеру под названием «народ». И в зависимости от того, что им нужно в данный момент, они этим «народом» и крутят. Для его же счастья. Типично российский грех — искать путь для всех, а не для себя. И говорить, что ни в чём нет результата. А результат-то был утех, кто не звал к топору, подобно Чернышевскому, не воплощал и холил идею, а использовал собственную энергию и ум сообразно обстоятельствам. Но их-то тихий подвиг современники тоже проглядели, как и Вас, Юлия Петровна, потому что истинное добро неприметно на вид. А народ жил сам по себе. Вспомните, Юлия Петровна, хотя бы мужиков в имении или девушку, служащую при доме. Народ себе живёт — нипочёмствует, и девизом его во все времена было: авось проживём! При любой власти, с любыми замашками и норовом, сами по себе. Ещё Пушкин говорил, что рабство-то в России есть, а рабов никогда не было. Достаточно на походку мужицкую взглянуть! Как в русской сказке: «Куда, добрый человек, путь держишь?» — Куда иду, про го сам знаю! И уж всем известно, когда «неохота» русскому человеку работать неизвестно на кого, то он и не будет и доведёт страну до полной разрухи. Пропьёт и разворует. Так что «виновник торжества» не больно за барские усилия радел, не больно за шкирку тащился к счастью, а, бывало, и сам за шкирку пропагандиста в участок отводил — мешает работать, зудит, как комар, а покос на дворе. Главной идеей интеллигенции эпохи великих реформ стала идея народная. Лев Толстой в «Войне и мире» так и говорил: «Моя любимая идея в романе — народная». «Нужно верить не в народную веру, а в сами божественные предметы», — предостерегал В. Соловьёв, но так заразительно было верить в «народную веру», так упоительно думать о всеобщем счастье, что когда столкнутся вдруг не с идеей, а с самым что ни на есть представителем этой породы — «нипочёмствующим хитрованом», то прямо отчаяние и изумление брало: до чего же наш народ неправдоподобен. «...Однако же народ для нас всех всё ещё теория и продолжает стоять загадкой», — грустно констатировал Достоевский. Вот Вы мелькнули девочкой, резвящейся в простеньком платьице на лужайке около дома в Старице, отучились в кофейном классе Смольного, оплакали мужа на Кавказе; с грустным и тяжёлым чувством приехали в карете ко двору. Вы были, были, во всём чувствовалось Ваше неуловимое присутствие, а потом взяли и исчезли, истаяли, как солнечный луч, как тень, и нет Вас. А шестидесятые заканчиваются: вместе с выстрелом Каракозова канули в бездну кринолины; затерялся и пропал по кабакам, чтобы содрать ненавистное «направление»[14], русский крестьянин Осип Комиссаров, толкнувший под руку злодея во время покушения на царя и за это наряженный дворянином; подходит к концу последнее путешествие Ваше с императрицей...

В начале семидесятых, когда Достоевский в «Бесах» описывал Россию Ставрогиных, Лебядкиных, Верховенских, Вас, наверное, больше волновали семейные заботы: неудачное замужество сестры обернулось трагической гибелью приёмного сына. Стараясь устроить всё как лучше и благословив этот брак, Вы, Юлия Петровна, сделали несчастными двоих близких людей — и к этому примешивалась тревога от холодности императрицы, предчувствие опалы, но и во всём этом Вы, вероятно, винили только себя. И когда отлучение произошло, когда даже молиться в дворцовой церкви для Вас стало невозможным, наверное, тяжесть этой перемены всей судьбы немного облегчили такие прозаические вещи, как сборы в путь и сама дорога — убаюкивающий стук колёс, тихий русский пейзаж за квадратным окошком, занавесочка с лёгким налётом копоти по шву; впереди новая жизнь, провинция, одиночество, так бы ехать и ехать до конца, не зная, когда остановка. В деревне (скорее всего, это было имение Мишкино Орловской губернии) надо было устроиться: привести в жилой вид комнаты, снять пыль и паутину, что-то докупить для уюта и приучить дворню к привычкам барыни[15]. Интересно, какая Вы — утренняя или вечерняя? И что любили больше: ясное деревенское утро с росой после лёгкого тумана, с щебетом птиц и восходом солнца или медленные, гасящие все дневные краски, задумчивые русские закаты? Отчего-то кажется, что Вы — человек вечерний. Каким далёким, нереальным Вам показался отсюда Петербург с его балами, приёмами, новостями, и как странно, должно быть, было в этой тишине и одиночестве впервые за много лет остаться с собой наедине, заглянуть в себя... Что Вы там обнаружили? От одиночества и растерянности вы вдруг так по-деревенски заинтересовались: кто у вас соседи? Как ведут хозяйство, как рассчитываются с мужиками? А тут вдруг выяснилось, что один из них Иван Сергеевич Тургенев, и Вы читали, и Вам нравилось... Вы послали визитную карточку, а он, как всегда, в Париже. Такая вот неудача. От скуки и следуя правилам хорошего тона, Вы, наверное, свели знакомство с уездными деятелями, поучаствовали посильно в каком-нибудь благотворительном мероприятии, может быть, занялись устройством школы или больницы, в общем, встретились с теми же идеями, но в иных, более простых одеждах. Здесь не было блеска и шума — только дело. Врач ездил по вызовам, иногда за сто вёрст в снегопад, учитель учил, а не пропагандировал; прокламации появлялись, но влияния большого не имели. Наверное, Вы с уважением относились к литератору Достоевскому, но зачитывались всё же сентиментальными французскими романами Санд и Гонкуров. А может, Вам нравились трагические сюжеты, — тогда тем приятнее вскоре оказалось Ваше знакомство с ним. Сидели у окошка, листали книгу, а из чащи ближнего леса доносились протяжные голоса девушек, собирающих ягоды. Тихая российская провинция. Вы, наверное, ничего не знали ни о Чижове[16], ни о сосланном профессоре-химике Энгельгардте, которому ссылка, как и почти всякому русскому, неожиданно больше дала, чем отняла. Он узнал, увидел Россию изнутри, был захвачен народной жизнью и сумел занять в ней место хозяина, а не передельщика мира. ...А иногда велели закладывать и ехали в Орёл по пыльной узкой дороге с лиловой от клевера обочиной — в дворянское собрание; провинциальные львицы примеряли первые турнюры — и здесь снова чувствовали на своём лице будоражащий холодок идей. В провинции идеи никогда не доходили до своей крайности, словно природа уравновешивала их с жизнью. А столицы бурлили. Становился заметным явлением материализм[17]. Зажглась первая электрическая лампочка, и какой-то доброхот перевёл сочинения господина Маркса под названием «Капитал», где впервые сказано о том, что человек — это животное, хоть и экономическое. А животное, как известно, нужно пасти, стричь, а в срок отправить и на бойню. Но русская публицистика события этого как бы не заметила, а о том, что человек — животное, говорили, конечно, но как-то без ужаса и явного протеста, так, на уровне утончённого спора. Одни говорили, что всё-таки не совсем животное, другие соглашались, да, не совсем, но всё-таки и не тот человек, который нужен, — не идеальный, словом, — а тут и до бойни недалеко. Идеи, как и люди, рождаются, резвятся, взрослеют, мужают, стареют и умирают. Семидесятые годы — годы зрелых идей, а зрелая идея — она (в отличие от человека) простенькая, доступная, лишённая первоначальной эластичности и многозначности и совсем порвавшая связь с реальной жизнью, породившей её, как будто жизнь ей не мать, а мачеха. Вряд ли, Юлия Петровна, Вы что-нибудь слыхали об Огюсте Конте, выдумавшем позитивизм. К которому, наевшись материализма, как к бочке с мёдом припали и нигилисты, и либеральная интеллигенция. Идеи Конта пришлись как раз вовремя, всё общество только и говорило, что о пользе, и договорились-таки до того, что «сапоги выше Шекспира». Все забыли о Царствии Божием, что внутри нас, и думали только о том, как бы построить его на всей земле или хотя бы для начала в одной России. Отчего Достоевский и восклицал горько: «Все мы — нигилисты». И добавлял, что зря все думают, что зло в человеке на поверхности и его можно смахнуть, как пыль со стола, в любой момент, зло глубже, чем полагают лекаря-социалисты, и ни при каком устройстве общества людям не избежать зла, так как корни его таинственны и глубоки. Так что не может быть ни судей, ни лекарей, а «есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и аз воздам». И всё-таки жизнь в провинции тяжела. Здесь нужно терпение и привычка... И вот уже снова поезд и открытые экипажи... Триумфальная арка на чудовищных лапах, Елисейские поля, густой мрак аллей в Булонском лесу, а надо всем этим бледное электрическое зарево да невнятный гул, вобравший в себя тысячи шагов и звуков, чуть слышное и могучее биение жизни — тяжёлое дыхание Парижа. Париж, над которым вознеслась уже Эйфелева башня; в модных ресторанах подавали розовые устрицы, похожие на крошечные ушки, «Шато-марго» и отплясывали канкан. Ах, Париж, твой воздух отравлен искусствами и любовью, здесь не до идей, так что опять только дым их, смешиваясь с нежными ароматами форели и десертов, щекотал, Юлия Петровна, Ваши тонкие ноздри. В Европе отчего-то хочется читать русские романы. И «Анну Каренину» Вы прочли внимательно. Не знаю, заметили ли Вы, что в художественной литературе акценты смещаются и вырастает иная пропорция идей и реальной жизни. Более человеческая. Там больше нормальной жизни с её радостями и огорчениями, во всяком случае у хороших писателей. Мне кажется, что Вы не могли не чувствовать, что жизнь неизмеримо больше, чем какая угодно идея. Не знаю точно, в Париже ли Вы были, когда того, перед кем Вы преклонялись, буквально отстреливали в России, но могу с горькой уверенностью сказать Вам, что общество к этим выстрелам было уже подготовлено: поиском путей, желанием добра народу — любимой народной идеей, полемикой профессоров, материализмом и позитивизмом, потому что весь этот ряд каким-то образом, каким-то краешком допускал в себя и эту мысль. И общество всерьёз принялось обсуждать, полезно или нет убийство царя (перед войной, в 1877 году, прямо говорили, что царь у нас — трус и зря Каракозов промахнулся). Так что мысль эта допускалась, а Вы конечно же знаете, что в России и недодуманная мысль может превратиться в дело. Вызревал также и ещё один исторический вопрос, целиком основанный на пользе, — право на революцию.
Вот именно так современники на этот вопрос и отвечали. Что именно — неизвестно даже им, но ведь «надо что-нибудь да сделать». А вопрос о революции — вопрос серьёзный. Нравственный. Так как это вопрос: кому жить, а кому умереть?! Правда, известно, что Нечаев — приходский учитель, создатель «Общества топора» — вообще делил всё человечество на группы, и три из них подлежали безоговорочному истреблению, как жизненепригодные. Вольно ж ему было почитать себя Высшим Судьёй! Однако, говорят, он обладал прямо-таки гипнотическими свойствами и во всех крепостях, где сидел, делал стражников полными рабами себе. Так что сверхчеловеческое в нём, видно, было, да не с тем знаком. Говорят, что было даже что-то привлекательное. Возможно, изощрённый порок всегда заманчивее скучной добродетели. Интересно, что он прислал из крепости письмо Перовской и Желябову, где в скромной и полной достоинства форме излагал своё предложение: если он им нужен, не согласятся ли они устроить ему побег? Тут же и прибавлял, что стража полностью подчинена ему. Молодые нигилисты не бросились на выручку, а стали, руководствуясь учением Нечаева, прикидывать, полезен ли он и своевременно ли спасать его, когда на носу убийство царя[18]?! И решили, что прикончить царя важнее. Нечаев остался в крепости. Он должен был бы испытывать полное удовлетворение, что учение так хорошо прижилось, хотя думается, что рассчитывал на другое. На человеческие слабости вроде сострадания и прочей ерунды. В середине семидесятых Вы, Юлия Петровна, снова возвратились в Петербург, пожив достаточно в деревне и за границей. Все эти стремительные передвижения выдают в Вас человека деятельного, нетерпеливого и совершенно свободного. Никакой долг, кроме собственного желания жить в том или ином месте, Вас не обременяет. Наверное, негусто с деньгами, но одной прожить не так сложно?! Вы наняли у грека десять комнат в бельэтаже дома на Литейной, 27 (частым гостем здесь сделался Иван Сергеевич Тургенев). Столицу лихорадило. Газеты гудели, как раскалённый самовар, чуть ли не распаиваясь по швам, и разбрызгивали кипяток новостей. Этот кипяток обжёг, наверное, и Ваше сердце. Сербия волновалась, турки резали болгар, те простирали руки к России. Говорили о массовом истреблении славян, о прекращении одной из славянских наций. И вдруг сошлись былые спорщики и порешили — быть войне. Славянофилы — с плохо скрываемым торжеством, западники — с гордостью оттого, что им дороги не амбиции, а истина. Помимо истины и те и другие переживали «синдром» Крымской войны, и теперь, когда армия была реорганизована, им не терпелось всем поколением испытать славу победы. «Война — то, что даст нам самоуважение». Появились и первые герои. Волонтёр, отставной генерал Черняев, положивший перед войной две тысячи молодых отборных дворянских жизней и объяснявший по-простому, что «мы идём не отличаться, а умирать». В каком бешенстве был император, когда узнал об этой авантюре, можно судить по тому, что он собирался лишить генерала Черняева боевых орденов. А Достоевский пишет: «...Они славят русское имя в Европе и кровью своей единят нас с братьями. Эта геройски пролитая их кровь не забудется и зачтётся. Нет, это не авантюристы: они начинают новую эпоху сознательно. Эти пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европой». Подкладка на крови, идеи, воля, братство. Не только нигилизм и либерально настроенное западничество, но и панславизм (после этой цитаты можно сказать с уверенностью) несли в себе зародыш мировой революции и все вместе проложили дорогу «юному Октябрю». Мучительно Россия искала свои формы, но так и не нашла[19]. И о Черняеве: «...Военный талант его бесспорен (да никто и не собирался спорить — всё общество в экстазе, нигилисты заняты «химическими опытами», царя никто не слушает. — М. К.), а характером своим и высоким порывом души он, без сомнений, стоит на высоте русских стремлений...» Вот готов новый святой — Черняев. За ним так и шли. В. Соловьёв говорил, что в России, как на беду, больше святых, чем нормальных, честных людей. Революционеров тоже долго почитали в святости, первыми разочаровались жандармы — слишком много «святых» было в списках агентов. Царю дорога была русская кровь, а он понимал, что прольётся её немало, да и Россия не готова была к войне: финансовые затруднения, незаконченная реорганизация армии. Поражение могло отбросить страну далеко назад в экономическом и политическом плане; а для нигилистов — зачин маловат. Им бы от царизма весь мир освободить, а тут ещё помрёшь до сроку от турецкой пули... Да, но в результате война была, тяжёлая, страшная, со славной победой, и Вы, Юлия Петровна, на этой войне погибли. Так что идеи имели, конечно, на Вас влияние, и немалое. Снова подхватило Вас ураганом, как в детстве, и унесло... в легенду. Но всё-таки чувствую: выбирали вы их не умом, а сердцем, оттого и оказались в Болгарии с ранеными солдатами, оттого и народ узнали не по книжкам. А встретившись, не завопили, что он неправдоподобный, а приняли таким, какой есть, и полюбили в мучениях, язвах и гное. Что же такое История? Она есть не прошлое и также — не будущее. Она — длящееся Сейчас. Все века, дни истории присутствуют в каждом мгновении, которое катится, катится... Только Сейчас всё и происходит — возникает проблема, и тем самым принимается решение; момент преступления становится моментом наказания. Вы, Юлия Петровна, за завтраком думаете: «Пожалуй, пойду», — и становитесь легендой.
ПОРТРЕТ Ю. П. ВРЕВСКОЙ РАБОТЫ И. С. ТУРГЕНЕВА
Переписка длилась четыре года. Сорок восемь писем и пять встреч. Может быть, это не все письма и не все встречи, кто знает? Что проку говорить о том, чего нет, лучше поблагодарим судьбу за то, что адресатом Юлии Петровны оказался Иван Сергеевич Тургенев, и может быть, благодаря этому письма сохранились. Ещё одна возможность приблизиться к Юлии Петровне, узнать её привычки и характер, вглядеться в её таинственные черты.
1873
Они в Париже, они недавно познакомились. Юлия Петровна рада этому, Тургенев вызывает её интерес: дважды приглашала она его к себе, но он уклонялся от любопытства светской дамы. Он — баловень женщин, он устал от них. Ему пятьдесят пять лет. В приглашение она вложила возможность отказа и заранее извинила его, так что господину Тургеневу осталось только взять перо и обронить: «Оказывается, что Вы правы, любезнейшая...» — пусть барынька там позлится или поскучает. Разве что после охоты «...явлюсь к Вам, и тогда, надеюсь, нам удастся пообедать вместе». Ан не на ту напал — не удалось. У них и потом часто так бывало: Тургенев никогда не приходил ко времени, указанному в приглашении; «заходил вчера» и... не застал дома. Но вовсе не обязательно, что и Юлии Петровны дома в тот момент не было — что ж плясать под дудку старого бонвивана, хоть он и просит постоянно «верить искренности чувств»? Она искушённый человек (бывшая придворная дама), ей ли не знать, чего эти «чувства» стоят? С первых её осторожных слов, с первого приглашения Тургенев властно и бесцеремонно предлагает свой стиль и даже «график» общения. Не терпит он инициативы, исходящей не от него, и сразу хочет всё переиначить. По существу же он настаивал на нарушении этикета, предлагал сразу выйти за его пределы. А за пределами, как известно, простор и непредсказуемая неизвестность — так что растерянная «путешественница» полностью во власти «гида». Он — хозяин положения, ему и карты в руки. Игра пойдёт по его правилам. А потом «примите выражение искренних чувств» — и в этом выражении и искренние чувства, и лёгкая ирония, и то и другое вместе.

Так они и не встретились в тот год. Потерпев неудачу, Иван Сергеевич мог бы позабыть деликатную «упрямицу» — ведь он расставлял обычные силки на хорошенькую «перепёлку», ничем не выделяя её изо всех остальных; птичка могла попасться в сети, могла и нет — дело житейское. Но он не забыл Юлию Петровну. Трудно сказать, что именно сразило его. Быть может, он интуитивно обнаружил редкое сочетание доброты и гордости и ещё сам не осознавал, что впервые в жизни встретил свою героиню. Ещё не написанную, не литературную — живую. И если бы удалось подобрать ключ к её душе, понять и разгадать её, какой свежий и притягательный литературный персонаж мог бы сойти из жизни на чистые страницы. Да, Иван Сергеевич, за целый год бурной парижской жизни Вы не забыли госпожу Вревскую.
1874
Из Парижа Тургенев собирается в Петербург и пишет после долгого перерыва Юлии Петровне. В первом же письме полный набор уловок опытного ловеласа: и кокетство старостью, и намёк на свои грехи (по женской части, разумеется), и властный приказ не уезжать из Петербурга, не повидавшись с ним. И туманные рассуждения о чувстве «несколько странном, но искреннем и хорошем, которое я питаю к Вам...». И приглашение в сообщники: «...Вы это всё лучше меня знаете». И, само собой, разговоры о творчестве, просьбы почитать и сказать своё мнение — какая женщина не растает, если известный писатель признает её равной по уму, да ещё и поинтересуется её мнением, будто так оно ему важно! И после этих громких, властных и умных слов — вдруг: «Итак, до свидания — слышите?» — тихий вопрос, почти шёпот, одними губами на ухо: слышите? — это только для двоих. И что же? В Петербурге он её не застал. Ехал завоевателем, а воевать не с кем. Как говорится, не сражающийся — непобедим, и Иван Сергеевич неожиданно для себя расстроился, что не он хозяин отношениям, и попытался скрыть горечь невстречи за привычной иронией и делами. Да, сразу появляется очень много дел, прямо столько, будто все вообще дела на свете взялся переделать именно Тургенев. Два или три последующих письма наполнены этими «делами» до отказа, так что там больше и нет ничего, если не считать подробного адреса Спасского-Лутовинова и отчаянной приписки: «Не смею больше ничего прибавлять...». Но она не едет. И только радушно и простодушно продолжает приглашать к себе. Что за этим? Почему она делает вид, что не понимает, чего он хочет? Надо полагать, для неё не составило труда разгадать эти приёмы «профессионального» влюблённого. Но у неё как будто есть искреннее чувство к нему, так же как и у него к ней. И она не торопясь подбирает стиль отношений. В отчаянии Тургенев припугнул даже расставанием, зная, что дорог ей. Расчёт был в общем-то верный (ужас жизни без такого заметного кавалера по идее должен был образумить любую женщину), но не для Юлии Петровны. Она только простодушно спросила: за что бы он так на неё рассердился? И снова позвала в гости. И всё-таки он нашёл её слабое место. Смиренно написал о припадке подагры, да сильном, — вот она и примчалась в Спасское. Сигнал о чужом несчастье вызвал у неё однозначную реакцию, вопреки соображениям рассудка. Приехала и прожила у него в имении пять дней. Потом больше уже так не делала. После её отъезда из Спасского Тургенев рассыпался «в душевных спасибо», заверял в «искренней дружбе» и пропадает надолго, хотя «теперь всегда нужно будет знать, где Вы и что с Вами». И он и она много ездят. Письма запаздывают, а часто и не застают адресатов. Каждый из них нетерпелив и как будто свободен. Они везде соседи: в Париже, в Петербурге, в Орловской губернии. Она, видимо, пишет ему чаще. Он иногда оставляет письма без ответа: когда нарочно, когда нет, и она прощает ему это и только просит «гладить иногда её по головке» своими посланиями. А ведь она гордячка! Значит, Тургенев пробудил в ней что-то большее, чем просто светскую необходимость поддерживать завязавшуюся переписку (в этом случае его молчание давало ей право её оборвать); либо же прощала ему, чувствуя сходство и взаимопонимание, ценя в нём прекрасного собеседника. У них, кстати, был общий юмор, скептический настрой к жизни, склонность к иронии, которая легко перетекает в серьёзность, нежность или шутку. Они и сами не раз признавались друг другу в этом сходстве. Она умела смирять гордость, но и покаяний от него получала сполна: «Не гладить Вас по головке, как Вы пишете, милая... — а целовать у Вас руки и прощения просить о том, что давно не отвечал Вам — вот что хочу я... Повинную голову меч не сечёт». Особая тема в их переписке — её тяга к Востоку. Кавказ, Индия, Сингапур — Тургенев недоумевает: поезжайте, поезжайте, насладитесь, а потом скажете — «ничего там нет» и вернётесь в наш серенький пейзаж, — но и вынужден признать: «Вам почему-то идёт быть в таких полутаинственных странах». Ей идёт? Или ему приятно представить её не только на Востоке, но и в гареме, одной из прелестных наложниц? А хозяин — он! Ему кажется, что если бы они встретились «молодыми, неискушёнными — а главное, свободными людьми — докончите фразу сами». О какой несвободе говорит он? У него — понятно: «молодая приятельница» на сносях, да Полина, и мало ли кто ещё, а у неё? Так или иначе, он знает о её несвободе. На этот случай в арсенале имеются две тактики устранения противника: выжидание (это для «патриархов» обольщения) и дискредитация (это для торопыг; иногда даёт обратный результат, тогда как первый вариант практически беспроигрышен). Конечно же Тургенев выбирает первое. Он даже готов уважать её выбор: она же скучает в деревне? Там кто-то есть? Ну и прекрасно, он хвалит её за это, но предупреждает, что Базаровы перевелись, а остальные — пресная порода. Вот и дружеский щелчок по носу сопернику. Если он есть, то какой же это сморчок — даже по сравнению с литературным героем — полная дрянь, а герой-то хорош, очень нравится Юлии Петровне, а написал-то этого героя «Ваш покорный Иван Тургенев». Попадание абсолютное, вот уже сосед и рассекречен, молодой исполнитель романсов в голубом галстуке, уже скоро Вревская о нём Тургеневу напишет и посмеётся от души над его глупым галстуком и пристрастием к водочке. «Это плохо, при таких условиях и кокетничать нельзя», — подведёт черту Иван Сергеевич, дружески подмигнув Юлии Петровне, — никаких нравоучений и занудства — и сосед навсегда сойдёт со сцены. Ну, Иван Сергеевич! Мудрец! Она посылает ему к именинам свою фотокарточку, не приписав ни слова, частоменяет планы путешествий, умеет хорошо описать зимнюю деревенскую глушь (Тургенев хвалит всегда её литературные способности и литературный вкус), но не все письма ему отправляет, несмотря на только «дружеские чувства». Жалуется на хандру, старость, болезни и снова посылает свои ослепительные фотопортреты, от которых господин Тургенев надолго теряет покой. Осознанно или бессознательно поддерживает маску таинственности? Упомянув в переписке Базарова, Тургенев тем самым и её ставит на место Одинцовой. Неприступные крепости всегда привлекают настоящего воина. Так она балансировала на грани простодушной дружбы и чисто женского желания кокетством и ревностью покрепче привязать к себе. Простодушно даёт советы к родам «молодой приятельницы» и довольно мстительно передаёт злые сплетни о Виардо. Не подпускает его близко, но чуть он начинал остывать и уходить — уверяет, «что очень к нему привязалась». Как всегда, в её жизни больше неизвестного, чем известного, вот и Тургенев пишет, что её прошлое наполняет её смирением. Почему? Прошлое как прошлое — детство в Смольном, раннее замужество, вдовство... Может быть, какая-то неизвестная нам трагедия, слёзы, тайные свидания? Она часто говорит, что уже стара и себе неинтересна, что хотела бы устроить себе гнездо, «где бы могла состариться и умереть». Все эти мечты об уединённости, мысли о старости и смерти — отчётливый сигнал о моральном неблагополучии. Тургенев не относится к этому слишком серьёзно, но, во всяком случае, «мне бы хотелось встретиться с Вами до подобного окончательного устройства Вашей судьбы...» — восклицает он «с эгоистической точки зрения». Она пишет ему о снежных степях и метелях, а он задаёт загадку: «Помните у Пушкина: «как дева русская свежа в пыли снегов». Предыдущий стих отыщите сами». И если Юлия Петровна отыскала, то улыбнулась, а может, и разволновалась, ведь «...бури севера не вредны русской розе. Как жарко поцелуй пылает на морозе!» Вот какое желание «зашифровал» сюда её адресат. И тут же поделился радостью: у него родилась дочь. Откровенно, даже слишком, для влюблённого, мечтающего о взаимности. Но эта откровенность — неизбежный ход Тургенева. Он ничего не скрывает от неё, тем более что слухи всё равно бы доползли до Юлии Петровны. Видимо, Вревская уязвлена, потому что вдруг много жалуется ему: предыдущий год (пока И. С. носился, чтобы получше устроить приятельницу, и волновался за неё) для Юлии Петровны был плохим. И называет себя «отпетым» человеком. И с оттепелью у неё хандра. Во всех этих жалобах — неудовлетворённость, горечь несостоявшейся жизни, и Иван Сергеевич понимает это. Ирония сменяется неясностью, он находит слова, способные утешить и подбодрить её. («...На свете действительно есть нечто получше «предсмертной икоты», и хотя уже нельзя ожидать, что радость польётся полной чашей, — но она может ещё окропить последние жизненные цветы... «Живи, пока живётся»). Да, видно, не хватало ей в жизни участия и сочувствия, если она, почти отбросив приличие, так настойчиво добивается его у малознакомого человека, хоть и близкого по духу.
1875
Год начинается увлекательным состязанием. Настойчивость Тургенева наталкивается на дразнящий отпор Юлии Петровны. Причина: поездка в Богемию на воды и встреча там. Тургенев буквально неистовствует, уговаривая её — сдаться и приехать. В ход идёт всё: и мальчишеские признания, что нравится ему «ужасно», и уверения, что узелок их отношений завязан крепко — «не вздумайте рвать» — ничего не выйдет, да и к чему? «Кому от него вред будет? Никому — ни даже мне... ни даже Вам!!» И страх, что она передумает и махнёт на свой Кавказ или в Индию, к своим пашам или кавказцам, яростная ревность, ему всюду мерещатся мужчины (она острит на это, что он сам посылает её ко всем пашам), ревность и злость на её семейные дела, которыми она, видимо, прикрывается, а может, и правда озабочена: «У Вашей сестры есть муж, обойдутся без Вас». И угрозы, что её приезд будет проверкой их дружбы и если не приедет, то и дружбе конец. Он пугает, что старость и впрямь не за горами и это последний случай «золотой волюшки», ведь жизнь стремительно уходит. Рисует прекрасные картины: обед вдвоём в маленьком ресторанчике, завтрак тет-а-тет в трактирчике или в её комнате за чаем, «...глядя Вам в глаза, которые у Вас очень красивы, и изредка целуя Ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя велики... но я такие люблю». Тургенев, судя по всему, больше видел Ю. П. на фотографиях, чем в жизни. И «величина» её рук могла быть оптическим искажением. Но фотографий не сохранилось. Может быть, руки и в самом деле были «велики». Он прямо говорит ей о своём желании побыть наедине и зовёт в Карлсбад. Воды — классическое место адюльтера XIX века. Сюда-то он её и приглашает. Она же «с удовольствием» сидит в деревне и отсюда «водит его за нос». То она едет, то не едет, а может, она и правда в растерянности от его настойчивости и не знает, как лучше поступить: то ли раздуть в «старичке» ревность и своевольничать дальше — ведь он любит неприступность, и отказ будет в её пользу, то ли не испытывать дольше его терпения и поехать, а там на месте решить, что делать. А его вопросы «порвалась ли верёвочка на её лапках? — и крепка ли была эта верёвочка?» — что это значит? Опять о её несвободе? Он знал о ней больше, чем писал в письмах, а мы никогда не узнаем этого, и девять десятых её жизни так и останутся в тёмных водах прошлого.

И всё-таки благоразумие взяло верх. И Тургенев, едва удерживаясь в светских рамках, с горечью констатирует, что «на личное свидание в Карлсбаде я уже не надеюсь: Ваше последнее письмо рассеяло мои ожидания». И кисло прибавляет, что благодарит её хотя бы за желание приехать туда, если бы не дела и обязанности. Он подавлен, как будто даже охладел (сколько напора и усилий впустую, а он немолод), и даже желчно острит, что это к лучшему: «Скука, говорят, отличное подспорье водам и всяческому лечению». Да и не так уж романтично двоим немолодым людям свидеться на водах по причине нездоровых желудков — вот Вам, Юлия Петровна. Получайте.
Юлия Петровна никуда не поехала, и пошли спокойные, дружеские письма, но вот в августе, в скобках, он из Парижа: «... (в эту самую минуту над нашим садом проходит гроза вроде карлсбадской, помните?)». И дальше... благодарит её за «бешенство, возбуждённое в «террасе с балконом» и других соотечественниках». Значит, она была там, появлялась с ним в свете и вызвала даже бешенство своей независимостью в качестве спутницы Тургенева. Теперь надо внимательно посмотреть, что было написано до этого, чтобы понять «степень» их отношений, узнать, решилась ли Юлия Петровна «перейти Рубикон»? Тургенев уехал из Карлсбада раньше, она послала ему вслед «тоскливую» записочку с чем-то откровенным и неутешительным для него. Он отвечает, что, во-первых, не принадлежит к числу мужчин, способных рассеять её уныние, во-вторых, она «ясно глядит на вещи, здраво судит о себе самой и других: всё придёт в свою колею», он не обижен и не сердится, вернулся в Париж и «нашёл всех своих владетельниц в лучшем виде». Да ещё сетует, что хоть в ней и зреет «решительность во всех видах», но он ощущает себя «физическим грибом уже давно», а через год грозится стать и «нравственным». Что-то у них там не склеилось, и он спокойно спрашивает, поедет ли она после Ялты в Индию «вслед за Вашим полковником (Жуковскому я об Вашем плане ничего не скажу — а то он в состоянии поскакать туда, не расплатившись с долгами)», — и «спокойно» сомневается, что увидит её в Париже. Совершенно мирно воображает, как она «кружит головы всем этим аббатам и прочим дипломатам!». В декабре почтительно сообщает о кончине в Париже её брата Ивана Петровича и добавляет, что его болезнь была из тех, «которые не прощают». Люди не прощают или болезнь не прощает? Фраза двусмысленная, загадочная, но Тургенев и Вревская, наверное, поняли друг друга. Вот и весь год, бодро начатый и вяло, грустно окончившийся этим сообщением да привычной шуткой Тургенева: «Перед старостью хотелось бы выкинуть какую-нибудь несуразную штуку... Не поможете ли?» Нет, она не помогла. Она сама вскоре «выкинула штуку» — ушла на войну.
1876
«...Впрочем, вечного ничего нет, кроме вечного, тупого ожидания до гробовой доски чего-то лучшего и неведомого» — это Юлия говорит. «Не предавайтесь слишком мрачным мыслям; жизнь, конечно, не слишком красивая вещь — да другого ещё пока ничего не придумали», — серьёзно отвечает Тургенев. Человек он очень общительный, если у неё есть настроение (а если нет — трезвонь в дверной колокольчик сколько вздумается — баронессы «нет дома»), быстро сходится с людьми: «Я рад, что Вы сошлись с Мещёрским; он прекрасный малый». Но так же быстро в людях и разочаровывается. И вот уже любезный князь Мещёрский впал «в немилость».
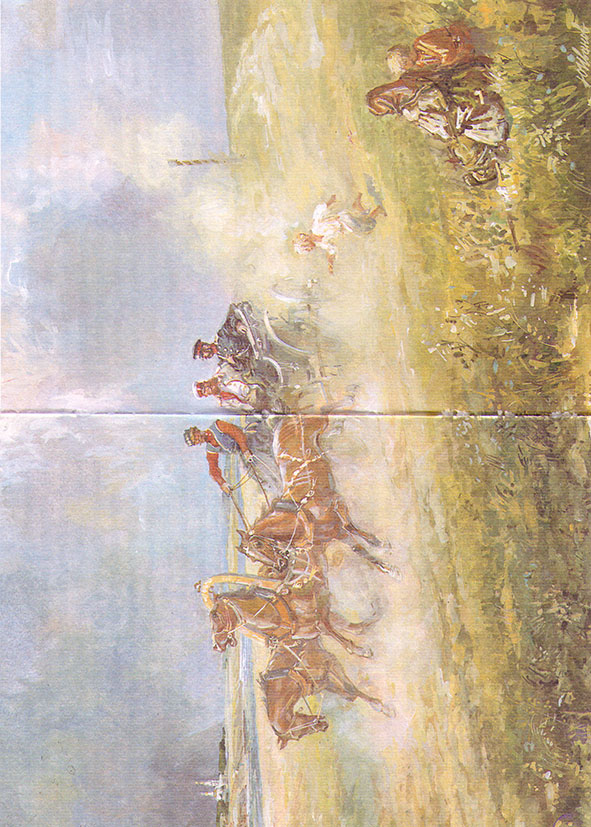
«По моему личному убеждению, он по любви никогда не женится, — пишет Вревская о Мещёрском, — и женится по расчёту, как и большая часть людей, обладающих глубокими чувствами». Согласитесь, не совсем традиционный подход к «глубоким чувствам». В ней совершенно нет романтизма. Людям с такой глубиной взгляда обычно трудно бывает устроить свою жизнь. Именно свою — чужую устраивать более или менее удаётся. «Поздравляю Вас с свершившейся свадьбой Вашего брата; препятствия устранены и побеждены Вами, что меня не удивляет, — восхищается её умом и энергией Тургенев, — это Вам в привычку». Рядом с ней любому мужчине трудно выглядеть достойно, не показаться дураком или напыщенным умником. Её спокойная, а временами озорная серьёзность, простота и благородство тона, полное отсутствие жеманства и словно лёгкое парение надо всем, что происходит в жизни, да, именно серьёзность в отношении к Тургеневу и не допускает, возможно, любовной связи, чтобы капризным чувством страсти не разрушить существующее между ними. Она спокойно говорит о том, что ведёт жизнь «весьма однообразную», что сестра её «характера мрачного... и я её очень люблю», она не боится ставить «и» вместо «но», это выдаёт в ней человека думающего, неоднозначного. Да, она добра без восторженности — что разрывает канонический образ, и она предстаёт живым человеком. «...В этом несчастном климате тотчас же чувствуется какое-то нравственное разложение, встряхнуть которое нет мочи». Такое признание вызывает уважение, тем более что мы знаем, как закончилась её жизнь. Она так мягко и умно утешает Тургенева в том, что их карлсбадский роман не состоялся: «С тех пор между нами остался всё тот же ров, по которому смирнёхонько бежит карлсбадская водица, — да что за нужда — всё-таки я Вас крепко и крепко люблю, и перепрыгивать через ров нам нет ни малейшей надобности». Тонко подмечено, что водица «смирнёхонькая», и трогает это «крепко», повторенное дважды. Христосуется с ним — «старым безбожником», как он сам себя называет. Красота их отношений держится на этих едва заметных струнах взаимопосягательства на привычки, привязанности и убеждения друг друга. Ни один не смутил другого бестактным вмешательством в чувства и судьбу. Вревская очень откровенна, несмотря на скрытность. Например, она не боится признаться, что ей не нравится «море» Айвазовского, «всё туманное и некрасивое» (а уж море-то с её любовью к Кавказу для неё статья особая), что проповеди модного лорда Родстока «нескладные и некрасноречивые», нет, она, пожалуй, ничему не внимает благоговейно, а всё оценивает собственным взглядом и умом. Особая тема в их переписке — путешествия. «...Хочу поехать в Биарриц, а осенью зовут меня в Испанию... Может быть, соберусь и в Америку, решить мне недолго». Да, решает она на этот счёт очень скоро. Именно решает, планирует, а не выполняет. Ездит за границу (исключая путешествия с императрицей) очень немного, в основном её маршруты: Орловская губерния, Кавказ, Петербург, который «так ей противен». Но как навязчивая идея бегства — калейдоскоп стран, мелькающих в её письмах. Индия, Америка, Испания, Сингапур, Иерусалим, Венеция, Палестина, ещё, ещё, с годами названий всё прибывает — и это непросто светская страсть к путешествиям: «собраться мне недолго», вот именно подхватиться вдруг и бежать. От себя. Счастливый же человек, как известно, сидит на одном месте. И не увлекается предсказаниями гадалок. А на деле вместо Индии — Литейная. Тургенев доволен — есть шанс повидаться, хоть она и не любит Петербурга. Вообще этот год намного спокойнее, чем предыдущие, в отношении тургеневской страсти. Что-то он понял про неё (а точнее, наоборот — не понял, ведь, по собственным его словам, ему всегда были непонятны женщины пусть даже добродетельные, но не отдающиеся по капризу), или просто подустал он и растерял былой пыл. А может, и отвлёкся. Письма спокойные, очень дружеские, накоротке даже (он просит снять ему номер в гостинице в Петербурге и выслать на вокзал лошадей, потом спохватывается и перепоручает всё это своему приятелю Топорову); он живо представляет себе их расставание: «Вы прелестная барыня, но судьбы не переделать». Вот уже и барыня, и это обращение смахивает на досаду, выдаёт с головой. Попал он, кстати, в точку — Юлия Петровна обиделась на «барыню», и ему выпало на два письма любезных извинений и уверений, что только внешне «барыня», а так «ничего светского», одна простая добрая душа. Так и написал: «Боюсь только холеры, а не милых дам — и особенно таких добродушных». Он поддразнивает её, несмотря на «усталость», и это неудивительно, ведь она «молодая, милая женщина — и «напрасность» этого замечания» его смущает. Иногда она огорошивает просьбами «не бояться» её и заверениями «не ввести в беду». Такая вот игра в «дразнилки». Он называет её загадочным сфинксом, но добавляет, что тот «не довольно красив». Она видит его во сне и с откровенным лукавством признается в этом. Дважды за год Юлия Петровна называет себя смиренной, и ни разу даже из вежливости Тургенев не прощает этого: «Кстати, почему Вы говорите мне о Вашем смирении? Я, напротив, нахожу Вас горделивой и надменной до крайности — и всё-таки прелюбезной и премилой». Вревская любит это слово, возможно, именно потому, что смирение не даётся ей, и, конечно, скрывает это. И общество перед войной у неё полно «смирения», и молодая подруга при дряхлом Соллогубе. Угу, усмехается, соглашается Тургенев, конечно, это всё, любезная, смирение... кулинара перед бифштексом, который он разрубит, пожарит и съест. И Юлия больше ничего не пишет про «смирение». Тургенев только что закончил «Новь» и теперь боится, что роман не понравится Вревской, потому что в нём «мало нежности». Он прав, Юлия Петровна никогда не выскажет о романе личного мнения, будет передавать только отзывы знакомых. Дружба дружбой, а этикет есть этикет. «Неужели Черняев не пустит себе пулю в лоб?» — удивляется Тургенев после неудачи Сербского восстания и дальше бросает фразу, которая какими-то загадочными путями словно отзывается во всей дальнейшей судьбе Вревской: «Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда!» Фраза только брошена, Юлия Петровна посылает двадцать рябчиков в Париж — и благодарный Тургенев в следующем письме целует ей каждую руку по двадцать раз (по количеству рябчиков, надо полагать); они спорят о «Демоне» Рубинштейна: Вревской нравится, а Тургеневу — нет. К концу года случайная фраза обрела для неё законченность и смысл, а Тургенев не заметил опасности, проглядел и только с привычной иронией просит её не торопиться, война продолжится долго, «...и Вы успеете исполнить свои милосердные намерения». Шутливо заклинает не верить слишком славянам, а заодно и славянофилам. Конечно же он не верил, не верил до конца, что она — его «прелестная барыня» — пойдёт под пули, в тифозные бараки. Он и сам никогда не пошёл бы. Несмотря на импульсивные речи, не его это дело, мудрого скептика, «воевать из-за чувства», по словам молодого Скобелева, вот «Скобелевы» все и там, а Тургеневу зачем? Он считал, что они с Вревской похожи складом ума и характера (и не раз писали об этом друг другу), поэтому он и не волновался на её счёт. Но он не разгадал её до конца. Что-то было в ней, не романтичное и не восторженное, что-то другое, более глубокое и страшное, что заставило её пойти. И умереть.
1877
«Что с Вами, любезнейшая?.. Вы упали на улице, зашиблись — и с тех пор ничего не пишете? Или, может быть, Вы оттого молчите (как это делают теперь все мои приятели), что Вам неловко говорить со мной о фиаско, претерпленном первой частью «Нови»?» — так Тургенев начинает признание своего «литературного фиаско». И игриво добавляет, что её отказ кусается «гораздо больнее, чем какое угодно литературное фиаско». Но Юлия молчит конечно же не по этой причине. Теперь уже ясно, что ей удаётся простой и естественный тон в любых щекотливых положениях и обстоятельствах. Что-то происходит с ней, тяжёлое и неприятное, её письма умные, временами даже озорные, тонкие, задушевные и в то же время ласково-сдержанные, но что-то невидимое появилось за этими изящными строчками, нарушилась какая-то гармония, равновесие утрачено — это письма усталого человека, которому некуда деться от себя. Нарушилась какая-то связь, оборвалась нить, и ей словно открылось вдруг несовершенство мира, людей. Себя. От этого и про климат Петербурга — «полный нравственного разложения», и про то, что «...все эти дни очень волновалась, и всё оттого, что за версту увидела кого-то. Оттого я так не люблю Петербурга, несдобровать мне в нём». Всё это очень серьёзно, но Тургенев не всегда особо глубоко вникает в её письма и иногда сводит всё к её «кокетству» и советует не смотреть от себя «за версту», если гам ходят таинственные незнакомцы, которые заставляют её трепетать. Вревская ни разу не попеняла ему на нечуткость, просто замолкала, чтобы, собравшись с силами, написать новое письмо, на что он отвечал: «Какие Вы мне хорошие письма пишете, милая!» В этот год у них две главные темы: неудача «Нови» и предстоящая война. Да, можно так остроумно обыграть неудачу, что она даст обратный эффект. «Не то чтобы я был равнодушен... — пишет Тургенев, — но горю помочь нельзя — значит, надо его позабыть». И подписывается — «освистанный автор». И если это светскость и правила этикета заставляют его держать форму, хотя бы внешне, в отношении с людьми, то да здравствует этикет! Если же таковы его натура и характер, то он счастливый человек. Обсуждение участи «Нови» занимает большую часть всех писем за этот год, но тон их всегда шутливо-мирный. Ни занудства, ни бешенства, ни желчи. Даже чудно. Юлии Петровне, видимо, в этом его настроении почудилось «смирение», поэтому она тут же просит его помириться с Некрасовым, так как тот почти при смерти и другого случая может не представиться. Письмо берётся отнести их общий приятель Топоров, вездесущий и расторопный Топоров, который и рябчиков от Юлии Тургеневу посылал, и кареты заказывал, и даже умудрился организовать пару положительных рецензий на «Новь», за что Тургенев с грустью назвал его «настоящим другом». В самом прямом смысле. Запрос о смерти Юлии Петровны доктору Павлову послал тоже Топоров. Но ответа не дождался. Умер. Тургенев не против, он только боится, что такое перемирие будет «предсмертным вестником» и Некрасов это почувствует. По письмам видно, как колеблется популярность идеи русско-турецкой войны в обществе. То «ни правительство, ни народ не хотят этой войны», то «войны не миновать, и она продлится долго», а через некоторое время снова: «Стало быть, войны не будет — и Вы останетесь в Петербурге». «Славянский пыл испарился? Это меня не удивляет, потому что он всегда держался на одной поверхности...» — язвит Тургенев и по странной параллели почти то же самое говорит о себе в отношении к Юлии Петровне. Отчасти Вревская сама спровоцировала его на эту «исповедь». Чувствуя, что письма его стали спокойнее и любовная нервность и напряжение спало, она, по старой привычке, решила немного подразнить и назвала его «скрытным». В ответ же получила: «Ну слушайте же — я буду с Вами откровенен так, что Вы, пожалуй, раскаетесь в Вашем эпитете. С тех пор как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески — и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно (да уж и немолод я был) — чтобы попросить Вашей руки — к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade...» Её испугала откровенность, и чисто по-женски она растерялась, начала оправдываться и уверять, что никогда «не писала «никаких задних мыслей», что женский век её давно прошёл — кисловатые, конечно, оправдания для человека, которому становилось «тепло и жутко» от одной только мысли, что она «прижмёт его к сердцу не по-братски».

Правда, здесь же она говорит о том, что чувствует, что ей осталось немного, но Тургенев, возможно сам уязвлённый серьёзностью собственного признания, не обращает на её слова большого внимания и со светским холодком уверяет, что «это ложная тревога — и Вы будете жить долго». Трудно сказать, насколько на самом деле Юлию Петровну испугало признание, возможно, что, сама не отдавая себе в том отчёта, она хотела, чтобы под конец он всё назвал своими именами; сквозь пелену мрачных предчувствий услышать его признание и жить дальше — сколько отпущено. Признание Тургенева заставило и Юлию Петровну произнести несколько «неосторожных» слов. Но Тургенев верен себе в этой «любовной» игре: делай не как скажет женщина, а наоборот, и твёрдо констатирует, что «нет сомнения, что несколько времени тому назад — если бы Вы захотели... Теперь — увы! время прошло — и надо только поскорей пережить междуумочное время, чтобы спокойно вплыть в пристань старости». И горько добавляет, что ему довольно при встрече целовать её руки, которые она всегда «с каким-то ужасом принимает». И дальше, чтобы снять неловкое напряжение от откровенности, дружески сплетничает об общих знакомых в Париже, называет её «прелестью», «милейшей», благодарит за заметки о молодых нигилистах (всё-таки Юлию Петровну интересовали эти «пошлые школьники», раз она отправилась посмотреть на них в окружной суд, ей и здесь хотелось составить своё мнение), а также, покорно ставя себя в общий ряд её поклонников, восхищается ею и отдаёт предпочтение перед всеми другими светскими барынями. Он предвидит, что русское правительство выигрывает время, чтобы весной начать войну, и добавляет, что «на свете всё бывает... за исключением одной вещи, где замешаны Вы... и которая, конечно, никогда не сбудется». Он говорит правду о двойственном роде своей любви, которая делится на дружескую привязанность и желание «обладать». Горечь отвергнутого да ещё и признающего это мужчины не мешает ему подписывать письма «душевно Вас любящий Иван Тургенев». И нет оснований сомневаться, что это так. Вновь возвращается восточная гема. Он надеется застать её в Петербурге и наговориться с ней, сидя в её восточном кабинете, — «в этом большом тоже восточном доме». Её тянет на Восток, она без памяти любит Кавказ, природу, море, даже горская речь приятна для её слуха. Наверное, в этой склонности немного логики, наверное, не всё там, в том мире, она понимала, скорее любовь к ясному и безоблачному времени в своей жизни оформилась у неё в эту страсть к Востоку. Она была молода, свободна, любима, всё было впереди — всё это органично переплеталось с миром «странной горской речи», пышной растительностью, громадами гор, лазурью моря, криком альбатросов и чаек. Не оттого ли она и на войну отправилась, чтобы напоследок, из этого «климата морального разложения», окунуться в лазурь и горы, окунуться в детство — война тоже входила в её детский и девический мир?! Неисповедимы пути Господни, но неисповедимы отчасти и пути человеческие, которыми ведает Господь. В последнем письме Тургенев обращается к ней как к сестре Юлии, желает, чтобы подвиг, который она взяла на себя, не оказался непосильным, растроганно интересуется, какой её костюм, и уверяет, что «её рукам предстоит много добрых дел». Он не надеется на встречу перед её отъездом в армию, да и ему туда не очень хочется: «...там для меня пахнет литературой — а я получил к ней достаточное омерзение в последнее время; да и она меня извергает; так что нам лучше всего разойтись подобру-поздорову».
И всё-таки они встретились ещё раз. По письмам этого не следует, но вот К. П. Ободовский в «Рассказах о Тургеневе» пишет: «Летом 1877 года на даче в Павловске я познакомился с известным поэтом Я. П. Полонским. Раз, после обеда, часу в седьмом, ко мне является прислуга Я. П. и передаёт его приглашение прийти... Тургенев прибыл не один. С ним вместе приехала дама в костюме сестры милосердия. Необыкновенно симпатичная, чисто русского типа, черты её лица как-то гармонировали с её костюмом. В тот вечер, накануне отъезда, она была очень оживлена и, разумеется, не предчувствовала того, что, уехав в Болгарию, уже больше не вернётся на родину...» Не предчувствовала? В своём последнем письме Тургеневу с фронта в ноябре 1877 года Вревская написала: «Прощайте, дорогой Иван Сергеевич, — и как Вы можете прожить всю жизнь на одном месте? Во всяком случае, дай Вам Бог спокойствия и счастья...» Был ли он потом покоен и счастлив?
«Так мы и не увидимся с Вами, любезная! Жаль. Хотя и говорят, что даже гора с горою сходится, но бывают случаи, что человек с человеком так и не сойдётся никогда!» Он написал это летом в семьдесят четвёртом году. И оказался прав. Но они достойно выдержали более трудное испытание, которое выпадает на долю мужчины и женщины, чем испытание любовью. Они выдержали испытание влюблённых друзей или дружбой влюблённых, — называйте как угодно. Юлия Вревская — самая загадочная героиня ненаписанного романа Тургенева.
ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА К Ю. П. ВРЕВСКОЙ
(1873 — 1877 гг.)
Париж. 48, Rue de Douai. Вторник, 2-го дек. 73.
Оказывается, что Вы правы, любезнейшая Юлия Петровна, — и я пишу Вам записку, в которой изъявляю моё сожаление о невозможности обедать с Вами!! А именно — вместо завтрашнего дня — я сегодня уезжаю на охоту — иначе я должен был бы совсем отказаться от этой поездки. По возвращении я явлюсь к Вам, и тогда, надеюсь, нам удастся пообедать вместе. Примите великодушно выражение моих искренних чувств. Преданный Вам Ив. Тургенев.
Пятница веч. Гостиница Демута.
Любезная Юлия Петровна, я потому только ещё здесь, что не получил ответа на посланную мною в Париж телеграмму — а то бы я уже сегодня вечером должен был уехать, но завтра в 2 часа меня, вероятно, уже не будет в Петербурге. Очень сожалею, что не могу принять Вашего любезного предложения и что не застал Вас вчера дома; впрочем, при теперешнем моём настроении я был бы плохой собеседник. Дружески жму Вам руку, благодарю за привет и приём и прошу верить искренности чувств преданного Вам Ив. Тургенева.

Париж. 48, Rue de Douai. Суббота, 10/6-го апр. 74.
Любезнейшая Юлия Петровна, спасибо Вам за Ваше письмецо; в Светлое Воскресение вспомнили о таком старом грешнике: это по-христиански. Мне очень бы хотелось застать Вас ещё в Петербурге, куда я непременно прибуду к нашему 1-го мая; не уезжайте до того времени. Я остановлюсь в гостинице Демута и буду Вам соседом. Мне не нужно распространяться о том чувстве, несколько странном, но искреннем и хорошем, которое я питаю к Вам; Вы это всё лучше меня знаете. Радуюсь, что мой рассказец и Вам и публике нравится — вот, уж точно, не думал не гадал, а писал в жилку. Брат Ваш также пишет мне об этом. Я ему завтра отвечать буду. Итак, до свидания — слышите? — крепко жму Вашу руку и остаюсь преданный Вам Ив. Тургенев.
Р. S. В «Вестнике Европы» помещена моя повестушка: «Пунин и Бабурин». Прочтите и скажите Ваше мнение искренне.
Москва. В доме Удельной Конторы, на Пречистенском бульваре. Воскресение, 2-го июня 1874.
Действительно очень жаль, что вы не дождались меня в Петербурге, любезная Юлия Петровна. А то теперь как увидеться? Я послезавтра еду в деревню, но я так замешкался по дороге — что мне там вместо месяца придётся пробыть всего с неделю или дней 10 tout au plus — и едва ли дела позволят мне урваться на время, достаточное для того, чтобы сделать хотя небольшое, но всё-таки путешествие к Вам. Я крепко не теряю надежды — и во всяком случае извещу Вас заранее. Но думаю, что мы не увидимся раньше Парижа, если Вы завернёте туда. Желаю Вам всего хорошего — а самому себе удовольствия увидаться с Вами. Жму Вам дружески руку и остаюсь преданный Вам Ив. Тургенев.
С. Спасское Орловской губ. Мценского уезда. Середа, 5-го июня 1874.
Любезнейшая Юлия Петровна, я сегодня приехал сюда — но так как я останусь здесь гораздо меньше времени, чем я предполагал, и дела у меня довольно — то я едва ли попаду к Вам, хотя и хотелось бы мне воспользоваться Вашим радушным приглашением. На всякий случай скажу Вам, что на Орловско-Курской железной дороге между Мценском и Чернью есть полустанок: Бастыево — и моё Спасское-Луговиново от него в 4-х вёрстах... но в Бастыеве лошадей нет, и надо знать, когда гости приезжают, и высылает к ним лошадей; ото Мценска же Лутовиново в 10 вёрстах — в 5 вёрстах от старой Белёвской дороги, и во Мценске и лошади всегда есть — и Спасское-Лутовиново еst connu comme le loup blane. He смею ничего больше прибавлять и говорю Вам: до вероятного свидания в Париже. Крепко жму Вашу руку и остаюсь преданный Вам Ив. Тургенев.
С. Спасское-Лутовиново. Орловской, губ. Мценск. Четверг, 13-го июня 74.
Так мы и не увидимся с Вами, любезная Юлия Петровна! Жаль. Хотя и говорят, что даже гора с горою сходится, но бывают случаи, что человек с человеком так и не сойдётся никогда. Моё письмо ехало к Вам 5 дней, Ваше ко мне 3, это к Вам, пожалуй, опять пропутешествует 5 — и всё это в двух шагах друг от друга — при таковом состоянии почтовых сообщений ни на что точно рассчитывать нельзя. А если бы Вам вздумалось, вместо письма, проехаться собственной особой — мы бы успели наговориться и я выслушал бы Вас — потому что уезжаю отсюда только в понедельник. Ну что уехать! Утешаюсь мыслью, что в самом деле где-нибудь мы неожиданно встретимся, и могу прибавить — «как старые друзья». За что бы я на Вас сердился, помилуйте? — Я почувствовал живую симпатию к Вам, как только в первый раз Вас увидел — и она с тех пор не умалялась. «Trotz alledem», как говорят немцы, говорю Вам: до свидания — и крепко жму Вашу руку и желаю Вам всего хорошего. Преданный Вам Ив. Тургенев.
С. Спасское-Лутовиново. Воскресение, 28/16 июня 74.
Милая Юлия Петровна, я хотел завтра уехать, — а вместо того со вчерашнего дня лежу в постели; у меня припадок подагры в колене — и сколько я пролежу — Бог весть. Это в третий раз сряду родина моя меня так награждает. Вот и люби её после этого! Я счёл нужным Вас об этом известить — а впрочем, желаю Вам всего хорошего, начиная с здоровья. Жму Вам руку. Душевно Вам преданный Ив. Тургенев.
С. Спасское-Лутовиново. Среда, 20-го июня 1874. 1/2 1-го.
Милая Юлия Петровна, когда Вы сегодня утром прощались со мною — я — так, по крайней мере, мне кажется — не довольно поблагодарил Вас за Ваше посещение. Оно оставило глубокий след в моей душе — и я чувствую, что в моей жизни, с нынешнего дня, одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться. Ещё раз душевное спасибо! Я всё надеюсь выехать завтра и, по обещанию, напишу Вам из Москвы — а потом из Карлсбада. Мне приятно было бы думать, что мы встретимся зимою. Во всяком случае, мне теперь всегда будет нужно знать, где Вы и что с Вами. От души желаю Вам всего хорошего, целую Ваши милые руки и остаюсь искренне Вас полюбивший Ив. Тургенев.
Bougival (pres Paris). Maison Halgan. Понедельник, 21/9 сент. 74.
He гладить Вас по головке, как Вы пишете, милая Юлия Петровна, — а целовать у Вас руки и прощения просить о том, что давно не отвечал Вам — вот что хочу я. Я много раз собирался и часто об Вас думал и всё-таки не написал. Повинную голову меч не сечёт. Три недели тому назад я прибыл сюда после моей неудачной поездки. Я в Петербурге был болен, потом в Карлсбаде, так что бросил лечение и в Бадене; и теперь подагра меня не совсем покинула. «Jesuis un infirme» надо с этой мыслью примириться. Через две недели переезжаю в Париж, rue de Douai, 50 — и останусь там зиму. А Вы где будете? Неужто впрямь на Востоке? Впрочем, я должен сознаться, что Вам почему-то идёт быть в таких полутаинственных странах. Только жаль, что это Вас удаляет. Мне всё кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушёнными — а главное, свободными людьми — Докончите фразу сами. Зачем вы мне не прислали то большое письмо, которое Вы начали? Вы не скучаете в деревне — это хорошо. Но молодые «Базаровы» перевелись; да их никогда много не было. Теперешние новые люди не умны и бесстрастны: довольно пресная порода. Я всё ещё не принялся за работу и вряд ли примусь. Кое-что предстоит, вертится в голове, но лень... лень... лень! Все мои здешние живы и здоровы; моей молодой приятельнице предстоит кризис в половине декабря. Я сильно буду трусить. Я часто думаю о Вашем посещении в Спасском. Как Вы были милы! Я искренне полюбил Вас с тех пор. Можете Вы мне прислать хорошую Вашу фотографию? Будьте здоровы и счастливы. Пишите мне от времени до времени. Ручаюсь Вам, что никогда более Ваше письмо не останется без ответа. Я сердечно к Вам привязан, и мне приятно даже заочно целовать Ваши руки, что я и делаю теперь. Желаю Вам всего хорошего. Ваш Иван Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Суббота, 26-го окт./7-го нояб. 1874.
Это очень мило с Вашей стороны, любезнейшая Юлия Петровна, что Вы вспомнили обо мне и прислали свою весьма похожую карточку (я принимаю её как подарок ко дню моего рождения — он наступает послезавтра, 28-го окт. — мне 56 лет!) — но зачем же вы не прибавили хотя двух слов о том, как Ваше здоровье, что Вы делаете, как Вам живётся в деревне — и какие Ваши намерения на зиму: Вы по-прежнему располагаете провести её в Петербурге? Мне было бы приятно узнать что-нибудь об Вас от Вас самих. Я всегда чувствовал большое влечение к Вам — но со времени Вашего посещения в деревне полюбил Вас искренно. Надеюсь, что мы ещё столкнёмся где-нибудь, и не слишком поздно. О себе я Вам скажу, что моё здоровье поправляется — но медленно: всё ещё мои ноги не как у всех людей — и за работу я не принялся. Посмотрим, что скажет мой 57-й год. Многого не жду. Все мои здесь здоровы и бодры. Моя любимица должна разрешиться от бремени около 15-го декабря — и это меня несколько пугает и волнует. Дайте мне весточку о себе — а то я даже не уверен, застанет ли это письмо Вас ещё в деревне. Я жму и целую Вашу руку и остаюсь душевно Вам преданный Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Пятница, 27-го окт./15 нояб. 74.
Вы мне написали чудесное письмо, милая Юлия Петровна, оно весьма живо перенесло меня в ту деревенскую, зимнюю глушь, с которой Вы, по-видимому, так отлично свыклись. Не сомневаюсь в том, что Вам теперь пока там очень хорошо; многое в жизни представилось бы человеку тяжким испытанием, если бы не мысль об этом «пока», которое сливается с ожиданием другого, более светлого или просто неопределённого будущего... На этом «пока» можно прокатиться полусознательно, полузадумчиво — до самого конца существования. Притом то Ваше прошедшее, которого я не знаю, но которое, наверное, до сих пор занимает важное место в Вашей духовной жизни — наполняет некоторым образом Ваше настоящее, отнимая у Вас даже желание чего-нибудь нового и навевая на Вас чувство резиньяции и смирения. Всё это прекрасно, но Вы ещё настолько молоды, что не можете серьёзно думать об устройстве себе гнезда — где бы «состариться и умереть». Во всяком случае, мне (я теперь говорю с эгоистической точки зрения), мне бы хотелось встретиться с Вами до подобного окончательного устройства Вашей судьбы и до окончательного моего превращения в старики (о моей молодости речи быть не может). Пять дней, проведённых нами вместе в деревне, показали мне, что между нами много симпатии — хотелось бы возобновить это сближение без нелепого и досадного аккомпанемента болезни. А потому мне было очень приятно узнать, что Вы весной собираетесь в Мариенбад и в Париж. Надо только устроить так, чтобы не «разминуться», как говорят малороссы. Я в начале будущего мая уезжаю на шесть недель в Карлсбад — Вы знаете, что это обок с Мариенбадом — вот бы Вам также в ту пору туда приехать! Отлично было бы — как Вы полагаете? Напишите мне, что Вы об этом думаете. А мне здесь в Париже всё ещё не совсем хорошо. Подагра, под той или другой формой, не выпускает меня из когтей и мешает мне работать. Вы говорите о снежных метелях и степях (помните у Пушкина: «как дева русская свежа в пыли снегов». Предыдущий стих отыщите сами). А у нас хотя холодновато — зато солнце ещё светит — только я им мало пользуюсь — из дома не выхожу. Спасибо за совет насчёт «аконита», я им непременно воспользуюсь. Событие всё ближе да ближе... и мне жутко. Я вам напишу результат. Вы жмёте мои руки — а я целую Ваши дружески, долго и нежно. Будьте здоровы. Ваш Ив. Тургенев.
Париж. Среда, 6-го янв. 1875./25-го дек. 1874.
Милая Юлия Петровна, вчера пришло Ваше письмо — и я начинаю с того, что во-1-х, поздравляю Вас с Новым годом и от души желаю, чтобы он был для Вас счастливее прошлого (говорю это на основании Ваших слов, ибо, собственно, ничего не знаю) — а, во-2-х, уведомляю Вас о благополучном разрешении вопроса, который, как дамоклов меч, висел над моей головой. Моя милая Диди родила 20-го/8-го декабря дочь, которую прозвали Jenne Edmee, — роды были страшно трудные, жизнь висела на волоске — но с тех пор прошло 19 дней — и хотя она всё ещё лежит в постели — но опасности уже никакой нет — а ребёнок удивительно красивый, большой и здоровый. Теперь как гора с плеч — а были страшные минуты и часы, о которых лучше не вспоминать. Вы пишете, что очень ко мне привязались — но и я Вас очень люблю — и много ли, мало ли между нами общего — это, в сущности, не важно. Jl yann atterait mutiel — вот что важно. Мне очень бы хотелось свидеться с Вами — и я надеюсь, что это моё желание весной — im wunderschonen Monat Mai. Правда, мы оба будем тогда пить богемские воды, что менее поэтично — но что же делать? — Если вам 33 года — мне целых 55 — вот что не следует упускать из вида. Так как Ваша хандра и приходит и уходит вместе с оттепелью, то желаю Вам снега, холода и тех вьюг, что, по словам Полонского, «растят по стёклам окон» — белые розы. Но и замораживать себя не следует. На свете действительно есть нечто получше «предсмертной икоты», и хотя уже нельзя ожидать, что радость польётся полной чашей — но она может ещё окропить последние жизненные цветы. Смысл всех этих аллегорий очень хорошо выражен в известной русской поговорке — «живи, пока живётся». Я совершенно искренне верю Вашему влечению на Кавказ — вообще Вашему сочувствию с восточной жизнью... в Вас самих есть что-то восточное. Кстати, одна моя знакомая дама месяца два тому назад обедала с Вашим знакомцем, сирийским пашою — и была очарована его умом и любезностью. Подагра меня почти совсем покинула — и я не имею уже предлогов, чтобы не работать — что не мешает мне, однако, предаваться бездействию. Если Вы «отпетый» человек (чему я, в скобках, не верю) — я уже, конечно, отпетый литератор. А засим прощайте — или нет: до свидания, непременно до свидания. Целую Ваши обе руки (целовать их даже заочно доставляет мне большое удовольствие) и остаюсь душевно Вам преданный Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Суббота, 13-го/1-го февр. 75.
Какие Вы хорошие письма пишете, милая Юлия Петровна, — и с каким удовольствием я их читаю! Ваши письма мне теперь тем дороже, что, кажется, подагра после двухмесячного отдыха снова собирается приняться за меня: колено распухло, и я уже хожу с трудом. «Эдакая» старость — уж точно не радость! Зато все наши молодые процветают: и мать, и прелестнейший её ребёнок. Я убеждён, что и Ваш должен быть чрезвычайно мил — только и оживаешь, глядя на эти молодые отпрыски. Ваши похвалы Кавказу, тамошним видам и тамошней жизни, бесспорно, заслуженные похвалы: только они немножко меня беспокоят. Уж не задумали ли Вы махнуть туда весною вместо того, чтобы, по обещанию, приехать в Богемию — в Мариенбад или Карлсбад? Это было бы очень нехорошо с Вашей стороны — потому что я уже свыкся с мыслью, что увижу Вас и даже поживу с Вами вместе в мае. Потом, если хотите, уезжайте на Ваш Восток к Вашим пашам или к кавказцам. Жизнь проходит; нельзя рассчитывать на много лет вперёд — по крайней мере, я не могу этого делать — потому и откладывать ничего нельзя. Я продолжаю льстить себя надеждою, что месяца через три Вас увижу. Уж как там ни вертись, а должно сознаться, что если и не верёвочкой и не черт — а кто-то связал нас. Вы мне ужасно понравились, как только я с Вами познакомился; потом мы как будто несколько разошлись; но со времени посещения в деревне узелок опять затянулся — и на этот раз довольно плотно. Смотрите, не вздумайте ни перерубать, ни развязывать этот узелок. И к чему? Кому от него вред будет? Увы! никому — ни даже мне... ни даже Вам!! Вы ещё не прочли начало романа Л. Н. Толстого, который должен явиться в «Русском вестнике»? Как только прочтёте — сообщите мне своё впечатление. Я убеждён, что Ваш литературный вкус должен быть и гонок иверен. Ваше описание соседей, зимней поездки и т. д. — живо перенесло меня в родную Русь. Сознайтесь, Вы не пококетничали немного с «непонятным» певцом в голубом галстухе? Водочку он попивает — это плохо; при таких условиях даже кокетничать нельзя. Очень бы мне хотелось провести несколько часов с Вами, в Вашей комнате, попивая чай и поглядывая на морозные узоры стёкол... нет, что за вздор — глядя Вам в глаза, которые у Вас очень красивы, и изредка целуя Ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя велики... но я такие люблю. Однако довольно болтать. Пора, как говорит кн. Мещёрский, поставить точку. От души желаю Вам всего хорошего и говорю: до свидания. Искренне Вас любящий Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Понедельник, 22-го/10-го марта 1875.
Это очень любезно с Вашей стороны, милая Юлия Петровна, что Вы не оставляете меня своими письмами; но нехорошо то, что Ваше путешествие весною в Мариенбад всё ещё под сомнением. И Вы напрасно хитрите, говорите, что я посылаю Вас ко всем «пашам»; Вы очень хорошо знаете, куда я Вас посылаю и где бы хотел Вас видеть. Из этого всего я заключаю, что, несмотря на Ваши заверения, Вы всё ещё не прочь пококетничать — если не с голубым соседом, то с беловолосым приятелем. То, что Вы говорите о золотой волюшке и о том, как страшно скоро уходит жизнь, — всё очень верно и справедливо: да ведь клад в руки не даётся, оттого что это не от нас зависит; а собственной личностью распоряжаться — до некоторой степени — (заметьте эту поговорку) — зависит от нас. Вот я и посмотрю — до какой степени простирается... Ваша дружба ко мне — и в состоянии ли она привести Вас из Орловской губернии в Богемию — что и для Вашего здоровья будет очень полезно. Так порвалась верёвочка на Ваших лапках? И крепка была верёвочка? — Моя не порвалась и не порвётся — а только растягивается. Говоря без аллегорий, я чувствую, что мне очень будет приятно Вас увидеть; чувствую также, что если мы теперь не встретимся — то уже никогда не встретимся, или если встретимся — то в «новом мире» — т. е. в старости — и «друг друга не узнаем» (как у Лермонтова). Вы всё это сообразите хорошенько — да и распорядитесь насчёт дел Вашей сестры, которые, полагаю, могут и без Вас обойтись, так как у ней есть муж. А обо мне пока не сожалейте: приступ подагры был незначителен — и я хожу на обеих ногах, как все люди. Ничего при этом не делаю — что истинно постыдно. Мне всё кажется, что я ещё могу кое-что сделать — да, вероятно, так до конца дней только будет казаться. Я здесь остаюсь всего два месяца. 15-го мая я непременно выезжаю в Карлсбад. Читали ли Вы «Анну Каренину» Л. Н. Толстого? Скажите мне Ваше мнение. Я Вам пока не скажу своего. Посмотрим, будет ли оно согласно с Вашим. У меня нет той карточки Бергамаско, которую я дал Шереметеву: а то бы я Вам её наверное выслал. С меня пишет портрет наш известный живописец Харламов: выходит удивительно. Когда он будет кончен, я с него велю снять фотографию — и... вышлю её Вам? нет, привезу её с собою в Карлсбад. Все мои здесь здоровы; надеюсь, что и Ваши там поправились и хворость их прошла. Будьте здоровы и Вы: не говорю Вам: прощайте — а до свидания. Целую нежно Ваши хорошие руки и остаюсь душевно Вам преданный Ив. Тургенев.
Париж. Среда, 19-го/7-го мая 75.
На днях виделся с В. В. Шереметевым, милая Юлия Петровна. Он был здесь проездом и говорил мне о Вас. Он, вероятно, скоро увидит Вас и привезёт мой поклон. На личное свидание в Карлсбаде я уже не надеюсь; Ваше последнее письмо рассеяло мои ожидания. Не сомневаюсь в том, что Вы охотно бы туда приехали — и за то, что Вы мне это говорите, я благодарю Вас; но не сомневаюсь также и в том, что Вам не удастся освободиться от Ваших дел и обязанностей. Хотя мне это очень грустно — однако приходится примириться с необходимостью: быть может, я Вас увижу зимою в Петербурге, куда я приеду, если к тому времени окончу свою работу. Теперь я собираюсь в Карлсбад: через неделю выезжаю. Здоровье — пока ничего; подагра молчит. Авось она и там не заговорит. Мысль, что я Вас не увижу в Карлсбаде — мне неприятна, но кто знает, может быть, это и к лучшему. В гигиеническом отношении наверное к лучшему: скука, говорят, отличное подспорье водам и всяческому леченью. Напишите мне слова два в Карлсбад, poste restante: я там останусь 6 недель. Желаю Вам от души всего хорошего; Вы мне жмёте руки — а я их целую у Вас с великой нежностью и не без грусти. Ваш Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Вторник, 25-го/12-го мая 75.
Два слова, сегодня, милая Юлия Петровна, — сегодня 25-е нов. ст., а Вы выезжаете 25-го старого, т. е. через 12 дней, — письмо это может ещё застать Вас — я выезжаю отсюда послезавтра и через неделю буду в Карлсбаде в Konig v. England, — где буду ждать от Вас весточки — с нетерпением. А пока целую Ваши руки и остаюсь искренне Вам преданный Ив. Тургенев.
Bougival (pres Paris). Les Frenes. 16, Rue de Mesmes. Понедельник, 19-го июля 75.
Спасибо, милая Юлия Петровна, за то, что Вы не усомнились послать мне Вашу тоскливую записочку. Я умею ценить подобную откровенность и дорожу ею. Ваше уныние просветлеет — «il n’y a pas d’hommes irrempelasables» — как говорили во времена Революции, — и я уже, конечно, не принадлежу к ним. На первых порах не хочется отстать от привычки; но Вы ясно глядите на вещи, здраво судите о самой себе и о других: всё придёт в свою колею. Я приехал сюда благополучно — и нашёл всех своих владетельниц в лучшем виде. Остаюсь я здесь до конца октября — постараюсь работать. Надеюсь увидать Вас в Париже — перед Сингапуром. Я рекомендую Вас Мещёрскому — а его Вам: он малый, кажется, умный и добрый. От души желаю Вам всего хорошего и целую Ваши руки. Преданный Вам Ив. Тургенев.
Буживаль. Bougival (pres Paris). Les Frenes. Пятница, 6-го авг. 75.
Мне здесь хорошо — только уж очень лениво и смирно — и погода сквернейшая. (В эту самую минуту над нашим садом проходит гроза вроде карлсбадской, помните?) Воображаю, как Вы кутили в обществе Лихновского и как кружили головы всем этим великосветским аббатам и прочим дипломатам! Но за бешенство, возбуждённое в «террасе с балконом» и других соотечественниках, — примите искреннейшее спасибо. (Кстати, Вы мне ничего не пишете об Алексее Толстом — что, он тотчас после меня уехал?) — Кстати ещё: сами Вы слышали Скобелеву, дурно отзывающуюся об г-же Виардо — или только другие Вам это передавали? Это мне очень нужно знать — и я бы весьма просил Вас не забыть известить меня об этом. Вы в Мариенбаде живете в Klinger’s Hotel — в 40 году, т. е. 35 лет тому назад!! я ходил туда обедать. Не тот я был тогда, что теперь! И для чего я жил в Мариенбаде — от чего лечился — Господь ведает — я был тогда болен одним: неумело воспользованной молодостью. Кажется — и Вам эта болезнь знакома? Вам так хочется в Индию, что людям, которые Вас любят — а я считаю себя в первых рядах этих людей, — остаётся только желать, чтобы Вы как можно скорее туда попали, хотя исполнение этого желания не может не быть неприятно для Ваших европейских друзей. С другой стороны, во мне таится тайное чувство — что, раз столкнувшись лицом к лицу с этой пресловутой Индией — и насладившись ею, — Вы, пожалуй, подумаете: «только-то?!» — и возвратитесь в наши прозаические страны, в нашу серенькую жизнь. Вы узнаете шубертовскую мелодию:
Если брат Ваш Владимир тот самый, который посетил меня в Петербурге, поклонитесь ему дружески. Надеюсь, что его здоровье скоро поправится. «Trotz alleadem», как говорят немцы, говорю Вам: до свидания! Когда, где — не знаю — но, вероятно, скоро — и быть может, в Париже. А пока с дружеской нежностью целую Ваши руки и остаюсь искренне Вас любящий Ив. Тургенев.
Р. S. Я остаюсь в Буживале до половины ноября нов. ст. Сейчас услыхал о смерти княгини Орловой, жены нашего посланника. Мне очень её жаль. Хорошая была женщина. Я был её шафером в 1858-м году.

Bougival (pres Paris). Les Frenes. Четверг, 9-го сент. 75.
Милая Юлия Петровна, Вы начинаете Ваше гамбургское письмо упрёком, которого я не заслуживаю, потому что всегда аккуратно Вам отвечаю; но этот раз мне даже особенно неприятно думать, что мой ответ, адресованный в Мариенбад, Klinger’s Hotel — Вам не попал в руки, потому что там было несколько слов, которые были предназначены исключительно Вам. Не будучи уверен, что и настоящее письмо, адресуемое по Вашему указанию в Ялту, — достигнет своей цели, я ограничусь пожеланием Вам всего хорошего, начиная с путешествия в Индию — а самому себе — Вашего приезда зимою в Париж, так как мне очень было любопытно узнать и увидеть — каким образом Вы понимаете слова: «решительность в разных видах», — на которую Вы будто собираетесь быть способной. Так как Вам угодно выразить своё сочувствие ко мне, то позволю себе прибавить — что я здоров, бездействую — но что-то ужасно скоро стал стариться; так, что если это будет продолжаться в подобных размерах, то через год непременно превращусь в нравственный гриб. Физическим грибом я уже давно. А легкомысленности престарелого лакея, кн. Вяземского, мне природа, к сожалению, не дала. Итак — до свидания — но где, как, когда? Бог весть! В одном Вы только не сомневайтесь — а именно в том, что этому свиданию никто так искренне не порадуется, как душевно преданный Вам Ив. Тургенев.
Bougival. Les Frenes. 16, Rue de Mesmes. Воскресенье, 17/5-го окт. 75.
Итак, мои письма не пропали, милейшая Юлия Петровна, — и Вы отозвались. Это очень хорошо. Пишу Вам ещё раз в Ялту — хотя Вы и уверяете, что уезжаете 12-го числа; авось моё письмо Вас ещё там зацепит — или Вам перешлют его на Кавказ. Буддизм — религия отличная — и посмотреть на Индию — особенно во время поездки принца Валлийского, — вещь интересная; однако мне сдаётся, что Вы словно поколеблены и что, пожалуй, придётся увидать Вас в Париже. Если Вы, точно, приедете — то непременно надо будет устроить завтрак tete a tete в каком-нибудь трактирчике: мне кажется, мы проведём приятных два часа. Подумайте-ка об этом! Сегодня я здоров — но в грустном настроении — на дворе осень, «Унылая пора, очей очарованье» — и к тому же я узнал о кончине бедного А. К. Толстого. Кажется, давно ли в Карлсбаде... Но уже тогда он был очень плох. Помните «чтение»?! Литератор он был посредственный — а человек отличный. Я напишу о нём несколько строк в «Вестнике Европы». Что будет делать теперь его вдова? Быть может (ceci est strictement entre nous) пустится в кутёж. Поздно немножко. Кстати, я забыл тогда написать Вам: я ни слова г-же Виардо не сказал о г-же Скобелевой — я хотел только узнать, правда ли, что она всюду бранит её. Она здесь была и промелькнула. Соллогуб тоже здесь — ужасно дряхлеет и разваливается. Прочёл Салтыкову (Щедрину) и мне преплохую свою комедийку, в которой он ругает молодое поколение на чём свет стоит. Салтыков взбесился, обругал его, да чуть с ног не свалился от волнения: я думал, что с ним удар сделается... Он мне напомнил Белинского... Тяжёлая была сцена! Здесь довольно интересная небольшая русская колония: но я пока редко вижусь с ними — так как не переехал ещё в Париж. Кн. Д. Оболенский также здесь. Я полагаю вернуться в Париж, 50, Rue de Douai — в первых числах ноября. Собираюсь работать; но пока только собираюсь. Чувствую, что старею — «что я, шутя, твердил доселе» — и нисколько меня это не радует. Напротив. Ужасно хотелось бы, перед концом, выкинуть какую-нибудь несуразную штуку... Не поможете ли? А впрочем, желаю Вам — именно от души — всего хорошего и успеха во всех Ваших предприятиях. Целую Ваши руки и чувствую к Вам нежность... хотелось бы сказать: до свидания. Преданный Вам Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Вторник, 11-го янв. 1876/ 29-го дек. 1875.
Милая Юлия Петровна, в ответ на Ваши два письма я начал было большое послание... внезапная (хотя и ожиданная) кончина Вашего бедного брата — заставила меня бросить всё написанное. Я видел Ивана Петровича недели две тому назад и нашёл его не хуже и не лучше того, каким я его видел прежде: но, по словам доктора, уже тогда в нём появились худые симптомы. Накануне его кончины я должен был с ним обедать — но каким-то образом приглашение не попало в мои руки. Он отстрадал... последнее время жизнь его была продолжительным мучением... но всё жалко человека, уходящего «в ту страну, откуда ещё не воротился ни один путешественник» — жалко и оставшихся... Я, конечно, вспомнил и думал о Вас. Я пишу к Вам так, ибо уверен, что Вы уже извещены. Какие Ваши намерения теперь? Не переменили Вы Вашего плана — приехать в Париж, так как главный повод Вашего прибытия сюда исчез? Не решаюсь писать Вам подробнее — во-первых, потому, что не знаю, застанет ли Вас это письмо в Тифлисе, а во-вторых, потому, что Вам, вероятно, теперь не до того. Ограничусь известием — что у меня со вчерашнего дня сделался припадок подагры — до сих пор пока ещё не сильный (однако я не могу шевелиться) — и что я до апреля месяца отсюда никуда. Очень был бы рад Вас увидеть — но где? когда? — Во всяком случае, примите от меня уверение в искреннем моём участии, в котором Вы, я надеюсь, не сомневаетесь — так же, как и в дружеской моей привязанности. Преданный Вам Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Вторник 1-го фев./20-го янв. 76.
Любезнейшая Юлия Петровна, сейчас получил Ваше письмо и радуюсь тому, что Вы из отдалённых, полуварварских, снегом занесённых стран — вернулись в Петербург, хотя причина, вызвавшая Вас оттуда, далеко не радостна. Я Вам писал в Тифлис, poste restante — но Вы моего письма не получили. Не знаю, когда мы увидимся; я отсюда выезжаю в конце нашего апреля и прямо отправляюсь в Петербург: хорошо было бы застать Вас ещё там. Ещё лучше было бы, если б Вы сюда приехали. Что будет — то будет. Вы напрасно тревожитесь мыслью, что Вашего бедного брата дурно лечили; хотя в этом теперь утешения нет — но я могу сказать Вам, что здешний доктор Гюблер, который, по моей рекомендации, только раз видел Ивана Петровича незадолго до его кончины — совершенно верно предсказал мне её — и именно так, как она должна была произойти. Болезнь Вашего брата была из тех, которые не прощают. У меня был припадок подагры — не очень сильный; однако я до сих пор ещё хожу плохо. Помаленьку разрушается человек. Не предавайтесь слишком мрачным мыслям; жизнь, конечно, не слишком красивая вещь — да другого ещё пока ничего не придумали. Крепко жму Вашу руку и остаюсь искренне преданный Вам Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Воскресение 27-го/15 февр. 76.
Любезнейшая Юлия Петровна, получил я Ваше грустное письмецо — и жалко стало мне Вас — и хотелось бы мне Вас утешить — но как и чем — не знаю. Всего было бы лучше, если б можно было спокойно побеседовать часика два; но на этом расстоянии — даже с помощью телеграфа невозможно. Коли не Вас, так себя я утешаю надеждой, что все Ваши домашние теперь уже исправились и не беспокоят Вас. Что касается до меня, то мне с некоторых пор гораздо полегчило — и я принялся серьёзно за свою большую работу. Не горюйте слишком о том, что не достали «часов»; вещица пустая. Поклонитесь от меня кн. Мещёрскому и скажите ему, что я от времени до времени видаюсь с M-lle Herzen — и что она здорова и бодра. Очень было приятно услышать о Вашем намерении приехать в Париж на весну — но постарайтесь приехать пораньше — потому что в первых числах мая я уезжаю в Россию — и было бы очень печально не застать Вас там. Вот и Мария Николаевна (Вёл. кн.) скончалась. Я лично её не знал — но, говорят, женщина была добрая и с мягким сердцем. Вы литератора Авдеева не знавали? Он тоже умер и тоже был хороший человек. Ну, однако, полно мне каркать по-вороньи. Лучше сообщу Вам свою радость по случаю здешних республиканских выборов; впрочем, Вы политикой не занимаетесь. Харламов кончил мой портрет — и вышел он удивительный. Он будет на здешней выставке. А засим целую Ваши милые руки и остаюсь душевно Вам преданный Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Середа, 22-го/10 марта 76.
Итак, Вы окончательно поселились в Петербурге, любезнейшая Юлия Петровна, в том самом Петербурге, который был Вам всегда так противен! Своей судьбы, видно, не минуешь. Вместо Индии — Литейная! С своей стороны, я этому рад: теперь я уверен, что свижусь с Вами — потому что в первых числах мая, если только буду жив и здоров, непременно объявлюсь в Петербурге. Надеюсь, что вы не будете жестоки и дождётесь меня — не ускачите в деревню или куда-нибудь в другое место! Если уже Вам непременно нужно будет в деревню, то поедемте вместе — кстати ж нам и по дороге. Спасибо за все сообщённые известия; от них веет современной русской жизнью. Я рад, что Вы сошлись с Мещёрским; он прекрасный малый. Мне иногда приходит в голову: отчего он не женится на дочери Герцена, Наталье, которую он, кажется, очень любит? Прекрасная была бы парочка. Сондируйте его на этот счёт — разумеется, весьма осторожно и никого не называя. А Вы, я вижу, не бросаете своих прежних связей! Кассаньяк Вам посылает свои речи! Уж лучше иметь дело с настоящими кавказскими или другими какими-нибудь бригандами — чем с этими мазуриками! Извините жёсткость выраженья... но вы знаете, я неисправим. Одно только в этом хорошо: Ваша верность друзьям... но Вы бы могли быть построже в выборе их. Прочтите «Son Excellence Rougon» — Зола́, книга замечательная; одна фигура в ней, Клоринда, нарисована мастерской рукой. Я ещё не читал продолжения «Анны Карениной»; но вижу с сожалением, куда весь этот роман поворачивает. Как ни велик талант Л. Толстого, а не выдраться ему из московского болота, куда он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Арбат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самомнение, барские привычки, офицерство, вражда ко всему чужому, кислые щи и отсутствие мыла — хаос, одним словом! И в этом хаосе должен погибать такой одарённый человек!! Так на Руси всегда бывает. А Орловская губерния действительно умирает с голоду. Худо; очень худо — и впредь не предвидится ничего лучшего. Я в последнее время принялся за свой большой роман — и помаленьку работаю. Здоровьем я доволен: подагра пока затихла. Все мои тоже здравствуют — это главное. Засим крепко-накрепко жму Ваши руки и остаюсь душевно Вам преданный Ив. Тургенев.
Ю. П. ВРЕВСКАЯ — И. С. ТУРГЕНЕВУ
(Из писем, хранящихся в Пушкинском Доме)
3 апреля 1876.
Христос воскресе, милый и дорогой Иван Сергеевич, на этот родной привет Вы не откликнетесь, но мне радостно вспомнить, что так начала я моё первое письмо. С тех пор между нами остался всё тот же ров, по которому смирнёхонько бежит карлсбадская водица — да что за нужда — всё-таки я Вас крепко и крепко люблю, и перепрыгивать через ров нам нет ни малейшей надобности. Я все эти дни очень волновалась, и всё оттого, что за версту увидала кого-то. Оттого-то я так не люблю Петербурга, несдобровать мне в нём. Треповская весна настала — всё сохнет. Самарина уже забыли и теперь горюют о молодой графине Стейнбок, умершей от родов, красивой, счастливой; смерть всегда берёт без разбору. Лорд Родсток, несмотря на гонения, обращает сердца нескладными и красноречивыми проповедями[20]. Я слушала его два раза. Мещёрский в хлопотах, устраивает отца с матерью; от сватовства, Бога ради, увольте. По моему личному убеждению, он по любви не женится и женится по расчёту, как и большая часть людей, обладающих глубокими чувствами. Зола́ достать не могла, читала перевод, но не всё. Жду Вас сюда с нетерпением и пробуду в Петербурге всё время, как Вы тут будете; потом хочу поехать в Биарриц, а осенью зовут меня в Испанию, но планов строить не стану. Индия меня слишком проучила. Впрочем, если будут лишние деньги, то, может быть, соберусь и в Америку, решить мне недолго. Что поделывает Ваша маленькая любимица, моя всё говорит, а ей всего два года семь месяцев. Будьте здоровы и счастливы. Какой вы умница, что не ленитесь. Дайте мне обе Ваши ручки, а то пора спать. Христос Вас помилуй и спаси. Ваша Юлия Вр.
И. С. ТУРГЕНЕВ — Ю. П. ВРЕВСКОЙ
Париж. 50, Rue de Douai. Четверг, 20-го/8 апр. 76.
Я только что собирался написать Вам, милейшая Юлия Петровна, — а вот уже второе письмо приходит от Вас, и Вы даже христосуетесь со мной! Вы напрасно думаете, что я не откликнусь; я хоть и неверующий, а похристосоваться с Вами очень рад: самая мысль об этом мне приятна. Также мне приятно думать, что я, по всей вероятности, скоро — т. е. через месяц, с Вами увижусь. Хотя между нами и существует, к сожаленью, ров (он не существует между нашими душами — по крайней мере, я льщу себя этой надеждой — а... в другом отношении) — хотя через Вашу жизнь и проходят какие-то таинственные незнакомцы, которые за версту заставляют Вас замирать и трепетать — но всё-таки я чувствую, что нам вместе очень хорошо — и что мы привязаны друг к другу. Но только, пожалуйста, Вы меня дождитесь; 20-е мая (нашего стиля) самый последний срок моего приезда в Петербург. А в Америку, в Испанию и даже в Индию Вы уже Поезжайте потом. Лучше всего бы вместе отправиться в Орловскую губернию — как Вы полагаете? Вы мне ничего не пишете о своём здоровье — принимаю это молчание как знак хороший. Я тоже пожаловаться не могу — и работаю помаленьку. Кн. Мещёрский — кажется, впал у Вас в немилость. Отчего? Все мои милые здешние процветают. Дай только Бог, чтобы так продолжалось! Прочли Вы «Благонамеренные речи» Щедрина в мартовской книжке «Отеч. записок»? Удивительная вещь! Он теперь приехал сюда из Ниццы: здоровье плохо — однако всё же лучше прошлогоднего. Ну — до свидания! Будьте здоровы и веселы — и не смотрите от себя за версту. Христосуюсь с Вами, а потом очень нежно целую Ваши руки и остаюсь Ваш Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Четверг, 25-го/13 мая 76.
Милейшая Юлия Петровна, я потому до сих пор не отвечал Вам, что хотел в точности сообщить Вам день моего отъезда: он совершится в воскресение 28-го июня/22-го мая, я, коли жив буду и здоров, объявлюсь в Петербурге. Я очень был бы Вам обязан, если б Вы взяли для меня № в гостинице Демута — я Вам с границы вышлю телеграмму — и попрошу Вас выслать карету. Мне весьма приятно думать, что я Вас скоро увижу. А Вы всё верите в предсказание Крюднера? На днях он мне попался на улице и хотел что-то предсказать; но он так был пьян, что ничего из него не вышло, кроме винного духа. Мы при свидании много переговорим — а я заочно целую Ваши руки, в ожидании сделать это в действительности. Душевно Вас любящий Ив. Тургенев.
N. В. Я бы сказал, что этот сфинкс Вы; но он не довольно красив[21].
Висбаден. Hotel de Nassau. Четверг, 1-го июня/20-го мая 1876.
Милая Юлия Петровна, я сюда приехал вчера из Бадена (чтобы переговорить с дочерью Пушкина, графиней Меренберг — насчёт переписки её отца) — выезжаю сегодня в Берлин, а из Берлина выезжаю завтра — и (если ничего не произойдёт особенного) прибуду в Петербург в воскресение, к 6-и часам вечера и отправлюсь в Hotel Demouth — где, я надеюсь, Вы взяли для меня комнату. Было бы отлично, если бы мне на станцию выслали карету. Впрочем, я с границы пошлю Вам телеграмму. Но вот беда — я оставил Ваши письма в Париже и не знаю наверное — какой Ваш № на Литейной: эта неизвестность сказывается на самой обёртке этого письма. Очень буду рад Вас видеть. Но правда ли, говорят, у Вас в Петербурге и снег, и холера? Целую нежно Ваши руки и остаюсь Ваш Ив. Тургенев.
Р. S. Не заботьтесь о карете; я с границы пошлю об этом телеграмму одному моему знакомому (Топорову[22]) — которого адрес мне известен.
Гостиница Демута. Понедельник, 8 ч. вечера.
Милейшая Юлия Петровна, я сегодня приехал и остановился здесь в № 65 — я Вам писал однажды и телеграфировал, но так как я по ошибке (оставив письмо Ваше в Париже) выставил Литейная, № 26 или 24 — то Вы ничего не получили. Очень был бы рад Вас увидеть — скажите, когда Вы будете, чтобы я был дома, или когда Вы будете дома. Весь Ваш Ив. Тургенев.
3 раза был у Вас и не нашёл Вас дома, говорю Вам заочно: до свиданья!
Гостиница Демута. Воскресение, 6-го июня 76.
Как Вы доехали, любезнейшая Юлия Петровна? Я сегодня утром дотащился сюда. Смотрите, как бы Вам не пришлось исполнить Ваше обещание! Кажется, подагра разыгрывается и собирается сцапать меня, как в прошлом году. Если эта беда случится, дам Вам знать, но, конечно, уже не для того, чтобы Вы знали, что со мною происходит. Наше расставание живо представляется мне; Вы прелестная барыня — но судьбы не переделаешь. Дайте знать кн. Мещёрскому, что я уехал, не увидевшись с П. М. Третьяковым, но написал ему чувствительное письмо по поводу Миклухи-Маклая, которое, вероятно, его не тронет; а впрочем, Господь ведает! Если будет ответ, тотчас дам ему знать. Здесь стоит жара страшная не хуже московской; и несчастные липы в моём саду потерпели от мороза 9-го мая; как-то жутко видеть в июне месяце мёртвые, жёлтые листья. Прощайте, будьте здоровы и верьте в искренность моих дружеских чувств. Преданный Вам Ив. Тургенев.
С. Спасское-Лутовиново. (Орловской губ. город Мценск) Вторник, 15-го июня 76.
Милая Юлия Петровна, я получил Ваше письмо — и очень рад, что Вы прибыли благополучно и хорошо устроились. Могу Вам сообщить с своей стороны, что подагра до сих пор молчит и что я порядочно работаю. Также кое-что делаю по делам имения, которое я, быть может, продам и наверное отдам в аренду. Наверно ещё не могу сказать, когда я отсюда выеду — но не засижусь здесь. А Вы всё ещё считаете нужным меня успокаивать, и умоляете меня не «пугаться», и обещаете не ввести меня в беду. Могу Вас уверить, что между мною и прекрасным Иосифом столь же мало общего, как между Вами и женой Пентефрия; боюсь я холеры — но уж никак не милых дам — и особенно таких добродушных, как Вы. Helas! je nе реuх plus etre compomis-et, jene suis plus compromettant, si je lai jamais ete. Что же касается до слова «monaine», которое, как кажется, задело Вас за живое, — то повторяю: конечно, в Вашем существе, в Вашем сердце и душе — ничего нет светского: но все Ваши наружные привычки, вся повадка, вся Ваша физиономия — вполне и совершенно светские; и тут нет ничего дурного — но мне, быть может, не следовало бы так налегать на эту внешность. Я, быть может, хотел немного подразнить Вас — и каюсь в том. Постараюсь увидеть Вас проездом через Петербург — а до тех пор будьте веселы, здоровы и знайте, что, в сущности, отношения между нами очень хороши и просты. Я искренне к Вам привязан, но иногда замечаю, что Вы молодая, милая женщина — и «напрасность» этого замечания меня смущает. Крепко и дружески жму Вашу руку и остаюсь преданный Вам Ив. Тургенев.
С. Спасское-Лутовиново. (Орловской губ. в городе Мценске). Середа, 14-го июля 1876.
Милая Юлия Петровна, я не отвечал на Ваше последнее письмо, потому что был в таких адских хлопотах, что невозможно выразить. Надо Вам сказать, что я выезжаю из Спасского разорённым человеком, потерявшим более половины своего имущества по милости мерзавца управляющего, которому я имел глупость слепо довериться; я его прогнал, но что тут было — я и передать Вам не могу! Днём я с этими делами возился — а ночью писал свой несчастный роман, который наконец я кончил, но что из этого вышло — Бог ведает! Я надеюсь выехать отсюда в субботу и в понедельник буду в Петербурге. Весьма благодарен Вам за Ваше любезное предложение пожить у Вас в Петергофе — но оно оказывается невозможным: я всего два дня пробуду в Петербурге — так как я и так уже опоздал; но во вторник или даже в понедельник вечером съезжу к Вам непременно — тогда мы о многом поговорим. А до тех пор будьте здоровы и веселы — крепко жму Вам руки и остаюсь Ваш Ив. Тургенев.
Р. S. Остановлюсь я у Демута.
Гостиница Демута. Пятница утр. 8 ч.
Милая Юлия Петровна, я вчера не мог попасть к Вам ранее половины двенадцатого — а не застав Вас, такая напала на меня неохота ехать в гости, что я решился вернуться домой. Очень мне совестно, что я заставил Вас ждать более часа — и покорно прошу Вас великодушно извинить меня. Я написал графине Шустерро, в котором также извиняюсь. Я сейчас еду в Павловск к Полонскому — вернусь в 2 1/2 ч. и в 5 часов заеду к Вам, чтобы вместе отправиться к Донону, где имеет быть обед в Вашу честь. Дружески жму Вам руки и остаюсь преданный Вам Ив. Тургенев.
Р. S. Любезная Юлия Петровна. Я заходил к Вам просить Вас от моего имени и от имени И. И. Маслова пообедать с нами сегодня перед Вашим отъездом. Я заеду к Вам в 1/2 4-го и надеюсь, что застану Вас дома. Ив. Тургенев.
Bougival (pres Paris). Les Frenes. Seine et Oise). Вторник, 8-го авг. 1876.
Милая Юлия Петровна, пишу Вам всего два слова, чтобы известить, что я прибыл сюда благополучно, нашёл всех здоровыми, дом мой милым — и что, как только несколько отдохну, примусь за переписку моего романа. Сербская катастрофа меня очень огорчает. Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда. Нет, впрочем, сомнения, что там опять надолго всё погибло. Неужели Черняев не посадит себе пулю в лоб? Следующее письмо будет подлиннее. А теперь и некогда — и жара страшная. Кланяюсь всем Вашим и целую Ваши руки. Ваш Ив. Тургенев.
Bougival. Les Frenes. (Seine et Oise). Середа, 11-го окт./29-го сент. 76.
Я перед Вами в долгу, милая Юлия Петровна; не отвечал на Ваше первое письмецо — а вот уже явилось второе. Вы пишете, что видели меня во сне; но это ничего худого не означает (за исключением разве того, что мне было бы приятнее предстать перед Вами еn personne); я достаточно здоров, достаточно работал, кончил переписку моего романа и на днях отправляю в Петербург мою рукопись, которая будет напечатана в первых № «Вестника Европы» за будущий год. Сам же я не в ноябре, а в январе прибуду в Петербург — и, конечно, Вас там увижу. Поздравляю Вас с совершившейся свадьбой Вашего брата; препятствия устранены и побеждены Вами, что меня не удивляет: это Вам в привычку. Одна существует вещь, которая, по-видимому, представляет непреоборимые затруднения... но мне сдаётся, это происходит оттого, что Вы сами её не желаете. Кстати, почему Вы говорите мне о Вашем смирении? Я, напротив, нахожу Вас горделивой и надменной до крайности — и всё-таки прелюбезной и милой. Неужели в самом деле Шувалов убил Долгорукова — и так-таки ничего ему не будет? Какие удивительные подробности печатаются о Потапове и об его сумасшествии в немецких журналах! Сейчас получено известие, что Турция согласилась на шестимесячное перемирие. До того времени наш пыл пройдёт — а Турция всё-таки ничего не сделает — и всё останется по-старому. Кстати, Вы ничего не слышали больше о моём приятеле Топорове? Он у Вас не был? Он не отвечает на мои письма. Он либо умер (что было бы очень грустно) — либо сердит на меня (что было бы непонятно, но правдоподобно). Соберите, милочка, справки. Что делает Ваша прелестнейшая племянница? Поцелуйте её за меня и поклонитесь Вашей сестре и её мужу. Все мои здешние здоровы. Я боюсь, мой роман Вам не понравится. Нежности мало. Будьте здоровы и веселы. Целую Ваши ручки заочно вволю. На деле Вы всегда их у меня принимаете. Неужели Вы меня боитесь? Это было бы столь же лестно — сколь справедливо. Душевно Вам преданный Ив. Тургенев.
 Ю. П. ВРЕВСКАЯ — И. С. ТУРГЕНЕВУ
Ю. П. ВРЕВСКАЯ — И. С. ТУРГЕНЕВУ
(Из писем, хранящихся в Пушкинском Доме)
25 октября 1876.
...Надеюсь, дорогой Иван Сергеевич, что рябчики мои дойдут благополучно и что Вы будете их кушать 28 октября. Топоров отправлял посылку и утешал меня, что всё прибудет в исправности. У нас снега изрядно в сопках и морозец порядочный. Приезжайте покататься на тройке. Жму Ваши дорогие руки. Ю. В.
И. С. ТУРГЕНЕВ — Ю. П. ВРЕВСКОЙ
Париж. 50, Rue de Douai. Понедельник, 13-го/1 нояб. 1876.
Милая Юлия Петровна, двадцать рябчиков прибыло в совершенно свежем виде — и мы их ели с благодарностью и удовольствием — а я целую двадцать раз каждую из Ваших хороших рук и говорю Вам спасибо за память. В самый день моего рождения мы переехали из Буживаля сюда — и я теперь остаюсь здесь до нашего января — т. е. ещё два месяца с лишком — а там, если буду жив, отъявлюсь в Петербург, в самое время, когда выйдет мой роман, на который, по всей вероятности, обращено будет мало внимания — так как война — (сколько можно судить, неизбежная) займёт все умы. Мне будет очень приятно Вас увидеть и покататься с Вами на тройке. Извините, что пишу так кратко: у меня сделалась подагрическая боль в правой руке — и мне не совсем удобно держать перо. Но всё-таки не могу никак признать Вас «смиренной» — и скорее нахожу в Вас гордыню. Но мы об этом ещё потолкуем. А теперь вторично благодарю Вас и целую Ваши руки. Преданный Вам Ив. Тургенев.
Paris. 50, Rue de Douai. Середа, 6-го дек./20-го нояб. 76.
Милая Юлия Петровна, Спасибо за Вашу небольшую зелёненькую записочку — а то я уже думал, что Вы меня забыли среди треволнений, которые теперь Вас окружают. Только я одного Вашего слова не понимаю. Вы говорите о смиренном настроении петербургского общества: мне оно издали казалось противоположного свойства. Украсть — этак лучше. И дай Бог нашим смиренным героям в больших сапогах действительно выгнать турку и освободить братьев славян! Первый шаг уже сделан: Хлестакова-Черняева выгнали из Сербии. Может быть, и дальше пойдёт хорошо. Я принуждён отложить мой приезд в Петербург до последних чисел января нашего стиля. Отчасти этому причиной Стасюлевич, который уговорил меня разрубить мой роман надвое — так что первая половина явится в январской книжке — а вторая в февральской. Я уже начал получать здесь корректурные листы. Не знаю, что такое я написал: критик «Отечественных записок» г-н Михайловский, как только начали ходить слухи о моём романе, обозвал меня «бездушнейшим человеком, который будет запускать свои неумелые пальцы в зияющие раны нового поколения!». Славно сказано! Но если у нас с января начнётся война, то, разумеется, на мой роман публика не обратит внимания. Ей будет не до того. Скажите от меня Топорову (надеюсь, Вы видаетесь с ним) — что книгу, которую он желает, я привезу — и что благодарю его за присылку «Отечественных записок» (7-й №) и Макаровского Словаря. Моё здоровье похрамывает — но пока не спотыкается. Несколько удивляет меня то, что Вы говорите о рубинштейновском «Демоне». В фортепьянной аранжировке он производит впечатление того, что немцы называют «Capell meistermusik»; Вас, вероятно, подкупают лермонтовские стихи да красивый голос Мельникова. Я здесь веду совершенно отшельническую жизнь; хотелось бы покутить напоследях в Петербурге — но, вероятно, и там я так же добропорядочно и вяло буду вести себя. А пока позволяю себе поцеловать Ваши руки и желаю Вам всего хорошего. Ваш Ив. Тургенев.
Ю. П. ВРЕВСКАЯ — И. С. ТУРГЕНЕВУ
(Из писем, хранящихся в Пушкинском Доме)
8-го декабря 1876.
Дорогой Иван Сергеевич! Благодарю, как и всегда, за Ваши дорогие для меня строки. Мы с Топоровым горюем, что отъезд из Парижа отложен до конца января. В феврале уже всегда тает, и после французской весны это не совсем удобно в отношении здоровья. Впрочем, в отношении морозов в этом году привольно, холода настали рано и, может быть, и продлятся. Топоров обедал у меня вчера и просил передать Вам, что Стасов, по слухам, очень хвалит «Новь»! Но что, по-видимому, никто, кроме Стасюлевича, его не читал; что касается до Михайловского «Отечественные записки», то он очень озлоблен и, кажется, приготовляется бранить. Все... ждут Вашего романа с большим нетерпением. Вчерашний «Голос» известил Вас о казанской катастрофе: около 300 студентов Медико-хирургической академии и технологические, особенно поляки, собрались в Казанский собор, стали курить в церкви и обрывать клочки старых знамён. Народ бил их по рукам, затем толпа вышла на площадь, на плечи кого-то забрался, как говорят, какой-то Богоявленский и прочёл прокламации и закончил словами: «Смерть царю»...
Париж. Четверг, 28-го/16 дек. 1876.
Милая Юлия Петровна, пишу Вам в ответ на Ваше письмецо. Сегодня важный день: сегодня должна решиться в Константинополе наша судьба: война или мир? Я боюсь, что выйдет война — и мы окажемся несостоятельными; а пока турки окончательно раздавят Сербию, столь искусно приготовленную для них Черняевым. Глупее Черняева я знаю только одно: манифестацию перед Казанским собором. Это уже крайний предел, дальше которого идти невозможно. Эта чепуха может, до некоторой степени, повредить моему роману — так как, несмотря на мои просьбы, Стасюлевич не поместил его в один №. Но до Вас с Топоровым слухи доходят поздно: Стасюлевич читал мой роман, и в разных местах, между прочим, у Евгении Максимилиановны; если Стасов его хвалит — значит, он о нём понятия не имеет — ибо он там выведен в комическом свете. Ну а Михайловскому сам Бог велел меня мешать с грязью. Всё это мне довольно индифферентно — лишь бы деньги заплатили. А там, господа, кушайте на здоровье. Очень было бы жаль, если бы Вы уехали на юг, не дождавшись меня. Если даже война скоро вспыхнет, всё-таки не спешите: она продолжится долго — и Вы успеете исполнить свои милосердные намеренья. 15-го/З-го февраля я, если не умру, непременно буду в Петербурге. Меня даже здесь пробирает дрожь при мысли о стоящих у Вас морозах: здесь у нас оттепель — термометр стоит на нуле — и вообще зима самая мягкая. Разница великая — и как это я вдруг перемещусь. Заболею, пожалуй. А делать нечего: надо ехать. Очень благодарен Вашим за память — а Прашечке за поцелуй. Но это Вы пишете: она же, если бы увидала мою седую образину, скорее пожелала бы убежать прочь, чем поцеловать её. Но она прелесть — и я её целую. И Вас... т. е, — Ваши руки также. До свидания; будьте здоровы, бодры, не верьте слишком славянам[23], остаюсь искренне Вам преданный Ив. Тургенев.
50, Rue de Douai. Paris. Суббота, 27-го/15 янв. 77.
Что с Вами, любезнейшая Юлия Петровна? Вы упали на улице, зашиблись — и с тех пор ничего не пишете? Или, может быть, Вы оттого молчите (как это делают теперь все мои приятели), что Вам неловко говорить со мною о фиаско, претерпленном первой частью «Нови»? Вы можете быть спокойны: факт этот мне совершенно известен — и Вам не для чего о нём говорить. Не могу сказать, чтобы к этому факту я отнёсся совершенно равнодушно: но ведь горю теперь уж пособить нельзя; след., надо стараться позабыть его. Не лучшей участи ожидаю я также и для второй части. Смотрю на литературную свою карьеру как на поконченную. Но ведь и без литературы жить можно — и есть вещи в жизни, которые кусаются (особенно под старость) гораздо больнее, чем какое угодно литературное фиаско. Пожалуйста, дайте мне о себе весточку — и успокойте меня насчёт последствий Вашего ушиба. Ну вот, и война у нас тоже сделала фиаско. Хотя поговаривают здесь, будто бы с весной она разыграется — однако я этому не верю — и думаю, что мы так и останемся с оплеухой, данной нам Турцией? — и только тем будем утешаться, что не мы одни её получили. Поездка моя поневоле несколько отсрочена; мне хочется дать испариться скверному впечатлению «Нови» — что, впрочем, долго затянуться не может; в половине или в конце марта я приеду в Петербург — и так как Вы на войну не пойдёте, то надеюсь Вас застать. Здоровье моё порядочно — и вообще всё идёт потихоньку. Женщины вообще любят успех, а к неуспеху относятся строго; но я полагаю, что Вы всё-таки позволите поцеловать Вашу руку освистанному автору. Ив. Тургенев.
P.S. Хлестаков-Черняев был здесь (кажется, теперь он уехал) — и не преминул наделать множество дрянных пошлостей, от которых приходилось краснеть. P.P.S. Нет, Черняев не уехал. Ему «Русская колония» даже обед даёт в понедельник. Меня, разумеется, там не будет.
50, Rue de Douai. Paris. Вторник, 30-го/18-го янв. 77.
Милая Юлия Петровна! Я только что отправил к Вам письмо, в котором печалился о Вашем молчании — как получил Ваше от 24-го/ 12-го. Вы в нём находитесь ещё в самообольщении насчёт судьбы моего романа; но я знаю, что он провалился, и мне остаётся только благодарить Вас за дружеское участие. Не стану больше говорить об этом — не стоит. Отзвонил — и с колокольни долой. Я бы сам охотно написал Некрасову: перед смертью всё сглаживается, да и кто из нас прав — кто виноват? «Нет виноватых», говорит Лир... да нет и правых. Но я боюсь произвести на него тяжёлоевпечатление: не будет ли ему моё письмо казаться каким-то предсмертным вестником? Я знаю про себя, что, если бы я находился в положении Некрасова, — получить такое письмо, при такой обстановке — было бы равнозначаще для меня с «Lascia ogni speranza» или «Frere, il faut mourir». Мне кажется, я не имею права идти на такой риск. Объясните это Топорову. Надеюсь, Вы уверены, что никакой другой причины моему молчанию нет — и быть не может. Очень Вам благодарен за сообщённые сведения. Они дают довольно верное понятие о теперешней петербургской жизни. Стало быть, войны не будет — и Вы останетесь в Петербурге. Очень бы хотелось Вас застать там. Я начинаю несколько колебаться насчёт поездки... Мне почему-то кажется, что я в России не найду ничего, кроме неприятностей. Однако я эту мысль всё ещё не покидаю. Итак — славянский пыл испарился? Это меня не удивляет, потому что он всегда держался на одной поверхности, в так называемых высших слоях общества; но что религиозный жар остыл — это для меня менее понятно — так как можно было предполагать, что народ был им охвачен. Изо всего этого вывод один: сверху донизу мы не умеем ничего крепко желать — и нет на свете правительства, которому было бы легче руководить своей страной. Прикажут — на стену полезем; скомандуют: отставь! — мы с полстены опять долой на землю.
Но только немножко досадно, когда бывает, что седые волосы нажил, а уму-разуму не научился и ошибаешься, как школьник. Засим прощайте, милая моя... Надеюсь, что Ваш ушиб давным-давно прошёл, не оставив никакого следа, кланяюсь всем Вашим, крепко жму Вашу руку и остаюсь искренне Вам преданный Ив. Тургенев.
50, Rue de Douai. Paris. Середа, 7-го февр./26-го янв. 77.
Милая Юлия Петровна. Спасибо Вам за Ваше доброе письмо. Я всегда чувствовал, что Вы искренне ко мне расположены и принимаете во мне участие. О «Нови» говорить с Вами я не буду — потому что этот вопрос для меня решён окончательно. Пришедшее вчера известие о падении Мидхат-паши может опять изменить положение дел и возобновить шансы Горчакова и войны. Но всё-таки я теперь перестал в неё верить — и Вам едва ли можно рассчитывать на служение раненым и больным своей особой. Хоть Вы и не верите моему приезду в Петербург — однако я этой мысли не покидаю — и чувствую, что скоро Вас увижу. Вы меня называете «скрытным»; ну слушайте же — я буду с Вами так откровенен, что Вы, пожалуй, раскаетесь в Вашем эпитете. С тех пор как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески — и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно (да уж и немолод я был) — чтобы попросить Вашей руки — к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade... Вот Вам и объяснение моего поведения. Вы хотите уверить меня, что Вы не писали «никаких задних мыслей»; — увы! я, к сожалению, слишком был в том уверен. Вы пишете, что Ваш женский век прошёл; когда мой мужской пройдёт — и ждать мне весьма недолго — тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья — потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне всё ещё пока становится тепло и несколько жутко при мысли: ну, что, если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски? — и мне хочется спросить, как моя Мария Николаевна в «Вешних водах»: «Санин, вы умеете забывать?» Ну вот Вам и исповедь моя. Кажется, достаточно откровенно? Мне очень было жалко слышать то, что Вы говорите о своём нездоровье; надеюсь, что это ложная тревога — и Вы будете жить долго. Радуюсь во всяком случае, что ушиб прошёл бесследно. Целую Ваши руки и остаюсь Ваш Ив. Тургенев.
50, Rue de Douai. Paris. Вторник, 20-го/8 февр. 1877.
Милая Юлия Петровна, Ваши письма доставляют мне всегда много удовольствия — и я Вам очень за них благодарен. Ваши сведения о «Нови» подкрепляют только то, что мне писал Стасюлевич. Тимашев оказывается умнее прочих: а я всё-таки обязан сказать ему спасибо. Полагаю, что из перемен, о которых так много толкуют у вас, — ни одна не сбудется — и все останутся на своих местах. Меня несколько удивляет то, что Вы пишете мне о несомненности мира: я так думаю, что мы не избегнем войны, хотя решительно никто её не хочет: ни народ, ни правительство. Но это всё должно разрешиться скоро — так или иначе. Вы мне говорите, что последнее моё письмо Вас смутило, и произносите при этом фразу, над которою я поломал-таки себе голову. Впрочем, Вы сами меня вызвали на откровенность. Нет сомнения, что несколько времени тому назад — если Вы бы захотели... Теперь — увы! время прошло — и надо только поскорей пережить междуумочное время — чтобы спокойно вплыть в пристань старости. Но всё-таки мне очень хочется Вас увидеть. Двух месяцев не пройдёт — как это сбудется; в этом не сомневайтесь. И тогда... что тогда? — Ничего. Я буду иметь удовольствие поцеловать Ваши руки, которые Вы всегда с каким-то ужасом принимаете — и только. Ну что ж; и этого довольно. Я больше радуюсь радости Топорова, чем успеху «Нови», в который я всё-таки плохо верю. Он настоящий друг; поклонитесь ему от меня. Прочёл я «Детей Москвы» Салтыкова; признаюсь, ничего особенного в них не открыл. Довольно дешёвое и довольно тяжёлое, часто даже неясное глумление. Я здесь раза два видел Соллогуба. Он действительно пишет белыми стихами (это по-французски-то!) французскую трагедию — но это чепуха. Вы знаете ли, что с ним живёт одна русская барышня, некая Варвара Константиновна Аргутинская? Очень ещё молода, правда, в злейшей чахотке, но лицо симпатичное — особенно глаза — рот нехорош — какой-то рыбий, вялый. Но, помилосердствуйте, что она могла найти в Соллогубе? Старый, обрюзглый, с неопрятными глазами, с накожной болезнью — и какой у него рот! Видно, чем-нибудь умеет нравиться. Бросил жену, детей... Но, впрочем, это его дело; и я его за это не осуждаю. Не осуждаю я также маркизы де Ко. Муж её совершеннейшая дрянь — и она по крайней мере — ale courage de son opinion. Ax, если б и у нас было побольше мужества... несколько лет тому назад! Я очень сожалею о том, что и Вы и Ваши нездоровы. Надеюсь, что всё это скоро придёт в порядок. А пока позволяю себе поцеловать обе Ваши руки — и остаюсь искренне Вам преданный Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Вторник, 13-го/1-го марта 1877.
Вы прелесть, милейшая Юлия Петровна, — и будете ещё прелестнее, если не поскучаете прислать мне ещё несколько заметок насчёт юных нигилисток, которых судят теперь в Петербурге. Какой, однако, я дурак, что торчу здесь — и не нахожусь там с Вами, в окружном суде! Но я (не говорите этого никому, пожалуйста) родился дураком и умру оным — т. е. таким человеком, который всегда всё пропускает мимо рта неизвестно зачем! Факт, что из 52-х подсудимых (революционеров) 18 женщин — такой удивительный, что французы, например, решительно ничего в нём понять не могут! А меня упрекали критики — что «Марианна» у меня сделанная! Через 3 недели я отсюда выезжаю — это верно — и надеюсь захватить ещё и процесс, и Вас. Из поименованных Вами дам — моих приятельниц — находящихся теперь в Петербурге — я ко всем чувствую искреннюю, хотя разнородную симпатию... Самая загадочная княгиня Барятинская. Мне чувствуется в ней какая-то не то фальшь, не то напряжённость, которую я не совсем понимаю. Если бы (но это уже совершенно между нами) — если бы она была в сущности очень добродетельная женщина, которая бы не прочь была вдруг отдаться кому-нибудь из-за каприза — она была бы мне ясна как на ладони; но я не знаю: так ли это? — даже полагаю, что это совсем не так; и потому продолжаю недоумевать. Что бы Вы там ни говорили о том, что Вы подурнели в последнее время — если б поименованные барыни и Вы с ними предстали мне как древние богини пастуху Парису на горе Иде — я бы не затруднился, кому отдать яблоко. Но Вы все — богини; а я не Парис, и яблока у меня нет; да и Вы не пожелаете взять от меня ничего похожего на яблоко. Вы превозносите смирение Соллогуба перед женщиной, которая делает всё, что он хочет! Да это вроде смирения гастронома перед бифштексом, который он кушает! Должно быть, в нём есть великие и редкие качества, которые привлекают; ибо физически — il est, как выразился о нём некто — inregardable! Но женщина — как усердие Клейнмихеля — всё превозмогает! Впрочем, я его барыню видел всего один раз и нашёл в ней довольно ординарный тип; хотя Соллогуб и уверяет, что в ней целая дюжина сидит трагедий! Игнатьев здесь; и все очень хлопочут около него и возятся с ним. Кажется, он ничего положительного не добьётся, да я начинаю думать, что наше правительство и не желает ничего добиться, а только выиграть время, чтобы весной начать войну. Я всё ещё никак не вижу — как это мы можем вывернуться без войны. Впрочем, на свете всё бывает... за исключением одной вещи, где замешаны Вы... и которая, конечно, никогда не сбудется. А за описание нигилисток заранее целую Ваши милые руки — и да ниспошлёт на вас лорд Родсток апостольское благословение! Преданный Вам Ив. Тургенев.

50, Rue de Douai. Paris. Суббота, 17-го/5-го марта 1877.
Какой Вы, однако, добрый друг, милая Юлия Петровна — и как Вы заступаетесь за отсутствующих! Но Вы, однако, не слишком гневайтесь на всех этих г-д Апухтиных и т. д. Кто знает, может быть, они и правы. Я сам больше всех недоволен собственной работой — и в душе едва ли не сочувствую всем критикам, которые так единодушно меня распекают! Действительно, живя вдали от России, невозможно вполне и живо передать то, что составляет самую её суть. А потому я твёрдо решился больше не писательствовать — имя моё не появится ни в одном журнале — в этом Вы можете быть уверены. Буду продолжать жить, пока немощи не одолеют, придумаю себе какое-нибудь занятие — а там ведь скоро конец под гору пойдёт — и уж совершенно будет всё едино! Но я всё-таки благодарю Вас за жар Вашей дружбы — и с умилением целую Ваши хорошие руки. Читаю я процесс пропагандистов в окружном суде... очень что-то уж глупо, точно какие-то пошлые школьники. Но как мне жаль, что я всего этого не вижу глазами. Именно с Вами я хотел бы всё это видеть. Да я ещё не теряю надежды. Кстати, отчего же так беспокоит кн. Оболенского болезнь гр. Протасовой? Вы ещё говорите о чёрных тучах; а мы здесь, после приезда Игнатьева — расцвели — и видим будущность в розовом свете. Никто не сомневается в мире — и так как позор его падает на нас одних — то никто и не печалится. Я получил от П. М. Третьякова письмо, в котором он уведомляет меня, что вручил для Миклухи-Маклая 1000 р. сер. Признаюсь откровенно, при нынешних моих обстоятельствах ох как солоно мне дать эти обещанные две тысячи — но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Я своё слово держу. Попросите только кн. А. Мещёрского, чтобы он мне написал, когда именно ему нужны эти 2 тыс. Я было рассчитывал на запроданную книгопродавцу Салаеву (в Москве) «Новь»; он мне давал 2000 р.; но ввиду единогласной журнальной брани я счёл своим долгом написать Салаеву, что я не желаю его ввести в убыток — и предоставляю ему право отказаться от нашего условия; не сомневаюсь в том, quil me prendra au mot — «Новь» отдельно издана не будет — и я останусь на бобах. Трудные, милая , подошли для меня времена! А засим желаю Вам всего хорошего на свете, вторично целую Ваши милые руки и остаюсь душевно Вас любящий Ив. Тургенев.
50, Rue de Douai. Paris. Четверг, 19-го/7 апреля 77.
Милая Юлия Петровна, я перед Вами виноват — так долго молчал. Но я был очень занят — и духом мрачен — хотя физически здоров. Я и теперь не в лучшем настроении духа — и пишу Вам только два слова: во-1-х, для того, чтобы Вы не сочли меня неблагодарным, а во-2-х, для того, чтобы известить Вас о скором моём отъезде. Через две недели я в Вашем восточном кабинете — в этом большом, тоже восточном, доме. Но, пожалуй, Вас уже тогда в Петербурге не будет, по милости этой войны... О эта ужасная, безумная война! Но нет, я не хочу думать, что я Вас уже не застану. Я очень буду рад Вас видеть и целовать Ваши руки, которые прошу Вас у меня не отнимать, как Вы всегда это делаете. С границы я Вам пошлю телеграмму. Впрочем, я Вам напишу ещё до того времени. Итак, до свидания! Будьте здоровы — и веселы... веселей меня во всяком случае. Любящий Вас Ив. Тургенев.
P.S. Посылаю Вам под бандеролью номер Музыкального журнала, в котором Вы найдёте статью Сен-Санса об одном молодом французском музыканте Форэ; я принимаю в нём живейшее участие — и прошу Вас через Топорова (которому я тоже пишу) — постараться поместить перевод этой небольшой статьи в каком-нибудь журнале. Соната Форэ издана в Лейпциге.
Париж. 50, Rue de Douai. Четверг, 10-го мая 77.
Милая Юлия Петровна, пишу Вам из постели, куда свалил меня сильнейший припадок подагры. Это со мной случилось вчера, а я должен был выехать послезавтра! Теперь я ничего уже не могу сказать положительного — но, во всяком случае, должен покинуть надежду увидеть Вас в Петербурге перед Вашим отъездом в армию. Это очень горько — но в моей жизни гораздо больше приключалось горького, чем сладкого. Мне остаётся только пожелать Вам всего хорошего и крепко-крепко поцеловать руки. Любящий Вас Ив. Тургенев.
Париж. 50, Rue de Douai. Четверг, 24-го/12 мая 1877.
Сейчас получил Ваше письмо, милая Сестра Юлия, и спешу отвечать Вам в надежде, что моё письмо Вас застанет в Петербурге. Грустно очень думать, что мы не скоро увидимся; тем грустнее, что я, вероятно, двумя-тремя днями не захвачу Вас там! Я выезжаю отсюда в субботу, т. е. послезавтра; моя подагра почти прошла, хотя я ещё всё не могу надеть сапоги и щеголяю в туфлях; но невозможно долее откладывать. Мне и без того путешествие в Россию и пребывание в Петербурге представляются именно теперь чем-то весьма невесёлым; Ваше отсутствие — и, сколько я слышал, присутствие холеры прибавляет ещё больше черноты к фону картины. Но делать нечего! Моё самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжёлом странствии. Желаю от всей души, чтобы Ваше здоровье не потерпело. А ехать в Кишинёв, к моему «приятелю» Черкасскому — нет; я этого не сделаю, не потому, что меня пугает дальнее путешествие — не потому, что я не патриот; но я люблю Россию иначе, чем те господа, которые держат теперь её в руках; желаю им всяческих успехов, но присутствовать при их деятельности не хочу. Будем надеяться, что эта бедственная война не затянется; но едва ли можно предвидеть ей скорый конец. Предвижу, что в Петербурге останусь недолго — там для меня пахнет литературой — а я получил к ней достаточное омерзение в последнее время; да и она меня извергает; так что нам лучше всего разойтись подобру-поздорову. Я даже не понимаю того, что Вы мне сказали о Мещёрском: вместо того, чтобы дать Миклухе взаймы 2000 р. — я ему подарил 1000, что, при моей гнусной бедности, совсем было нелегко. А какой Ваш костюм? Костюм Сестёр Милосердия? Посмотрел бы я на Вас... и, вероятно, тоже был тронут. Знаете ли Вы, по крайней мере, Ваших будущих товарок? Я даже не могу себе представить: как это так — 22 женщины вместе? — Господи! С особенным чувством благодарю Вас за то, что упомнили обо мне — и с великой нежностью целую Ваши милые руки, которым предстоит делать много добрых дел. Если вздумаете написать (за что весьма буду обязан), то мой самый верный адрес: «В контору редакции «Вестника Европы», Петербург, Галерная, 20, для передачи». Ещё раз прощайте, будьте здоровы и бодры.
ИЗ ПИСЬМА ЮЛИИ ПЕТРОВНЫ БЕЗ ДАТЫ И НАЧАЛА
(Приблизительно зима 1876/77 года)
...впрочем, вечного ничего нет, кроме вечного, тупого ожидания до гробовой доски чего-то лучшего и неведомого. Я веду жизнь весьма однообразную, муж моей сестры уехал ненадолго по делам, я очень мало выхожу из дому — и так как живу ещё на бивуаках, мебель ещё не привезли, — то мало кого могу принимать у себя, да и не хочется. В этом несчастном климате тотчас же чувствуется какое-то нравственное разложение, встряхнуть которое нет мочи. Сестра моя характера мрачного, и так как я её очень люблю, то не могу ни о чём думать, видя её более или менее неспокойной. Моя же жизнь, собственная особа окончательно стала меня не занимать. Я очень подурнела и постарела и, вообразите, нисколько не горюю. Вижу часто мою старую приятельницу начальницу сестёр милосердия. Учусь ходить за больными и утешаю себя мыслью, что делаю дело. Тут проводит зиму гр. Строганов из Рима, с ним мы иногда ездим по выставкам картин — в Академии познакомилась я с Айвазовским, он показывал нам свою новую картину; очень море туманное и некрасивое. «Волынский» Якоби, по-моему, очень удачен, но на всё остальное почти нельзя смотреть. Зато серебряные вещи Овчинникова прелестны. Вряд ли придётся мне выехать ранее половины или конца мая, это меня только радует, потому что таким образом есть надежда Вас видеть. Ещё раз, как всегда, жму Ваши дорогие руки... Сердечно преданная Вам Ю. Вревская.
«ВОЙНА ВБЛИЗИ УЖАСНА»
(Испытание кровью)
«...Люди русские, да не оскудеет и ныне ваша помогающая рука! Вы спасли от голодной смерти многих и очень многих... Теперь же не оттолкните от вашего сердца и припавших к нему болгар», — писали «Санкт-Петербургские ведомости» в июле 1876 года — и медные пятаки, копейки опускались в кружки для пожертвований. Во дворе «Славянского базара», в Москве, и в других местах собирались целые толпы и ждали решения — кому можно будет идти на фронт и кому нельзя. На улице в эти дни запросто можно было встретить семидесятилетнего сановника, отдающего последние визиты и записавшегося в корнеты гусарского полка — на лошади «корнет» держался вполне сносно. Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает о молодой девушке из состоятельной семьи, которая пришла к нему за благословением. «Мне вдруг стало очень жаль её, она так молода. Пугать её трудностями, войной, тифом в лазаретах — было совсем лишнее: это значило бы подливать масло в огонь. Тут была единственно лишь жажда жертвы, подвига, доброго дела и, главное, что всего было дороже — никакого тщеславия, никакого самоупоения, а просто желание — «ходить за ранеными», принести пользу. — Но ведь вы не умеете ходить за ранеными? — Да, но я уже справляюсь и была в комитете. Поступающим дают срок в две недели, и я, конечно, приготовлюсь. — Но вы же так молоды, как можете вы ручаться за себя? — Почему вы думаете, что я так молода? Мне уже восемнадцать лет... — Ну, Бог с вами, ступайте. Но кончится дело, приезжайте скорее назад. Она ушла с сияющим лицом и уж, конечно, через неделю будет там». Однако Александр II медлил. У него ещё были надежды на дипломатов. Благоразумие брало верх над чувствами, он боялся подвести Россию под новую европейскую войну, а крымское поражение вселяло сомнение в безоговорочной победе. Все, без исключения, общественные круги были недовольны; стали поговаривать, что Каракозов промахнулся напрасно; государственная и дипломатическая верхушка во главе с князем Горчаковым, военным министром Милютиным и генералом Игнатьевым начала склоняться к мысли, что война с Турцией после поражения Сербии, ультиматума и уже частичной мобилизации русских войск, во-первых, почти неизбежна, во-вторых, вполне могла бы послужить «пробным камнем» для оценки того, что было сделано в армии после крымского поражения. Газеты же продолжали в изобилии печатать на своих страницах воззвания и телеграммы о поднятых на штыки младенцах, обезглавленных в алтарях православных священниках и обесчещенных и убитых девушках и старухах. Вся Россия закипала, как смола, от подобных известий. Не богатства и земли были приманкой, а попираемая вера православная да турецкие изуверства — вот уже «...и стар и млад точит саблю. Давненько казачий конь не пил дунайской водицы». Император не хотел войны. Вылазку генерала Черняева он назвал «авантюристической выходкой и самоубийством», хотел лишить орденов за то, что тот увлёк на верную смерть тысячи. «Черняев повёл их не отличаться, а умирать...» — писали в газетах. Писали с пафосом, восхищаясь этими смертями, и только царь и граф Толстой осуждающе смотрели на эту «смелость». В VIII главе «Анны Карениной» Лев Николаевич распёк добровольцев, назвав авантюристами и шалопаями. Славянофилы затопали ногами на такую «бескрылую» позицию, и всегда такой несговорчивый Толстой поддался (дворянская честь?) и уж после говорил: «Вся Россия там, и я должен идти»; к счастью, Софья Андреевна легла костьми — не пустила. А господин Достоевский выступил со статьёй «Не всегда война бич, а иногда и спасение». Неужели и впрямь лучше иметь великую историю, украшенную боевой славой (к чему и призывал И. Аксаков), чем просто сохранённые жизни?.. А народ говорит: «Худой мир лучше доброй брани». Война (особенно освободительная) всегда пачкается брызгами шампанского, и каждый волонтёр за месяц до неё — уже герой. А кончается она всегда тем, что ободранный, измученный бессонницей, поносом и холодом человек в отчаянии думает: как бы выпутаться из беды... Хватит крови, смерти, вони, скорей бы домой! Русско-турецкая война 1877—1878 годов завершилась мирным договором в Сан-Стефано 19 февраля 1878 года. В день годовщины отмены крепостного права. Русское общество по-разному отнеслось к окончанию войны. Нигилисты дождались домой царя и снова начали убивать его, либералы и консерваторы объединились и принялись заново разжигать страсти. Они требовали продолжения, им — невоевавшим — было мало крови. Они смело заявляли, что «Царьград ещё не очищен от азиатской скверны, и задача России решена ещё не вполне». Аксаков, гневно указывая на Александра II, объявлял, что Россия покрыла себя позором, не войдя в Константинополь, добровольно отказалась от успехов, за которые плачено кровью. Как он умел говорить! А войди русские в Константинополь, тут же началась бы новая война с Англией — России был поставлен ультиматум, — и император снова «малодушно» жалел русскую кровь. А Скобелев, стыдясь, не мог императору в глаза смотреть — ну, этот-то вояка, ему без войны скучно; но Аксаков? Интеллигентный господин в пенсне, с высоким лбом — зачем ему было столько крови? Двести тысяч русских жизней — неужели не хватило для славянской идеи такого жертвоприношения?! Аксакову предлагали стать королём Болгарии! Что же он отказался? Войну «расхлёбывали» все вместе. Кроме людей военных, немало, как это ни удивительно, и «служителей муз».

Георгиевский крест за храбрость получил известный художник П. П. Соколов. Отлично воевал В. В. Верещагин — был помощником минёра на катере «Шутка», сражался с турецким военным кораблём. В Дунайской армии воевал В. Д. Поленов. О приключениях Немировича-Данченко на маленькой шустрой лошадке знал по его корреспонденциям весь Петербург. Семидесятичетырёхлетний Пирогов и тот пошёл. «Что за гениальный старик, какая в нём неутомимость!» — писали о нём с фронта. Дядя Гиляй от избытка молодечества подался в пластуны — отряд смертников — и с наслаждением добывал «языков», ходил в разведки и резал турка ножом, которым пользовался с особой ловкостью. До того как его надоумили идти в пластуны, он буквально пропадал со скуки. А доброволец Гаршин, стоя в распахнутой шинели у Исаакия, говорил жаркие речи на проводах, а потом в бою застрелил турка, пролежал рядом с ним четыре дня раненый, смотрел, как человек, у которого было сердце, глаза, страх, счастье, жена, дети, — раздувался, пух, рос до неба, а потом сползал с собственных костей, лопался и сох — и всё это сделал с ним он, пылкий доброволец Всеволод Гаршин, во имя освобождения и Христа... Ему и хватило... Демобилизовался и всё ходил с детскими глазами по кабинетам, просил, чтобы отменили смертную казнь, отменили войну, отменили смерть... А кончил в лестничном пролёте. Его смерть, пожалуй, последний отзвук славной победы. ...Однако Александр II медлил. Звонили траурные колокола, сыпались в кружку медяки «на угнетённых славян», выстраивались в очередь добровольцы. Дипломаты и политики волновались, предчувствуя долгожданные интриги, дележи и перемены. Все хотели воевать. А он один — между Богом и людьми. В апреле 1877 года пришло письмо от экзарха Болгарии Антима: «...Если Его Величество Всероссийский император не обратит внимание на положение болгар, не защитит их теперь, то лучше их вычеркнуть из списка славян и православных, ибо ОТЧАЯНИЕ ОВЛАДЕЛО ВСЕМИ!» Манифест был подписан. Дальше всё понеслось стремительно и необратимо. На Константинопольской январской конференции 1877 года, на последнем заседании, поднялся Савфет-паша и прочёл ноту — категорический отказ в улучшении участи восточных славян, что расценивалось как действия, «несовместимые с достоинством Оттоманской империи». Эта нота была пощёчиной России. В начале марта генерал-адъютант граф Игнатьев объездил столицы пяти государств и добился подписания «Лондонского протокола», в котором европейские державы вновь настаивали на проведении реформ на Балканах. 29 марта 1877 года на «Лондонский протокол» Турция ответила безусловным отказом. 12 апреля в начале девятого часа утра Александр II осмотрел войска на Скаковом поле, недалеко за чертой города Кишинёва. Здесь же, в виду всего фронта, был установлен аналой и собралось духовенство. Несмотря на середину весны, было холодно, может, отчасти из-за раннего часа. Из ноздрей нетерпеливо всхрапывающих лошадей шёл пар. Народ, празднично одетый, молча, огромными толпами собирался и устраивался по краям поля. Около девяти показалась открытая коляска, в которой ехали император и Великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий армии. Коляску сопровождал эскорт всадников. В девять утра раздался звон колоколов православных кишинёвских церквей. Кишинёвский епископ Павел сложил руки на груди и несколько минут молча пристально вглядывался в лица военных, стоявших перед ним. Сделалось тихо; казалось, всем было слышно, как прошуршал передаваемый из рук императора в руки Павла пакет, как хрустнула, сломавшись, сургучная печать на нем. Владыка осенил себя крестным знамением и громким, низким голосом начал читать:
«Божиею милостью Мы, Александр Вторый, Царь польский, Великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Всем Нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое Мы всегда принимали в судьбах угнетённого христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить его жизнь разделял с Нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова. Кровь и достояние Наших верноподданных были всегда Нам дороги... ...Исчерпав до конца миролюбие Наше, мы принуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного Нашего достоинства. Турция, отказом своим, поставляет Нас в необходимости обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте Нашего дела, Мы, в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего, объявляем всем Нашим верноподданным, что наступило время, предусмотренное в тех словах Наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия. Мы выразили намерение действовать самостоятельно, когда Мы сочтём это нужным и честь России этого потребует. Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска Наши, Мы повелели им вступить в пределы Турции. Дан в Кишинёве, апреля 12-го дня, лета от Рождества Христова в тысяча восемьсот семьдесят седьмое, царствования же Нашего в двадцать третье». На подлинном Собственного Его Императорского Величества рукою подписано: «Александр». Люди окаменели, будто переступили какой-то желанный порог и оцепенели от долгожданной неожиданности. Казалось, время остановилось. В следующую минуту всё взорвалось единым, мощным «ура». Кричали и плакали от накопившихся чувств генералы, вдовы, солдаты — все, кто собрался на поле в этот день. — Батальоны, на колени! — провозгласил растроганный император. Все припали к земле. Бьющиеся в руках знаменосцев полотна замерли. Епископ окропил войска святой водой и призвал всех воинов вспомнить образы великих русских князей: Олега, Игоря, Святослава; великих царей: Петра Великого, Екатерину Великую; великих полководцев: Румянцева, Суворова, Кутузова — и быть, как они, в отношении чести, мужества и служения великой России. Потом он благословил главнокомандующего иконой Спаса, а все русские войска через генерала Драгомирова — иконой Богоматери. Первым выступил из Кишинёва 53-й Волынский пехотный полк, шефом которого был назначен в этот же день Великий князь Николай Николаевич, за ним остальное русское войско. «За веру Христову», «За родную славянскую кровь», — слышалось отовсюду, и, наверное, «старой Западной Европе непонятно то, что чувствовал тогда молодой ещё русский народ, всем своим существом стремившийся совершить этот «крестовый Славянский поход». — Прощайте, православные, не посрамите себя и нас ни в пути, ни на месте! — вслед каждому поезду с добровольцами кричали провожавшие. Среди императорской свиты в Кишинёве на Скаковом поле 12 апреля была и русская баронесса Юлия Петровна Вревская.
«СТРАННЫЙ НАРОД»
(Этюд в эпистолярном жанре)
В июне 1877 года началась переправа через Дунай (Скобелев предлагал форсировать раньше, в разлив). Первым ступил на болгарскую землю отряд генерала Драгомирова: «Разместились солдатики у понтонов на берегу. — Готовы? — Готовы! — ответили шёпотом голоса. — Ну, с Богом, садись... Генерал снял фуражку, перекрестил понтоны, перекрестился сам; все солдаты, тоже сняв шапки, перекрестились. Тихо поплыли понтоны. Нигде ни звука...» Все были уверены, что турки откроют адский огонь, но... на берегу турецкой армии не было. Потом уже набежали, конечно, из крепостей, да поздно — «русские овладели плацдармом в районе Систово». Ловкий и отчаянный Гурко перебрался через Балканы не только самым непроходимым перевалом, но и сделал это, «не наблюдаемый противником». Половину августа ожесточённо дрались с турками за Шипкинский перевал, потом наступило знаменитое «шипкинское сидение» и продолжалось до конца декабря. Зелёная горка хорошо была всем известна: сколько ни пляши всю ночь на одной ноге, а всё равно — отморозишь. Нередко смена заставала солдатика навечно стоящим на посту — шинель от мороза и влаги — как кринолин, так мёртвый и стоит в ледяной обёртке и к груди ружьё прижимает: «На Шипке всё спокойно!» 28 декабря час Шипки пробил! Ждали Скобелева. Скобелев не тянул: ещё утром только готовились наступать в лихорадке от ожидания и страха — «что-то будет!», а в половине пятого бой прекращён: овладели всеми позициями, противник в ужасе сдался... и нескончаемое «ура» долго эхом носилось в горах. «Конечно, дело 28 декабря самое блистательное за всю кампанию», — писал полковник Л. Д. Вяземский. В плен сдались 22 тысячи турок с 83 орудиями. Русские потеряли убитыми пять тысяч человек, из них триста болгарских ополченцев. Плевна видела три сражения. Первые два (8-го и 18 июля) были неудачными; «третья Плевна» — лейб-медик Боткин назвал её «преступлением» — продолжалась с 26-го до 31 августа. «Невидимка Плевна, унёсшая уже столько жизней...» — по словам Верещагина — ждала новых жертв. В газетах писали: «Всё было ужасно, начиная с тумана; но посреди этих мрачных картин был и светлый луч; ничем не сокрушимая доблесть наших войск... которые служили не только при жизни, но и по смерти: будучи сложены трупами на скобелевских редутах, они выручали товарищей, прикрывая своими телами оставшихся в живых...» В течение пяти дней здесь шла настоящая бойня, «носящая название штурма», — трупы, трупы и только один взятый редут. Не получив никаких подкреплений, отряд Скобелева сражался более чем с половиной всех войск Осман-паши. С 1 сентября началась изнурительная блокада... 28 ноября турецкий гарнизон Плевны (свыше 43 тысяч человек) капитулировал, и Плевна пала! Петербургские газеты ликовали: «...Наконец-то, наконец эта злосчастная Плевна наша, мы упиваемся победой во всём объёме этого слова». За две недели до сдачи Плевны Боткин совсем не так восторженно, как из Петербурга, смотрел на это дело: «Пора, пора кончать с этим ужасом!! Неужели ещё мало крови, мало несчастья, мало бедствия? Кому всё это нужно? Несчастным братушкам, которые чуть не с ненавистью глядят на нас, посылая нам проклятия и самые скверные пожелания?! ...Здесь идёт такая вражда друг на друга, столько зависти разлито... что ко всякому факту нужно относиться с осторожностью. Пора, пора из этого ада тщеславия, зависти, сребролюбия!» А военный корреспондент Немирович-Данченко в то же время писал в очерках для столичных газет: «Болгары в это время явились нашими спасителями, потому что трудно было сказать, от чего мы больше страдали — от неприятельских нуль или от жажды. По всей дороге растянулись эти добровольцы-водовозы в два ряда... Около каждого солдата останавливается болгарин. — Братушка, вода! — Спасибо тебе... И какая же у тебя вода холодная. Раненых болгары поили и обмывали им раны и, возвращаясь назад, везли их на своих ослах».

По горам лучше всех «лазал» Гурко. Он первым начал переход через Балканы 13 декабря и снова проделал всё ловко и чисто, в обход турок. По плану его 70-тысячный отряд должен был двигаться к Софии. Скобелев не отставал от удачливого товарища и азартно провёл свою колонну по тропе, считавшейся зимой совершенно непроходимой. Девять с половиной километров крутого подъёма с четырёхметровым снежным слоем он прошёл за 72 часа. После преодоления Балкан и победы у Шипки — Шейново русские войска стремительно двинулись к Константинополю. Последний бой разыгрался под стенами Филиппополя. Почти вся турецкая артиллерия была захвачена. Турки бежали. Адрианополь сдался без боя. У иеромонаха Н., путешествовавшего по полям битв при Красном Кресте, вырвалось: «Адрианополь — город неказистый... О Господи! Вынеси нас на святую Русь!» В предместье Константинополя, небольшом и, возможно, тоже «неказистом» городке Сан-Стефано, был подписан мир. Десять месяцев длилась война (военные действия шли ещё и на Кавказском театре, и потерянный в Крымской и уже перестроенный англичанами Карс Россия себе вернула), и многие, кто свежим весенним утром слушал владыку Павла на полковом поле, не вернулись. Не вернулась и Юлия Петровна. Письма Вревской, переписанные её сестрой Натальей и хранящиеся в Пушкинском Доме в Петербурге; письма Боткина; дневники военного министра Милютина — сколько их, этих воспоминаний! Война одна, а глаз, что видели её, много. И для всех она — разная. Своя. Война генералов. Война солдат. Война священников. Война врачей. Война Вревской. Странно, но на войне существует распорядок дня, как и в каком-нибудь пансионе. Для солдата он такой: 1. Утро. Ружейная перестрелка до полудня. 2. Канонада часа на два. 3. Опять ружейная пальба до сумерек. А потом ночь, смена караула, земляной дымный ложемент. Разговоры, домашняя работа, чтение — кто грамотный. И каждый второй солдат болен животом и ногами. Животом — от дрянной «борщекаши» да ненавистных «концертов» (так солдаты называли консервы), а ногами — от длинных переходов, стояния в цепи и в ночном карауле. И обморожен он, и голоден, и вшив, на начальство жаловаться не умеет и в караул пойдёт — болезнью не отговорится. Это офицер может с простреленным пальцем в госпитале лежать — «перевязывать срам», как напишет Вревская, хотя тут же заметит, что и «смелых много». Солдат же стоит на ветру, как свечечка, а потом, если насмерть не замёрзнет, будет трястись на телегах по госпиталям. А приедет в госпиталь государь, тут бы и просить, а они только: всё есть, Ваше Величество, благодарим покорно, ещё послужим Отечеству! Что с ними сделаешь?!

Утром — молитва. Стоит на коленях вся цепь в степи, без шапок, до последних слова не долетают; и нечёсаные затылки золотит восходящее солнце. И не знают, будут ли живы в этот наступивший день. Каждая молитва — перед смертью. А будет жив нынче, то при свете сального огарка каким-нибудь сломанным перочинным ножиком или гвоздём ложек резных наделает и сапоги починит, потому как «солдат шилом бреется, а дымом греется». А туманы в болгарских горах до того густы, что в трёх шагах ничего не видно. Так и на Шипку они шли: форсированным маршем в летних брюках и рубахах, а ранцы с вещами было приказано оставить в Тырново... Долгий путь к Константинополю, в дороге ураган, и снег, и грязь, и сон на сырой земле под шинелью. А на заре снова месить ногами липкую грязь, снова голодать да стараться не отстать — замёрзнешь до смерти, — и тащить на себе артиллерию, обозы, и перекусывать проклятыми «концертами» — вот и вся война и вся слава для солдата. И мемуаров не оставит, и потомкам наставлений не пошлёт, сгинет без имени в чужой земле. «Но как можно роптать, когда видишь перед собой столько калек, безруких, безногих, и всё это без куска хлеба в будущем... это жалости подобно видеть этих несчастных, поистине героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота. Да, велик русский солдат!» Вревская знала народ не по книгам. О солдатах пишут все мемуаристы: и строгие, и желчные, и мягкие. Они так единодушны в своём гимне «простому русскому солдату», будто, чувствуя свою вину перед кротким «пушечным мясом», знают наперёд, что ничем, кроме этих восторженных слов, отблагодарить его не смогут. А в остальном единодушия гораздо меньше. Немирович-Данченко в репортажах писал, что болгары ходили за ранеными, «как няньки», и были очень дружны с русскими солдатами, а киевский иеромонах при Красном Кресте отец Н. и лейб-медик Боткин, словно сговорившись, твердят обратное. «Братушки наши совсем не гостеприимны. Никакой нужды они не испытывают, а спроси у них чего-нибудь — один отказ: «Нету, братушек!» Если же вы уличите его во лжи и настоятельно потребуете чего-нибудь, тогда услышите самую баснословную цену. Но есть надо и... платишь», — это святой отец. «...Здесь в Беле (село Бяла — где и работала в госпитале Вревская. — М. К.) народ смотрит очень богато обставленным: какая масса скота, хлеба, да какого! ...В нашей Могилёвской губернии крестьяне сравнительно с здешними — нищие; какие у здешних крестьян лошади, волы! Кроме видимого богатства — апатия и равнодушие болгар к русским... впрочем, может быть, болгары боятся, что турки снова явятся и будут душить их за сочувствие к русским», — это Боткин. «...Болгары с солдат берут за всё вчетверо; противные братушки, они меня страшно сердят», — а это уже Юлия Петровна, национальная героиня Болгарии[24]. А вот диалог 17 июля 1877 года. Боткин беседует с болгарином, загоняющим домой отличных лошадей. — Что, лошадей-то, чай, у турок взял? — спрашивает Боткин и в скобках, в письме описывая этот случай, помечает: «Делает вид (болгарин), что не понимает». — Турецкие лошади? — А, не, не — мои! «Я же уверен, — выносит приговор лейб-медик, — что краденые лошади». Вообще же и святой отец, и царский медик словно взялись наперегонки критиковать всё вокруг — кто кого перегонит. Любопытно их послушать... Батюшка начал прямо с роскошных лазаретов Красного Креста, средства на которые давала императрица. «Да попади туда обычный солдатик на три дня, он пожелал бы умереть тут, чем возвращаться на родину...» — заявляет он и дальше принимается ругать правительство за то, что остальные пользуются более скромной обстановкой в госпиталях от военного министерства. А на синие санитарные кареты — просто зависть берёт. «Если бы Красный Крест поделился этими каретами с военным министерством, какое бы облегчение принесло это раненым», — кипятится он и довольно желчно добавляет: «Русь любит блеснуть, а за дело взяться не умеет!» И сёстрам милосердия от него досталось: «Ни к чему не способны». И храмов в Болгарии совершенно нет «нашей архитектуры»: внутри грязь, живопись убийственна, шум во время службы до оглупления, пение отвратительное, и «туфли в алтаре валяются». Зато в мечетях чистота, благоговейный покой и тишина, и вообще, «уровень культуры у турок, вопреки журналистскому вранью, оказался высок». Да, сварливый батюшка любит «куснуть» и своих, и чужих, маловато в его словах смирения. Заточил перо на гневных речах и приступил к тому единственному, что ему в Болгарии понравилось. А понравилась ему, похоже, только природа. Со сдержанным упоением перечисляет он реки, скалы, ореховые деревья, буки, кельи горного монастыря, похожие на ласточкины гнёзда; и зелень, «наляпанную, словно кистью, на серый гранит скал». И виноградные лозы. На описание одного подъезда к монастырю у батюшки ушло две страницы. «...Ильинский монастырь расположен у подножия двух гор, между которыми протекает речка, весьма быстрая. Моста нет, и переезжать нужно вброд, по каменистому дну, в очень опасном месте: не далее трёх сажен от брода речка вертикально падает с порога. Шум от этого водопада большой...» И так далее. И это письма с войны! О век, когда жили неспешно! Царский лейб-медик Боткин похвалил только луну, которая так красива, что «магометане недаром поклоняются ей». И хороша она даже в затмении, когда вся закрылась, «оставив только кончик театрального тусклого месяца, который покачивался в облаках, словно готовый сорваться». Храмы «почти в подземелье» тоже не понравились Боткину. И объяснения болгар, чтостроить по-другому не удавалось из-за турок, не убедили его. Показаниям этим, пишет Боткин, противоречат колокольни, которые всё равно видны издали, так что строят они такие не из страха, а от лени и небрежения к вере. И про турок то же: «...Турки сгнили только в головах кабинетных людей, и точно так же — будто бы угнетены болгары. Турки, вооружённые англичанами великолепными ружьями с млрд, патронов, воинственные по природе, экзальтированные религиозным фанатизмом, очень сильны...» Уважение Боткина вызывали немногие. Государь, иногда с температурой под сорок, но всё равно спокойный: «Господа, бодрее, наша возьмёт!»; военный министр Милютин, Обручев, Радецкий, Драгомиров. К Скобелеву он относился неоднозначно, не мог понять этого «сорвиголовства», а уж о придворном писателе графе Соллогубе высказался совсем резко: приехал, дескать, прогулял в коляске по Бухаресту и пропустил сдачу Плевны — ничего себе, хорош «военный писатель». Задурил в штабе головы будущим документальным романом: о вас, говорит, напишу, а вот о вас — не знаю, подумаю... И все, как дети, «старались приглянуться ему, попасть в роман». Сетовал Боткин на то, что вблизи и войны никакой не видно (ну, это кому как), просил жену из России сообщать ему о том, что делается здесь, присылать вырезки. Надо признать, что в общем-то многовато в его письмах чая под грушами и яблонями, раздумий в сумерках, писания записок и писем, обедов на свежем воздухе, нравственной апатии, нравственной бодрости, критики, самокритики — такая вот война глазами придворного интеллигента. Обходы госпиталей, где всегда одно: грязь, вонь, страдания, смерть; переезды с места на место, мучения раненых на арбах по дурным дорогам, непролазная грязь, угрюмые болгары, и ещё только август. Впереди осень, зима. Ещё не взята Плевна, идёт оборона Шипки, и кажется, что этому не будет конца. Бездарность Непокойчицкого, спасительный приезд Тотлебена, скромность и серьёзность Милютина, мягкая мудрость государя. И снова распри и интриги на Главной квартире, в штабе, жара — в тени до двадцати восьми — зудение кузнечиков, жалобы на врачей, на то, как плохо поставлено медицинское дело: много хороших виртуозных хирургов, а нужны техники, так как идёт поток, поток... От жары и усталости неприятное происшествие: в румынском войске солдаты отказались идти на штурм и подняли на штыки офицеров, пригрозивших им револьверами. «Хороши союзнички!» — горько восклицает Боткин, смертельно уставший от этого «перетирания в порошок человеческих жизней!». В сентябре начались затяжные дожди, дороги размыло в кашу, к утру холод, лошади (те самые, что так любовно отбирались крестьянами на «святую войну» и отдавались почти даром, и лучшие: на святое дело грех плохих давать) — передохли, а тут ещё болгары «топят свои печи из необожжённой глины, с кислым запахом, и нет сил терпеть эту чужую вонь. Зачем пришли? Для кого? — спрашивает каждый себя...». И война продолжается просто за право выжить, выбраться, увидеть родину, дом... В каждой войне наступает «отрезвление». И снова болгарский «невозможный» суп из перца, бабы за тканьём, окна без стёкол, темнота, смрад, клопы, мухи, пыль, теснота... И прежде батюшка, а за ним и Боткин не выдерживают, и снова «яд» каплет с их пера. «Я говорю ему, — кипятится отец Н., рассказывая в письме, как «распекал» болгарина, — не поздновато ли вы хватились заявлять о своём патриотизме? ... Пронеситесь-ка мыслью над недавним прошлым! Чем заявили ваши жёны и сёстры своё сочувствие к русским страдальцам-воинам? Взялась ли хоть одна вымыть бельё нашего солдата, залитое потом и кровью? Положила ли болгарка заплату на его изодранное бельё? Утолили ли вы жажду (вспомним Немировича-Данченко! — М. К.), накормили ли вы измученных в бою хоть раз даром, без денег?! Ничего подобного не видали от вас «братушки», как вы нежно нас величаете... Что же, начинайте с Божьей помощью! Русский народ ещё не остыл в своей бескорыстной любви к вам...» Представляю, как произносил свою речь батюшка, указуя перстом в закопчённый потолок; как, и половины не понимая, слушал его зашедший к хозяйке в гости болгарин, может, сам ни в чём и не виноватый, дослушал и «тут же ушёл», не сказав ни в оправдание, ни в укор ни слова. «Нет, не за этих людей проливали мы кровь, — негодовал Боткин, — а за будущих, за правнуков теперешних. Мы трудимся за идею христианства. Посмотрю, что будет дальше; своими же глазами я мог видеть только то, что турки угнетали культуру этих несчастных полудиких людей, мозги которых, очевидно, целые века не всеми своими частями работали равномерно. Восторг, с которым якобы встречают болгары русских, существует больше на бумаге корреспондентов, я не вижу нисколько этого восторга; мне даже кажется, что эти якобы восторженные встречи при наших въездах искусственно подготовлены... Болгары принялись грабить турок, но за нас они не поднялись. Болгарская дружина, которая формировалась ещё в Кишинёве, насчитывала 12 тысяч человек! И это всё, что может дать целая страна? Всё на русской крови, всё русскими жилами и животом. Дорогая цена за чужую и, похоже, ненужную свободу». Вот в этом-то и дело. Боткин — врач, и на его глазах шло истребление русского народа (в войну погибло более 100 тысяч, искалечено — без счёта), отсюда и его раздражение на болгар, а на самом деле — на идею. Но патриотизм не позволял ему критиковать «святую», как говорили славянофилы, идею этой войны, вот он и брызгал желчью на всё и на всех. Бердяев где-то заметил, что русское сознание всегда применяло к истории моральные и религиозные категории. И всё же трудно примирить религию и кровь, мораль и приказ: «Убей». Даже во имя?! Болгария недолго пробыла независимой. Её завоевали в первую мировую войну, завоевали и во вторую, она была то фашистской, то социалистической. Свободы не получилось. Колесо Истории, как дыба, неумолимо. Да, возможно, болгары не давали бесплатно воды и хлеба русским солдатам, но это не их вина. Можно ли судить раба за то, что он не смел и не силён? Рабу не надо быть смелым и сильным, ему надо быть хитрым, приспособиться, чтобы выжить. И наивно требовать от него патриотизма, смелости и ума. Как и любой народ живёт — «нипочёмствует», сеет рожь, жнёт, холит скот, ткёт холсты — хоть под турком, хоть под... чёртом лысым. И в этом его сила и спасение. Это не плохо и не хорошо, это так, как есть.
БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ
— Аномнясь у Покрова мужик замёрз. — Ну и что ж? — Оттаял.(Из разговора двух купцов в трактиреза чашкой чаю)
Местное руководство стесняется отвезти братьев-болгар поклониться праху боготворимого героя в село Спасское. В Болгарии и парк Скобелева, и памятник, и каждый знает — кто это такой... У нас фамильный склеп в Спасском разрушен, могильные плиты расколоты, усадьба Скобелева в руинах. Памятник ему в Москве своротили в восемнадцатом. Тащили через весь город за ноги, а отлит он был на народные деньги, как и храм Христа Спасителя. И площадь перестала носить имя Скобелева. Город Скобелев в 1924 году переименован в Фергану. Скобелев был не просто генерал. Он был Белый генерал. Сколько в этом звании солидного, седовласого, мудрого. Да и портрет... Пышные длинные усы и густая борода, высокий лысый лоб, глаза чуть навыкате — крупные черты лица всегда старят. В год смерти ему исполнилось тридцать девять лет. Был знаком с Ипполитом Александровичем Вревским. Его батюшка Скобелев-старший божился, что один Вревский стоил четырёх конных дивизий. Знал и Юлию Петровну. Да и она писала о нём сестре: «...Скобелева слава велика, и о нём говорят и много хорошего, и много дурного; и то и другое, говорят, правда, но всё же говорят, что он человек, отмеченный судьбой на великие подвиги, ему всего 33 года, он уже генерал с белым орлом». Они были почти ровесниками[25]. Поговаривали, что влюблён в неё. Разумеется, тайно. Сейчас никто не скажет о нём и двух слов, разве то, что генерал, а тогда... Под него одевались, на него молились, подражали и завидовали славе. Мишенька любил военные парады, часами сидел над любимой книгой и выучил наизусть статус Георгиевского креста. Уже с детства почувствовал призвание — быть героем. И стал. Но не сразу. В двадцать четыре года штаб-ротмистр Скобелев получил приказ объехать с дозором бухарскую границу. Объехал, никого не встретил, это показалось ему несправедливым, и в реляции он написал, что разгромил огромный отряд разбойников. Вышел скандал — распекли сверху, высмеяли снизу, советовали из военных податься в сочинители, даже дуэль была, после которой, слава Богу, все остались живы. Оставаться в полку сделалось невыносимо его самолюбию, и он добился нового назначения. В Хивинском походе Скобелев решил действовать наверняка. Генерал Кауфман был немало удивлён, когда мимо него с криками «ура», вздымая облака пыли, в блеске сабель промчался на штурм эскадрон во главе со Скобелевым. Удивился генерал потому, что несколько часов назад город был сдан, и он ехал получить ключи от города, а жители, проведав о русских обычаях, уже приготовили хлеб-соль.

Всё же кавалером Георгиевского креста Скобелев стал, немногим позже, в Кокандском походе — сбылась мечта мальчика. — Вы исправили в моих глазах прежние ошибки, — заметил генерал Кауфман, отмечая наградой, — но уважения моего ещё не заслужили. — Ничего, — без обиды отвечал молодой офицер, — буду ждать. Я ждать умею. Слукавил. Он ничего никогда не умел ждать. Поначалу русско-турецкая война не сулила генерал-майору с Георгием на шее славы; смеялись: мол, и роту солдат опасно доверить этому мальчишке, и отправили под начало к отцу, Дмитрию Ивановичу Скобелеву, осторожному дисциплинированному старому генералу, чем смертельно обидели сына. Скобелев-младший, изнывая от скуки и бездействия, больше всего на свете хотел воевать, а даже приказа перейти Дунай всё не отдавали — река была в разливе. И вот в воспалённом от страсти, бессонницы и жажды славы мозгу родилась прекрасная идея. Он потребовал созвать военный совет и выступил с предложением... переплыть Дунай казачьим полкам вместе с лошадьми. — Невозможно, перетонем, — раздался голос. Все засмеялись, а старик Скобелев от стыда за сына склонил голову к столу. Но Скобелев поплыл. С ним — ещё несколько безумцев. Ледяная вода быстро отрезвила их, все повернули обратно. Скобелев не мог — стыдно. Несчастный отец бегал по берегу и кричал: — Миша, воротись, утонешь! Миша! Но Скобелев плыл. Лошадь его утонула. Незадолго до берега его приняла лодка. Он переплыл Дунай. На этом, как по волшебству, кончаются дурачества молодого Скобелева, и начинается другая история, где ошельмованный когда-то штаб-ротмистр за несколько месяцев сделался народным героем, добыв отличия свои и звания не протекциями, а подвигами и удачей в бою. Он командовал отрядом под Плевной, потом дивизией при Шипке — Шейново. Эти два сражения, по существу, определили победу русских в войне. Его напор и нечеловеческая храбрость ошеломляли и врага. Он был как заговорённый — его не брали пули, и сам вид его в белом мундире на белой лошади вселял в турок мистический ужас. Белый генерал — белая смерть. Немирович-Данченко расхваливал его в своих очерках, а сам Скобелев говорил о себе так: «Что за вздор: меня считают храбрецом, но я признаюсь, что я трус. Каждый раз, когда начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится». Но кончалось всегда хорошо. Как добывают славу? Славу храбреца? Её добывают смелостью почти безрассудной (Скобелев никогда не пригибался под пулями); жестоким куражом (за пять минут до атаки кричал перед строем: «С Богом, братцы, да пленных не брать!» — «Рады стараться, ваше превосходительство!») и горьким презрением ко всякой осторожности (когда Немирович-Данченко вернулся от атакующих — «Василий Иванович, пожалуйста, уйдите прочь!» — сказал Скобелев и отвернулся с досады). А славу героя добывают победами. И они были. Стремительные и блестящие, как в кино. Через три с половиной месяца Плевна пала. По убиенным «скобелевского редута» отслужили панихиду. Легендарный генерал рыдал в голос, рассказывая, как подняли на штыки майора Горталова, как руками рыли траншею для укрепления. Но Михаил Дмитриевич Скобелев был не просто храбрецом и героем — он был легендой. А чтобы ещё при жизни заслужить легенду, надо быть ещё и любимцем. Как добыть славу любимца? Это, пожалуй, самое грудное. Для этой славы Скобелева выбрала сама природа. Она дала ему лицо, голос, улыбку, очаровывавшие всех. Она дала ему энергию, ту самую мощную, взрывную энергию, в которой так нуждалась Россия на войне. Сам же он помогал природе и себе. Делал из себя героя, храбреца и любимца по своим представлениям об этих понятиях. Например, все нижние чины у него были до того распущенны, что ничего не делали без его угроз и затрещин. И всё это происходило так, будто Скобелеву приятно эти затрещины раздавать, а солдатам и денщикам получать. Может, именно поэтому говорили о нём, как только о женщине скажут, любя: очень чувствителен и обидчив. А ещё: вспыльчив и отходчив. Ну не прелесть? Герою нужны и слабости. Очаровательные, юношеские. Он очень любил шампанское, и дядя, некий «князь А.», ящиками слал бутылки прямо на поле битвы, в любую точку земли, чтобы потрафить любимому племяннику. Также сильно любил духи, и матушка присылала ящики с духами. В сражении Белый генерал благоухал, как розарий.

Всё заботился, как бы кто не заподозрил его в серьёзном отношении к женщинам, хотел казаться ветреником, а сам боготворил семью, мечтал жениться, и обязательно на умной и образованной. И умереть только на поле битвы! И никогда не мог поверить, что ему не двадцать лет. Никогда! И скуп не был, скорее очаровательно забывчив. Увидит нищего — прикажет ординарцу дать золотой на бедность. И забудет... «Так что встречи с нищими выходили для ординарцев страшней столкновений с неприятелем». Как все русские, был очень суеверен: как огня боялся просыпанной соли, не мог сидеть за столом с тремя свечами, загадывал числа, делил дни на счастливые и несчастливые. Подарил как-то на память художнику Верещагину свой боевой значок (есть такая форма военного братства). Значок этот побывал с ним в 22 сражениях. Уезжая в Туркменский поход, Скобелев хватился талисмана. Верещагин пообещал прислать новый; сам скроил его, жена сшила. По словам Василия Васильевича, значок получился очень нарядный: с голубым Андреевским крестом, буквами «М. С.» и годами 1875—1878. А дальше началось. Неудачная вылазка к врагу — Скобелев шлёт депешу за депешей: «Отдай старый, новый приносит несчастье». Победа — значок снова входит в милость. Так они и боролись: Скобелев и значок, но победил-таки последний. Так и остался при хозяине — осенял гробницу Скобелева в Спасском. Даже белая лошадь под ним — и та не что иное, как дань суеверию. Кто-то нагадал ему, что на белой не возьмёт его пуля. Так и носился по полю, надушенный, не наклоняя головы, но на белой. Во время атаки под Плевной лошадь под ним упала — запалил. Ему подвели другую. — Это что за гнедая стерва, — грозно прорычал генерал, — не хочу! Нет ли белой? Белой не оказалось, пули и ядра жужжали, как мухи, сошла тут и «гнедая стерва». Унесла от смерти не хуже белой. Говорил не много, но метко. «Россия — единственная страна, где достаточно идеализма, чтобы воевать из-за чувства». Что в этой фразе, ещё при жизни Скобелева ставшей цитатой? В ней точное попадание в настроение общества. И больше ничего. Усталая от внушённого бесплодного раскола интеллигенция искала нового символа для гниения. И Скобелев подсказал: «чувство». Все обрадовались. Это точно. В интеллектуальном багаже России накопилось достаточно чувства, пора было и его соединить с делом. Чувство не только воевать, но и освобождать. Страна, где нет теперь рабов, шла освобождать от рабства других. Шла по чувству. Да, Скобелева было очень легко любить. Даже народ что-то добавил к его славе. Во всех деревенских избах во время войны хранились лубочные картинки — целый сериал, посвящённый Белому генералу и загадочному Гурко, который, по крестьянским слухам, был к тому же переодетой девицей. «Скобелев с Гуркой». Была и такая открытка. Он знал, что у него много завистников, знал, что многие ненавидят его за удачливость, знал и как огня боялся этой зависти и словно хотел её задобрить. На Главной квартире или в штабе на него жалко было смотреть: шинель скособочена, фуражка съехала на затылок, сутулится, смотрит в пол, часто моргает — сирота с паперти, да и только. Когда друзья спрашивали, что это за диковинное превращение, он воровато оглядывался и оправдывался приглушённым басом: «Чтоб хоть щегольство в вину мне не ставили». Как ставили храбрость. Вообще же робел до трусости перед высоким начальством. Перед парадом ничего от разумного человека в нём не оставалось: метался по комнате, заучивал наизусть команды, приёмы, уловки этикета, вертел что-нибудь в руках, за столом весь хлеб сминал в мякиш и нервно катал по скатерти. Все мысли о том, какое впечатление он произведёт на Великого князя, не наговорят ли на него, не оболгут, не будет ли он выглядеть посмешищем без знания тонкостей парадного учения. Как школьник, до поздней ночи зубрил, где ему, бедному, встать! К чести Скобелева, он никогда не рисковал чужой жизнью попусту, а если и рисковал, то шёл всегда впереди. — Коли будут упрекать, что не штурмовал с одним полком, — оправдывался он в том, что совесть не позволила ему вести на верную смерть людей, — подам в отставку. Можно себе представить, что такое с его темпераментом «не штурмовать». Но, как только действие перемещалось с боев на интриги, дела его становились совершенно плохи. Он так и норовил влипнуть в какую-нибудь скверную историю, и здесь уж только советы близких друзей его хранили. Советы ценил. Только закончилась русско-турецкая война, а уж Скобелева зовут занять пост военного министра в Болгарии, чтобы снова затеять войну с Турцией и снова втянуть туда Россию. Скобелев страшно загорелся, он всегда загорался, когда речь шла о войне, и искренне считал, что чем больше будет драк, тем больше для России счастья. Ему отсоветовали, и он потух. Вообще же его вмешательства в государственные дела никому не были нужны. Хоть и прекрасно владел он языками, знал литературу, поклонялся военному таланту Наполеона I, а всё в дипломаты не годился. После Туркменской экспедиции по завоеванию Средней Азии в 1881 году он снова ввязался в обсуждение военных вопросов, теперь уже с индийским правительством. На этот раз в переговоры вмешался Василий Верещагин. — Михаил Дмитриевич, вам это не нужно, — с нажимом в голосе, косясь на встревоженного посла, сказал он. — А если мы дойдём до Индии?! — сверкнул глазами Скобелев и вздрогнул, как гончая, взявшая след. — Ничего вам не нужно, — холодно повторил Верещагин. — Вам нужно только хорошенько вздуть туркмен, и всё. Отговорил и на этот раз. Но остановить его было невозможно. Ему, молодому генералу, оставшемуся без дела, слава словно оказалась не по плечу. Надо бы остепениться, а он всё не мог поверить, что ему не двадцать лет. Не смея рисковать другими, он принялся испытывать судьбу один. И посыпались, как горох, его выходки против австрийцев и немцев. Его выступления в Париже, где он болтал, что война с немцами «буквально на носу»; жизнь в Берлине, где задирал всех подряд, пальто не мог по душе выбрать, кругом одна «немецкая дрянь». Увлёкся славянской идеей, написал письмо Каткову и всё хотел «кликнуть клич славянам». В полный голос. Не успел. Да и должен был кто-нибудь «заткнуть» его; в такой игре, как политика, — свои правила. Связываться со Скобелевым было не резон никому. Его и убрали. Кто? Он всем мешал одинаково. В политику с воинской доблестью лучше не соваться. Бесстрашное сердце и обаятельные замашки тут не козырь. И не аргумент. А прямо наоборот. Такие дела. Да, генерал Скобелев был героем, храбрецом, любимцем, но, чтобы стать легендой, нужно выполнить ещё одно условие. Пожалуй, последнее и самое необходимое. Чтобы стать легендой, нужна не только славная жизнь, но и славная СМЕРТЬ. Последнего иногда достаточно для легенды даже без первого. Герой не может умереть в постели от ревматизма, то есть герой может, но человек из легенды — никогда. У Скобелева была загадочная смерть. Ему и здесь повезло. Его гибель приняли как весть о стихийном бедствии или войне. «Москва была придавлена... нет, хуже — убита! — пишет очевидец. — В воздухе точно повисла тяжесть, не встречалось ни одного улыбающегося лица...» Между простыми людьми ходили самодеятельные стихи на смерть героя:
Удивительно, как люди утешаются этой нехитрой поэзией в торжественные и тяжёлые минуты. Отпевали Скобелева у Красных ворот, в храме Трёх Святителей. Повсюду царило угрожающее оживление. Мясники в Охотном ряду точили огромные ножи, по подворотням скрывались кучки людей; отель, в котором умер Михаил Дмитриевич, собирались громить, а хозяев перевешать. Жадно ждали газет. Наконец появилось первое сообщение: «Скончался от паралича сердца», но тут же поползли слухи об отравлении, и шёпотом передавались новые детали. Говорили, что врач вышел со вскрытия в слезах и пробормотал: «Скоты! Мерзавцы!» Кто? А придворный лейб-медик профессор Боткин увёз внутренности в Петербург. Зачем? И что это за диагноз: «паралич сердца»? Пытались что-то разузнать у коридорного «Англии», гостиницы на Петровке, где умер Скобелев, но тот исчез при загадочных обстоятельствах. Окна номера, в котором жила известная кокотка не очень дорогого пошиба Шарлотта Альпенроз, выходили во двор. В этот двор и вошёл, громко чертыхаясь на темноту, в ночной час Белый генерал, и отсюда же спустя четыре часа его «вывели» мёртвого, под руки, со свесившейся головой, бледного, как холст, на негнущихся ногах, люди князя Долгорукова, «усадили» в карету, а точнее, положили, прикрыли накидкой и «высадили» у отеля «Дюссо». И только потом поднялся шум. Но по тому странному закону, что всегда найдётся пара глаз, чтобы тайное сделать явным, и в этот сонный предутренний час какой-то мирный обыватель, выйдя на кухню попить воды, приник к окну да всё и увидел. Народ требовал правды, и вскоре в газетах выявилось второе сообщение, что смерть наступила от разрыва сердца, синяки и кровоподтёки на теле объяснили попыткой Шарлотты привести генерала в чувство. Перепуганные слуги рассказывали, что всю ночь в номере слышались ссорящиеся голоса, шум и ругань и они от страха не смели заглянуть в дверь. А около трёх утра Шарлотта в накидке и шляпе разбудила приказчика и спокойно сообщила, что Скобелев умер. Пока тот стоял с разинутым ртом и переваривал новость, она деловито добавила, что пойдёт делать заявление в полицию, махнула шёлковой юбкой, и... больше её никто не видел. Кто-то проведал, что на столе в номере стояли кружки с пивом; назывался даже яд, остановивший сердце генерала, — кураре. Проклинали и винили немцев, но возникла и другая мысль, и она показалась очень вероятной: его убили из зависти. Да, Россия выбирает героев, она же их и убивает. Всё — в нужный момент. Молодой удалец, Скобелев был максимально затребован наставшим временем в своей помолодевшей стране. Его ждали все: государь, готовившийся к трудной войне, пресса, оттачивавшая перья для блестящих репортажей, модницы, чтобы шикануть новым туалетом, простые крестьяне, чтобы подивиться и почесать языки — «знай наших», — и, наконец, толпа, уже выстроившаяся дружными рядами и ждущая клича. Его ждали все, и он явился. Добряк, сорвиголова, обидчивый и великодушный, простой и аристократичный, смешной и величественный, а главное — свой, с обаятельной улыбкой, светлым взглядом и бесстрашным сердцем. Что рядить, почему именно он? Выбор историей сделан.
ПОДВИГ
Подвиг — есть только движение к Богу. Творя память таких людей, мы пересматриваем свой нравственный запас и пополняем его.В. О. Ключевский
«Свято-Троицкая община сестёр милосердия с прискорбием извещает, что в г. Белая (Болгария) скончалась после тяжёлой болезни вследствие неусыпных трудов по уходу за ранеными и больными воинами сестра Красного Креста, прикомандированная к Свято-Троицкой общине, баронесса Юлия Петровна Вревская». Всё предельно лаконично и понятно. Но вот странность: военный врач Павлов, тот самый, что исполнил последнюю волю Юлии Петровны и сжёг небольшой пакет с письмами, перевязанный тонкой ленточкой, написал в ответ на запрос Топорова[26] о Юлии следующее: «Покойная баронесса Вревская в короткое время нашего знакомства приобрела как женщина полную мою симпатию, а как человек — глубокое уважение строгим исполнением принятой на себя обязанности, а потому я с тем большим удовольствием отвечаю на Ваше, м. г., письмо, полученное только вчера, 29 марта. Баронесса Юлия Петровна состояла в общине сестёр, находящихся в Яссах, но, движимая желанием быть ближе к военным действиям, взяла отпуск и приехала к нам в Белую, около которой в то время разыгрывалась кровавая драма, и действительно имела не только случай быть на перевязочном пункте, но и видела воочию самый ход сражения. По возвращении в Белое (Бялу. — М. К.) после 10-дневной отлучки, хотя стремление её было вполне удовлетворено, она отклонила мой совет ехать в Яссы, пожелала ещё некоторое время пробыть в Белой и усердно занималась в приёмном покое 48-го военного временного госпиталя, в самый разгар развития сыпного тифа. При этом условии и при её свежей, по-видимому, здоровой натуре, она не избежала участи, постигшей всех без исключения сестёр госпиталя, и заразилась. Неоднократно посещал я больную, пока она была в сознании; всё около неё было чисто, аккуратно, и вообще уход и пользование не оставляли желать ничего лучшего. Казалось, болезнь уступала, и температура понизилась, так что все мы верили в благополучный исход, но на 10-й день, как объяснили врачи, вследствие порока сердца у неё сделалось излияние крови в мозг, паралич правой половины, полная бессознательность, и на 7-й день она тихо скончалась. Как до болезни, так и в течение её ни от покойной, ни от кого от окружающих я не слышал, чтобы она выражала какие-либо желания, и вообще была замечательно спокойна. Не принадлежа, в сущности, к общине сестёр, она тем не менее безукоризненно носила Красный Крест, со всеми безразлично была ласкова и обходительна, никогда не заявляла никаких личных претензий и своим ровным и милым обращением снискала себе общее расположение. Смерть Юлии Петровны произвела на всех нас, оторванных, подобно ей, от всего нам близкого, тяжёлое впечатление, и не одна слеза скатилась при погребении тела покойной. При описи её имущества, находящегося с ней в Белой, кроме денег (около 40 полуимпериалов), деловых бумаг, нескольких фотографий и носильного платья, были между прочим найдены два небольших пакета с надписью на них карандашом: «В случае моей смерти прошу сжечь». Эта воля покойной была тут же, в присутствии свидетелей, мною выполнена, деньги и имущество сдано на хранение уполномоченного Красного Креста кн. Щербатова. Впоследствии наезжал ко мне брат баронессы гвард. офицер Варпаховский, распорядился имуществом и взял у меня свидетельство для беспрепятственной перевозки тела в Россию, но о том, когда это будет исполнено, мне неизвестно. Вот всё, что я знаю относительно баронессы Ю. П. Вревской, и буду очень счастлив, если это краткое описание будет в состоянии удовлетворить её близких. Примите, м. г., уверения в моём к Вам совершенном почтении и преданности. Бело в Болгарии 30 марта 1878 г. Мих. Павлов».
«...Состояла в общине сестёр, находящихся в Яссах...» И буквально через абзац: «Не принадлежа, в сущности, к общине сестёр, она тем не менее безукоризненно носила Красный Крест...» Так принадлежала или не принадлежала Вревская к общине сестёр? Или сначала принадлежала, а затем была освобождена? И по какой причине? По законам Красного Креста на войну разрешалось идти только вдовам и незамужним — это было обязательным условием для светских женщин (большую часть общин милосердия составляли монахини). Где Юлия Петровна, там и тайны! Попробуем разобраться. В одном из писем Тургеневу в 1877 году Вревская пишет, что посещает курсы медицинских сестёр, которыми руководит одна её «старая приятельница», и утешается тем, «что делает дело». Так вот: старая приятельница — это Елизавета Александровна Кублицкая-Пиоттух, прослужившая 28 лет начальницей Свято-Троицкой общины медицинских сестёр в Петербурге (позже её сменила В. А. Абаза). И 19 июня 1877 года вместе с 10 дамами из высшего света Вревская отправляется из Петербурга именно в составе Свято-Троицкой общины под началом Кублицкой-Пиоттух, и не являясь официально членом Красного Креста — любимого «детища» императрицы. А некролог? Так кто же сводит счёты с мёртвыми? Им милостиво позволяют то, что запрещали живым. Конечно же с тем, что Кублицкая-Пиоттух была «старой приятельницей» Юлии Петровны, что-то связано. Почему именно в составе Свято-Троицкой, а не какой-нибудь другой общины? Ведь были же ещё и Крестовоздвиженская, Георгиевская и Покровская общины — они, кстати, первыми отправились на фронт. Выходит, что-то мешало обычным путём вступить в Красный Крест. Что же? Вот имена аристократок, прикомандированных к монахиням и сёстрам Свято-Троицкой общины; нетрудно понять, что это именно тот круг, где Вревской было всего привычней находиться: княгиня М. М. Дондукова-Корсакова — сестра князя А. М. Дондукова-Корсакова; княгиня А. Н. Нарышкина; княгиня А. В. Голицына; А. Н. Философова; М. Н. Новосильцева; В. А. Абаза; В. А. Цурикова; Булгакова; сёстры Корниловы (с ними Юлия Петровна жила в одном бараке в Яссах; с Цуриковой и Булгаковой позже, после возвращения Корниловых в Петербург).

По неподтверждённым сведениям, накануне войны Вревская продала орловское имение, столь ею любимое, то есть окончательно разорвала нить, связывающую её с прежней жизнью, как будто сжигала за собой все мосты, и на эти деньги собрала небольшой медицинский отряд из 22 сестёр. Отряд Кублицкой-Пиоттух при отправлении из Петербурга разделился. Девять сестёр с двумя дамами поехали в Киприановский монастырь на границе с Румынией, недалеко от Кишинёва, а остальные, и среди них Юлия Петровна, дальше на юг Румынии, в Яссы. До конца октября она работала в 45-й военной больнице Дунайской русской армии. Главный уполномоченный Красного Креста в Румынии Н. А. Абаза писал, что весь персонал Ясской эвакуационной больницы работал очень напряжённо в конце июня — начале июля 1877 года. 21 июня в Яссы прибыл первый поезд с ранеными. Тот, кто мог перенести дальнейшую дорогу, отправился в Южную Россию, самые тяжёлые остались здесь. Сёстры перевязывали раненых, раздавали лекарства, стирали и штопали, кормили и мыли, писали под диктовку письма домой и утешали. Княгиня Нарышкина заведовала кухней, Юлия Петровна была среди тех, кто ухаживал за ранеными и умирающими. Она не сторонилась тяжёлой работы и в сентябре 1877 года писала сестре: «...Я очень рада работе, хотя всё моё бельё стало в лохмотьях, а платье страшно обтрепалось, завтра ждём 1500 раненых, сегодня было 380, писать почти не нахожу минуты». Она и дальше будет «почти не находить минуты» писать, то лёжа на носилках, то на сундуке, то стоя, — и тем удивительнее тон её писем, всегда ровный, приветливый, с лёгким юмором и печалью. Боткин, насмотревшись на то, как «переносят» войну аристократы, записал: «Ни у кого нет достаточного внутреннего содержания, чтобы с известным приличием переносить, в сущности, только не совсем удобную для них жизнь». Он был не прав. В русско-турецкой войне участвовали 1600 врачей и 2000 медицинских сестёр. Впервые в истории войн — сорок из них женщины-хирурги. И, возможно, тоже впервые в истории на войну отправились княгини и баронессы. Условия для врачей на войне очень тяжелы. Хирурги вспоминали с ужасом, как после блестяще проведённых операций больные умирали от того, что операционная была заражена, а старший врач не хотел этого признавать. Виртуозы, профессионалы — они работали как на конвейере: война — это поток. Организовать его — рассортировать больных. А сортировка — вещь жестокая, так как требует самому тяжёлому оказать помощь в последнюю очередь, потому что у него меньше шансов выжить. А самое, пожалуй, важное — оказание первой помощи — сестринская работа. Сёстры милосердия находились не только в госпиталях и лазаретах; они сопровождали санитарные поезда и корабли, создавали «летучие отряды» и появлялись на поле боя. Подбирали живых солдат «и часто были единственными, кто провожал в последний путь...». Да, они должны были уметь не только лечить, но и хоронить. Болезни войны всегда одни и те же: кровавый понос, тиф, лихорадка. Лохмотья, в которых раненые прибывали в госпиталь, кишели насекомыми, от непромываемых ран шёл «одуряющий запах», косил тиф, не хватало медикаментов и чистого белья, интендантское воровство и неорганизованность — неотлучные спутники любой войны. И именно сёстры милосердия и призваны были лаской и терпением как-то смягчить этот кошмар. Из Ясс Вревская писала: «Мы сильно утомились, дела было гибель — до тысячи больных в день, и мы целые дни перевязывали до 5 часов утра, не покладая рук...» Многие из дам устали и собирались в отпуск; Юлия Петровна не знала, на что решиться: «Буду оставаться, пока здоровья хватит». 18 октября она получила всё-таки двухмесячный отпуск (с 5 ноября), обещала приехать к «своим» на Кавказ, провести вместе Рождество, писала сестре, что очень соскучилась и видит её во сне, почему-то от описаний этих снов — тяжёлая печаль; обещала, ссылаясь на усталость, приступы лихорадки, сердце, но всё переиграло, круто и бесповоротно повернуло колесо судьбы. За эти два месяца отпуска она вместо того, чтобы поехать на Кавказ, в Россию, отдохнуть и вернуться, отправилась на юг Болгарии как частное лицо. Уехала в Бялу. Госпитали располагались в тылу. Бяла же была действительно опасным местом — почти фронт. С ноября 1877 года она работала в сорок восьмом военно-полевом госпитале в трёх километрах от села Бяла за рекой Янтра. Жила в небольшом домике Ивана Ходжиева в самом селе, вместе с болгаркой и её детьми. После тяжёлой работы в госпитале её ждал ещё утомительный обратный путь по заснеженной дороге и при сильном пронизывающем ветре. Спала на носилках. Маленькое оконце в холодной комнате с низким потолком вместо стекла загораживалось лишь куском ткани. Утром умывалась снегом и шла к раненым. «...Я приехала в Обретеник — деревушка, где живут постоянно две сестры при лазарете, это в 12 вёрстах от Бялу... мы были на самом передовом пункте... Я так усовершенствовалась в перевязках, что даже на днях вырезала пулю сама и вчера была ассистентом при двух ампутациях... Ни газет, ни книг мы не видим. Снег у нас по колени, и дороги всюду очень дурные...» И дальше: «Интересно, почему всё реже и реже вспоминаю я о балах и о Петербурге? Нет, наоборот, о Петербурге я думаю часто...» В декабре сюда поступали раненые солдаты Азовского и Днепровского полков, отбивавших атаки турок, решивших любой ценой прорвать линию обороны на правом фланге и пробиться к Бяле. Здесь был каменный мост, удобные для маневрирования войск дороги, а высокий берег реки Янтры мог служить хорошей оборонительной позицией. Госпиталь был под постоянной угрозой нападения. Каждый день прибывали раненые. Каждый день увеличивалось число тифозных больных. Сестёр милосердия было мало. Ещё меньше было решившихся входить в тифозные бараки... Тургенев писал ей: «Желаю, чтобы Ваш подвиг не оказался непосильным для Вас и чтобы это не сказалось на Вашем здоровье». Писал с надеждой на встречу. Его пожелания не сбылись. Маршруты Вревской на войне в общем-то известны: с конца июня до середины ноября — Яссы; с 20-х чисел ноября до 5 декабря — Бяла; потом с 5-го до 21 января — поездка в Обретеник на телеге, так как медицинский отряд, отправленный туда на «передовую позицию», отказался взять её с собой, ведь она «не принадлежала к общине сестёр»; в Обретенике она задержалась на несколько дней после того, как все выехали обратно в Бялу (что ж, вольная птица, могла себе позволить); что она делала там эти дни? Потом вернулась в Бялу, написала сестре, что не вернётся в Петербург и будет ждать здесь окончания войны — потом теряются пять дней (да мало ли в её таинственной жизни таких «потерянных»), а дальше записка, которая хранится вместе с письмами Вревской, переписанными сестрой, в Пушкинском Доме: «...Заболела тифом 5 января 1878 года. 4 дня ей было нехорошо, не хотела лечиться; попросила священника, исповедовалась и приобщилась; не знала опасности своего положения. Вскоре болезнь сделалась сильнее, впала в беспамятство, была всё время без памяти до кончины, т. е. 24 января 1878 г.[27] У неё был сыпной тиф, сильный; очень страдала, умерла от сердца, потому что у неё была болезнь сердца. Лежала у себя в хате на койке, земляной пол, окна заклеены только бумагой. Сёстры милосердия были при ней всё время её болезни и смерти. Могилу копали ей раненые, за которыми она ухаживала, и они же несли её гроб и не дали её никому. Нельзя было ничего достать в Бяле, но ей всё-таки сделали гроб; всё хотя очень просто — фланелевый, синий; похоронили в платье сестры милосердия, около православного храма в Бяло»[28]. Она заразилась тифом от сумасшедшего: «Так мне его жаль, я его кормлю, он меня узнает». Но умерла от инсульта, по письму Павлова, — осложнение после тифа. Исполняя волю покойной, Павлов сжёг все её бумаги, кроме разве что писем с войны, потому что ни он, ни она ими уже не распоряжались. Письма заботливо переписала и «отредактировала», как утверждает Куртев, её сестра Наталья Петровна и уж, конечно, не меньше Юлии позаботилась о её чести: там нет никаких двусмысленностей, за исключением одной: «...буду экономить, чтобы употребить деньги... как — ты знаешь...» Эта фраза дана в отрывке из письма с непроставленной датой. На что Юлии нужны были деньги, что знала сестра и о чём впрямую не говорилось? Чтобы быть готовой в каждый момент выехать в любое место по чьему-то зову? Как узнать? Юлия Петровна верна себе. Сестра своей «цензурой» заложила первый камень в пьедестал легенды Вревской, оставив от человека с его слабостями и сомнениями — только подвиг. И она парит над нами: прелестная женщина в безукоризненном костюме с крестом на груди... В Бялу в парке — белокаменная скульптура. Сидящая женщина в одеянии сестры милосердия, ноги подвёрнуты, одна рука на коленях, другая под щекой. Поза скорби. На могиле скромный памятник. «Сёстры милосердия Неелова, баронесса Вревская. Январь 1878 г.». В Плевне, в Скобелевском парке, в филиале Военно-исторического музея, хранится портрет Юлии Петровны, написанный маслом. Кто-то из раненых, видно, очаровался её красотой. В газете «Новое время» в конце января некролог с портретом. В журнале «Пчела» сонет Полонского в её память. В 1907-м — публикация в Щукинском сборнике писем Тургенева. Вот и всё, что осталось о ней. Одна десятая. И легенда.
ПИСЬМА Ю. П. ВРЕВСКОЙ С ВОЙНЫ
1 сентября 1877 г. Благополучно вернулась из Харькова в Яссы и снова вступила в исполнение своих обязанностей. Я была уполномоченной с поездом, и у меня были счёты казённые на 300 руб. Я очень боялась не сбиться и каждый грош записывала. У нас становится холодно в бараке. 24 сентября. Я была нездорова эти дни, точно вроде лихорадки. Мы сильно утомились, дела было гибель — до тысячи больных в день, и мы целые дни перевязывали до 5 часов утра, не покладая рук. Теперь я приняла капли, и лихорадка прошла. Многие из наших дам думают уехать в октябре. Корниловы, кн. Голицына и Философова. Кн. Голицына очень хворает и кашляет, но она удивительная женщина, и я её очень полюбила. Я же не знаю, на что решиться — буду оставаться, пока здоровья хватит; говорят, что в конце октября нас перевезут в Галац, где строится тёплый зимний эвакуационный барак, но верного ничего нет; я совершенно привыкла к нашей жизни, и мне было бы скучно без дела; я очень рада работе, и меня тут, кажется, довольно любят. Я окончательно должна экипироваться; моё бельё стало в лохмотьях, также платья за три месяца такой работы страшно обтрепались; у нас настают холода. 3/15 октября. Я думаю, ты беспокоишься моим долгим молчанием, но я со дня на день откладываю писать тебе, так как хотелось сказать что-либо положительное. Вот мы, добровольцы, т. е. волонтёрки, как нас некоторые называют, очень утомились. Кн. Голицына всё хворает, похудела; она берёт отпуск на 4 месяца и, может быть, вовсе не вернётся. Многие уезжают совсем. Госпожа Новосильцева и я берём отпуск на 2 месяца, то есть от 1 ноября до 1 января. Здоровье моё хорошо, лихорадка давно прошла. Но чувствую, что нет уже той энергии, что прежде, и что надо отдохнуть; кроме того, мне хочется видеть вас, и я решила поехать в начале ноября на Кавказ. Пробуду с вами праздники и в первых числах января опять вернусь сюда, если Господь поможет. Так, может быть, до скорого свидания. У нас всё то же, но больных больше, чем раненых. Барак наш всё ещё не приспособлен к зиме, и всем холодно. 18 октября. Не понимаю, отчего ты не получаешь моих писем? Я получила отпуск на 2 месяца, но что с ним будет, Бог знает. Я намереваюсь, если не будет много дел, отправиться в ноябре в Бухарест и проехать вФратешти, а в декабре приеду на Кавказ, провести с вами Рождество. В январе опять вернусь сюда обратно и буду тут всю зиму, если война продолжится. Кн. Голицына и Нарышкина сегодня уезжают, и я очень жалею об их отъезде. Корниловы со всеми остальными хотят вернуться. Я ночью дежурю очень редко. Все киприановские сёстры сюда приехали к нам; у нас теперь мало раненых, все больные, но сию минуту сказали, что ждут большую партию раненых после победы Гурко, следовательно, будет опять много дела. Если будет очень много дела тут, то я в отпуск, может быть, не пойду. 25 октября. У нас опять работа: завтра ждём 1500 чел. раненых. Сегодня было 800, но я нахожу, что работаю мало, так как сестёр великое множество и раненые нарасхват; но, несмотря на это, дни проходят в бараке и писать почти не нахожу минуты. Со мной теперь живут м-ль Булгакова и Цурикова. Обе очень милые, и мне веселее, нежели с Корниловыми. Барак у нас очень холодный. По всей вероятности, скоро поеду в Бухарест и Фратешти с одним из санитарных поездов и не знаю, когда выеду к вам. Много поговаривают о мире в декабре, и тогда, конечно, я до Рождества тут пробуду, чтобы кончить кампанию. Наши доктора все раскассированы в другие госпитали, о чём многие очень тужили. Одна я осталась застрахована. Сердце, как и всегда, спокойно. Абаза ещё у нас, но всё хворает, остаётся ещё месяц. Она очень умна и подчас забавна. Матушка поздоровела и поправилась и по-прежнему зорко следит за всеми нами. Привезли на днях тело Сергея Максимилиановича, его везли оба брата — Евгений и Николай. На станции была панихида, где были и мы. Оба брата подходили ко мне. Были также молодой Барятинский и Тучков, все они говорили, что если Плевну возьмут, то будет мир. Болгары, говорят, очень нас не любят и ничего не делают. Дни у нас очень холодные. 26 октября (продолжение). У нас жизнь однообразна и очень деятельна. В 10 часов мы все уже храпим, никуда не ездим и не выходим, даже не видели ясские окрестности. Оживление нашего барака заметно уменьшилось с отъездом наших, как мы говорим, «сестёр». Сестра Мария часто ездит с поездами; изредка приезжают ревизоры, всё без толку. Сестёр много завелось, авантюристок и кухарок, что не совсем радостно для больных, которые милы и умны донельзя — я говорю о солдатах; офицеры армейские плохи, много здоровых: срам иногда перевязывать; зато есть и ужасные раны — безносые, безгубые — сколько горя, сколько вдов и сирот... Война вблизи ужасна! 2 ноября. Я жду со дня на день денег от Топорова и тогда думаю отправиться в путь. У меня осталось всего 100 руб., хотя я ничего себе не купила, незаметно издержала. Правда, давала понемногу нашим бедным солдатикам. Всё тут на курс втридорога: за 1 рубль дают всего 2,50 франка, а то курс был 2 — 3 (франка), когда я меняла. Всё тут по случаю войны вздорожало, и бедный Красный Крест сидит без денег очень часто. Я опять сошлась с матушкой и нахожу, что иначе, как она, трудно быть, невозможно всех распускать. Петергофская община ведёт тут себя очень плохо и срамит других. Кн. Дондукова святая женщина, и я ничего подобного не видела: ей уже 50 лет. Нового у нас мало; больных меньше эти дни, но ждут битвы под Рущуком, и все говорят о перемирии перед Рождеством. Калек опять много, вчера привезли опять несколько с отвалившимися пальцами на ногах от мороза. Я сама вчера один отрезала ножницами у солдата. Был у меня вчера тоже один раненый: одной пулей выбило оба глаза... конногренадёр, молодой, здоровый солдат. Вчера также привезли двух генералов раненых (бригадных) — Зеделер и Розенбах. Павловский и Егерский полки их пострадали под Софией. 8 ноября. Сию минуту еду в Бухарест; всё благополучно; давно опять от тебя нет писем. Мой отпуск начинается с 5 ноября. 10 ноября. Вернулась благополучно из Ясс, напутствуемая всеми нашими. Путешествие неинтересное, на полпути находится Плоешти, где летом жил император. Город совершенно на плоскости, но весь в садах. Болгарок никаких нет, все долгоносые молдаване и жиды. Впрочем, теперь уже листьев нет и все уже в другом виде. В Бухаресте нет ни угла в гостинице. Чичерин, который тут при складе, познакомил меня с кн. Щербатовым, уполномоченным летучего отряда в армии наследника. Но, к несчастью, он мне сказал, что у Красного Креста нет денег и что в отряде 14 георгиевских сестёр. Госпитали закрываются, и уменьшают расходы. Я тут живу в здании Красного Креста. Думаю выехать завтра во Фратешти и, если можно, посмотрю Дунай. Не беспокойся, если не будет писем, отсюда никогда не доходят; пиши мне на имя Чичерина, он отошлёт. Может быть, очень скоро вернусь из Фратешти, а может быть, проеду несколько далее в дальний монастырь, где Дондукова-Корсакова; там, говорят, лазарет в ужасном виде и нет ни одной сестры. Опасности нет, даю тебе слово. 21 ноября. Сейчас всю ночь ты снилась мне. Я даже отвыкла беспокоиться, потому что никогда не получаю твоих писем. Не знаю, огорчит ли тебя очень моё решение отменить моё путешествие до поры до времени к вам. Я не приеду на Рождество и буду молиться и желать вам счастья издалека. Хотя я терплю тут большие лишения, живу чуть не в лачуге, питаюсь плохо, но жизнь мне эта по душе и мне нравится. Я встаю рано, мету и прибираю сама свою комнату с глиняным полом, надеваю длинные сапоги, иду за три версты в страшную грязь в госпиталь, там больные лежат в кибитках калмыцких и мазанках. Раненые страдают ужасно, часто бывают операции. Недавно одному вырезали всю верхнюю челюсть со всеми зубами. Я кормлю, перевязываю и читаю больным до 7 часов утра. Затем за нами приезжает фургон или телега и забирает нас, 5 сестёр. Я возвращаюсь к себе или захожу к сёстрам ужинать. Ужин в Красном Кресте не роскошный: курица и картофель, всё это почти без тарелок, без ложек и без чашек. Кн. Щербатов (он — уполномоченный) очень умный и милый человек и мне очень симпатичен. Он отлично ведёт дело. Я, вероятно, пробуду тут весь свой отпуск. Если возможно будет, постараюсь прикомандироваться к этому отряду. Тут осень в полном разгаре и бывают морозы. Кажется, нет надежды, чтобы война кончилась к Рождеству. Плевна, говорят, хорошо снабжена сухарями и может держаться долго. Турки нападают на Тырново... Раненых у нас много умирает, и офицеров пропасть под Плевной выбыло из строя. 16?.. Не можешь себе представить, что у нас делалось — едва успевали высаживать в другие поезда... стоны, страдания, насекомые. Просто душа надрывалась. Мы очень устали и когда приходили домой, то, как снопы, сваливались на кровать. Нельзя было писать, и давно уже не читала ни строчки, даже газеты, которые у нас получает Абаза. На днях у нас при передвижении поездов у барака раздавило рельсами двоих раненых; я не имела духу взглянуть на эти раздавленные черепа, хотя беспрестанно должна была проходить мимо для перевязок в вагонах. ...Но солдаты страдают ужасно. Сегодня утром видела Горчакова, очень потолстел, постарел, по-прежнему очень мил, но едва держится на ногах. Много тут петербургских знакомых, но не видаю никого: у меня заняты мысли другим. Заказала сегодня себе большие сапоги, надо завтра купить и ещё кое-что тёплое; я решилась пробыть сестрой милосердия всю зиму; по крайней мере, дело, которое мне по сердцу. Жизнь тут ужасно дорога: кило сыру стоит 2 р. 40 коп. Говорят, что в лагере цены невероятные. Я получила деньги свои, буду экономить... чтобы употребить деньги — как, ты знаешь, нужно. Ко мне сюда приехала дама, г-жа Корнева, с которой я ехала из Ясс, она едет к своему мужу в Тырново и надеялась встретить его тут; представь себе — его нет, и она в отчаянии, у неё всего осталось 40 франков, и она к тому же ужасная трусиха; не знаю, удастся ли мне пристроить её тут как-нибудь, пока муж приедет. 5 декабря. Обретении. Вот я и достигла моего задушевного желания и была на перевязочном пункте, т. е. в деле. Дали тут знать в Белую, что турки шевелятся, я не имела права ехать с сёстрами, так как я не прикомандирована к отряду, но считаюсь в отпуску. Мне достали таратайку, и я особо приехала в Обретеник, деревушку, где живут постоянно две сестры при лазарете — это в 12 вёрстах от Белой. На следующий день ничего не было, и Щербатов уехал с двумя сёстрами. Две другие остались, и я тоже. 30-го в 8 часов утра в 10 вёрстах началось дело при Мечке. Мы были на самом передовом пункте, но, конечно, в овраге. Я видела издали летящие снаряды, т. е. дым, и к нам беспрестанно привозили по 2 — 3 человека окровавленных солдат и офицеров. Двоих привезли с раздробленными ногами, и им тут же сделали ампутацию их; один из них уже умер. Сцены были ужасные и потрясающие — мы, конечно, были все в опасности и весь день до глубокой ночи все делали перевязки, нас было всего три сестры, другие не успели приехать. Раненых в этот день на разных пунктах было 600 вместе с убитыми; раны все почти тяжёлые, и многие из них уже умерли. Победа осталась за нами, как тебе известно. К нам привезли много раненых турок, и нам приходилось их перевязывать; у иных по 11 ран. Я так усовершенствовалась в перевязках, что даже на днях вырезала пулю сама и вчера была ассистентом при двух ампутациях. Дела эти дни пропасть у нас, по многу раненых увозят из сараев, где они тут разложены в полевых лазаретах. Гут грязь непроходимая. Сегодня выпал мокрый снег. Болгарки похожи на черкешенок и, увы! — недоступны для русских ловеласов, так, по крайней мере, все говорят. Страна тут дикая, и ничего, кроме кукурузы, не едят. Я живу тут в болгарской хате, довольно холодной, и хожу в сапогах, обедаю и ужинаю с сёстрами на ящике (я плачу за это). Всякий день мы едим похлёбку и котлеты, а вечером — баранину и чай. Никого тут не видно, кроме докторов в госпитале; Щербатов уехал в Систово. Я ещё не знаю, что буду делать, т. е. останусь ли тут или уеду в Белую. Вчера проезжал государь недалеко отсюда, уехал в Петербург. Почта не доходит, в Бухарест случая не было, и я 2 месяца не знаю, что ты делаешь. Обо мне не беспокойся. У меня в комнате нет ни стула, ни стола. Пишу на чемодане и лёжа на носилках. 14 декабря. Обретеник. Вот уже 15 дней, как длится моё пребывание в Обретенике; после 30 ноября дела не было и не предвидится. На меня напала хандра и апатия, и хотя тут в материальном отношении много невзгод, но я не двигаюсь с места; живу в крошечной болгарской комнате, ночью бывает страшно холодно, утром встаю в 7 1/2 часов, набираю себе снегу в умывальник у нас же на дворе и начинаю свой туалет, затем выпиваю стакан крымского лёгкого вина, болгарского (очень кислое, но другого нет), и ем сухарь; затем убираю свою комнату, мету её и проч.; и отправляюсь к 9 часам в зимник (т. е. сарай, в котором лежат раненые), который далеко от меня. Начинаю перевязывать ампутированных, которые очень умирают, и остаюсь у больных до 12 часов. В 3 часа иду обедать к сёстрам. За обед плачу, так как я в отпуску. Всякий день у нас всё те же похлёбка, и котлеты, и чай, и сыр. После обеда идём опять к больным. В 7 часов я беру работу, большей частью кисеты для солдат, и провожу вечер опять-таки у сестёр; в 9 часов ужин, и в 10 часов я возвращаюсь к себе спать. Всякий день то же самое; иногда приходит кто-нибудь из Белой и расскажет новость. Ни газет, ни книг мы не видим. Снег у нас по колено, и дороги всюду дурные. Наследник на днях уезжает в Петербург, на его место — Тотлебен. Что-то ещё не хочется возвращаться в Яссы. Я тут работаю сама по себе. Это мне очень по сердцу; к раненым я очень привязалась — это такие добряки. Но как можно роптать, когда видишь перед собой столько калек, безруких, безногих, и всё это без куска хлеба в будущем; зато они не боятся смерти. Вчера повесили тут колокол и звонят целый день. Это подарок наследника. Не беспокойся обо мне. Письма идут тут долго, попробуй написать мне в Белую, Болгария, склад Красного Креста. Авось дойдёт. 21 декабря. Белая. Вчера, наконец, получила твоё письмо. Я решилась не покидать Обретеника и своих тамошних раненых по многим причинам. Во-первых, хоть мне было страшно голодно и крысы очень бегали (сёстры до безумия боялись крыс — их тысячи!). Во-вторых, деньги мои приходят к концу, и я беспокоюсь, чтобы не остаться на мели. К счастью, мне вчера привезли деньги и, вообрази, взяли за услугу 150 рублей, правда, по телеграфу. Но иначе тут никогда ничего не получишь, и даже телеграммы пропадают. Я ни от кого ничего не получаю вот уже 2 месяца. Тут лишений очень много, и я живу чуть не в хлеве, холодно, и снег, и мороз. Есть тоже нечего, кроме ветчины, сыра и чая, но всё-таки я не хочу уезжать в Яссы, тут слишком мало сестёр. Две уезжают в Россию в отпуск, я же намереваюсь пробыть тут ещё. Я теперь занимаюсь транспортом больных, которые прибывают ежедневно от 30 до 100 чел. в день, оборванные, без сапог, замерзшие. Я их пою, кормлю; это жалости подобно видеть этих несчастных, поистине героев, которые терпят такие страшные страдания без ропота. Всё это живёт в землянках на морозе, с мышами, на одних сухарях. Да, велик русский солдат! Все поговаривают, что будет мир, посмотрим. От Володи получила из Кишинёва телеграмму, он туда приехал с эскадроном, и его там остановили. Не знаю, когда с ним увижусь... С Новым годом! С новым счастьем! 31 декабря. Белая. Болгария. Я уже писала тебе, что тут слишком много дела, чтобы можно было решиться оставить; всё меня тут привязывает, интересует; труд слишком мне по сердцу и меня не утомляет, а о болезнях Бог ведает. Тут я подвержена эпидемиям меньше, чем в другом месте. Всё тут дорого, я живу на свой счёт, малейшая вещь тут на вес золота. Око сахару по 7 франков, что составляет 3 рубля. Я переменила квартиру, но, к несчастью, должна жить в одной комнате с двумя болгарками и двумя детьми, что почти невыносимо, но совестно мне их выгнать в холодную каморку (на что я имею право). Все болгарские дома состоят из двух комнат: одна вроде кухни холодная, другая тёплая, где помещается всё семейство на полу, на циновках. К счастью, они чисты, и можно жить в любой хате; у меня хозяйка-мать и двое ребят, одна девочка 3 лет очень больна; я весь день в больнице. В приёмном покое бывает от 70 — 78 больных. Теперь мне дали одного сумасшедшего солдата, он очень страдает, его едва привязали к кровати в сумасшедшей рубахе, его едва укротили пять человек, но всё бедный мечется. Так мне его жаль, я его кормлю, он меня узнает[29]. Наследник на днях уезжает, говорят, берёт отряд Гурко. Воронцов в Вене — лечит ногу от рожи вот уже 2 месяца. Воронцов будет у него командовать своим отрядом. Скобелева слава велика, и о нём говорят и много хорошего, и много дурного, и то и другое, говорят, правда, но всё же говорят, что он человек, отмеченный судьбой на великие подвиги, ему всего 33 года, он уже генерал с белым орлом... Пиши мне в Белую, Болгария, склад Красного Креста.
27 ноября (9 декабря) 1877 года. Родной и дорогой мой Иван Сергеевич. Наконец-то, кажется, буйная моя головушка нашла себе пристанище, я в Болгарии, в передовом отряде сестёр. До Фратешт я доехала железной дорогой, но во Фратештах уже увидела я непроходимую грязь, наших сеструшек (как нас называют солдаты) в длинных сапогах, живущих в наскоро сколоченной избе, внутри выбитой соломой и холстом вместо штукатурки. Тут уже лишения, труд и война настоящая, щи и скверный кусок мяса, редко вымытое бельё и транспорт с ранеными на телегах. Моё сердце ёкнуло, и вспомнилось мне моё детство и былой Кавказ. Мне было много хлопот выбраться далее, так как не хотелось принимать услуги любезных спутников разнокалиберного военного люда. Господь выручил меня, на моё счастье подоспел транспорт из Белой, и я, забравшись в фургон, под покровительством урядника, казака и кучера двинулась по торным дорогам к Дунаю. Мост в Тотрошанах не внушителен. Дунай — белая речонка, невзрачная в этом месте. На следующий день атака турок 14 ноября была направлена на этот пункт, и я издали видела бомбардировку из Журжева, и грохот орудий долетел до меня. Дороги тут ужасны, грязь невылазная. Я ночевала в болгарской деревне... Как я только нашла себе избу для ночлега, ко мне явились два солдатика, узнавшие, что приехала сестра; они предложили мне своё покровительство; было трогательно видеть, как наперерыв и совершенно бескорыстно они покоили меня, достали всё, что можно было достать, расспрашивали про Россию и новости, просидели со мною весь вечер, повели меня на болгарские посиделки, где девушки и женихи чистят кукурузу. Многие из них в самом деле очень красивы, и поэтично видеть весь этот молодой люд при свете одной свечи, которые цветут, как цветы, по выражению солдатика. Меня приняли отлично, угостили цериком (бобами с перцем, кукурузой и вином) и уложили на покой, т. е. предоставили мне половину довольно чистой каморки. На другой половине улеглась моя хозяйка с ребятишками. Я, конечно, не спала всю ночь от дыма и волнения, тем более что с 4 часов утра хозяйка зажгла лучину и стала прясть, а хозяин, закурив трубку, сел напротив моей постели на корточки и не спускал с меня глаз. Обязанная совершить свой туалет в виду всей добродушной семьи, я, сердитая и почти немытая, уселась в свой фургон, напутствуемая пожеланиями здравия. В нескольких местах мне пришлось переправляться через речку вброд и проезжать турецкие деревни оставшихся тут турок. Белая — красиво расположенное местечко, но до невероятия грязное. Я живу тут в болгарской хижине, но самостоятельно. Пол у меня — земляной и потолок на четверть выше моей головы; мне прислуживает болгарский мальчик, т. е. чистит мои большие сапоги и приносит воду, мету я свою комнату сама, всякая роскошь тут далека, питаюсь консервами и чаем, сплю на носилках раненого и на сене. Всякое утро мне приходится ходить за три версты в 48-й госпиталь, куда я временно прикомандирована, там лежат раненые в калмыцких кибитках и мазанках. На 400 человек нас 5 сестёр, раненые все очень тяжёлые. Бывают частые операции, на которых я тоже присутствую, мы перевязываем, кормим после больных и возвращаемся домой в 7 часов в телеге Красного Креста; иногда я заезжаю в склад ужинать и поболтать, наш уполномоченный тут князь Щербатов — очень умный и милый человек. Я получила на днях позволение быть на перевязочном пункте; если будет дело — это была моя мечта, и я очень буду счастлива, если мне это удастся. У нас всё только и речь, что о турках и наступлении на Тырново и пр. Я часто не сплю ночи напролёт, прислушиваясь к шуму на улице, и поджидаю турок. Я живу в доме турецкого муллы, возле разорённой мечети. Иду ужинать, прощайте, дорогой Иван Сергеевич, — и как Вы можете прожить всю жизнь всё на одном месте? Во всяком случае, дай Бог Вам спокойствия и счастья. Преданная Ваша сестра Юлия. Целую. Пишите мне в Бухарест на имя Чичерина в склад Красного Креста.
ДВЕ МОГИЛЫ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
(Последняя тайна Юлии Петровны)
«...Глубокоуважаемый Пахом Фёдорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должен сообщить Вам краткие подробности о гибели Вашего двоюродного брата Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании...» (из письма А. А. Пушкина от 3 марта 1879 года). Довольно древний и загадочный род — Раменские. Потомственные просветители и учителя, с XV века известные на Руси, Украине, в Болгарии. Образованнейшие люди (первый Раменский — Андриан — обучался в Греции и Риме) и в то же время тайные бунтари против строя и власти, хранители всего запрещённого, от манифеста Пугачёва до листовок РСДРП и оружия. Древние летописи подтверждают, что первый из династии Раменских Андриан родился в Болгарии. «И зажегъ Андриан сын Раменский из Болгаръ светильникъ грамоты для народныя пользы въ Велицемъ граде Москве въ школярне своей, что у Никольскихъ воротъ. А было сие въ день седьмый сентября лета 1479...» Этот старик с длинной бородой и горящим взором был приглашён в Москву для исправления и переписки церковных книг, чем и занимался в Андрониковском монастыре, а также служил толмачом и реставратором. Два его сына Андриан и Фома — первые жертвы своей страстной натуры. Отправившись в Новгород по самому мирному делу — восстанавливать и переписывать книги, — они примкнули к новгородскому восстанию во главе с Марфой Борецкой против Ивана III. Борецкой помогли сбежать из-под стражи, баржу с медными деньгами из Новгорода умышленно утопили, а библиотеку новгородского посадника, где должны были трудиться, тайно вывезли из Новгорода и зарыли. Московский князь Иван III приказал схватить братьев и четвертовать на Лобном месте как бунтарей и злоумышленников, что и было исполнено. Потрясённый участью своих сыновей, Андриан не захотел долее служить России, вернулся в Болгарию, где прожил до ста восьми лет. В 1526 году похоронили его в Рильском монастыре[30]. Но в Москве остались младшие сыновья Андриана, династия Раменских пустила корни и начала разрастаться, как грибница. Пафнутий Раменский был толмачом Ивана Грозного и римского посла Антония Пасевича во время их встречи в Старице. Как со временем расправились с ним, говорят Успенские летописи: «И объявлено было Старицкого Успенского монастыря книгописца Пафнутия Раменского, что подмётные грамоты от вора и холопа Ивана Болотникова писал, и хулу в оных на великого князя возводил, и взывал побивати бояр своих, и приказано оного изловить и как злодея казнить». Зачем ему, учёному, книжному человеку, понадобилось участвовать в кровавом бунте Болотникова, беглого холопа, бездельника и отщепенца, сказать трудно, может, не разобрался или так привлекателен для него оказался бунт сам по себе?! Герасим Раменский построил по плану Петра I деревню Царёво, на берегу Меты, чтобы держать опального царевича Алексея. Пётр подарил ему на память палку, с которой ходил по строительству каналов. В начале XVIII века Раменские проникают на Украину. Каким образом? Можно уже догадаться. Михаила Раменского (учителя из Москвы) посылают в 1707 году на подавление восстания Булавина. Скорее всего, примкнул к восстанию. «...Записавшись в украинцы, ушёл в Сечь». От него осталось неисчислимое потомство, зовущее себя на хохляцкий лад Роменьски. Один из его сыновей — Степан — был в числе последних «кошевых батек» в Запорожской Сечи. В 1763 году Алексей Раменский, сын Данила Раменского, приехал в село Мологино Тверской губернии, Старицкого уезда (чувствуете, читатель, что за этим адресочком кроется? — соседство с Юлией Петровной), где организовал школу в имении А. М. Юрьева[31]. Друг юности этого самого Алексея Александр Радищев (тоже сосед по Старицкому уезду) всегда оставлял в Мологине на хранение свои рукописи. Когда его сослали в Сибирь, Раменские занялись перепиской и распространением «Путешествия из Петербурга в Москву» и делали это так же старательно, как и их предок, составляя подмётные грамоты. Екатерина II приказала схватить переписчиков. Суд 1800 года приговорил Никифора Раменского к смертной казни. Павел I заменил казнь ссылкой в Сибирь, предварительно наказав Никифора кнутом, вырвав ноздри и поставив на лице отметки калёным железом. В 1802 году Александр I помиловал Раменского, назначил ему пенсию и выслал деньги на проезд из Сибири. Но тот не захотел жить в России с изуродованным лицом и уехал, при содействии Радищева, в Лейпциг. После самоубийства Радищева установилась в семье Раменских традиция: в этот день собираться вместе, читать предсмертное письмо Радищева и посвящать молодых Раменских в учителя. Архив Радищева долгое время хранился в Москве у Матвея Раменского. После смерти Матвея бумаги перешли к его сыну, учителю Поливановской гимназии Александру Матвеевичу Раменскому. Алексей Алексеевич Раменский помогал Н. М. Карамзину собирать материалы по истории, в благодарность за что тот подарил ему Полное собрание своих сочинений, вышедшее в 1820 году, с дарственной надписью. А также завещал дарить Раменским все издания и переиздания «Истории...». Первые тома в 1833 году в Мологино привёз Пушкин. У Александра Сергеевича были причины интересоваться этим семейством. В их архивах он надеялся найти бумаги, подтверждающие привоз в Россию арапа Ганнибала, также его интересовал воевода Гаврила Пушкин и история Пугачёвского бунта. Он собирался написать историю Петра I, и здесь тоже без Раменских было не обойтись. Попутно, совсем на то не рассчитывая, Пушкин услышал от Алексея Алексеевича предание о дочери мельника, обманутой одним из дедов Вульфов — близких знакомых Пушкина — и утопившейся в Берново (Старицкого уезда). Из этой истории родилась поэма «Русалка». Этот же Алексей Алексеевич Раменский был домашним учителем декабристов братьев Муравьевых и Анны Керн. Воспитание в лучших классических традициях пушкинской музы Раменские отлично сочетали с хранением не только запрещённых бумаг, но и оружия. На какой случай держали они этот склад? И время от времени перед обысками топили его в речке Истоме. В 1861 году, не дожидаясь официального оглашения манифеста о крестьянах, Пахом Раменский зачёл его в храме крестьянам после службы, «...сие привело к беспорядку и самочинному захвату земель, Пахомий Раменский посажен по распоряжению старицкого управника в острог на два месяца». Раменский как центр, к которому стягивались самые разные люди, от ничем не примечательных, до таких, как Радищев, Карамзин, Пушкин, Писемский, Фёдор Глинка. Даже Гоголь побывал здесь как-то с Пушкиным и читал отрывки из «Мёртвых душ». Дарил свои фотокарточки и Лев Николаевич Толстой. В «Хронике», которую из поколения в поколение вели старейшие в семье Раменских, есть и такая запись: «...Сюда (в Мологино, — М. К.) не раз приезжала украинская писательница Марко Вовчок... имеются воспоминания о приезде с нею художника В. Д. Поленова... Е. М. Бакуниной (родной тётки декабристов Муравьевых, — М. К.) из Торжка и Ю. П. Вревской из Старицы». О Пахоме Раменском известно, что это был человек недюжинной физической силы, заколовший 42 медведя и любивший говорить: «У меня было 18 детей и одни сапоги». Он увлекался рыбной ловлей, музыкой, поэзией и приёмом у себя гостей, вроде Софьи Перовской. Знаменитая нигилистка прожила в Мологине несколько месяцев и на память оставила карту Петербурга с планом покушения на Александра II. Карту любовно зашили в икону мологинской церкви, где она пролежала до тех пор, пока священник не узнал и не уговорил убрать. Перовскую Пахом торжественно называл «новым человеком будущей России». Старший его сын Алексей во время службы в Симбирске в 1873 году был домашним учителем в семье Ульяновых, у маленького Володи. Постоянно сочувствуя «революционным идеям», Раменские создали в Мологине тайную типографию и печатали «Искру», листовки РСДРП, стали членами тверского комитета той же партии, а в 1919 году не остановились и перед казнью волостного старосты Золотова. Весёлая семейка. Правда, после революции они изумлённо притихли, уничтожили вещи, принадлежавшие царям и дворянству, и в 30-е годы только робко просили об улучшении бытовых и материальных условий. Даже странно, такая кротость в Раменских. Что-то они «просекли» в наступившем «светлом будущем», за которое так рьяно боролись. А теперь главное. После смерти Пушкина, отслужив в Мологине тайную панихиду по «болярину Александру», Раменские решили создать музей Пушкина в Старицком уезде. Идея эта претворялась в жизнь многие десятилетия. За помощью они обратились к сыну поэта Александру Александровичу, и спустя время, в конце семидесятых, получили от него ответ, где он, растроганный до слёз любовью Раменских к отцу, обещает им кое-какие его личные вещи (крестильную рубашку и перочистку) и, в частности, пишет: «...Глубокоуважаемый Пахом Фёдорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должен сообщить Вам краткие подробности о гибели Вашего двоюродного брата Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании. Я имел честь командовать 13-м Нарвским гусарским полком, которому были приданы болгарские дружины и русские волонтёры, в числе которых был и Ваш брат. Я пишу об этом потому, что вряд ли Вы успели узнать об этом трагическом событии, тем более что мы понесли большие потери. Ваш брат погиб как герой при штурме селения Арметли, где и похоронен в братской могиле у самого селения (это 70 — 80 км южнее Бялу, где похоронена Вревская — М. К.). Незадолго до этого за храбрость и отвагу был высочайше награждён. Смерть его настигла 20 ноября 1878 года (это явная опечатка, так как в марте 1878 года война уже кончилась. Так что — 20 ноября 1877 г. — М. К.), на его могилу приезжала наша героиня, организовавшая отряды сестёр милосердия в болгарской армии, Юлия Вревская, друг Вашего Александра и Ваша землячка, которую я знал по Петербургу, и был приятно удивлён, что Ваш брат Александр и Юлия Вревская находились в гражданском браке. Вскоре и эта героическая женщина погибла на полях Болгарии. Примите от меня и нашей семьи искреннее соболезнование. Пожелаю Вам успехов в Вашем благороднейшем начинании. С глубоким уважением Александр Пушкин».
Ещё в «Хронике» Раменских сказано, что Александр Раменский погиб на глазах Юлии Петровны, что она прислала в Мологино его памятные вещи, орден и горсть земли с могилы; что на могилу возложила венок из белых роз (это в декабре-то месяце?). Этот факт, как и то, что погиб Раменский на её глазах, представляется красивой неточностью. Вревская после Ясс всё время находилась в Бялу, выезжала только в Обретеник (12 км от Бялу), где в то время не было боев и где она провела 6 — 7 дней после того, как санитарный отряд уже выехал оттуда (виделась с Александром Раменским?). Потом вернулась в Бялу, написала сестре, а вот затем теряются пять дней (возможная поездка на его могилу, хотя она ничего никому не говорила), а следом уже известное: «...около 4 января почувствовала себя плохо...» Съездила в Арметли и слегла, а вскоре умерла. В «Хронике» имя Александра Раменского в революционных «подвигах» не фигурирует. Сказано только, что был он учителем Поливановской гимназии в Москве (60 — 70-е годы), что в 50-х сотрудничал с журналом «Русский архив», писал статьи об образовании, был поклонником идей Ушинского, хранил, правда, в своём доме рукописи Радищева, ну так это ему честь делает, хотя двоюродный брат его Пахом вывез вскоре радищевский архив в Мологино. Почему? В русско-турецкую войну ушёл добровольцем на фронт, так как имел и болгарские корни, сочувствовал земле предков, хотя и был москвичом; ушёл скорее всего переводчиком (знал болгарский и другие языки) — пал, вероятнее всего, не в бою, а подстрелил его в лесных местах из засады турок, а Александр Александрович написал «погиб геройски», ну, так на войне все погибали геройски, вот и о Вревской так же. Хотя они скорее геройски жили, а погибали обыкновенно (она — от инсульта, он — от случайной пули)[32]. Мне очень нравилось поначалу делать из Юлии Петровны безутешную вдову, которая, схоронив мужа (годившегося ей в отцы, да и прожила с ним всего ничего), осталась на всю жизнь одинокой и несчастной, может быть, даже искавшей смерти, но не бесцельной (как пасынок Николай), а не иначе, как «послуживши ближнему своему». Но так не было. Была опала, развод сестры, неблагополучие в семье, безденежье, любовь к царской семье и императрице — Красный Крест, был тайный брак с человеком не дворянского сословия, который она мучительно скрывала[33], настойчивые ухаживания Тургенева, его обиды и ирония, много всего — всякого неблагополучия внутреннего и внешнего. И началась война, и забрезжила надежда на выход. Какой? Может быть, снова милость у царицы. А может, надеялась на милость к Раменскому (титул, слава, можно будет объявить о браке). Или смерть — тоже выход? Да мало ли что там было. Сама Юлия Петровна очень оберегала эту тайну ото всех. Не стоит и мне быть чересчур назойливой из уважения к умершей более ста лет назад. Во всяком случае, я благодарна Юлии Петровне за этот урок жизни, а то я тоже хотела бодро подверстать её судьбу к идее, пусть даже и такой привлекательной, как служение Отечеству.
ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ
На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращённого в походный военный госпиталь, в разорённой болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве — и врач даже не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока ещё могла держаться на ногах, поочерёдно поднимались со своих заражённых логовищ, чтобы поднести к её запёкшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка. Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз. Нежное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не видала другого счастия... не видала — и не изведала. Всякое другое счастие прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнём неугасимой веры, отдалась на служение ближним. Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом её тайнике, никто не знал никогда, а теперь, конечно, не узнает. Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано. Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже её трупу — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо. Пусть же не оскорбится её милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на её могилу! Сентябрь 1878 г. Ив. Тургенев.
ПОД КРАСНЫМ КРЕСТОМ
(Посвящается памяти Ю. П. Вревской)
* * *
1878 марта 6.
Яков Полонский
ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНИЕ ВЕКА
(Постскриптум )
Создавая вымышленного героя, писатель как бы добавляет новую личность к числу граждан своей страны, а воссоздавая историческую личность, стремится сделать из неё соучастника своей эпохи.Ян Парандовский
Вот и всё, Юлия Петровна, что удалось узнать о Вас. Биография довольно приблизительная. Ваше имя (один его звук рождает печаль и приязнь), летящий почерк на прозрачных от ветхости листах, Ваше задумчивое и нежное лицо на фотоснимке — черты почти стёрты ретушью и временем, — вот те золотые точки координат, что освещали мой путь во тьме неизвестности. И ещё Ваш подвиг. Прекрасная судьба, сделавшая Вас легендой. И уже не так важно, почему Вы пошли на эту войну. Это был Ваш выбор, и Вы сделали его осмысленно, рассчитывая на свои силы. И даже если неудачи толкнули отчасти Вас на этот шаг, то и в этом случае Ваш образ не разрушается: от отчаяния можно схватиться за нож, подлостью или храбростью устроить свою судьбу. Но Вы пошли ухаживать за ранеными, сумасшедшими, заразными. Молодая женщина в безукоризненном костюме среди оторванных рук, ног, гноя и крови, склонившаяся над умирающим — сестра. Утоление боли стало Вашей специальностью. Больше — Вашей судьбой. Вы были мужественны и нежны, Юлия Петровна, — редчайшее сочетание. Цель жизни — не богатство и даже не сытость, а возможность взмыть над обстоятельствами (как бы невыносимы они ни были) силой духа. Так что, может быть, Вы, сделав этот шаг, воспарили и почувствовали себя счастливой. Ведь писали же с войны, что счастливы в бараке, в сапогах, среди стонов и тифа. Так что Ваш выбор — это не только жертва, принесённая на алтарь человеколюбия (хотя и жертва, конечно, в результате была принесена), но и точка отсчёта, мера и итог Вашей жизни. Так тёплые лучи солнца, попав в фокус увеличительного стекла, становятся огнём. Легенда воздействует на жизнь, на Историю. Тысячи девочек-медсестёр на фронтах японской и первой мировой войны — эту белоснежную стаю выпустили в мир и Вы, Юлия Петровна. Мать Тереза — самый популярный в мире человек. Это тоже и от Вас. Прекрасная тайна этого предназначения. «Язык дан нам, чтобы скрывать мысли» — так что получается, что, ничего не рассказав нам о себе, Вы открылись нам больше, нежели запутав нас словами. Эта книга создавалась не на присутствии, а на отсутствии материала; так что передо мной стояла почти невыполнимая задача: по нескольким письмам и изображению, как по осколку античной скульптуры, предположить и показать гармонию всего остального. Воссоздать заново. Я шла на ощупь, помня, что закон гармонии един для всего мира.

Мне не удалось разгадать Вас, Юлия Петровна, и это не странно. Если бы это произошло, Вы стали бы литературной героиней литературного (плохого? хорошего?) произведения, а так Вы остались живым неповторимым человеком со своей великой (ведомой только Творцу) тайной, который дыханием своей далёкой жизни согревает эти страницы. И, возможно, это — только это — удача моего труда. Девять десятых — то, что кроется за строчками любой книги, где речь идёт не о придуманном, а о реальном человеке. Девять десятых — большая часть огромного айсберга, тонущая в чёрной воде времён. Девять десятых — это работа читателя, чтобы почувствовать и вместить в душу Ваш облик и судьбу. В легенде мало бытовой правды? Ну и что. Нет ничего реальней красоты... И снова я вижу Вас утопающей красными каблучками в росистой траве, хоть и знаю уже, что на фронте вы носили грубые сапоги. Ветер полощет стройные складки коричневого платья. Белые вершины гор тонут в облаках. Восходит солнце. ...С залива дует сильный ветер; весенняя Нева полнится тяжёлой водой, а в ней отражается Петербург. Пушкинский Дом закрыли на ремонт, город шумит митингами, может, и он, очнувшись от многолетнего сна, вспомнит о Вас... Снимет шапку Питер и склонит изувеченное и усталое чело в Вашу честь.
Февраль 1988 - апрель 1991 Санкт-Петербург - София - Москва
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ
1841 (?) — родилась в г. Старице Тверской губернии. 1849 — 1855 — учёба в Смольном институте благородных девиц. 1856/57— выдана замуж за барона И. А. Вревского. 1858 — овдовела. Ок. 1860 — приглашена в Петербург императорской фамилией за заслуги мужа. Назначена фрейлиной Её Величества Марии Александровны. 1860 — 1870 — придворная жизнь. Путешествия в свите императрицы по всему миру. 1870 — отстранение от двора из-за придворных интриг. Отъезд на год в орловское имение. 1873 — поездка на лечение (больное сердце) в Мариенбад. 1874 — поездка в Париж (знакомство с И. С. Тургеневым). 1875 — снова в Мариенбаде из-за сердца. Перед этим посетила в Карлсбаде Тургенева. 1877 — собирается сестрой милосердия на войну. Июнь-ноябрь 1877 — работает в 45-й больнице в румынском городе Яссы. Ноябрь — январь 1878 — как частное лицо едет в Бялу (на фронт) и работает там в 48-м военном госпитале. 4 января 1878 — заразилась сыпным тифом. 24 января 1878 — скончалась. Похоронена в платье сестры милосердия во дворе православного храма в Бялу.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Абаза Н. Красный Крест в тылу действующей армии в 1877—1878 гг. СПб., 1880. Т. 1. Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны//Исторический вестник. 1888. Т. 31. Захаров И. Д. Путевые записки. СПб., 1854. Ч. 1 — 3. Татищев С. Император Александр II, его жизнь и царствование. СПб., 1894. Т.2. Немирович-Данченко В. И. Скобелев. СПб., 1884. Верещагин В. В. Воспоминания художника//Русская старина. 1889. №5. Веригин Н. В. Записки//Русская старина. 1893. Одинцов А. А. Записки//Русская старина. 1889. Яшеров В. В. Как умер Скобелев//Русский вестник. 1904. Т. 293. Горбунова Ю. А. Записки в Ливадии//Новая старина. 1914. №7-10. Сборник материалов по русско-турецкой войне №1 — 97. СПб., 1898—1911. Революционеры 1870-х годов: Воспоминания участников народнического движения в Петербурге. Лениздат, 1986. Назарова Л. Тургенев и Вревская//Русская литература. 1958. №3.
Последние комментарии
13 минут 1 секунда назад
9 часов 4 минут назад
9 часов 7 минут назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 19 часов назад
2 дней 21 часов назад