Старостёнок [Валентин Иванович Сафонов] (fb2) читать онлайн
- Старостёнок 541 Кб, 50с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Валентин Иванович Сафонов
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Валентин Сафонов
Старостёнок

1.
Будто ливнем красным брызнуло - струйчатые языки пламени рванули из самолета, косыми молниями воткнулись в хмурое небо. Курносый «И-16» потерял управление, кувыркаясь, жарким березовым листом устремился к заснеженной земле. Огненные прутья жадно оплели фюзеляж, кабину, крылья. С бычьим ревом просквозив над промерзшим лесом, оставляя за собой угарную дорожку дыма, истребитель ударился о поле. «Фонарь», сорванный с кабины пилота, покружил в воздухе и упал шагах в тридцати от самолета. Качнулись, с дремотой прощаясь, деревья в близком лесу, сыпанули с корявых ветвей морозный иней. Ветер из глубины леса пришел, поднял снег. …Через полчаса или малость позже, с усталым пыхтением одолевая непогодь, подполз к догорающему истребителю бронированный вездеход. Машина, не доезжая до самолета каких-нибудь двадцать метров, остановилась, тупо нацелила в чадный костер дуло тяжелого пулемета. Толстый, мешковатый офицер с изрытым оспинами лицом и два рослых солдата выбрались из броневика. Один из солдат, туго натягивая поводок, с трудом удерживал беспокойную овчарку. Второй прижимал к животу рукоять черного «шмайсера». Офицер опередил солдат шага на два, на три, шел уверенно и быстро, не вынимая рук из карманов теплой шинели. Крупная голова его на сильной короткой шее клонилась навстречу хлещущей в глаза метели, упрямо рассекала ее. Самолет догорал. Под его обломками снег плавился, обнажилась выголь земли. В стороне на снегу отчетливо лежал копотный, глубоко вдавленный след - будто проволокли тяжелое, обгорелое бревно. Офицер присмотрелся к следу, сокрушенно развел руками, обернулся к солдатам: - Ушел… Солдат подтолкнул овчарку к копотной колее, освободил от поводка: - След!.. Овчарка, радостно взвизгнув, побежала по колее, беспрестанно и усердно обнюхивая ее. Однако ушла недалеко. Метель колюче ударила ее в морду, в лощине колея исчезла под снегом, и собака, устыдясь своего бессилия, сознавая, что и острый нюх, и отточенное зрение не сослужат ей ныне доброй службы, жалобно заскулила, виновато помахивая хвостом. Подбежал, наклонился над ней солдат, понукая, коснулся пальцами в перчатках ее загривка, прикрикнул недовольно. - Оставь, Отто, ни к чему,- одернул его мешковатый офицер, вынимая из кармана тонкую пластинку шоколада и сдирая с нее пеструю облатку.- Бедный пес не виноват, эта метель нас всех одурачила. Но и он далеко не уйдет. Метель уляжется - отыщем. Офицер положил в рот шоколадку, сладко прижмурился, скомандовал бодро: - В машину! Незряче тыкаясь в навалы снега, вездеход уполз в ту сторону, откуда незадолго перед тем появился. …И другие люди побывали у самолета в этот день. Они, приминая снег, подошли на лыжах со стороны леса, едва в метельном вихре смолк мотор вездехода.Истребитель уже догорел, оплавился, осел на земле бесформенной грудой металла - ничто не напоминало грозную боевую машину. Низкорослый, кривой на один глаз мужичонка в стеганой ватной куртке обежал вокруг того, что недавно было самолетом, задержался у сплющенной кабины, привстал на цыпочки, заглядывая за срез борта. - Летчика-то, стал быть, увезли, не сгорел, стал быть,- сказал он.- Увезли, проклятые! К нему подошел другой лыжник - долговязый, сутулый. - Увезли, стал быть, летуна-то. Слышь, Демид. Проканителились мы, припозднились… По следу видать - хотел уползти… Покачиваясь на ветру, долговязый пробасил: - Говорил вам, раззявам: давай пужанем машину. Пужанули б - смотришь, отбили б парня. Все ты, Митек… - Как же, пужани, когда они за броней и с пулеметом… А что до летчика, так лучше б, стал быть, сгорел, чем так вышло. Истязать они его будут и все одно убьют,- со злостью отозвался одноглазый Митек. Пятеро, сойдясь в кружок, посокрушались относительно того, что вместе с истребителем сгорел, в полную негодность пришел и пулемет, что нет уже возможности снять его и взять на вооружение. И снова ушли в лес. Мела, завевала за ними узко простроченный шов лыжни подгулявшая метель. Белую крупку вытряхивала на быстро стынущую груду металла, бывшего еще сегодня краснозвездным истребителем.
2.
Панька лег на скамью, шубенкой старенькой укрылся. Овчина кислой шерстью попахивала и сладким дымком: отец в шубенке этой на рыбалку прежде хаживал, костры на льду разводил,- оттого и дымком посейчас веет. Над Панькиной головой, в образах, лампадка неярко горела: в волость с утра уехал отец, надеялся засветло обернуться, но уже и сумерки наползают, густея, а все нет его. Анисья, Панькина мать, и велела лампадку засветить перед спасителем: дороги ныне отчаянные, во множестве по ним всякий разбойный люд снует, так что - оборони, господи, от напастей. Сама Анисья на печи лежала - невозможно ей оттуда спуститься, невмоготу на ноги стать. Неделя тому прошла - полоскала белье на речке да и оскользнулась с мостков, и ухнула в прорубь. Вода - льда холодней, и ветер с наволоком - лютый, северный. Ей бы в избу что мочи бежать, а она бельишко собирать начала… Заложило у Анисьи грудь - так и лежит с тех пор на печи, сама себе в тягость, и кашель сердитый бьет ее беспрерывно. «Мчалась бы домой-то сразу да на печь, на горячую - оно бы и ничего вышло, дрожь-то унялась бы,- думает Панька, слыша беспокойное, хриплое дыхание матери.- Разве бы я не сходил за портками да рубахами?» Панька некоторое время смотрел на огонек лампадки, потом натянул шубенку на голову, подышал в кислую шерсть и - угрелся. А угревшись, задремал. Пробудила его мать. - Паня, сынок,- звала она, и хриплый голос ее то и дело срывался на кашель.- Слышь-ка, в дверь кто-то стукнул. Может, Парамон Моисеич вернулся? Поди взгляни, Паня. Не приведи бог, обмерз он, вишь, как ветер высвистывает… Иначе, как по имени-отчеству только, мужа Анисья не величала. - Почудилось тебе,- прислушиваясь, не согласился Панька. - Бог с тобой! - почудилось! Ятный такой стук был. Панька вздохнул, сел на скамье, протирая глаза. За окном загустела, утвердилась ночь, и оттого синий огонек в углу стал резче и вроде бы шире: громадная черная печь наступала на Паньку, на черном же столе нечетко рисовался высокий глиняный горшок. Вдруг и Панька услышал: скребнуло что-то в наружную дверь. Снова вздохнув, он сунул ноги в растоптанные валенки, натянул на плечи шубенку и прошлепал по кухне. Анисья слышала, как долго гремел он на крыльце засовами и щеколдами, как скрипнула дверь и как стихло все за резким ветром. Панька стоял на крыльце, и у самых своих ног, на обледенелых приступках, услышал вдруг неровное дыхание. Холодные мурашки пробежали по его телу. - Кто тут? - негромко спросил Панька. Дыхание у его ног стало частым и хриплым, вроде как клекот, а Панькины глаза, попривыкнув к темноте, различили поперек крыльца похоже что человека. И тогда он бесстрашно,- потому что испугаться Панька мог волка или иного злого зверя - не человека,- опустился на корточки, протянув руку, учуял под пальцами задубевшую кожаную одежду на чьем-то плече, и меховую шапку с длинными ушами, с пряжками из металла на ремешках ущупал, и холодные затвердевшие губы. В то мгновение, когда он коснулся их, дыхание в человеке прекратилось. Панька по одежде сообразил: - Летчик будто бы. Раненый, никак, не то умер минутой! Что делать с этой нежданной напастью - Панька не знал. Ясно одно было: оставить человека у крыльца никак нельзя. А в избу втащить - мать до смерти перепугается. Да и мало ли что и как, в избу-то? Тогда Панька соступил с крыльца. Метель, шебурша, заигрывала с ним, швыряла снегом в лицо. Панька толкнул калитку в задний двор - жалобно скрипнули ржавые, давно не мазанные петли. - Вот ведь черт неумытый,- укорил он себя,- расхлябил на ночь двор, калитку не припутал. Однако промашка эта ныне кстати пришлась. Снова вернулся Панька к раненому не то уже мертвому человеку, наклонился над ним, подхватил под мышки и волоком потащил во двор.- Положу на сеннике, а там видно будет. Тяжеленный, дьявол. Пока к воротам сарая доволок Панька свою нелегкую ношу, упарился - сил нету. А уж в сарай втащил - едва на ногах держался. Пот горячими струйками щекотал спину. - Огонь вздуть надо, посмотреть, какой он,- сам себе сказал Панька. Охлопал руками карманы шубенки - спичек не оказалось. Пришлось бежать в избу. - Приехал Парамон Моисеич? -спросила мать, едва Панька переступил порог. - Нет. И не приедет, видать. Там такое - куда… - А ты чего ж замешкался так-то? - Калитку припутывал. Парень нашарил на загнетке коробку спичек и, зажав ее в кулаке, прикрикнул на мать, словно в какой виновности уличил: - Ночь на дворе, а калитка настежь. Хорошо?! Ты лежи, чего тебе не лежится, а я сейчас до ветру схожу. Чего-тось живот схватывает… Я мигом. И опрометью, через сени, во двор выскочил. В сарае Панька снял со стены фонарь «летучая мышь», поднял толстый пузырь и фитиль прижег, загораживая огонь полой шубенки. Держа фонарь над головой, огляделся и пришел в удивление: на том месте, где оставил он лежать неизвестного, никого не было. Панька в один угол метнулся, в другой - и опять никого. - Что за оказия? Привиделось мне, что ли? - пробормотал он. Паньке зябко стало: человека ли он тащил по снегу минут пять назад, обливаясь потом? Может, оборотень какой был, нечистая сила? Ниже к земляному полу фонарь опустил Панька, к выходу спиной пятясь, в дальний и самый темный угол посмотрел. Кто-то негромко вздохнул над его головой. Оторопь Паньку охватила. Еще мгновение - и выскочил бы он из сарая стрелой. Но тут на полу земляном, в скудном свете фонаря, увидел он раздерганные клочки сена. И Панька понял. По лесенке, к сеновалу прислоненной, с трудом переставляя ноги-неслухи, влез Панька на самую верхотуру. Посветил фонарем и - откачнулся, чуть не свалился вниз, увидя нацеленное в свой лоб дуло пистолета. Где-то там, за пистолетом, в темной глубине,, свету фонаря недоступной, горели по-волчьи два зрачка: живых, пронзительно горячечных. - Не балуй,- попросил Панька.- Слышь, кому говорю.

С неожиданной послушностью пистолет опустился в сено, и Панька, успокаиваясь, зацепил «летучую мышь» за стропила, примостился на верхней перекладине лесенки. Немощный огонь фонаря высветил протянутую вперед руку в кожаном рукаве с зажатым в ней пистолетом - рука покойно лежала на сене, и скуластое, темное - обугленное точно - молодое лицо. - Отец,- услышал Панька,- куда это я попал? - К нам на двор,- ответил Панька и удивился: - Какой же я тебе отец?! Панькой меня зовут, на Новый год только пятнадцать стукнет. - Панька,- повторил незнакомец, подтягивая к себе руку с пистолетом.- Немцы где? Есть поблизости? - Кругом тут немцы, только в нашей деревне не стоят. Маленькая у нас деревня, пить-жрать им тут нечего - не разбежишься… Они по селам больше норовят. А ты кто? Летчик? - Летчик. Сбили меня. Панька встревожился: - Ты, видать, пораненый. Я мигом в хату слетаю, тряпок чистых принесу - перевяжемся. Качнулась из стороны в сторону голова в шлеме. - Крови вроде нет, не чую. Разбился я сильно и обгорел - вместе с самолетом падал. На тысячу кусков разбился, и каждый болит. О-о… Летчик скрипнул зубами. - «На тысячу кусков»…- ухмыльнулся Панька.- А на сеновал-то залез вон… - Я? Залез?. - удивился летчик. - Ты, а то кто же! И опять качнулась из стороны в сторону голова в летчицком шлеме. - Не помню. Ничего я не помню. - Я тебя на крыльце нашем подобрал и в сарай припер,- чувствуя в себе, невесть почему, прилив какой-то восторженной силы, заговорил Панька.- Пер-пер, думал, дыхалка лопнет. В сарае бросил тебя, за спичками побег в избу. Думаю, засвечу огонь да погляжу, не мертвяк ли? А ты вон какой мертвяк - на такую гору, можно сказать, закарабкался. Да еще пальнуть в меня собирался. Это разбитый-то… Панька перевел дыхание, тыльной стороной руки вытер испарину на лбу, рассудил: - Оно, конечно, может, и со страху ты на сеновал заскочил, Со страху, в беспамятстве, чего хочешь сделать можно. А? Как думаешь? Летчик не отозвался. Панька пригляделся - лица не увидел: только затылок, обтянутый кожаной шапкой. Может, заснул, а может, забылся в усталости человек. - Слышь, я тебе полопать сейчас принесу,- на всякий случай окликнул Панька летчика.- Картошки жареной. В печке она, да я достану. Не остыла еще, поди… Слышь, что ль? Молчит летчик. И тогда Панька с лестницы на сеновал перебрался. Стоя на коленях, уважительно коснулся рукой пистолета. «ТТ» - марку определил.- «Эх, мне бы такой-то…» Затосковал Панька. «А что, выхожу вот его, откормлю,- может, подарит. Летчики завсегда добрые…» Чихая и кашляя от всепроникающей зеленой пыли, чувствуя, как забивают его дыхание полуутраченные запахи жаркого солнечного полудня, высохшей утренней росы, запахи давнего и недавнего лета, пропитавшие сарай насквозь, Панька подоткнул под летчика старые овчины, хорошо прикрыл сеном. Подумал уверенно, что не замерзнет и при таком морозе - ветер в сарай помалу набегает, а одежда на летчике теплая, мехом подбита изнутри. В небе - и то греет. А тут и овчина, и сено, поди-ка… …Потом сколько-то времени Панька стоял во дворе и соображал, нужно ли принести летчику поесть. Решил, что нужно: проснется человек - захочет перекусить. С хлебом беда - хлеба в доме мало. Ну да ничего - из своей пайки выделить можно. А мать и вовсе почти не ест, не идет ей кусок в горло. За двором, с околицы, метелица белый снег мела-наметала. По непогоде такой да в ночь отец из волости уж точно не вернется. И Панька от души порадовался, что всему дому сегодня он единственный - голова. Больная мать тут ни при чем.
3.
Отец приехал, едва развиднелось. Панька услышал его бубнящий голос, с трудом раскрыл глаза. Парамон Моисеич, не сняв тулупа, взгромоздился на табуретку у печки, и голова его в потертой солдатской шапке торчала где-то под самым потолком. Оттуда, сверху, и доносился до Панькиных ушей его голос: отец разговаривал с матерью. - В волости, значица, заночевали, не решились на ночь глядя… Спросил тревожно: - Не получшало тебе, Анисья? Мать закашлялась надолго и ответила хрипло, что нет, не получшало, что в груди колотье не проходит и голова в огне - полымем полыхает. - Фершала, значица, привозить надо,- подумав, сказал отец. И еще малость поразмыслив, добавил решительно: - Завтра за фершалом поеду. - И, Парамон Моисеич,- не согласилась мать.- Дорога дальняя - не ко времени езда. Даст бог, оклемаюсь. Отец вздохнул тяжело: - Молочком бы разжиться, коровенкой. Молоко топленое с медом пить - пользительная от простуды штука… Ты не сдавай, Анисья, выздоравливай,- попросил он жалобно.- Куда мы без тебя, два мужика… Пропадем в одночасье. Вот так каждый день: не сдавай, Анисья, выздоравливай. И про молоко тоже - верил свято Парамон Моисеич в целительную силу топленого коровьего молока с липовым медом. А в деревне их ныне - куда там коров! - анчутки рогатой ни единой не сыщешь. Козы паршивой, то есть. Панька встал со скамьи, потягиваясь и почесывая в затылке. Увидел, что масло в лампадке выгорело давно и что в незначительном утреннем свете подчерненный копотью лик спасителя здорово напоминает лицо вчерашнего летчика. - Что, брат, ловко мы с тобой? - по-свойски подмигнул он спасителю. Тот неодобрительно промолчал. Панька хотел уже бежать на сеновал, убедиться, как он там, летчик-то, живой ли еще, не замерз? Но тут скрипнула дверь, в избу ввалился, тоже в тулупе, Соленый, местный полицай. В волости он был вместе с Панькиным отцом: своей лошади Парамон Моисеич не нажил пока, и ездили они в санях, запряженных Бродягой - персональным мерином полицая, а до начала войны - исправным трудягой в здешнем колхозе «Новый путь». С месяц тому назад случайно отбил Соленый буланого мерина у местных партизан и самолично завладел им. Соленый поставил в угол две заиндевевшие винтовки - свою и Парамона Моисеича, стащил с головы лисий треух, поклонился, прогудел трубно: - Мир дому сему! Здорово ночевал, старостенок?! - У меня, чай, имя есть,- буркнул Панька, отступая к задней двери, что вела в сенцы и оттуда - во двор. - Виноват, Павел Парамонович! Имени - почет, чину - уважение… И Соленый широко распахнул тулуп, потащил его с крутых плеч. - Однако, голоден я, братцы мои,- басом простонал он.- Хлеба б корочку пожевать. «Как же, накормишь тебя корочкой»,- недовольно подумал Панька, берясь за дверную скобу. Парамон Моисеич, соскочив с табурета, тоже стянул с себя тулуп. - Панька,- просяще окликнул он,- спроворь, значица, чего ни есть позавтракать. Изголодались мы… - Картошки нажарю. - Давай картошку. С неохотой оторвался Панька от двери, слазил в подполье за картошкой, потом лучин от березового поленца нащепал, брызнул на сковороду постного масла и, пока разгоралась в печи дымным белесым пламенем влажная от лежалости солома, успел очистить десятка два картофелин, порезать их. С шершавой луковицы одежку снял - прослезился. Парамон Моисеич и Соленый сидели в горенке: Панька слышал их голоса - заикающийся, через пень-колоду каждое слово, отцов, и низкий, густой бас полицая,- но о чем толкуют они там - понять не мог. Сказать или не сказать отцу про летчика? - мучился Панька. Выходило так: не скажешь - вдруг сам наткнется на него, шум подымет. Вся деревня сбежится, и Соленый будет тут как тут. Или, еще того хуже, пристрелит отца летчик по нечаянности: откуда знать ему, что отец у Паньки - человек добрый и жалостливый, вон как по матери убивается, иссох весь, кожа да кости остались, и что немцам служит он по принуждению - не по собственной воле. Не выдаст отец летчика, не пойдет против совести. Может, и дорогу к партизанам укажет ему Парамон Моисеич. Они, достоверно слышно, в окрестных лесах берегутся, а вокруг ихней Незнамовки лесов этих дремучих - сила несметная. «Скажу,- поставил Панька точку на своих сомнениях.- Уйдет Соленый - сведу отца на сеновал. Вместе смаракуем, что и как дальше». Приняв окончательное решение, Панька успокоился, ткнул вилкой в сковороду, попробовал картошку на зуб. Готова! Подцепив посудину сковородником, прошел в горницу. Парамон Моисеич и Соленый сидели, за столом, друг против друга. Перед ними, початая на четверть, стояли бутылка водки и граненый, с синим отливом стекла, стакан. Это для полицая. Парамон Моисеич в жизни не пил и не курил. - Садись с нами, сынок,- пригласил Парамон Моисеич.- Чай тоже не завтракал. - Садись, парень,- дружелюбно прогудел Соленый.- Правда - она в сытом брюхе. Панька подумал - и сел сбочку. Соленый наклонил бутылку над стаканом, налил до половины, понюхал корку хлеба и выпил, не поморщившись. Вяло пожевал картошку. - Квас. Дрянцо.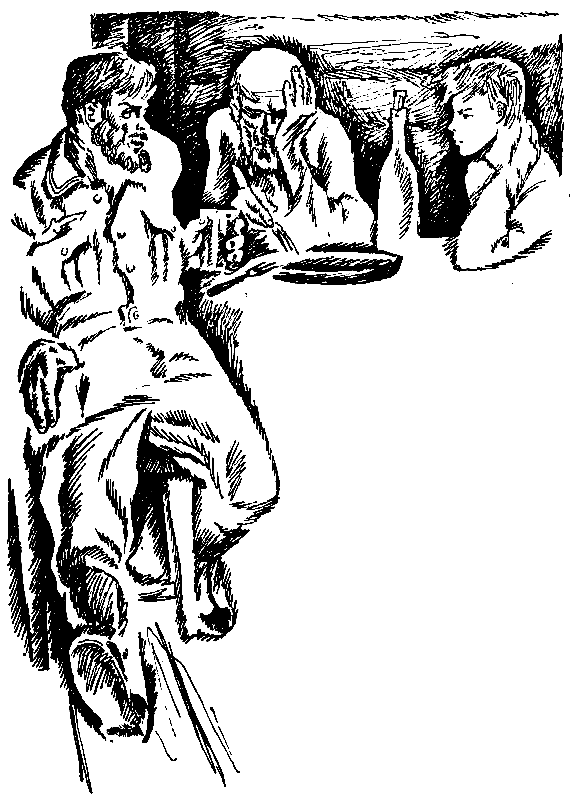
Как равному, Паньке предложил: - Хочешь? Панька мотнул головок - Вольному воля, было б предложено. Так вот, Парамон Моисеевич,- затрубил он, продолжая,, видимо, оборванный Панькиным приходом разговор,- скажу без околичностей, ибо прямоту уважаю. Со всей откровенностью скажу: крест на грудь - он что? - побрякушка. Однако цену человека подымает. Получу крест - на волостную полицию сяду. А коровенка… Стану начальником - коровенка приложится. Да хоть бы и сейчас - раз плюнуть. - Так ведь трудно без нее, без кормилицы,- оправдываясь, вставил свое слово Панькин отец.- Никак невозможно без молока. Анисья вон занемогла, а молочко- оно б ее на ноги живо поставило. Топленое, на липовом меду, значица. Еще недавно была в их доме удойная корова-четырехлетка по имени Обнова. Рыжая мастью, круторогая, с мягкой и теплой всегда шерстью. Эту шерсть, когда Обнова линяла, Анисья бережно собирала и катала из нее для Паньки упругие мячики, не хуже резиновых были они. В летние месяцы Обнова на выпасах гуляла, за садом, за околицей. Вечерами Панька гнал ее домой, и, завидев калитку родного двора, Обнова радостно и громко мычала. Звала хозяйку с подойником. Тяжелое вымя тяготило ее. Нынешней осенью проходила через Незнамовку фронтовая часть. Задержалась в деревне - и съели Обнову солдаты. Парамон Моисеич, когда немцы во двор нагрянули, навстречу выбежал с документиком, удостоверяющим, что человек он ,не рядовой, приметный: первое в деревне лицо. - Пшель! - отвел его руку ширококостый фельдфебель с воспаленными глазами и даже толкнул Парамона Моисеича: документик отлетел в одну сторону, мужик - в другую, а фельдфебель строевым шагом вошел во двор и выстрелил Обнове в голову. Свежевать кормилицу заставили Парамона Моисеича, мясо варить - Анисью. После, как фронтовики из Незнамовки ушли, в волостную управу ездил Парамон Моисеич, жаловался и правду искал. В управе обещали разобраться, помочь, но, думать надо, забыли про обещание… Припомнил все про Обнову Панька - и грустно ему стало, задумался надолго и плохо слышал, про что говорили мужики. А когда очнулся - навострил уши. - Жалко, Фома Фомич,- виновато толковал отец.- А вдруг всамделе схватим мы его? Живой, как-никак, человек, русский. Полицай снова налил в стакан, выпил, крякнув, потянулся к сковородке. - Я вот что скажу… «Вот гад, всю картошку стесал. Что в прорву ненасытную мечет»,- с ненавистью подумал Панька, глядя, как сноровисто подчищает Соленый горелки на дне сковороды. А Фома Фомич - будто Панькины мысли подслушал,- подмигнул ему, усмехнулся: - У меня, парень, аппетит с каждой стакашкой растет. Тонус такой. Панька смутился, но Соленый не разглядел его смущения, повернулся к отцу. - Я вот что скажу, Парамон Моисеевич, жалеть в наше время прежде всего самих себя надобно,- тщательно отделяя одно слово от другого, затрубил он.- Москву немцы де-факто и де-юре уже взяли, войне не сегодня-завтра полный капут выйдет. Соленый слыл человеком образованным. Всего каких-нибудь пять месяцев тому назад заведовал он райзо, а кроме того, числился штатным и нештатным лектором и пропагандистом всевозможных организаций, начиная от официального Осоавиахима и кончая добровольным кружком любителей русской истории, в который, помимо Соленого, входили два учителя средней школы. Страстью Соленого было выступать на районных и прочих всяких активах, и уж когда получал он слово - в ораторы Фома Фомич записывался при любом удобном случае и непременно первым,- с трибуны его силой согнать было нельзя. Выложится весь - сам уйдет. Красноречие Соленого в поговорку вошло. Сейчас он сидел, навалясь на край стола широкой грудью (ах, как недоставало на ней креста-побрякушки!),- пьяный не столько от дрянного самогона, сколько от уверенности в себе, и, точно в податливую доску, вбивал в тщедушного, ничем не замечательного Парамона Моисеича ядреные гвозди-слова. - Они уже и гранит в Москву для памятника победы повезли, сам видал. Огромные платформы, чистой слезы карельский гранит-мрамор… Кончилась власть Советов, а жития ей было двадцать четыре года… Нам теперь при новой власти жить. От того, как проявим себя, все зависит. Полиция - дело верное, полиция при любом режиме нужна, ни одно государство без аппарата насилия не может существовать. Это,- понизил он голос,- и у самого Маркса сказано, между нами говоря. - Боязно все ж,- оглушенный длинной речью Соленого, признался Парамон Моисеич. Паньке было жаль отца и смотреть на него неприятно было: сидит, голову в плечи втянул, зрачки омертвели будто бы. «Ну хватит,- умолял он полицая,- потрепался и - хватит! Не всяк же тебя поймет». Соленый перегнулся через стол, кривя губы, сказал жестко: - Ты, Парамон Моисеич, всякую боязнь, всякую жалость в себе в кулак сожми. И вон выбрось, чтоб и помину… Да ты на политику их взгляни. В полиции и у власти из наших они только полноценных людей держат. Полноценных, понятно тебе? Тех, кто их расе способен пользу принести. А нет - пинка под зад, и полетела душа в рай. Мне сам комендант рассказывал,- подчеркнул он значительно,- сам рассказывал, что неполноценных из славян, есть такой проект, уничтожать поголовно намерены. Ясно тебе? - Ладно,- неизвестно на что отозвался Парамон Моисеич.- Ладно, я, значица, собираться пойду… Горбясь, он вышел на кухню. Соленый остался допивать водку, а Панька выскользнул за отцом. Парамон Моисеич стоял у окна, держал в руках винтовку и не видел, не слышал Паньку. Неловко открыл затвор, извлек из магазина тускло поблескивающие патроны, сунул их в карман штанов. - Батя,- тихо позвал Панька.- Слышь, батя… - А? Что? - вздрогнул Парамон Моисеич, со стуком положил винтовку на стол. - Батя, я тебе что-то сказать хочу. Панька шагнул вперед. - Слышь, батя, тут вчера такое приключилось… Парамон Моисеич непонимающе смотрел на сына. - Батя, пойдем в сени. За Панькиной спиной растворилась дверь. На кухню, вытирая белым платком жирные губы, вышел Соленый. - Готов, Парамон Моисеевич? Как пионер, Фома Фомич, завсегда, значица, готов! - чужим, ненатурально бодрым голосом отозвался Парамон Моисеич. - Тогда одеваемся - время дорого. Соленый мимоходом прихватил винтовку Парамона Моисеича, играючи, небрежно потянул затвор на себя. - Э-э,- укоризненно хохотнул он.- Вояки ж мы с тобой, Парамон Моисеевич. В случае чего, стало быть, они в нас палить будут, а мы с тобой прикладами обороняться. Так, что ли? У Парамона Моисеича лицо красными пятнами забурело. - Память. Подвела, проклятая,- залепетал он, неловко роясь в карманах штанов и доставая целую обойму.- Вот она, будь ей неладно! А я, значица, и думать забыл. Соленый взял обойму, не торопясь, со знанием дела утопил патроны в магазине, звучно двинул затвором, поставил винтовку в угол, рядом со своей. Они топтались в тесной кухне, натягивая на плечи тулупы,- краснощекий, ладный фигурой и выправкой полицай и маленький, на полторы головы меньше, тощий и плешивый Панькин отец. Парнишка смотрел на них, недоумевая: чего это вдруг засуетились, куда засобирались - ведь только что с дороги, обогрелись едва. - Анисья, смотри тут, не хворай, значица,- стесненный присутствием постороннего человека, вполголоса посоветовал отец.- Как ни то - вернусь скоро. Взял винтовку и понес ее на выход, держа перед собой обеими руками. На пороге задержался, обернулся растерянно: - Паня, ты чего-то, кажись, шепнуть мне хотел? Панька закусил нижнюю губу, пожал плечами. - Спросить я хотел, куда собрались-то? Отец замялся, выговорил сердито: - Ты вот чего - спишь крепко, значица. Нонесь утром стучал-стучал в окно - не достучался. Через забор лез, по-воровски, со двора избу отворял. Соленый хохотнул понимающе: - Хватит тебе, Парамон Моисеевич, наводить тень на ясный день. Человек он взрослый, все разумеет, и стесняться тут нечего: мы же дело делаем. Летчика, Павел Парамонов, идем искать, сокола красного, сталинского. Самолет его подбили - во-он, у леса на полянке. А сам утек. Пойдешь с нами? Наган дам. Добрый наган: на тридцати шагах копеечку режет. Идем, а? Мы его живо сцапаем - далеко навряд ли ушел. Парамон Моисеич протестующе взмахнул рукой. У Паньки захолонуло сердце. - Не надо нагана,- выдавил он через силу.
4.
Он долго смотрел в окно. Бродяга с места тронул крупной рысью - качнулись резко две понурые фигуры в санях. Из-под копыт мерина комьями взлетел снег, осыпал тулупы отъезжающих. Два четких следа заструились под полозьями, и чем дальше уходили они, эти ровно прочерченные линейки, тем уже и уже становилось заключенное в них пространство. Где-то,- так почудилось Паньке,- непременно должны сойтись они на остро отточенный клин. А когда пропали сани из видимости, Панька наклонился к подпечку, разворошил груду тряпок, достал оттуда завернутую в грязный половичок гранату - «лимонку». Она лежала на ладони, вселяя в Панькино сердце силу и уверенность, этот тяжелый металлический шарик в рубчатой рубашке, смазанный поверху для лучшей сохранности лампадным маслом, начиненный смертью. Стоит только потянуть кольцо и - ваших нету… Гранату Панька подобрал летом в наспех вырытом окопе - тогда близ Незнамовки целый день шли бои, красноармейцы отчаянно отстреливались от наседавших немцев, а ночью, забрав убитых и раненых, незаметно ушли. Только и оставили обрывки окровавленных бинтов, горки латунных гильз да вот эту, в зеленый цвет выкрашенную «лимонку». Кто-то забывчивый, нескладный оставил, наверно… Панька опустил гранату в левый карман штанов - и сразу штаны отяжелели, поползли с его тощего бедра. Попробовал ремешок перетянуть потуже - не помогло. Да и заметно очень. Панька подумал малость и перепрятал гранату в карман шубенки. «Днем пусть при мне будет, а на ночь опять в подпечек захороню»,- решил он. - Ма,- негромко позвал Панька, но мать не отозвалась, только хриплое, со свистом, дыхание услышал мальчик. Наверно, сном забылась. Тогда Панька тщательно запер на щеколду и большой крючок входную дверь, отрезал от початой ковриги ломоть хлеба, круто посолил его. Сходил в горенку, обнаружил на столе недопитую бутылку водки и прихватил ее, а в другую бутылку, порожнюю, свежей воды налил и стремглав бросился в сарай. Взлететь по лесенке на сеновал теперь для него делом одной секунды было. Уселся, как и ночью, на верхней перекладине, свалил на сено весь небогатый припас, огляделся. Наверху, под самым коньком крыши, в зимний день ненамного светлее, чем ночью. - Эй, ты,- покликал Панька, не зная, как назвать летчика по имени.- Живой? Отзовись, я это… Сено ворохнулось слегка, и Панька увидел голову в кожаном шлеме. - Значит, живой,- обрадовался мальчик.- Ползи сюда, я тебе пожрать принес. - Не могу я, Павел, шевельнуться, не могу,- пожаловался летчик.- Только руки и работают. - Тяжело, значит? Дай-ка, я помогу. Сейчас, сейчас… Ты не унывай, не тужи: руки - это самое главное. Ног не будет - наплевать, а руки целы - важно: кончится война - сапожничать научишься, проживешь помаленьку. А что, очень даже просто: тяни и тяни дратву да гвоздочки березовые вколачивай. Руки и голова - первеющее дело. Панька подвинул к летчику хлеб, бутылку с водой, выковырнул пробку из другой бутылки и все говорил-говорил, суматошливо и радостно: - Ты ешь, ешь, поправляйся скорей. И на вот, вылей. Водка. - Водка? - оживился летчик.- Ну-ка, давай, может, впрямь полегчает. Он пил, неудобно и неумело запрокинув голову, шея его обнажилась, острый мальчишеский кадык бегал под бледной кожей. И Панька подивился тому, что у летчика такое темное, обугленное лицо и такая бледная шея. «Наверно, от удара лицом почернел,- подумал он.- И кружку я не прихватил - неудобно из горлышка-то». Летчик меж тем выронил бутылку и ухватил в руки хлебный ломоть. Съел его с торопливой жадностью, не просыпав и крошки. «Проворный,- подумал Панька.- Лопать умеет, значит, не хилый». - Павел, я, наверно, захмелею сейчас. Слаб я. - Вот еще надумал!- осердился Панька.- Мужик - и охмелеет. Скажешь тоже! Он не на шутку испугался, что летчик и в самом деле сникнет, впадет в забытье, а Паньке очень о многом хотелось поговорить с ним, с человеком, прилетевшим оттуда, с той стороны. - Слышь,- сказал Панька.- Промерз ночью-то? - Не знаю, не чувствовал. - А как зовут тебя? Вчера не спросил - не до того было, и мучился всю ночь. Ей-богу, не вру. Думаю, умрет - за кого свечку ставить? Летчик с трудом приподнялся на локтях, круглыми от изумления глазами уставился на Паньку. - Ты что, в бога веруешь? Я не ослышался? Паша, дружок, ты до войны хоть раз в пионерском лагере был? - Был раз. Почти неделю жил, а потом убег. Скучная там жизнь, никчемушная, не по мне. Ходи строем, вставай по дудке и спать ложись по дудке. Купаться на реку пойдешь - так вожатая за штаны держит: не утони, Пашенька. Сбег я оттуда к отцу на сенокос. Вот где привольно-то… У меня и коса есть своя, батька по росту сделал. С утра по росе намахаешься, а в полдень где-нибудь на стожке лежишь себе, отдыхаешь. На земле у нас нельзя - змей много! Тетка Авдотья как-то прилегла на лужку, на траве прямо, да заснула ненароком, а рот-то раскрыла. Змея ей через рот вовнутрь и заползи. Стала Авдотья потом пухнуть, толстеть. Думали все в деревне, забрюхатела она, спрашивали бабы, когда, мол, родить-то? - и смеялись над ней: старая уже. А это змеюка там оказалась. И ненасытная попалась - никак Авдотья прокормить ее не могла. Молоко целыми горшками пила, бывало. Хотела Авдотья огуречным рассолом ^у змею выгнать, а ничего не получилось. Что ей, змее-то, плохо в животе-брюхе? Тепло и сытно. А потом умерла тетка Авдотья и ее разрезали… Летчик усмехнулся: - Сказки рассказываешь, Паша. Забавные, горазд заливать… А я в лагере планеры строить научился, модели. На соревнованиях первое место брал. Да-а. И никаких змей никогда не видел, только в зоопарке… Смешные сказки. - Не сказки, а истинная правда,- обиделся Панька.- И ты мне верь. А что про бога, так я знаю, что его нет. Опиум это для народа, обман один. Я грамотный, шесть классов кончил, для седьмого учебники у мамки в сундуке лежат. А порядок такой есть - свечки ставить… Так как звать-то тебя? - Звать меня просто: Егор Иванович Иванов. А по воинскому званию - младший лейтенант я, летчик-истребитель. - Скажи-ка,- удивился Панька, явственно услышав в голосе летчика горделивые нотки, и уважительно сказал: - Ты, Егор Иванович, небось, самолетов немецких много насшибал. Штук десять, да? Летчик промолчал. - Ну, не десять - пять? - с отчаянием и надеждой в голосе и боясь ошибиться, переспросил Панька. Егор Иванович развел руки - видно, локти плохо держали его,- глухо, в сено сказал: - Никого я не сшиб, Паша, не повезло мне. На первом вылете срезали, гады… Паньку честное признание летчика повергло в уныние. Он долго не мог проронить и слова, а когда чуть успокоился - запахнул плотнее от внезапной зябкости полы шубенки, сказал с досадой: - Эх ты, неумеха: ни одного самолета! Вот Чкалов… - Что Чкалов?! Был…- отозвался летчик тусклым голосом.- Не слабее есть ребята. Вон Витька Талалихин! Дружок, можно сказать. На таран пошел. Да когда? - ночью. «Юнкерса» в щепки развалил. Героя получил. И я не хуже. Не хуже - понял? Только не повезло мне. Панька отчетливо услышал в интонациях Егора Ивановича злые слезы. И, жалея его внезапной жалостью, примирительно махнул рукой. - Ладно, не тужи, Егор Иванович. Слышь-ка… Вот поставлю тебя на ноги - ты еще насшибаешь фашистюг. От непомерного сострадания к летчику зародилась в Паньке уверенность и надежда, что непременно сумеет он подлечить младшего лейтенанта Егора Иванова, отчаянного истребителя, которому просто-напросто не повезло. Не всем же сразу везет… - Насшибаешь, говорю. Верно ведь? - Насшибаю, верно,- как-то по-детски согласился летчик. - Ну вот. А ты мне самое главное скажи: когда немцы Москву-то взяли и как теперь отбирать ее обратно? - Москву? Взяли? - пораженно спросил летчик и снова приподнялся на локтях.- Ты что, спятил, парень? Я с подмосковного аэродрома вчера подымался. Москву им никогда не взять. Трудно ей, а выстоит. Выстоим… Панька смутился и восхитился одновременно: - Ух ты, здорово! Гляди-ка… А мне откуда ж знать. Болтают всякое. Он едва не обмолвился о Соленом, но сообразил, что не стоит расстраивать летчика рассказом о полицае. - Мы ж тут все равно как на том свете. Ни радио, ни газет - все запретили гады… - Павел, ты с кем живешь-то? Отец где, на фронте? Егор Иванович пристально смотрел на Паньку, Вопрос мальчишке не понравился. - Ладно, Егор Иванович, потом об этом расскажу. У меня ноги застыли, а тебе отдохнуть надобно. Ты поспи чуток, а я пойду. Наведаюсь еще.5.
Ближе к сумеркам снова взыграла, завьюжила непогодь. Ветер со звериной силой стучал в окна и сквозь переплеты, заклеенные по осени газетой, сквозь двойные рамы умудрялся насыпать на подоконники сахарные дорожки. Углы в кухоньке замохнатели от инея, а когда Панька растопил печь, чтобы подогреть избу на ночь, подтаяли, заплакали углы темными старческими слезами. Панькина изба в своем порядке крайняя была, окнами в чистое поле и недальний лес смотрелась, но сколько ни вглядывался Панька сквозь промерзшее стекло, сколько ни ставил на нем пятачков жарким своим дыханием - ничего не увидел в белой круговерти снеговых столбов. Тревога за отца не покидала Панькину душу. Поздним часом, однако, когда отчаявшийся и беспомощный в своем одиночестве Панька собирался спать, отец и Соленый вернулись. Приехали, как и надо было думать, ни с чем. Впрочем, не так уж и с пустыми руками - в задке саней лежали два засыпанных под завязку мешка с пшеницей. Один мешок Парамон Моисеич с Панькиной помощью втащил в избу, другой Соленый повез на свою квартиру. На Панькин вопрос, где это они пшеницей разжились, Соленый ответил хмуро и непонятно: - Экспроприировали частную собственность. По закону военного времени. В избу заходить не стал, вылезать из саней не захотел - вытянул Бродягу кнутом по широкому крупу и укатил восвояси. Ужинать Парамон Моисеич сел в кухне. Панька лежал на скамье, смотрел, как вяло торкается в миске с постными щами деревянная отцова ложка, и думал невеселую думу. Наконец он решился, спросил: - Не сыскали, значит, летчика? Отец взглянул на него затененными синевой усталости глазами, покачал головой. Выхлебав щи, миску вытер хлебным мякишем, прожевал его. Укорил: - Что-то хлеб у нас быстро тает. С утра и не приступались к ковриге, а щас, гли-ко, одна горбушка осталась. Жрешь много. - Сколько надо - столько и жру,- резонно обиделся Панька. - Да я ничего, так я,- стушевался отец.- Из-за матери больше, значица, ей питание нужно. Пшеничка-то вон… Ты бы намолол, а то завтра замесить не из чего. Панька страсть как не любил молоть, но, понимая, что упрек отца, в общем-то, справедлив, и зная, что теперь один из едоков жив будет только его иждивением, согласился, и даже с видимой охотой: - Ладно, прокручу. За ночь управлюсь, а днем отосплюсь. - Намаялся я,- пожаловался Парамон Моисеич.- Продрог, поясницу разламывает. Но прежде чем улечься на покой, он привычно подвинул табуретку к печке, забрался на нее и долго шептался с матерью: допытывался про ее здоровье, спрашивал с надеждой, не полегчало ли, и пришел к окончательному решению сгонять завтра в волость за фельдшером. Анисья неожиданно согласилась с ним: - Вези фершала. Моченьки моей терпеть больше нетути. Днем креплюсь, терплю, а к ночи на куски всю раздирает… Вези фершала, Парамон Моисеич. Панька, зевая, скучал на скамье, отчужденно прислушивался к беспокойному перешептыванию отца с матерью и лениво думал о том, что, когда вырастет в мужика, никакая сила не заставит его жениться. Лучше самому по себе, одному на свете жить, чтобы и ты никому не в тягость, и тебе никто… А когда услышал про фельдшера - встрепенулся: как бы заполучить его, чтобы летчика посмотрел и чтоб никто не узнал об этом. Или лекарств каких выпросить для разбитого человека. Парамон Моисеич, между тем, аккуратно соступил с табурета. И Панька поднялся со скамьи, шумно вдохнул в себя застоялый, пропитанный запахами нездорового тела и мокрых овчин, жженой соломы и вечной сырости воздух кухни. Помедлил еще чего-то. - Батя,- ворохнул неестественно высоким голосом густую вечернюю тишину.- Батя, скажи мне, зачем ты поехал с Соленым человека ловить? Парамон Моисеич шагнул к сыну, остановился напротив. Редкие белесые ресницы его мелко-мелко задрожали, щеки пошли красными пятнами. В эту минуту он удивительно походил на подростка, на Паньку своего походил, разве только плечи поуже от сутулости да огромная плешь на затылке. - Я же властью постановленный человек,- сказал он.- К жизни приноравливаться надо. Вон Фома Фомич говорит, и выживут-то, мол, не все, а кто к ним с покорностью. Убьет людишек война. Против силы не попрешь. Москву-то немец взял, слышал ведь, как Фома Фомич говорил. - Брешет твой Фома Фомич! - не выдержал Панька. И, боясь, что его перебьют, остановят, не дадут высказаться, не поймут, заговорил торопливым, кричащим шепотом: - Батя, ты же умный. Зачем к тебе Соленый привязался? Отстань от него, будь сам по себе. Иди в партизаны, батя, скорей иди… Хоть сейчас иди. Беги! Вон и винтовка у тебя есть. В синих глазах отца метнулись искорки страха. Втянув голову в плечи, он быстро огляделся по сторонам. - Тише ты, оглашенный! Услышат ненароком… Рази ж можно так-то? - А как же, батя, как же? - Молчи. Твое дело сторона. Панька, приволакивая отяжелевшие ноги, прошел в угол, где стоял мешок с пшеницей, ухватил его за хохол, потащил к подполью. Парамон Моисеич суетливо наклонился, прицепился снизу к углам, сказал виновато: - Не надрывайся один-то. Помогу, чай. Панька молчал, будто б не видел и не слышал отца. Взял с поставца лампу-пятилинейку, открыл люк в подполье, поставил ногу на тронутую червоточиной перекладину лестницы. В лицо шибануло прелью, стужей, мурашки забегали в ногах. Отец обескураженно топтался рядышком, неловко помог свалить мешок с пшеницей в подполье. - Сынок,- позвал он, когда Панька хотел закрыть за собой люк. - Чего тебе? - Сынок… Парамон Моисеич опустился возле люка на колени, желая лучше видеть Панькино лицо. - Сынок,- в третий раз повторил он.- Ведь из-за матери я все это… стараюсь, значица. Пойми ты меня, сынок. Корову в награду обещали. Ведь умрет мать, что мы с тобой делать будем? Умрет она без молока, беспременно умрет. Что мы делать-то будем, скажи мне? - Иди спать,- жалея отца и ненавидя его, униженный его нелепой - на коленях-то! - позой.- Иди спать,- повторил Панька и опустил над собой крышку люка. В подполье, под фундаментом печки, в самой близости к теплу, коричневел при неярком освещении ворох картошки - запас до летних дней, до нового урожая. Подальше стояли две просторные бочки: одна с солеными огурцами, другая - с квашеной капустой. Ящики, засыпанные опилками и песком, источали тонкий запах смолы и аромат антоновских яблок: там лежал весь урожай, снятый по осени в их молодом, неокрепшем саду. Под горенкой в углу на неошкуренных досках, стола ручная мельница: два грубо отесанных по окружности шершавых камня-жернова. В верхнем жернове проделано отверстие для засыпки зерна, к нему же и приводной шест прикреплен. Дюжему человеку и то не всегда под силу вертеть эту чертову мельницу, этот привод с тяжелым жерновом. Мука из-под него выходила грубая, скорее не мука, а дробленое зерно вперемешку с каменной пыльцой и крошками. До войны Панька и не представлял, что могут быть такие мельницы. Раньше зерно на паровой, колхозной мололи. Панька присел намешок с пшеницей, и припомнилось ему, как однажды по осени ездили они с отцом на ту, настоящую мельницу. …В просторном амбаре, светлом от солнца - двустворчатая дверь настежь распахнута - и от белой мучной пыли, было тесно: мешки, полные зерна, свалены в груды вдоль стен, множество мужиков, в ожидании своей очереди, сидят на этих самых мешках, терпеливо смолят цигарки. Мельник - молодой простоволосый парень, белый от пят до макушки,- стоял на широком помосте. «Шш-шух, шш-шух»,- тяжко вздыхали жернова, и ручьем стекала в деревянный желоб белая, похожая на ранний снег, мука. - А ну, мужички, подбрасывайте! - время от времени покрикивал мельник и весело подмаргивал глазевшему на него Паньке: - Не робей, воробей, знай наших! Тотчас по команде мельника несколько пар сильных мужицких рук поднимали с земли мешок. Покачиваясь, плыл он над головами, а затем бережно ложился у самых ног мельника, и тот ловко и быстро распутывал на нем завязку, и с силой падало в горло жернова янтарное зерно. - Ай, хороша новина, ай, добра! - радостно приговаривал мельник, веселый человек. «Шш-ша, шш-ша»,- поддакивали ему жернова, а где-то за стеной размеренно потарахтывал движок, и сладкие запахи отработанного масла и солярки щекотали Панькины ноздри. Панька безотрывно смотрел на муку, стекающую в желоб, на мельника и думал о том, что когда вырастет - тоже станет веселым мельником и легко заставит крутиться большие жернова. Тогда, в тот день, едва подошел их черед, как Митьку Кривому вздумалось нарушить порядок. Он только что подвез зерно на бестарке, взволок мешки в амбар и попер их прямо на помост. - Не. дури,- неожиданно осек его всегда терпеливый Парамон Моисеич и рукой в сторону подвинул.- Не порть людям радость, дожидай своего часу. - Недосуг мне, мужики,- оправдываясь, обратился к очереди одноглазый Митек.- Понимать должны: бригада на мне. - В поле ты бригадир, а здесь мы все одинаковы,- со строгостью в голосе объяснил ему Парамон Моисеич.- И зерно у нас на одинаковые трудодни заработанное. Мельник радостно хлопнул себя по ляжкам, отчего над помостом закачались два пыльных облачка, и весело подмигнул Кривому. - Вот она, чертушка одноглазый, какая конституция тебе вышла,- непонятно сказал он Митьку. И снова подмигнул Паньке: - А ты не робей, воробей, знай наших! Митек, конфузясь, отошел в сторону. Ничего и никого не боялся тогда Парамон Моисеич: ни соседа, ни бригадира, ни председателя колхозного. Все свои вокруг люди были, здешние, знаемые. А вот нагрянула со стороны пришлая, чужая сила - и надломила, исковеркала Панькина отца. Мельницу ту паровую артиллерийский снаряд сжег, а веселого на присловья мельника на второй день войны в Красную Армию призвали. Может, уже убит где, отморгался уже, может? Теперь каждый дом в Незнамовке обзавелся собственными жерновами. Ладно еще, когда есть что молоть… Панька развязал узел на мешке, сыпанул в отверстие жернова горсть зерна, ухватился руками за палку-привод, и вдруг что-то больно толкнуло его в сердце. Он упал на камень лицом, и грубый камень вскоре стал влажным от его слез и мягким, как подушка. Панька выплакался и заснул легко и надежно, без сновидений. И потому не слышал, что творилось в эту ночь над его головой.Панька почувствовал, что замерзает. Пробудился и - явственно услышал вокруг себя оглушающе громкую, давящую на уши тишину. Открыл глаза - вязкая темень обступала его со всех сторон. Догадался, что керосин в лампе иссяк, и потому сообразил, что проспал не один час, но что там, на дворе - день, ночь ли,- осмыслить не мог. В сердце у Паньки было свободно и радостно, точно свалил с себя тяжесть не меньшую, чем жернов, на котором спал. - Вот те и намолол! - потирая отекшую щеку, вслух сказал он сам себе.- Зато выдрыхся всласть. Осторожно переступая застывшими ногами и не чувствуя их, на ощупь добрался до люка, поднял крышку. И тотчас мягкий лучик солнца упал на лицо, пощекотал веко. - Эй вы! - радуясь тому, что уже давно день и что погода установилась, наконец, крикнул Панька.- Чего вы меня не разбудили? Никто не отозвался. Паньке молчание в избе не в новинку, но в тягость. Прошлепал валенками по кухне, выскочил на крыльцо, осторожно сошел на обмерзшие, сверкающие расцвеченной слюдой приступки. За крыльцом в белый снег малую нужду справил, а потом побежал за угол избы. Отсюда как на ладони открывалась Незнамовка. Вдоль широкой неутоптанной дороги по обеим сторонам улицы впритык друг к другу лепились заиндевевшие кудлатые осокори. Прикрываясь ими, стояли за плетневыми загородками бревенчатые избы, поровну в каждом порядке:тринадцать слева и тринадцать справа. Над заснеженными крышами перстами торчали кирпичные трубы, и над каждой - продолжением ее - стыл блеклый поток дыма. «Пора и нам затопить»,- подумал Панька. К колодезному журавлю, что стоял посередь деревни, утопая в рыхлом снегу, пробрела закутанная в шаль баба. Дзинькнули ведра о наледь на расцвеченном в радугу срубе, журавель неохотно качнул длинной шеей и поплыл в глубоком поклоне. Как ни силился Панька угадать, чья эта женщина по воду пришла, не мог. Слишком толста и неузнаваема в ворохе наверченного на ней тряпья. Зябко ежась, Панька через калитку пробежал во двор, обжигая пальцы, нащипал из уполовиненного омета охапку соломы, притащил в избу, растопил печь. Едкий дым разъедал глаза, Панька отчаянно тер их кулаками. - Сынок,- окликнула Паньку мать. - Чего. - Поди поближе. Придвинув к печке табуретку, забрался на нее, как обычно отец это делал. - Чего ты, мамк? Болит чего? Анисья лежала ногами к стене, и Панька отчетливо увидел ее осунувшееся, истрепанное болезнью, за какую-то неделю постаревшее лет на двадцать лицо, глубокие морщины на лбу, горькие складки вокруг рта и обметанные жаром, бескровные губы. - Сынок, ты ничего не знаешь? - А что? Говори. Мать закашлялась, прикрываясь ладошкой, оберегая сына от нечаянной заразы, а когда отняла руку, Панька разглядел на ладони мокрые бурые пятна. Радость, которая бурлила в нем с момента пробуждения, угасла, уступила место чувству острой жалости. Прежде он не думал, а может, верить не желал, что болезнь матери зашла так далеко, и не понимал, не принимал близко к сердцу переживаний отца. Ему захотелось утешить мать, как-нибудь помочь ей, но и для утешения и помощи нашел он только те неуклюжие слова, которые каждый день втолковывал Анисье Парамон Моисеич: - Ты не хворай, мамк, не надо. Анисья попыталась улыбнуться, но улыбка у нее не получилась. И с какой-то жалобой в голосе она сказала: - Сынок, партизаны к нам ночью приходили. - Партизаны?! От радости и испуга у Паньки оборвалось дыхание. Спросил тревожно и почти не сомневаясь: - А отец где? С ними ушел? - За фершалом уехал Парамон Моисеич. Напугали они его, переполошили. Бранили, что, мол, какого-то красного летчика ездил с Соленым искать. Спрашивали, не слышал ли что про него, и упредили: коль, дескать, услышишь что или узнаешь - не вздумай в волость донести или Соленому проговориться. - А он что? - Не знаю… Говорил им что-то. - А кто был-то? Наши? - Наши, как есть наши. Двое были: Степка Филин и Митек Кривой. Митек - прости, господи, его грешного! - уж больно над Парамон Моисеичем изгалялся, так изгалялся… Ты, говорит, немецкий прихвостень, и терпим тебя мы только до той поры, пока ты нам особого вреда не приносишь. Ружьем замахивался на него. Паньке не по себе стало. - И чего им этот летчик дался? - вздохнула мать.- И тем, и нашему. Может, уж замерз где давно или укрылся. Через фронт перешел… Поди сыщи теперь. Она внимательно посмотрела на Паньку. - Ты-то ничего о нем не слыхал? Может, на улице что… Панька выдержал пристальный материн взгляд. - Чего я слыхал?.. Бываю я на улице-то? Днями наружу не выхожу. Он хотел спрыгнуть с табуретки, но мать протянула вперед большую, раздавленную многолетней работой - бессчетными стирками, топкой печи, уходом за Обновой - руку, положила ее Паньке на голову. - Сынок. - Чего еще? - Помру я сегодня, сынок.- Глухая печаль сквозила в ее словах.- И фершала не успеет привезти Парамон Моисеич. Зря поехал он. - Что ты, мамк, надумала? Ты ноне и не кашляешь почти. - Искашлялась… Помру, сынок. Я ее вижу, смерть-то, над головой стоит. А неохота как: один ты, кровиночка, на белом свете останешься. - Ма-а, не надо…- ощущая прилив какой-то незнакомой прежде и пугающей нежности к матери, попросил Панька.- Не надо… - Один… Отец-то слабый у нас, запутался он в жизни. Не может он сам по себе. Вот про партизан наказывал не говорить тебе. А я сказала. Умру ведь когда, окромя тебя, никакой заступы ему не будет. - Мамк, в печке прогорело, поди. Он бережно снял с головы ее отяжелевшую руку и, как постороннюю, ни для каких надобностей не предназначенную вещь, положил на теплые кирпичи. Анисья прошептала: - Спаси тебя бог… Об одном прошу: живи по правде, сынок.
6.
Ночной визит партизан и напугал, и расстроил, и обрадовал Паньку. Напугался он за отца. Панька знал, что свое назначение старостой деревни Парамон Моисеич принял без всякого желания. В Незнамовке мужиков почти не осталось - старики да молодые парни, которым не приспел срок призыва в Красную Армию. Самого Парамона Моисеича воевать не взяли- давно уж, с молодых еще лет, страдает он пупочной грыжей. А когда приехали из волости, из бывшего районного центра то есть, в Незнамовку немецкие власти новый порядок устанавливать и согнали баб и стариков на сходку, Соленый- винтовка висела у него на плече, и весь он был преисполнен самоуверенности и трепетного уважения к немцу-коменданту,- показал на Парамона Моисеича: - Давно его знаю. Старательный крестьянин, хозяин на земле. В партии не состоял. И Советской властью он обиженный. У Соленого, видать, своя задумка была: помнил он про тихий нрав Парамона Моисеича и понимал, что приберет мужика к рукам. Да и то сказать: не было больше в деревне мужчины, по возрасту в начальство пригодного. - Окстись, Фома Фомич,- подал тогда голос Парамон Моисеич.- Какой же это я обиженный прежней властью? Ничего худого от нее не видели. Соленый оскорбился: - А разве не обиженный? Все, кому не лень, тобой помыкали: и бригадир, и председатель. Копался в земле, как жук навозный, света не видел. А теперь командовать будешь, распоряжаться… - Зря вы это,- слабо запротестовал Парамон Моисеич, но тут немец-комендант перебил его резким, как удар хлыста: - Гут! Ха-ро-ший бауэр. И ткнул его пальцем в грудь: - Ти есть старост в Незнамовка. Бабы загалдели вперебой: - Парамон Моисеича знаем! - Ласковый мужик. - Иного и не желаем… Желают или не желают кого-то иного незнамовские крестьяне, коменданту - длинноногому, похожему на обряженного в зеленое сукно журавля,- наплевать было. Однако он с терпеливой улыбкой на чисто выбритом лице доводы стариков выслушал, а те - каждый от своей головы отводя напасть - уговаривали: - Послужи добром, Парамон Моисеич. - За миром не пропадешь! - Заместо бригадира вроде, за Митька Кривого гуж потянешь. - Не то чужого какого подлюгу поставят… Похожий на журавля немец-комендант уехал. Остался в Незнамовке Соленый- как вооруженная сила, и Парамон Моисеич - утвержденная новым порядком гражданская власть. - Ой, наживем беды!-не находила себе места после сходки Анисья. Парамон Моисеич попытался успокоить ее: - Ништо. Поговорили и - забыли. Живем на отшибе, в малолюдстве, не больно часто будут они сюда наверстывать… Паньку никто из деревенских в глаза не попрекнул, и мальчик, переживавший за отца вначале, вскоре успокоился. Кому-то и старостой надо быть, раз такое время пришло. А тут-на тебе!-партизаны, свои деревенские мужики, тот же Митек Кривой, называют отца немецким прихвостнем и грозят расправой. За что? Расстройство же в Панькиной душе оттого произошло, что проморгал партизан. Не проспи он эту ночь в подполье, на жерновах - передал бы им с рук на руки Егора Ивановича. И для всех бы оно, это дело, добром обернулось: и для Паньки, и для отца его, и - главное - для летчика. А теперь… Но и радость была не случайной: сей-час-то Панька знал, как сложится судьба летчика. Нужно только добежать до леса, поискать партизан. За тройственной сложностью этого чувства растворилась, исчезла в новых заботах острота сказанных матерью слов о том, что смерть стоит у нее над головой. Мало ли что померещится больному человеку? Он поспешил на сеновал - рассказать летчику о партизанах.Панькин сбивчивый рассказ вызвал у Егора Ивановича немалую радость. Он даже присесть попытался, трудно опираясь руками о сено,- и это ему удалось. - Ну, Павел,- твердил он с придыхом, трудно повторяя слова.- Ну, Павел, золотой мой, порадовал ты меня. Ищут, значит, партизаны. Как бы помочь им найти меня? - А я вот на лыжи стану да в лес прокачусь. Может, наткнусь на них. Глаза летчика зажглись лихорадочно, длинные пальцы рук беспокойно теребили сухие травинки. - Павел, они меня за линию фронта переправят. Ты слышишь, Павел? Я снова на самолет сяду, друг мой Пашка. И первого же фашиста, которого срежу,- в честь тебя. Считай, что ты сбил. А? Ведь если б не ты… - Спасибо,- сдержанно поблагодарил Панька.- Срежь сперва. Бурная радость, счастье, надежда, которыми так и светился Егор Иванович, вызвали в душе Паньки необъяснимо щемящее чувство грусти. Панька, про партизан рассказывая, ничего почти не утаил от летчика - про отца поведал, что старостой в деревне его насильно, не по своей охоте поставили немцы, про полицая Фому Фомича Соленого. Скрыл лишь, что отец и Соленый, не далее как вчера, весь день рыскали в поле, искали его, летчика-истребителя Егора Ивановича Иванова. Язык не повернулся сказать про то. Он боялся, что признанием своим - об отце-старосте - вызовет недоверие к себе. Но летчик - то ли не придал значения Панькиному рассказу о Парамоне Моисеиче, то ли радостная весть захватила его целиком, заглушила в нем все прочие чувства - никак не выразил своего отношения к Панькиному родителю. - Эх, Паша-Пашенька, здорово-то как!-взволнованно твердил он.- Во мне, слышу, сил прибавилось. Стоя на коленях, Егор подался вперед, протянул обе руки, намереваясь обнять мальчика. - Дай-ка, я на тебя взгляну. Я ведь в лицо тебя и не знаю по-настоящему. Панька резко откачнулся назад. - Пойду я,- наливаясь злой, непонятной тоской сказал он. - Да чего ты, Пашка, в самом деле? Погоди. Обидел я тебя? - Пойду! - Погоди, чудак человек. Панька замялся, не зная, признаваться ли. - Мать у меня больная,- после паузы тихо выговорил он.- Тяжелей тебя будет. - А-а-а,- протянул летчик. - Мать при смерти,- упрямо повторил Панька.- Грудь у нее застужена и в горле хрип. Молоко ей топленое с медом пить надо. Он опустился двумя ступеньками ниже, в упор посмотрел на летчика. - За тебя, слышь-ка, корову можно получить. Тому, кто покажет тебя, в награду обещали. Живинки поблекли в зрачках летчика. Он как-то сразу обмяк, неловко повалился на бок, - Та-ак. Голос его теперь был тускл, бесцветен. - Таким манером, выходит. - Таким, - согласился Панька. - Близко она, корова-то, и мед в погребе стоит. Таким… Летчик молчал. - Таким вот манером,- в отчаянии повторил Панька.- Только ты не бойся, Егор Иванович. Не бойся! Человек я или кто? У меня вон и галстук пионерский целый. Не бойся! - Я не боюсь,- тихо сказал летчик.- Чего ж мне бояться? - Вот-вот, не бойся, Прощевай пока. Панька опускался по лестнице, был уже у самой земли, когда летчик окликнул его: - Паша! - Чего? - Отец-то твой, Паша, немцам служит. Ты ничего, тебе я верю, не выдашь… А отец?.. Панька вспыхнул. - Ты отца не тронь! Слышишь? Вот, ежели Соленый… - У меня, парень, пистолет. Я не сдамся.
В избе, неожиданно для Паньки, сидел Фома Фомич Соленый. Нога за ногу брошена, под синими диагоналевыми галифе вырисовывается тугая ляжка. Белый романовский полушубок распахнут на груди, лисий треух на скамье валяется. Черные волосы цыганистого Фомы Фомича мокры от испарины. - А, наследничек,- протянул он в ответ на приветствие Паньки и объяснил: - Отца дожидаю. Забрал у меня Бродягу, обещал вскорости вернуться, а все нет. Мне без коня как без рук. Служба! - За фершалом батя уехал. Путь не-ближний. - Знаю. Что Анисья Петровна-то, как она? - Все то же, хворает,- нехотя ответил Панька, присаживаясь на табуретку. Соленый неспешно достал из кармана полушубка пестро расцвеченную коробку, пальцами по донышку щелкнул, наклонился к ней - тонкая сигаретка выскользнула и угодила ему в сочные, четко вырезанные губы. На фитильке зажигалки, извлеченной из другого кармана, взметнулся крошечный огонек. В кухне пряно и вкусно запахло табаком. - Все дворы обошел я, Павел Парамонов. Все, понимаешь ли, обшарил. Чую, не мог далеко уйти тот летчик, поблизости где-то укрывается, у кого из деревенских, может. Ан нет, как сквозь землю провалился. - Да бросьте вы о нем думать, дядь Фома. Замерз давно где-нибудь,- холодея сердцем, сказал Панька. - Пустое. Мертвяка уж сыскали б. Соленый встал, прошелся по кухне. - Разве только партизаны подобрали его? Да как им успеть: немцы ближе к самолету были. Или метелью засыпало? Тогда до весны. Да тогда он и не нужен уже. Панька из этих слов заключил, что Парамон Моисеич ничего не сказал полицаю о ночном приходе партизан, и тихо порадовался за отца. - Ты б не дымил так-то, дядь Фома, матери-то, чай, тяжело,- осмелился посоветовать он. Соленый послушно пригасил сигарету, швырнул окурок в подпечек, поднял со скамьи ведро, напился через край. Поморщился брезгливо: - Вода протухла. Слетал бы за свежей. - Вечером принес, с чего б ей протухнуть… Полицай снова прошелся из угла в угол, нерешительно посмотрел на мальчика: - Что-то брюхо расстроилось. До ветру выйду. Отрешенно скрипнула, закрываясь за ним, дверь. «И чего это он вздумал докладывать? - удивился Панька.- Иди, если приперло». Внезапная догадка озарила его. Панька вскочил с табуретки, метнулся следом за полицаем. Левую руку сунул в карман и, нащупав рубчатое тело гранаты, почти успокоился: «Если что - гранатой в него шмякну». С крыльца увидел, как Соленый медленно- руки в карманах полушубка - идет к сараю с сеном. У дверей сарая он задержался, не решаясь переступить порог. - Дядь Фома! Полицай вздрогнул. - Дядь Фома, ты чего, забыл? Кабинет-то у нас там вон, за сенями. Соленый повернулся, засмеялся раскатисто. И неторопко, вразвалку пересек двор, скрылся в низенькой, тесной будке. Панька, высвободив из кармана влажную руку, взял приткнутую к стене лопату, принялся скалывать лед с приступок. Вышел из уборной Соленый нескоро. Проходя мимо Паньки, наклонился к нему, обдавая запахом чужого табака, сказал с усмешкой: - Ну что, старостенок? Всегда так-то под ногами путаешься? Панька выпрямился, наливаясь озорной силой, сказал неведомо зачем: - А Москву-то немцы, видать, не взяли еще. Да где, слабо им! - Ты почем знаешь? Ответ у Паньки на этот вопрос был загодя продуман: - Если б взяли, тогда б замирение вышло и война б кончилась. Зачем бы вы тогда летчика искали-сам бы объявился. И я, поди-ка, уже в школу пошел бы, а то вон год пропадает. Соленый почесал за ухом, запахивая на груди полушубок, сказал раздумчиво и дружелюбно: - Не так скоро, Паня. Бонапарт - и это общеизвестно, на скрижалях истории записано - тоже Москву брал. Но этим та война не кончилась, исход ее для Бонапарта был печален. - А вдруг?..- Панька осекся, не договорил, но Соленый понял его. - Ничего не вдруг, Павел Парамонов. Теперь этот номер не пройдет. На Гитлера вся Европа работает, а Россия одна. Америка с Англией что?- за большевиков выступят? Как же, жди! Они сами на Советы зубы точат. Так что спета песенка Советов. Соленый, похоже, оседлал любимого конька и в карьер его пришпорил. - Ты вот, Павел Парамонов,- распаляясь, продолжал он,- историю в школе освоить не успел. А я зубы на ней сгрыз. И так скажу тебе, со всей прямотой скажу, ибо прямоту уважаю: любая империя сама себе гибель готовит. Вот древний Рим возьми. При императоре Траяне все - блеск, богатство, территория. Взлет, венец, одним словом. А при наследнике его, Адриане, развалилось все, ничего от былого могущества не осталось. Так и Советская Россия - тоже в своем роде империя. Народы в ней всякие жили, разноязыкие, разноплеменные, чужие друг другу, и власть, по сути, на штыках держалась. Не может жить такая власть, как дважды два-четыре, не может. Диалектика, дорогой мой. - Так у нас же императоров не было, у нас Союз, - чувствуя какую-то неправоту в словах Соленого и не умея ее оспорить, возразил Панька. - Э-э, мал ты еще рассуждать. Вырастешь - поймешь. Соленый протянул Паньке руку, прощаясь, сказал: - В волость поеду. Выйду на дорогу, поймаю транспорт какой-нибудь попутный. Отцу, как приедет, скажи, чтоб Бродягу накормил, а потом ко мне свел. Да не забудь. Поскрипывая обтянутыми коричневой кожей белыми войлочными бурками, поднялся на крыльцо. Задержался чуть, закуривая. - Ты, Павел Парамонович, мужиком смышленым растешь. Думаешь. Это, брат, хорошо. Однако привыкай мыслить большими категориями. Что там не говори, а обращение по имени-отчеству - никто и никогда, кроме Соленого, не величал так Паньку: Павел Парамонович!-и серьезность бывшего между ними разговора, и похвала солидного человека вроде бы польстили пареньку. Он стоял, улыбаясь, прислушиваясь к шагам Соленого на скрипящем снегу. Вскоре стихли шаги.
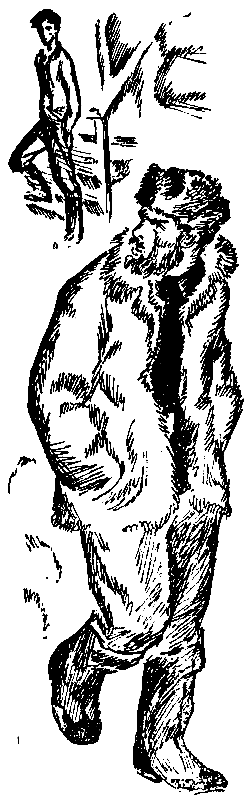
- Однако врешь ты, Фома Фомич, обломают немцы зубы-то об нас. Ошибся ты тут маленько! -сказал Панька, с силой втыкая лопату в снег. Он пересек двор, залез на сеновал. - Ты, Егор Иванович, закопайся в сено поглубже,- посоветовал он летчику.- А я партизан схожу поищу. Никому, кроме меня, не откликайся. - С кем ты разговаривал, Паша? - Полицай приходил, Соленый. Ушел уже. В волость поехал. - Смываться мне надо, Паша. Как можно скорее. Что-то щелкнуло в руках летчика - должно, пистолет на предохранитель ставил. - Никому не откликайся,- повторил Панька. На дверь сарая навесил он огромный приржавленный замок. Отец,- в случае, Бродяге сено понадобится,- знает, где ключ взять. А другим на сеновале делать нечего.
7.
Лыжи напористо бежали по снежному насту. За Панькиной спиной остались снежные нахлобучины незнамовских крыш, заиндевевшие осокори, родная изба. Впереди, за оврагом, чуть пробилась сквозь белесую муть синева леса. «Повезет партизан встретить - часа за два обернусь. Приведу их с собой прямо в деревню»,- гадал Панька. На лыжах он бегал сноровисто. К искусству этому пристрастила его мать. Панька еще совсем мальчонкой был, до школы года полтора оставалось, когда Анисья, приладив к своим валенкам широкие отцовы лыжи, поставила сына на маленькие, в райцентре к дню его рождения купленные, вывела в поле, за руку подтащила к высокому сугробу. - А ну, догоняй! - крикнула и, оттолкнувшись палками, ухнула вниз. Панька не решился броситься за матерью: слишком высок показался ему сугроб, высок и страшен этой высотой, но - лыжи подвели: сами заскользили. Мать уже стояла внизу. Панька летел к ней снежным клубком, не разобрать, где голова, где ноги. Снег залез ему за воротник, опалил ледяно взмокшее тело. Он в кровь рассек губу о палку, захныкал. Анисья подняла сына, отряхнула с него варежками снег, проворно вытерла ему мокрый нос, к рассеченной губе снег в горсти приложила. - Мужик, - укорила, - а ревешь. Стыдно ить… Панька в самом деле устыдился, замолк. Во второй раз он сам упросил мать покататься на лыжах. Они бегали по снежному полю - по тому самому, по которому и сейчас Панька бежит,- и ветер парусом дыбил длинное пальто на матери, обжигал лицо. От бьющего по щекам ветра, от острой зависти к матери, которую он не мог нагнать и, как ни силился, отставал, плелся, ковылял позади, Паньке хотелось закричать. И он кричал, тонко, по-заячьи: - И-и-и-эй! Мать остановилась, поджидая, на румяных ее щеках, в глазах, на губах он видел смех. Она смеялась ему в лицо: - Мужик, а от бабы отстаешь. Стыдно ить… Паньке было стыдно, в Паньке раз от разу росла злость. Но и в тот день - а это нескоро случилось,- когда обогнал он впервые в снежном поле мать, невдомек ему было: как это, в пальто, в тяжелых валеных сапогах так ловко управляется она с лыжами, и почему они послушны ей? Отец, встречая их после прогулки, радовался вместе с ними: - Чисто красные яблочки оба… А вот с отцом на лыжах Панька ни разу в поле не был. «Отбегалась мамка»,- грустил Панька, ныряя в овраг. Звенел и дыбился под ногами снежный наст… Мальчик пересек овраг, вошел в лес. Слабые, неустойчивые тени лежали на молочно-белом снегу, и под тяжестью снега кряжисто корячились деревья. Ветки кустарника тонкими хвощинками торчали из-под снега у лыж на пути, сгибались под их весом и медленно выпрямлялись в рост. «Снег-то недавно вроде падать зачал, а сколько уже наворотило,- сам с собой рассуждал Панька.- Холодная ноне зима, и снега вдоволь». В лесу на лыжах идти трудней - наста нет, и словно в сыпучем песке тонут лыжи. Рыхлая сахарная пудра испятнана точками, крестиками, звездочками-мелкие птицы касались коготками. Версты три прошел Панька напролом в глубь леса, затем повернул под прямым углом к своему следу и отмахал еще сколько-то, ничуть не меньше. Однако никаких примет, ничего похожего на пребывание в лесу партизан не обнаружил. Зимние сумерки не наплывают - стекают стремительно. Только что был день, и вдруг затемнелось на горизонте, и сам горизонт, без того недальний, приближаясь неукротимо, растаял, растворился в темноте, плотно и надежно окружившей тебя. Панька уже не бежал - трудно двигал ногами, усталый, заходясь дыханием, и рукастые ветви деревьев - при свете они не мешали ему - цепляли теперь за локти, рвали шапку с головы. «Не нашел, не увидел,- сокрушался Панька.- Вот Егор Иванович расстроится. Одной надеждой живет ведь…» Потом его осенило. Остановился на опушке, откуда днем и Незнамовку видно, воткнул в снег палки, снял рукавицы и, приставив влажные руки ко рту наподобие рупора, закричал, сколько сил хватило: - Эге-гей, лю-ю-ди-и!.. «Идииии…» - отозвалось где-то в дальней стороне. - Лю-ю-ди-и! Степа-аан! Мите-еок!- кричал мальчик.-Это я-яааа, Панька-аа!..
«Иии-аааа… оооо…яаааа»,- пересмешничая и угасая на расстоянии, отозвалось эхо. - Люди-и-и! Что-то ворохнулось над головой, ударило Паньку по затылку, осыпало на плечи снег. «Они!» Панька обрадованно обернулся. Никого. Поднял голову. Сонно, почти невидимо покачивалась высоко над ним потревоженная любопытной белкой хвойная ветка. Воткнувшись в снег наполовину, лежала у ног сосновая шишка. «Ладно, завтра разыщу,- утешил себя Панька, не желая расставаться с надеждой.- Пока домой надо. Как там мамка-то? Одна ведь…» Панька возился с креплениями - едва распутал ремешки и веревочки стылыми пальцами, когда торопливо распахнулась дверь избы и кто-то вышел на крыльцо. Мальчик разогнул спину, пригляделся: перед ним, не видя его, стоял маленький тщедушный старик с белой бородкой клинышком, в очках, с чемоданчиком в руке. Он щурил глаза и сердито бормотал: - Ночь… Как поеду? «Фершал»,- догадался Панька и шагнул к нему, желая спросить о здоровье матери. Снова ухнула дверь, и за спиной фельдшера возникла понурая фигура Парамона Моисеича. Он стоял, низко опустив голову, как-то странно растопырив руки, и походил на подстреленную, отставшую от стаи птицу. Все поняв и не смея поверить в случившееся, Панька медленно, с опаской пошел к отцу, оскользнулся на приступке. Старик фельдшер поддержал его под локоть, уступил дорогу. Парамон Моисеич сполз на колени, уронил голову на грудь сына.
8.
В просторной, с щедрым запасом вырытой землянке, до которой Панька какой-нибудь полуверсты не добежал, коротали вечер партизаны. Их было пятеро, весь наличный состав молодого еще, недавно народившегося отряда «Смерть фашизму». Желтый призрачный свет коптилки выхватывал из полутьмы щербатые черные стены потайного жилища, темные влажные лица людей, поблескивающий жирной смазкой ручной пулемет - он стоял на дощатых нарах, дулом на дверь. Степан Филин, незнамовский мужик, бывший до войны конюхом, и пожилой сержант из окруженцев Илья Кремнев сидели за столом, друг против друга. Кремнев ершиком мурыжил ствол немецкого парабеллума. От усердия к кончику горбатого носа Кремнева прилипла прозрачная капля влаги. Филин, невысокий, широкоплечий, всегда с доброй улыбкой на толстых губах, при помощи какой-то замысловатой машинки крутил из затерханного газетного листка папиросные гильзы, туго набивал их самосадом. Крупно накрошенный табак для удобства лежал у него под левой рукой, горкой насыпанный на шершавые доски крепко сбитого стола. На нарах, на разостланных полушубках и шинелях, бездумно глядя в низкий бревенчатый потолок, лежали Митек Назаров и бородатый Демид Прохоров. Длинному телу Демида нары были коротковаты, и он согнул ноги под углом, выставил вверх угловатые колени, обтянутые ситцевыми штанами. Пятый из партизан, худощавый и смуглолицый одесский грек Костя Константиди, сидел на корточках у каменного камелька, подбрасывал в огонь аккуратно наколотые чурочки, нервно поводил узкими мальчишескими плечами. Костю война застала на границе, с боями- в составе своей части - отступал до Смоленска, контуженный, попал в плен. Два с лишним месяца немцы держали его за колючей проволокой под открытым небом. Красноармейцы в лагере, товарищи по несчастью,- а последние недели пришлись на исход злой осени и начало суровой зимы,- замерзали и умирали каждый день десятками. Была бы и Косте верная крышка, но ему посчастливилось бежать, С тех пор Константиди никак не мог согреться - все тянулся к огню. - Умная штука. Дошлый народ эти фрицы,-подвел итог Филин, вбивая крошево самосада в последнюю гильзу. Стряхнув табачную пыльцу с колен, он перебросил папиросу Демиду: - Подыми, земляк. Прохоров неуклюже присел, сгибая шею, протянул длинную руку из-за спины Кости, голыми пальцами ухватил в камельке горящий уголек. Горько пахнуло жженым табаком. Сержант поднял парабеллум к глазам, открыл затвор, прищурясь, всмотрелся в ствол, хмыкнул довольно и спрятал пистолет в карман_ солдатских штанов. - Дошлые,- согласился он.- И оружие у них отменное. Однако боевую заряженную трехлинейную я ни на что не променяю. Даже на этот вот довесок,- хлопнул он по карману. Митек Назаров того точно и ждал - привстал, сел рядом с Демидом, невзрачный внешне, нахохлился воробьем. Уставился в Кремнева своим единственным глазом, сверля его насквозь, передразнил: - Не променяю… А когда дело-то будет? А? Залезли в берлогу и лапу сосем по-медвежьи. Не поймешь, честные партизаны мы или дезертиры… Только и подвигов совершили, что Филин мерина Соленому задарма отдал, чтоб он его, нечистого, копытом залягал! Орлы! Когда за настоящее дело-то возьмемся? И возьмемся ли? Краска гнева, проступившая на щеках Назарова, не портила его умного, хищного лица. Костя повернулся, подставляя огню спину, внимательно разглядывал товарищей. Улыбнулся, открывая крупные белые зубы, сказал, не скрывая иронии: - Когда вам, беззаветным героям, поставят после войны величавый памятник из бронзы и граните, благодарные потомки не вспомнят о мелочности распрей, кипевших в этой землянке. Станьте выше обыденности, мстители… Филин что-то зло буркнул. По натуре своей он не умел сидеть без дела - постоянно искал работу, даже самую неблагодарную, своим большим тоскующим рукам. Добродушный Демид Прохоров махнул на Константиди рукой: - Помолчал бы уж, Одесса, вечно ты с глупостями. Разве ж вы пригодны к военному делу? Посмотрите на себя - чисто бабы на ярмарке. Я вот что скажу: добренькие мы слишком. Полгода, почитай, Россия у немца под сапогом, а мы воевать никак не научимся - все бьют нас за нашу доброту. - За одного битого двух небитых дают,- степенно вставил Филин.- Эх, ребятки, в баньку б теперь наладиться, веничком березовым по спине пройтись… - Прошелся б я по тебе! - вконец осерчал Митек. - Старосту ноне ночью пожалел, холуя немецкого. Распустил нюни. - Чего ж безвинно? Парамон Моисеич людям худого не делал. Свойский мужик. Не с руки нам его… - Жди, пока сделает. Летчика с Соленым вместе в поле рыскал, на пару. - Как в воду канул летчик. Что за оказия приключилась? Бородатый Демид вдруг насторожился, предостерегающе поднял руку: - Помолчите-ка! И пояснил, ловя на себе любопытные взгляды товарищей: - Почудилось, шумит кто-то. Где стрелялка-то моя?.. Погляжу пойду. - Бинокль возьми,- посоветовал Митек. - А кой черт из него в такую темень разглядишь? - не понял насмешки Демид. Держа в могучих руках игрушечный карабин, пригибаясь низко, вышел. Облако холодного воздуха облепило в дверях его фигуру, пламя на гильзе-коптилке затрепетало. В землянке тревожно ждали. Митек потянулся к пулемету, ласково погладил рукой полированное ложе. Вернулся Демид не скоро, когда уж и обеспокоенный Кремнев подался было на выход. Столкнулись они в дверях. - Край леса шумел кто-то. Ребячий вроде голосок, детский. - Может, заблудился кто? - Навряд… Поди, ребятишки незнамовские на лыжах бегают. Кремнев снова устроился за столом, попросил у Филина папиросу, разминая ее пальцами, сказал строго: - Порешить старосту или полицая - дело нехитрое. Их обоих голыми руками взять можно. А немцы кару на деревню снарядят, людей погубят, баб, ребятишек. Ни к чему это, мало ли и без того крови… Надо по волости, по штабу ихнему ударить. К этому и готовиться будем, чтоб не с бухты-барахты. Силенок у нас не ахти пока, расчет наверняка делать следует.., И, прикуривая от трофейной зажигалки, добавил: - Может, и без причины шумят на опушке, а дисциплины у нас нет настоящей. Не бережем себя. С нынешнего вечера будем выставлять ночной караул. Константиди, тебе заступать, собирайся. Костя зябко повел плечами, виновато улыбаясь, продолжал сидеть у камелька. - Давай я посторожу,- жалея теплолюбивого грека, предложил Филин. Сержант не услышал его, приподнялся за столом: - Константиди, службу забыл? Костя порывисто вскочил на ноги, посуровев лицом, прошел в дальний угол, где на железном крюке висел тулуп. Митек, отойдя душой, беззлобно рассмеялся: - Смотри, беззаветный герой, раньше времени на морозе-то статуем не стань. И стал устраиваться спать, догадываясь, что менять Костю придется ему.9.
Бабы-соседки обмыли Анисью, положили в горенке на стол, прикрыв тело белой холстиной. - Долго, знать, жить собиралась покойница, ничего смертного себе не приготовила,- посетовала вдовая красноармейка Дарья, перекопав содержимое Анисьина сундука. Парамон Моисеич не вмешивался в бабьи хлопоты: убитый горем, отрешенно сидел на скамье, неотрывно смотрел на покойную. И только когда одна из женщин хотела прикрыть лицо Анисьи куском прозрачной кисеи, принесенным с собой из дому, протестующе поднял руку, икнув, издал какой-то нечленораздельный горловой звук. Женщина поморгала бестолково, спросила осторожно, боясь за Парамона Моисеича: - Когда хоронить-то? Парамон Моисеич не ответил, и бабы, пошушукавшись, вполголоса попричитав над несчастной долей осиротевших без Анисьи мужиков - хозяина с сыном,- разошлись по домам, спеша управиться с собственными заботами. Панька, пока обмывали и обряжали покойную, забыто сидел на кухне. Он не мог пересилить себя, войти в горницу - страшился увидеть сочувственные взгляды женщин, убитого скорбью отца и больше всего страшился видеть мертвую мать. Кроме жалости к ней, с невыразимой силой давило его чувство вины перед покойной. Вины за то, что в последние минуты ее жизни его не было рядом, что вот - странное дело! - в том повинен, что не видел, как закрылись ее глаза, как последнее, теплое и судорожное, навсегда ушло из нее дыхание. Быть может, какие-нибудь слова хотела сказать она ему перед смертью, а он не услышал и никогда уже не услышит их. Заметив, что бабы разошлись по домам, Панька вяло поднялся, отломил от пирога с картофельной начинкой - сердобольная вдова Дарья принесла - добрую половину, завернул в полотенце и вышел во двор. Поднимался по лесенке на сеновал - непослушные ноги обрывались с перекладин. У летчика были ждущие, с голодным волчьим блеском глаза. - Нашел партизан? - нетерпеливым шепотом спросил он. Панька положил сверток на сено. - Это тебе на завтра, на весь день. Я, может, не зайду… После паузы набрался решимости сказать вслух то, что до этого только в мыслях держал. - Мамка у меня умерла, Егор Иванович. Хоронить завтра будем. Блеск в глазах летчика потух. Сильными руками Егор Иванович притянул к себе Паньку, погладил по ершистому затылку, неумело подбирая слова, хотел утешить: - Горе, Паша, дружок, большое горе. Мужайся. От кожаного одеяния летчика веяло холодным дымком, и еще едкий запах пота, немытого тела щекотнул Панькины ноздри, и он, как ни силился, не выдержал, заплакал. - Ты не знаешь, какая она была,- кривя губы и не стыдясь своей слабости, простонал он.- Теперь что… Летчик все гладил его по голове большой иззябшей рукой. Горькие слезы душили Паньку. Он размазывал их по лицу и все шептал, шептал бессвязные, бестолковые слова. - Иди умойся, - сурово приказал летчик, отнимая руку.- Умойся и ложись спать. Ты завтра должен быть сильным. Да перестань же, Паша. О-о, если б я мог на ногах стоять!.. Паша, Пашенька, ну что ж это такое? Ты же мужчина… Ну! Панька покорно сполз с сеновала, проплелся в кухню, поплескал в лицо затхлой водой из рукомойника и решился, наконец, войти в горенку. Парамон Моисеич недвижно сидел на скамье, устремив тусклый взгляд на восковое, строгое лицо покойницы. Осторожно ступая, боясь нечаянно половицей скрипнуть, Панька подошел к отцу, сел рядом. Парамон Моисеич обнял его тяжелой и беспомощной, как высохшая картофельная плеть, рукой, прикачнул к себе. - Вот, Паня, сын,- сказал надломленным шепотом,- вот… остались мы без мамки. Скрипнул зубами. - Вот… одни мы с тобой. Была б корова- выжила б мать. А? И больше до самого утра не проронил ни слова. На лице Анисьи, родном и уже отчужденном смертью, лежало выражение умиротворенности и кроткой покорности судьбе. …Утром, потемну еще, Соленый привез доски на гроб. Завел Бродягу во двор, по одной сносил доски в сени, затем появился в горенке. Неловко поклонился в пороге и, тяжело отдуваясь, стащил с головы лисий треух, сумрачно и не к месту изрек: - Все в землю ляжем, все прахом будем… Диалектика. И, тронув недвижного Парамона Моисеича за плечо, позвал настойчиво: - Пойдем-ка гроб сбивать. День короток. Инструмент-то где у тебя? Парамон Моисеич молча, по-стариковски шаркая подошвами подшитых валенок, вышел за Соленым в сени. Оставшись один, Панька расслабленно посидел на скамье, почувствовал, как холод жжет его тело. «Мамке-то в могилке как зябко будет,- пронеслось в воспаленном мозгу.- В самый декабрь умереть надумала». Собравшись с силами, поднялся и вышел на кухню, чтобы истопить печь. Пусть в последний раз погреется мама. В сенях препротивно повизгивала ручная пила и, редкий, сбивчивый, стучал молоток.Некрашеный гроб поставили на сани, запряженные Бродягой. Парамон Моисеич разобрал вожжи, понукая мерина, причмокнул тихо, и сани выкатили со двора. - Давай вожжи мне,- предложил Фома Фомич. - Не надо, я сам,- вяло отмахнулся Парамон Моисеич, выправляя коня на дорогу. Соленый, утопая бурками в снегу, пошел рядом с ним. Панька плелся за санями. Из упрятанных в сугробы изб выходили закутанные в черные платки и шали крестьянки, лепились к небольшой кучке провожавших Анисью в последний путь, вздыхая, охая, крестясь и сморкаясь, брели, чуток приотстав от Паньки. Путь предстоял по зимнему снежному времени немалый: погост, общий с соседней деревней Частые Дворики, находился верстах в трех от Незнамовки. Там, на погосте, немощные старики и подростки по приказу Соленого выдолбили неглубокую яму в мерзлой земле. - Мальчишку жаль,- шумно вздыхала какая-то баба за Панькиной спиной. В толпе негусто вторили ей: - Хозяйка была покойница; царство ей небесное… - И работница. По прежнему времени-то колхоз, чай, с музыкой проводил бы… - Были б мужики дома - на руках гроб снесли бы… Панька слышал все эти слова и вздохи сочувствия, холодно вбирал их сознанием, ощущал спиной скорбные взгляды. Он догадывался, что люди искренне жалеют и его, и отца, понимают их огромное горе, и от теплой, неназойливой близости людей оно, горе, становилось еще острее, давило невыносимой ношей. Когда завиднелись в стороне от дороги неяркие, облепленные изморозью кресты погоста и похоронная процессия свернула в поле, к воротам кладбища, Соленый, вспомнив о чем-то, попридержал за рукав Парамона Моисеича. - Ты уж извиняй, в волость мне позарез надо. - Благодарствую,- безразлично кивнул Парамон Моисеич. Фома Фомич приотстал, дождался, когда поравняется с ним Панька, и повернул назад. …Едва гроб опустили в могилу и ударили о крышку комья мерзлой земли, Парамон Моисеич очнулся. Взвизгнув по-бабьи, забился в судорожном плаче, полез в яму. Панька обхватил его обеими руками, держал - и едва хватало силенок удержать отца. А когда вырос над ямой бугорок ноздреватой, перемешанной с темным снегом земли, Парамон Моисеич обмяк, стих, дернул головой: - Прости нас, Анисья. Надел шапку и незряче побрел в сторону, натыкаясь на кресты и могильные холмики. Панька нагнал его, настойчиво потащил за собой и бережно, как ребенка, усадил в сани.
10.
В Незнамовку возвращались в сумерках. Некормленный давно, захолодевший на морозе и прохватывающем ветру Бродяга рысцой тащил сани. Панька держал в руках вожжи, правил, почти не понукая мерина,- Бродяга хорошо знал дорогу к дому. За Панькиной спиной отчужденно молчал отец. Слева и справа от дороги равнинно мерцало широкое снежное поле. Крупные звезды загорались в небе, обливали мертвенным, негреющим светом сани, седоков в них, слабо укатанную дорогу. Панька отыскал взглядом Полярную звезду, прижмурил неплотно глаза, От звезды во все стороны заструились острые светло-голубые -лучики. «А какая звездамамкина?» - спросил он себя, широко открывая глаза и вглядываясь в темную твердь неба. Точно отвечая на его вопрос, крохотная зеленая звездочка неподалеку от Полярной вдруг мигнула яркой вспышкой, покатилась по черному небосводу стремительной ракетой и стремительно, как ракета, сгорела. «Наверно, эта»,- подумал Панька. В самом начале обратного пути нагнал их, ослепляя светом фар, бронированный вездеход. Панька выпрыгнул из саней, оставляя в снегу глубокие следы, под уздцы свел Бродягу в сторону. Вездеход притормозил. Немолодой толстый немец с изрытым оспинами лицом и офицерскими погонами на теплой серо-зеленой шинели высунулся из люка, прокричал что-то непонятное. Парамон Моисеич поднялся в санях, скользнул мутным взглядом по вездеходу, ничего не ответил. Офицер махнул рукой, и вездеход покатил дальше. «Уйду к партизанам,- думал Панька, пряча лицо от ветра за куцым воротником.- Уйду и отца уговорю: теперь что нам изба… Новую наживем, когда война кончится». Бродяга, чуя теплый двор и охапку сена, все чаще перебирал ногами. Еще на подъезде к Незнамовке Панька услышал частую россыпь коротких аз-томатных очередей и глухое татаканье пулемета. Почуяв недоброе, он с силой хлестнул мерина, стал в санях в полный рост, вглядываясь в темноту. Бродяга пошел галопом. - На нашем конце палят,- тревожно вскрикнул Парамон Моисеич. Бродяга влетел на улицу деревни. И в это мгновение на другом конце Незнамовки, там, где стояла их изба, рванулось вверх, рассыпая тысячи жарких брызг, чистое пламя, огненным крылом завесило полнеба. Тотчас стихли автоматные очереди и слабо щелкнул, утонув в пламени, одиночный выстрел. - Горим! - дико закричал Парамон Моисеич. - Люди добрые, спасайте! Он с силой толкнул Паньку в задок саней, вырвал у него вожжи и кнут, настегивая Бродягу, помчал к избе, не разбирая дороги. Панька уцепился рукой за поперечину, снова привстал, вглядываясь вперед. «Нашли Егора! - сверлила мозг отчаянная мысль.- Соленый нашел его, на след навел. Не зря на кладбище не пошел. Теперь каюк!» Отчаяние навалилось на него. Что же будет теперь? - Паамааги-иите! Гаа-ри-ииим! - на высокой ноте вопил Парамон Моисеич, вожжами и кнутом настегивая мерина. Страшной силы удар выбросил их из саней: Бродяга, обезумевший от диких криков Парамона Моисеича, понукаемый болью, ослепший от яркого встречного пламени, дышлом врезался в угол избы красноармейской вдовы Дарьи, остановился, заржал пронзительно и горько. «На меня бы не подумал Егор Иванович,- обожгло Паньку. - Говорил как: «У меня, парень, пистолет. Я не сдамся». Барахтаясь в снегу, встал на ноги, побежал к дому. Больно колотила по бедру какая-то железка. Граната! За те дни, что носил ее в кармане шубенки, свыкся с тяжестью. А сейчас «лимонка» сама напомнила о себе. Подбежал ближе, увидел, что в пламени полыхает изба, двор, сарай с сеновалом. Метрах в двадцати от горящей избы стоял вездеход, тот самый, что обогнал их в дороге. Около машины, с нацеленными на пламя автоматами, сгрудились немецкие солдаты, человек пять. Один из солдат с трудом удерживал на поводке огромную овчарку. Она рвалась с поводка, лаяла громко и злобно. Чуть в стороне от солдат стояли толстый офицер с пистолетом в согнутой под прямым углом руке и Фома Фомич Соленый. Почему-то к винтовке Соленого был примкнут штык, точно изготовился он шагнуть в рукопашную атаку. - Русс пилот, выходи! - кричал офицер.- Сдавайсь! - Выходи, парень! Сгоришь ведь. Выходи! - вторил ему Соленый. В пламени щелкнуло что-то, неслышно и мягко, и Соленый вдруг подпрыгнул на месте, взмахнул руками и опрокинулся на спину. Ноги его в обтянутых коричневой кожей бурках задергались, выбивая яму в снегу. Немецкий офицер торопливо отбежал в сторону. - Врете, гады, не сдамся! - услышал Панька задыхающийся слабый вскрик летчика. Или то почудилось ему? Ловя пересохшими губами морозный воздух, чувствуя острую - точно стеклом резануло - боль в груди, Панька достал из кармана гранату. «Держись, Егор Иванович, держись! Сейчас я их, сволочей…» Ему казалось, что он кричит, на самом деле это был шепот, не слышный никому. Рванувшись в беге, четко различая лица, не видящих его немцев, Панька выдернул кольцо, занес гранату над головой. - А-а-а гады!.. В тот же миг кто-то со звериной силой ударил его по руке, вышиб гранату. Тяжелая, начиненная смертью, она отлетела в сторону, плюхнулась в снег и взорвалась безобидно, никому не причинив вреда. Панька потрясенно обернулся. За ним, яростно скаля в беззвучном крике черный рот, стоял Парамон Моисеич. - Зачем?! - дурнея лицом, спросил Панька.- Зачем ты так-то, батя? Отец оттолкнул его за себя, за спину. От вездехода, набычась, вразвалку, сжимая в руке пистолет, шел на них толстый офицер. За ним так же медленно, неотвратимо, прижав автоматы к тугим животам, шли солдаты в серо-зеленых шинелях. Освобожденная от поводка, обгоняя их, пласталась по снегу прыжками овчарка.
Надеясь на чудо, на несбыточное надеясь, Панька быстро опустил руку в карман шубенки. Но пальцы ничего не нащупали. Он попятился. Он не знал, не мог знать, что делается у него за спиной. Он не видел, что со стороны белого леса на пламя пожара торопливо бежали вооруженные лыжники, числом пять человек. Не видел их и Панькин отец. Парамон Моисеич стоял и заслонял собой сына. Толстый офицер в упор надвинулся на Парамона Моисеича и выстрелил ему в лицо. В то же мгновение овчарка метнулась к Паньке в неотразимом прыжке. Он поднял руки, защищаясь. Вскрикнул: - Ааа! Последнее, что запечатлело Панькино сознание, было внезапно ставшее изумленным лицо толстого офицера. Пистолет вдруг вылетел у него из руки, офицер отвернулся от Паньки и медленно, нехотя опрокинулся на спину. И еще овчарка. Она как-то странно надломилась в воздухе и бессильно уткнулась мордой в Панькины ноги. Густой пулеметной очереди и винтовочных выстрелов Панька уже не слышал.
* * *
Очнулся Панька - и увидел над собой низкий бревенчатый потолок и знакомое, хотя и полузабытое лицо. - Митек? - чуть заметно двинул он губами. Партизан подмигнул ему. - Никак ожил, бедолага? Ну, обрадовал! Вставай, паря, на ноги, неколи потягиваться. Самый сезон немца бить.

Последние комментарии
5 минут 27 секунд назад
19 минут 50 секунд назад
9 часов 30 минут назад
9 часов 31 минут назад
16 часов 13 минут назад
16 часов 22 минут назад