Желтое воскресенье [Олег Васильевич Мальцев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Олег Мальцев
Желтое воскресенье
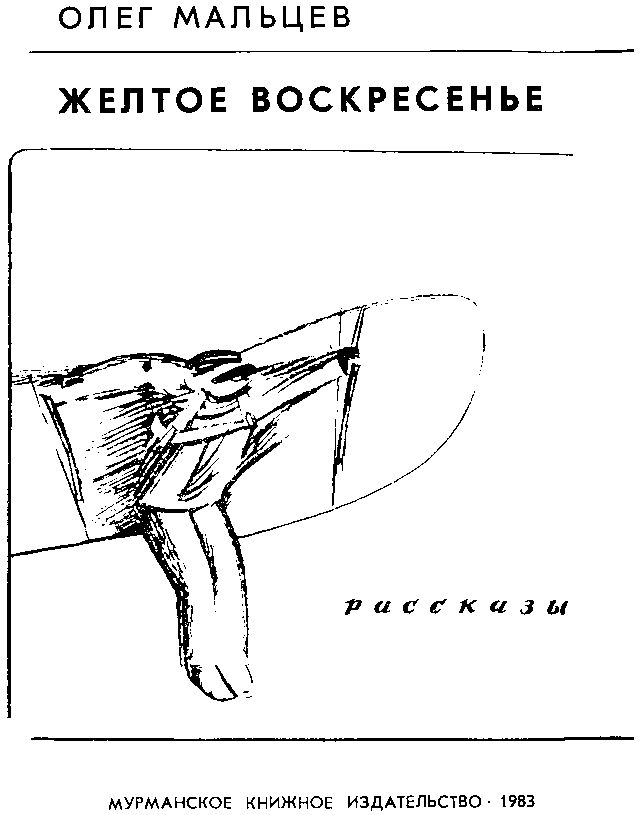
Четвертый механик
Северное солнце золотым кружком сверкало в белесом небе, но четвертому механику Громоткову казалось, что не солнце, пульсирующее с высоты, а сверкающая гладь моря и синего воздуха — главный источник света. Это заблуждение существовало до тех пор, пока механик не увидел, вернее — не почувствовал по ослепительному блеску, как велико было солнце, несмотря на кажущуюся малость, что оно и есть самая главная деталь в этом пустующем пространстве, — не почувствовал его сильную, глубокую проникновенность, как бы давящую на глазное яблоко теплом и светом. «Хорошо-то как!» — подумал Громотков, радуясь гармонии красок, пьянея от острого восторга пред этой землею. Здесь, на вершине зеленой сопки, в прохладной и ясной перспективе утра все было необычно: и сладкое головокружение, и беспамятство ума, и легкость тела, будто плавающего в воздушной среде, — исчезло смутное душевное беспокойство, словно было достаточно Громоткову влезть на эту вершину, подышать свежим воздухом, чтобы разом все прошло. Громотков посмотрел вниз: там, на темных досках причала, застыли игрушечные фигурки пассажиров в ожидании доры. И чего людям надо, мечутся по белу свету?! Остановить бы это кружение: «Стоп, ребята, дальше маршрута нет, айда по домам!» И чего ищут? Может, счастья! Так счастье разве в километрах? Оно рядом, вокруг, внутри нас. Работа, здоровье, жена, детишки — разве это не счастье?! А разве солнышко в небе — пустяк?! Погляди вокруг, до чего хорошо, умирать не надо. Уже ни блеск солнца, ни звуки моря не отвлекали его, он видел то, чего видеть нельзя: зримый ветер со стороны поселка Лодейного и Орловской губы нес желтые пылинки песка, остро жалящие лицо и руки. Ветер доносил сюда смешанные запахи окружающих предметов: ржавого железа, соли, дерева, свежей рыбы, — предметов, которые и вовсе запахов не должны иметь. Однако очарование продолжалось недолго. Ветер усилился и повернул влево, чистое небо заволокла серая дымка, вода из тяжелого неподвижного слитка превратилась в текучую, мутноватую жидкость, а берега Териберки — в бурый каменный сосуд. Еще недавно все сверкало лаковой новизной, свежестью, молодостью — и вдруг померкло, потускнело, состарилось. И Громоткову стало обидно, что прежняя красота исчезла. — Машутка! — мечтательно позвал он жену. Он призывал прежнюю рыжеволосую молодку, ту единственную женщину, которая была или казалась неповторимой, о которой тосковал в коротких, мучительных снах. Но явилась нынешняя, пожилая, маленькая, толстая женщина, а вместе с ней все хозяйство: кухня, посуда, белье, ковры, швейная машинка «Юнион» Подольского мехзавода. Незадолго до последнего рейса в Териберку они были вдвоем, Машута гладила белье, сутуло возвышаясь над гладильной доской. Старый утюг со свистом и шипением зарывался горбатым носом в ворох свежего белья, оставляя позади ровный глянцевый след. Пахло теплом и влагой. От усердия Маша смешно выдвигала кончик языка, на лбу то и дело вспухали вены и ложились морщины буквой М. Жена добросовестно относилась к любой работе, не жалела ни сил, ни здоровья, многое успевала сделать: сварить кубанский борщ, заправив его старым салом; испечь брусничный пирог или содовые коржи; вкусно заварить чай; но лучше всего стирала белье. Тут все делалось медленно, со значением: сначала стругались два куска хозяйственного мыла, более часа белье кипятилось в оцинкованном бачке-выварке, потом большой лыжной палкой перекладывалось в ванночку, от белья валил пар, сладковато пахло; потом, закрывшись изнутри на щеколду, чтобы не мешал Федор, Машута долго хрустела бельем по ребристой доске, затем отжимала, закручивая к себе, по-женски, большие белые простыни ложились тяжелыми жгутами в эмалированный таз. И, наконец, главное — белье сушилось на ветру и солнце, посреди унылого двора, на проволоке, растянутой меж трех рыжеватых досок-шестидесяток. Громотков же к домашним обязанностям относился равнодушно, считая всякое другое дело, кроме работы на «Державине», пустым, никчемным. Правда, бачок туалета, газовую плиту и водопроводные краны держал в исправности, то же самое было его заведованием и по судну. Однако из ложного самолюбия покупал жене то электрическую кофемолку, то стиральную машину, то электрический утюг, но бережливая Машута, искренне радуясь покупке, вскоре прятала ее, видимо полагая, что машина или утюг могут испортиться, сломаться, в то время как она, Машута, никогда не сломается и не выйдет из строя. «Куда все подевалось?» — глядя на жену, сокрушался Громотков. Маша перехватила взгляд мужа. — Ты о чем, Федор?! Громотков смутился, отвел глаза в сторону: — О старости! Жена не понимала или не желала верить тому, о чем говорил муж, так как считала подобные мысли сущей безделицей; в то же время отдаленный, скрытый смысл слов начал доходить до нее. — И вам, мужикам, говорить о старости? — возмущенно, с непонятным упорством и удивлением спросила она. — Вот уж бездельники! И, смахнув набок крашеную прядь волос, уставилась вперед жестким взглядом, словно отодвигая подальше то единственное, что может сказать ей правду, — золотисто-тусклое зеркало, бабушкин подарок. Вдруг, звонко плюхнув утюгом о подставку, она подошла к зеркалу близко-близко, стала иронически рассматривать круглое, плоское лицо, как бы открыто издеваясь над его туповатым выражением. Громотков следил за действиями жены напряженно, со смешанным чувством жалости и страха. Затем Машута долго, как показалось Громоткову, неотрывно изучала лицо, старательно разглаживая ладонью густые морщины вокруг глаз и носа, потом левой рукой машинально, по-хозяйски вытерла зеркало, словно убирая неугодное отображение. — Как же быстро все прошло, так и не жили по-людски: то денег не было ни шиша, то война — общее горе, то послевоенная разруха и голод, — так и жизнь прошла. Представляешь, наше поколение вычеркнуто из жизни. Теперь, кажется, и жить можно, да вот старость… Ты прав, Федя! Она неожиданно присела на край кушетки, продолжая сердито поглядывать вправо, где висело зеркало. — Господи, разве я виновата? Восемь часов в холодном цеху, четыре-пять у плиты да корыта, сранки за ним убирать, двенадцать часов мой трудовой день, вон руки задубели, не помню, когда маникюр делала, в кино ходила, женщиной только прозываюсь. Вскочила чуть свет, марафет навела и понеслась по городу за мясом, яйцами, колбасой, перед разными курвами шапку ломать… Другие мужья тушенки несут с «Державина», сгущенного молока, туалетной бумаги, а тут один хрен… Трескоед… архангельский… Машута говорила волнуясь, сбивчиво, почти выкрикивая отдельные слова, с мучительным выражением на лице. Ее голос угрожающе зазвенел: — А ты обо мне подумал? Хоть ра-зок? О моем женском достоинстве подумал? Семь абортов от тебя, все ублажала по ночам, оттого и состарилась раньше времени… А ты и сейчас на жену как бич на бабу смотришь… Все брошу, уеду к матери, а ты как знаешь — так и живи на своем Севере! Жена схватилась за сердце, неловко прилегла, машинально поправив пальцами задравшийся халат. Федор так испугался за жену, что выронил чашку с водой. В то же время подумал: «Все справедливо! Машута во всем права, по-настоящему я никогда не думал и не заботился о ней, только оберегал свой покой, срывая на ней злость за все жизненные неудачи, все взвалил на ее плечи». Он мысленно послал к черту свою работу и снова, как в первые годы супружества, молился домашнему богу Машуте, вспоминая все хорошее и доброе, причем делал это так искренне, так нежно, что и сам поверил: перед ним — прежняя молодая Машута. — Дорогая моя… Не волнуйся… Я люблю тебя… Посмотри, какая ты красивая… Женщина красива, когда она счастлива… Ты же счастлива, Маша? Правда?.. И, может, не от слов, а от того мягкого задушевного тона она постепенно смягчилась и успокоилась: — Федя, а ты не врешь?.. Но почему-то грустно покачала головой: — Нет уж, Федор, что есть, то есть… Будь моя власть, я бы все зеркала запретила в государстве…Громотков так увлекся воспоминаниями, что продрог, стоя на прохладном ветру. Он начал быстро спускаться по камням, грохоча каблуками; визг или свист преследовал Громоткова по пятам. Загадка открылась позднее — свистящий звук исходил от каблуков, подбитых закаленными шурупами, — изобретение Андрюшки, котельного машиниста. До причала оставалось еще несколько десятков метров. Механик остановился, он хотел снова увидеть то место, где испытал нечаянную радость раскаяния, но перед глазами была крутая каменистая осыпь. Тогда он повернулся влево, как солдат на плацу, и, уже не пугаясь высоты, ринулся вниз, зрением и слухом поверяя движение, чтобы не оступиться и не подвернуть ногу. Он бежал свободно, широко пружиня в сыпучем грунте. Подчиняясь внезапной решимости, он даже прыгнул, но расчетливого прыжка так и не получилось, и выражение крайней растерянности сохранялось во время его полета. Про себя же он подумал, что прыгает смешно, неловко, загребая в воздухе руками-ногами. Сидящие на причале мужчины и женщины мало обратили внимания на его шумное появление. Несколько человек мельком глянули в его сторону и вновь принялись бездумно смотреть на сверкающий залив, куда недавно смотрел Громотков: видимо, к природе вернулось прежнее очарование. Громотков еще смаковал чувство от высоты и быстрого спуска, перехватывал ртом воздух и никак не мог насладиться — теплый и безвкусный, он не насыщал легкие. Но вскоре, сделав два-три глубоких вздоха, Громотков пришел в себя: теперь ему все казалось смешным и нелепым. Он посмотрел на край причала, где крупные морские чайки — бургомистры клевали кем-то брошенных серебристых рыбешек. Чистые грудки чаек отливали глянцем и фарфоровой белизной. Но внимание Громоткова привлекли не красивые птицы, а худая черная кошка, которая крутилась подле разбитой бочки; сквозь рассохшиеся доски что-то ослепительно белело — не то известь, не то соль. Сначала ему показалось, что ни кошка, ни чайки не видят друг друга: она жмурилась в лучах ветреного солнца, а птицы беспечно прыгали, ссорились, — словом, казалось, что безмятежное счастье тех и других одинаково полно и состоит в том, чтобы радоваться пище, теплу, свету. Вдруг в узких глазах кошки загорелся зеленый огонек. Расс-тахх-тарах — черная молния стремительно вылетела из укрытия, скребнув когтями по влажным доскам причала. Птицы своевременно открыли маневр и плавно, степенно, но достаточно быстро взлетели. Тяжело пикируя вниз, они били тяжелым клювом в загривок врага, отчего кошка отчаянно мяукала. Она явно не рассчитала силы, птицы были крупные, смелые. Наконец, разорвав незримое кольцо окружения, кошка кинулась наутек, сначала влево, на откос, где спускался Громотков, а затем вправо, ускоренно бросая вперед хищное гибкое тело. Громотков невольно рассмеялся, довольный победой птиц в опасном поединке. Увлекшись, он не заметил, как человек высокого роста направился к нему. — Здорово, дружба! — сказал незнакомец, протягивая руку крупной морщинистой ладонью вверх. — Да ты что, Михайлович, собственных друзей не узнаешь?! Громотков узнавал старшину Воробьева, но узнавание происходило не сразу, сквозь угрюмую неподвижность красного обветренного лица тепло, знакомо сверкнули глаза. Они не виделись больше года, пока «Державин» стоял в Салминском доке на капремонте. В прежние времена старшина казался выше и моложе Громоткова, он тщательно следил за собой, наглаживал широкие флотские брюки и китель, мазался кремом, регулярно делал массажи и душился «Шипром» — воинским одеколоном. Но теперь, небритый, неряшливо одетый, не отличался от многих, а по обрюзглому лицу — старик и вовсе. Раньше они встречались редко — то на пассажирском причале, то у буфетной стойки вокзального ресторана — и, приняв рюмку-другую коньяку, ни о чем серьезном не говорили, касались общих тем: дождливой погоды, либо женщин, или работы. Одно время Громоткову казалось, что они сблизились, однако до полной дружбы было далеко, мешала фронтовая выправка старшины. Теперь же прежнее розовое лицо Воробьева, предмет его особого ухода, сильно потускнело, поседели виски, обозначились морщины вокруг рта, исчезло всегдашнее выражение благополучия и здоровья. От старшины стойко несло перегаром. «Закладывает Степа!» — решил Громотков. — Уж год, как Гали не стало… Вначале Громотков не понял, о ком идет речь, но вскоре догадался: о жене Воробьева. — Всего неделю температурила. Я тогда в Сочах был, ее прилета ждал… Цветущая, красивая, — все мужики на нее пялились. Лежу на солнышке, греюсь. Вдруг — бац!!! Телеграмма!!! Да еще какая! Кинулся в Мурманск, а тут снегопад в июне, задержка рейса. Прилетел — и поздно… Громотков видел жену старшины на причале с букетиком цветов, но та стройная и молодая, в нарядном платье, никак не вязалась с печальной мыслью о смерти. Громотков вспомнил, что Галя была на восемь лет моложе мужа и Воробьев постоянно ревновал ее. Оценивая других людей, Воробьев исходил из собственного взгляда на жизнь; ему казалось, что поведение жены притворно и ей, красивой и привлекательной, незачем любить пожилого мужа, когда рядом столько молодых ухажеров. В разговорах о Гале с его лица не сходили следы внутренней борьбы, душевного разлада — тайная мысль о супружеской неверности. — Пусть бы уж изменяла, только бы жила. — Воробьев невидяще посмотрел вдаль. Потом неожиданно, сильно сжимая руку выше локтя нервными пальцами, предупредил: — Помни, Федя! Грипп — маршал всех болезней, и тут ни пенициллин, ни стрептомицин ничего не значат, только интерферон… Белок! Понял?.. Все, что говорил Воробьев, касалось его, было близко ему и произошло с ним давно, но сейчас он вновь хотел пережить это чувство невосполнимой утраты, хотел облегчить душу за счет другого. Однако даже в эту печальную минуту перед Громотковым стоял прежний старшина, в манерах и образной речи. Воробьев говорил, увлекаясь, забывая главное, словно не сознавая до конца того, что сделала смерть. — А что ты делаешь в Териберке? — отвлекая его от печальных мыслей, спросил Громотков. — Да вот после Гали военку бросил. Знаешь, Федор, надоело перед каждым тянуться и козырять. Комнату поменял, сюда начальником Териберского портопункта назначили. Вон по-за тем домом моя изба… Сто целковых плюс полярка да коэффициент. На водку да треску в масле хватает. А больше и не надо… Катер с «Державина» ждем… Ну, правда, первое время трудно было без знакомых, без женщин… — Без каких таких женщин?! — неожиданно с удивлением спросил Громотков, припоминая все сказанное Воробьевым о жене. Старшина, наклонив голову набок, терпеливо пояснил: — Есть тут одна кадра, но ей до Гали далеко. Жену не могу позабыть. Уеду, — плаксиво произнес старшина, — тут только мох растет… Посмотри, разве это дерево — хамло, ветки без листьев, а стволы без веток. Громотков невольно улыбнулся скачкам его мысли, неожиданному соединению трагического и смешного. — Ты чего деревья ругаешь? — А что, не правда? — с вызовом ответил Воробьев. — Ка-ка-я правда?! Ты правду на воображение променял. От правды в твоей башке только коэффициент да треска в масле остались. — Все равно уеду! — с пьяным упорством прогудел старшина. Отголоски прежней бравады еще сидели в нем крепко. — Я теперь один в поле воин! Громотков повернулся. Дора плавно отвалила от борта «Державина» и, несмотря на кажущуюся близость судна, долго шла к причалу. Пассажиры толпились у сходней. Когда дора приблизилась, произошла заминка, и старшина кинулся в гущу толпы, властно, голосом и руками, устраняя неразбериху. Громотков сошел последним, занял место на корме сбоку от Василия Полехина, пожилого матроса. Старшина жалостливо посмотрел в глаза Громоткову. — Может, армянского пришлешь? Моя малярша любит по граммулечке. А?! — Ну ты и чурка с глазами. Никогда бы не подумал, что можешь Галю забыть. Тебе не коньяк, а шило в зад. Дерьмо! Через год маляршу завел. У тебя, видно, нервная система вынута.
Перегруженная дора шла тяжело и валко, глубоко зарываясь в стеклянную волну, раскалывала ее острой грудью на зеленовато-прозрачные половины. Старенький мотор пыхтел, глубоко булькая грязноватыми плевками в воду, из которой поднимались голубые пузырьки газа. Мерное движение доры, морской простор, однообразные звуки настроили Громоткова на воспоминания. Перед поездкой Громотков сменил старую робу. Та была изношена на локтях и коленях, но зато привычно облегала тело. Новая, густо-синего цвета, с белой строчкой, грубо ломалась на сгибах, натирала шею и грудь, он с нетерпением ждал, когда скинет ее. Он всегда испытывал неудобство от новой одежды, будь то скрипучие ботинки или костюм, поэтому необходимые вещи покупал неохотно, а если покупал, то долго не носил, вылеживал их, пока они не теряли очевидную новизну, а сознание постепенно не привыкало к ним. Прошлым летом в мурманском Доме торговли вместе с женой покупал финское пальто. Старая финская куртка, вся в молниях и застежках, еще не обносилась, только две блестящие кнопки плохо застегивались вверху, но Машута настаивала сменить ее. — Какой ты итээровец, если в обносках ходишь! Баста, из отпуска вернешься — сразу в управу, новое пальто наденешь, пол-литра с кадровиком разопьешь, с Котляревским из механико-судовой службы, — может, третьим механиком назначат; ты же знаешь, как это делается… Примеряя пальто, неожиданно повздорили. Последнее время они ссорились часто. — Ну ты и мещанка! — возмущенно сказал Громотков. — А ты нуль без палочки! Ничего не добился. Ты, Федор, как озимый злак — посадили давно, а все еще не созрел. Твои однокашники Иосиф, Генка, Николай давно по конторам сидят, в кабинетах, в тепле, а ты море утюжишь, как гардемарин. Пусть в нем плавает тот, — кто его наливал. Вот обновку купили, радоваться должен, а тебе неловко, неудобно. Тьфу! Ну-лев-ка!.. Эх, кабы знать раньше, ни за что бы замуж не вышла. Задетый глубоко и больно, он смалодушничал и тоже уколол: — А мы с тобой и так как брат и сестра живем, по фамилии и отчеству. Машута обиженно отвернулась. Но самое веселое было позже, и теперь Громотков при воспоминании не сдержал улыбки. Когда примеряли мягкое из добротной шерсти пальто, он поймал восхищенный взгляд жены. В зеркале отражался не прежний Громотков — сутулый, длиннорукий, а аккуратный, подтянутый человек средних лет. Ему по-ребячьи захотелось, чтобы не было солнечного июля, а был сырой холодный октябрь. — Снимай, прохиндей! — вдруг грубо и зло приказала жена. Он даже не понял ее внезапного раздражения. — Ну, в чем еще дело?! — Я в отпуск уеду, а чужие бабы на тебя пялиться будут. — Вот тебе раз, Машута!!! — Он весь затрясся от искреннего смеха и, больше не сдерживаясь, тепло, раскованно проговорил: — Ду-ре-ха родная! — Он крепко обнял жену — толстую, пожилую женщину, и, наклонившись к уху, прошептал: — Машенция, может, малыша заведем? А? — Тьфу! Кобелина седой! — смущенно отбивалась Машута. — Нехорошо я думала, Федя… Думала, бросишь меня после смерти Васеньки… Ладно, берем! Сто шестьдесят — не деньги. Но все равно без меня не наденешь, пока из отпуска не вернусь… Все это Громотков вспомнил на пути к «Державину», и, может быть впервые, смешанное чувство жалости, нежности и заботы вновь приоткрылось, к жене. Он с особенным удовольствием представил, как выходили из примерочной, тесно прижимаясь друг к другу, подошли к кассиру, заплатили деньги и так, не снимая висящего на плече пальто, вышли на улицу. Он по-особому бережно поддерживал Машуту за талию. Лодка двигалась прямо на судно, острый запах полярного дня плыл в вышине. Васька-матрос неподвижно сидел на корме, жмурясь от слепящего солнца, но солнце ударяло ему не сверху, как обычно, а снизу, отражаясь от лаковой поверхности моря. Круглое лицо его было безмятежно, лоснилось, особенно сверкала вздернутая пуговка носа; казалось, он дремал, но поднятая голова и распахнутая грудь, сама раскованная поза наводили на мысль, что кроме главного дела — вести по курсу лодку — он еще извлекает удовольствие из своего нынешнего положения. Громотков отчасти увидел себя в нем и понял, что нечаянная радость, испытанная им на вершине сопки, и та, что на лице матроса, были одинаковы; понял и то, на чем держится общая радость. Причина все та же: вода и солнце. — Жжжи, жжжи, жжжи… Громотков неожиданно услышал нарастающий рокот и вдруг увидел точку самолета, похожую на медленно ползущую муху. — Жжж-и-у, жжж-и-у… Муха жжикнула в даль, где синева и прозрачность. Пустая лодка плясала рядом с темным бортом «Державина». Громотков вышел последним. Глуповатая и ленивая коридорная Галя погрозила ему кокетливо мизинцем, отчего-то обращаясь к нему по-детски в третьем лице. — Куда это, интересно, наш Степанович ездил? Вот-ка расскажу его жене. Степанович! Вас дед — ой, извините, старший механик — по селектору разыскивал.
В каюте, вылизанной начисто, до пылинки, с полосатыми шторами, сверкающим бра у изголовья и светлого тона переборками, казалось и холодно и неуютно. Так холодно и неуютно светила люстра, как бы в туманной изморози. И, несмотря на открытый иллюминатор и движение теплого воздуха, в помещении было сыро. Ее хозяин Эдуард Белецкий — худой блондин, старший механик «Державина», был аккуратист: готовальня, ластики, штангенциркуль — все лежало удобно на рабочем столе, на специальном планшете из плотного картона, все прижато, пришпилено круглыми авиамодельными резинками — «венгерками». Громотков дважды постучал по звонкой обшивке двери, но в ответ — лишь плавные звуки вальса. Заглянув, Громотков увидел зеленый глазок «Ригонды». В период длительного салминского ремонта Белецкий прибавил себе жилплощадь судового лекаря, которого списали с «Державина» за пьянство. С тех пор Громотков не был здесь. Он прошел, с любопытством огляделся, на всякий случай приглушенно кашлянул, обращая внимание на себя, на тот случай, если кто-либо окажется в каюте. Бесшумно отмерив несколько шагов по плотному ворсистому паласу, нашел «деда» за желтой занавеской, отделяющей спальню от салона. Белецкий, видно после бритья, разглаживал лицо кремом. Громотков видел, как необычно рыже светилась его щека, болезненная кожа стармеха покрылась красными пятнами. Увлекшись, стармех не заметил Громоткова; кося от напряжения глазом, он прижимал щеку побелевшими пальцами, подложив для удобства изнутри язык. Однако все его мысли были заняты другим. После Англии его продраили с песком и направили на «Державин». Это было полтора года назад. Беспокойство вызвал не сам факт, а то глухое отчуждение, выросшее перед ним. Его не ругали, не разносили в пух и прах, как это бывало раньше, про него просто забыли, как забывают ненужную вещь. И силу этого молчания Белецкий знал хорошо, поэтому и беспокоился. Перед выходом из Мурманска Эдуард заходил к знакомому кадровику пароходства — как запасливый человек, он везде имел своих людей, на поддержку которых опирался в трудную минуту, — но оттого, что кадровик, его старый товарищ и собутыльник, разговаривал с ним обиняками, как многозначительно было его лицо, особенно правая по-актерски подвижная бровь, Эдуард понял, что дело его плохо и что «Державин» станет его тюрьмой, а загранка пока не светит. Похолодев, он все-таки внешне держался бодро, даже пытался шутить, намекая на прежнюю близость, но кадровик, прожженная бестия, только удивленно повел бровью, однако вскоре исправился, пояснив главное: дело вовсе не в нем (при этом он многозначительно показал пальцами за окно). Стармех машинально проследил взглядом за рукой кадровика, но ничего угрожающего для себя не увидел, — было грязноватое оконце, поросшее кудрявой зеленью. Впрочем, стармех все понял и сам, он спешил, по опыту зная, как дорого время, чтобы дело не зашло далеко… где надо подтолкнуть, поправить, прибегнуть к помощи друзей, застольных людей или просто знакомцев. Событие, о котором беспокоился стармех, случилось полтора года назад в Англии. Тогда в Бринстоне был дождливый вечер, впрочем настоящего дождя, с лужами, дробным перестуком крупных капель, — не было, а висела нудная пелена микровлаги; масленая мостовая, мокрые стены домов, черные ветки могучих вязов, мерцающие на фоне желтых уличных фонарей. Трое с «Уржума» — боцман, радист и стармех — давние приятели: Белецкий с боцманом жил на одной площадке в пароходском доме на улице Челюскинцев; с Волобуевым, радистом, учились в Мурманской мореходке; кроме того, оба были «супниками» на период учебы, женились на пожилых официантках, с которыми впоследствии оба разошлись. Долго бродили втроем по кривым улочкам, толкались по дешевым магазинчикам, лавчонкам, пока не забрели в кабачок-забегаловку, подальше от всевидящего ока помполита. В кабачке тихо играл аккордеон, в зальце — полумрак, ясно видимых источников света не было, только впереди сверкала бутылочная витрина бара, зеркально множились желтые, голубые, синие, оранжевые цвета, да еще в нишах слева и справа горели две газовые горелки, давали тепло и колеблющийся свет. Однако сидеть в тепле, тянуть горькое пиво — всего этого достаточно, чтобы приятно отдохнуть, расслабиться, забыться. К девятнадцати часам набрался народ, в основном рабочий люд: докеры, служащие контор, парни в твидовых пиджаках, и всё — зонтики, широкополые шляпы, плащи, хрустящие болоньи — полетело в угол, на широкую лавку из простого дерева, самое мокрое вешалось отдельно, поближе к газовому огню. На стойке бара в серебряном блюде — гора маленьких бутербродов с ветчиной, салом и перцем, по два бутерброда на кружку темного пива. Из дальнего угла смотрела, играя, через высокий гнутый бокал красивая размалеванная баба. Эдуард приметил ее сразу, как только вошел, сел напротив — так было удобнее наблюдать. Ему нравилось это матовое лицо, обращенное к нему, невинный взгляд и красный вызывающий рот; оно нравилось Эдуарду смешением черт: греховностью и чистотой. Женщина была пьяна. И все-таки казалась красивой. Но всякий раз, когда он потом вспоминал большие вялые губы, вульгарный тон, откровенное распутство и грязь, ему хотелось плеваться. На «Уржум» вернулись тихо, надеялись, что пронесет, обойдется. Однако не обошлось, не пронесло — по возвращении из рейса всех троих отправили на «перековку» на судно «Державин» — паровичок, обслуживающий Мурманское побережье. Другой же заботой стармеха был Громотков, со своей «гальюнной командой», которого он считал устаревшим на флоте, мягким, непрактичным и в то же время негибким. Себя же стармех считал вполне твердым и умным и сегодня, готовясь к этой встрече, несколько минут потратил перед зеркалом, играя лицом, пробуя выражение глаз: то холодно-колючее, то вкрадчивое, надменное. За этим делом его и застали. — Вчера вы опоздали на полторы минуты, а сегодня пришли на пять минут раньше, — заговорил, не поднимая глаз, холодно, ничуть не смущаясь театральности речи (плевать, Громотков неопасный человек). Он раскрыл книжицу, в ней числятся десятки больших и малых грехов Громоткова: нарушение формы одежды, панибратство с подчиненными, два опоздания по три минуты, а далее и вовсе особо подчеркнуто: «На собраниях выступает резко, всех критикует — как будто кругом дураки…» Ковыряясь спичкой в зубах, спросил: — Что же это такое?! В вашем заведении пять человек, а вы справиться не можете. Или не хотите?! Помпа на учении опять отказала. Из-за вас выговор получил от Грищенки. А за что, спрашивается, а? Кто у вас ответственный за помпу?! Почему бирочки нет?! — Вы же знаете — Андрюша Старков!! — Вот-вот, у вас все Андрюши, Миши! А выговор от капитана — мне. Нет уж, извините, я лучше разделю его с вами! Сегодняшняя речь Белецкого была многословной, излишне категоричной, он говорил сердито, слегка запинаясь, поэтому нервничал. — Ввы ззз-наете, кто ваш Ссс-тарков? — А что, парень как парень, горит на работе, — упрямо тянул Громотков в бессилии и злости на самого себя, теребя и комкая пальцами жесткий край новой спецовки. — Да сколько можно повторять, Федор Степанович! — Он с ударением, твердо выделил его имя. — Пожилой человек, скоро «аттестат зрелости» получите, а в людях ни черта не смыслите. Непростительно… «Хороший парень, хороший парень…» Да нет тут хороших парней. На дворе, в троллейбусе, в кино — другое дело, а тут хороший матрос, хороший рулевой, хороший моторист! И вот еще, коль время зашло, год приглядываюсь… Вы часто говорите — молодежь должна гореть на работе, подчиненных так учите. Негосударственная точка зрения! Вредная! Это у них, там, потогонная система, выжал и выбросил, а у нас человека беречь надо! «Здоровье советских людей — это ценнейшее национальное достояние!» Слышали?! А вы призываете гореть на работе, и главное — из-за чего?! Из-за гальюнов, насосов, флянцев?! Нет, дорогой мой… А вот пример государственного подхода: складываются все бабки — рабочая сила, эмоции, настроение, человеческий моторесурс, даже погода и время суток закладываются в ЭВМ, и выдается на-гора средний результат: средний Громотков, средний Сидоров или, скажем, Белецкий… — Никакой я не средний, — сердито возразил Громотков, — учу, как меня учили. — Да я к примеру… И за труд сто сорок колов плюс коэффициент да полярка. Получайте свои средние денежки! — Мне средние не нужны, мне дайте за мой труд. И, между прочим, за такую работу надо платить больше. — Типичная обывательская философия! Нездоровая зависть! Белецкий все более раздражался, теряя над собой контроль. В такие минуты, он знал по опыту, необходимо освободиться от накопившегося раздражения; он даже считал, заимствуя чужую идею, что каждый руководитель должен иметь козла отпущения, чтобы излить на него раздражение; и он, более не сдерживаясь, поспешил испробовать это на Громоткове, причем все, что ни говорилось обидного, сумбурного, злого, не отличалось ни логикой, ни последовательностью — сработала система предохранительного клапана. — Но я, собственно, о другом. Помните, в марте Ованесов бегал к капитану с заявлением Старкова о поездке в Калинин: мол, заболела мать и прочее?.. Вы еще перед Грищенком за него хлопотали. Помните?! Ну, теперь полюбуйтесь! — И он протянул толстый конверт. Громотков надел очки и, приблизив бумагу, прочитал:
В комитет плавсостава, тов. Кошкину В. С. Секретарю партийного комитета тов. Басаргину Г. И. Председателю тов. суда… Сообщаем, что 26 марта сего года участковым поселка Кильдинстрой, Кольского района, лейтенантом милиции Больших А. С. задержан моторист вашего судна, предприятия, организации (ненужное зачеркнуть) Старков Андрей Степанович, 1957 года рождения, русский, уроженец Калининской области, образование высшее, который в н/виде совершил хулиганские действия. Просим принять меры общественного воздействия. Приложение: Рапорт ст. л-та милиции тов. Больших А. С. Объяснение нарушителя и протокол заседания в 1 экземпляре. Начальнику ОВД Кольского райисполкома тов. Курлову А. АНиже приписано карандашом:РАПОРТ
Настоящим докладываю, что 26 марта сего года в 19.30 в помещении клуба пос. Кильдинстрой проводился конкурс на лучшую молодую домохозяйку. На сцене клуба были выставлены различные блюда, приготовленные умелыми руками молодых тружениц совхоза, для определения вкусовых качеств и передачи их на суд авторитетнейшего жюри в лице зав. столовой Дергач Аделаиды Сидоровны. Моторист т/х «Державин», некто Старков А. С. и моторист того же т/х Ованесов М. Г. вышли на клубную сцену и съели из хулиганских побуждений весь винегрет — конкурсную работу доярки Голубевой В. И. При этом вели себя недостойно, громко чавкали, отпускали ехидные словечки. На вопрос же председателя жюри в лице зав. столовой Дергач Аделаиды Сидоровны, каково качество приготовленного блюда, распоясавшиеся хулиганы потребовали вторую порцию, в чем, естественно, им было отказано. Тогда моторист т/х «Державин» Старков А. С. перешел на личность передовика производства доярки В. И. Голубевой, дерзко намекая, и под смешки несознательной части зала вогнал последнюю в краску. Старков А. С. и с ним Ованесов были членами ДНД совхоза препровождены в опорный пункт. При задержании Старков А. С. оказал сопротивление. Прошу Вашего указания о принятии мер к нарушителю дисциплины и наказанию виновных.Ст. л-т Больших А.С.
Тов. майор, заводила здесь Старков А. С., а евонный халабала — дружок Ованесов М. Г. действовал из ложного товарищества, посему выпущен на свободу по настоянию общественности в лице председателя жюри зав. столовой Дергач Аделаиды Сидоровны.— Ну, что теперь скажете? «Вот обалдуи проклятые», — мысленно обругал их Громотков. А вслух неуступчиво проговорил: — Болтовня на колокольне: кто залез, тот и звонит. А все почему? Низко построена… Я эту невинную личность хорошо знаю; как говорится, доступ к телу от и до. Тьфу! И чего Андрюшка нашел, плоскодонка… — Да вы что? Колокольня… плоскодонка… Чушь какая-то! Вы дайте принципиальную оценку этому факту. Стармех внимательно следил за громотковской мыслью, но не сразу понял, что речь не только о Старкове, каким-то образом этот разговор касается и его, Белецкого. Он подозрительно посмотрел на Громоткова, не знает ли старик чего-нибудь такого, чего знать не должен. Наконец встряхнулся. — Так вы обо всем знали? Ну что ж, о-чч-ень хорошо, так и запишем… До каких же пор с меня одного шкуру будут спускать?! И вдруг зло спросил: — Сколько вам трубить еще? — Полста три, так считайте, — рассердился Громотков. — Раз движок сносился, так пора на капремонт; так, что ли?! Белецкий упрямо переспросил: — Помнится, на собрании вы поддержали Старкова насчет общих столовых?! — Ну, что ж такого, я и теперь так считаю. Наше общество самое демократическое. Отчего же бояться инженеру сидеть вместе с подчиненным! Да, кстати, на СРЗ-1 так и делается… Это на флоте развели голубых кровей. Кушают же, например, в ресторане рядом столяр и ученый, едут в одном купе — народный артист и колхозник. А представляете, на флоте приходит с вахты матрос, позволения спрашивает, как положено, у Грищенки: «Можно, товарищ капитан, откушать?» А тот ему вежливо головой кивает: «Можно, товарищ Карельских, садитесь! Приятно вам кушать!» Вот это демократия! — Нет, Громотков, — на флоте именно потому и порядок, что со времен Петра Первого ничего существенно не изменилось, уважение старших — древний морской закон. А вы хотите, чтобы я с мотылями да рогалями за одним столом обедал. Достаточно, что вы с ними сидите; дождетесь, капитан выговор влепит. Как-то у вас наивно… демократическое общество!! Слишком прямолинейно…
К одиннадцати часам на «Державине» окончили погрузку, руководили двое: пассажирский помощник Митрохин и дежурная Самигулина Роза. Судно то и дело вздрагивало всем корпусом, это второй механик готовил к запуску паровую машину и изредка проворачивал гребной вал. Пассажиры быстро растекались по курительным салонам, уютным уголкам, барам, шумно располагались в каютах, детвора радостно и суматошно носилась по коридорам, хлопали дверьми, без надобности открывали краны, включали громкую музыку, — словом делали все, что должны были делать люди, обживая новое место. Незнакомые мужчины и женщины легко заводили беседы, молодые стремились обособиться, пожилые создавали небольшие компании, кое-где уже слышались громкие популярные споры, но тут же все кончалось миром, ибо всем было ясно: вина не их — обстоятельств. Самые неприкаянные бессмысленно шатались по пароходу. Знакомые же, а таких было больше, вели спокойные незначащие беседы. Но вскоре все улеглось, затихло, самые нетерпеливые мужчины осадили питейную точку, где крупная розовощекая Зина — буфетчица ресторана, с широким скуластым лицом, выражением уверенности и здоровья на нем, играючи открывала бутылку зеленого стекла — чешский «Будвар» — обычным дельтовидным ключом, легко умещавшимся в ее по-мужски широкой ладони. — Пффа-ак-к!!! Она расставляла бутылки быстро, почти меча их на стойку буфета. Старательные женщины уже навели порядок в своих каютах — так же основательно, как делали у себя дома; в сущности, «Державин» и был их домом на короткое время перехода до Мурманска. Громотков направился в свою каюту, причем дважды у бронзовых поручней при переходе с трапа на трап был остановлен пустяковыми вопросами пассажиров, но механик не сердился, ему было знакомо это чувство предстоящей перемены, он и раньше замечал, что люди легко снимаются с мест, без сожаления расстаются с привычным укладом жизни. Наконец лег в койку, взял новую книгу с полки, с хрустом разломил ее посередине, вначале бодро, с интересом начал читать, но усталые мысли лениво ворочались в сознании, глаза механически бежали по строчкам, однако смысл прочитанного не откладывался в голове. Кроме того, казалось, что все постороннее: лишний звук, скрип, мелодичная музыка — существует, чтобы отвлечь его внимание от книги; вернее сказать, механик сам с удовольствием отвлекался на шум, стук или голос. Его внимание привлек силуэт напротив, четко отпечатанный на шторке иллюминатора; он услышал надрывный плач грудного ребенка и тогда понял, что размытый силуэт принадлежит женщине-матери. Мать, не видимая за дрожащей ситцевой занавеской, пришептывала, гукала, сладко уговаривала мягким говорком дитя, а то вдруг закипала, сердилась, но ребенок все плакал, не переставая, жалобно и тоскливо. — Санечка! Сашуня! Миленький мой, успокойся! Ну поглядите сюда, поглядите на него! Что же это с тобой делается, горюшко мое?! А?! — Мальчонка али девка? — неожиданно спросил другой, старушечий, голос. — Да дите! — ответила молодая, сердясь на незнакомку за ее вмешательство. И снова, обращаясь к ребенку, проговорила: — Ну надрывайся, надрывайся, шельмец, может пупок накричишь… — Чего делала?! — Да усе уж, — расчувствованно продолжала молодая, — и клизмочку, и водички давала с сахаром. Кричит себе — и все, в каюте кричал, здесь кричит, ох и замуздыкалась я с ним. — А батька где же? — Батьки на сегодняшний день нету! Он нас на блондинку променял, шесть месяцев паразита с моря ждали, а он с буфетчицей на юг устебнул. — А ты к партейным обращалась? — Да че партейные, не такие мужики, что ли?! — Эхма! Как была спокон веку антогонизма между полами, так вся и осталась… А может, щетиночка на спинке повылезла?! — Да вроде бы нет! — растерянно ответила молодая. — Я мякишем усю до попки прокатала, еще яичком вареным. — А ты попробуй через дверную ручку умыть его. — Как это?! — Средство такое!!! — Да будет вам мистику разводить! — Мистика не мистика, а средство хорошее. Потом строго и требовательно приказала: — А ну-ка, мать, дай сюда мальца, а то и верно замуздыкалась. И, взяв на руки ребенка, она певуче стала его баюкать и беспрестанно говорить что-то бессвязное, пустое, но сердечное и приятное для слуха, спокойные материнские слова. — А-а-а… — пела она который раз, в перерывах между словами. Так она ходила мимо иллюминатора, то появляясь в нем, на просвет, то исчезая. Ровный ли голос женщины подействовал на ребенка или еще что, но он заснул, причмокивая и всхлипывая во сне. — На, бери, день на ночь поменял, — сказала старуха. Механик тихо лежал, укрывшись простыней до подбородка, отдыхал, блаженно перебирая в сознании разговор женщин: старой, чей четкий контур то возникал, то расплывался на мутной синеве занавески, и беспокойной молодой матери, видимо южанки, которая несла свое бесценное жадное до еды, чмокающее во сне дитя. — Искусственник?! — Како там!! Молочник!! Питюнь растет! Усю грудь вытягнет, пока наисца. Весь в батьку-подлеца: того легче похоронить, чем накормить, — прибавила молодка не то с гордостью, не то сердито. В эфире раздался щелчок, и тотчас голос, сломанный на полуслове, закончил: — …белиус!! Громотков не мог понять значения незнакомого слова, но торжественный тон не оставлял сомнений: речь пойдет о возвышенном — о музыке или стихах. Он положил книгу под подушку и приготовился слушать в любимой позе, заложив руки под голову. «…белиус — это либо дирижер, либо исполнитель», — подумал механик, и в эту же секунду скрипач ударил смычком по мажорным струнам. Громотков потихоньку вспоминал. Концерт заезжего скрипача… сцена, полусвет… фрак… пустые ряды кресел…
Мурманск потихоньку пустел. Еще утром Громотков шел усталый и злой. На себя; на жену — укатила под Ленинград, в Колпино, к золовке на клубничку; на золовкиного мужа, ветреного мужика, штатного ухажера, отчего приглашение «на клубничку» имело неприятный оттенок; отчасти на Гликмана — представителя Регистра, человека умного, но хитрована, который всегда придирался при приеме котельного хозяйства. И вот как бывает: день, обещавший суматоху, нервозное напряжение, сам собой разрешился, превратился в свободный, а главное — бездумно-счастливый, в один из дней, когда все задуманное получается, без видимых усилий. Жена оказалась у родителей в Щекино, золовка-трепуша, как всегда, подвела, Гликман внезапно заболел гриппом, и судовые котлы «Державина» после ремонта принимал незнакомый инспектор. К четырнадцати часам, сделав мелкие замечания, инспектор подписал приемочный акт. А в пятнадцать тридцать Громотков, слегка навеселе, — с Воробьевым выпили по рюмке — был уже совершенно свободен, не зная, чем себя занять. Он уже шел через площадь Пяти Углов, как всегда присвистывая на ходу, в мышцах молодо гудела кровь, он поднял голову к небу, тихо засмеялся и ударил носком ботинка подвернувшийся голыш. Он шел, слегка касаясь ногами асфальта, каждая жилка его тела звенела туго и радостно… …Музыкант держал инструмент небрежно, на весу, как держат авоську… потом медленно — казалось, неудобно — устроил скрипку в гнезде между плечом и щекой и, уже не глядя в зал, шумно два-три раза ударил смычком. Но что-то не получалось, мешало; он даже пошевелил плотными плечами, не отнимая скрипки, опустил локоть вниз; защемленная скрипка была продолжением острого подбородка;свободная правая рука что-то мараковала над грифом. Наконец он закончил приготовления и легко, как бы отлаживая скрипку сверху, провел смычком, вывел бесконечно длинную печальную ноту… — Сибелиус!!! «Вот-вот! Сибелиус!» Громотков вспомнил разгадку прерванной фразы: видимо, радист Волобуев переключил голос столичного диктора на полуслове. …Вначале игра скрипача не трогала Громоткова. Плоское рябое лицо музыканта, высвеченное ослепляющим светом, ничего, кроме раздражения, не выражало. И только глаза, спрятанные в глубоких глазницах, сияли сознанием превосходства. Музыкант играл рассеянно, позволял себе зыркать в зал. Громотков отвлекался по сторонам, ерзал на стуле, переминался и механически скручивал обтрепанную голубоватую ленту бумаги — что осталось от входного билета. Скрипач, не прерывая игры, как мог защищался от безжалостного света ртутной лампы, поворачивался боком, перемещался по краю сцены, наконец остановился, прикрыл глаза, положил голову на плечо — казалось, заснул. Теперь его ничто не отвлекало, волшебные звуки музыки полились в зал. Сидя близ сцены, Громотков пристально следил за игрой скрипача, смычок плавно взлетал, обрушивая на публику каскад тонких печальных нот. Механик еле успевал следить за рукой: белая узкая кисть в обрамлении накрахмаленного манжета словно запаздывала в широком стремительном ритме мелодии, но тонкие сухие пальцы, бегающие по грифу, были так послушны, так выразительно точны, что казались живыми существами. Одухотворенная работа пальцев поразила его воображение больше всего остального. Позже, проходя по улице Челюскинцев, Громотков увидел скрипку в витрине музыкального магазина. Его любопытство было так велико, что он вошел и попросил продавщицу, смуглую, пухленькую девчонку, показать инструмент. Механик держал скрипку в руках осторожно, внимательно разглядывая лакированную поверхность, впервые в жизни касаясь ее руками; простой вид скрипки разочаровал его; он не мог поверить, что вот это все и есть. Но геометрическая точность линий, звонкость сухого дерева необычайно подействовали на него. Это было нечто большее, чем дерево, казалось, что такая форма имеет душу предмета; механик вскоре догадался практическим умом, что сила маленького инструмента не столько в объеме, сколько в устройстве воздушных полостей, в изгибах и пропорциях и в звуках самого дерева. Взяв в руки смычок, Громотков скользнул им легко по струнам, ожидая тонкого печального тона, который раньше слышал, но скрипка неприятно пискнула, вызвав оскомину на зубах. — Смычок надо помазать канифолью, тогда она заиграет, — сказала продавщица. Но Громотков ничего не понял из того, о чем она говорила, опробовал инструмент доступным себе способом — легко прищелкнул корявым ногтем по плавному изгибу спинки. Раздался сухой приятный звук. Громотков успел поднести инструмент близко к уху, шмелиное гудение еще продолжалось долго. В глазах молодой продавщицы появились удивление и испуг, темные раскосые глаза настороженно-внимательно следили за манипуляциями странного покупателя. — Хорошая скрипка, со Знаком качества! — Я понимаю, — нерешительно покачал головой механик. Девушка, видимо сбитая с толку неопределенностью ответа, спросила: — Завернуть? — Я не умею… — растерянно, с сожалением улыбнулся механик. — Жаль, скрипка весьма хорошая, выпущенная в середине квартала, — бесстрастно повторила продавщица.
— …Сте-па-но-вич! Обед простынет!! — прервала его мысли повариха Жанна грубоватым и сильным голосом, пристукнув дважды в приотворенную дверь. Громотков только хмыкнул в ответ, ему вовсе не хотелось есть, сам вид привычной пищи вызывал отвращение. Кроме того, желаемого отдыха не получилось. Думая так, он вдруг решился на рыбалку. Механик подошел к тумбочке и принялся разматывать стеклистую леску, ища в ней обрывы и изъяны. Смятая коробка «Казбека» была старой, обшарпанной по углам, черный глянец знаменитого всадника в разлетающейся бурке потерял первоначальный блеск. Рисунок был исколот острием крючка. Он давно искал новый материал, чтобы заменить коробку, — кусок пенопласта, куда бородка японского крючка входила бы мягко, но прочно. Громотков сел укромно на корме, среди разбитых ящиков, бухт каната, бесцветная нитка скользнула бесшумно в зеленоватую воду, зато коробка, трепеща, словно живая, прыгала по железной палубе. Он пытался разглядеть блеск крючка и красную тряпицу — приманку для рыбы, но в зеленоватой мутной толще ничего не было видно. Отвлекшись, Громотков стал разглядывать противоположный берег; на красной крыше сельсовета кто-то тюкал топориком, звук «тюк-тюк-тюк» долетал ослабленно; кроме того, северный ветер все крепчал, выцветший флаг на мачте держался почти горизонтально. Клева не было. Солнце продолжало слепить, однако по-северному грело плохо; утомившись от блеска, механик прикрыл глаза и незаметно для себя задремал. Вскоре он услышал голос жены: — Опять робу в угол поставил, ландскнехт проклятый, грязь в квартире разводишь, тридцать лет с тобой воюю, и все без толку. — Ну, Маш! Ну, довольно, ей-богу! Я устал. — Все вы одинаковые, черти — как что, так устал. А тут как юла: работа, дом, кухня. Это в вашем мужском государстве называется — эмансипация. Вам бы рожать научиться, полностью поменялись бы ролями. Куда это только правительство смотрит, барчуков из вас делает, в пятьдесят пять лет на пенсию! Сначала он хотел ответить миролюбиво, но, удивляясь ее неожиданной горячности, заговорил сурово: — Ну, Машенция, ты и даешь!!! Опупела, что ли?! Что люди-то за стенкой скажут?! — Ладно уж, — смягчилась жена. — Кабачки будешь есть?! Со сметаной? Механик спал, но отчетливо сознавал себя во сне. Слышал звук собственного голоса и раздраженный голос жены и видел отчетливо картинки сновидений, но все-таки это не было сном, работало воображение. Вдруг кто-то неожиданно тронул его плечо. — Маша, фу, как ты меня напугала! — Федор… Степанович… — А?! Что?! — Перед глазами цветастая юбка поварихи Жанны. — Мне показалось, что это мордоворот-боцман… — солгал механик. — Нет, боцман только подсказал, где вас найти, — ответила Жанна, — я и в каюте была, и в машине. Капитан с дедом давно поели, а вас нет. Я же вас звала… Теперь Громотков вспомнил хитроватые черные глазки боцмана и продолжал ругливо, но без чувства внутренней правоты: — Передай этому сорокоту, чтобы свои бебехи из машинного отделения убрал, а то их за борт побросаю. Он посмотрел на Жанну открыто: свет, ветер, прозрачный воздух сделали из нее то, что делает хороший скульптор из белой глины; казалось, внезапный порыв остановил ее движение — и так прекрасна и скульптурна стала ее фигура. Механик увлеченно смотрел ей в лицо и вдруг почувствовал, как сильно потянуло за руку. Забывшись, он бегло оглянулся: леска, намотанная на кисть, туго зазвенела. Механик до конца не верил в неожиданную удачу, несколько секунд сомневался, на то были причины, вспомнил, как однажды вытянул пустое ведро вместо рыбы — его парни, Мишо и Андрей, привязали к леске ведро, пока он дремал в ожидании клева. Но теперь сомневаться не приходилось: это была рыба, он чувствовал, как трепетное волнение из глубины, словно по тонкому нерву, передавалось ему в руку. Он стал быстро выбирать леску, острая боль от тяжести рыбы пронзила кисть, но Громотков не хотел думать о боли, внезапная молодцеватая радость проснулась в его сердце; широко расставив ноги, он суетливо тянул упиравшуюся рыбу, опущенные книзу локти горячо терлись о бок, тяжелые капли влаги ложились темными кругами на палубу, ярко вспыхнув на солнце во время короткого полета. В плененной рыбе проснулась упрямая сила жизни, леска упруго звенела в зеленоватой толще, стремительно скользила серебристая тень. Наконец рыба всплыла — метровая треска с могучей зубастой пастью и крупными темно-синими глазами. — Вот тебе, Жанна, и уха! Последнее достижение науки — ловля рыбы во сне… Молодая женщина восхищенно смотрела на трещину, прихлопывая от восторга ладонями, дотронулась до его плеча. Громоткову было приятно это доверчивое прикосновение. — Какая громадина! — воскликнула Жанна, удивляясь размытым очертаниям рыбы. Громотков подвел треску близко к борту и тремя размашистыми движениями вытащил ее на палубу, и здесь — живая и злобная — она казалась еще внушительнее. Ударяя хвостом и оскалив пасть, она билась на палубе, разбрасывая острые соленые брызги. Жанна испуганно отскочила. — Ого-го! — радостно и тонко взвизгнула она. Громотков подтащил рыбу к себе и, поймав момент, расплющил голову каблуком; раздался хруст и писк размолотых костей; бесформенная голова, неподвижно, обескровленная, лежала на палубе; только в хвосте конвульсивно билась жизнь. Жанна с ужасом глядела на старика, она никак не ожидала такого исхода, и то, что прежде думала о нем и знала, никак не вязалось с тем бессмысленным и жестоким, что увидела сейчас. — Возьми, теперь настоящая уха будет! — сказал механик и протянул ей рыбу, не глядя в глаза. — Только соли не жалей. Как вода закипит, ты ее брось, да лучок, да лаврушечку не забудь… Девушка все еще боялась протянуть руку, в неподвижных глазах Жанны стоял ужас от зрелища раздавленной трески. А Громотков молча разглядывал леску, рыба в момент борьбы перепутала ее, и механик с сожалением вытащил нож и полоснул по ней коротким взмахом, спихивая запутанный клубок в воду. — Дуй, Жанна! До горы!
Громотков по-птичьи разомкнул руки, снимая новую робу, надевая старую; голый, длиннорукий, стоя в синих трусах, смешно, торопливо прыгал на холодной палубе, от прохлады ежились пальцы; тяжелые бутсы надел быстро, без носков, и двинулся к корме парохода, осторожно проскальзывая по вощеному линолеуму, где в конце коридора была дверь в машинное отделение — тяжелая, на тонких скрипучих петлях. «Сколько прошу своих охламонов смазать, так нет же, некогда, один Жанкой занят по горло, другой от чтения свихнулся, на уме — одно: коммуникабельность, микроклимат… Раньше по двадцать человек на кухне ютились — вот микроклимат был! А теперь живого человека по лампочке встречают, где уж тут коммуникабельность!» Думая так, старый механик имел в виду «хитрое устройство»: лампочка в машинном отделении загоралась при открывании двери, заранее предупреждая о приходе кого-то. Механик знал об этом, но не сердился, иронизируя в душе над «примитивностью» изобретения. Но все же насупился, придавая лицу строгое недовольное выражение. Несмотря на внешнюю суровость, Громотков любил парней искренно и нежно и ничуть не изменился, когда узнал от стармеха, что Андрей и Мишо обманули его. Он искал оправдания ребятам не в черствости их души, а в молодости. Жалобный скрип двери был единственным звуком в мертвой тишине трюма. «Что они там, заснули?! Не шебаршат, черти!» — недовольно подумал механик. В машинном отделении не было обычного веселого гудения огня в топках, но стойкий запах мазута, горячего пара волнующе действовал на Громоткова. Он увидел Андрея издали, за пузатой бочкой котла под тусклым направленным светом. Старков работал, стоя у верстака, нанося размашистые удары бронзовым ручником. Большая косматая тень прыгала рядом по боковой переборке. Механик подошел близко, молодой помощник зажимал тиски, наваливаясь всем телом, затем ударил ручником по согнутой рукоятке. Глядя на коротко остриженный затылок Андрея, механик улыбнулся; он заметил, что у Старкова от лишнего усердия вспотела губа, которую тот то и дело облизывал. — Посторонись-ка, Андрюша! Где твой кореш?! — А, Степанович, — машинист повернулся, улыбнулся одними губами, оставаясь серьезным и сосредоточенным в деле. — Да Жанна умыкнула его. Пошли уху варить. — Хитро сощурил глаза. — Степанович, вы, говорят, Моби Дика поймали сегодня?! — Что еще такое?! — Да это мелвилловский белый кит, значит! — Ты, Андрюша, как думаешь, у них серьезно?! — У Мишки серьезно, а у Жанки — не знаю. Громотков осторожно спросил: — А ты, Андрюха, с Валентиной забросил? — А, разонравилась!!! — Вот те на! — Женщина — как галушка: кто выловит, тот и съест… — Ну ты, философ, — рассердился механик, — сам еще сосунок, а судишь как… Знаешь сколько прожить нужно, чтобы пришабриться друг к дружке? Вон ты клапана протираешь полдня, а тут жизнь… Громотков постоял еще немного, приглядывая за его работой, как вдруг оттолкнул его грубо, с внешне неприметной силой одним махом отвернул ручку, затем вложил красномедные прокладки в губы тисков и завернул их с той же сноровистой силой, зажал форсунку. Вся операция заняла несколько секунд. Андрей ошарашенно глядел на старика: «Экстра-класс!!!» — И вот еще что: ручку с молотком не заноси за голову — лишняя работа, понял?! Ты какой институт кончал? — Московский областной, истфак, свободный диплом, — горделиво выпячивая грудь, отчеканил Андрей. Веселые рыжие веснушки прыгали на кончике носа. — Лоботряс ты, а не истфак, — вдруг спокойно сказал механик. — Федор Степанович! Отчего же так?! — смешался Андрей, не понимая внезапной перемены настроения старика. — Кто же ручником по форсункам бьет, ты лучше по головушке своей бестолковой. — Потом вспомнил слово и с раздражением повторил: — Свободный?! От чего свободный-то: от школы, от воспитания детей, от благородного дела? Может, государство хотело из тебя второго Сухомлинского сделать, а ты по трюмам лазишь со своим высшим, как крот, женщин ни за что осуждаешь, дурацкие лампочки придумываешь! — Да это не я, это Мишка… Механик скривил презрительно рот и сочувственно покачал головой: — А ты что же, и придумать уже не можешь? Поглупел? Ну вот что! Кончай мухам дули крутить! — И он быстро взял ломик, подковырнул крышку котла, обрушив ее с грохотом на железные плиты, и той же бледной тонкой рукой показал в направлении темного узкого лаза: — Полезай, трубки от нагара чистить будешь… Я тебе покажу свободный! Потом повернулся спиной и, так же решительный и уверенный, принялся звонить на мостик, однако, не слушая трубку, все еще продолжал недовольно кричать: — Да клапан нижнего продувания проверь, а то из тебя самого вареный Моби Дик получится! — У нас, Степанович, рабочему человеку почет и уважение, а раз так, то я не опустился, а, наоборот, поднялся до него, — запоздало пробурчал Андрей. — Может, я в народники подался. А вашей старой лайбе все равно каюк, на Зеленый мыс уволокут, а там на иголки разрежут, на пенсион. — Что?! — грозно повернулся Громотков. — Так ты еще здесь, мелюзга? — И с неожиданной силой тычком в шею прогнал парня. — Лезу, лезу! — смеясь, крикнул машинист, добровольно подставляя под удар шею. — Ста-рик «Дер-жа-вин» нас, как говорится… три ха-ха-ха… В узком душном поддоне Андрей ворочался неловко, вначале он двигался осторожно, превозмогая отвращение: за шиворот падали комочки маслянистой сажи, выступающее железо водогрейных трубок больно давило бок и грудь. Свет переноски тускло освещал черные ряды трубок, уходящих вдаль. Трудно дышалось. За бравадой Андрей скрывал душевную тяжесть, и он с облегчением спрятался сюда, отгородившись от внешнего мира глухоманью стальных перегородок; все время вспоминалась последняя встреча с Валентиной. Сначала он вовсе не хотел думать об этом, отвлекаясь работой, но упрямая обида съезжала на прежние мысли.
…Мурмашинский автобус, казалось, двигался шагом, отдушливо хрипел, везя добрую сотню пассажиров, и, словно резиновый, вбирал все новые и новые порции желающих, так что после трех остановок стало в автобусе душно. Веселый парень-балагур смешил всех: — Выдохните все одновременно! И не дышать! Займем образовавшиеся пустоты… Пассажиры смеялись. Валя тонким розоватым пальцем вывела рожицу на запотевшем стекле, но струйка влаги вскоре смазала изображение. Андрей и Валя стояли молча, не находя слов, плотно прижавшись друг к другу, ее густые синие — подкрашенные — ресницы касались его щеки, Андрей чувствовал близость ее теплого дыхания, запах волос. Перед крутым извилистым подъемом у железнодорожного переезда автобус долго стоял, урча выхлопными газами. Валентина повела в сторону сморщенным носиком, — въедливый газ проникал в автобусный салон. Андрей поспешил открыть окно, и, внезапно лязгая железом, все оглушая, из-за поворота резво вынеслась электричка, в широких окнах запестрели лица, косынки, кепки, дождевики, корзины, телогрейки — все это стремительно летело за город, в сторону Кильдинстроя, Магнетитов, в разгар грибных сборов.
…Андрей прекратил работать, выключил свет, протянул в темноте руку и на ощупь впереди себя положил шкрябку; та глухо и печально звякнула, и звук этот тоскливо отдался в сердце Андрея. Он пытался вспомнить, кто первый начал игру словами. Особого значения для него это обстоятельство не имело, однако Андрею было бы приятно, если бы инициатором игры оказалась Валентина, хотя он твердо знал, что это было не так. — Раньше на селе были только доярки, а по радио слышу — дояр. А недавно новое услышал: оператор доильной установки — ОДУ. Глядишь, и корову назовут ЖМУ — живая молочная установка — или еще ЖМУ-2/4 — два рога, четыре копыта. — А если однорогая? — Гм… ЖМУ-1/4… А дояр — машинист э-э-ээ… шестисиськовой ЖМУ… — Дурак, сосковой?.. — Можно и по принципу рук, — говорил Андрей, теряя интерес к игре, но продолжая изобретать замысловатый ход. — Андрюха, ну до чего ты темный, у нас давно машинное доение, мы первое место в области по надою держим, три тысячи девятьсот на корову — это не шутка; впрочем, доят, конечно, вернее — раздаивают, коровку руками, чтобы молочка больше давала, двумя руками. — Тогда так: если двумя — Виртуоз-2. А если одной — Виртуоз-1. — Не трепись. — Ты неправильно меня поняла… не бельмеса не поняла. — Ох, Андрюшка, я такая счастливая… А что такое бельмес?! — Единица интеллектуальности. …Лежа в душной топке, Андрей пережил это вновь. Методически, раз за разом он срезал густой жирный нагар сажи, и вскоре однообразные движения заставили Андрея забыть все, кроме самого процесса — скобления железа о железо, ритмичного движения рук. Подвигаясь вперед, он шуровал где ломиком, а где шкрябкой. Соленый пот горячо застил глаза. Разогревшись работой — этим спасительным средством, Андрей перестал думать о Валентине. Он слышал сквозь резонирующий шум шкрябки, как механик дважды подходил к нему, но не отвлекал от дела. Наконец Громотков не выдержал, подошел в третий раз и постучал ручником по торчащим ботинкам, давая сигнал об окончании дела, но Андрей либо не слышал, либо не хотел отвечать. Тогда Громотков близко наклонился к торчащим ногам и, будто обращаясь к ним, прокричал: — Андре-э-эй! Механик остыл и теперь стыдился невольного взрыва, но все-таки не хотел первым идти на мировую, чтобы не испортить парня добрым отношением. Андрей продолжал молчать. Механик засветил переносной поддон, выхватил желтым пучком света темное от копоти лицо Старкова, белые зубы, обнаженные в беззвучном смехе. — Вылазь, Андрюха! — He-а! Мало ли что вам в голову придет. Может, вы ремнем стегать начнете, откуда я знаю! — Вылезай, не буду! — серьезно сказал механик. — А то за ноги вытащу. Он действительно схватил его за ботинки, но парень суматошно застучал ногами. Тогда механик схватил молоток и несколько раз ударил по каблукам, подбитым шурупами. Андрей дрыгнул ногами, сгибаясь в коленях, как гусеница, и, хохоча, вылез из поддона, затем устало сел, закрывая спиной черное отверстие. — Ну вот, теперь шабаш! Уф, заморился! Степанович, кто это к нам пожаловал? — сказал Андрей, вскидывая взгляд вверх. — От баламут, ну все видит, — сердито и любовно заметил механик. Вверху ржаво скрипнула дверь, затем дробно прозвенели ступени трапа. Наконец показался конус цветастой юбки Жанны, а рядом пузырями — брюки Мишо. — Уже полтретьего, а вы еще не ели. Две горки посуды, одна над другой, возвышались в полных Жанниных руках. Жанна спускалась осторожно, напряженно, боясь оступиться. Красивое лицо девушки, блестящие лукавые глаза говорили: я молода, стройна, хороша собой, мне приятно делать людям добро; но в то же время — выражало растерянность: ей было неловко делать то, что она делала, — на узких крутых трапах было скользко, тесно среди непонятного переплетения труб, нагромождения металла и механизмов… Смешение различных переживаний отразилось в ее нерешительном взгляде. — Ой, как у вас тут грязно и душно, — сказала она и сморщила красивый тонкий нос. — Как вы советовали, так и сделала: с перцем и луком, — обратилась она к Громоткову. — Вкусно — ужас! Попробуйте! Из открытой миски потянуло ароматом ухи. — Куда положить? — спросила Жанна, обращаясь к Громоткову. Мишо стоял позади Жанны, ничего не делал, чтобы помочь, только нежно глядел ей в затылок грустными темно-синими глазами. Андрей хитро улыбнулся и подтолкнул локтем механика. — А мы только что пирожки ели! — смущенно сказала Жанна. — Дай брюхо полизать! — сурово и жадно, вращая белками, надвинулся Андрей. «Вот этот бы живо окрутил», — подумал Громотков и оттого особенно участливо обратился к молчаливо стоящему товарищу: — Мишка, подмогни женщине! Чего стоишь бестолково? Тот кинулся к Жанне, внося излишнюю суматоху. — Да ставь на верстак! Не мельтеши! — приказал Громотков, решительным жестом прерывая заполошенные движения молодого помощника. — Тут же у вас машинное масло! — с сожалением в голосе сказала Жанна. — Ничего, от машинного масла еще никто не умирал, оно чище, чем кукурузное. Протерев ветошью руки, Андрей и механик жадно накинулись на еду, скребуче задевая алюминиевыми ложками о донышко миски. Ели с видимым удовольствием, причмокивая и присвистывая. Большая луковица солидно плавала в середине миски и мешала обоим, Андрей подхватил ее ложкой и хотел было выплеснуть в бачок для ветоши, уже занес руку… — Ты куда, охламон? — воскликнул Громотков. — А что, разве можно ее есть? Скользкую, вареную?! Бр-р-р… — Давай сюда! — Громотков взял луковицу за бледно-зеленый отросток, запрокинул голову и опустил целиком в рот. — Ой, жутко, Степанович! — состроил гримасу Андрей. — Вы ее как устрицу проглотили. Пищит, а лезет… У меня, правда, Верка — сестра — тоже любит! — Значит, твоя Верка — человек, Андрюха! А ты покудова — молекула! Как научишься есть, тогда и человеком станешь. Понял? Ох и хороша пиш-ш-ш-а-а-а! — с восторгом протянул механик, вытирая по-хозяйски ложку о внутреннюю сторону спецовки. — А на второе у нас что? — Макароны по-флотски! — живо подключился Мишо. — Вот это молодец, Михайло! Спасибо, друг! — сказал Андрей. — А как их есть? — спросил он Жанну, наклоняясь к ее красивому лицу. — Что значит — как? — спросила она. — Ну, вдоль или поперек? Вдоль — похудеешь, а поперек — поправишься… Так как? — Ладно, Андрюха, не трепись, остывает, бери черпак и шамай свои ламинарии с мясом, — вроде бы строго напустился механик. — А вы, Степанович, тоже хороши, малолетку обижали, не стыдно?! Пока я тут беседую с прекрасным полом, вы, я вижу, половину миски ухнули. — И тут же шутовски накинулся на еду: — Вперед, молодежь, принимай пищевую эстафету от наставников! — И он стал смешно и быстро сгребать ложкой макароны к себе, спешно отправляя их в рот, отчего щеки округлились. — Тьфу! Не дал нормально поесть, — бросая ложку, в сердцах сказал механик. — И все это из-за тебя, Жанна, кровь в парне гудит, прыщи повылазили… — Фу, набузовался, еле Степановича на финише обогнал. Ну вы и здоровы есть! Жанночка! А на третье — поцелуй?! Он потянулся вверх руками и, хрустя всеми косточками, пропел: — Люблю я девок рыжих, нахальных и бесстыжих! Затем плечом подтолкнул смущенного приятеля, но тот стоял молча, насупившись, не зная, как поступить дальше: рассердиться или нет. Ревнуя Жанну, Мишо понимал, что ведет себя глупо, но ничего поделать не мог: обычно подвижный, живой ум его в присутствии Жанны цепенел; казалось, Мишо был доволен ролью безвольного человека. Но по тому, как раскраснелось лицо молодой женщины, каким простым и милым стало оно, Мишо понял, что был не прав. Он не знал, за что конкретно любит Жанну: за голос, лицо или фигуру; ему нравилось все: и запах волос этой женщины, и звук голоса, — все то, что составляло ее привлекательность. — А ты что же, Мишк, сачкуешь сегодня? Вон две форсунки почисть, пока мы с Андрюшкой насосом займемся. Жанна, сложив стопку мисок и прижав их к груди, поднималась по трапу, бросая смущенные взгляды на вздорного механика. Андрей молча, лукаво смеялся и тихо напевал: «Ах, зачем эта ночь так была хороша?!» — Ну и дуралей же ты, Андрюха! — А умных людей нету, Михаил Степанович! — Ну да!! Вот огорошил! — Точно, Степанович! Что мы видим чаще? Характер человека. И через его поступки: смелые, легкомысленные, вежливые, добрые, честные — судим о людях и ум почти никогда не принимаем в расчет… — Вот за что я тебя люблю, Андрюха, — за ум-ней-шие суждения. А ты, часом, значок такой не забыл? — Ну, точка… — А это?! — Ну, запятая… — А все вместе, без «ну»? — допытывался механик. — Ну, знаки препинания, в предложениях несут смысловую нагрузку… — Во, Андрюха, смы-сло-вую, а ты чешешь бессмыслицу, так нельзя. Ум — это дар… предвидения и, конечно, не сразу, но по совокупности поступков определить можно. Ладно, Андрей, иди! — и он подтолкнул машиниста в спину к насосу, окрашенному серебрином. Механик машинально оперся руками о крышку парового котла, но отдернул руки и смешно затряс ими в воздухе — обжегся. Вскоре задумался, пытаясь мысленным взором проникнуть за чугунную преграду кожуха, где, всего вероятней, неисправность, где взаимодействуют две противоборствующие силы: железо и пар. Круглыми ключами — «звездочками» они с трудом отдали верхние прикипевшие гайки подводящего трубопровода; когда сняли фланец — предстал весь внутренний механизм, непонятный для Андрея: поршни, отверстия, штоки. И все это — кирпичного цвета от горячего пара, кроме тускло-свинцовых стенок цилиндра, блестевших в глубине; то, что раньше было работающим механизмом, теперь предстало мертво, однако вполне разумно, чтобы обеспечить подачу воды в котел. — Заточи конец рашпиля и острием поковыряй здесь и здесь, — механик ткнул крупным синеватым ногтем и переспросил: — Понял?! — Ума не надо! — вместо ответа нахально буркнул Андрей. Старков долго возился у наждака, затачивая рашпиль, то включал его, доводя до высокого визжащего тона, то выключал в короткие минуты отдыха. Механик же взял в руки белый квадратный асбестовый шнур, обрезал его наискосок специальным ножом из ножовочного полотна, срастил оба конца, подгоняя один к другому. Затем густо смазал шнур мерцающим графитовым порошком, слабо разведенным в машинном масле, и еще держал его против света, придирчиво проверял место среза, чтобы в плотное соединение не прорвался могучий пар. Громотков автоматически приглаживал толстым пальцем косой срез, не доверяя даже глазам. — Степанович, нашел! — заорал Андрей. — Господи, ошпаренный! Чего орешь?! — Нашел, Степанович! Где пар тормозится, там, оказывается, кусочек асбеста забился, каменный стал. Может, оборвался и прикипел в глубине золотника, еле отодрал. Вот отчего и ору, — смеясь, с гордостью, торжественно добавил Андрей. — И вовсе я не ошпаренный, а, говоря по-русски, чокнутый, — объяснил он еще. — Ну вот видишь, Андрюха, а ты говоришь — ума не надо! Нет, мой дорогой, надо! Ох как надо!! Вверху вновь скрипнула дверь, и вскоре спустился стармех, он что-то издали кричал, но слов разобрать было нельзя: шумел вентилятор. — Погодь, Мишо! Не калахти! Слушаю вас, Эдуард Эдуардович! — Вот что, четвертый, стоянка трое суток, циклон от норд-оста идет, девять баллов! — И прибавил: — С Карского моря прет… Заканчивайте свою работу, фановую систему надо прокачать, в гальюнах вода на правом борту поднимается. — Вот так всегда, — недовольно сказал Андрей, бросая на плиты гаечный ключ, — не успеешь одну работу закончить, как начинай другую. Система 2Д — 2П — давай-давай, потом посмотрим! — Старков, честное слово, спишу по приходе в Мурманск. — Пролетарию терять нечего… — Еще разберемся по поводу вашего обмана. Нам ясно, кто вас покрывает! — Вы что-то во множественном числе о себе заговорили… Теперь видите, Степанович! — обращаясь к механику, сказал Андрей. — Ну что — видите? Ну что? что? — злобно, как мальчишка, тонким голосом закричал стармех, неприятно покалывая Андрея белесыми глазами. Его правильные черты изменились, лицо стало некрасивым, покрылось мелкими красными пятнами. — Мы еще, Старков, потолкуем. — И, возмущенно подняв плечи, выражая тем крайнюю степень негодования и возмущения, засеменил вверх по трапу. Но в середине его остановился. — Старков, вы помните анекдот, как начальник составлял инструкцию: параграф первый — начальник всегда прав; параграф второй — если начальник не прав, смотри параграф первый? Не забывайте этого… Раздувая пузырем щеки, Андрей протрубил на все помещение, согнул руку, затем злобно показал кулак и, все еще в запале негодования, продолжал кривляться. — Ты что это, Андрюха, неприветливый сегодня? А? — намеренно спокойно спросил Громотков. — О! Опять эти разговорчики! Мораль! Уважать надо! А я говорю: не надо! Понятно?! — Его щеки снова налились густой краской. — Вернее, надо! Но кого и за что — тоже ведь не пустячный вопрос. Это не место в троллейбусе уступить, а принципиальный разговор… — Андрей потрогал пальцами лоб, поперхнулся. — Он подлец. Понимаете?! О своих похождениях за кордоном хвалился нам. У него психология: если человек не пьет, значит — подозрительный. Понимаете?! По должности он — стармех, а морально — подлец, бабник, развратник, бахвал, лгун… Послушайте, как он говорит о женщинах! После него хочется в баню, отмыться, словно в помойке побывал. Посмотрите на его окружение. Все кореша — собутыльники, и все они — у него в кармане. Семгу таскал из Дальних Зеленцов. Думает, мы пешки, ничего не видим. — Он сломал рыжие брови и презрительно засмеялся. — Сивуха, вот сила: умного сделает дураком, дурака — веселым, веселого — глупым, она сильнее закона, морали, общества. Может не хватать одного-другого, самого необходимого, но уж водка — всегда и везде, в самом заброшенном уголке с ней перебоев нет. В достижении иной цели ты загубишь здоровье, измотаешь силы, надорвешь сердце — и ни фига не добьешься. И, наоборот, дело твое исправится, пойдет на лад, карьера обеспечена, везде тебя ждет успех — словом, все, что не будет сделано по чести, совести, будет исполнено при ее могущественном участии. Да здравствует сивуха! Универсальнейшее средство общения людей! И обделывания всяческих делишек! «Эк его заносит! — подумал механик. — Но надо признать: у молодежи ум прочный, не то что у нас, стариков, — тут и логика, и мышление…» Громотков верно угадал направление Андреевых мыслей; он стоял, притулясь спиной к острым рычагам судового телефона. Не изменил он положения тела и после того, как под лопаткой засаднила боль. Вся ясность и чистота сегодняшнего дня — исчезли, незнакомая прежде леность мыслей и чувств отгородила его от всего близкого, привычного: насоса, теплого ящика, котла. И только тупая сосредоточенность сохранялась в глазах, устремленных в невидимую даль, через воображаемое пространство предметов: фотографию сына на стене и рукоятки форсунки. А дальше, у кажущегося горизонта, чернело квадратное пятно, и это уже был подлинный обман зрения, потому что пятно было открытой дверью в чужой отсек, где свет был погашен… Он не стремился думать о чем-то реальном, кроме своей усталости и тяжести на душе, не отошел от телефона даже тогда, когда физическая боль стала нестерпимой и острой; она, эта боль, теперь возвращала его сознание к реальности, к тому, что было знакомо и привычно. Он стал догадываться о причине недовольства, может быть впервые почувствовал себя стариком, но лишь умом, чувством же упорно сопротивлялся. «Разве мой ум, сердце, почки, легкие требуют замены или ремонта?! Дело не просто в физической силе, биологии, одряхлении, лености мыслей. Вернее, дело и в этом тоже, но еще — и в реакции мысли, в умении реагировать на подлость, в отсутствии фальши, угодничества, горького опыта жизни. Как многое тут зависит от простого случая! Можешь ввергнуться в любую историю, искалечить жизнь, и наоборот — стать энергичным парнем… Пока ты молод, — подумал Громотков, — без умного, толкового человека не обойтись, пойди разберись, где плюс, где минус…» О своих парнях он думал хорошо, с любовью, словно это были его собственные дети. «Сколько было бы теперь Василию? — в который раз спрашивал он себя. — Двадцать семь или тридцать?! Нет: восемнадцать плюс три — служба на флоте, затем — шесть институт, итого двадцать семь». В разные годы жизни Громотков вспоминал сына по-разному: то малышом, когда видел детишек в саду, что было привычно — Васек умер трех лет от роду; то постарше — при взгляде на взрослых парней, как Андрей и Мишо. Первые годы супружества Громотков и Машута жили в «деревяшке» в конце улицы Карла Либкнехта. Скособоченный домишко о двух комнатах — наследство жены — достался ей после отъезда в Щекино родителей, отца Порфирия и матери Елизаветы, на заслуженный отдых. Холодный щитовой дом был памятен не убогостью быта, а тем, что всего дороже человеку, — чистотой и свежестью чувства, нетерпеливым ожиданием счастья, рождением первенца… Неподалеку, на скрещении трех кривых улочек, стоял городской родильный дом, где практиковал известный мурманчанам, особенно женщинам, акушер Марк Иванович. Молодые мореманы, счастливые отцы семейств, отмечали рождение первенца поблизости, в торгмортрансовской пивнушке. Пили за новорожденных, разумеется — за флот, не забывали и благодетеля — Марка Ивановича. Его популярность в Мурманске была так велика, что все женщины, немного суеверные, стремились рожать у Марка Ивановича. В память о человеке, принявшем на руки сотни жизней, торгмортрансовскую забегаловку, а впоследствии и продовольственный магазин единодушно окрестили «Марк Иванычем». Громотков с особенной ясностью представил, как купали Васятку в холодной кухне, беспокойство тещи, ее стариковские причуды, когда она в большом верблюжьем платке, похожая на крупную серую кошку, наклонялась над цинковой ванночкой, где в клубах пара лежало крохотное тельце внука, и слизывала его мягкую грудочку языком — так, по мнению тещи, полагалось, — затем шептала в розовое ушко только ей ведомую заумь. Громотков припомнил нежный треугольник рта сына, чистое и безгрешное его дыхание. Первой ночью он сам, втайне от жены, прокравшись в темноте к кроватке сына, уже современным способом, методом телепатии пытался достичь того же результата, что и безграмотная мать Елизавета, по-своему наставляя его на счастливое будущее. Но ничего не помогло… Федор Степанович вспомнил и ту жуткую ночь, красное непослушное одеяло, свисающий угол которого мешал протиснуться в узкую дверь. Сама мысль, что он заденет дверью горящее в смертельной агонии хрупкое тельце ребенка, показалась Громоткову невыносимой. Он все-таки повернулся боком, шаркнул спиной по тонкой, звенящей от мороза деревянной створке. Теперь механик вспомнил и жалобный стон промерзшего дерева, и глубокую ранку на кисти, поцарапанную торчащим в двери гвоздем, — рука долго не заживала, а след от гвоздя остался до сих пор: бледный рубец. Преодолевая тот узкий проход, он осознал страшное — сын умирает… Он бежал в больницу, а навстречу, забивая рот, глаза, нос, уши, все текла и текла белая слепая метель…
На «Державине» угомонились после того, как начальник рации Филипп Волобуев заступил на вахту по-щекински: вместо недостающего четвертого штурмана. Филипп Волобуев — эпикуреец, меломан, любитель джаза, наконец, переключил трансляцию музыки на канал «Маяка», и тот шестью сигналами пропикал двадцать три ноль-ноль… В мужских компаниях Филипп Волобуев слыл за своего парнягу, как все, любил выпить, стыдился искренности, считал это признаком глупости. Волобуев не представлял жизни без женщин, легко впутывался в любовные интриги, отношения с женщинами строил одинаково: просто, грубо и цинично. К семейной жизни не был приспособлен, детьми не занимался, часто был скучен, сердит на жену и, как это ни странно, — ревнив. Две девушки-уборщицы драили палубу верхнего коридора; одна — высокая, немолодая Клава — тупо водила шваброй по линолеуму и разливала пахучий пенистый раствор, вторая же — Тоня, полная и с пышными белыми волосами — о чем-то быстро рассказывала и следом за Клавой протирала разлитую воду пеньковым квачем, хорошо вбирающим влагу, затем отжимала ее сильными покрасневшими руками в эмалированное ведро. По взгляду и задумчивой позе Филиппа Волобуева казалось, что он сосредоточен на чем-то глубоком и важном или, по крайней мере, следит за работой девчат. В действительности же ни то, ни другое: вид женщин породил мысль о смазливой татарочке Розе, которую он приметил сразу, придя на пароход. Самигулина Роза нравилась ему непривычной, диковатой красотой лица, вишневыми зрачками, тонкой гибкой фигурой. Он надеялся встретить ее одну, оправил одежду, при мысли о Розе радостное предчувствие душно толкнуло его в грудь. В Мурманске Волобуева ждали жена и трое детей, но те были далеко; кроме того, супружество навсегда оставило оскомину семейных дрязг и скандалов. Жена Волобуева, некогда круглолицая, симпатичная русская женщина, в супружестве потускнела, не работала, полнела, была равнодушна к мужу и выглядела старше своих тридцати трех лет, в то время как Роза была рядом, лет на десять моложе, казалась хрупкой и беззащитной. …Филипп Волобуев, с сине-белой повязкой вахтенного, дважды по распоряжению старпома обошел судно. Он любил эти минуты вечерней службы, атмосферу тишины и спокойствия, почти безделья, не за самую работу, а за исключительное право распоряжаться всем. Подойдя к дежурке, где обычно сидит коридорная, Волобуев неприятно удивился, увидев Розу и четверку патлатых парней — стройотрядовцев, пристроившихся к стеклянной перегородке, в ядовито-зеленых куртках, с яркими нашивками на рукавах и на спине. Неожиданно теряющийся среди веселья, Волобуев решил не задевать молодых парней, боясь опростоволоситься перед Розой. Он строго, но лишь для вида погрозил пальцем: — Ро-о-за!!! Произошла мгновенная заминка, парни переглянулись и вновь возбужденно зашумели: — Спасибо, гражданин начальник, а мы и не догадывались… Ничего не понимающий Волобуев стоял и глупо молчал. Молодежь более не обращалась к нему, продолжая по-дружески разговаривать с Розой; особенно отличался светлоглазый парень. Его прямые волосы по-модному налезали на воротник куртки. Парень не был красив лицом, но все-таки в нем чувствовались зрелость и сила. Особенно были хороши глаза — ярко-ярко-синие. Девушка то и дело краснела. Волобуев каким-то образом почувствовал, что она тоже выделяла этого парня, впрочем почти незаметно. — Роза, выходите с нами в Дальних Зеленцах вместе, финские домики будем строить для биологического института… Поехали?! Но Роза серьезно поправляла: — Во-первых, на пароходах не ездят, а ходят, — смуглое матовое лицо ее вновь зарделось, — а во-вторых, мы пойдем дальше. Удаляясь, Волобуев невольно прислушивался к их разговору. В другой раз он прошел бы мимо, но тут примешались оскорбленное самолюбие, обида на Розу и досада на студентов, наконец злость на самого себя — что оказался посмешищем в глазах парней и Розы. Он вскоре вернулся; теперь выражение строгости и решимости окончательно созрело в его лице. Невольно волнуясь и торопясь, громче, чем обычно, прокричал студентам, чтобы те разошлись, но многомудрые студенты, видя солдафона и бросая ему вызов, медленно, нехотя засобирались и все же, уходя, продолжали дразнить его, попрощавшись вежливо: — До скорого свидания, гражданин начальник… После ухода студентов Волобуев некоторое время стоял молча, переминаясь с ноги на ногу и не зная, как сразу от официального тона перейти на дружеский, непринужденный. Спросил, слегка запинаясь: — Ррр-Роза! Что ддд-делаете после вахты? Ответила легко, беззаботно, поерзав в кресле и подвернув для большего удобства ноги: — Еще не знаю, Филипп Матвеевич. — Как — не знаю? — шутливо вращая глазами, заговорил Волобуев, приближаясь к ней. — Неужели спать пойдете в такую-то ночь!! — И, перескакивая на дружеский тон, решительно добавил: — Пойдем английский джаз слушать? Впереди ого-го времени, трое суток! Не веришь?! Серьезно, штормяга движется с Карского моря — «Державин» не выгребет… Говоря все это громко, на подъеме, он открыл стеклянную дверь и, уже войдя, будто невзначай, положил на плечо Розы руку, чувствуя под пальцами теплоту и нежность ее кожи. Задержал руку дольше обычного. Тогда Роза, очевидно почувствовав неладное, резко отстранилась. Волобуев, слегка похлопав ее по плечу, как успокаивают похлопыванием норовистую лошадь, все же понял, что так продолжаться не может, поэтому до времени бросил свои намерения, однако лихорадочно соображал в уме, что означает ее движение — неопытность или кокетство? Вдруг внезапная решимость заблестела в его глазах. Роза успела перехватить его напряженный взгляд. Сжавшись в кресле и став маленькой, она беспомощно, по-птичьи завертела головой, ища откуда-нибудь помощи. — Нет, нет, Филипп… Что вы… нель-зя… Вначале Волобуеву ничего не хотелось, он решил пококетничать с молодой симпатичной женщиной, но именно это беспомощное, обращенное в сторону лицо что-то перевернуло внутри него, толкнуло на решимость. Неожиданно придвинувшись вплотную и касаясь ее круглых колен, он потянулся к ней руками. Роза попыталась вскочить, но этого не получилось, она попала к нему в руки. Обжигая Розу ледяными руками, Волобуев грубо тискал девушку, но Роза молча, тяжело дыша, сопротивлялась, изворачивалась, как дикая кошка, отталкивала от себя покрасневшее лицо и влажные губы. Он уже сопел над ее ухом, от Волобуева несло запахом нечистого белья. — Да что же это?! — в бессилии и злости возмущалась она, вырываясь из его пухлыхрук. — Помогите же, кто-нибудь! — крикнула Роза. Волобуев не ожидал такого поворота. — Ты что, шуток не понимаешь? — зло прошипел ей на ухо, сильно сдавливая плечо. Он пытался обманом завладеть ею: усыпить бдительность и одержать хотя бы маленькую, но победу. — Да отпустите же, наконец… это какой-то кошмар! — Роза ударила его по лицу неожиданно высвободившейся рукой, слезы застилали глаза. — Господи! Какой дурак! Вдруг осознав всю бесполезность своих попыток, Волобуев сразу потерял интерес к Розе, но все еще продолжал удерживать ее, чуть ослабив объятия. Почувствовав передышку, Роза вырвалась, и Волобуев, влекомый силой, чтобы не упасть, схватился за край стола. Взыграло самолюбие, и ослепленное сознание не нашло другого решения — он стал выкручивать Розе руку. — Не ты первая, не ты последняя, — обнажая мелкие зубы, прошептал он. Но уже охладел, мучился, совестился и корил себя за глупость, ища достойный выход из создавшегося положения. Теперь его единственным желанием было поскорее все кончить миром, и это желание было так велико, что на лице обозначилось недоумение, словно не он был причиной того, что случилось. «Зачем все это?..» — подумал он. — Подлец! — уже не сдерживаясь, крикнула Роза. — Подлец! — Тише! — Подлец! Подлец! — повторяла она резко, вкладывая в слова всю силу презрения. Он услышал, наконец, то, чего больше всего боялся: посторонний шум. Не успев что-либо сообразить, он почувствовал, как чья-то сухая жесткая рука дернула его за плечо, развернула, и он получил короткий сильный удар в лицо. — Механик! Степанович! — крикнула Роза, забыв на секунду имя человека, пришедшего ей на помощь. Волобуев схватился руками за лицо, ошалело кинулся прочь через открытую дверь по коридору — так стремительно, что Громотков и Роза, стоящие друг подле друга, неожиданно засмеялись. — Здорово вы его, дяденька! — В стороне, тяжело дыша, стоял синеглазый студент. — Жаль, что я не успел, но все равно хорошо! В толстую физиомордию его… — А тебе чего надо? — воинственно спросил механик. — Ого-го-го! — комически закрываясь рукой и делая доверительные жесты Розе, сказал студент. Остывая от возбуждения, механик догадался о причине появления студента. Он улыбнулся, поднял с полу форменную фуражку Волобуева и, взяв ее за козырек, пустил вдогонку хозяину по длинному коридору.
Сердце старого механика, получившее добрую порцию адреналина, гулко толкалось в груди. Недавняя схватка разгорячила тело и мозг, неожиданно проснулся голод, отчаянно захотелось есть. Громотков опустился в каюту, вспоминая, что там в плетеной хлебнице лежали старые, подсоленные ржаные сухари. Механик обедал на скорую руку, но, как ему показалось, плотно; на самом деле кроме миски ухи ничего не ел, а от ужина и вовсе отказался — тогда не хотелось. Грызть перед сном сухари его приучила Машута, беспокоясь, чтобы муж не ложился спать голодным. Он уже предвкушал их кисловатый привкус, вспоминая обычный, оглушающий грохот в голове от разгрызаемых сухарей. Но, к своему удивлению, сухарей не нашел и теперь вспомнил, улыбнувшись внезапной забывчивости, что недавно выбросил их в иллюминатор по просьбе судового лекаря — на «Державине» катастрофически плодились тараканы. Не зная, чем заняться, он зажег свет, несколько минут полежал спокойно, не думая ни о чем, невольно прислушиваясь к монотонным звукам, из которых состоит тишина, — шуму ветра и плеску волн. Он пытался заснуть, лежал смежив веки, но смутное беспокойство мешало. Желая отвлечься, начал рассматривать иллюминатор, словно видел его впервые. Укрытый простыней, Громотков ощущал прохладу: сквозняк двигался извилистыми путями — пустынными коридорами, трапами, переходами, проникая в каюту, и выходил через дыхало — иллюминатор. Шторки то бесшумно втягивались, пузырились, то безвольно опадали. Громоткову наскучило лежать, он встал, раздернул с шумом синие шторки, закурил, свесив босые ноги, слегка прикасаясь пятками к холодной эмали рундука, кожа щекотно зудела. Он чиркнул спичку, несколько раз пыхнул папиросой. Колеблющееся пламя неторопливо приближалось к пожелтевшему от курева ногтю, но механик не бросил спичку, злостью и упрямством превозмогая боль. Зачем — он даже себе объяснить не сумел бы; ему казалось, что терпение и боль и есть тот высший смысл, через который должен пройти каждый. Но руку все же отдернул, затряс ею в воздухе, долго дул на обожженные пальцы. В небесах над Териберкой, нарушая привычный порядок, светили одновременно луна и солнце. Луна виднелась в иллюминатор желтой, похожей на кусок старого сала. Громотков видел ее не всю, только часть круга. Механик прицелился по-мальчишечьи, правым глазом, как делают это стрелки, даже прищелкнул от удовольствия языком, но звук получился глухой, сквозь щербатый рот. Громотков стал внимательно изучать ночное светило, пытаясь уловить таинственную силу, которая, как он верил, исходит от луны. Но кроме света и того внешнего, круглого и плоского, что сообщала ему луна, ничего не увидел. «Раньше хоть лунатики были, — подумал Громотков с грустью о том невозвратном прошлом. — Все же загадка природы, а когда есть загадка, интереснее жить». — …А ты любила? Вопрос возник так неожиданно и близко, что сразу Громотков не понял, кому он адресован, но вскоре выяснилось. — Ну, целовалась, целовалась, в четвертом классе… Фу, черт ревнивый… «А вот и лунатики, — добродушно улыбнулся Громотков, услышав голоса Мишо и Жанны. — Хорошо, что наука до любви не добралась, а то совсем хана…» Стало тихо. «Целуются, черти», — подумал механик. Вскоре послышались возня, смех. — Ой, Миша! У тебя губы соленые! Ма-цо-ня мой! Соле-нень-кий! — дразнила Жанна. — Да тише ты, Степановича разбудишь! — Ой, Миша, и правда! Да нет, погляди на время! Устал старик, спит без задних ног… — Какой он тебе старик?.. Пошли отсюда. «Добро! — радостно решил Громотков. — Теперь Андрюхина очередь влюбляться, а то кидается на всех… Мы с Машутой тоже всю ночь целовались». Он вдруг почувствовал безмерную нежность к женщине, с которой прошел долгую жизнь, стал медленно и с удовольствием вспоминать особенно радостное и счастливое в их жизни, но, как назло, ничего не лезло в голову, а то, что вспоминалось, было мало похоже на счастье, одно и то же: теплое море, солнце и пляж, словно ничего другого, кроме солнца и пляжей, в их жизни не было. Оставшееся до вахты время Громотков пытался заснуть, но моторное сознание продолжало крутиться на прежнем уровне, прилив душевных и физических сил сообщил его мыслям пронзительную ясность и точность, механик легко проник в суть явлений, даже осознал невозможное: для чего человек живет на белом свете и что будет потом, когда его не станет… Громотков приоткрыл глаза. Кругом была серая непроглядная муть. Механик выпростал из-под простыни руку и включил свет, но яркая вспышка больно ударила в глаза, он зажмурился и погасил его. Так он лежал и ни о чем не думал. Прошло время, прежде чем сумеречный свет наполнил его сознание беспричинным страхом. Громотков повернулся на правый бок, и этого было достаточно, чтобы сердце старого механика взбунтовалось, бешено заколотилось. Он подумал, что с его организмом случилось что-то неладное, как ему показалось — непоправимое, почудилось, будто заразился неизлечимой болезнью от старшины Воробьева — переносчика микробов. Раньше Громотков не страшился смерти; смерть, как и жизнь, были для него равными силами в природе, он уважительно относился к тому и к другому. Но теперь, после смерти жены друга, той белокурой, изящной молодой женщины, стал сознавать, что смерть значительнее и выше того, что он знал; ему показалось, что собственная смерть стоит рядом… Он вздрогнул, будто от прикосновения к холодному металлу. Торопливо пошарив рукой по переборке, он нащупал гладкую кнопку, включил свет, и рука, включившая его, озаренная теплым, живым светом, стала розовой, полупрозрачной, были видны красноватые суставы, густые протоки крови. «У смерти должны быть свои причины, — подумал Громотков. — Эх, скорее бы с Машутой в отпуск!.. А то смерть, как любовницу, призываю…» Механик вдруг понял, что мысль о смерти — следствие недовольства жизнью, которая есть. В эти минуты, думая о себе по-новому, тщательно и с пристрастием, Громотков обнаружил позади огромную пустоту… Он чувствовал то же, что чувствует человек, обманувшийся в надеждах, но лишенный возможности что-либо изменить. «Неужели это и есть моя жизнь, — спрашивал Громотков, — с мизерными заботами, повседневной чепухой, с насосами, фланцами, клапанами, гальюнной командой?!» Ему сделалось больно, обидно, что ничего уже исправить нельзя. «Значит, права Машута, я действительно нулевка…» Горькая правда такого вывода вновь потрясла его сознание, лишила ясности и твердости. Он лежал в холодном отчаянии, медленно покрываясь липким потом… Но так продолжалось недолго, мутная пелена как бы спала с его глаз, и он с леденящей ясностью осознал, что эта вздорная, смешная, порой нелепая, и есть его жизнь, единственная и неповторимая, и никакой другой жизни нет и не будет. И от того, что он понял и пережил, что его душа не сломалась, не поддалась тому унизительному, животному, паническому страху, которому подвержены себялюбцы, родилась маленькая надежда, что в его жизни сделанное было правильно. Всякий раз, говоря и думая о себе, Громотков ни минуты не забывал о молодых помощниках — Андрее и Мишо, и то, что казалось непоправимым в собственной жизни, было возможно исправить в жизни их. «Надо спешить!.. — лихорадочно подумал механик. — Нужно срочно помочь… завтра же… нет, сегодня, засосет… погибнут… Не допущу!.. Мишку в мореходку отдам, тоже механиком будет… Андрюшке хватит мотылем болтаться, пусть детишек учит, женится, внуков нарожают…» Теперь он твердо знал, что с ним ничего не случится и жизнь будет продолжаться долго. Но острое сожаление вновь кольнуло грудь, когда он понял, что этот огромный, полновесный, счастливый день — самый счастливый в непрерывной череде дней его жизни — больше не повторится, как не повторится и весь окружающий мир, будь то растущее дерево, сердитая жена Машута, вязкий, шмелиный полет ветра, слепящий диск утреннего солнца на вершине зеленой сопки, его молодые помощники-друзья или взволнованная тяжесть дня и ночи, уравновешенная тьмой и светом… В утренней мгле усталое лицо Громоткова светилось морозно-бело; он стыдливо прижался к мягкой подушке, взволнованно задохнувшись ее теплом, а потом, сильно разозлись на минутную слабость, пружинистыми ударами смял ее в бесформенный ком.
Полет металлиста Лобова
Спящему все едино: военный он или токарь, женат или холост, лишь бы сон был счастливый — о часах или яблоках. А как прекрасно яблоко во сне, в тот пчелиный и тонкий день, когда реальность и призрачность мира лежат на ребячьей ладони в виде пунцового плода! И трава здесь густая и блесткая от крупного дождя и солнца. Яблоко ударилось о землю глухо, как ядро… Лобов проснулся необычно, от внутреннего толчка. И, как водится, глазами в потолок. А там нынче пусто. Вспоминая, потер висок: «Что же вчера было?» Спелый арбуз и книга. Однако по порядку: перед сном ели с сыном арбуз и тут же книгу читали. Арбуз съеден. Книга на столе лежит, без обложки. И вот что узнали: как голова по науке сама живет или как человеку новое обличье обстряпали. И техника того дела имеется: например, выпей полосатые таблетки, соленые на вкус, а через месяц-другой (время по книжке не указано) новая внешность готова. Но дороже и ближе всего остался в сознании образ воздуха и летящего в нем человека, да и не человека вовсе, но духом поднятого до небес Ариэля! Как это? Где это? Пойди разберись! Помнится, перед сном было спрошено: — Папка, а ты сможешь? — Конечно — да! Воспоминание о вчерашнем вновь пробудило тьму неизбывных мыслей. Одна, особенно неловкая, будто заноза, до сих пор торчит: «Как же это я оплошал?..» Но вскоре возникла другая, шальная и веселая: «Может, и впрямь слетать, а?!» «Куда тебе, Лобов! Погляди, лицо серое, мятое, словно бумажка». Оттого и вздохнул горько: «Да, видно, пора, сорок лет!» Вспоминать больше нечего, на работу пора. Быстро обулся, ногу в штанину продел, задумался, так и остался стоять с одной штаниной. На сына глянул, подумал с гордостью: «Молоток, раз до Ариэлевой силы дотянуться хочет!» Разбудил привычно: — Вставай, мой курносый портрет, за азбуку пора! Сын потянулся, как кошка, когда глаза приоткрыл — оказались зелеными. — Папка, ты нынче как, трезвый придешь? Или задержишься с авансу? — Мал еще отца-то учить, других хватает. — Да я к тому, не забыл ли чего? — Ах, это? — протянул Лобов. — Что же, это можно, это можно… А сам с тревогой подумал: «Вот чертенок, запомнил-таки Ариэля!» Расстроился, на кухню пошел, на столе тяжелую кружку двинул, не рассчитал, молоко пролил. Смотрел злорадно, как белый ручеек книгу гложет. «Так тебе и надо». Однако обтер бережно и на край положил, а мокрую тряпку — в угол. Сквозь дальнюю дверь ситцевая занавеска зашевелилась. Подумал про себя: «Либо мать, либо кошка». Но тут же голос — мать! — Ы… Ы… ырод непутевый, когда, наконец, нажрешься? Где кофту дел белую? Пропил, что ли? Виновато поплелся туда. — Это я от злости на тебя, не хочу, чтобы о грустном думала. Матери живут долго, на них земля держится. Старуха сердито прервала: — Да будет чепуху-то молоть: «долго, долго», идеалист проклятый! Вот Маринку недавно снесли в музыке и цветах. Тоже матерью была, а теперь вот что осталось — одна химия. Но и с неожиданной радостью под конец как бы уточнила: — Говорят, платье новое, черное, туфли ненадеванные, «Скороход», платочек на голове в горошек черный. А ты непутевый! Лобов принужденно засмеялся: — Ты у меня симпатичная, у тебя волос еще не седой, живи с нами еще четыреста лет, а я тебе всю получку отдам и пить брошу, ей-ей. — Эх, Николенька, разве дело во мне? Я-то что, с радостью! Пожить мне с вами годочков пять, будущую невестку повидать, внука-гакушку понянчить, а там и на боковую можно… А ты вот и за этим-то не смотришь, — добавила она уже сердито. — Видела вчера, как глазенки засветились от Риэля твово, прости господи, больно хорош-то человек, добрый, по ночам все летает, летает… «Значит, не спала мать, все видела и слышала». Лобов глянул в ее красные, страдающие глаза, на морщинистое лицо, и острая, как нож, жалость подрезала сердце. Недавно Лобов слышал по радио рассказ и теперь снова вспомнил его. «Где-то на краю земли родится страстная рыба горбуша. Весь рыбий век мыкается она по чужим водам. И лишь в конце жизни, став дряхлой, возвращается в родной ручеек и умирает там, отдав последние силы борьбе и потомству. Так и мать моя, как рыба горбуша», — горько подумал Лобов и ткнулся мокрым носом ей в руку. Эта рыба еще держалась в лобовском воображении, питаясь добрыми соками его сердца. А сам он, пронизанный жалостью к больной матери, чувствовал такую душевную тяжесть и тоску, словно век бродил по свету без отдыха.От дому до работы Лобову далеко, город на горах, пока доберешься — полчаса пройдет. Сколько помнится, маршрут всегда один: сначала влево, от своей «деревяшки» к большому мохнатому камню, здесь вальсовый круг, вдоль овражка, потом вниз, к таким же «деревяшкам», как и лобовский дом, и только потом выход на Полярные Зори к магазину с чем-то цветастым в витринах. Но сегодня быстрее, чем всегда, бежит время и неостановимо скачет тропинка — скок, скок, с камня на камень, звонкая, крутая, веселая, местами пыльная и глухая. Внизу Лобов тяжело перевел дух. «Что это я? Будто молодой козел, скачу?» — И протер рукавом взмокший лоб. Его недовольство было случайным, неосознанным. Видимо, оттого, что раньше, спускаясь, Лобов всегда видел залив, даже не сам залив, а что-то близкое, связанное с ним: грузные танкеры, рудовозы с темно-зелеными бортами, мелко скользящие буксиры. Теперь же залив исчез: ни кораблей, ни движения, ни звуков. Все замерло, застыло… И застыла узкая свинцовая полоса, даже отдаленно не похожая на пропавшую воду. Целый месяц в жарком июньском небе держалось солнце, вот и теперь оно стояло над лобовской головой, словно ослепительный золотой шар. К ограде завода подходил медленно, затягиваясь, как сигаретой, последними минутами удовольствия. У проходной кивнул усатой бабе, знакомой давно, смешной и важной от тугой портупеи. Баба была старше Лобова лет на пять-шесть. И некогда, в молодости, Лобов имел на нее виды, тогда она была хороша. Но теперь, встречаясь и второпях здороваясь, Лобов опускал глаза с чувством непонятной вины. Он и теперь с опаской глянул на ее внушительную спину и со страхом представил ее у себя дома в качестве близкого человека. «Не жена, а памятник обжорству!» — И с облегчением улыбнулся нынешнему исходу дела. Одновременно давняя, забытая вина перед умершей рано женой шевельнулась в лобовском сознании. Он вспомнил Нину ясно: как однажды купались в холодной Туломе и Нина сушилась на ветру, молодая и сочная, как весна. И по цеху шел с таким же настроением, как бы в двух измерениях времени: нынешнее и прошлое соединилось в одной точке сознания, словно он был молодой веткой старого дерева. А запах масла и каленой стружки уже врывался в его легкие. Когда запустил станок, настроение переменилось. Стружка бежала гладко, ровно, словно струйка горячего металла, она и на ощупь была горячей. Когда ее собиралось много, Лобов брал щетку и сметал сизые дымящиеся кольца вниз, в овальное отверстие станины. Но бывали минуты, когда Лобов отдыхал, и тогда тонкое, певучее вращение станка затихало. Он брал в руки упругие кольца и с удовольствием переминал их в жестких пальцах, потому что ощущение металла создавало иллюзию жизненной прочности. Лобов любил металл, как истый художник. На глаз мог определить содержание углерода в стали, отжечь медь, а потом вновь закалить ее, мог сделать любую прочную вещь: красивую ручку, например, или набор ножей, зажигалку, но лучше всего получались моряцкие сувениры — эбонитовая яхта с выпуклыми металлическими парусами и тонкой светящейся иглой бушприта. Лобов ощутил тишину, ватную, слепую. И в этой тишине почувствовал разрыв собственной мысли. Он заметил в руках ключ, и тот в чистой и ясной прозе подсказал ему сменщика Ваську-Дугаша, бывшего ученика. Вот ведь как в жизни бывает: только подумал, а он и сам идет, напористо, широко, словно бык на арене. «Самостоятельный парень, теперь подальше не пошлешь, — сердито подумал Лобов. — Комсомольский секретарь!» — Чего это ты, Дугаш, домой не пошел, а? Все дела? — И с улыбкой добавил: — Наверное, устал с нами, сорокотами, воевать? А? Не надоело?! — Не надоело, дядь Коля, тип человека познаю, так сказать — гимнастика ума. Взять, например, тебя, — снаружи ты белый, а внутри черный. Отчего это, а?! — От старости, Дугаш, от старости, вон у тебя кровь кипит, так вся морда в прыщах, а из меня любовь вышла, зато и лицом бел. — Вышла, говоришь? А отчего говорят, будто у тебя развязалась любовь к нашей фельдшерице? «У Лобова профиль римского воина». Во как! «Вот дура», — мысленно обругал ее Лобов. — Ну ладно, зачем пришел? — Профсоюзный послал. Говорит: гони Лобова ко мне на ковер, а то я из него чихамбили сделаю. Повернувшись круто, так же ушел — широко и сильно ступая. Лобов плюнул вслед: — Черт ржавый. Ну и племянничка воспитал на свою голову. Но, глядя на молодую походку, с восхищением подумал: «Смелый, стервец, ничего не боится». Потом встревожился: «Что-то сегодня будет?» Профсоюзный Бондарев был невысок, вылитый Миклухо-Маклай, из одноименной картины, только что в кожаной куртке да галифе, потому и интерес вызвал, и в люди вышел. И всему виной борода. Было время, к осени после рыбалки, зарос предельной черной растительностью, а друзья в шутку просят: «Не сбривай, Ваня, ты в ней на Миклухо-Маклая похож». С трибуны выступал. Сейчас председатель завкома Иван Алексеевич Бондарев стоял наклонно, твердо опираясь задом о крышку стола. Он повернул голову и холодно брызнул очками: — Чо, Лобов, опять забурился?! Сколько лет тебя знаю — и все напрасно. Не выйдет из тебя путного старикана. Погляди на себя! Ты пьянку творил? Творил. Дебоширство творил? Творил. Теперь и мать обидел. — Откуда вы, Лексеич, все знаете?! — восхищенно прервал Лобов. — У меня должность такая — все знать! Лобов вздохнул глубоко: — Это я, Лексеич, нарочно кофту спрятал, а то смотрит на нее не отрываясь — и все мысли о смерти. А тело у нее и душа как у девушки. Вот клапан в сердце барахлит, так я какой хоть клапан из нержавейки выточу, а Амосов вставит… Да што со старухи возьмешь, в школе не училась, культуры нет, вот и получается разлад в семейном коллективе. — Ты мне зубы не заговаривай, знаю тебя, химика. Эх, Лобов, живешь ты, как йог, книг не читаешь, газет тоже. Чо в стране делается — не знаешь… Все мимо тебя. Смешной ты человек, Лобов. Раньше, когда Лобова распекали, он стоял тихо, будто понурая лошадь, прилепится к косяку — и молчит. Теперь же с грубым разочарованием подумал, что слышал это не раз. — Ну что ж, Лобов, сам свою дорожку выбрал, сам и расхлебывай, на профкоме разберемся. — И замахал руками, и открыл рот, похожий на дыню. — Ну что, например, твое худение означает, а?! — А что означает, то и означает, — довольно пробурчал Лобов. Вот неожиданная лобовская идея, так поразившая Ивана Алексеевича: «Желудок — двигатель прогресса! И разве ж не так? Кто совершал техническую и мировую революцию? Голодный! Кто изобретает необходимые машины, кто строит прекрасные, ажурные мосты? А кто сдвигает пласты человеческой породы и создает новый, невиданный материал? Голодный! Сытый, он всегда доволен собой, и ничего путного не создает, — худой злее сытого, оттого и работает горячо!» И Лобов в доказательство сам голодал, худел. Показывая любопытным осиную талию, он говорил возбужденно: — Я его, заразу, скоро к позвоночнику приращу! Работал он с удвоенным остервенением, но, видимо, в расчеты вкралась ошибка, потому что Лобов свалился однажды прямо под станок. Бондарев снова глянул на Лобова и подумал: «Хорошо, что производственной травмы не сделал». Вслух же сказал: — Однако жаль тебя, Лобов, мастер ты хоть куда, закваска рабочая есть, да нет в тебе практического полета мысли, что ли?! Лобов загадочно прищурился. — Как знать, как знать, Лексеич! От неожиданного оборота Бондарев внутренне подскочил и грозно уставился: — Ты еще чего удумал, махиндей, а?! Но Лобов уже не слушал. В эту минуту Лобов окончательно решил: со старым завязал, ибо впереди небо!
Он был еще полон внутреннего огня, когда вернулся к станку, но что-то было уже потеряно, и работа не клеилась. Он остановил станок, наступила короткая тишина, и в этом неожиданном затишье Лобов явственно ощутил боль, длинную боль в сердце — предвестницу новых разочарований. Кто-то маленький и невидимый шептал одну и ту же фразу: «Шире меня нет, выше меня нет». Это был сигнал из пьяной жизни. Впредь, чтобы не поддаваться ей, Лобов повторял другую фразу, которая бы забила первую и не дала той утвердиться в сознании: «Папаху шить — не шубу шить, не шуточное дело. Папаху шить — не шубу шить, нужно шить умело». Однако первая фраза была почему-то сильнее и постоянно брала над Лобовым верх. Тогда он плюнул на все и решил, что дело вовсе не в голове, а в сердце. Чтобы приглушить его ритм, Лобов, как делал это прежде, размахнулся кулаком и саданул себя по груди. Но необычная боль сидела крепко. Тогда он с тайной радостью решил: мол, хочешь не хочешь, а надо идти в лазарет. И странное дело, наступил покой. Ливи встретила его в дверях — собиралась куда-то идти, но задержалась, внимательно глянула на Лобова. — Вам что, плохо?! — Бывает хорошо, бывает плохо — как когда, — однотонно ответил Лобов. — А вот сейчас, наверное, лица нет, и все из-за вас! — Из-за меня?! — густые брови полезли вверх. — Да вы и сами все знаете, — устало махнул Лобов. Она подошла к нему близко. — Не мучайте себя, Лобов, да и меня заодно. Я ведь тоже не деревянная. — И, сморщив резиновый носик, решительно приказала: — Раздевайтесь! Сначала Лобов запротестовал, но затем смирился. Когда снимал рабочую куртку, почувствовал, как что-то тяжелое ударилось в бедро. И тут же вспомнил — книга. Ливи ощупала мышцы, постучала гулкую грудную клетку. Еще Лобов по приказу гонял воздух через легкие, приседал на корточках. Он звенел, как пустая банка, и очень удивлялся, что в нем так много пустого места. Последняя мысль очень обрадовала его, потому что имела отношение к будущему полету. Закончив осмотр, Ливи протянула Лобову две таблетки. — Одну выпейте сейчас, а вторую, солененькую, — через два часа. Лобов, вспомнив что-то веселое, перебил: — А с моей внешностью ничего не случится? — Пейте, пейте, ничего не бойтесь! — Вот и жаль, — сказал Лобов и пояснил: — Я обещал книгу и принес ее, в ней как раз эта чепуха с внешностью и описана, я только повторил своими словами. Но что любопытно! Здесь говорится об одном человеке. Как он сначала был одним, а затем другим… — А вы так можете, Лобов? Для меня это очень важно! — И Ливи пристально глянула на него. Лобов отвернулся. Куда он глянул — висел плакат, на котором черный человек уже падал назад, а удар ослепительной молнии пронзал обугленное сердце. «Не трогайте оголенные места!» — гласила надпись. Лобов почему-то тянул с ответом, но молчать было нельзя, поэтому он отделался односложно: — Конечно, да! Она посмотрела на него издали, из глубины смоляных глаз, потом, ничего не сказав, быстро наклонила голову и подошла к столу. — Посмотри, Коля, сколько у нас больных. Они стояли теперь рядом, слегка касаясь друг друга. Лобов видел красную изломанную линию на графике, но думал о другом. — Это грипп в прошлом году. А вот за такой же период нынешнего. Правда, здорово? — сказала она, весело тряхнув головой. — Здорово! — ответил Лобов.
Лобов закрыл от внезапного света глаза. Солнце пронзило насквозь тонкие вздрагивающие веки. Розовые облака, теплый ветер, солнце — все это находилось в летении, сам Лобов наполнился этим чудо-движением. И еще ему казалось, что небо — огромная, глубокая раковина, а он, Лобов, ползет по краю этой раковины. Створки ее медленно закрываются, а маленький человечек — алая букашка — спешит наружу. И страх, радость, немое ожидание кончились, позади. И Лобов уже на свободе. …Он представил весь путь от вершины до подножия сопки, до больших лохматых камней, где в густой зеленой траве будут стоять двое, и роса там, не по жаркому лету крупная и блесткая, медленно наполнит фарфоровые чашечки цветов. Возможно, он уйдет за кромку обрыва и там, стоя в глубине площадки, станет думать о технической стороне полета. «Нужно быстро разбежаться и сильным толчком подняться вверх», — скажет он себе. Он так и сделает. Подъемная сила упруго понесет его вверх, охватив плотным струящимся потоком. Это напомнит ему длинное затяжное падение, но он не упадет. Правда, в первые секунды полета возрастающее волнение собьет дыхание, но вскоре он начнет парить высоко и плавно, как опытная птица, используя восходящие потоки, умно расходуя энергию своего тела. Внизу проплывут улицы, дома, люди, которые сверху окажутся маленькими черными букашками. Он захочет крикнуть им, чтобы они внизу не боялись летящего в небе человека, но поймет, что его слова никто не услышит. «Все равно испугаются и побегут за милиционером», — решит про себя Лобов. Он испытает свой аппарат на прочность, совершая круги за кругами над городом и заливом. Возможно, он забудется, осчастливленный, и начнет баловаться в полете, поворачивая крылья под разными углами к ветровому потоку, отчего его понесет то вверх, то вниз. А когда посмотрит на часы, то поймет, что летает слишком долго и пора опускаться на землю, за стол, ибо хочется есть. На столе ноздреватый хлеб, за столом трое: слева — сын, справа — мать, а впереди — Ливи. Все ждут. И жареный картофель, так вкусно пахнущий, и бело-розовые дольки лука, такого сочного и сладкого, как мясо креветок.
Солнце уже прощалось, и плыли берега в дымном цвету, и дали стали синими, звонкими, льдистыми, когда наступил вечер. В глубине заводского двора, у кирпичной стены, большая толпа, одинаково темно-зеленая — в робах. Она внутренне перемещалась, жужжала неясным гулом. Издали кто-то призывно помахал рукой. Лобов подошел ближе. Он увидел свежеокрашенную в голубое доску, пахнущую едко не то скипидаром, не то сиккативом. На ватмане, пристегнутом к ней шестью кнопками, в пол человеческого роста была нарисована летучая мышь, с очень знакомым лицом. Лобов медленно прочитал надпись: «Серое существо нашего брата». Внизу, под рисунком, разобрал другую, не такую яркую, но отчего-то более заметную: «Пусть в нем каждый узнает себя». «Вот так раз, — удивленно отреагировал Лобов. — Ребус-загадка». Он увидел высокую огненно-рыжую голову — Васьки-Дугаша. Тот, сильно толкаясь, двигался к Лобову. Еще издали молодой неустоявшийся бас-баритон разломился над толпой звучно, как толстая сухая палка: — Ну, как расчехвостили? А? Крепко?! Лобов еще не отрешился от пережитого полета и сказал не думавши: — Ага! — Ты чего, дядь Коль, чоканулся, что ли? Или себя не узнаешь? Многие обернулись. И верно, Лобов! Он узнал себя: нос, косящие глаза, дугой брови, из-под крыла горлышко бутылки. Лобов равнодушно сплюнул и наобум побрел, а скрывшись за углом цеха, остановился, неприятный холод скользил по озябшей спине…
Весь месяц Лобов жил в озабоченном мире своего существования: много читал, записывал, думал, ощутимо переживая новое беспокойное чувство, вошедшее в него. По-новому двигалось и время: то бурно, стремительно, то медленно, лениво, особенно в минуты долгих размышлений. Иногда поиски истины усложнялись, необходимо было разобраться в себе самому. Например, Лобов хотел понять: глуп он или умен? Нет, конечно, он догадывался, что не глуп, ибо косвенно проверял себя. Ну, а если умен, то насколько? И что это за свойство такое — ум? Способность соображать, что ли? Или нечто другое?! Особенное?! Ведь соображающих так много, а умных людей мало. А возможно, это просто хорошая работа, потому что для создания тонкой, проникновенной вещи тоже требуются способности и ум. Словом, целый месяц Лобов мыслил, как творческая личность. По ночам не спал, без меры курил, находился в постоянной задумчивости. Вместе с тем была целеустремленность. По старым журналам искал конструкции воздухоплавательных аппаратов, в новых книгах пытался понять сложные алгебраические построения и научные термины: «расчет крыла», «подъемная сила», «сопротивление среды…» Он хотел соединить эти значения в единое целое, чтобы проявилось новое качество его ума. Однако громоздкие формулы были сложны, они закрывали перспективы самого полета, поэтому он отбросил их прочь, зная за собой способность докапываться до всего опытным путем. Лобов решил создать летательный аппарат собственной конструкции. Иногда казалось, что решение уже близко, рядом, но некоторые детали все-таки не получались, и снова начинались мучительные поиски — где только можно: в библиотеке, в старой литературе, в сочувствии незнакомых людей. Однажды он прочитал книгу. На форзаце был нарисован портрет самого автора — древнего хиппи, с умным заросшим лицом, как у котельщика Вано Сердцева. А фамилия к тому же странная, до сих пор еще неизвестная — Леонардо да Винчи. Книжка помогла; особенно верная мысль о полете, которая согласовывалась с собственными мыслями Лобова. «С такой же силой действует предмет на воздух, с какой и воздух на предмет. Посмотри на крылья, которые, ударяясь о воздух, поддерживают тяжелого орла в тончайшей воздушной выси, вблизи стихии огня и несмотря на движущийся над морем воздух, который, ударяя в надутые паруса, заставляет бежать нагруженный тяжелый корабль; на этих достаточно убедительных основаниях ты сможешь постигнуть, как человек, с силой опираясь на сопротивляющийся воздух, способен подняться ввысь». Прочитав очередной отрывок, Лобов закрывал книгу и внимательно изучал это особенное лицо: длинные волосы, морщинистый от мыслей лоб, добрые мудрые глаза. Лобову понравилось лицо, и вскоре портрет итальянца перебрался домой, висел над лобовской кроватью. Но мать, смешная мать перевесила его в угол и по ночам крестилась, наверное, думая, что это какой-нибудь новый святой, ей неизвестный. Он уже строил и план будущего полета, раздумывая над тем, как ему быть дальше, если вдруг воздушный поток не по расчету усилится, и его понесет навстречу солнцу и ветру, и тогда крылья опадут, как у Икара. Значит, нужно какое-то новое, современное решение. Но какое?! Он вновь перечитал книгу и нашел спасительную мысль, однако эта мысль имела горький привкус воспоминаний. «Помни, что птица твоя должна подражать ничему иному, как летучей мыши…» Вот те раз! — Лобова неприятно передернуло. «…на том основании, что ее перепонки образуют арматуру или, вернее, связь между арматурами, то есть главную часть крыльев». Для главной части Лобов не пожалел заначку, купив по случаю у капельмейстера списанный барабан, деревянный обод которого уже сгнил, а кожа была прочной и нравилась Лобову хрустом новеньких ассигнаций. «Посмотри на крылья…» — приглашал Леонардо, и Лобов, устав от всего, уходил на природу, глядел в небо, любуясь полетом птиц. И заметил, что розовые лапки чаек вытянуты вдоль тела и лишь в момент подъема как бы ритмично стучат о воздух, сообразуясь с движением крыльев. «Это нужно будет учесть в момент взлета», — говорил себе Лобов. Верстак Лобов оборудовал в углу котельной, где с шипеньем и металлическим лязгом работала «Вира» — вертикальный паровой насос, питающий котел водой. И раньше, устав от прохлады цеха, он приходил сюда к серебряной бочке котла и грел озябшие руки. Внутри топки что-то урчало, дико гудело — то пламя форсунки создавало нужную температуру, способную из воды образовать пар. Зимой, когда пара в цехах не хватало, а молчаливый кочегар Вано Сердцев зажигал все форсунки разом, бурлящая туша котла вздрагивала от мощи огня, и тогда Лобову, склонному к фантазии, казалось, что бочка вот-вот оторвется в воздух и, подобно дирижаблю, полетит под высокую, черную крышу котельной. Однажды Вано Сердцев показал Лобову жаркое нутро топки и пояснил, что пар в пятнадцать — двадцать атмосфер обладает такой же жестокостью и силой, как металл. Тогда и котел, и сам Вано, черный, заросший, с блестящими белками, казались загадочными существами. С тех пор они подружились, но дружба эта носила странный характер. Котельщик был молчалив, кроме котла его мало что интересовало; впуская Лобова для работы у верстака, он почти не отрывал взгляда от водомерной колонки, наблюдал за уровнем воды, задумчиво погруженный в тайну работы. В его конкретном сознании не могла возникнуть мысль о самом полете. И сейчас, мельком глянув в сторону Лобова, Вано решил, что тот готовит что-нибудь для домашнего хозяйства, потому что твердо верил в лобовскую способность превращать ненужные вещи в полезные. Подгоняя крылья одно к другому, Лобов сравнивал их вес на руках, потом придирчиво проверял на весах, опробовал сложные переплетении приводов, облегчал конструкцию за счет множества овальных отверстий. Потом снова взвешивал, уже примеряясь к рукам, пока окончательно не решил, что аппарат готов.
Для серьезного человека под стать и дело найдется, будь то металлист или просто рабочий. Ну, а для прочих дел и шалопай сгодится. «Что для тебя, Лобов?! Полет! Коли так, не спеши, подумай, твое ли это счастье — воздушный океан: неведомый, зовущий, гибельный, но великий! Сознаешь ли, Лобов, какая сила поднимает людей в небо? сколько сердец обожглось на этой мечте?» И не Лобов, а кто-то другой ответил: «Сознаю!» С тем и пошел… Однако до двери не дошел, остановился, подумал: «А стоит ли?!» Но пересилил себя. Бондарев сидел за столом, низко наклонившись. На столе планы работ, графики, проекты — интересная жизнь. Поднял голову, улыбнулся и всепрощающе позвал: — Заходи, Лобов, заходи, не маячь в дверях. Слышал про тебя: говорят, в философию ударился. Ну что же, это хорошо, растешь, но только смотри. Кант там, Бебель — это не безупречно… Изучай основоположников, тогда все будет ясно. И тут же буднично добавил: — Вот о чем хочу спросить. Что-то жарко? Может, бороду сбрить? Как посоветуешь? Ну да ладно, это личное, подождет. А ты чего? — И протолкнул сквозь бороду застрявшую мелодию: — «Белым снегом… белым снегом…». Однако ко мне? Зачем? Лобов смущенно переступил. — Я, Лексеич, того, напомнить пришел, месяц назад упомянуто было о полете. Не забыл?! Бондарев перебрал вслух: — О полете, говоришь? О полете, о полете… Нет, не помню. А что? — Сегодня в восемнадцать тридцать срок истекает, летать собрался. — Куда и зачем? В отпуск? — Нет, в воздух. Бондарев перекинул взгляд на стол, там лежали бумаги, одна важнее другой. «Эк, жаль, хорошая перспектива наметилась, однако человек прежде всего, придется отложить». Протер вспотевший лоб: — Ты, чаем, не того, Лобов? Ведь кто узнает, смеяться будет — летящий человек в нашем коллективе! — Бондарев ткнул пальцем в потолок: — А если там пронюхают? А?! Каково?! Ты об нас всех подумал?! И мелькнула ослепительная мысль: «Уж лучше бы ты снова начал пить!» Подойдя к Лобову вплотную, покрутил бронзовую пуговицу за ножку: — Как брат брату: боюсь я за тебя, Лобов.
Лобов стоял высоко, на крыше старого сарая. Толпа была внизу, он никогда еще не поднимался так высоко. Он бережно перебирал лица, одно к другому, как драгоценные зерна, но женщину в белом не нашел. Так родилось равнодушие. Солнце уже замыкало дневной круг и напоминало эллипс, вытянутый с юга на север, — время тянуло к осени. В толпе возникло движение, и голос, охваченный нетерпением, крикнул: — Эй, Лобов! Чего тянешь? Сигай вниз! Лобов очнулся и спокойно ответил: — Что-то не получается, ребята, сегодня сил нет, с утра ничего не ел и под мышками жарко. Что-то отделилось от Лобова и стало рядом: серое, мохнатое, с круглым невидящим лицом, переминаясь на слабых пушистых ножках. В то же время в груди образовалась пустота — точный слепок того, кто стоял рядом. Лобов и раньше слышал о раздвоенности души… Сначала он разглядывал Это с простым любопытством, но вдруг горячая волна жалости подкатила к самому горлу, он испытывал к Этому такую же нежность, как к родному сыну. — Ну же, Лобов!!! — грубо, с криком раздалось внизу. И тогда сами собой в душе Лобова родились слова, которые возникают в минуту самого высокого и чистого напряжения сил. — Всю жизнь я ждал женщину и, кажется, нашел, но она не пришла, — горько сказал Лобов. — Теперь все… Бегите за милиционером, только он сможет остановить мое мнимое безумство. Пусть его рука водворит порядок на крыше старого сарая… Но праздник для вас не испорчен, он только начинается… Лобов вытянул руку и мягко подтолкнул пушистую спину. На миг увидел высокую стену родного цеха. Свежая известка стекала неровно и казалась плевком на морозе, но мороза не было, была лишь игра его лихорадочного ума. Лобов без крика летел вниз, расправленные крылья на миг захватили воздух… Толпа неожиданно ахнула, отпрянула назад, расширив границы площади, и вновь сомкнулась в кольцо с точкой посередине, — Лобов. Он лежал, оглушенный падением, потом медленно пришел в себя, стряхнул крылья, встал и в тишине произнес: — Эх, вы!.. Он побрел к проходной, ссутулив спину, низко волоча руку, в полусжатых пальцах держа крылья, которые от ударов о брусчатку двора гремели, взывая к кому-то или к чему-то.
— Где лежит наш больной? От двери раздался голос, который Лобов тут же узнал, он отличил бы его от тысячи голосов — чистый, глубокий, обладающий магической силой и теплотой. Он знал эту силу и прежде, и сейчас залилось сердце, но маленькие, частые боли в боку работали против него и мешали Лобову быстро подняться. — Лежи, лежи! — приказала Ливи. Теперь она стояла рядом, освещенная боковым светом лампы, и Лобов видел ее блестящие глаза. Ему стало на миг обидно, что мать и сын не увидели Ливи такой, какой он знал ее прежде: тонкой, гибкой, словно выточенной из бронзы мастерской рукой. Мать с улыбкой и надеждой глядела ей в глаза. Комната, прежде тихая и сонная, наполнилась новыми звуками. Лобов наслаждался ими и глупо улыбался. Мать рассматривала Ливи пристально. Лобов хотел что-то объяснить, но мать торопливо прервала его: — Ладно, ладно уж… Вдруг она поднялась на кровати, свесив беспомощные ноги: — Приготовлю вам чай. Ливи заторопилась к ней, но старуха остановила ее рукой: — Мне пора учиться ходить. Пили чай. Исчезло первое напряжение. Лобов шутил, было весело и непринужденно. После чая Ливи решительно поднялась: — Пора. Разрешаю проводить минут десять — пятнадцать, не больше. Они вышли во двор. — Тебе не больно сейчас? — спросила участливо Ливи. И после молчания добавила: — Я была там, но ты меня не узнал. В беззвучном небе висел ослепительный диск луны, внизу грохотал шумный рыбацкий порт, корабли еще не спали, зажигая по бортам нитки одинаковых огней. Чуть повыше их голов двигались густые порывистые облака. Когда город затих, на крутой «восьмерке» стал слышен затяжной подъем машины. Из ближнего дома вышел сосед. Лобов узнал его и, махая рукой, поприветствовал. После длительного молчания Лобов осторожно спросил: — Вот ты, поднимаясь сюда наверх, наверное, устала?! — Ты знаешь, пока самое смешное в том, что по-настоящему меня зовут Оливи. Знаешь, что это такое? «Оливи» — это значит «летать». Так прозвали меня мордовские мальчишки. Ох, как я любила сигать через плетни, особенно когда воровала клубнику или морковь! — Ну, а если так каждый день?! — настойчиво повторил Лобов. — И в горе, и в радости, до самого конца?! Я люблю высоту. Кроме того, нам дадут отдельнуюквартиру. Бондарев обещал, на Варничной сопке. Там будет все: и кухня, и ванная, и уже привычная высота…
Лобов вернулся домой. Мать убирала посуду и готовилась спать. Перед сном на его кровать перебрался сын. Его глаза горели нетерпением. — Папка! Ну когда же ты полетишь, ты же обещал мне?! Лобов внимательно глянул на сына и с грустью подумал, что сын стал уже взрослым, а вот отец этого не заметил. — Скоро, теперь уже скоро, сынок, — сказал. Лобов засыпал быстро, проваливаясь куда-то сладко и длинно, и уже на краешке сознания увидел летучую мышь. Будто они висели вместе вниз головой, а кругом непонятный страх и инстинкт и нечто серое-серое, которое лишь казалось серым, а на самом деле белое и ничего больше… И тогда Лобов с улыбкой сказал в темноту: — Кышь! И заснул уже крепко, раскинув руки, как тогда, в счастливом полете.
Желтое воскресенье
Осень. За окном лишь дождь да грязь, выглянешь — вмиг дождем накроет. Поэтому и сидят в это позднее время вдвоем за чайным столом, в комнате, где теплота и оранжевый свет… Между тем пузатый самовар на исходе. Сидят, вспотевшие, и удивляются, глядя в его медные бока. Смешно: голова удлиненная, щеки толстые, румяные, вровень с шеей, — таков портрет. Однако самовар здесь ни при чем; виновница-старость, она и портит Ивана Дранкина и его супругу. Хозяин дома — человек обстоятельный, его движения неторопливы, увесисты, с расчетом; кроме того, он сегодня в благости, ему поговорить хочется. А разговор стариковский: чепуха и всячина, о главном — пока молчок. — …Толкался нонче по ихним магазинам. Так, верите — нет, на полках пусто. Все спешат, спешат, толчею развели. Эхма! А куда спешить-то, я вас спрашиваю, Марья Андреевна? От спешки этой эвон чо в мире придумали. Слыхали, утром опять черный кружок вещал, будто у них там, к войне, новую болезнь, упаси бог, придумали, чтоб не чикаться, а всех враз, как котят. Бонбонная чума называется. Тьфу, срам-то какой! Пережевал мысль до конца и принялся за другую — нравоучительную. — Эх, времечко! А ведь естество наше человеческое не спешка, а спокойствие да любовь. Раньше как было: сначала божью тварь к стенке поставь, потом прицелься, да не спеши — прицелиться тоже ведь с головой надо. Если, к примеру, в затылок, так, верите — нет, зажмуриться не успеешь — готов. Это кто как любит… а тут бонбонная. Вдруг спохватился презрительно: — Да что это я с вами об таких вещах разговариваю? Тьфу, только и можете, что дочери потворствовать. Вон оно сколько времени, а ее все нет да нет. За дверью скрипнуло. Испуганно и настороженно: — Кто там?.. Видно, померещилось. — Недавно, извините, тараканчика в закутке повстречал, — продолжал Дранкин, чмокая губами, — так, верите — нет, сущий боров, морда — во! Попробуй изведи таких, а для человека сразу напридумали. — И попугал шутливо: — А что, если нас с вами этой бонбонной? Заторопилась, крестясь: — Слово-то какое, упаси господи… Что это, Иван Архипович, на ночь-то глядя страх такой рассказываете? Не боитесь бога. — Да что же бояться, когда его отменили; вон дочь ваша с милицией путается, не боится. Помолчала и, все же не утерпев, кольнула в ответ: — Так ведь и ваша тоже. В это время упала со стола ложка, и оба сразу подумали о главном: уже поздно, а дочь все не возвращается. Весь вечер старик держался, напустив на себя строгость, а тут не выдержал, сказал слезливо: — Как же это она, не спросясь, взяла вещички да ушла? Сказал, а сам по старой памяти к волосам, но тех уже нет давно — временем сдуло. В который раз Мария Андреевна пересказала, как пришла дочь Маша, как села необычно подле комода, как долго плакала, а потом собрала в платок вещички и пошла. Лишь у порога проговорила: — Я так больше не могу, мама. Кругом люди как люди живут, а мы все о вчерашнем дне думаем. Ты не плачь, не умирать иду, а на фабрику. — Вот оно, ваше попустительство, — проворчал Дранкин. — Сначала позволили в комсомолию играть, а теперь и на фабрику. — И махнул рукой нетерпеливо: — Ничего, Марья Андреевна, рано нас еще закапывать, мы еще пригодимся, когда ручки отвалятся от их всемирного труда. Побалуется — прибежит. Родительский хлеб-то — он слаще. Эх, да ладно уж! Утро вечера мудренее. Пора и на боковую. — Но вдруг как-то горько заключил: — Однако вечер — это мы с вами. А утро… вон оно, сбежало. — И спросил жалобно: — Может, еще придет, а? Ведь дочь все-таки. Но Мария Андреевна уже сникла перед кружкой остывшего чая.Машины, машины, машины… Рой машин. Лаковые, пучеглазые, новенькие. Мчатся они на юг, по пыльным российским дорогам, через речные поймы и березовый лес, сквозь тишину и одиночество пустыни, а может, и не тишину, может, это только в будущем. А пока нужно стоять, смотреть, радоваться и думать о работе. И прочь гнать удобные мысли, ибо уже пора: поднялось солнце, и Москва — город Красный — встает над вереницей машин с плоским торжественным лицом иконы, город, утверждающий на земле новую веру, новую страсть и любовь. Поток машин свернул вправо наискосок, перерезая площадь. Высвободилось несколько минут, и регулировщик Брагин посмотрел в небо. Над Москвой разрастался день, в невидимых воздушных потоках начали просушку редкие, тонкие батистовые облака. На тротуарах, пухлых и белых от солнца, бурлила, двигалась говорливая уличная толпа, яркая и многоцветная. В знойном мареве уже плыла вся улица, всем видом спешила похвастаться: вот он каков, месяц июль — жаркий! Брагин непроизвольно тронул козырек рукой, он заметил, что толпа не только не убывает, а, наоборот, растет и наблюдает за ним. Что же привлекло к этой площади стольких зевак? Ответить нетрудно — сам Брагин. В городе с тысячью улиц, где трамваи нахальны, а телеги неуклюжи, где машины вызывают удивление, где асфальт мягок и чист, а зелень всегда в пыли, где тысячи пешеходов снуют туда-сюда, умножая неразбериху улиц, — здесь, впервые, посреди небольшой каменистой площади поставлен регулировщик, молодой и сильный, в белой ломающейся одежде с кружками золотых пуговиц, горящих на солнце масленым блеском. Теперь движение продумано, подчинено его магическому жезлу. Брагин работал быстро и четко. Когда машины проносились мимо, в сознании Брагина вновь шевельнулась упрямая мысль о скорости. «Скорость — это свист, тот великолепный сочный звук «с», который рождается в стремительно летящем камне или в звуках милицейского свистка». Вот отчего упрямые мысли о солнце, барханах, зовущих в дорогу, где иной мир, и видишь то, чего на самом деле нет: белые города, зелень, воду — словом, пустынный мираж. На площадь медленным торжественным маршем выехали грузовики: впереди АМО-3, строго по два в ряд. На передней машине под напором встречного ветра хлюпало полотнище: «Автопробег Москва — Каракумы». Плакат прилип к ребрам кузова, выпирают продольные полосы дерева, выпуклое железо и еще что-то острое и выпуклое. В открытых кузовах машин молодежь. Загорелая, веселая, с круглыми бицепсами, в синих футболках, в белых майках, с цветами и флагами. У зевак и прочих любопытных хорошо наметан глаз — больше всего их там, где крутой поворот: отсюда до машин рукой подать. Смотрят, удивляются, радуются. Но не все… Которые жмутся в сторонке, в суконных картузах, бубнят под нос: «У, нехристи, еще недавно ржавую селедку ели, а теперь гля-ди-те-ка!» Другие же так себе, пустыми глазищами водят по сторонам. Брагин заметил в сторонке толпу: спорят, руками размахивают, видать, что-то интересное, а что — сразу не понять. Но один голос выделяется четко: — Соединяю бога с социализмом!!! Брагин удивился. Откуда это? Он пытался определить по звуку. В глаза бросилось внешнее несоответствие: черные усы подковкой вниз и голова глянцевым шаром. Брагин увидел, как тот ладошкой протер шар и закричал через головы соседу в толстовке: — Эй, дядя, сорви крестик, время-то небезопасное, шнурок виден. В ответ благодарность и шляпа вверх. А черноусый уже в другом месте: — Нашему знамени крови не хватает теплых лучей солнца! Послушайте, братья. Однажды я видел, как на закате почернело солнце. Чудо!!! Чудо!!! Только я предлагаю совершенство цвета: красное на желтом… Народ стоит вокруг, слушает, тревожится, не понимает. В стороне кучка загорелых, стройных девчат в красных косынках, синих футболках — комсомолки фабрики «Всемирный труд». — Товарищ милиционер, заберите эту контру, буржуйский недобиток тут зловредную агитацию разводит! — выкрикнули из толпы. Брагин сочувственно улыбнулся девчатам и двинулся на голос, держа в ориентире неподвижную шляпу. На миг он ее потерял и остановился. Он увидел небо: по нему, белесому, уже дымятся вечерние сумерки и плывет к своему закатному рубежу раскаленный диск солнца. В нем пробудилось острое желание увидеть этих людей близко, по-молодому заглянуть им в глаза, чем-то помочь. И он пошел. Простая и трогательная мелодия зазвучала в его душе… Вдруг острая, пронзительная боль под лопаткой прервала это чудо-движение, и он споткнулся, потом медленно повернулся, поймав на лету чей-то испуганный взгляд. Брагин упал лицом вниз, на остывающие камни.
Паровоз стоял, тонко посвистывая паром. Поезд пришел днем, на перроне было пусто. Мужчина медленно и осторожно сошел вниз. Неожиданно сверкнуло рыжее солнце, он вспомнил предостережение: «Вам на солнце запрещено». Закружилась голова, пришло ощущение медного звона. Мужчина постоял, понемногу приходя в себя. Следом из вагона спустился пожилой проводник, нацмен, черный как головешка. За остроконечной оградой бойко прогрохотал грузовик, оставив клубы пыли, а мужчине — воспоминания чего-то близкого, болезненно пережитого. Осторожно перепрыгивая через рельсы, он направился в город. Когда же вышел на площадь, с удивлением заметил, что города, собственно, и нет, ибо он весь тут, перед глазами, в складках местности, и закрыт по самые крыши зеленью. Меж домами неожиданно сверкнула вода; он прошел дальше, не понимая, что это такое. Открылось гигантское водное пространство. Море! Конечно же, оно! Как это он сразу не понял! Не было ни страха, ни радости, ни разочарования, ни другого подобного чувства — скорее всего, удивление и любопытство. Эта масса воды была белесой и нестерпимо сверкала, словно играла тысячью мельчайших зеркал. К берегу деловито приближался пароходик — скорлупка с грязной трубой, которая то и дело выбрасывала узловатые клубы дыма. Подойдя к берегу, пароход неожиданно тонко засвистел — но это был не весь звук, а только начало, и вскоре все огласилось басом. Издалека вдоль берега приближалась живая пенистая полоска прибоя. У самого края Черного моря на песке лежала женщина и смотрела вверх бирюзовыми глазами. Мужчина перешагнул зеленую оградку и приблизился к ней. — Ого! — сказал мужчина. Он стоял смущенный и радостный, оттого что увидел человека, с которым можно поболтать. Ему показалось, что где-то уже встречал эту молодую женщину. — Где это я вас видел? — спросил мужчина. Женщина резко поднялась, ее брови удивленно округлились. Презрительно ответила: — В кино, конечно. Боже мой, как это старо!.. Наверное, от жары ее голос показался вялым и глухим. Большая зеленая муха медленно ползла по ее ноге. Мужчина почувствовал себя мухой. От этой мысли ему стало весело. Неожиданно для себя он заключил: зрачки женщины напоминают морские камешки под слоем зеленоватой воды. Она с интересом наблюдала за ним: — Вы что, никогда не видели моря?! — Только в кинематографе, но это не то… — Он внезапно замолчал, смущенно переминаясь. Песок прыгал в ее руке. Мужчина присел рядом, и тогда обнаружилось, что женщина на голову ниже. Оттого, что голова женщины приходится по его плечо, ему стало жарко. — Если откровенно, я здесь тоже впервые. Посмотрите, как уже загорела! — Я все пытаюсь понять цвет ваших глаз и не могу. Женщина ответила резко и грубо: — А я смотрю: стоит пижон — и думаю, что он еще скажет… И потом — я не люблю стриженых. — Я милиционер… В результате… — Он поперхнулся и уже строго добавил: — При исполнении…
Уже поздно вечером, сидя на пикейном одеяле в палате санатория, мужчина перебирал вещи: костяную мыльницу, зубную щетку, полотенце, потом, увидев еще одно на стуле, бросил свое полотенце в чемодан и, вдруг вспомнив, достал со дна чемодана газетный лист, сложенный вчетверо. Развернул его, прочел: «От нашего специального корреспондента. Вчера на Трубной площади было совершено покушение на постового милиционера столицы. Вражеский нож, войдя на три пальца в спину, прошел близ мужественного сердца, не задев его. Жизнь постового милиционера Степана Брагина в опасности! Опытные врачи самоотверженно борются за жизнь пионера регулировочного движения, К сведению читателей: бандит схвачен на месте преступления. В поимке помогли сознательные молодые гражданки, работницы фабрики „Всемирный труд” Маша Д. с подругами». Брагин тихо улыбнулся и с удовлетворением сложил газету.
Столовый зал охвачен беломраморной колоннадой, верхушки колонн как бы зажжены красноватым отблеском витражей. За хрустящими скатертями идут маленькие веселые баталии: взлетают ножи, звенят тонкие стаканы, снуют вилки, сочно погружаясь трезубцами в мясо, играют бронзовые мускулы лиц, — все это создает непринужденную атмосферу санаторного завтрака. А в центре зала под белоснежным потолком висит льдистая, сверкающая глыба люстры. И все-таки Брагин ел плохо, без аппетита. Его взгляд равнодушно скользил по залу, общее веселье, живая сутолока быстро утомили его. Он с облегчением оставил завтрак и вышел на воздух, укрывшись в тени кипарисовых посадок. Был конец апреля, когда море еще прохладно, а зелень уже буйно идет в рост. На обнаженную руку Брагина уселись комары. Он равнодушно наблюдал, как, напившись крови, они сыто падали в траву. «Тоже мне завтрак», — презрительно подумал Брагин. Мимо прошумела стайка девчат с полотенцами через плечо. У беломраморной беседки была разбита большая цветочная клумба, пожилые мужчины и женщины в широких панамах от солнца сидели подле цветов на низких стульчиках. Издали казалось, что они греются у многоцветного пламени костра. Погода в полдень переменилась, белесая дымка исчезла, солнце и небо очистились от кочующих облаков. И тут произошло событие, которое сам Брагин не мог толком объяснить, что это: рефракция света или внутреннее волнение. Он увидел женщину с мягкими льняными волосами, ее золотистый профиль словно вспыхнул на солнце. Брагин подошел ближе, женщина росла прямо на глазах, сначала ее фигура закрыла жилые постройки, затем половину неба и, наконец, всю противоположную сторону, но силуэт из темно-зеленого превращался в прозрачно-голубой. Брагин старательно потер глаза, даже близоруко сощурил их, все равно не помогало: его взгляд постоянно ускользал в сторону от предметов. Он не видел ни эмалевых листьев тополя, ни стрекоз с прозрачной конструкцией крыла, ни кузнечика, одетого в зеленый капюшон, ни даже, чего проще, ромашки, стоящей одиноко, как балерина в короткой белоснежной пачке. Отныне объектом его зрения стала земля. Огромные распаханные куски земли предстали перед его взором, словно он находился над ней в состоянии полета. Какая-то побудительная сила толкала его вперед. Он кружился по парку, но не находил себе места. Его тянуло уединиться и хотелось быть на виду у всех, бродить босиком по траве, собирать полевые цветы, петь, дурачиться и свистеть. Соединение холода и жары мирно уживалось в нем. Брагин увидел группу людей, обступивших небольшую скалу с минеральным источником. Женщины зачерпывали воду и медленно пили, запрокинув головы, словно горлицы. В середине группы стоял человек с воспаленным от бессонницы лицом. От его голоса у Брагина пересохло в горле. — Посмотрите на эту мрачную землю, — сказал человек, протягивая руку вперед. — Она красна. Это земля Марса. Она также безводна. Человек с грустными глазами чем-то нравился Брагину, но вместе с тем было жаль его, этой необходимости говорить в такой солнечный день о засухе и печали. Высоко по небу полз крохотный двукрылый самолетик, похожий на стрекозу. Неприхотливый работник неба еще долго кружился в вышине, словно разрешал для себя какую-то замысловатую задачу. Брагин с завистью следил за ниточкой его полета. Он никак не мог освободиться от мысли, будто там, наверху, не металлическая машина, а сам пилот, распластанный в небе. Что-то в душе Брагина было сродни этому пилоту. — Посмотрите на эту воду, — вновь услышал Брагин знакомый голос и поймал себя на мысли, что уже слышал его прежде. «Что со мной происходит?! Кажется, я уже был здесь раньше, значит, я хожу кругами». Он посмотрел в сторону источника. Из его глубины медленно всплывали пузырьки, похожие на рачьи глаза. — От этой воды сохнут цветы и деревья, — продолжал человек. Брагин начинал привыкать к его голосу, но последние слова пробудили в нем острое желание действовать. «Если это Марс, — думал Брагин, — значит, должны быть и каналы. Если же их нет, мы обязательно построим. Разве есть благороднее задача, чем строительство каналов на красной безводной земле… Люди будут пить воду, плескаться, заливать радиаторы машин, растить детей и дважды собирать урожай, сажать новые цветы и деревья. Вода будет многообразна, а ее ощущения бесконечны». Брагин вспомнил женщину с удивительными глазами и почувствовал щемящую грусть. Он нашел ее в плотной тени платана: узкое лицо было зеленоватым и бледным. Глаза ее округлились, и нечто веселое блеснуло в них. — Вы ищете меня?! Брагин смутился, потому что действительно искал ее, но отчего-то соврал. Однако женщина не поверила и рассмеялась Брагину в лицо. — Кто вы? — спросила она весело и непринужденно. — …Я строитель каналов, — продолжая думать о своем, пробормотал Брагин. — То вы говорили, что милиционер, то… — Что? Да, то есть я действительно работаю в милиции, — смущенно пояснил Брагин. На ее лице появилась улыбка. — Помните, в первую нашу встречу, у моря, вы тоже были обидчивы… Ну ладно, все равно, пойдемте купаться. — Сейчас, — поспешно согласился Брагин, — только сбегаю за полотенцем. А как вас зовут? — Маша.
Вечером, перебирая бурные, неожиданные, а порой непонятные впечатления дня, Брагин достал тетрадку. Разграфил лист вдоль, на две неравные части. На одной написал «я», на другой, большей, «она». Именно против этой, последней, записал следующую фразу: «Кто умеет так хорошо смеяться и плавать, брызгаться водой, бросать камешки в море? Есть только одна женщина…» О себе же Брагин сочувственно написал: «Дурак». Зал был белым. В центре потолка овально вырастал купол, вершина которого — бельведер — оставалась в полумраке и казалась ноздреватой и съедобной, напоминая круглую половину пирожного бизе. Этого забавного впечатления не могли изменить ни ряд дорогих красных кресел, ни темнеющая в глубине публика. На освещенной сцене пел красивый бледный молодой человек. Позади него, в глубине, стоял темный рояль с поднятым лаковым крылом, похожий на черного взлетающего жука. Сразу и не решишь, что создавало веселую атмосферу в зале. Может быть, то, что пел не кто-нибудь гастрольный, а свой товарищ — инженер Фальковский. — Ура, Фальковский!! Браво, Юрочка! Фальковский… Он появился в санатории вскоре после приезда Брагина, но за это короткое время стал популярным. Поговаривали о частых любовных связях, о его жене, красавице-занозе, не отпускавшей мужа далеко. Впрочем, относительно молодой жены делались только догадки, потому что говорили, будто он женат на богатой старухе. Во всяком случае, никто не был более точен в оценках, чем сам Фальковский. «Вопрос о верности мужчины, — говорил он, — может ставиться только в одном плане… в плане измены». За время пребывания в санатории к внешности Фальковского прибавилась полоска усов: тонкие, над самой губой, они повторяли изгибы чувственного рта, и порой казалось, что вверху две губы. Чтобы освободиться от прилипчивой мысли, казалось, достаточно встряхнуть головой. Брагин так и сделал, однако все: и сахарный бельведер, и лаковое крыло жука, и темный зал — исчезло, а Фальковский остался, ибо он сидел тут, за обеденным столом, напротив. Закончив второе, Фальковский с видимым удовольствием тянул компот; он говорил, чуть растягивая слова: — Вы милейший парень, Брагин, но не можете понять простых и естественных законов жизни. В природе существует определенная гармония, равновесие. Вот вам пример: тигр и олень. Вспомните оленя, Брагин. Он легок и стремителен, словно бежит по воздуху. Все его тело подчинено этой стихии бега. Упругая тетива мышц гонит его вперед. Но тигр рано или поздно настигнет его и съест. В этом жестокость, но и целесообразность природы… Мне жаль вас, Брагин. Вы не тигр. Маша не для ваших зубов. Один из нас должен непременно погибнуть, конечно фигурально. Я полагаю, что это будете вы… а я… Брагин, не дослушав, отвернулся. Посмотрел в окно. Увидел черное небо и разбитое в осколках солнце. «Наверное, будет дождь», — подумал он, тяжело переведя дух. — Ну, в самом деле, — сказал Фальковский, — зачем вам, простому советскому милиционеру, понадобилась дочь раскулаченного Дранкина? Вы люди из разных миров. Брагин хотел встать, но не смог возразить, не нашел, что ответить, ибо ему открылась горькая правда в словах Фальковского. Часть дня Брагин провел в одиночестве. После полудня он увидел Машу. Она была жизнерадостна и задириста. «Да, пожалуй, прав Фальковский, — вяло, словно о ком-то другом, подумал Брагин, — я не тигр». — Если ты будешь скучным, я сегодня танцую с Фальковским. Брагин что-то ответил, он не помнил что, лишь увидел, как у Маши удивленно подскочили брови. Но лицо Брагина оставалось спокойным, словно эту глупую фразу произнес не он, а некто другой, который хотел ему помочь, но не знал как. Он вспомнил ощущение сна, то есть его неожиданную забывчивость и неясность…
Над заливом собиралась большая очистительная гроза. На краю черного неба тяжело ворочались тучи; сталкиваясь друг с другом, они высекали огромные искры молний. Эти минуты внесли временное успокоение в душу Брагина. Он со злорадством подумал о Маше и Фальковском — танцы отменили. Вечером, сидя у раскрытого окна и вдыхая удивительный густой и тягучий воздух, пахнущий дымком, почувствовал острое желание пройтись. Он перекинул ноги через подоконник, и вязкое пространство сумерек увлекло его вдаль; там, как ему думалось, за декоративной синевой домов и деревьев скрывается его цель. Но если бы его спросили — какая, он все равно бы не смог ответить, потому что и дом, и садовая скамейка, и даже человек, идущий навстречу, могли быть ею. Брагин остановился внезапно, как если бы мокрой веткой хлестнуло по глазам. Маша! Удивляясь своей размеренности и спокойствию, Брагин подходил все ближе и ближе; они остановились друг против друга, пока любовная сила не соединила их в долгом объятии… Брагин гладил ее волосы, они блестели в мерцающем угольном свете ночи. Он смотрел в ее глаза, угадывая их на бело-матовом лице. Брагин поразился способности видеть их даже ночью. Они шли, взявшись за руки, сквозь скользнувшую полоску света, прыгая через невидимые журчащие ручьи. Вверху, в круглых темных кронах деревьев, звенели цикады. — Степа, мы где?! — Еще не знаю. — Что с нами будет, Степа?! Где солнце?! Его не было видно целый день… Мне страшно, Степа… — Все будет хорошо!! — Нет, нет, ты успокаиваешь меня, а сам не веришь, потому что это так очевидно; я вся дрожу, наверно я скоро умру. — Машь, ну успокойся, вот моя рука, бицепсы, кулак. Чего же еще?! — Глупый, разве я о себе! Вокруг меня словно тонкое, хрупкое стекло, дзинь — и нету; я думаю о тебе, как вспомню… становится страшно… Ну погоди, я сама… сейчас, все пройдет… — она успокоилась, опираясь на его руку. Брагин все время чувствовал расстояние между Машей и собой, и, несмотря на то, что это расстояние стремительно сокращалось, все-таки тонкая перегородка оставалась между ними. Наконец он решился преодолеть и ее. — Маша! А Фальковский?! — Я целый день ждала твоего вопроса. Я ждала, когда ты спросишь об этом сам. — Женщина из кокетства хотела почувствовать свою силу и свободу, чтобы потом решиться на самый важный, самый главный шаг в своей жизни. — Я рассердилась на тебя. Снова застучал по листьям дождь. Сначала их глянцевые плоскости пришли в движение, затем затихли в трепетном и невидимом ожидании. Но вскоре вновь застучали крупные капли, и листья в многоголосом перезвоне, каждый сам по себе и все вместе, подчинились одному закону дождя и ветра. Они долго целовались под дождем, струйки воды стекали по волосам, лицу, затекали в рот. Соленый дождь… Вернувшись домой поздно, Брагин осторожно, чтобы не разбудить спящих, зажег лампу, прикрыв ее газетой. Затем достал тетрадку, отчертил еще одну колонку, третью, заточил карандаш и в левом углу четко вывел: «Фальковский». «Взгляните на солнце, Фальковский. Его круг совершенен. И только любовь равнозначна этой огромной умиротворяющей силе. В сущности, дождь, деревья, цветы — та же любовь. Но только шар — великолепный, желтый, огромный, сияющий шар — символ ее. Любовь и солнце имеют право на существование». После этого Брагин крепко заснул. Был сон… Брагин так же стоял на посту. Напротив он увидел человека, одетого в темное. Брагин знаком попросил его подойти поближе. Когда незнакомец оказался рядом, Брагин спросил: — Я вижу у вас в руках скрипку. Вы схватили ее за горло. Кто вы такой, что так грубо обращаетесь с тонкой вещью?! По вашей вине я не услышу ее чистого и прекрасного пения. — Я вижу вас в желтом, и это мне о многом говорит, — странно сказал незнакомец. — Я не в желтом, а в белом; это косо падающий луч солнца делает меня желтым, — возразил Брагин. — Да, да, я вспоминаю, мы когда-то встречались… — Не будем спорить, молодой человек, белое так белое. Вспомните розу, например красную. Что вы о ней скажете? Красива — не правда ли? — и тем не менее вульгарна; а черная, махровая — прекрасна, не так ли? И все же желтая красивее… Желтый цвет — цвет свободы и чистоты. Наш девиз — государство любви. Наше знамя — солнце. Вы, вероятно, уже догадались: я президент Желтой республики. Если хотите, Желтая Швейцария — свободный кантон… Кроме того, я торгую лимонадом. Вы удивлены? Агитация в стакане воды, — он загадочно улыбнулся. — Как все молодые люди, вы недоверчивы и самолюбивы. Ха-ха… Вы думаете, что вас надувают. Хорошо, тогда обратимся к классике. Вспомните преступление молодого человека… «Раскольников поднял свою шляпу и пошел к двери, но до двери не дошел… Когда очнулся, то увидел, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, с желтым стаканом, наполненным желтой водой». Это был лимонад, я утверждаю. Вы улыбаетесь, а между тем нет более серьезного человека, чем я. Вы не верите? Ну хорошо, тогда скажите, какого цвета над вами фонарь? Брагин был поражен — фонарь был желт!!!
На дворе томился июль… Зной лениво кружился в столбе золотистой пыли. Солнце — рыжеусый кот: рожа круглая, жаркая — шаркнуло на подоконник. Пока хозяева спят, можно легкую кутерьму устроить. И поскакало на невидимой ниточке к стене, по корешкам книг, к глянцевому столу, по белому вороху кровати, а потом разбросало оранжевые пятна здесь и там, словно неряха апельсины ел. Однако у рыжеусого и другие заботы — землю будить, поднимать в синеву неба звонкие птичьи голоса. Брагин проснулся. И стало ему хорошо и грустно, как в детстве. — Машенька, посмотри, какое нынче желтое воскресенье. Он подумал о женщине, которая всю жизнь была рядом. Он подумал и о том, что не мог дать этой женщине полного, настоящего счастья. — Машенька, ты спишь? — снова спросил он. «Спит», — решил он про себя. Но голос, глубокий и чистый, ответил: — Нет, я проснулась давно и думаю, только лежу с закрытыми глазами. И знаешь что я решила? — Нет. — Я пойду сегодня с тобой, я надену свое лучшее платье, и мы целое воскресенье проведем вместе, рука об руку. — Машенька, дорогая, но сегодня нельзя — мне дадут нагоняй. Нет, сегодня никак нельзя! — Вот так всегда, — она обиженно опустила уголки рта. Ее ресницы дрогнули и глаза, наполненные влагой, открылись. Ничто в них не изменилось за годы, только чуть-чуть потускнели…
Рассказ этот записан со слов постового милиционера. Мне же в этом рассказе принадлежит одна-единственная фраза, которую можно теперь отнести к самому началу рассказа: «Будь спок, Дранкин, — Маша больше никогда не вернется!»
Влюбленный ноумен
В полдень ночные сторожа спят. А жаль, ибо иной полдень в Ленинграде бывает ох как хорош! На тончайших весах колеблется воздух-мираж. Из ватной тучки сыплется такой мелкий дождь, прямо-таки волосяной, что к земле он совсем слабнет… Облака не белые, а мерцающие от белизны, — не настоящие, отчего каждая крупица нашего естества кажется тоже не настоящей, а придуманной для полноты счастья и детства. А дети, что ж, они тут, рядом, в цветнике, топчут его и смеются. Над ними и позади прохладный, задумчивый Исаакий. На каменном лбу его древними грамматистами сделана медная запись: «Господи! Силою твоею веселится царь». В полдень — высокое небо и голова Исаакия, которая вечно полна солнцем.В такой вот полдень сидит на скамейке Сухов, погруженный в себя молодой человек, сидит, а сам палочкой на земле знаки рисует. С виду занятие серьезное, а на самом деле блаженный пустяк. Солнышко греет, земля круглая… Хорошо!! А рядом город, сам по себе: улицы, дома, люди, люди… И Сухов подумал: «Не то что в твоей тундре — на сотни верст ни души». Во внешности Сухова наблюдалось редкое сочетание: пепельные волосы и черные глаза с сухим блеском. Детишки уже окружили одинокое дерево и играли подле него. Другие деревья словно отошли в сторонку, на ярко-желтый песок, а дальше за ними — зеленый газон, по которому уже прошелся отточенный нож косилки, и, возможно, тогда звенела трава, падая вниз, в шелестящую ость. Думается в этот полдень о той грустной и суровой красоте края, откуда он сам. О том, чего не сделал еще в Ленинграде за время отпуска: не сходил в Эрмитаж, о чем позже будет жалеть, потому что тонкая красота так и не слилась в сердце с грубым миром суховской жизни. Не успел, а может быть и не хотел, видеть в зоопарке зверей. Звери в клетке, по суховской мысли, грустные оттого, что в них не сама жизнь, а лишь бледная тень ее. — У вас свободно?! Сухов очнулся, рядом стояли две стройные женщины в белом, почти призрачные от обилия светлого: лицо, платье, волосы, руки. Промелькнула мысль: «Вот этих бы зверюшек с удовольствием спрятал бы в клетку». Только зачем так? У него в избушке, на Таймыре, тоже клетка, на сотню верст один мужик — Николай Григорьевич Сухов. Широко, по-хозяйски, пригласил: — Садитесь, садитесь… — Нет, зачем же так — мы на лучшем месте, а вы на самом краю? Садитесь поближе, места всем хватит. Лицо ближней порозовело, но под толстым слоем пудры оставалось не настоящим, застывшей маской. — А вы нездешний?! — спросила она. — Я по говору слышу. Какой-то странный… — Я на Севере работаю, а теперь в отпуске. Сорок два дня убить надо. Сухов теперь внимательно смотрел на говорившую. Ее лицо улыбалось, но улыбка получилась странной — от разных глаз, голубого и зеленого, ясно и холодно вспыхнувших на свету. — А вы на Севере как оказались? Родились там? — снова спросила она. — Нет, мои корни на Кубани, но так случилось… Другая женщина, ее подружка, вдруг перебила: — А какая там погода? — Весной тундра мокнет, словно насморк схватила, а летом жара, два градуса плюс… Выслушав Сухова, она безучастно отвернулась. Теперь он рассмотрел и вторую. Она сидела боком. Спокойное лицо как бы разделено на две части, нижняя — с круглым открытым влажным ртом — находилась в состоянии глубокого сна, верхняя — проявляла живой интерес ко всему, что происходило вокруг: к играющим детям, прохожим, — и эта верхняя часть вновь вспыхнула интересом к Сухову. — Неужели вы провели на Севере все годы? И один? Я бы умерла от страха, среди сугробов и медведей. — На ее лице стойко удерживались спокойствие и уверенность. Сухову нравилось это лицо, в веснушках, часто менявшее свое выражение, но всегда остававшееся простым и ровным. Сухов был доволен и собой, потому что сумел привлечь ее внимание, уже самовлюбленно отнеся это обстоятельство на счет своей внешности, о которой в прежнее время почти никогда не думал. Она ждала ответа. — Это очень просто, — сказал Сухов, — нужно одухотворить абсолютное равнодушие в природе, чтобы затем приспособить его для себя. Вот и все. Теперь женщины смотрели на него с недоумением. Сухов видел, что они не хотят или не могут понять главного в его рассказе. Их занимало что-то другое, им непонятное, но в сущности простое. — А разве в природе есть равнодушие?! — спросила первая, — Это какая-то мистика! — Есть, — кратко ответил Сухов, — поровну, полста на полста. Конечно, он не скажет им ничего серьезного: как пережил горе, мучился зубами — бедой всех полярников, страдал от одиночества, но все-таки стремился к нему, поэтому, видно, быстро преодолел его. Как в одиночестве писал стихи, заполнив размашистым почерком полторы общих тетради; учился управлять упряжкой и первое время, пока собаки не прижились, езда на них казалась смешным и никчемным делом. Там, откуда он родом, никто на собаках не ездил, но вскоре упряжка работала дружно, и лишь на подъеме, вытягиваясь в струнку, собаки тянули шагом. О, этот первый северный год! Сколько промахов! Сколько открытий! Второй год прошел спокойнее. Чувства притупились. Освоил, наконец, сложное промысловое хозяйство, многому научился сам, многое перенял у других. К третьему сезону куда-то исчез лемминг, а вслед за ним исчез и песец, промышлять было некого. И лишь четвертая осень сложилась удачно, обещала хороший урожай. Тундра попискивала пеструшкой. Теперь Сухов действовал по науке, прикормил места, заготовил сразу четыреста капканов, но, возвращаясь с промысла весной по тонкому льду залива, провалился в полынью. Слепило яркое солнце, была весна, и Сухов, видимо, заснул. Нарты, добытый мех, ружье, собаки — все сгинуло в черной воде залива Заря; потонули и толстый дневник, полный стихов и замечаний, и вожак упряжки, умная сучка Маруся. Целую неделю он лежал безучастно на лавке, питаясь чем попало: грыз сухари, ел сырую картошку, сушеную рыбу, подолгу уставясь на стоящий в углу карабин. Думал тогда: «Как легко спустить курок…». Но спасла человеческая слабость, жалость к слепому псу Борьке, который непременно погиб бы от холода и голода, так как оставил свои глаза зрячие на снежных путях от Экклипса до Диксона. Тогда и появилась сильно усатая личность небольшого роста, дед Паша. Привел с собой трех собак, старенькое ружье дал, словом, поддержал и умом и делом. Сухов обрисовал вслух портрет своего товарища. — У него плоское лицо, густые усы и брови. Однажды дед Паша нечаянно повстречался с мишкой и с тех пор носит свернутую набок скулу. А собираясь в отпуск, распустил густую растительность по обличью, чтобы жена не испугалась… Сухов скупо рассказал о природе: вечно сырое небо, бурая до горизонта тундра, а там, дальше, на кромке земли лежат голубоватые сопки, а еще дальше, в центре Таймыра, — сказочное озеро, полное дичи, рыбы и красоты. Женщины слушали. Сухов говорил и не узнавал себя, что-то бурно толкало его на беспрерывную речь. Прежде глухой и невыразительный голос теперь приобрел богатство оттенков, а мысль работала в поиске новых красок и выражений. Сам Сухов удивился такому превращению, а возникший вместе с тем озноб хорошо отражал лихорадочность его ума. Однако что-то не вязалось в суховском рассказе, хотелось чего-то иного, что бы соответствовало его нынешнему состоянию духа, поэтому он и вспомнил смешную историю о мышке. Василий Васильевич Рикардо, капитан снабженческой шхуны «Нерпа», был известен на побережье по прилипчивому прозвищу Вась-Вась. Однажды последним рейсом Вась-Вась доставил большой, чуть ли не метровый, фанерный ящик. — Вот шарики от пинг-понга, возьмешь? — спросил он Сухова. Сухов удивился: шарики!! Это прибавило уверенности капитану. — Бери, Сухов, ты же культурный человек, спортом заниматься будешь в свободное от работы время, цинги не будет, еще спасибо скажешь! Но Вась-Вась был просто сражен, когда Сухов согласился, и не понять было ему, что ящик напоминал Сухову о какой-то далекой, странной и поэтому смешной жизни. А между тем шарики понравились собакам; пока не изгрызут десяток, ни за что не тронутся в путь — условный рефлекс! С того времени каждый год заказывал по два ящика. И вот однажды, готовя к походу снаряжение, Сухов подгонял лыжи, а паяльную лампу в сторону поставил. Сразу вспомнить не мог, отчего взрыв раздался, как брови опалил, как угол с ветошью занялся огнем. Но потом, распределяя аккуратно мысли, понял, что пламя лампы направил на ящик с шариками, а те — словно порох… Прошла неделя или две — из черного угла появилась серая мышь с пестрыми глазками, как бы подтверждая, что материя никуда не исчезает, а только переходит из одного состояния в другое. Мышка Сухова боялась и бегала только по ночам, что-то ела, шуршала, громко грызла. Чтобы упорядочить сожительство, Сухов клал с вечера по две печенюшки на волохастое одеяло у своих ног. Этого ей хватало до утра, а днем мышка куда-то пряталась. Сухов теперь с теплым чувством вспомнил ее милую мордочку и зеленоватые точки глаз. — А вот нынешней весной погибла, — сказал Сухов, вспоминая ее, как близкого друга, — видно, не вынесла своего мышиного одиночества. Не заказывать же ей на Диксоне дружка? И уж совсем войдя в роль, Сухов рассказал еще про деда Пашу: как однажды тот пригласил его на свой день рождения в бухту Толя, а дело в том было, что Паша родился 8 марта. И это обстоятельство само по себе делало случай необычным. Однако, придя в гости, хозяина дома Сухов не обнаружил, лишь на столе записку: «Покорми собак, жди, скоро вернусь». Кормил собак, ждал сутки, вторые, неделю, две… Рассердился, плюнул, свистнул своих собак и ушел. А прежде снял со стены яркую открытку: солнечный пляж, пальмы и здоровенная негритянка с копьем. Дед Паша картинкой дорожил. «На мою бабу чем-то похожа, такая же свирепая», — любил говорить он. Сухов же, уходя, оставил записку: «Спасибо, угостил на славу, за мной тоже не станет. За простой с тебя пять шкурок, не отдашь — застрелю. Ты меня знаешь!» — Ну, а женщины?! — спросили, смеясь, новые знакомые. — Знаете, это скучная тема. Кто-то сказал: «На Севере губ много, а вот целоваться не с кем». Все это верно и для меня, — ответил Сухов. Однако время бежит быстро, как добрая упряжка с горы. Сухов знает их имена: первую зовут Галей, а ту, что с веснушками, — Катей. Сухов пристально разглядывал их, теперь словно впервые увидел: женщины были похожи. — Сестры? Они смеются: — Да, отчасти! — Как это «отчасти»? Такого не бывает! — Отчасти — бывает. Как говорится, полста на полста! И решительно заторопились: — Однако пора, жаль, конечно, расставаться… — Зачем расставаться, — нахально выступил Сухов, — нам, кажется, по пути? А может быть, пойдем в ресторан? А? — Нет! — говорит Катя. — Мы не одеты, да и лучше дома, за чашкой чая, если, конечно, не боитесь!! Дом у Кати большой, желтый, постройки тридцатых годов, почти все окна во двор, эту нелепость замечаешь сразу — стоит поднять голову. Катя левой рукой держит маленькую шляпку, а второй, свободной, показывает вверх: — Вот оно — мое окно, да не туда, левее, с красными занавесками на кухне… Сухов ничего этого не видит, он смотрит вбок, на Катю, и тоже кричит: — А финская кухня у вас есть? Катя ловит взгляд, грозит нарочито пальцем.
Провожая Галю домой, Сухов пытался запомнить обратный путь до Катиного дома: то мелькнувший поворот, то необычную улицу, то номер дома. Он злился на Катю, что та, прощаясь, не подала никакого знака. Вечер был хорош, они сидели друг против друга и разговаривали, почти исключив из этого разговора Галю, пили кофе, много курили. Было поздно, и Галя обиженно заторопилась домой… Сухов шел рядом с Галей, избегая разговора, обходясь только необходимыми словами. Сбоку Галино сходство с Катей усиливалось, он видел, что она такая же стройная и сильная… Может быть, поэтому злость и разочарование вскоре исчезли. У самой двери они остановились, вышла заминка, Сухов долго искал сигареты в карманах. Галя сказала: — Пойдем, у меня есть, зайди на пять минут… Галина комната была небольшой, с желтым неясным светом, неровным полом. Окно, обклеенное крест-накрест полосами газеты, напоминало военные годы. В углу возвышался дубовый шкаф, украшенный резьбой. Рядом — старый кожаный диван. Свет в этом месте ломался и скользил по глянцевой коже дивана, и казалось, что в трех ямках сидений застыли стекловидные корочки льда. Середину комнаты занимал стол, тоже дубовый, на его массивной поверхности неряшливо лежали тонкие, напоминающие яичную скорлупу, фарфоровые чашки с грязными потеками кофе. На фаянсовой хлебнице, вместе с пеплом, — серый хлеб. В тарелке — остывшая картошка в масле с воткнутой косо вилкой, массивная ручка которой нависла над тонким краем голубоватой тарелки. На столе он увидел пачку сигарет и подумал: «Вот предмет, ради которого я здесь». Но теперь в душе Сухова что-то переменилось, и уходить уже не хотелось. Галя сидела боком, подтянув под себя ноги, он увидел близко на шее пульсирующую голубую жилку. В зеркале он видел издали то, чего не мог видеть вблизи: знакомый женский изгиб, а рядом себя — человека с перекошенной улыбкой и маленькими глазами, признаком тайных пороков. В тишине на ковер ступил кот. Он двигался плавно, неслышно, как и подобает хищнику. Затем остановился, стал царапать ковер, и казалось, что в комнату с треском летит электричество. Это ощущение вскоре передалось им… Отдыхая, они долго курили, одну сигарету за другой, медленно и глубоко пропуская дым в легкие,сигарету за сигаретой, пока она не сдалась: — Нет, я так больше не могу, ты все время думаешь о ней. — В ее тоскливом голосе была обреченность и усталость. — Это какой-то… — И она произнесла слово, поразившее Сухова своим грубым неприличием. Он одевался медленно, затем подошел к столу, на столе лежали сигареты — алая пачка с неровным рядом зубов-сигарет. Он смял ее и наотмашь кинул в угол, и комок влетел стремительно, как шар в лузу. На Галином лице держалась странная улыбка. На улице он задержался, пытался определиться, но ничего не узнавал. Было уже поздно, и Сухов двигался в никуда. Он шел быстро, над городом уже поднималась заря, он побежал, бешено стуча каблуками по асфальту. Он бежал, покуда хватило сил. Затем остановился. Это был темный, душный переулок. Казалось, что в узком каменном провале отдаются гулкие удары суховского сердца. Тогда он полез под рубашку и влажной ладонью пытался задержать его бешеный пульс. На высоте громко откинули ставни, и жаркий шепот проплыл над суховской головой: — Степ-а-а-а-н, это ты? — Я, — невольно ответил Сухов. Какое-то сладостное ожидание задержало вдох, он ждал, казалось, вечность, приложившись горячей щекой к шершавой стене дома. Сверху трезво вернулось: — Дурак! — Дурак, — повторил переулок, и город, пробуждаясь, начал тихо смеяться.
О, золотой Исаакий, может, это и есть любовь?! Тогда — какая она?! В косичках?! А может быть, обнаженная и толстая дева с крупными щеками, как на старых олеографиях?! А может быть, такая, как Катя? Незаметная, тихая и спокойная во всем. Катя… Он искал ее на улицах, в магазине, в метро. Он нашел, как ему казалось, и тот тихий переулок, где живет Катя, но похожего дома не было. Тогда он решил заходить в каждый похожий подъезд и справляться, где живет высокая женщина, вся в белом. Он, видимо, что-то путал, потому что никто не мог показать ее дом или вспомнить ее. Люди участливо глядели на упрямое безбровое лицо, разводили руками, сочувствовали, смеялись. Чтобы избежать лишних вопросов, он купил книжку и теперь, просовывая ее в дверь, спрашивал, как найти хозяйку книги — светловолосую Катю, книгу она потеряла или забыла. Но люди на книжку почти не глядели, а изучали почему-то его лицо и хитро улыбались. Длительные поиски превращались в самоцель. И он с ужасом ловил себя на мысли, что забыл Катино лицо настолько, словно его вовсе не было, словно оно существовало только в его воображении. Тогда его грудь охватывал холод, он возвращался в гостиницу и там, лежа в постели, в тишине ночи, призывал свое воображение, чтобы увидеть Катино лицо вновь и вновь… И сегодня улица плыла, а вместе с ней — трели трамвайных звонков. По рябой мостовой, покрытой пленкой дождя, катили тяжелые груженые машины. И плыла улица с домами на тридцати трех воздушных подушках, величественная и простая. На седьмые сутки Сухов сидел там же, в скверике, где впервые увидел Катю. Над ним было такое же сказочно высокое полдневное небо. Он сидел на скамье в странном оцепенении, задумчивый и отрешенный. Сегодня в центре скверика, среди покошенной травы, стоял водомет, который, кружась, очерчивал студенистый круг, похожий на медузу. В коляске проехал розовый мальчик, похожий на тюбик бархатного крема. «Интересно, вспоминает ли обо мне Катя?» — подумал Сухов. — Здравствуй, Николай! — Здравствуй, Катя! Они поздоровались спокойно, словно расстались вчера. Она возвышалась над ним, листья деревьев звонко трепетали над ее головой, солнечные блики отражались на смуглых руках, и весь облик ее был сродни крепкому стройному дереву. — Я везде искал тебя, — медленно сказал Сухов. — И я тоже думала о тебе и боялась… — Я подлец, Катя! — Я это тоже знаю… Она села рядом. — Вот тебе книга в подарок, мы вместе с ней искали тебя, возьми! — сказал Сухов. Катя пристально посмотрела в глаза и что-то прочла в них. — Хорошо, я возьму ее, — сказала она. Эта женщина так спокойно действовала на него, что были минуты, когда он краснел от нетерпения. — Куда мы пойдем? — спросила Катя. Сухов стал весел и беззаботен, как прежде: все в нем перекатывалось от радостного чувства. — В магазин, покупать мне костюм… В магазине, с высокими окнами и прохладой от тяжелого рюша, они выбирали костюм. Черный? Или серый? Они выбирали долго, радуясь счастливой возможности покупать вместе. Им помог продавец, с лицом, измятым, как старое полотенце. — Возьмите серый, это дорогой костюм, это приличный костюм. Каждый молодой человек должен иметь хотя бы один приличный костюм, особенно такой человек, как вы, чтобы не пропало чувство собственного достоинства. Сухов подошел к кассе, неловко вытащил деньги прямо на прилавок — и, странное дело, деньги в его руках потеряли свой извечный магический смысл. — Такой молодой и уже счастливый, — произнес продавец. Николай подошел к продавцу: — Я здесь, чтобы все находить заново. — При этом он незаметно глянул на Катю. Продавец не понял, но улыбнулся — не его непонятным словам, а тому ощущению молодого нетерпения, которое не мог скрыть Сухов. — Носите костюм, молодой человек, и запомните: «Любовь — это сладкая ноша…» Из магазина Сухов вышел в новом костюме. Город в сумерках — тот же костюм, серый, только иначе сшит: фантазия радиальных строчек — улиц, приподнятые плечи кварталов, широкие лацканы площадей, глубокие накладные карманы магазинов, и всюду чугунные кружева — знаменитый ажур ленинградских оград. Они шли по этому странному городу-костюму, родившемуся в их воображении. Их движение напоминало точки и тире, где точки — лишь короткие мучительные остановки, а тире — долгое прямолинейное движение. Таких точек всего было три. Первая — у густолистового сквера, вставшего темной стеной над лакированной поверхностью канала. Вторая — на скамейке у толстой афишной тумбы, стоящей одиноко рядом с чугунным мостиком, по звенящей подкове которого то и дело цокали каблуки прохожих. Третья — у стены ее дома. И всякий раз, когда Сухов касался Катиной руки, трепетный пульс чужого тела передавался ему. Сумерки погустели. Одинокий светящийся круг уже вписался в темную середину неба, а вокруг в бесчисленном множестве мерцали лохматые звезды. Но декорированное под ночь небо, с огромным софитом в центре, — уже не жизнь, а театр. И, как во всяком волшебстве, что-то возникает вдруг… Возникло круглое облако, которое как бы скатилось с луны, и тогда ночь, полная мрака, заструилась серебряным светом. А рядом Нева. По реке шумнул ветерок, он пробежал и по лицам, донес тонкие запахи влаги и ускакал дальше, закручивая маленькие водовороты на реке. Они остановились в незнакомом месте. Слева поднимались унылые кварталы новостроек, дань урбанизму. А справа, совсем близко, возвышалась искусственная насыпь, которая, легко изгибаясь, уходила в темноту. Из этой дали приближалась электричка, далеко вынеся вперед острую светящуюся иглу. Они подождали. Электричка, по-ямщицки свистнув, лихо пронеслась мимо. Катя в задумчивости подняла голову, широкое бледное лицо, без тени, казалось искусственным. От усталости ее голос был невесомым, почти неслышным. — Зимой мы будем промышлять зверя, — говорила Катя, почему-то упорно нажимая на последнем слове. — А летом отдыхать в Ленинграде, в моей комнате у Финляндского вокзала. Сухов смущенно слушал ее голос, и чувства одиночества пропадало. Несмотря на то, что Сухов мог легко разрушить Катино представление о жизни на Севере, он не стал этого делать, ибо сам был счастлив в эту минуту. Потом они ехали в пустом освещенном троллейбусе, в далеком углу сидела юная женщина-кондуктор, издали похожая на птичку. Ее голова качалась в такт движению, и большие темные глаза то и дело закрывались от усталости. Сухов и Катя молча сидели, прижавшись друг к другу. Сухов первый прервал молчание: — Мне вспомнилось детство, ночь в Теджене! Мы переехали туда, когда мне исполнилось девять лет. Хочешь, я расскажу о ней? Представь себе среднеазиатскую ночь, караван-сарай, темно-синий шар неба, раза в два гуще этого. Маленький глиняный городок, где жили мы с отцом и матерью, гибкое пламя пяти или шести высоких костров, хриплые трубы и веселая гортанная речь. Мальчик и девочка — канатоходцы стояли высоко на проволоке, невидимой снизу. Может быть, это были не дети, откуда мне знать, но в памяти они остались детьми. Что они делали там, мне неизвестно, только непонятно перемещались без какого-либо плана, подчиняясь лишь внутреннему побуждению. Две стройные фигурки, неподвижные, строгие, отрешенные, как сомнамбулы. Я не знал более сильного впечатления, чем это… Катя молчала, она думала о чем-то своем. — Куда мы едем? — вдруг встревожился Николай. — К моей подружке. Они сошли на ближайшей остановке. Сверху мутно рокотало. Вверху рождались темные волнующие облака, они сталкивались и расходились, касаясь предгрозовой мембраны неба. По водосточной трубе уже скреблась влага. — Пошли быстрее, еще успеем в магазин, — сказала Катя. Приглушенный звук дождя уже пробудил в суховском сознании какой-то веселый, волнующий эпизод. — Катя! Ты случайно не знаешь, когда спят ночные сторожа?! — Нет, конечно, я о таких пустяках не думаю! Странный ты какой-то! А что? — Да нет, это я так просто…
Ощущение неясной тревоги возникло сразу после этой черной кнопки, кнопки, похожей на поплавок и утонувшей под нетерпеливой Катиной рукой, когда широко, словно тяжелая шуба, распахнулась дверь, шурша малиновым подолом по жесткому паркету. А может быть, тревога возникла позднее — от тонкого пальца-закладки, зажатого в толстых половинах книги, что держала Вера, Катина подружка, от которого исходило реальное ощущение физической боли. Он еще думал над этим чувством, когда Катя тронула его рукой: — Коля, ты слышишь, Верочка спрашивает: сколько длится полярная ночь? — Шесть месяцев в году там стынет солнца свет, а шесть — мороз и ночи окаянство. — И заговорщически наклонился к Кате: — Бодлер! Правда, здорово! Мне один заезжий москвич за две песцовые шкурки сменял. За столом было шумно, сидели молодые люди — пар пять, мужчин и женщин. Николай удивился, что они собрались так быстро. Стол накрыли наспех — сухая колбаса, нежные листы салата, бледные ломти сыра. Сыр резали широкими пластинками, и он казался ноздреватой тканью, изъеденной молью. На голубых тарелках в зеленом беспорядке горошин лежали розовые колонки сосисок. Николай хотел накупить еще чего-нибудь, но Катя отказалась. Стол был накрыт в стороне, оставалось еще место для танцев. Николай почти никого не запомнил и теперь прислушивался к именам, чтобы не попасть впросак. Напротив сидел рыжий парень, он почему-то неотступно следил за Катиным взглядом. Держался он фамильярно, но этого никто не замечал, потому что каждый был занят собой. Вдруг рыжий встал, торжественно поправил вспученный галстук, обошел стол и важно, на твердых ногах, приблизился к Кате. Наклонясь, он тихо заговорил с ней. Николай не различал слов, только заметил неровное движение кадыка — от жесткого ворота до раздвоенного подбородка. Парень увидел изучающий взгляд Сухова. Очевидно, смутившись, он с вызовом засмеялся: — Ты знаешь, Николай, мы говорили о тебе. Катя — великолепная женщина, ты согласен? Николай не ответил, он начал злиться и чувствовал себя глупо, однако освободиться от злости не мог. Заиграла музыка, в ту же минуту рыжий пригласил Катю. Она виновато оглянулась, но пошла, на ходу оправляя платье. Музыка, казалось Сухову, длилась вечность. Катя весело смеялась. Когда кончилась музыка, парень сел рядом с ней. Сухов пристально изучал его лицо, пытаясь найти малейший недостаток или огрех, чтобы в злорадном чувстве подняться над ним и обрести хотя бы внутреннюю уверенность. Так самолюбивый Сухов делал и раньше, когда ревнивая обида тяжело ложилась в груди. Но теперь почему-то не получалось: то ли парень был действительно красив, то ли злость была не так сильна, как прежде, однако Сухов удовлетворился ложным выводом, будто все красавцы глупы. На этом успокоился, хотя жалость к себе осталась, она-то и подняла из глубины души таймырскую избушку: тусклый обледыш окна, застывший в торосах залив и деда Пашу. «Здравствуй, дед Паша! Пишу мысленное письмо твоей замерзшей таймырской душе. Мне отчего-то грустно; наверное, ты прав, теперь нет места идеализму, рожденному в одиночестве. Прощай, мой бородатый друг, и до скорой, видно, встречи! Да! Я совсем забыл. Катя! Странная Катя, я тебе уже говорил о ней…» В его прежней жизни было все просто и мудро. Он должен бить птиц, ловить зверей, солить рыбу и кормить собак. Он потерял вдруг интерес к хитрости мысли, ловко подстроенному ходу, к легким веселым чувствам. Видать, по-иному замешана его судьба. Кто-то хлопнул его по плечу: рыжий стоял сзади, холодно касаясь галстуком суховского затылка. — Послушай, влюбленный ноумен! — Федор, кончай умничать! Сухов с удивлением для себя обнаружил, что впервые слышит имя рыжего. — Ты не обижайся, Сухов, это, по Канту, непознаваемая «вещь в себе». — И заученным тоном продолжил: — Согласно ложной теории Иммануила Канта, объективный мир, существующий независимо от нашего сознания, непознаваем… Так вот, — с сочувствием произнес рыжий, — это нам только кажется, будто мы выбираем, на самом деле выбирают нас, понял?! И все-таки ты теперь согласен, что твоя невеста просто великолепна? А?! Ба, невеста!!! Давайте окрутим их! А! Все пьяно загалдели: — Ура! Свадьба, свадьба!! Снежного человека и белой медведицы!! — Катерина! Прошу слова! — вмешалась Вера. — Я протестую. Он должен сначала дать выкуп! Рыжий хлопнул в ладоши: — А ведь верно, Катя! Это великолепно! Сухов словно впервые увидел Катю, он издали делал ей знаки, но она сидела прямо, высоко подняв голову. Он полез в карман нового пиджака и вывернул его наружу, и красные бумажки косо рассыпались по столу. Их было неприлично много. Наступило неловкое молчание, лица гостей неожиданно поглупели. Рыжий, ломая язык, восхищенно крикнул: — Ну, что за чилдрен, просто прелесть!!! Другой, сумрачный голос проговорил: — Он может купить Исаакия! Вот так нумер! Сухов теперь почувствовал удовлетворение. Он смел жесткой рукой десятирублевки, встал, резко опрокинув стул. У самых дверей его догнала спокойная фраза рыжего: — Уходит по-английски, без шума! — Ну и пусть, надоел! — отрезала Катя.
Аверьян
Аверьян остановился, чувствуя глухое упрямство двери; он прищелкнул от холода пальцами, сухим обрывистым звуком наполняя сени, а затем снова налег на дверь, упираясь ногами в дощатый пол; сквозь прижатую кисть, принявшую мощное давление груди, кто-то быстро и горячо рвался наружу: стук-стук-стук… Но дверь не шла, упираясь в невидимую преграду. Ему показалось, что некто, еще более сильный, по ту сторону двери не пускает его на свет, из темноты сеней. Вдруг осознав умом нелепость такого положения, он тихо размяк, ослабел от внезапного смеха, особенно после того, как через открытую щель двери головокружительно остро ударила струя морозного воздуха и больно резануло глаза от ослепительной белизны. Аверьян кинул вверх одну за другой три полные лопаты снега и чуть не вскрикнул от светлой радости — так был хорош арктический снег. Он падал, кружился, вальсировал, холодно искрясь на свету, падал бесконечно долго на лицо, на грудь, за ворот белой сорочки. При беглом взгляде на природу казалось, будто ничего решительного не произошло, по-прежнему было морозно, кругом лежали тучные пласты снега, не грело да и не светило солнце, вместо него — вспышки красноватого огня, словно кто-то далекий вел электродом по зазубринам сопок, пытаясь приварить их неровные края к холодно-серой эмали неба. И только. Весна!!! Целый день над сопками Шпицбергена крутился упрямый молодой ветер, под его тепловатым напором снега мелодично, грустно хрупнули и просели, но крутой вечерний морозец вновь сковал их на этом уровне; так день за днем, хрупая и оседая, тоньшели снега. По длинной узкой долине Мимес, вскипая белыми бурунами в порогах, бешено клокоча и брызгаясь пеной, скакала, неслась речка того же названия, коричневая от песка и ила. Мимес — результат гигантского давления ледника Боруп. Лежа как бы в разрезе, огромной сверкающей глыбой он двигался со скоростью несколько сантиметров в год, чугунной тяжестью тащил валуны, крошил скалы и, наконец, плавился прозрачным ручейком. Вначале ручей нежно булькал, никого не беспокоя, но затем, набрав силу, вздувался, выгибал спину, горбился, пока не превращался в грозную Мимес-реку, которая, преодолев каменистые глыбы, уносилась звонко к свободному ото льда морю. В устье река разветвлялась и становилась похожей на дерево, растущее корнями вверх; у левого, самого извилистого отростка стоял Аверьян. Подумал вслух: «Халабуду перенести надо, а то ночью Бугель замерзнет». Знакомый голос или бессонница подняли из конуры и выгнали наружу крупного пса Бугеля, он пружинисто выгнулся в спине, от головы до кончика хвоста, оскалив молодую розовую пасть, и неожиданно высоко зевнул. Потом стал в обычную позу, встряхнул два-три раза рыжей гривой, подошел к Аверьяну и ткнулся доверчиво в колени лобастой мордой. Аверьян с удовольствием запустил пальцы в теплую густую шерсть, потрепал пса. — Думаешь, пора?! Ну, тогда минутку! Я быстро, зевнуть не успеешь! — Он спешно кинулся к двери, рванул ее за выступающую скобу, еще раз и еще, окончательно расчищая крыльцо. Он еще секунду боролся с холодом, но, не выдержав колючего мороза, кинулся внутрь сеней; рубашка холодно касалась тела, словно кусок замерзшего металла. Аверьян застучал сапогами по играющим ступенькам, звук замер за ним, но вскоре вновь ожил, сверху вниз. Аверьян был в полушубке и шапке-ушанке. — Бугель, фю-й-ть!В другой раз Аверьян непременно пошел бы в обход, по крутым замшелым камням, стекловидной корочке льда, мелодично коловшейся под ногами, но там нынче сыро, бесчисленные подземные ручьи стучали в глубине о камни — таили опасность. Он свернул влево, к сырым деревянным мосткам, — тут путь короче, ему спешить надо. Слабый ветерок холодно разгонялся с гор, студил шею и грудь, курчавил непокрытый чуб. Шел Аверьян и удивлялся: — Что делается, Бугель, погляди, кругом! Весна! Тут зимой, помню, камень был. А теперь его нет. Не иначе, всего пургой источило! Он вспомнил прошедшую зиму, которая началась в августе, когда внезапно из маленькой серой тучки повалил снег и падал субботу и воскресенье. А потом на долгие три месяца наступила сплошная темнота, черная и тревожная, как омут. В октябре и в марте дико, по-хулигански свистели вьюги, ветер остро брил щеки, стремительно поднимал мускулистые вихри снега. Два раза дом покачнуло, но он устоял; в двери и стены с пушечной силой летели камни; морозные куски разнокалиберного снега, наконец, в феврале, вышибли крохотное оконце под потолком — до сих пор там торчит угол цветастой подушки. Аверьян хотел заложить дыру фанерой, но передумал: в щелях было единственное спасение от курильщика Кравцова. Электричество заменяло людям солнце — настоящее скрылось, а искусственное горело всю ночь, поднимало людей на работу, крутило фильмы, гнало составы с углем на товарный склад. И привыкшие к электрическому свету шахтеры по субботам лихо плясали в клубе, а потом, умаявшись от труда и песен, возвращались в свои глухие дома и спали. В те дни Аверьян особенно тосковал, плохо спал, мучился; ему казалось, что все заботы, воспоминания, заполнявшие его прежнюю жизнь, — всего лишь досужая выдумка, болезнь воспаленного ума, а реальность — вот она, бледный навязчивый свет луны, диск, начищенный таз, плафон, — чего только не лезло в голову! Он петушился, не признаваясь себе, что этот враждебный холодный свет имеет над ним какую-то власть. Но правда заключалась в том, что темное небо, холодный блеск звезд рождали в его душе непонятное колючее беспокойство. Он вспоминал свою одинокую жизнь, прислушивался к волнующему бою сердца, но не находил там отзвуков сочувствия к себе, человеку без домашнего тепла. Однажды луна была так близко, так нахальна, что он не выдержал, схватил черепок льда и кинул вверх в заиндевевший круг. Черепок падал в чистом, текучем потоке морозного воздуха, лениво вертухаясь и шелестя, пока больно не врезался в плечо. И вмиг все изменилось. Все стало на место: позеленевшая луна, холод и, как подтверждение его реальности, клубочек застывшего пара у рта. Сноп снега лился из перевернутой чашки уцелевшего уличного фонаря; внизу, в желтом круге, плескалась вода, так казалось… И это в феврале-то! Когда повалил фиолетовый снег… В такие минуты приходили мысли об Ольге, вспоминались раскосые глаза, смолистые волосы и брови. «Да, нелегко ей таскать Ирину в мороз-непогоду». За этой мыслью приходила другая — осторожная мысль-надежда, однако непрочная, как полоска рассвета. Наступило, наконец, время, когда все скрытое — лишайники, желтые лютики, бледная немощная травка в стоячей ржавой воде — открылось. Проще говоря, неслышная работа земли, теплого воздуха и подземной влаги сделала свое дело. Аверьян поднялся на носках, чтобы лучше разглядеть: земля так трудно освобождалась от тяжкого бремени зимы, что ему показалось, будто дневной свет вскоре исчезнет, и, охваченный внезапным волнением, он еще раз глянул на солнце. У Великой Арктической Тишины каждый звук на счету. Влажные доски под ногами поют. То Бугель глотку прочистит, то пуночка чирикнет или тоскливо, голодно закричит бургомистр — крупная чайка в небе. Ирка вышла ему навстречу, раскачиваясь, руки в стороны, словно пингвин. Снег топчет не глубоко — топ-топ-топ… Неуклюжесть от верблюжьего платка — пушистого и ласкового. «Бухх-ель, Бухх-ель», — говорит, словно звенит. — Здравствуй, Ирка! Ну, что нового? Опять ничего? Кругом жизнь такая интересная, триста вторую лаву запустили, скоро премию дадут, а ты знаешь чем премия пахнет?! А?! — А ты мне раньше что обещал?! — Нет, Ирка, в магазине все конфеты кончились, ты вчера полкило ирисок съела, у тебя диатез будет. — Жила долго не живет. — Ладно, будь по-твоему, полезай в карман. Он не смотрел, но слышал и чувствовал, как ползет рука в жесткий карман шубы, как шарит там по суровой подкладке, шелестя конфетными обертками. Но самое главное — это чувство прикосновения ручонки, радостное чувство. «На мать похожа, — подумал он. — Глаза — как влажные сливы на коричневой веточке бровей…» Аверьян долго играл с Ириной: то на Бугеля посадит ее, то снегом запорошит лицо. Девочка смеется, довольная. Бугель рядом скачет, радостно скулит, лает. Вдруг Ирка остановилась, замкнулась в себе. — Скоро мама придет, ругаться будет. — Почему?! — Не знаю… Она всегда ругается, когда ты приходишь, и плачет. — Ну хорошо, мы у нее когда-нибудь спросим, отчего это она… Но так и не договорил, услышал знакомые шаги. — Ну, теперь держись, Ирина! Даже не глядя, он мог бы все рассказать об Ольге, но не удержался и глянул: все такая же красивая, только скулы обтянуло да подбородок повыше стал, рот словно ниточкой вокруг обвязало, как видно — от дум… На руднике «Пирамида» поговаривали, будто сама от мужа ушла; шахтерские жены языки чесали: «И что девке надо?! Мужик не горбатый — уже красавец, а тут денег куча! Что еще надо? А пьет — так нету мужика, чтоб не пил». Она рывком подняла дочь, спросила: — Что у тебя во рту? — Конфета! — Тысячу раз говорила тебе: не бери у чужих! Вот я тебе дома покажу! — Ну зачем же так, Ольга? Разве ребенок виноват? — Знаешь, заступничек, не твоего ума это дело, умник нашелся! Ну и гусь! Через ребенка действует! Актер! У, кобеляка! Посторонись. Вам женщина нужна для одного… — И зло повернулась к дочери. — А тебе последний раз говорю: не бери у чужих, а то поколочу. Понятно? А Ирка думала так: раз обещала — значит не поколотит. Поэтому и не убоялась, крикнула: — Аверьян! Когда солнце пойдем смотреть?! Еще долго стоял Аверьян, отгородившись от всего, кроме обиды. Да Бугель заскулил, торкнулся в бок, так и пошли, хоть вместе, да одинокие. Единственный двухэтажный дом на Пирамиде — в шахтерском поселке — стоит на деревянных «кострах», выложенных, как и все «костры», бригадой Ивана Козина. Умное дело «костер» — трещит кровля в забое, а «костры» упасть не дают, всю толщу породы на себе держат. Но нашлись умнее головы — использовать «костры» в строительстве домов. Обычный фундамент в мерзлоте не положить — размоет весной, осядет грунт, треснет дом и рухнет в конце концов. Так решили шахтерские «костры» под дома возводить, вместо фундамента: снег не задерживается, и только весной бесчисленные ручьи пробегают под днищем — сухота в доме, будто плывут люди в трюме большой деревянной лодки. Верхний этаж этой лодки занимает бригада Козина. …Не комната — аквариум, где слова человеческие в табачном дыму плавают, как большие ленивые рыбы. Кравцова работа, третью соску во рту, как ребенок, держит и слова пускает такие же: легкие, невесомые, пус-то-по-рож-ние слова. — Эх, кто бы спину растер?! — Разболелся, черт? Давай разотру! Лежат в комнате два лесогона, два дружка, Аверьян да Степан Кравцов, — больше некому. Комната крохотная — один на спине, вольготно; другой — на боку, калачиком. Раньше такие картинки наглядные продавались — по силуэту можно характер было определить, очень удобные силуэты: заглянул в книжицу — и, что надо для себя, нашел. Рационально, удобно — думать не надо. По такой картинке Степан Кравцов балда балдой, а для себя Аверьян картинку не нашел. Потянулся Степан, крякнул, новую соску начал, старую — в угол и так, без видимой связи с прежним, продолжал: — Бывало, Дуня, залетка медицинская, все удивлялась: «Ранка у вас пустяковая, а крови полно, словно у бугая». А потом добавит научно: «Давление крови, Кравцов, бывает двух родов, внутреннее и внешнее; которое переборет, то и получится — либо инфаркт, либо женитьба». — «Что это вы, Дунечка Ивановна, — либо то, либо другое. Лучше уж инфаркт, и не просите!» А она зажмурит свои китайские глазенки и снова за свое: «Кровь у вас застоялась, единственный коленкор — женитьба». А у самой бровки стрельк… стрельк… «Горячая кровь, как песок на пляже». И смотрит пристально в душу. И вдруг переспросил обыденно: — В Туапсе-то бывал? — Бывал. — Ну знаешь, значит… — Что — знаешь? — Ну, загорал небось? Сестра милосердия от ожогов лечила? — Нет, не лечила! — Ну, а какого черта там делал? — вскинулся Степан. — Десять суток отсидел, а потом уехал. — Как же, Аверьяша? Положительный — и десять суток, а? — Да неинтересно все это. — Расскажи! — На пляже было ветрено. Никто не купался. Накат с моря. Вдруг волной мертвого дельфина прибило, ну а рядом мальчишка с отцом сидел, ну и бац камнем, бац в мертвого-то… Ну и не выдержал я и отцу по затылку тоже бацнул. В общем, скандал. «Разве так положено, гражданин, за дельфина — и по затылку?!» Вот и пришлось срочно уехать, милиционер толковый оказался. — Ох-хо-хо, Аверьяша! Кончай, погубишь меня! Как же это?! Да ты хулиган, оказывается, а?! Завтра же перееду к другому напарнику, попроще. А то ты меня ночью ручищами чикнешь за Дуняшу. Ох-хо-хо, небось папашу искалечил, а?! Скажи по совести. Аверьян, как бы не слушая, переспросил, словно вопрос был для него важен: — Ну, а Дуняша? Что?! Не нравилась?! — Нравилась, как не нравиться, просто красавица. — И вдруг с силой скомкал подушку, разозлился: — Ну и глупый ты, чего привязался? — И, помолчав, гордо, с вызовом, сказал: — Ихней сестры, что луку в огороде, а я, Степан Кравцов, один, в единственном роде. — Вот именно, что в единственном! — подковырнул Аверьян. — Девушка, видно, хорошая была, зачем же не женился? — Зачем! Зачем! — разозлился Степан. — Спать хочу, гаси солнце, кончай демагогию! И повернулся лицом в подушку. Потом обиженно повернул голову и мирно спросил: — Ну зачем мне хомут этот? А? — Хомут-то при чем? Намек, что ли? — А что Ольга? Также само, как любая женщина, да еще с приданым… Аверьян заскрипел зубами, но сказал с расстановкой: — Ну и дурак же ты, дурак! Понял?! Аверьян отвернулся, как бы остановил время в нужной ему точке, и стал думать о другом. «На земле снега белые, крыло чайки серое, море синее, трава зеленая. Откуда в природе такое многоцветье? Кто соединяет разрозненные частички мира, дает ему радость и торжество жизни? Если это солнце, тогда солнце есть надежда и любовь всего земного». И ему стало очень приятно от неправильной мысли, будто солнце вращается вокруг земли, чтобы давать радость людям, а через это и всем трудящимся-одиночкам. Лежа в темноте поверх одеяла грязноватого цвета, Аверьян смотрел в спящее, нахальное даже во сне, лицо Степана, и ему с опозданием захотелось приложиться рукой к квадратной голове дружка. Но в то же время он чувствовал, как волнами набегает мутное беспамятство, мысль неудержимо понесло в туманное, серое, бесцветное… Он вздрогнул, засыпая.
В шахте морозно. Дыхание вылетело белым клубочком, остановилось секунду в луче коногонки и стремительно исчезло, отброшенное в темноту. От быстрого подъема в штольне дышалось тяжело, появилась уже испарина, но встречный поток воздуха освежал легкие. Впереди мучнисто белела спина Кравцова в пыльной телогрейке. Он двигался с тупым равнодушием, механически переставляя ноги, изредка спотыкаясь о шмат угля или торчащий костыль узкоколейки. Все мысли после сна были приторможены, и только единственная была остра: «Не бери у чужих!» Поэтому и залегли меж его серых глаз глубокие складки. Но близкий грохот барабана отбросил все мысли прежние и чувства. Он засветил коногонкой «козы» с лесом, проверяя его толщину и надежность. — Сволочи! — сказал Кравцов. — Чистый дуб гонят, его год пилить будешь, если прежде пупок не развяжется. Правильно я говорю, Аверьяша, а? Дядя Степа всегда говорит правильно. Вот ты знаешь, почему популярным героем детской литературы сделали дядю Степу? За благородство! За то, что он правильно делает. Аверьян невнимательно слушал Степана, и только последняя фраза легко ударила, он снова усмотрел намек на Ирину и Ольгу. — Хватит трепаться, давай — кто кого запарит сегодня! Принимаешь? — Послушай, ты не чокнулся разом, а? Или мероприятие придумал: один плюс один, один плюс два, ага? Значит, ничего? Ну, раз ничего, тогда давай! Аверьян подождал, пока Кравцов доберется по узкому людскому ходку до другого конца транспортерной ленты, подтянул поближе «козу» с лесом на длину вытянутой руки и стал ее выгружать. Он сделал первое быстрое движение рукой, и железный крюк глубоко вошел в древесину, выбивая искру льда. Туго растягивались мышцы, словно что-то мешало свободе движений. Тогда он снял ватник, остался в толстом вигоневом свитере — стало свободнее. Он снова гикнул, легко изогнулась спина, мгновенно проросло гибкое теплое дерево мышц. Очередное бревно скользнуло по груди обмороженным боком, упало на согнутые руки, эти же руки с ходу подкинули его вперед вверх и с маху на убегающую вдаль транспортерную ленту. — Иди к дружку моему Степке, пусть попотеет, это не щи хлебать. С каждым увесистым бревном он испытывал злорадное чувство, которое появилось в самом начале работы и до сих пор не проходило. — А вот еще хорошее! На пуп его, Степа, на пуп. Вижу, пока успеваешь! Вот еще из чистого свинца! Он и сам дышал тяжело, перехватывал воздух открытым ртом, и с каждым выдохом-вдохом от вагонетки к черной убегающей ленте метался белый дымчатый луч коногонки. Его тело радовалось горячо и сильно. От такого буйства взбухали тугие, как весенние почки, мышцы, а крохотный насосик в груди качал все новые порции горячей крови туда, где больше всего была в ней нужда. И когда последнее бревно уплыло вдаль, он еще долго стоял, разогретый, довольный, ища для себя работы. Но тянуло прохладой, и он снова надел ватник на влажное тело. Хотя ватник не создавал ощущения сухого тепла, все-таки было приятно. Он медленно пошел навстречу прохладному потоку. У поперечного штрека ему повстречался бригадир Козин. — Что это у вас вчера — турецкий парламент заседал? Все говорят, и никто не слушает. Весь вечер «бу-бу-бу». — И недовольно буркнул: — Баптисты какие-то! — И уже деловито закончил: — Иди в лаву до Степки, стынет без работы! При встрече Кравцов восхищенно закрутил ругань: — Ну, дьявол жилистый, сегодня же суббота, а ты дыхнуть не даешь! А бревна-то! Одно к одному. Если бы последнее не пришло вовремя, сдох бы Степка во цвете годов. — Не сдохнешь, Степка! — Подталкивая его грубовато-дружески в спину, Аверьян продолжал: — Не сдохнешь, пока язык твой крутится! — Ладно, Аверьян, возьми себе пирожок на тарелочке, победил! Так, дружески препираясь, они еще проработали два часа с крепежным лесом, разрезая на части и подтаскивая его близко, к самому входу лавы, где с грохотом и металлическим лязгом работала в темно-бурой пыли их бригада, добывая свой тяжелый трудодень. Раньше всего в шахте замирают звуки, потом, медленно кружась, оседает пыль, и только потом становится ясно — конец работы пришел. Возвращались старым путем, через триста вторую лаву, потом вверх сто три ступеньки по крутому ходку и, наконец, к главному вентиляционному штреку, где упругая струя воздуха толкала их вперед, к свету и воздуху.
Всю зиму шахтный электровоз исправно служил Ольге. Он был похож на могучее приземистое существо. Часто Ольга испытывала радостное торжество, когда он с разбегу брал крутые подъемы, оставляя позади сложный профиль дороги. Порой в машине что-то надрывно гудело, и тогда у Ольги от участия и доброты сердце замирало. Но сегодня было все непонятно: послушный и надежный электровоз перестал подчиняться ей. Он вздрагивал, рычал, опасно кренился на поворотах, сердито рвал сцепку вагонов. Ольга остановила машину в тупике, проверила картер, соединения аккумуляторов, опробовала замкнутую электрическую цепь. Затем перевела рукоятку тумблера на указатели «вперед-назад», но дефекта не обнаружила и вскоре успокоилась: «Это, наверное, от старости у него». Однако работа не ладилась, по-прежнему было грустно. Тогда она вновь остановила машину и стала упорно размышлять над загадками сегодняшнего дня. Она автоматически еще продолжала думать о машине, когда вдалеке в остром луче фар увидела фигуру Аверьяна. Ольга вскочила в электровоз и, набирая скорость, быстро поехала навстречу. Неожиданно волнение смешало ее мысли. И, еще не зная, захочет ли остановиться, почувствовала, как машина сама гасит скорость. Ольга поняла, наконец, что дело вовсе не в машине, а в ней самой, в ее внутреннем напряжении и страхе. — Аверьян! Ты зла не держи на меня… Уж так получилось… А с Иркой сладу нет — вынь да положь солнце. Аверьян осветил коногонкой ее лицо. Черное от копоти, оно и теперь не утратило своей красоты. В какой-то миг он почувствовал бессильную сладость, затем сердце привычно защемило от того унылого и бесплодного чувства, в котором он так долго пребывал. А когда чуть отпустило, он понял: сладость эта будет всегда с ним, пока будет рядом лицо Ольги, и останется с ним, пока он будет жив.
Возвращение
Иван Рогоза курил сигарету: ее запах, вкус, цвет, мягкий осенний влажный табак — все нравилось ему, даже коричневый мундштук с тонкой голубой табачницей. Случалось, сигареты пропадали из продажи, и тогда Рогоза сильно и глубоко мучился, борясь с чувством внутреннего разлада. Но теперь Рогоза забыл о всемогуществе рижской сигареты, бледный черенок пепла скатился на пиджак, поезд упруго набирал скорость, но самого Новороссийска еще не было видно, он только приближался, а перед ним крутой подъем пути, где близкие орешники царапали пыльное стекло вагона, в то время как его самого медленно и ритмично поднимало в гору. И так же медленно и ритмично поднималось из-под колес звонкое гудение металла. Пытаясь соединить в своем воображении звуки и ритмы, Рогоза вспоминал, как лежал посреди кровати и старая добрая кровать, с бронзовыми шарами по сторонам, вмещала еще девушку Айну, с прямыми жесткими волосами, эстонку, с тонким рисунком лица, Айну, у которой трудный и ломкий характер. Айна была женой Рогозы, как говорится, де-факто. Из портативного приемника лилась музыка: звон листьев или падающей капели, — что будило в нем только мысль, а не чувство, и создавало бескровное представление о вещах. Тихая мелодия смолкла. Теперь из приемника раздавались трубы и басы — медь военного оркестра, нечто крепкое и соленое, что соответствовало его представлению о жизни, ибо он искал не сочувствия в музыке, а лишь пищу для своего грубого и жадного удовлетворения. — Айна! — воскликнул он. — Что тебе, Ваня? — Пожалуйста, дай закурить!.. — Ха-ха, — ее густые брови натянулись, как лук. — Ты меня испугал. Дай-дай — заку-рить… дай-дай — заку-рить… это семерка Морзе. Представь, Ваня, ночь, тишина… но мир полон звуков. Хочешь, пойдем? Я заявление написала… — Куда? Куда? — В школу радистов ДОСААФ. — А что?! — воскликнул он. — Может быть, может быть… Теперь он вспомнил, как легко и до смешного быстро привязался к ней. — Нет, Айна, дети — не моя стихия. Может, обществу в целом вредно, чтобы мы с тобой рожали детей. — Глупости! — Ох уж эта мне задрипанная интеллигенция! Тебе бы килограмм любви и три мешка воспоминаний! — Ах так? Тогда у меня будет ребенок. Понял, дурак?! Антенна приемника трепетала, приемник стоял на груди, и сердце, волнуясь, посылало импульсы на жало антенны, которое обернулось тонкой иглой света, с блестящей пуговкой на конце… Так он вспомнил себя через многие годы; звон колес и дрожащий куст за окном соединились в нем и дали эти странные результаты воображения. Он понял свою жизнь через прошлое, винясь перед самим собой, но в то же время со стороны, холодно, умом, как понял бы ее другой, страстный человек, оставаясь к прошлому равнодушным. И чувство внезапной вины открылось в нем.* * *
Из дальней глубины вагона вышел проводник в традиционной драп-дерюге, он казался воплощением темноты. За трое суток дороги пассажиры ни разу не видели его: видимо, проводник дежурил ночью, а днем спал. Днем убирала девушка в такой же форме. Двигаясь вдоль вагона, проводник протирал окна. И жесткий рукав форменки касался лакового козырька, который издавал звук толстой жести. Проводник шевелил губами, напевал, и грубый голос его относило в сторону. Вероятно, за три ночи проводник соскучился по собственному голосу. — Здравствуй, земляк! — сказал проводник. — У тебя закурить чего найдется? — Эртээф устроит? — А лишь бы дым шел. Вообще-то я не курю, времени нет, да и Клавка ругается. Лицо проводника треснуло в улыбке, расплылось, стало плоским, но глаза в сумраке вагона сверкали лукавством. — Да, жизнь — это способ передвижения, — замысловато начал он, — хучь тебе в воздухе, либо на воде, а либо на земле. — Угу! — лениво поддержал Рогоза, он не ждал от этого знакомства ничего особенного, поэтому просто поддакивал. — Вот белый медведь по льдинам шляется, то сайку слопает, то тюленя. И так всю жизнь. Выходит, ты прав, земляк! — А ты как?! По научной части али моряк? — Я вообще-то из Мурманска. И в Арктике бывал, приходилось. — Значит, моряк, — добродушно рассудил проводник. — Между прочим, я тоже в Мурманске бывал. Город как город. Только солнца ни хрена нет да рыба мойва кругом — свежими огурцами пахнет. Рогоза хитро улыбнулся, разговор по верхам все больше нравился ему. Он поразился той легкости, с которой проводник пускался на подобные разговоры, но сообразил, что перед ним искренний человек, поэтому бережно отнесся к нему, потакая его живой непосредственной беседе. — Вот и остался бы в Мурманске насовсем, оборотистые люди везде нужны, — сказал Рогоза, — фальшивые огурцы — мойву на Юг бы возил, а настоящие на Север. — Это мне не подходит! — оборвал проводник. — Что я, фармазонщик какой?! Погоди, а чего это я тебя в Мурманске не встречал? — подозрительно допытывался он. — Нет, посмотрите на него, — возмутился Рогоза. — Человек на родину едет, а ему сатир-мораль разводят. — Государство и родина — разные вещи, — уклончиво ответил проводник. — Год назад один туда сбежал, а в сегодняшней «Комсомолке» назад просится: что ни говори, родина — она всем нужна, то ли птице, то ли человеку, а хучь бы и зверю. Проводник замолчал, потом продолжал: — Чего им там, медом намазывают, что ли? Но Рогоза, думая о своем, не слушая проводника, невпопад ответил: — Родина тоже встречать обязана, на то она и родина. А тут и поселиться негде. — Эк, башка! — сказал проводник. — Так давай ко мне, раз до родины приехал. У меня дом, коза да Клаша одна, так вчетвером и будем. — Ну, спасибо, — искренне сказал Рогоза, — спасибо, брат! — Ну чего там?! — просто ответил тот. — Ты чего, японец, что ли? По три раза в день спасибо говоришь. Ты лучше шнапсу на стол — вот и вся благодарность. Или, к примеру, ответь: мне жениться можно али как?! — Жениться всем можно, — в тон ему ответил Рогоза. — Да нет, могу ли я в третий раз? Али не могу? По закону это али чего? — Любовь не может быть преступлением, — успокоил его Рогоза. — Вот молодец, башка твоя варит, — проводник снял фуражку, протер бритую голову, потоптался на месте. — Ты понимаешь, две жены было, правда, бездетные… — И смущенно сунул вперед руку. — Ну чего, пора здоровкаться, что ли? — Меня — Ваня. А тебя? — Меня — Федя. Ну что же, Ваня, какие твои вещички будут? — Какие там вещички! — усвоив новый тон, сказал Рогоза. — Чемодан хреновый — и только. — Так бери хреновый, коли другой не нажил. Вон Новороссийск видно. А я тебя угощу барабулькой, молодой Уступасиди — грек ловит по утрам и мне приносит. И затем деловито, дежурным голосом провозгласил: — Граждане пассажиры!.. На извороте пути показались тепловоз и часть состава, и Рогоза видел, как тот, маленький, упрямый, без видимых усилий превозмог перевал и дальше вниз покатился с нарастающим грохотом искоростью. Быстро смешались дома, люди, деревья, машины — и все это в обманчивом представлении катилось кубарем к морю. Над морем небо густо голубело, море виделось сверху, и Рогозе, наблюдавшему с высоты сопки, показалось, что в длинном гремящем раскате поезда случится непредвиденное: машина пойдет вразнос и разобьет звонкую сцепку вагонов о стеклянную глыбу моря. Однако у самого вокзала движение затормозилось, а вскоре и совсем тихо поезд подошел к перрону. В воздухе разливалась чудесная свежесть и теплота. Видимо, над городом прошла гроза, кругом были следы ее короткой сокрушительной силы: сломанное дерево, вымытые бурлящим потоком камни на мостовой, а на востоке — мрачные, в развалах облака. Он спрыгнул на перрон, после этого два раза пристукнул ногой, под ним была крепкая новороссийская земля, предчувствие легкого счастья коснулось его души, он с удовольствием пристукнул еще раз. Но вот он пошел, теплый ветер упал ему на грудь. В желтом воздухе купались частички водяной пыли, они искрились, освещенные косыми лучами. Рогоза остановился у питьевого киоска, осмотрелся и прислушался: мажорно звучала вода, чуть в стороне на велосипеде крутился белоголовый мальчик, его хрустальный смех как бы раскладывался на стеклянных полках. А рядом с ним — громадный мужик в сапогах, дед или отец ребенка, пьяно говорил одну фразу: — Гарна штука лисапед, попка едет — ноги нет. Мужик топал ногами и бил в красные ладони, но странное дело, большие круглые ладони, похожие на оркестровые тарелки, были беззвучны, в то время как все в этом мире создавало свой звук: напор воды, звон мошек в небе и смех малыша. Рогоза еще раз поглядел на него. Все в этом мире напоминало Рогозе о прошлом и через множество преград наполняло сердце особым состоянием духа — мечтой о собственном сыне. В Новороссийске у Рогозы не оставалось родных: братья погибли на фронте, отец умер в тылу на лесоповале, а мать убили в сорок пятом ударом ножа, в развалинах города. Тогда он жил одиноко и трудно, друзья помогали ему чем могли, но ничто не могло заменить ему мать, а отца он почти не помнил. Всю жизнь он полагался только на самого себя, и ничто не повлияло на его характер, поэтому в двадцать, тридцать и сорок — не изменился, оставаясь никчемным мечтателем. В своей жизни он перебрал много профессий: радист, механик в торговом порту, сантехник в общежитии, даже литсотрудник в «Горняке Заполярья», но ни одна работа не удовлетворяла его… И теперь, в сорок, он еще надеялся, верил, мучился, подвергал сомнениям прошлое, искал истину, но в чем ее суть — не знал. Ему все казалось — в его жизнь войдет нечто духовное, и оно осветит его сознание и чувства.Федор и Рогоза шли рядом, не общаясь, — как старые знакомые. Путь от станции до жилья проводника был недолгим: три улицы поперек, одна вдоль. Новый знакомый нравился ему, но Рогоза еще не успел определиться в этом чувстве, лицо Федора виделось сбоку, оно изменялось от внутренних движений души и временами казалось растерянным и смешным. Но Рогоза угадывал в нем и легкий природный ум, и сметку, а странность на лице — не более как случайная маска от различных превратностей судьбы. — Вань, я три раза в щеколду стукну, а ты погляди в окно. Рогоза так и сделал. Он увидел в окне женское лицо, похожее на розовое яблоко. — Что я тебе говорил?! — весело сказал Федор. — Это и есть Клаша. Затем в сенях раздался грохот железа, и прямо им под ноги вылетел рыжий ком пены. — Клавка, погляди, какого я тебе японца привел! — крикнул он в темные сени. — Накручивай свои завлекашки на карандаш! — И подтолкнул Рогозу: — Не бойсь, у нее медовый месяц, а к нашей работе никак не привыкнет. Из темноты на порог шагнула женщина, стройная, сильная, с порывистым лицом и телом. Она тряхнула мокрой головой, рыжие волосы сверкнули на отлете. Три крупные капли влаги упали на лицо Рогозы. — Девка — сто пудов! — восхищенно сказал Федор. А потом мягким голосом проговорил: — Клавушка, приготовь нам рыбки. Видно, Уступасиди уже принес? Женщина готовила молча, перебирая на столе хлеб, рыбу, перья зеленого лука. Мужчины стояли в тени, в ожидании еды, курили, говорили о разностях. Рогоза долго не ел и теперь мысленно подгонял хозяйку, которая, наконец, пригласила: — Пожалуйста, дорогие гостенечки. — Вот видишь, — сказал Федор, — это моя Клавка. Ладно, Клаша, мир да любовь, — прибавил он. — Садись рядышком, — он любовно погладил ее вдоль спины и доверчиво прижался лицом к плечу. — А я жду его, дура, — пожаловалась она, — две недели весточки нет. — И, призывая в свидетели Рогозу, тонким обидчивым голосом сказала: — А может, у него залетка есть, может, я обманута, у них на каждой станции полторы невесты. — Ну что ты, Клаша, — упрекнул Федор. И снова потянулся к ней: — Ты же знаешь, на мне весь состав держится. — Ох! Боженьки мои! — она всплеснула руками. — На нем состав держится! А в книжке ни одной благодарности. Домашнее вино пили наспех, большими частыми глотками. Быстро пьянели. Федор закусывал чесноком, окуная его в горку крупной соли. Клава раскраснелась, сидела молча, опираясь круглыми локтями в стол, не перебивая слушала рассказ Федора о прошедшем рейсе, о ценах на огурцы в Петрозаводске и Ленинграде. Потом она запела грустную казачью песню, незнакомую Рогозе. Федор подпевал. — А вы финики любите? — вдруг спросила она. — Нет, я их с устрицами путаю, — смеясь, ответил Рогоза. Ему нравилась эта чужая женщина с темными мерцающими глазами, но интерес к ней был неровным, то возникал, то пропадал, что-то мешало цельности восприятия. Рогоза испытал неловкость от ее невольного любопытства, но вскоре, под ясным бесхитростным взглядом, успокоился. Однако, как всякий мужчина, подумал, что мог бы стать мужем этой красивой женщины, повстречай ее прежде. Но прежде была Айна… Он вскоре пришел в себя. Быстро, по-южному, смеркалось. — Ну что же, пора на боковую, — сказал Федор. Рогозе постелили на горбатом полу, подложив под голову бараний тулуп, мехом наружу, и острый щекочущий запах шерсти всю ночь мешал ему спать, но частые пробуждения не томили его. Так он прожил день, затем неделю и еще день. Каждый занимался своим делом. Федор был на отгулах и постоянно чинил крышу или красил забор, а переделав и то и другое, принялся за деревья, подкрашивая стволы известкой. Сначала Рогоза только наблюдал за ним, а вскоре и сам принялся за работу. «Как это странно, — думал Рогоза, — тысячи, миллионы ручейков крови образуют во мне могучую реку жизни. А всего-то в ней, оказывается, пять-шесть литров. Как радостно и неумолчно трудятся молоточки в висках и груди: стучать-стареть, стучать-стареть… А сердце, что оно?! Простой механизм — насос: систола-диастола — или нечто сложное, еще не разгаданное наукой? Почему от радости оно учащенно бьется, а от горя замирает, скованное неподвижным страхом?» Он хотел простой мыслью проникнуть в глубь тайны, в которой так сладко и таинственно прячется слово «душа». — Дай-то бог! — вслух сказал Рогоза. — Это точно! — поддержал Федор. — Только бога теперь нет, а есть материя — то, из чего все делается и происходит. Погляди, что мы наворочали с тобой. И они увидели, как изменился запущенный сад, как выше и тоньше стали деревья, как много воздуха и света стало в белоствольном пространстве его. Иногда Рогоза бродил по городу, по знакомым улицам, вновь открывая для себя мир детства. Его упрямо тянуло к людям, он разглядывал лица прохожих с наивным убеждением, что знал их когда-то или видел прежде; чувство, которое переполняло его, было подобно вспышке яркого света во тьме. Повсеместно в городе были новые тротуары, выложенные мозаичной цементной плиткой, видимо старые от времени пришли в негодность. И Рогоза вспомнил их, изрытых пулями и осколками. Это было на третий год после войны, когда весной таинство природы вдруг открылось в печали и запустении. Но тогда, в годы своей юности, Рогоза понимал немногое и знал только одно — свое бесконечное мальчишество.
Клава все это время вела хозяйство, стирала белье, прибиралась по дому, готовила простую вкусную пищу: жареную селедку с зеленым луком и молочные сладкие клубни картофеля в топленом масле. Иногда Рогоза задерживался в одиноких блужданиях, и тогда Клава поругивала его, как заправская хозяйка дома. Обычно дорога в порт оставалась в стороне от его маршрутов, но сегодня Рогоза специально пошел туда: там, у серого пирса, в огнях стоял знакомый пароход, он помнил его белый корпус, короткие трубы и даже его мачты… Именно с этим были связаны его воспоминания. На судне беспрерывно играла веселая музыка, несло запахом жареных семечек. Он загорелся неожиданной мыслью купить билет до Ялты или Севастополя и не без радости отметил, как легко и трепетно отозвалось сердце на предстоящую перемену, но вскоре одумался, представив на миг лица Федора и Клавы. Особенно дороги были тихие вечера, когда семья собиралась вокруг маленького стола под деревом. Оранжевое солнце уже садилось в смолистую воду, и только неумолчные цикады трудились в розовой листве зарослей. Из всех солнц самым любимым для Рогозы было закатное; он любил тот миг, когда золотой ободок вокруг него вдруг распадался и в море выливался жидкий огонь, — тогда маленькие страхи детства вновь пробуждались. Однажды Федор и Рогоза засиделись долго, много курили, разговаривали, Клава же, устав за день, почти не слушала мужчин, скучала в ожидании сна. Ее лицо почему-то разнесло, особенно нос и губы, она вскоре ушла, и Федор смущенно проговорил: — Пора, видно, имя искать. Скоро, Ваня, крестным отцом будешь, ты видел: на ней лица нет, а держится молодцом! Но Рогоза в этот вечер увидел больше, чем было: за грузной походкой он увидел подлинное лицо материнства и проникся к нему уважением. Федор заботился как мог, не позволял ей работать, часто ругался, что домашние дела сами находили свою хозяйку, которая сопротивлялась таинственной силе, изменившей ее внешне, мешавшей ей жить и работать по-старому, как она того захочет.
Эту ночь Рогоза ворочался во сне, много курил. Правда, он заснул вначале, но вскоре проснулся — когда лунный свет, пробив пространство, легко звякнул о стекло и скользнул, пересчитал в тишине спящих: двоих в комнате на кровати, одного на полу в прихожей. Потом свернулся серебряной лужицей подле Рогозы. Рогоза вспомнил детство: тетя Кира купила братьям лошадку на колесиках, и они добросовестно поделили ее. Борьке достались стальные пружинки, Вовке — опилки с колесиками, Ивану, как младшему, достались красивые стеклянные глаза, этими глазами он еще долго играл. «К чему бы это?» — подумал Рогоза и вскоре заснул. Вторично Рогоза проснулся под утро. Он лежал на левом боку и поэтому тяжело дышал. В темноте он увидел матовую руку Клавы, открытую по локоть, и запрокинутую голову Федора. Рогоза вспомнил Айну, стоявшую босиком на асфальте перед загсом, с золотым пояском вокруг желтого платья. Он вспомнил ее злую, с покрасневшими от ярости глазами. — Да ты пойми! Никакая бумажка не удержит меня, если нет главного! — воскликнула она. Тогда Иван предложил ей новый вариант: пожениться потом, позже, проверив предварительно, есть у них это главное или нет. — Ты что, издеваешься? — спросила она. — Если главного нет — нечего ждать, потому что любовь не картошка, а если есть — то это навсегда. — Что же ты хочешь, наконец? — раздраженно спросил Иван. Она повернулась, спокойно заглянула ему в глаза и, чеканя каждое слово, проговорила: — От тебя — ни-че-го. А вообще-то хочется, чтоб мужчина оставался мужчиной, а не искал удобных вариантов. Она круто повернулась и, держа на отлете новые туфли, пошла прочь. Иван хотел сначала догнать ее и по-мальчишески грубо огреть ладонью по спине, но вдруг что-то легко, без принуждения, преломилось в нем, он вздохнул, засмеялся и тоже пошел прочь. С этой минуты и до окончания школы радистов они не разговаривали, скрывая от себя и других упорное соперничество в дружбе и учебе. После окончания школы ее направили на Таймыр, а его радистом в Мурманское пароходство. Они сердились упорно, но только до первой телеграммы, после которой одно за другим пошли объемистые нежные послания. А потом — потом он получил их назад, все тридцать штук писем и телеграмм, завернутых в хрустящую бумажку и перетянутых крест-накрест пеньковым шпагатом. Он долго хранил их в каюте в служебном сейфе, но однажды, перечитав одно за другим, сжег, — это уже потом, когда узнал подробности и представил: «Три дня гремела пурга, метельная стена снега то приближалась к домику станции, то отдалялась, и, соответственно, окна были то совершенно слепыми, то на десяток метров зрячими. Деревянная пристройка, где помещалась рация, жалобно скрипела и раскачивалась. Здесь по-своему было уютно: теплое, обитое шкурой кресло, десяток любимых истрепанных книг да замоченная в тарелке рожь, уже пустившая блестящие изогнутые коготки. Она сидела в избушке одна, трое мужчин станции — начальник, гидролог и врач — ушли проверять песцовые пасти, оставленные на месте осеннего прикорма зверей. Пурга началась сразу, когда мужчины ушли, но Айна не волновалась за них: еды у них было в достатке; кроме того, были ружья, а весной в тундре не пропадешь; все остальное не имело значения, — теплую собаку под бок и поглубже в снег — вот и конец пурге. Сбросив дрему, Айна встала и принялась за уборку. Вымела пыль из углов, стряхнула коврик, протерла полки, затем перебрала в ящике запасные радиодетали: необходимые оставила, а ненужные положила в цветную коробку из-под печенья. Потом принялась за угол, где стояли тяжелые кислотные батареи; неизвестно зачем привезенные, сейчас они использовались вместо тумбочек и часто мешали в работе. Передвинув одну, другую, Айна принялась за третью и, подняв ее за угол, почувствовала, как необычно резко внутри обожгло живот, словно воткнули острым. Затаив дыхание, она переждала боли и снова занялась работой. Но вскоре, бросив все, присела в кресло. Посидев несколько минут, встала, осторожно поднялась, проверяя боль в пояснице, а проверив, успокоилась, снова занялась делом. Только через сутки почувствовала температуру и сильный озноб. Весенняя буря ломала лед, швыряла большие куски на берег, и лед крошился острыми кусками, как солодовый сахар. Ей стало хуже; чтобы унять боль, несколько раз прикладывала грелку, но ничего не помогало, тогда запросила по рации помощь. Ей сообщили, что две группы выехали: одна из становища на собаках, другая — из Экклипса на вездеходе. Но связь с вездеходом вскоре оборвалась. Двое суток Айна лежала в бреду. Наконец вертолетчики из полярного авиаотряда прорвались в открывшееся погодное окно и за шесть часов лёта, почти на бреющем, доставили ее в Диксон. Через полчаса она лежала на операционном столе. Трое суток после этого она сохраняла здравый смысл, двое была в беспамятстве, а на шестые умерла».
Значит, она умерла, когда в природе наступило равновесие сил, стихла пурга, с нежной суровостью светились звезды. С этой минуты и до самого утра Айна неотступно держалась в усталом сознании Рогозы. Он вспомнил и вынужденную стоянку «Красина» в той же бухте, и домик на взгорье, и падающий снег в августе, и боль, пронзившую навсегда.
Рыжее утро еще дремало в ресницах, когда Рогоза встал, помылся бодрящей водой из колонки, оделся и пошел на базар. Город уже встал. До рынка Рогоза добирался долго, медленно и сонливо раскачиваясь на заднем сиденье троллейбуса. Рыночная площадь оглушила звуками, криками, и разноголосые «тары-бары» мощно поднимались вверх, где в сатиновом небе палило солнце. Очередь за огурцами змеилась лениво: вперед, на месте и снова вперед — всего десяток шагов за полчаса по белому солнцепеку. И Рогоза уже подумывал уйти, но вдруг подошел ближе к одинокой старушке, стоявшей впереди очереди, и попросил: — Мамаша, товарищи, разрешите без очереди! Целый год живого огурца не видел! Старушка приветливо посторонилась. — Вам который? — с охотой подхватила ловкая продавщица. — Да любой, — махнул Рогоза, — который посмешнее. Рогоза повернулся затем к старушке и весело сказал: — Ну, мамаша, спасибо за доброту. Дай вам бог чего хочется и без очереди. Старая женщина обернулась, глаза близоруко сощурились, и, отчего-то волнуясь, сбивчиво, но отчетливо проговорила: — Да это же Ваня! Откуда?! Рогоза! Вот так — встреча! Рогоза неловко качнулся, словно ударился о невидимую преграду, как муха о стекло. Он даже ощутил эту легкую силу удара, но не удивился. — Нина Корниловна!!! — Да, Ваня, это я, это я!! Выражение страха и удивления все еще держалось на ее лице. Теперь он узнал ее, он вспомнил даже давнее прозвище ее — Колючка. И от этого смешался и покраснел. Очередь, вначале любопытная, теперь равнодушно оттерла их в сторону. — Ну, здравствуй, Ванюша, какой же ты теперь?! Дай поглядеть-то! Она внимательно осмотрела его. Протянула тонкую нервную от волнения руку, и Рогоза осторожно, бережно, как завядший цветок, подхватил ее. Он видел: она изменилась, похудела, стала суше, фигура охвачена широкой юбкой, в пепельных волосах блестит стеклянная брошь в бронзовой оправе. — Ваня! — воскликнула она. — Да ты ж седой, мальчик мой! Сколько же тебе?! Тридцать, сорок? Нет, что это я! — она сердито взмахнула рукой. — Конечно же, сорок! Сначала она потрогала его рукой, затем прижалась к плечу, и в этом робком движении было столько тепла, что Рогоза с трудом удержал тугой комок. Она спросила: — Где же ты пропадал, Ванюша, все эти годы? А? — Она качнулась в сторону, видимо что-то мешало ей сосредоточиться только на нем. — Столько лет, столько лет! Молчаливая и незаметная до сих пор природа вдруг преобразилась, выше стало солнце, суше земля, а звуки — громче. Они остановились в тени; там в густых кронах с веселым щебетом гнездились птицы, из темно-зеленой гущи падали на них то лист, то сухая корочка дерева. — Где же ты был, Ванюша? Рассказывай! Ну! — И тут же перескочила на другое: — Помнишь Горохову Катю? Русачку. Как вы безбожно влюбились в нее, вы, переростки войны, знаменитые ухажеры из восьмого «Б». И она была под стать вам, стройная, веселая, мальчишеская… Но, Ваня, теперь это злая и вредная бабка, ей-богу!! А где твой друг — знаменитый Солянкин? Говорят, он вырос до главного инженера завода где-то на Украине. Из вашего класса больше никто не вышел в люди, но какие вы были милые дураки! Теперь таких нет… Рогоза мучительно пережидал этот поток, он хотел остаться в легком бездумном состоянии и внутренне протестовал против ее любопытства, которое неизбежно приводило к одному вопросу. — Айна?! Ты помнишь? У вас что-то намечалось… — Нет, — храбро соврал Рогоза. Он тут же сник под пристальным взглядом. — Ну ладно, Ваня, как у тебя? По сухому быстрому взгляду Рогоза понял, что она вспоминает его — маленького глупого школьника; он видел, как напряжено было ее лицо, всегда доброе, всепрощающее. Он снова ощутил себя маленьким, никчемным Ванькой, не знавшим важного урока, может быть самого важного в своей жизни. — Как у всех, — ответил он. — Но ведь «как у всех» — это плохо, Ваня!.. Я учила вас не только алгебре, геометрии. Она замолчала, казалось, надолго, но вдруг буднично свернула разговор: — А я вот уже на пенсии… Рогоза стойко держался до этой поры, но, осознав умом, сколько радости, горя, успехов и неудач, сколько всего было пережито за эти годы, что могло уместиться в целую жизнь, — он содрогнулся от этой мысли. Он вдруг почувствовал себя таким же старым, как его учительница. И стена, искусственно воздвигнутая им для отражения сильных чувств и переживаний, не выдержав внутренней борьбы, легко распалась, полня грудь острой, пронзительной жалостью. Лицо его стало неожиданно мокро, он почувствовал это. Он отвернулся, но слезы сами катились по лицу, он ничего не мог поделать с собой. Нина Корниловна тихо стояла рядом, взволнованная минутой, глубоко и пристально разглядывая его сморщенное, жалкое лицо, потом потянулась к голове, но, не достав до нее, погладила плечо горячей ладонью. — Нина Корниловна! Простите! Понимаете, я вернулся, вернулся, вернулся… Казалось, он говорил простые, понятные слова, но всего объяснить они не могли, слишком тяжела и высока была цена этих слов — за ними целая жизнь. — Мальчики мои! Я молилась за вас, чтобы вы не мучались, чтобы вам было хорошо, но, как видно, и это не помогло. Ее глаза тоже повлажнели, но, упрямо протестуя против того горького чувства, которое внезапно поднялось в ней, старая учительница резко напустилась на Рогозу: — Ну же, Ваня! Иван! Мачта линейного корабля!!! Рогоза замер, задохнулся от внезапного, радостного, забытого. — Как, вы еще помните мое прозвище? Нина Корниловна!! — Как и свое, — уже спокойно ответила она.
Время было возвращаться домой, но Рогоза не торопился, всячески тянул, чтобы вернуться к вечеру — времени, удобному для расставания. Ему казалось, что в темноте его лицо не будет так заметно, как теперь, и это облегчит тягостную минуту прощания с Федором и Клавой. Теперь он мысленно торопил солнце, но оно, как и время, казалось безмерным. Рогоза уже успел привязаться к новым друзьям. Они относились к нему по-братски, не притесняли в поступках. В них он видел крепкое, правдивое начало, то, чего в последние годы так не хватало ему. Тогда он решил: пусть все получится само собой. Время потянуло к вечеру: в воздухе плавала пыль — остаток знойного дня; от моря пахнуло сыростью, и Рогоза в легкой тенниске ежился. Несмотря на поздний час, он застал Федора в саду; при свете переносной лампы тот что-то мастерил. Вокруг лампы роились новые обитатели: пестрые бабочки, крылатые насекомые. Рогоза прошел в калитку, дошел до света, где стояла летняя кухня — временная деревянная халабуда. — Спешу закончить топчан, — сказал Федор, — лежи теперь под деревьями в саду и яблоки жуй! А меня в рейс назначили. Рогоза не ответил, он неловко потоптался на месте. Федор посмотрел на него, что-то прочел в лице, но тоже промолчал, только сильным ударом загнал гвоздь по самую шляпку, и крепкая доска треснула от такого удара. — Не могу, брат, съезжать пора, близкого человека встретил… — Кого? — Нину Корниловну! — А!! — коротко отреагировал Федор. — Может, переночуешь? — Не могу. — Ну, нет так нет, — повторил Федор, — только Клавку дождись, она за хлебом побежала. Мы ужинать тебя ждали. Он хотел еще что-то добавить, но, видимо, передумал. Рогоза прошел в дом, уложил в чемодан вещи, потом сел в задумчивости. Услышал, как пришла Клава, они с Федором о чем-то оживленно говорили. До Рогозы их голоса доносились словно через глухую переборку. Он вышел: — Можно, я обниму ее, я поцелую ее, как брат сестру? — Не годится, — сказал Федор, — каждому составу свой рельс и свой полустанок… хотя мы тебе тоже не чужие… ладно уж, целуй. — Он нервно потер ладони и проговорил: — Да дай, что ли, закурить это твое эртээф!
К Нине Корниловне Рогоза шел кружным путем, но, странное дело, и пустынный сквер, и покосившийся дом, и дерево, растущее одиноко, — все казалось ему знакомым. Грусть расставания постепенно улеглась. Он двигался в темноте, звезды были закрыты плотными непроницаемыми облаками, редкий кустарник или дерево оживали от прикосновения его руки, и жесткие листья растений звенели в тишине ночи. Он шел осторожно, затаив дыхание, какая-то сила направляла его. Внезапно из темноты на него упал яркий сноп света. Видимо, он заплутал и незаметно приблизился к крыльцу какого-то дома. Белая фигура мужчины на крыльце показалась ему знакомой, тот громко позвал кого-то в глубине. — Нет… нет… ничего не надо, — торопливо сказал Рогоза и поспешил обратно. Но в далеком сознании Рогоза вдруг ясно и четко вспомнил похожий случай из своего детства. Тогда он наклонился и постучал в низкое антрацитовое окно; в лицо ударил пряный запах травы, тонко зарождающейся у самой земли. Он постучал еще и еще… пока в глубине окна не увидел бронзовый свет керосиновой лампы. Со скрипом открылась дверь, и выросла восковая фигура в белом — как видно, старуха. Ему показалось, что он сейчас крикнет ей в лицо и это останется безнаказанным, но вдруг что-то надломилось в нем, и вместо крика он шепотом проговорил: — Бабушка, война кончилась! Старуха порывисто обернулась к свету, и тогда Рогоза увидел исхудавшее лицо молодой женщины; она негромко вздохнула, дернулась, фигура потеряла устойчивость, и он услышал стук падающего тела. Ваня кинулся к ней, но в ту же секунду твердо, по-армейски на порог шагнул мужчина в галифе и простой рубашке с длинными развязанными тесемками на груди. — Не трожь, пацан. Не твое это дело, женщин цапать. — А затем недовольно спросил: — Что это с ней? Ваня не знал ни женщины, ни мужчины, видимо случайная судьба соединила их в эту ночь. Смутная догадка пронзила сердце, все сопротивлялось в нем от этой догадки, и тогда дерзко, по-мальчишески, ломая голос, он крикнул ему в лицо: — Это она от счастья, к ней муж должен с войны возвратиться, он у нее обгоревший танкист! — У, дурики проклятые! — ответил мужчина и скрылся в доме… Рогоза очнулся. Перед ним не было ни знакомого дома у края дороги, ни колючего кустарника. Деревья выросли и стали большими, а на месте старого дома вырос другой, но чужой. Вдруг в памяти размашисто и хрипло пронеслись звуки гармошки. Человеческое море разлилось по улицам, площадям, закоулкам; все плясало и пело… Музыка еще звучала, но Рогоза не мог точно определить, было ли это на самом деле или только что родилось в его лихорадочном воображении. В теплом воздухе звонко запели корнет-а-пистоны, их было не меньше пяти, они играли вступление, всего несколько повторяющихся звуков. Затем властно и сильно из гущи низких тембров поднялись баритоны, это было плавное и сильное раскачивание плотного воздуха. Чисто и грустно вступили теноровые подголоски, они перекликались между собой легко и непринужденно, сопоставляя грустное и смешное, как в подлинной жизни. Рогоза различил в баритоновом унисоне звук трубы Кафтена — безногого музыканта, известного всему городу. Днем Кафтен работал сторожем на причале, а вечером в голубой рубашке апаш сидел за тонким пюпитром духового оркестра и выводил божественные рулады. Это был настоящий музыкант — женщины от его музыки часто плакали, вспоминая погибших на фронте мужей. Его медный голос был сильнее других, а партия всегда сложнее и выше на целую терцию, и никто не мог справиться с этой задачей лучше, чем он, потому что в музыке главное — не инструмент. В общий строй вступила мелкая кавалерия оркестра: ударные инструменты, флейты-пикколо, кларнеты, но они создавали лишь орнамент музыки, в то время как могучие страстные баритоны были душой оркестра, звуки которого печально и торжественно плыли над городом. Наступило утро. Рогоза остановился, раздумывая, куда бы ему пойти дальше. Дальше была городская площадь, и он свернул на нее. Он шел быстро, как только мог. Легкая и упругая сила все время толкала его вперед. Над площадью в шелковистой высоте утра прыгали с верхнего этажа на нижний легкомысленные стрекозы. Вращение их крыльев было так стремительно, что казалось: существует одна сверкающая линия полета, это она соединила в прозрачном воздухе разрозненные этажи…
Об авторе

Олег Васильевич Мальцев — мурманчанин. Работал на Шпицбергене, ходил на ледоколах в Арктику. Сейчас работает в Мурманском высшем инженерном морском училище. Первая его книга — «Движение к сердцу» вышла в нашем издательстве в 1977 году.

Последние комментарии
9 часов 46 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
3 дней 17 часов назад
3 дней 21 часов назад