Операция «Фараон», или Тайна египетской статуэтки [Филипп Ванденберг] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Филипп Ванденберг Операция «Фараон», или Тайна египетской статуэтки

В поисках следов
Бастет, египетская богиня любви и счастья, в соответствии с древней традицией изображается в виде сидящей кошки. Заказ № 1723, направленный в Мюнхен, в Гермес — Институт — всемирно известную и признанную лабораторию по проверке подлинности и датировки предметов искусства, был вполне обычным. В соответствии с желанием владельца, частного коллекционера, необходимо было проверить подлинность древнеегипетской статуэтки-кошки богини Бастет с помощью метода термолюминесценции. Для проведения такой проверки необходимо соскоблить три грамма материала в самом незаметном месте. Ответственная за выполнение заказа ассистентка, как обычно, взяла пробу с нижней стороны статуэтки, в данном случае с внутренней стороны отверстия толщиной с палец и глубиной около десяти сантиметров, чтобы возможно меньше повредить объект. При этом в отверстии сотрудница института обнаружила свернутый листок бумаги с надписью «Убийца № 3», на который сначала вовсе не обратила внимания, затем все же отнесла в кабинет института, где хранились всяческие странные находки и фальсификации. Исследование кошки-статуэтки подтвердило ее несомненную подлинность, и с точностью в ± 100 лет объект был отнесен к периоду Третьей династии. 7 июля 1978 года статуэтка вместе с результатами экспертизы и счетом была возвращена владельцу и вписана в том 24/78 архива заказов. Во время моего посещения Гермес-Института, куда я обратился в сентябре 1986 года, чтобы проверить один из предметов моей собственной небольшой коллекции египетских древностей, внимание мое привлек странный листок с надписью «Убийца № 73», о котором я и расспросил сотрудников. Когда я поинтересовался, как владелец объяснил находку, мне сообщили, что его поставили в известность. По его мнению, один из предыдущих владельцев статуэтки решил пошутить, его же интересовала лишь подлинность объекта. Моя просьба сообщить имя и адрес владельца была отклонена по профессиональным соображениям. Однако к этому моменту меня уже так увлекло это дело — вернее, в тот момент я еще не знал, что из всего этого выйдет, — но я так увлекся происходящим, что не отказался от своего желания и попросил передать владельцу Бастет-кошки просьбу связаться со мной. Сотрудники института пообещали пойти мне навстречу. Тогда я еще не решил, как действовать в том случае, если владелец не появится. Я даже думал о подкупе сотрудников института, чтобы получить сведения о местонахождении статуэтки с загадочной запиской. И чем больше я раздумывал, тем более уверялся в том, что за надписью «Убийца № 73» скрывается что угодно, но не шутка. Очередная попытка получить необходимые мне сведения от директора института окончилась обещанием подвергнуть записку научному анализу. К моему огромному удивлению, через три недели я получил через институт письмо, в котором некий доктор Андреас Б., адвокат из Берлина, называл себя законным владельцем статуэтки кошки. Он сообщал, что принял к сведению мой интерес, однако данный предмет искусства не подлежит продаже, так как передан по наследству. Я позвонил доктору Б. в Берлин и объяснил, что меня интересует не кошка как таковая, а найденная в статуэтке записка с таинственной надписью «Убийца № 73». Мой собеседник отреагировал несколько скептически, так что мне потребовалось все мое искусство убеждения, чтобы уговорить его назначить мне встречу в отеле «Швейцарский двор» в Берлине. Я полетел в Берлин и за ужином, на котором помимо доктора в качестве свидетеля присутствовал его знакомый, что только укрепило меня в моих подозрениях, узнал — по крайней мере так утверждал мой собеседник, что нынешний владелец статуэтки кошки унаследовал ее от своего отца, Ференца Б., известного коллекционера египетских древностей. Ференц Б. умер три года назад в возрасте шестидесяти семи лет. О происхождении предмета обсуждения доктор Б. ничего сказать не мог, его отец имел обыкновение приобретать экземпляры для своей коллекции у всевозможных торговцев и на аукционах. На мой вопрос, не сохранились ли какие-либо документы, касающиеся данной сделки, как это принято среди коллекционеров, мой собеседник сообщил, что все документы находятся у его матери, которая владеет также большой частью коллекции и наслаждается жизнью в Асконе, на озере Маджоре. Наша беседа длилась четыре часа и завершилась, после того как я заверил обоих присутствующих в том, что налоговые вопросы меня не интересуют, неожиданно дружелюбно. Таким образом, я узнал, что мать доктора Б. тем временем вновь вышла замуж и теперь носит фамилию Е. О г-не Е., несколько сомнительном типе, никто из местных точно ничего не знал, в том числе и об источниках его состояния. Но в принципе это достаточно типичная ситуация для той местности. Идея навестить г-жу Е. без предварительной договоренности оказалась вполне удачной, так как в противном случае, думаю, она отказалась бы от встречи. Я не стал терять времени и направился в Аскону, где и нашел г-жу Е. в одиночестве, несколько удрученную и слегка подвыпившую, что меня даже порадовало, так как это состояние в некоторой степени развязало ей язык. Тем не менее г-жа Е. не предоставила мне документов — она объяснила, что их более не существует. Однако, сама того не подозревая, г-жа Е. дала мне ценный намек на происхождение Бастет-кошки: она прекрасно помнила, что в мае 1974 года странным образом околела кошка домовладельца и примерно в то же время Ференц Б. нашел Бастет-кошку на аукционе. Он приобрел вещицу в память о своей любимице. К моему сожалению, беседу пришлось прервать, так как неожиданно появившийся супруг г-жи Е. встретил меня с недоверием и, если не бестактно, то достаточно прямо выражая свое намерение, выпроводил меня. Зато я уже дошел до того момента, когда история стала приобретать некую заметную динамику. Рассылка одинаково составленных писем во все ведущие компании, проводящие аукционы, содержавших один и тот же вопрос — не проводила ли фирма в мае 1974 года аукцион египетского искусства, дала следующие результаты: три фирмы ответили отрицательно, две не ответили вовсе, одна — положительно. Лондонская «Кристис» проводила аукцион 11 июля 1974 года. Я отправился в Лондон. Центральный офис компании «Кристис» на Кинг-стрит, Сент-Джеймс, производил вполне благоприятное впечатление, по крайней мере что касается помещений свободного доступа, отделанных в благородных красных тонах; внутренние же комнаты скорее находятся в состоянии упадка. И прежде всего архив, в котором хранятся каталоги и итоговые списки сделок, заключенных на аукционах. Я представился как коллекционер и, таким образом, легко получил доступ в помещение с покрытыми пылью каталогами. Мисс Клейтон, благородная дама в очках, проводила меня и помогла сориентироваться. Из каталога «Египетские скульптуры» от 11 июля 1974 года следовало, что большая часть экспонатов была получена из собрания нью-йоркского коллекционера, например, Апис-бык, датированный Четвертой династией, и статуэтка Гора из Мемфиса. Наконец, в качестве лота № 122 я обнаружил искомую Бастет-кошку, Третьей династии, предположительно найденную в Саккаре. Я сказал, что в данный момент являюсь владельцем статуэтки и мне хотелось бы иметь полный список всех ее предыдущих владельцев: не могли бы мне сообщить данные о продавце и покупателе моей кошки применительно к данному аукциону? Просьба была решительно отклонена моей провожатой, она закрыла каталог, вернула его на место и неохотно спросила, чем еще может быть полезна. Я отказался, поблагодарив за оказанную помощь, так как понял, что, действуя прямо, не сумею продвинуться в поисках. Пока мы выходили из архива, я завязал с мисс Клейтон беседу о лондонской кухне, которая представляет книгу за семью печатями для любого европейца с континента, и удача не заставила себя ждать. Любой англичанин, когда речь заходит об англосаксонской кухне, просто-таки бросается на ее защиту. Мисс Клейтон не оказалась исключением. Нужно только знать место. При этом стекла ее очков ярко блеснули. Наш разговор завершился уговором встретиться в «Четырех сезонах» в Южном Кенсингтоне. Сразу перейду к главному: ужин не был бы достоин описания, если бы не состоявшийся непринужденный разговор, во время которого я имел возможность похвалить глубокие познания мисс Клейтон касательно аукционов. Затем я добился доверия мисс Клейтон, пустив в ход комплименты в адрес отнюдь не ее профессиональных качеств, а также обещания сообщить мне продавца и покупателя лота № 122 при условии сохранения молчания. Когда на следующий день я нашел мисс Клейтон в бюро, она заметно нервничала. Сунув мне в руку листок с двумя адресами и именами, из которых одно уже было мне знакомо — Ференц Б., она торопливо добавила, что просит меня забыть разговор предыдущего вечера. Она и так слишком много рассказала, больше, нежели позволительно, вероятно, так подействовало вино, она очень сожалеет. На мой вопрос, увидимся ли мы еще, мисс Клейтон ответила отрицательно и попросила извинить ее. В баре «Глочестер», куда я частенько захожу, бывая в Лондоне, я размышлял о том, что же такое мне сказала мисс Клейтон, чего говорить, по ее мнению, не следовало. И несмотря на то, что я до мелочей мог припомнить предыдущий вечер, никаких догадок у меня не появилось. Зато теперь в моем распоряжении было имя продавца, видимо, египтянина, Гемала Гаддалы, местожительство — Брайтон, Сассекс, Эбби-роуд, 34. Стояло лето, и я решил поехать в Брайтон, где остановился в отеле «Метрополь» на Кингз-роуд. Портье, седой добродушный пожилой господин, удивленно повел бровями, когда я спросил его о Эбби-роуд. Вежливо и обстоятельно он объяснил, что в Брайтоне, к сожалению, нет улицы с таким или подобным названием. И в 1974 году ее также не существовало, он бы знал об этом. Я позвонил мисс Клейтон в Лондон: быть может, она ошиблась? Однако она возразила, что ошибки быть не может. На мой вопрос, не скрывает ли она что-то от меня, она промолчала, затем повесила трубку. Таким образом, мое расследование зашло в тупик. И если раньше я лишь подозревал, то теперь был абсолютно уверен, что за запиской с надписью «Убийца № 73» что-то скрывается. Я вновь отправился в Лондон и нанес визит в «Дэйли-экспресс» на Флит-стрит, о которой мне было известно, что газета располагает великолепным архивом. Я попросил принести газеты за июль 1974 года, так как рассудил, что в Лондоне статьи об аукционах пользуются большой популярностью. Быть может, я найду подсказку в газете. Я не нашел ее. Не нашел вообще ничего, что бы выходило за рамки обыкновенного отчета. Тогда я решил продолжить поиски еще в одной газете, где мне повезло больше. Газета «Сан» четыре года назад опубликовала сообщение о моей первой книге, там-то я и попросил предоставить мне номера за июль 1974 года. И мои поиски неожиданно оказались успешными. В номере от 12 июля 1974 года в статье под заголовком «Смерть на аукционе» (я сделал копию) «Сан» сообщала, что «вчера на аукционе египетских скульптур, проводимом „Кристис“, Сент-Джеймс, произошел трагический инцидент. Коллекционер с табличкой 135 умер на аукционе от разрыва сердца. Происшествие осталось незамеченным. Лишь после окончания аукциона в 21.00 служащие фирмы „Кристис“ обнаружили мужчину, лежавшего в кресле на предпоследнем ряду, и решили, что тот уснул. Когда попытки разбудить мужчину не дали результата, был вызван врач, установивший смерть от разрыва сердца. Коллекционер с табличкой 135 — Омар Мусса из Дюссельдорфа, имевший немецко-египетское происхождение». Для меня, конечно, важно было понять, естественной ли смертью умер Омар Мусса. Во всяком случае, записка, в которой речь шла об убийце, там присутствовала. Было ли случайностью то, что эта записка находилась в лоте именно того аукциона, который был отмечен трагической смертью? Запрос в Гермес-Институт в Мюнхене касательно исследования записки дал следующие результаты: записка была составлена в семидесятые годы, вероятно, за пределами Европы. Был ли убийца участником аукциона под номером 73? Кто скрывается за номером 73? Чтобы прояснить ситуацию, я вновь нанес визит в фирму «Кристис», где с удивлением обнаружил, что мисс Клейтон покинула свое место «по семейным обстоятельствам». Я отправился к заместителю председателя Кристоферу Тимблби. Уважаемый Кристофер Тимблби принял меня в узком, оформленном в темных тонах кабинете и был не слишком обрадован моим подозрением, что в покоях его дома, основанного в 1766 году, однажды было совершено убийство. Прежде всего, заявил он, — и мне нечего было возразить, — какой мотив мог иметь убийца? Открыть имя участника под номером 73 Тимблби с негодованием отказался. Иного исхода я и не ожидал, однако заявил, что не это удержит меня от дальнейших поисков. Да, он должен иметь в виду, что я не стану скрывать своего расследования, даже если в результате окажется, что вся эта история яйца выеденного не стоит. Мой собеседник задумался. «Ну, хорошо», — в конце концов согласился Тимблби, — ввиду необычности ситуации он готов поддержать меня в моих поисках. Однако только при условии, что он постоянно будет в курсе и что дело не будет предаваться огласке, пока не будет доказано, что преступление имело место. Я не стал упоминать о моем предыдущем контакте с мисс Клейтон, пока мы вместе исследовали архив, что давалось мне с трудом. Тимблби искал документы, которые я уже видел, долго и не на том месте. Он извинялся, объясняя, что ответственная за архив служащая в данный момент отсутствует, и наконец, найдя нужный раздел, обнаружил пустое место. Я не мог поверить собственным глазам — папка, которую я видел несколько дней назад, исчезла. Теперь дело представлялось мне очевидным. Я оставил мой адрес в отеле на тот случай, если пропажа все же обнаружится, и попрощался, нужно признаться, будучи достаточно рассержен. Везде, где бы я ни продолжил поиски, я натыкался на стену. В такие моменты безнадежности и потери контроля над ситуацией я обычно захожу в музей побеседовать с экспонатами. В этот раз я направился в Британский музей, а предметом моих размышлений стала черная базальтовая плита, найденная одним из офицеров Наполеона в Египте, на поверхности которой на трех языках выбит текст — четырнадцать строк иероглифов, тридцать одна строка демотического[1] и пятьдесят четыре строки греческого письма, послужившего французскому ученому ключом к расшифровке иероглифов. Итогом моих размышлений перед плитой стало решение вновь пройти весь путь с самого начала. Внезапно мне в голову пришла идея: перед моим запланированным на следующий день отъездом нужно попытаться найти мисс Джульет Клейтон. Ее адрес я обнаружил в телефонной книге — Квинсгейт Плейс Мьюс, Кенсингтон. Маленькие, одноэтажные, выкрашенные в белый цвет домики, на первых этажах чаще всего автомобильные мастерские или складские помещения, мощеные улицы. Я спросил одного из автомехаников, знает ли он мисс Клейтон. Конечно знает. Мисс Клейтон уехала в Египет, когда вернется, он, простите, сэр, не знает. Я представился старым другом мисс Клейтон и спросил, не знает ли он ее точного местонахождения. Механик пожал плечами. Может быть, ее мать знает, она живет на севере, в Ханвелле, Уксбридж-роуд; проще всего сесть на поезд с вокзала Виктории, ехать придется около часа. Я был практически уверен, что найду мисс Клейтон у матери, и отправился в путь. Начавшийся дождь сделал унылые пригороды Лондона еще более безрадостными. Я был единственным пассажиром, вышедшим в Ханвелле. Передо мной был старый полуразрушенный вокзал, со стороны города — будка такси. Уксбридж-роуд. Полтора фунта. Миссис Клейтон, невысокая седая женщина, на морщинистом лице которой постоянно бродила улыбка, обрадовалась нежданному визиту и поставила чай. Я представился другом ее дочери, и миссис Клейтон радостно принялась болтать о Джульет. Намного важнее, однако, оказались сведения о том, что мисс Клейтон остановилась, как обычно, в «Шератоне» в Каире. Как обычно? Ну да, раз-два в год, я же ведь должен знать о ее любви к Египту — или нет? Конечно, заверил я. Из разговора я также узнал о том, что мисс Клейтон провела несколько лет в Египте, бегло говорит по-арабски и состояла в близких отношениях с египтянином, которого миссис Клейтон называла Ибрагимом. Когда же беседа перешла на лондонскую погоду, я предпочел попрощаться. В отеле меня ожидал сюрприз — записка от Кристофера Тимблби, сообщавшая о том, что участником № 73 был Гемал Гадалла. Местожительство — Брайтон, Сассекс, Эбби-роуд, 34. Тот же самый призрак, который я искал в качестве владельца Бастет-кошки. Таким образом, вновь возникала ситуация, требовавшая посещения музея, либо — более длительного — бара. По причине позднего времени суток я остановился на втором варианте и выбрал «Мэгпай энд Стамп» в Олд Бейли, где нашел себе место у окна, которое в другое время стоило бы немалых денег. Я пил и пил, заливая всю свою беспомощность, и не знаю, как бы закончился вечер, если бы сидевший напротив меня англичанин с рыжими волосами и несчетным количеством веснушек на руках не повернулся ко мне с восклицанием: «Проклятые бабы, сволочи!» Я вежливо осведомился, что именно он имеет в виду, и мой новый собеседник ответил с пренебрежительным жестом, что я могу не стесняться, но и в темноте бара видно, что у меня проблемы с женщинами. Подмигивая и прикрывая рог рукой, словно никто не должен был слышать его слов, он продолжал: в Уэльсе лучшие женщины, несколько старомодны, но милые и верные, затем он вдруг протянул мне свою веснушчатую руку и сообщил, что его зовут Нигель. Нигель воспринял с удивлением тот факт, что я был далек от мыслей о женщинах, и, видимо, почувствовал себя обязанным начать разговор о войне. Не знаю, из-за пива ли, или из-за моего негативного отношения к разговорам подобного рода, но я прервал воинственный поток изречений Нигеля вопросом, действительно ли ему интересно узнать о предмете моих размышлений, а поскольку он ответил положительно, я, подперев голову руками, начал свой рассказ. Пока я говорил, Нигель ни разу не прервал меня, только время от времени непонимающе потряхивал головой. Помолчал он еще и некоторое время после окончания моего повествования. Я, наверное, писатель, заговорил он наконец. История придумана действительно неплохо, но она не правдива. В любом случае, он не верит в нее, нет, в такое он поверить не может. Мне стоило невероятных усилий красноречия и немалого количества выпивки, чтобы убедить моего собеседника в правдивости рассказанного мною. Наконец он согласился поверить, — ну, да, может быть, в жизни действительно происходят подобные вещи, но что я теперь собираюсь со всем этим делать? Если бы я знал, не стал бы рассказывать, возразил я. Нигель задумался, стуча ладонью по столу и бурча что-то непонятное. Мое знакомство в «Мэгпай энд Стамп» не стоило бы упоминания, если бы Нигель внезапно не произнес, подняв на меня глаза: — Может, если не существует Гемала Гадаллы, то и Омар Мусса тоже фантом, как вы считаете? Через два дня я занялся его предположением в Дюссельдорфе. Сначала казалось, что события развиваются к полному моему удовлетворению, так как в телефонной книге я нашел некоего Омара Муссу с примечанием: антиквариат на Кенингс-аллее — чудесный адрес. Само собой разумеется, я ожидал, что Мусса — сын умершего в «Кристис» Омара Муссы. Однако, зайдя в миленький магазинчик с аккуратно расставленными предметами искусства Египта и объяснив встретившему меня пожилому человеку цель моего визита, я оказался приятно удивлен. Нет, он сам — Омар Мусса, нашедший смерть в «Кристис», в этом он может поклясться, уверил мужчина, посмеиваясь. Что в таком случае оставалось делать мне самому? Я улыбнулся, хотя и несколько неуверенно, предполагая, что старик шутит. Тот, однако, посерьезнел и сказал, что не хочет больше иметь ничего общего с этим делом; но, видимо увидев растерянность на моем лице, сжалился и принялся рассказывать. Так я узнал, что мужчина, умерший во время аукциона, был его, так сказать, двойником, быть может, это был тайный агент, имевший при себе документы, отличавшиеся от документов Муссы только фотографией. Паспорт, автомобильные права, даже кредитные карточки на его имя — все было у двойника, и Мусса знал, как это получилось: однажды в центре Дюссельдорфа его автомобиль ограбили, взяв только радио и не тронув документы в бардачке. Поначалу это обрадовало Муссу, но потом стало ясно, что ограбление машины было предпринято лишь для того, чтобы снять копии с его личных бумаг и впоследствии подделать их. Вначале это ему просто не приходило в голову, до того момента, пока он не встретился с собственным двойником. Во время аукциона в зале присутствовало двое мужчин, носивших имя Омара Муссы — он, настоящий Мусса, и второй, с поддельными документами. Невероятная ситуация. Я прервал своего собеседника, спросив, было ли чистой случайностью его посещение этого аукциона? Случайностью? Мусса потянулся. В жизни не бывает просто случайностей: по заказу одного из клиентов он пытался заполучить несколько предметов искусства. Он замолчал, и мне показалось, что мы думаем об одном и том же. И поскольку Мусса продолжал молчать, я задал вопрос, кто, по его мнению, должен был стать жертвой преступления, если речь действительно шла о преступлении, — он или его двойник. Мужчина тяжело вздохнул, скрестил руки за спиной и прошелся по шикарному шелковому ковру, украшавшему середину магазина. Нарочито подробно он объяснил, что тот, второй мужчина, умер от разрыва сердца, а он, Омар Мусса, лишь во время возвращения из Англии узнал об этом. Делом занялся Скотленд-Ярд, его вызвали в Лондон, куда он с удовольствием явился, так как и сам был заинтересован в прояснении ситуации. Долгие часы провел он в Скотленд-Ярде, ему задавались бесчисленные вопросы, пока он сам не почувствовал себя виновным в том, что не оказался на месте мертвого Муссы. Что касается собственно смерти, он знал лишь то, что врач засвидетельствовал смерть в результате разрыва сердца, в остальном же во время допросов речь о смерти не шла. Также он ни разу не слышал о том, кем на самом деле был покойник. Скотленд-Ярд поместил дело в архив с заключением, что двойник был агентом некоей секретной службы и умер во время исполнения задания по наблюдению. Наш разговор был прерван появлением клиента, интересовавшегося китайскими вазами — действительно ли это вазы Вукай? И пока они демонстрировали друг другу свои профессиональные знания, я смог понаблюдать за господином Муссой. Восточная внешность, светлая кожа, рост около 1,80 м., стройная фигура, в дополнение — аккуратный двубортный костюм и то благородство, с которым он себя держал, придавали ему аристократический вид. Короче говоря, он выглядел так, как должен выглядеть истинный торговец антиквариатом, и было бы сложно представить такого человека замешанным в сомнительные авантюры, связанные со шпионажем или тайными агентами. Однако, честно говоря, история, которую он мне выложил сначала с улыбкой, затем с некоторой тенью страдания на лице, показалась мне сомнительной; все это звучало так, будто основной целью Муссы было доказать, что сам он к делу никакого отношения не имеет. Мне хотелось еще спросить, говорит ли ему что-нибудь имя Джульет Клейтон, но Мусса уже открыл передо мной дверь. Ситуация, в которой я оказался, была похожа на покер, когда нужно пытаться выиграть, даже имея на руках плохие карты, а мои карты были однозначно плохи. Однако я уже был затянут этой историей, полностью захвачен ею. Итак, мужчина умирает во время аукциона. Врачебное заключение — разрыв сердца. Пока все ясно. Имя покойника известно, как известно и то, что это «двойник», чей «оригинал» также находится в зале. Можно предположить, что жертва убита ядом или с помощью инъекции. Но мужчина, видимо виновный в смерти, — фантом, его не существует, по крайней мере под имеющимся именем и адресом. И совсем не облегчает поиски то, что все, кто так или иначе связан с историей, пытаются замолчать ее, все ведут себя так, будто за ней скрывается нечто совсем иное. Такая цепочка размышлений не приводила ни к каким выводам, и я решил, что, если действительно хочу добиться успеха, должен покинуть прямой путь логики, потому что все, что я до сих пор более или менее относил к этой истории, ей противоречило. Чтобы поподробнее разузнать о Муссе, я посетил несколько антикваров, представляясь инвестором, не имеющим особых профессиональных познаний, однако располагающим определенной и немалой денежной суммой и намеренным использовать ее в обход налогообложения. Таким образом, мне не обязательно было блистать знаниями касательно старинных ковров, мебели в стиле барокко и восточноазиатской керамики, выглядя при этом все же достаточно правдоподобно. Каждый раз в разговорах с антикварами я упоминал о вазах Вукай, виденных мною у Муссы, и осведомлялся, можно ли доверять Омару Муссе. Первые две попытки не дали ничего — мой вопрос был проигнорирован, при повторных попытках ответом была сдержанная улыбка. Третий посещенный мною антиквар, менее состоятельный, о чем говорило уже само расположение его магазинчика в одном из переулков, выходящих на Кенингс-аллее, оказался более разговорчивым и не стал скрывать своего отношения к предмету моих расспросов. Ведь все газеты писали о том, как Мусса продал за пятизначные суммы два средневековых монастырских стола, оказавшихся подделкой, подделаны были даже отверстия, «проеденные червями» в «старой» древесине. Я устроился в кресле и заговорил о странных обстоятельствах смерти «двойника» Муссы в Лондоне, что вызвало пренебрежительный жест и не менее пренебрежительное высказывание в адрес Муссы, которое я здесь приводить не буду, однако оно утвердило меня во мнении, что господин Мусса не относился к близким друзьям моего собеседника. Ненависть развязывает язык. Антиквар оказался просто находкой для меня, и за несколько минут я узнал массу вещей, не принесших пользы моим поискам, однако явивших мне образ Омара Муссы достаточно выразительно. Причина вражды антикваров лежала в давней их дружбе и неудавшейся попытке открыть совместное дело. По мнению Касара, моего собеседника, за происшествием с двойником в Лондоне скрывалась какая-нибудь грязная афера, в которой был замешан Мусса. На мой вопрос, что бы могло скрываться за такой аферой, он ответил, что я даже представить себе не могу творящегося в мире торговли антиквариатом беспредела, кончающегося порой убийствами. Я почувствовал, что пришло время открыть истинную причину моего визита. Я объяснил причину моих подозрений относительно того, что двойник Муссы был убит, и рассказал обо всем том, что уже сумел узнать. Касар просто загорелся идеей помочь мне в моем расследовании. Теперь у меня был помощник. Напротив ипподрома находится незаметное на вид кафе «У упрямца». Там я и встретился с Касаром, чтобы поужинать и узнать полную биографию Муссы во всех подробностях, из которых самой примечательной мне показалось то, что тот женат на египтянке. То, как Касар говорил о ней, наводило на мысль о тайной влюбленности в нее самого Касара. В остальном можно было точно сказать, что Мусса жил на широкую ногу, явно роскошнее, чем позволял его законный доход. Дом на Ибице, квартира на Зюлте и квартира с яхтой на бульваре Лас Олас в Форт Лодердале были теми составными частями имущества Муссы, о которых слышал Касар и которые представляются совершенно недоступными любому добропорядочному антиквару. Темные делишки? Касар пожал плечами. Доказать он ничего бы не смог, хотя годами наблюдал за деятельностью Муссы. Мое предположение, что Мусса использует свою фирму лишь в качестве прикрытия, на самом же деле занимается чем-то иным, Касар отмел. В своей области Мусса профессионал, он живет своей фирмой, в наличии глубочайших знаний ему не откажешь. Многие считают его и вовсе лучшим экспертом по египетскому искусству в Европе, хотя он не учился этому. Касар рассказывал не без зависти, свидетельствовавшей о наличии у него самого профессионального образования. Покидая кафе, я знал о Муссе много больше прежнего и был уверен, что тот играет главную роль во всей истории, однако ключ к ее разгадке я тем вечером так и не нашел. В надежде увидеть мисс Клейтон я полетел в Каир и лишь на месте понял, что совершил ошибку. Мисс Клейтон только что покинула отель, но уехала ли она из страны, в отеле мне сообщить отказались. Я решил использовать пребывание в Египте, чтобы попытаться узнать что-либо о Муссе. Визиты к антикварам Каира результатов не дали, да к тому же я встретил столько недоверия с их стороны, что уже через пару дней покинул город и направился в Минию, город в центральном Египте, где когда-то у меня были знакомые — семья с тремя сыновьями, — жившие расхищением захоронений в регионе Тель эль-Амарна. Но и здесь имя Муссы не было известно, так что я, несолоно хлебавши, вернулся домой. Я потратил массу времени на расследование, не продвинувшись при этом ни на шаг, и вернулся к книге, которую мне уже пора было сдавать, отложив поиски, но не в силах перестать размышлять о них. Прошло уже около года, когда я неожиданно получил письмо от Касара, в котором говорилось, что Мусса умер — на этот раз действительно, — и среди оставленного им имущества есть нечто, могущее меня заинтересовать. Я в тот же день отправился в Дюссельдорф. К моему удивлению, я нашел Касара живущим в мире и согласии с бывшей супругой Муссы. О покойном речь не заводилась. Касар передал мне свиток потемневших, исписанных арабской вязью документов, грязных и потрепанных, являвшихся итогом долгой кропотливой работы. Они были найдены в запертом ящике Муссы. Я вопросительно посмотрел на Касара, он же ожидал, что я прочту бумаги, тогда мне все станет ясно. При этом он многозначительно ухмылялся. Я не знаю арабского, поэтому сказал, что мне, видимо, понадобится переводчик. Касар согласился. Знает ли он, что написано в бумагах? Конечно, ответил Касар, хотя и не все, но достаточно для того, чтобы события, связанные с Муссой и его жизнью, стали казаться ему теперь куда менее загадочными. Конечно, я загорелся желанием узнать, какую информацию содержит свиток, находившийся у меня в руках, но Касар с почти садистским упрямством отказался даже намекнуть на это. Он сказал, что я могу забрать бумаги, так как, скорее всего, я — единственный, кто в полной мере сможет постичь все написанное в них. Он почти уверен, что на их основе, в конце концов, будет написана книга. Касар оказался прав. Ежедневно я провожу три часа с г-жой Ширин, египтянкой из Мюнхена — она переводит для меня с арабского языка записи Муссы, я же делаю заметки. Иногда то, что я слышу, настолько захватывает, что я забываю о собственных записях, позже же мне приходится восстанавливать услышанное по памяти. Многое мне пришлось переписать так, чтобы сделать мысль более ясной, однако я приложил все усилия для того, чтобы максимально приблизить стиль к оригинальному. Сведения же, отсутствовавшие в дневнике — а речь, без сомнения, идет именно о дневнике, — я черпал из независимых источников. Итак, у вас в руках история, написанная Омаром Муссой, человеком, приблизившимся к непостижимому.1 «Мена Хаус» и «Зимний дворец»
«И всякому человеку Мы прикрепили птицу к его шее и выведем для него в день воскресения книгу, которую он встретит разверстой: „Прочти твою книгу! Довольно для тебя в самом себе счетчика!“»«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!» — так начинаются записки Омара Муссы. «Перед вами — слова состарившегося преступника, жить которому, вероятно, осталось недели две, может, пару месяцев, и которого муки совести довели до отчаяния. Перед вами тайны, известные Омару Муссе, которые он никому прежде не поверял, потому что, с одной стороны, нет смысла в громких речах, ведь Аллаху ведомы самые темные тайны, с другой стороны, мне не поверила бы ни одна живая душа. Да, я взял на себя грех, но было это предрешено судьбой и случилось по воле Всевышнего, прощающего нам все грехи, кроме неуважения к Нему. Такого я не позволял себе никогда. Как никогда не нарушал поста в девятый месяц и всегда помнил о ночи, когда на землю был спущен Коран. Я совершил паломничество в Мекку, считал долгом ежедневное вознесение молитвы и омовения, а когда дела мои шли хорошо, платил налог на содержание бедных. Вино, свинина, кровь и умершие своей смертью животные вызывали у меня отвращение. Женщины, повстречавшиеся мне на жизненном пути, не имели причин для жалоб, а та, с которой я сочетался браком, переживет меня». Омар Мусса имел бы полное право быть довольным своей жизнью, начавшейся незаметно, как путь Моисея, и ожидать места в Саду Вечности, которое ждет каждого истинно верующего, если бы не бремя, возложенное на него около полувека назад, когда ему довелось увидеть вещи, которые не созерцал прежде ни один смертный. После чего его скромная жизнь начала меняться день ото дня. Чтобы ясно представить себе весь путь Муссы, необходимо ознакомиться с его жизнью — такой, как помнит ее он сам или как ему о ней рассказывали. Его рождение было темным, как песчаная буря, он не знал ни отца, ни матери — ему еще и двух дней от роду не было, когда его положили в кожаный мешок и привязали к щеколде ворот караван-сарая, расположенного напротив отеля «Мена Хаус». Старый Мусса, владелец семи верблюдов и отец многих детей, взял ребенка в семью (одним ртом больше, одним меньше) и воспитывал, как своего собственного. Много раз за год на щеколде, на которой нашли ребенка, появлялся мешок с деньгами, и никто не догадывался о его происхождении, тогда как его значение было ясно всем. Первые воспоминания Омара относятся к возрасту лет трех, не позднее. Когда старый отец Мусса, худой, морщинистый мужчина с черными бородой и бровями над глубоко посаженными глазами, вложил в его маленькие ручки огромный набут, он едва мог ухватить его. Эта деревянная, обитая гвоздями палка, по словам Муссы, символизировала мужскую силу — чего в тот момент Мусса понять еще не мог. Зато он неплохо научился с ней обращаться и изо всех своих детских сил бил ею по коленям верблюдов Муссы, чтобы они опустились на землю, согнув сначала передние, затем задние ноги. Он часто видел, как это делают другие. Этот способ используется и по сей день, чтобы дать возможность всаднику сесть на верблюда. Иностранцы из отеля «Мена Хаус» находили забавным то, как мальчик помогал им забраться и слезть с верблюда, провожая их к пирамидам, и не скупились на деньги. Пара пиастров была в то время большими деньгами для сына пустыни, однако иногда он приносил и по пять, и по шесть монет. В его сводных братьев вселяло зависть то, что самый младший зарабатывал больше всех. И ему пришлось вырыть себе укрытие возле уборной, где ужасно пахло, зато он мог быть уверен, что туда редко кто заглянет. Странное дело — несмотря на то что мальчик жил практически в тени пирамид, он фактически не воспринимал их. Для него это были просто горы, чьи вершины скрывались в облаках. Он не видел в пирамидах творения рук человеческих. Из-за этого Омар не понимал и трепета, который испытывали приезжие при виде громад пирамид. Больше всего здесь было англичан — аккуратно и элегантно одетых мужчин, иногда в сопровождении накрашенных женщин, приехавших в пустыню лишь для того, чтобы увидеть пирамиды. Они останавливались в шикарном отеле «Мена Хаус», в который простым людям доступ был заказан даже старому, всеми уважаемыми Муссе, о котором ходил слух, что тот лично провожал лорда Кромера на вершину самой большой из пирамид. И хотя некоторые из местных жителей регулярно получали работу в запретном отеле, им строго-настрого запрещалось кому-либо рассказывать О том, что происходит за выкрашенными охрой стенами. В то время как старшие не слишком интересовались закрытым прибежищем иностранцев — любой из них легко мог представить себе, как живут богатые иностранцы, — для окрестной молодежи отель стал объектом постоянного любопытства, и одно только утверждение, будто кому-то удалось проникнуть до стойки портье, будь то в качестве носильщика багажа или под предлогом передачи сообщения, мгновенно приковывало всеобщее внимание к герою. Поэтому и Омар ничего не желал более страстно, чем хотя бы одной ногой ступить в недоступный «Мена Хаус». Не единожды забирался он по заросшей стене и проскальзывал мимо садовников и охранников ко входу, надеясь бросить хоть один взгляд в запретное царство, но каждый раз одетые в белое швейцары замечали его прежде, чем он успевал осуществить намерение, и прогоняли его ударами кнутов. Так что день, когда Омар впервые получил возможность переступить порог «Мена Хаус», ярко запечатлелся в его памяти. В тот день — точную дату он позже вспомнить уже не смог — султан Фуад, сын кедива[3] Исмаила, внук Ибрагима-паши и правнук великого Мохаммеда Али, приехал в черном экипаже, чтобы воздвигнуть египетский флаг на Великой пирамиде. На султане был темный костюм, в остальном он также немногим отличался от англичан, останавливавшихся в отеле. Омар был несколько разочарован: он иначе представлял себе султана. Но утром того дня старый Мусса собрал возле себя сыновей и произнес речь, которая запомнилась Омару. «Сегодня, — сказал Мусса, сопровождая свои слова энергичной жестикуляцией, — великий день в истории Египта. И каждый из нас может гордиться тем, что он египтянин. И однажды наступит день, когда не англичане будут властвовать над египтянами, а египтяне над англичанами». Итак, Омар начал гордиться, но значительно больше его интересовали солдаты, одетые, в отличие от султана, по-восточному, вооруженные саблями и ружьями и пронзавшие хмурыми взглядами любого осмелившегося подойти к свите султана чересчур близко. Омар стоял со своим верблюдом у Великой пирамиды, как ему и повелел Мусса, и приветствовал посетителей. Фуад заметил его и подошел к мальчику, который с удовольствием провалился бы в этот момент сквозь землю. Однако он стоял как вкопанный, вцепившись в свой набут. — Как тебя зовут? — спросил султан с улыбкой. — Омар, — ответил мальчик, — сын Муссы. — И ты погонщик верблюдов? — Да, — ответил Омар едва слышно. Султан громко рассмеялся, так как ему в голову пришла забавная мысль: — Можно, я поеду обратно на твоем верблюде? — Приближенные удивленно переглянулись. Омар часто закивал. Между тем подошел старый Мусса. Он попросил прощения у султана за скупость сына на слова. — Он скромен, высокий господин, — найденыш, которого я воспитал вместе со своими собственными детьми! Омар почувствовал себя в этот момент совсем маленьким и ничтожным. Зачем Муссе понадобилось упоминать о его темном прошлом? Омару стало стыдно. После того как султан спустился с пирамиды, Фуад — подошел к Омару; тот заставил своего верблюда опуститься на колени, и султан поднялся на спину животного. — К отелю «Мена Хаус»! — крикнул он, и Омар повел своего верблюда с султаном на спине к отелю. Солдаты прокладывали Омару путь сквозь толпу, люди по обе стороны от процессии хлопали в ладоши и восславляли султана. Перед входом Омар помог султану спуститься с животного. Кто-то из окружения султана сунул в руку Омара пару пиастров, и тот уже собирался увести верблюда, когда Фуад спросил маленького погонщика верблюдов, не выпьет ли тот с ним лимонада. Омар было отказался, он не хотел пить, но вновь появился Мусса, кивнул и подтолкнул Омара к высокому гостю. Рука об руку с султаном Омар вошел в холл отеля. Ему в лицо ударила прохлада. Каменные полы были покрыты коврами. Хотя на улице был ясный день, все ставни были закрыты, на потолке же горели синие и красные лампы. Стены были украшены плиточным орнаментом. Хорошо одетые женщины и мужчины расступились, позволяя Омару и султану пройти. — Лимонад для меня и моего маленького друга! — приказал султан, и мгновенно перед ними возник служащий отеля, одетый в белое. В его руках был поднос, на котором стояли два бокала в форме тюльпанов, наполненные зеленым лимонадом. Омар никогда не видел такого зеленого лимонада. Перед пирамидами продавали красный чай из мальвы, но чтобы зеленый лимонад? Омар сомневался, что нечто зеленое вообще можно пить. Но султан Фуад взял свой бокал, поднес его к губам и посмотрел на мальчика в ожидании, чтобы тот последовал его примеру. Что оставалось делать Омару, как не взять второй бокал и выпить? Вкус сладкой воды не только был незнаком ему, но оказался настолько неприятен, что он почувствовал тошноту и бросился бежать, расталкивая тесно стоявших людей руками, наружу, где он мог выплюнуть зеленый лимонад.Коран, 17 сура (14, 15)[2]
Начиная с того самого дня сводные братья так возненавидели его, что Омару часто приходилось терпеть наказания за провинности, в которых его обвиняли и к которым он на самом деле не имел никакого отношения. Старый Мусса был не только верным слугой Аллаха, но и мудрым человеком, несмотря на то что никогда не учился. Однажды он собрал свое многочисленное семейство перед хижиной, чтобы зачитать им суру из Корана. Как и любой верующий, он знал наизусть все суры, в этот же раз остановился на двенадцатой. «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!» — и начал рассказывать об Иосифе, который поведал отцу о том, что видел во сне одиннадцать звезд, и солнце, и луну, и все поклонились ему. И призвал тогда отец сына не рассказывать братьям о своем сне, чтобы не вселить зависть в их души, что в результате и произошло. Братья столкнули Иосифа в колодец, где его нашли люди, шедшие мимо с караваном и продавшие его за пару дирхемов человеку по имени Потифар. Пока отец рассказывал, сыновья вставали один за другим, потому что понимали намерение отца, и только Омар остался сидеть перед ним. Стрекотание цикад, доносившееся с берега канала, нарушалось только отголосками музыки из парка «Мена Хаус». Огни мерцали перед дверями караван-сарая, то там, то тут можно было расслышать смех, затерянный в теплой ночи. — Ты знаешь продолжение истории? — прервал Мусса долгое молчание. Омар покачал головой. Тогда Мусса продолжил рассказ для одного Омара. Он рассказал о том, как Иосиф стал управляющим, о преследованиях жены Потифара, приговоре на основе ложного обвинения и успехе Иосифа в качестве толкователя сновфараона, сделавшего его своим поверенным. Мусса рассказывал о мужестве Иосифа, когда его голодные братья пришли к нему просить зерно, и тот им простил. Когда Мусса закончил свой рассказ, уже стемнело, но Омар был бодр, потому что начал понимать, почему отец рассказал именно эту суру. Он, Омар, был чужим, тем, кого никогда не признают его сводные братья. Но не эта ли сура рассказывала также и о том, что отвергнутые способны на великие дела? В своих мечтах мальчик видел себя советником султана, носящим европейскую одежду и ездящим гулять в черной карете, и в ту ночь Омар решил последовать примеру Иосифа. Но Омар был погонщиком верблюдов, возившим иностранцев от отеля к пирамидам за пару пиастров, и носил длинные одежды вместо желанного костюма: братья звали его Омар Эфенди, что соответствовало обращению к уважаемому человеку, по отношению же к нему, подростку, звучало издевательски. В мире был только один человек, которому Омар доверял, звали его Хасан, и был он инвалидом — микассой, какие тысячами населяют Каир. Хасан был стар, очень стар, он сам не знал собственного возраста, не знал, где и когда был рожден, и у него не было ног. К его коленям были прикреплены обрезки автомобильных шин. Так он и передвигался, толкая перед собой ящичек, украшенный осколками зеркал и обрывками бус, с помощью которого зарабатывал на жизнь. Хасан был чистильщиком обуви, его деревянный ящичек служил подставкой для ног клиентов, а в нем хранились кремы и щетки для обуви. Так, каждый день его можно было увидеть перед «Мена Хаус» предлагающим свои услуги входящим и выходящим: он бил щеткой по своему ящику и выкрикивал единственное известное ему английское слово: «Polishing, polishing! — Чистка обуви!» Хасан видел жизнь на уровне обуви: для микассы человек кончается у талии, то, что выше, оказывалось за пределами его зрительного восприятия. Хасан мог восхищаться браслетами женщин, а ноги француженки в туфлях на высоких каблуках возбуждали его воображение. Он привык смотреть на людей снизу вверх, и это не оскорбляло его. Ему также не мешало выказываемое неуважение, когда люди в его присутствии обсуждали вещи, не предназначенные для посторонних ушей. Хасан был «ничем» и поэтому знал больше остальных. Он знал большинство гостей отеля по именам, знал о причине их пребывания, а тех, кому он хоть раз чистил обувь, он легко мог отнести к определенному социальному классу. Потому что, по утверждению Хасана: «Человека выдает его обувь!» По его мнению, новая обувь не многого стоила. Только выскочки постоянно носят новую обувь, хороший человек бережет свою обувь и носит ее с уважением, и это видно по обуви. Обувь всегда должна выглядеть так, будто ее носил еще ваш отец на собственной свадьбе, — так хорошо сохранившейся; прежде всего это свидетельствует о том, что ее хозяин не обременен ни грязной работой, ни долгой ходьбой. При этом Хасан обычно останавливал взгляд на своих стершихся шинах, а Омар — на своих босых ногах. В доме инвалидов в Айн эль-Сира Хасан научился чтению и письму, и когда хватало времени, старик обучал мальчика, вычерчивая слова Корана палкой на земле перед зданием отеля. Когда Омару исполнилось десять лет, он уже мог написать и прочесть первую суру, начинавшуюся словами: al-hamdu lillahi rabbi l-alamima r-rahmani r-rahimi — Хвала Аллаху, Господину миров, Милостивому, Милосердному. Омар мечтал пойти в школу, что старый Мусса ему строго-настрого запретил. Сам он в школу не ходил, а ведь многого добился в жизни, сделал такое состояние, что смог себе позволить воспитать чужого ребенка по имени Омар Эфенди. Омара задели слова отца, и он, плача, побежал к Хасану, который занимался перед отелем своим «polishing». Закончив трудиться над туфлями хорошенькой англичанки, он заметил Омара и помахал ему, стуча одновременно щеткой по ящику и выкрикивая: «Чистка обуви! Один пиастр!» Затем он увидел слезы в глазах мальчика и сказал: «Есть два типа слез египтян — это слезы счастья и слезы горя. Я очень ошибусь, если скажу, что ты плачешь от счастья». Мальчик вытер глаза ладошкой и покачал головой, затем уселся рядом с микассой на землю. — Я попросил Муссу, — сказал он, запинаясь, — отпустить меня в школу… Хасан прервал его: — Могу себе представить, что он тебе ответил: зачем тебе школа? Ведь сам он в школу не ходил, а многого добился в жизни, так? Омар кивнул. И сквозь очередной приступ рыданий проговорил: «И еще он сказал, что смог себе позволить воспитать чужого ребенка по имени Омар Эфенди!» Плача, он спрятал лицо в ладони. — Слушай меня, мальчик, — старик положил свои грязные, высохшие руки ему на плечи. — Ты молод и умен, у тебя есть пара ног, которые отнесут тебя туда, куда ты пожелаешь. Имей терпение. Аллах укажет тебе путь. Твоя судьба предначертана, как путь звезд. Если Аллах захочет, чтобы ты пошел в школу, ты пойдешь туда. Если же он решил, что ты останешься погонщиком верблюдов, ты пробудешь им всю свою жизнь. Слова старика утешили мальчика, и он, несомненно, стал бы ждать исполнения своих желаний и того момента, когда Аллах укажет ему предначертанный путь, если бы не тот жаркий ноябрь, когда ветер вздымал в воздух тучи песка, так что небо темнело — и так семь дней без передышки. Глаза слезились, и никто не решался покинуть стены домов без платка, закрывавшего рот от песка. Люди молились о дожде, но Аллах посылал лишь жаркий безжалостный ветер, перехватывавший дыхание. На восьмой день, когда ветер утих и люди и животные, как обычно, показались из своих убежищ, чтобы вдохнуть свежего воздуха, одного среди них не было — старого Муссы. Его сердце не выдержало безумства стихии. Его голову укрыли белой простыней, и так сидел он, как привидение, два дня в своем высоком кресле, повернутый лицом в сторону Мекки, потому что места для носилок в доме не было, а человек, готовящий покойников, нашел время лишь позже. Слишком много жизней унес с собой ветер. Впервые Омар увидел смерть совсем близко, и мертвый Мусса под белой простыней привел его в такой ужас, что он сбежал к Хасану и поклялся, что никогда более не войдет в дом с покойником. — Глупец! — разбушевался тот. — Ты что думаешь, что глубокой ночью, когда воют шакалы, он поднимется и пройдет сквозь двери или вознесется на небо, как это утверждают неверные? — И он сплюнул в песок. Омару стало стыдно; он стыдился своего страха, а боялся — неизвестного. — Что говорят неверные? — спросил он внезапно. — Ах, вот оно что! — Хасан ответил неохотно и вытер лоб рукавом; затем качнул головой в сторону «Мена Хаус»: — Одни неверные: англичане, французы, немцы. Одни евреи и христиане! — И он вновь сплюнул, как будто произнесенное вызывало у него отвращение. — Но ты живешь за счет этих неверных! — воскликнул Омар. — Как ты можешь их презирать? — Аллаху ведомы мои дела, — ответил Хасан, — и он до сих пор не дал мне знать, что я ему неугоден. — Значит, я поступаю согласно его воле. Микасса пожал плечами и потянулся. — Что мне делать? Если Аллах не желает, чтобы я просил милостыню и крал, он должен быть доволен, что я чищу обувь неверных. — При этих словах он вновь начал стучать щеткой по ящику. «Polishing, polishing, Sir!» Высокий мужчина, одетый в униформу цвета хаки, вышел из отеля, взглянул на солнце, расплывшееся в мареве на западном склоне неба и, направившись к Хасану, поставил ногу на его ящик. Хасан принялся за работу, сопровождая ее театральными жестами и изображая танцора с саблей. — Достойный господин, — обратился Хасан к Омару, не отрываясь от работы, — это видно по его обуви. — Неверный в хорошей обуви! — поправил его Омар. Мужчина громко засмеялся, и оба испугались, так как, по-видимому, тот понимал их язык. Он же, достав старую трубку, бережно раскурил ее и обратился к Хасану: «Ты ведь многих знаешь здесь, старик?» Хасан преданно кивнул: — Многих, о Саид. — Слушай, старик, — начал достойный господин, — я профессор, собираюсь провести в Египте несколько лет. Я ищу помощника, молодого крепкого мужчину, который бы исполнял мои поручения, провожал на рынок мою жену, понимаешь? — Понимаю, о Саид. — Ты знаешь кого-нибудь, кто бы мне подошел? — Нужно подумать, о Саид; но я уверен, что найду кого-нибудь. — Прекрасно, — ответил достойный господин и бросил инвалиду монету. — Было бы неплохо, если бы ты нашел двоих-троих на выбор. Они должны быть завтра в это же время здесь, возле отеля. — Не попрощавшись, он подошел к одной из повозок, стоявших у отеля, и исчез. Омар сел на ящик Хасана и посмотрел на старика: — Возьмет ли он меня, этот неверный Саид? — Тебя? Ya salaam — о небо! Омар опустил голову. Реакция Хасана обидела его, и он был готов расплакаться. Увидев, как обидел мальчика, Хасан схватил его за плечи и встряхнул, как молодое деревце: «Ну, хорошо, хорошо!» На следующий день Хасан дремал перед входом в «Мена Хаус», когда к нему приблизился достойный господин в сопровождении женщины. — Надеюсь, успех сопутствовал тебе, старик? — Inscha’allah — На все воля Аллаха! — ответил Хасан. — Он в зале отеля. В зале перед ними предстал Омар. Неуклюже поклонившись, он сказал: «О Саид, я буду тебе служить. Меня зовут Омар». Приятный господин переглянулся с приятной дамой, затем оба взглянули на мальчика, в смущении стоявшего перед ними и силившегося улыбнуться. — Ты здесь единственный? — спросила женщина на прекрасном арабском языке. — Я единственный, о Сити. — Сколько тебе лет? — Четырнадцать, о Сити. — Четырнадцать. И ты думаешь, тебе под силу то, что я могу поручить тебе? — Думаю, да, о Сити. Достойный господин не торопясь раскурил трубку: — А как отнесутся к этому твои родители? — У меня нет родителей, — ответил Омар. — Мой приемный отец, воспитавший меня, умер, и сводные братья выгнали меня. Наудачу Хасан предложил мне временное убежище; я даже представить себе не мог, что мне дальше делать. Господа продолжили диалог на английском, которого Омар не понимал, причем госпожа постоянно качала головой. Омар еще никогда не видел такую красивую женщину вблизи. На ней было длинное, пурпурно-лиловое платье с воротником цвета охры. Талия была затянута так узко, что, казалось, взрослый мужчина мог бы обхватить ее ладонями. Под оборкой подола платья виднелись застегнутые на пуговицы сапожки в тон платья. Но больше всего Омара поразило то, что кожа ее лица была светлой и нежной, на ней не было и следа горячего египетского солнца, обжигавшего лица местных женщин. — Ну, хорошо, — сказал достойный господин, — ты будешь получать двадцать пиастров жалованья, а также еду и жилье. Будь готов, завтра утром мы отправляемся в Луксор. Ровно в десять жди у входа в отель. — И, не произнеся более ни слова, господа исчезли. Inscha’allah. Омар стоял неподвижно, как мангровое дерево, ему казалось, что он спит, его мысли мешались, а в голове звучали слова микассы: «Твоя жизнь предначертана, как путь звезд». — Эй, ты, убирайся! — Грубый голос служащего отеля привел Омара в чувство. Длинный парень нанес ему удар палкой по спине. Сам по себе удар не причинил боли. Больно было оттого, что его выгоняли как собаку. Перед входом в отель ждал Хасан. — Хасан, — закричал Омар, — они взяли меня! — Я знаю, — ответил тот, и улыбка расплылась на его лице. В руке его были зажаты десять пиастров. — За посредничество. Ночью Омар проскользнул к своему убежищу позади дома Муссы, чтобы забрать припрятанное там — плоды многолетних трудов, жалованье за его работу. Мешочек был тяжел, и Омара переполнила гордость. На следующий день с самого утра он ждал перед входом в «Мена Хаус». Слова «десять утра» для него ничего не значили. Ни один погонщик верблюдов в мире не знает, что такое часы, и не ориентируется по ним. Омар сел в тени стены, положил возле себя свое богатство и стал ждать появления господ. Подъехал экипаж, и появился Саид. Служащие отеля засуетились, принося ящики и чемоданы, покрытые пестрыми картинками, и начали нагружать экипаж. Омар подошел и пожелал доброго утра господину. Его никто даже взглядом не удостоил. Когда весь багаж был погружен, появилась женщина в узком дорожном костюме и с зонтиком в руке, и Саид помог ей подняться в экипаж. Омар со своим свертком сел возле кучера. Тот прищелкнул языком, и лошади тронули. Улица, ведшая в Каир, казалась бесконечной; пыль и грязь, поднимаемые проезжающими экипажами, покрыли пальмы по обе стороны дороги, окрасив их в серый цвет. Торговцы носились между повозками, вспрыгивали на тротуар и пытались всучить проезжавшим цепочки, фигурки или сладкую выпечку, пока кучер не разгонял их кнутом. И чем ближе они подъезжали к городу, тем сильнее становился шум. У садов Исмаила экипаж повернул на набережную Нила, и Омар впервые увидел зеленоватый поток и фелуки с треугольными парусами, и колесные пароходы, чьи дымовые трубы открывались наверх, как распускающиеся цветы. Удивление переполнило его, так что он не мог произнести ни слова. Он только часто закивал, не оборачиваясь, когда кучер спросил, впервые ли он видит Маср-эль-Кахира. До сих пор мир Омара заканчивался там, где был горизонт, где небо соединялось с землей, на расстоянии одного дня ходьбы от Гизы, и он еще никогда не задумывался о том, что же находится за горизонтом. Когда экипаж пересек Нил, кучер кнутом показал на отели справа — многоэтажные дворцы, ничего общего не имевшие с «Мена Хаус», окруженные пальмами. Практически все здания по берегам Нила были многоэтажны. Внезапно кучер явно чего-то испугался и изо всех сил вцепился в поводья. «Автомобиль!» — закричал он, резко подавшись вперед. Омар привстал и вытянул шею, чтобы лучше разглядеть олицетворение чуда, приближавшееся к ним. Он уже слышал, что теперь повозки могут ездить без лошадей, но видеть такое ему не приходилось. Медленно, покачиваясь и пыхтя, к ним приближался автомобиль на маленьких колесах. Вместо поводьев кучер держал в руках руль. Во имя Аллаха, он действительно передвигался без лошадей, как будто подталкиваемый невидимой рукой! Вокруг него, шумя и галдя, толпились ребятишки, некоторые встали на его пути, раскинув руки и будто пытаясь остановить его с помощью той волшебной силы, что двигала им. Кучер автомобиля проложил себе путь, бросив хлопушку — дети с визгом бросились врассыпную, освободив дорогу. Это, однако, напугало и лошадей, и кучеру пришлось приложить массу усилий, чтобы сдержать их. — Еще придет время, когда лошади не будут нужны, — проворчал кучер, когда автомобиль проехал. — В Америке уже есть автомобили, у них столько сил, сколько у сотни лошадей. Сотня лошадей, слышишь? А знаешь, сколько съедает сотня лошадей? Во всем Каире не найдешь ни одного извозчика, который бы мог себе позволить держать сотню лошадей! Омар кивнул. Это все выходило за рамки его понимания: сотня лошадей перед одной повозкой. — В Америке, — продолжал кучер, — производится триста тысяч автомобилей — каждый год. Можешь себе это представить? — Омар молчал — как не мог он себе представить, где находится Америка, так и число «триста тысяч» ничего ему не говорило; ему доставляло уже достаточно трудностей осознать все то, что он видел в настоящий момент. На площади у вокзала теснились экипажи, между ними — хорошо одетые люди, в основном, европейцы. Египтяне в национальной одежде и служащие в ливреях с тюками, ящиками и чемоданами прокладывали себе путь в толпе, издавая крики, подобные верблюжьим, когда тех бьешь набутом. Если пройти становилось невозможно, слуги брали небольшие палки и били ими тех, кто мешал. Пахло пылью, лошадиным навозом и сладкой выпечкой, которую мальчики пекли в маленьких печках. Как только повозка остановилась, ее окружила толпа носильщиков, каждый из которых старался заполучить что-либо из багажа, так что на разгрузку много времени не ушло. Затем вышли господа. — Дорогу профессору из Англии! — кричал кучер, замахиваясь кнутом. — Дорогу профессору Шелли с супругой. — Но ни крики, ни кнут не помогали, так что на то, чтобы вся компания добралась до здания вокзала, потребовалось немало времени. Вокзал из белого и красного камня был похож на замок. Башенки, эркеры и остроконечные окна с красно-синими стеклами создавали впечатление, что это резиденция паши. «Дорогу профессору Шелли с супругой!» — повторял кучер вновь и вновь, и таким образом Омар узнал имя своего господина, которого раньше ему слышать не приходилось. Повсюду толкались и пихались, и госпожа время от времени вскрикивала: «О боже, о боже!» Там, где толпа сомкнулась еще плотнее, железная решетка отделяла вокзал от перрона, на который пускали только отправлявшихся в путь. Служащие вокзала, одетые в красную с зеленым униформу с золотыми нашивками на груди, сдерживали толпу в узких проходах, пропуская на перрон тех, кто предъявлял билет. Омар впервые в жизни оказался на перроне. Черное железное чудовище на красных колесах величиной с дом шипело и пускало вокруг себя дым, а иногда из него между путями извергалась струя воды, как между широко расставленными ногами верблюда после водопоя. Устройство издавало металлические звуки, каких Омару раньше не доводилось слышать. За локомотивом и вагоном с углем располагались выгоны с купе первого класса. Господа в светлых костюмах и шляпах с широкими полями и дамы в пестрых платьях беседовали на перроне, пока слуги грузили багаж. Продавцы газет выкрикивали заголовки, продавцы орехов расхваливали свой товар, продавцы лотерейных билетов обещали выигрыши до сотни фунтов. Омар подобрал полы своей одежды и забрался в купе, которое профессору указал служащий в форме. Носильщики передавали багаж через окно. Это занятие уже не требовало спешки. В Каире, как и во всех прочих городах мира, существует расписание прибытия и отбытия поездов, однако здесь оно использовалось скорее как приблизительное руководство. Поезда отправлялись лишь тогда, когда все пассажиры занимали свои места. В купе пахло лакированным деревом, бархатом и свежевыкрашенными потолками. Зеркала с серебряными ручками украшали деревянные стены на уровне лица, под окном находился откидывающийся столик; шкаф в углу, при нажатии на него он оказывался вращающейся раковиной; белые занавески контрастировали с ярко-красными подушками. Омар все не мог насмотреться и пришел в себя лишь тогда, когда кондуктор за его спиной подтолкнул его к выходу: «В конец состава, два последних вагона — купе четвертого класса». На мгновение Омар размечтался попутешествовать, как какой-нибудь Саид, в купе первого класса; но он не слишком огорчился — поездка в четвертом классе обещала быть не менее захватывающей. Когда мальчик спускался, к нему подошел профессор, выдохнувший только что огромное серое облако сигарного дыма. — И не забудь сойти в Луксоре. Иначе доедешь до самого Асуана! Омар кивнул: «Да, Саид». Последний вагон был набит тюками и коробками. Клетки с птицами и животными висели на стенах и распространяли ужасный запах. Повезло тем, кто успел занять место на скамейке. Остальные сидели на собственном багаже, пройти в середину было невозможно. Так что Омару не осталось ничего иного, как устроиться возле своего свертка. Стук закрывающихся дверей и крики провожающих оповестили пассажиров об отправлении поезда. Резкий свисток прозвучал над зданием вокзала, и медленно, сначала совсем незаметно, с пыхтением и скрипом, поезд тронулся. Сквозь открытые окна врывался душный воздух. Омар был взволнован, как никогда прежде, — поезд набирал скорость, и хрупкий деревянный вагон бросало из стороны в сторону, как мячик, а дома огромного города проносились мимо, как птицы. Мысли Омара были прикованы к путям железной дороги. Он просто не мог себе представить, что они бесконечны и доведут их до самого Луксора, что они доходят до самого Асуана вдоль берегов Нила; скорее всего, где-нибудь в пустыне пути закончатся и поезд потерпит крушение, погребя под собой всех пассажиров. Скоро поезд набрал такую скорость, что всадник на лошади уже не поспел бы за ним и в случае появления на путях верблюда или буйвола торможение уже было бы невозможно. Inscha’allah. Мальчик спрятал лицо в коленях и обхватил голову руками. Только однажды Омар поднял взгляд к окну, когда поезд поравнялся с Нилом, и пассажиры парохода замахали пассажирам поезда пестрыми платками. В какой-то момент Омар, должно быть, заснул, — этому способствовали монотонный стук и равномерное покачивание поезда; так что он вскочил от неожиданности, когда тормоза заскрипели, и поезд остановился у станции. «Бени Суэйф, Бени Суэйф!» — выкрикивал кондуктор, пока толпы людей штурмовали двери вагонов. Никто не сошел с поезда, зато сотни людей набились в переполненный состав. Плотнее всего были забиты купе третьего и четвертого классов, так что Омар вынужден был подвинуться к соседу еще плотнее. У него перехватывало дыхание от жары и вони, но сильные, опаленные солнцем мужчины и подростки напирали и напирали, пока последний пассажир не покинул перрон. Поезд уже вновь пустился в путь, когда Омар почувствовал, что его толкают в бок. Он обернулся и обнаружил перед собой личико светлокожей девочки. — Вот, возьми. — И Омар потянулся за палочкой, которой она его только что ткнула. Девочка достала еще одну откуда-то из-под одежды и начала ее есть, показывая пример. — Что это? — спросил Омар. — Сахарный тростник, — ответила девочка, выплюнув пару волокон растения. Омар попробовал: кисло-сладкое на вкус, превосходно утоляет жажду. Он кивнул: «Хорошо, спасибо». — Можешь взять еще, если хочешь, у меня много. — При этих словах девочка откинула длинный платок, укрывавший ее голову, шею, грудь и достававший до пола. В чем-то вроде фартука у нее была целая связка сахарного тростника. — Мы едем со сбора сахарного тростника. Здесь все едут со сбора сахарного тростника. Нам платят три пиастра в день, детям — половину. Омар смотрел на девочку, и та поняла, о чем он думает. — Ты хочешь знать, получаю ли я три или полтора пиастра в день, правда? — Не дожидаясь ответа, она продолжала: — Три пиастра. В этом году я впервые получала три пиастра. Получается сорок два пиастра за две недели. А вместе с тем, что заработал мой отец, — восемьдесят четыре. — И она указала пальцем на лысого мужчину, дремавшего у железного поручня. — Мне шестнадцать, — сказала девочка, — а тебе? — Четырнадцать. — Меня зовут Халима, а тебя? — Омар. — Откуда ты? — спросила Халима. — Я из Гизы, еду в Луксор, — ответил Омар. — В Луксор! — Халима захлопала в ладоши. — Я из Луксора, точнее, из эль-Курны. Что ты там будешь делать? — Английский Саид нанял меня. Ему нужен слуга. — Значит, ты слуга. — Девочка выпятила нижнюю губу и уважительно кивнула. — А что английский Саид собирается делать в Луксоре? — Не знаю, он профессор, — пожал плечами Омар. Глаза Халимы сверкнули, на ее лбу образовались две прямые морщинки. — Луксор полон искателей гробниц. Они съезжаются отовсюду: из Англии, из Германии, из Франции даже из Америки. Они увозят все, ужасные люди. Мальчик не понимал возмущения Халимы. В Гизе очень любили иностранцев: ведь те приносили с собой деньги. Все погонщики верблюдов в Гизе жили за счет иностранцев. Омар не помнил, чтобы когда-нибудь к пирамидам на верблюде везли египтянина. Так что он решил промолчать. Время близилось к полудню, и жара в вагоне стала невыносимой. Слева за окном блестел Нил, светло-зеленый и ленивый, справа крестьяне работали в полях, за ними простиралась бесконечная пустыня. В Минии, где поезд сделал вторую остановку, пассажирам представилась аналогичная картина всеобщего оживления. Торговцы расхваливали мыло и пироги с маслом, на щитах красовалась реклама отеля «Савой» и пансиона «Аль-Кашиб». Те, кому повезло оказаться ближе к дверям, выходили, чтобы размять ноги и зачерпнуть воды из плотно окруженного людьми фонтана. Омар был так зажат в середине вагона, что о том, чтобы попытаться выйти, можно было забыть. — Долго еще до Луксора? — спросил Омар, когда поезд вновь тронулся. — Тебе придется потерпеть, — засмеялась Халима. — Следующая станция — Асьют, это примерно на полпути. Омар рукавом вытер пот со лба. Он устал как собака, ему было сложно отвечать на все новые вопросы девочки. Затем сдалась и Халима, и они заснули, прижавшись друг к другу. После наступления сумерек поезд пересек Нил в районе Наг Хаммади. Мост, решетчатое сооружение, заскрипел, и Омара с Халимой подбросило вверх. Близость реки и вечерняя прохлада сделали пребывание в поезде переносимее. Наконец, около полуночи поезд достиг Луксора. Теперь, удобно прислонившись к плечу Халимы, Омар с удовольствием поспал бы еще, однако пассажиры уже напирали в сторону выхода. — Ты ведь зайдешь как-нибудь? — крикнула Халима сквозь шум. — Но я же не знаю, где ты живешь, Халима! — В Шех абд эль-Курне, на другом берегу реки. Спроси Юсуфа. Моего отца все знают! — Затем девочка исчезла. Омар пробился вперед, к купе первого класса. Когда в Луксоре останавливаются ночные поезда, кажется, что весь город на ногах. Одетые в черное, матери качают на руках детей, подростки предлагают свои услуги в качестве носильщиков, служащие отелей зазывают постояльцев, слепой играет на каманге. Все заполнено людьми, ослами и тележками — даже железнодорожные пути. Спереди, у вагонов первого класса, давка была меньше, отель же, в котором намеревался остановиться профессор, прислал собственных носильщиков, которые выгружали багаж. Саид приказал Омару идти с носильщиками, которые покажут, где его разместили. Сам же он с госпожой отправился в экипаже. — Ну-ка, помоги! Или Эфенди слишком нежен для такой работы? — услышал Омар. — Нет, нет. — И он стал грузить багаж профессора на двухколесную тележку, в которую был запряжен осел. Поверх всего он бросил свой сверток и, последовав примеру носильщиков, сел на тележку. Улицы Луксора были погружены во тьму. Освещения не было, и погонщики ослов периодически издавали резкие крики, чтобы предупредить едущих навстречу. Так они благополучно достигли отеля «Зимний дворец». Профессор с супругой поселились в левом крыле, и, выгрузив багаж и пожелав господам спокойной ночи, Омар направился через темный парк к деревянному строению, окруженному кустами олеандра, отведенному для служащих отеля и его гостей. В маленькой комнатке, указанной Омару, насколько можно было рассмотреть в темноте, находилось шесть двухэтажных кроватей; вещи было положить некуда. Но Омар настолько устал, что просто упал на одну из кроватей и мгновенно уснул.
Наступило утро. Когда солнце встает над восточной цепью холмов, Луксор заливает свет. Затем деревья начинают отбрасывать длинные тени, а на противоположном берегу Нила скалы горят огнем. И самый великолепный вид открывается с террасы отеля «Зимний дворец». Там-то и собрались к завтраку благородные гости отеля; они читали газеты, принимали почту и обменивались новостями, господа в белых костюмах и дамы в дорожных костюмах пастельных тонов и широкополых шляпах. Все вновь прибывшие, в настоящий момент ими были профессор Шелли с супругой, вызывали живейший интерес и предоставляли массу тем для обсуждения — в основном для бездельников, проводивших в Луксоре осень и зиму ввиду его благоприятного климата. Почти ежедневно кто-нибудь устраивал вечера, на которых обязан был показаться каждый уважающий себя человек. А раз в месяц Мустафа Ага, британский консул в Луксоре, устраивал праздник, пришедшийся в этот раз на вечер описываемого дня — так что волнений хватало. Профессор Шелли вежливо поздоровался и под пристальными взглядами окружающих направился к столику, где уже сидел мужчина, разительно отличавшийся от прочих присутствовавших. На нем был вытянувшийся серый костюм с черной бабочкой. Его короткие темные волосы, как и борода, были неухожены, а лицо загорело под солнцем, как у местного жителя, что считалось недопустимым в благородных кругах. — Мистер Картер? — спросил Шелли. — Говард Картер, — мужчина встал. — Я профессор Шелли, а это моя жена Клэр. После обмена любезностями и общих замечаний об утомительной поездке и погоде Шелли протянул Картеру письмо. Тот взглянул на графу «отправитель»: «Замок Хайклер» и сунул письмо в карман, не читая, будто зная его содержание заранее. — Я буду говорить прямо, — начал Шелли, не обратив на это внимание, — я прибыл по поручению Фонда Исследования Египта. Картер кивнул: — И по какой же причине? Шелли придвинулся ближе и продолжил тихим голосом: — В Лондоне недовольны. Критика против вас звучит все громче, мистер Картер. — Но вы же не думаете, что я… — То, что думаю я, не имеет решающего значения, мистер Картер, — прервал профессор. — Я просто послан Фондом, чтобы прояснить ситуацию. Вы должны проявить понимание по отношению к людям, вложившим столько денег… — Деньги! — Картер пренебрежительно засмеялся. — Дело в том, что в обращение поступили карты, идентичные тем, что составили вы в Долине Царей. — Я также составлял карты в Тель эль-Амарне. — И эти карты также можно купить на черном рынке! Картер застыл. Он посмотрел с недоверием и закрыл лицо руками. — Этого я не знал, — произнес он. — Теперь вы понимаете недоверие Фонда? Ну, не вешайте голову, против вас нет никаких доказательств. Просто ваши карты слишком хороши, Картер. Настолько, что служат руководством для расхитителей гробниц. — Но это безумие! — воскликнул Говард Картер. — Если бы я составил неточные карты, меня бы уволили за некачественную работу. Теперь же мои карты слишком точны, и моя работа за это подвергается критике. Это безумие, слышите! — О критике речь не идет, — прервал его профессор. — Быть может, мне удастся прояснить дело. Это было бы удачно для нас обоих. — Что вы собираетесь делать? — Я приехал не как археолог. Я — путешественник, проводящий отпуск в Луксоре, и буду проявлять активный интерес к фондам, быть может, даже приобрету что-нибудь. Такие новости разносятся быстро. Как только у меня появятся необходимые контакты, я дам понять, что заинтересован в покупке более крупных объектов. Картер поднял взгляд: «Неплохо!» — И поэтому, по возможности, мы должны появляться вместе как можно меньше, понимаете? Картер кивнул и помешал свой кофе. — Действительно абсурд. Раскопки в Долине Царей должны были прекратиться еще пару лет назад. Немцы утверждали, что все, что там можно было найти, уже найдено. Но потом пришли французы и раскопали напротив, в той долине, где Бельцони восемьдесят лет назад нашел гробницу Сети, гробницу Аменофиса с мумиями Аменофиса, Тутмоса, Сети, Мернепты и Сиптаха, и с тех пор там не пойми что происходит. Чуть не каждый день появляются слухи о невероятных открытиях, о сокровищах и богатствах. И это притягивает всякий сброд. Я никогда не хожу в Долину без оружия. Вы только оглядитесь. — Вы имеете в виду… — Аккуратные костюмы и благородные манеры, сэр, могут обмануть, мне бы не хотелось знать, сколько десятков лет тюрьмы за плечами находящихся в этом зале. Говард Картер всегда выражался прямо, что не помогало приобретать друзей; он слыл одиночкой и отщепенцем, его не любили. Однако миссис Шелли увлекла манера этого человека, и она без стеснения начала строить догадки по поводу темного прошлого окружавших. — Дорогая, пожалуйста! — успокоил супругу профессор и продолжил, обращаясь к Картеру: — А скажите честно, вы ожидаете новых сенсационных находок в Долине Царей? Я имею в виду, наука ведь не слухами питается… — Но и не папками и не учеными статьями! — мгновенно отреагировал Картер. — В Фонде Исследования Египта, бесспорно, есть светлые головы, но египетская история пишется не в Лондоне, не в Париже и не в Берлине. — Картер указал пальцем за спину. — Там создается история, в грязи и пыли, при жаре в сорок градусов в тени, если вы понимаете, что я имею в виду. — И внезапно спросил: — Вы здесь впервые? — Да, — ответил Шелли, и Картер продолжил: — Видите ли, мне было семнадцать, когда я приехал сюда впервые, и с тех пор эта страна и ее история не отпускают меня. С тех пор я здесь живу и работаю, и за это время приобрел такие знания, которые не в силах дать Оксфорд или Кембридж. Жизнь здесь не приносит богатств, максимум — обогащает опыт. Археология — это красивая девушка без приданого. — Вы не ответили на мой вопрос, — улыбнулся профессор. Картер задумался. — Ожидаю ли я сенсационного открытия? — Он поднял глаза, взглянул на Нил, и на его лице появилась самодовольная улыбка. Не глядя на профессора, он сказал: — Да, меня можно было бы посчитать сумасшедшим, если бы я не был убежден, что там есть еще что-то, что одним махом сделает меня знаменитостью. Шелли взглянул на жену, и та восхищенно воскликнула: — Расскажите, расскажите, пожалуйста, мистер Картер! На мгновение Говард Картер потерял над собой контроль, сделал намек, о котором сразу же пожалел; но взял себя в руки и попытался отшутиться: — Знаете ли, археологи похожи на людей, собирающих мозаику. Чем больше камешков мозаики соберешь, тем ближе ты к цели. Плохо только то, что камешек поначалу приносит больше вопросов, чем ответов. Однако затем находится один, похожий на все прочие с первого взгляда, но именно он дополняет картину, и она становится ясна вся целиком. Миссис Шелли напряженно посмотрела на Картера. — Приведу пример. Вход в гробницу царицы Хатшепсут был известен сотню лет назад. Но на нем не было ни надписи, ни рисунка, так что никто не догадывался, куда ведет туннель. Камень там ломкий, и проход заполнен мусором, к тому же извилист. Еще Наполеон начал попытки извлечь мусор, но через двадцать шесть метров отказался от своего намерения. Потом пришли немцы, они освободили еще двадцать метров и тоже сдались. Слишком много усилий для коридора, назначение которого неизвестно. Когда я обнаружил гробницу Тутмоса Четвертого, то нашел среди обломков синего скарабея с именем царицы Хатшепсут. Это заинтересовало меня. Я изучил все документы, касающиеся легендарной царицы, и пришел к выводу, что ее гробница также расположена в этой местности. Но где начать поиски? Однажды я чистил свою палку в камнях. Я находился непосредственно у прохода, который пытался исследовать еще Наполеон. И что же я там увидел? Плоский камень с именем Хатшепсут. У меня не оставалось сомнений, что камень был извлечен с мусором из прохода. То есть это должен был быть проход к гробнице Хатшепсут. — И что же? — спросила нетерпеливо миссис Шелли, — ваша догадка подтвердилась? Говард Картер стряхнул пыль с костюма, будто желая показать, сколь незначительна эта тема. Наконец он ответил: — Да, моя догадка была верна, хотя результат и не стоил затраченных усилий. Нам пришлось прокладывать воздушные шланги и преодолеть три предкамеры, пока через пару сотен метров мы не достигли гробницы. — И? — И ничего. Она была пуста, как и все гробницы фараонов, открытые до сих пор. Inscha’allah. — Вы так грустно это говорите, будто сильно расстроены, — заметила Клэр Шелли. — Грустно? — Картер вымученно улыбнулся. — Я потерял должность. Как бы вы себя чувствовали, если бы с минуту на минуту могли оказаться на улице? — Простите, я не знала! — Ничего, — проворчал Картер, — поверьте, это не очень приятно. Годами я с трудом держался наплаву, рисуя открытки для туристов, по пиастру за штуку. Как нищий, стоял я у отеля, иногда возвращаясь домой с парой пиастров. Мне было несладко. С юга подул теплый ветер, и красно-белые маркизы, украшавшие террасу, затрепетали. Вверх по реке шла лодка с высоким треугольным парусом, стремясь к причалу у отеля и вызывая острое любопытство высокого общества. — Наверняка опять какой-нибудь капризный американец, — заметил Говард Картер. — Они налетели на страну, как саранча, и каждый стремится арендовать лодку у Томаса Кука. Такая лодка стоит сотню фунтов в месяц. Аналогичную сумму я зарабатываю за год, копаясь в грязи. — Американцы, судя по всему, открыли Египет с тех пор, как Амелия Эдвардс отправилась с докладом в Соединенные Штаты, — согласно кивнул Шелли. — Представляете, в Америке даже существует секция Фонда Исследования Египта. — Знаю. Мой учитель Флиндерс Питри часто рассказывал о леди Амелии. Она была в своем роде гением — умела продавать результаты своих исследований. — Талант, которым вы не наделены, — констатировал профессор. — Вы это сказали. С юга на всех парах приближался почтовый пароход из Асуана. Он выбрасывал тучи черного дыма и издавал воющие звуки, чтобы заставить парусник освободить причал. — Смотрите, — сказал Картер и указал на флаг на задней мачте. — Американцы! — На паруснике была надстройка с узким тонким окном, за которым можно было разглядеть целую библиотеку. На борту красовалась надпись золотыми буквами: Семь Хаторов. — Корабль построен по заказу Генри Сейса, — заметил Говард Картер. — На борту библиотека в две тысячи томов. Такого количества книг нет во всем южном Египте! — И этот в остальное время серьезный мужчина впервые искренне рассмеялся. Рассмеялся и Шелли: — Многие считают, что Сейс уделяет больше внимания роскоши, нежели науке, но я спрошу вас, Картер: где написано, что археологи должны жить, как кроты? Или существует доказательство тому, что успех археолога прямо пропорционален его бедности? — О, нет! — воскликнул Картер с горечью. — Иначе я был бы самым успешным из всех. Пока «Семь Хаторов» причаливала к берегу, а почтовый пароход приближался с громким плеском и шумом, перед отелем «Зимний дворец» закипела жизнь. Носильщики с тележками сновали в толпе, продавцы чая и лимонада предлагали напитки, а все повозки, как по команде, съехались со всего Луксора к пристани. Оборванные нищие дети, протягивающие к иностранцам руки в просящем жесте, одетые в черное матери с привязанными за спинами детьми, темнокожие уличные девки, подзывающие мужчин прищелкиванием языка, почтальон в желтой форме с золотыми пуговицами, служащий отеля в белых одеждах и красной феске — все пытались перекричать друг друга, толкались и напирали, как будто происходило важнейшее событие в их жизни. — Смотрите, — сказал Картер, повернувшись к миссис Шелли, — это Египет, это жизнь. Быть может, вы не поймете, но я бы уже не смог встать в очередь на Оксфордской улице и терпеливо ждать экипаж. Я бы, наверное, умер. Двадцать лет я живу в этой стране, и мне необходимы крик, суета и запах верблюжьего навоза. Конечно, Темза — река более благородная, но что она по сравнению с Нилом! Разве это — не самый завораживающий поток на свете, дикий и ленивый, бурный и в то же время кроткий, одновременно клоака и волшебный пляж? Эту страну можно либо любить, либо ненавидеть. И я люблю ее. Потрясающе увлекательно было наблюдать, как этот сухой, почти чопорный человек внезапно увлекся, и Шелли в чем-то могли понять его: страна и ее жители на каждого производили впечатление, а Европа и Великобритания, как казалось сейчас, находились на другом краю света. — Вы в курсе, — спросил внезапно Шелли, — что его величество умер? Картер засмеялся: — Не думайте, что мы живем на другой планете! Дважды в неделю приходит почтовый пароход из Каира и привозит новейшие газеты со всего мира. Слава его величеству, королю Георгу Пятому. — В речи Картера прозвучала ирония, свидетельствовавшая о его немонархических взглядах. — В Европе настали неспокойные времена, — заметил профессор, — и никто не знает, как Германия отреагирует на наш союз с Францией. — Скорее всего, так же негативно, как и Египет, — ответил Картер. — Договоренность между Францией и Великобританией передать Марокко французам, а Египет — англичанам была воспринята здесь как закулисный, грязный договор и только подогрела нацистские настроения. Думаю, новое восстание — лишь вопрос времени, как это было при Араби-паше. Убийство премьер-министра Бутроса-паши Гали в начале года можно рассматривать как одно из предвестий. Он пал жертвой нацизма египтян. — Но в Каире наш генеральный консул, он контролирует Египет! — Быть может, при лорде Кромере так и было, — засмеялся Картер, — но с того момента, как этот пост занял сэр Элдон Горст, в стране царит хаос. — Сэр Элдон — тяжело больной человек. — Это известно и вызывает сожаление; но, между нами, у Горста нет ни авторитета Кромера, ни влияния, необходимого, чтобы успокоить возникающие в стране противоречия. Вдумайтесь: еще несколько лет назад в Египте царила власть кнута. С помощью плети взимались налоги. Официально использование кнута запрещено, но в отдаленных местностях с бедным населением, не решающимся обратиться с жалобой, служащие по-прежнему его используют. Это известный факт. — Необходимо предать такие случаи огласке! — вскричал профессор Шелли возмущенно, и его супруга, слушавшая затаив дыхание, согласно кивнула. — Предать огласке? Зачем? Эти случаи известны всем, многие даже считают, что запрещение использования кнута было ошибкой. Некоторые усмотрели в этом проявление слабости правительства. Мудиры, губернаторы провинций, и их полицейские потеряли авторитет, постоянно растет преступность, количество уплачиваемых налогов с тех пор, как их уплата перестала быть принудительной, упало до минимума. Тот, кто хочет править это страной, должен быть силен, как слон, упрям, как носорог, и чувствителен, как ящерица. — И ни одним из этих качеств сэр Элдон не обладает? Картер пожал плечами и потянулся, вывернув ладони наружу. — Как я уже сказал, это не Кромер. Британский консул не правит страной, а помогает ей. О лорде Кромере рассказывают безумные истории. Он протестовал против увольнения английского кучера кедивов, заступился за мужчину из семьи кедива, когда жена ежедневно била его туфлей по губам, помог юному британскому офицеру, обманутому во время игры в карты, и девушке-рабыне, желавшей выйти замуж. Все это — дела, никак не связанные с его постом, но для Кромера не было препятствий. И он заслужил этим симпатию со стороны многих. — А кедив Аббас Хильми? — Вице-король Египта при Кромере и нынешний — два разных человека, несмотря на одно имя. Когда Аббас Хильми около двадцати лет назад взошел на трон, он был еще юношей; он только что окончил Военную академию в Вене и ни в чем не мог соперничать с опытным генеральным консулом лордом Кромером. Но ситуация с годами изменилась. Теперь генеральный консул в подметки не годится кедиву. В любом случае, между ними очень напряженные отношения. — У меня такое впечатление, — сказал профессор Шелли, — что нас, англичан, не слишком любят в этой стране. — Вы абсолютно правы; но речь идет обо всех иностранцах, а не только о подданных его величества. Это нужно осознавать — для иностранцев существует отдельный закон, полиция не имеет права войти в их дом, а что более всего вызывает зависть — они не платят налогов. Посмотрите на корабли, на прекрасные яхты и парусники и посмотрите на флаги на них. Американские, британские, немецкие, итальянские флаги — но ни одного египетского. — Действительно. Но в чем причина? — Очень просто: египетского флага не существует. И корабли здесь облагаются очень высокими налогами; иностранцам же их платить не приходится. — Понимаю. — И тем не менее, будучи иностранцем, вы не сможете разбогатеть здесь. — Говард Картер опер голову на руки. — Иногда я действительно не знаю, на что буду жить следующий месяц. Я работал уже на всех возможных хозяев, на Фонд, на Управление археологии, на Дэвиса, американского медного магната, теперь на Карнарвона. После долгой паузы Шелли произнес: — У вас не лучшие отношения с лордом Карнарвоном? — Кто это сказал? — вскинул брови Картер. — Карнарвон. — Ну, да, если он сказал… Знаете, Высокий Лорд — авантюрист, а я археолог. Авантюристы — враги науки. — При этих словах он достал из кармана письмо, переданное ему профессором. — Я и так знаю, что в нем, — сказал Картер с горечью, просматривая написанное. Профессор с супругой вопросительно смотрели на Картера. — Все как обычно: он хочет остановить работы, результаты моих раскопок не оправдывают затрат, нет находок — нет денег. Он в гневе скомкал письмо и сунул в сумку. Затем поднялся, поклонился и сказал, осторожно оглядевшись по сторонам: — Как уже было сказано, вам будет проще, если нас не слишком часто будут видеть вместе. Но если я вам понадоблюсь, вы всегда можете оставить мне записку здесь, в отеле. Я дважды в неделю забираю почту. — И он торопливо сбежал по лестнице и исчез в толпе. Шелли и его жена молча смотрели друг на друга. Думали они об одном и том же: странный человек этот Говард Картер.
За визитом незнакомого господина Омар наблюдал издали. Он стал свидетелем суеты, наступившей по прибытии почтового парохода, однако ни разу не потерял из виду своего господина. Одного кивка было достаточно, чтобы Омар оказался рядом. — Да, Саид? — Достань нам лодку. Мы хотим отправиться на тот берег реки! Через некоторое время лодка была у берега, готовая к отплытию, и высокий, худой перевозчик помог профессору, Клэр и Омару сесть. Лодка еще не успела причалить, а вокруг нее уже столпились люди, предлагавшие всевозможные услуги; и когда профессор объявил, что ему нужен проводник и два осла, чтобы отправиться в Долину Царей, с полдюжины подростков и взрослых мужчин кинулись исполнять поручение. И даже когда профессор уже принял решение, шум не утих, так что по направлению к Долине Царей выстроилась целая процессия, во главе которой — профессор, верхом, его супруга, сидящая на осле боком, и Омар, догонявший их бегом. По дороге между Ибрагимом, проводником, и профессором Шелли завязался незначительный, казалось, разговор, в процессе которого второй ненавязчиво поинтересовался, не знает ли Ибрагим какого-нибудь потаенного захоронения — он же интересуется раскопками. В этом вопросе, однако, профессор столкнулся с полным непониманием, даже с возмущением со стороны проводника. Еще при жизни старого, больного отца он поклялся быть честным человеком и никогда не совершал ничего предосудительного, а грабить захоронения — это тяжелый грех. При этих словах он несколько раз поклонился, будто бы прося прощение за одну подобную мысль. Минуя храм Сети и деревню Дра Абдул Нага, через два часа они достигли Долины Царей, и Шелли выразил желание осмотреть две наиболее сохранившиеся гробницы — Сети Первого и Аменофиса Второго. Пока англичане находились в гробнице, Омар стерег ослов. Прошло около часа, когда профессор с супругой вернулись. Ожидая у гробницы Аменофиса, Омар присел на ступени и, вероятно, заснул. Разбудил его толчок в правое плечо. — Эй, проснись! — Перед ним стоял коренастый парень, ненамного старше его, жующий орех и усмехавшийся. — Ты слуга английского Саида? — Да, я Омар, его слуга. Парень перекатил орех за другую щеку, оглядев при этом Омара с головы до ног. — Твой господин ищет захоронения, да? Омар смутился. Он слышал разговор своего господина с погонщиком, но не знал, как ему вести себя сейчас. Пришелец нарушил молчание усмешкой, склонился к Омару и прошептал ему в ухо: — Передай своему английскому Саиду, что он может заполучить такие сокровища, какие ему и не снились. Скажи своему господину, что после наступления темноты ему следует прийти к подножию колосса Мемнона на дороге, что ведет в Гурнет Муррай. Но пусть придет один, понял? А когда он придет, пусть крикнет пароль — «Юсуф», понял? — И он, схватив мальчика за плечо, потряс его. Прежде чем Омар успел что-либо ответить, парень исчез. Омар ждал с нетерпением и, как только Шелли с супругой появились из гробницы, взволнованно поведал им о случившемся. — Ведь ты не пойдешь, правда! — вскричала Клэр возмущенно. Профессор взял ее за руку и сказал успокаивающе: — Ну что может произойти, дорогая; они хотят моих денег, и как только я объясню им, что денег у меня с собой нет, они поостерегутся причинить мне зло. — Нельзя тебе луда ходить! — убеждала Клэр мужа. — Но это единственный шанс найти преступников. По пути к реке спор достиг апогея, и Омар внезапно предложил: — О Саид, я мог бы пойти к колоссу вместо вас. Профессор обернулся к Омару, потом глянул на жену, затем удивленно, почти насмешливо спросил: — Ты, Омар? — Омар не знает страха, о Саид. Чего бы я должен был бояться? Первой откликнулась Клэр: — Почему бы и нет? Раз уж Омар сам предлагает! — Глупости, — проворчал Шелли, — мальчик понятия не имеет, о чем идет речь. — Вот и объясни ему. Омар совсем не глуп! Шелли ехал молча. Наконец он произнес: — Хорошо. Слушай, мой мальчик. — И он рассказал Омару о таинственных планах, на которых обозначены захоронения, которые не были открыты, и что Фонд Исследования Египта послал его, чтобы понять, кто создает эти планы и служат ли они расхитителям гробниц. — Ты понял? — Омар все понял, о Саид, — взволнованно ответил мальчик, напряженно слушавший профессора. Омар должен был, как объяснил ему Шелли, произвести впечатление, что он, а вернее, его хозяин, заинтересованы в раскопках или картах, где обозначены места захоронений. Передача и оплата должны произойти на той стороне реки, в Луксоре, так желает его господин. А господин его, богатый английский предприниматель, испытывает не меньше недоверия, чем имеет денег. Затем профессор попросил Омара повторить услышанное. С удивлением слушал Шелли практически дословное воспроизведение собственного рассказа. У него не осталось сомнений в том, что мальчик понял задачу. Когда скалы западного берега окрасились в темно-красный цвет, потом в лиловый, а затем в темно-коричневый, Омар, воспользовавшись услугами того же самого перевозчика, отправился на противоположный берег Нила. Луна, отраженная водами реки, танцевала на ее поверхности. Со всех сторон над рекой неслись крики, время от времени прерываемые шумом с проходящих мимо парусников. Плеск воды становился все менее слышен за стрекотанием цикад на противоположном берегу. По словам перевозчика, Омару нужно было пройти около двух тысяч шагов по берегу реки, пока путь ему не преградит залив. Затем свернуть и идти вдоль залива, от реки по направлению к Гурнет Муррай и Дейр эль Медине, справа от него окажутся колоссы. Не заметить их невозможно даже в темноте ночи, так как по размеру они превышают самые крупные здания Луксора. Сам же перевозчик до возвращения Омара собирался спать в лодке. Омар спрыгнул на берег. У берега было много лодок, из одной, лодки-дома, доносились крики и смех. Воздух был теплым, как и земля под ногами мальчика, и, сам того не желая, он побежал. Он и сам не знал, зачем спешит, вероятно, причиной было волнение от сознания важности задания профессора. Залив было видно издалека, и Омар удивился, какой же величины должны быть жившие в нем лягушки, если они издают такое громкое кваканье, сопение и даже рев. Как на верблюжьем базаре. Между полями сахарного тростника Омар разглядел поворот и замедлил шаг. Его сердце билось как сумасшедшее. Менее чем через тысячу шагов Омар увидел двух каменных колоссов. Он попытался разглядеть в темноте людей, остановился и прислушался, но услышал лишь стрекот цикад и удары собственного сердца. Впервые он почувствовал себя неуютно. Колоссы, две сидящие фигуры, были раз в десять выше человеческого роста, их силуэты отчетливо выступали на фоне освещенной луной цепи скал на востоке. Омар задумался, следует ли ему ждать на дороге или же подняться к колоссам. Подойдя, он обнаружил, что даже основания, на которых восседали каменные гиганты, существенно выше его. Омар обошел вокруг обеих фигур, никого не обнаружил и уже собирался взобраться на основание одной из них, когда почувствовал удар по голове. В его глазах потемнело.
Омар не знал, как долго он находился без сознания. Он медленно приходил в себя, на верхней губе он ощутил неприятный, острый и одновременно сладкий незнакомый привкус. Попробовав двинуться, он ощутил боль в затылке; одновременно раздался шорох. Омару понадобилось немало времени, чтобы осознать, что он лежит на куче тростника в темном закрытом помещении. Пахло пылью, камнем и тростником. Омар сел и прислушался. Сперва ему показалось, что он слышит крик петуха, но затем вновь воцарилась тишина, мертвая тишина. Он поднялся, вытянул руки перед собой и пошел вперед, пока не наткнулся на стену. По стене он начал пробираться налево, пока не нащупал угол, затем продолжил движение в том же направлении. Стена не была ровной — руки Омара нащупывали отверстия и углубления; наконец, он наткнулся на дверную раму. Дверь он, однако, так и не нашел: там, где он ожидал услышать звонкий отголосок пустоты за деревянной дверью, он услышал лишь глухое эхо от камня. Затем мальчик услышал новый звук — нечто похожее то ли на шепот, то ли на скрежет чего-то металлического. И чем дольше Омар прислушивался, тем чужероднее и непонятнее становился звук. Вновь пробравшись на ощупь к дверному проему, Омар остановился. Где-то должен быть вход в подземелье. Медленно и осторожно, как будто земля под ним могла осыпаться при каждом шаге, мальчик попытался пересечь комнату, однако уже через несколько шагов наткнулся на препятствие. Ощупав его, он пришел к выводу, что это продолговатое корыто, наполненное мешками и прочими вещами, которые он не мог определить. Обогнув корыто, он достиг стены. Затем попробовал пересечь комнату в длину и вновь наткнулся на каменное корыто, затем на колесо с шестью спицами и, видимо, на лошадиную упряжь. В поисках выхода Омар взобрался на каменное корыто и попытался достать до потолка, отверстие в котором казалось ему последней возможностью выбраться. Однако, как он ни тянулся, достать до свода ему так и не удалось. Потеряв равновесие, он упал, но, к счастью, мешки смягчили падение. Омар на четвереньках отполз обратно на тростник и задумался о том, как ему покинуть темницу.
2 Луксор
«И не думай, что Аллах небрежет тем, что творят неправедные. Он отсрочивает им до дня, когда взоры закатятся, устремляясь торопливо с поднятыми вверх головами, взоры к ним не возвращаются, и сердца их — воздух».Караколь, отделение полиции в Луксоре, находился в Шарья эль-Махатта — неподалеку от отеля «Зимний дворец», и профессор Шелли прикладывал немалые усилия, чтобы убедить плосколобого служителя закона за стойкой из мутного стекла отложить газету и письменно зафиксировать его дело. Но нет, мужчина в поношенном темном костюме и красной феске отказывался принимать заявление, на угрозу же, что дело будет передано в вышестоящие инстанции, сообщил, что он — высшая инстанция, он, помощник мудира в Луксоре. И только угроза сообщить обо всем консулу Мустафе Ага Айату, к которому он, профессор Шелли, сегодня вечером приглашен на прием, изменили настрой блюстителя порядка. Мустафа Ага был британским консулом в Луксоре, маленьким королем, у которого каждую неделю собиралось все высшее общество. — Вы знакомы с Мустафой Ага? Профессор кивнул, хотя это и не соответствовало действительности. — Я Ибрагим эль-Навави, — сообщил блюститель порядка и приветственно поднял правую руку. — Мустафа Ага ценит мою службу. — Надеюсь, что я тоже смогу ее оценить, сэр! Слово «сэр» прозвучало несколько пренебрежительно, и Ибрагим эль-Навави почувствовал это, никак, однако, не отреагировав, и без видимого возмущения достал желтый блокнот из ящика стола, разгладил его и принял официальный вид. — Ваше имя? — Профессор Кристофер Шелли. — Местожительство? — Ленсфилд-роуд, 34, Кембридж, Англия. — И вы заявляете об исчезновении вашего слуги… — …Омара Муссы. Он был послан с поручением на тот берег этой ночью и не вернулся назад. — Может быть, он утонул? — Послушайте, перевозчик утверждает, что отвез Омара на противоположный берег и всю ночь прождал его. Лишь на восходе солнца он вернулся и сообщил об исчезновении мальчика. — Но о чем это свидетельствует, профессор! Я скажу вам, что случилось: ваш слуга Омар переплыл через реку. Там он встретил хурият. Любой в Луксоре знает, где искать ночью девушек легкого поведения. Хурият отвела его к себе домой, и в течение дня довольный Омар со сверкающим взором непременно вернется. — Омару четырнадцать! — воскликнул профессор. — Это ни о чем не говорит; египтянин в четырнадцать лет — уже полноценный мужчина. Профессор Шелли, до сих пор молчавший о причине ночного происшествия, понял, что пришло время открыть карты. Итак, он поведал помощнику мудира, что интересуется раскопками, что — Inscha’allah — это должно остаться в тайне — один незнакомец пригласил его, Шелли, прийти ночью к колоссу Мемнона, Омар же добровольно вызвался пойти вместо своего господина. Ибрагим эль-Навави долго смотрел на профессора, затем отодвинул желтый лист с пометками и спросил: — Почему вы сразу не сказали всего? — Что это меняет, если речь идет о том, что мой слуга бесследно исчез? — Очень многое, профессор, если не сказать все. Ни один человек добровольно не отправится ночью в Дейр эль-Медине. С древних времен это место считается жутким, о нем ходят легенды тысячелетней давности. Три тысячи лет назад жители Дейр эль-Медины раскопали захоронения в Долине Царей и, говорят, были убиты, чтобы никто не узнал о расположении гробницы, и их души до сих пор бродят в этой местности. — Глупые бредни. — Не скажите, профессор. До сих пор жителей Дейр эль-Медины остерегаются, стараются не иметь с ними дел. Их называют «потусторонними», с одной стороны, потому что они живут на той стороне Нила, с другой, — из-за того, что имеют дело с потусторонними силами. Можете верить, можете нет, но раз в месяц в праздник бога луны Хона бесследно пропадают люди, и, говорят, их заживо замуровывают в Долине Царей. — И вы ничего не предпринимаете? — О чем вы говорите! — Эль-Навави пришел в негодование. — Мои люди провели массу времени в Дейр эль-Медине в поисках пропавших — тщетно. Нет никаких доказательств, только слухи. Профессор достал трубку из кармана куртки и торопливо раскурил ее. Маленькие облачка дыма, выпускаемые им часто, как из локомотива, свидетельствовали о его волнении. — Но не может ведь одна деревня, населенная фанатиками, терроризировать целый город! Блюститель закона пожал плечами, почти полностью погрузив свою маленькую голову в воротник костюма. — При любой попытке начать расследование в Дейр эль-Медине словно на стену натыкаешься. Днем на улицах только пожилые женщины, а ночью никто не рискнет туда сунуться. — С покрытой пылью полки, на которой хранились свертки документов, помощник мудира достал папку и бросил ее на стол: — Все дела не раскрыты. Люди, бесследно пропавшие ночью. Последние — немец с женой. Inscha’allah. — И вы не нашли ни одного пропавшего? — Ну почему же. Одного американца. Но, если быть честным, его нашла не полиция, а коршуны, кружащие по утрам и вечерам над Долиной Царей. И у него не хватало одной важной части тела — а именно головы. Шелли затянулся. Наконец он спросил почти умоляюще: — Что вы собираетесь делать? Эль-Навави вытер тыльной стороной ладони пыль с папки и смущенно посмотрел на письменный стол. — Я доставлю вам удовольствие и пошлю людей в эль-Медину, но могу сразу предупредить, что это мероприятие не увенчается успехом. Профессор попрощался и направился к выходу, однако помощник мудира остановил его: — Сэр, послушайтесь меня, не пытайтесь достать никаких планов захоронений. Вы же видите, что любая попытка заканчивается смертельным исходом. Профессор насторожился: — Что вы хотите этим сказать? — О, ничего особенного! Исчезновение вашего слуги, — и он похлопал ладонью по пыльной папке, — можно только по одному принципу отнести к этим делам: все эти люди занимались поисками тайных планов захоронений в Долине Царей. Шелли с недоверием посмотрел на эль-Навави. Что может быть известно этому человеку?Коран, 14 сура (43, 44)
Дом консула Мустафы Ага Айата располагался за городской чертой на невысоком холме и был окружен эвкалиптами и пальмами, украшенными светящимися шарами и латунными светильниками. У высоких въездных ворот стояли привратники в форме и с факелами, как две капли воды похожие друг на друга. От дома, походившего со всеми его башенками, остроконечными резными окнами и освещенной огнями террасой скорее на один из дворцов «Тысячи и одной ночи», веяло запахами мяса и острых приправ, сладких орехов и терпкого конского навоза. Трио музыкантов играло на камангах душераздирающие мелодии. Гости, в основном мужчины, одетые в сюртуки и цилиндры, и немногочисленные дамы в длинных европейских платьях, отделанных кружевами, подъезжали в каретах. Профессор Шелли подал руку госпоже Клэр, и они пошли, приветствуя окружающих, к лестнице из белого камня, перед которой ожидал хозяин, окруженный свитой одетых в ливреи слуг. Мустафа Ага Айат был низким, полным мужчиной неопределенного возраста. Он носил европейскую одежду. Свои короткие черные волосы он скрывал под красной феской, кисточка которой постоянно болталась в разные стороны. Круглое лицо обрамляла кустистая борода, а над его непропорционально маленькими глазами уходили вверх пышные темные брови. — Вы, конечно, профессор из Кембриджа, — приветствовал Мустафа вновь прибывших с распростертыми объятиями, — добро пожаловать, добро пожаловать! — Произношение консула было резким, он удваивал все согласные и проглатывал гласные. Шелли представил консулу свою супругу, которую тот и взглядом не удостоил, и похвалил его роскошный дом. Мустафа Ага кивнул: — Он еще не закончен! Я уже сомневаюсь, что когда-нибудь доведу замысел до конца. Вероятно, я иду по стопам отца: тот воздвиг дом на колоннах храма Амона, но пришли археологи и попросили покинуть культурное наследие. — И консул затрясся от смеха. Заметив недоверчивые взгляды гостей, Мустафа Ага вежливо осведомился: — Вы не верите моим словам? Но клянусь бородой Пророка, я говорю правду! Храм был погребен под холмом, наружу выступали лишь верхушки колонн. Они прекрасно подходили в качестве фундамента. Но это было давно. А вы теперь смеетесь! Властным движением руки Мустафа подозвал к себе назира Луксора и попросил представить англичан прочим гостям. — Он бургомистр, — пояснил консул, — он знаком с людьми лучше, чем я. Среди гостей, а их было около сотни, присутствовали примерно дюжина консулов разных стран, начальник вокзала, носивший официально титул «директора вокзала», начальник телеграфа, помощник мудира Ибрагим эль-Навави, американский боксер с любовницей, нефтяной магнат из Калифорнии и половина команды его корабля, фотограф из Парижа, постоянно подкручивавший усы, и множество авантюристов и бонвиванов, обычно проводящих лето на Лазурном Берегу, в октябре же каждый год перебирающихся в Египет, а также кучка археологов и исследователей со всего мира, которых от прочих гостей отличала поношенная одежда и серьезность бесед. Внезапно все взоры привлекло появление дамы в белом мужском костюме с красным галстуком. «Леди Доусон», — представил ее назир. Она поднесла к губам мундштук с сигаретой, затянулась и выдохнула через плечо облачко дыма. Смерив профессора взглядом, она коротко спросила: — Англичанин или американец? — Кембридж, — ответил Шелли. — Повезло, — ответила леди Доусон. — Вы, наверное, знаете, что американцев здесь не жалуют. У них излишек денег при недостатке манер. В Луксоре до сих пор рассказывают о том, как один американский полковник купил себе жену-пигмейку в Нубии. Она была всего метр ростом, но хорошо откормлена и обычно нага. Полковник держал ее как собачку. Итальянцев и французов считаю мошенниками, что недалеко от правды, им ведь достались все лучшие захоронения. А немцы — боже мой, они надежны и трудолюбивы, однако, к сожалению, также скупы и горды, иногда они поселяются в разграбленных могилах, чтобы сэкономить на плате за отель. За это их не слишком любят. Мы, англичане, наиболее соответствуем образу культурных европейцев, сложившемуся у египтян. — Вы живете здесь, в Луксоре? — спросил профессор Шелли. Леди стряхнула пепел в пепельницу и неопределенно повела рукой. — Сегодня в Луксоре, завтра в Асуане, следующий месяц в Александрии… — Как это понимать? — Очень просто, я живу на яхте. Быть может, вы ее видели, она называется «Изис». — И леди Доусон рассказала о том, что ее муж, сэр Арчибальд Доусон, владелец многих хлопковых фабрик в средней Англии, умер от малярии в Египте пять лет назад во время их медового месяца. С тех пор она не покидала Египта и на яхте, на которой провела лучшие часы жизни, то поднимается, то вновь спускается по Нилу. Почему, она навряд ли смогла бы объяснить. У леди Доусон был низкий бархатный голос, а когда она говорила, то кокетливо запрокидывала голову и вскидывала взгляд к сводчатому потолку, выкрашенному в синий цвет с желтыми звездами. — Своенравное существо, — заметила Клэр Шелли, когда они отошли в сторону, и профессор кивнул. Несмотря на разговорчивость, эту женщину окружала аура таинственности; казалось, она осознавала это и наслаждалась. Жак Жильбер, фотограф — сам он предпочитал называть себя дагерротипистом — был горд, как павлин; он сновал между гостями, держа перед собой фотокамеру из красного дерева и, не успев заметить что-нибудь интересное, уже устанавливал камеру на штатив, исчезал под черным покрывалом и поднимал вспышку, появление которой каждый раз вызывало восторг хозяина, так что тот начинал хлопать в ладоши, как дитя. Естественно, профессору и его супруге не удалось избежать объектива камеры, и, не успели они опомниться, как их окружили матросы, боксер, директор железной дороги и еще с полдюжины гостей, которых Жильбер поместил перед камерой, дав указание стоять прямо и не двигаясь, подняв подбородок. Жильбер расставил свои фотографические объекты настолько ненатурально, что один из матросов, стоявших в заднем ряду, не удержался, оступился и повлек за собой остальных, как фишки домино. В этот момент сработала вспышка. Насмешливо, но в то же время безразлично Говард Картер наблюдал за происходящим, сидя в красно-синем кресле. Он не получал удовольствия от общения с гостями, они же терпели его присутствие лишь потому что от него всегда было можно ожидать сюрприза, причем на первом месте для всех стояла не научная сторона его открытий, а материальная. Шелли избегал вступать с ним в разговор. Никто не должен был знать о некоторой близости их отношений. Вместо этого Шелли обратился к консулу с просьбой посоветовать, как поступить в связи с исчезновением его слуги. Мустафа Ага Айат моментально посерьезнел, а на его жирном лбу обозначились морщины. Он попытался выразить удивление, но, как и все египтяне, Мустафа Ага был плохим актером, и профессор догадался, что того давно проинформировали о случившемся. Исчезновение мальчика — Мустафа скрестил руки на груди — это серьезная проблема, так как пропали многие, найден же никто не был. Если он, Айат, имеет право советовать профессору, то он не рекомендует проводить никаких самостоятельных расследований; это слишком опасно. Шелли хотел было ответить, но музыка заиграла громче, и из-за зелено-золотого занавеса появилась женщина, исполнявшая танец живота. Под оглушительные аплодисменты она привела в движение грудь, лишь слегка прикрытую блестящей одеждой, в то время как ее сплетенные руки были подняты над головой, как будто их удерживала веревка. Ногти танцовщицы были выкрашены хной в темно-красный цвет, а глаза обведены черной краской, как это делала еще Клеопатра. Провоцирующе приоткрыв губы, она смотрела на зрителей, демонстрируя два ряда безупречно белых зубов. — Ее зовут Фатима, — прошептал профессору Мустафа и, тихо вздохнув, продолжил: — Она лучшая, от Каира до Асуана. Шелли, не зная, что ответить, кивнул и захлопал в ладоши, в этот же момент и остальные стали хлопать в такт музыке, побуждая Фатиму ко все более откровенным движениям. Босыми ногами она отбивала ритм на коврах, покрывавших полы из белого камня, выбивая из них облачка пыли. Каманги повторяли одну и ту же мелодию, и на атласной коже Фатимы появились искрящиеся капельки пота. Не обращая внимания на такое количество сладострастия, за колонной уселись в кружок четверо местных жителей, что можно было заключить по их одежде. От их темных мундштуков шли пестрые тонкие трубки — они курили кальян, выпуская белые клубы дыма. Самой интересной личностью среди них был лысый старик с протезом ноги, отложенным им далеко в сторону, сопровождающий свою речь энергичными жестами и время от времени бросающий вокруг себя опасливые взгляды, будто опасаясь, что его подслушивают. — Газеты пишут, — шептал он, — генерал-губернатор Элдон Горст возвратился в Англию ожидать смерти. — Этого не жалко, — ответил стройный загорелый мужчина справа от старика. — Он до Кромера недотягивает. — Дотягивает или нет, но кедив собирается в Вильтшир, нанести больному визит. — Но это невозможно! — Будь он проклят! — взорвался другой. — Это унизительно для всего египетского народа! Одноногий нагнулся к своему соседу, положил руку на его плечо и спокойно сказал: — Необходимо предотвратить поездку Аббаса Хильми. Наши друзья в Александрии уже разработали план. — Как, интересно, можно препятствовать поездке кедива в Англию? — Аббас Хильми плывет на фрегате «Ком Омбо». Путь до Англии неблизкий. Понимаете, что я имею в виду? Остальные закивали. — В любом случае, — добавил одноногий, — Ибн Кадар, капитан, на нашей стороне. — На него можно положиться? — Бесспорно. За деньги танцует даже пророк Мухаммед. В тот момент, когда Фатима, опустившись на колени и широко раздвинув их, откинулась назад, так что ее волосы коснулись пола, музыка внезапно оборвалась: послышалось цоканье копыт, прогремел выстрел, из парка доносились возбужденные крики, и, прежде чем вооруженные стражи Мустафы успели отреагировать, в зал ворвались всадники с закрытыми лицами. Их было пятеро или шестеро, они возникли одновременно с нескольких сторон и, опрокидывая светильники и столы, с криками: «La illah il’allah — Нет бога на земле, кроме Аллаха» начали стрелять по гостям. Шелли увлек Клэр на пол, закрыл ее собой, и они вместе, тесно обнявшись, откатились за балюстраду. Нападение длилось несколько секунд. Так же внезапно, как появились, всадники исчезли в ночи. — За мной! — крикнул помощник мудира Ибрагим эль-Навави и, выхватив ружье у одного из стражников, бросился в темноту, поглотившую всадников, стражники — за ним. Мустафа Ага Айат дрожал всем телом, однако старался сгладить происшествие, выкрикивая снова и снова: — Ничего не произошло, все в порядке! Боксер, усмехаясь, прижимал к себе руку, на которой расплывалось кровавое пятно. Жильбер, дагерротипист, был более всего озабочен судьбой собственной камеры, от одноногого и его собеседников не осталось и следа, а Фатима лежала на ковре без движения. — Все в порядке? — профессор помог жене подняться и отряхнуть платье от пыли. Клэр кивнула. — Ты только посмотри! — воскликнула она вдруг, указывая на полуобнаженную танцовщицу. В левом плече Фатимы виднелось черное отверстие. Шелли наклонился и повернул ее голову. Из правого уголка губ струилась кровь. — Скорее, врача! — крикнул Шелли, и Ага, дико озираясь, вторил ему: — Где доктор Мансур? Доктор Шафик Мансур, уважаемый руководитель небольшой клиники в Луксоре, приложил большой палец к веку Фатимы и попытался поднять его, затем взял ее за левую руку, но вскоре уронил ее на ковер. Мансур покачал головой и приложил два пальца к шее Фатимы. — Она мертва, — сказал он тихо. Клэр зарыдала, и профессор взял ее руки в свои. — Для меня это слишком, — всхлипывала она. Через два дня в газете «Новости Луксора» писали, что во время перестрелки националистов погибла танцовщица Фатима из Наг Хаммади.
Омар не знал, сколько прошло времени. Два, три, четыре дня? Тишина и темнота не давали возможности сориентироваться. Не знал он и того, сколько раз прошел вдоль стен, ощупывая каждое углубление в поисках выхода. Как-то ведь он попал в это проклятое подземелье! Иногда ему казалось, что он слышит голоса, тогда Омар открывал рот так широко, как мог, будто так ему было лучше слышно, но его уже вновь окружала только тишина. Постепенно его мысли спутались, и он не в силах был думать о конце, который его ожидал. От жажды и голода, а может быть, просто в знак того, что он еще жив, Омар жевал грязный тростник, служивший ему подстилкой. Но каждый раз, начиная кусать траву, Омар вынужден был ее выплюнуть, потому что на зубах хрустел песок А в какой-то момент он начал посмеиваться, так как ему пришло в голову, что смерть — занятие на редкость скучное. Он перестал кричать на стены только для того, чтобы услышать какие-нибудь звуки, и единственное, что он мог еще ощущать, — что он находится на той грани, где кончается жизнь и начинается смерть. Звук, дошедший до него сверху, не вызвал у Омара эмоций, он воспринял его как очередную галлюцинацию. Не отреагировал он и тогда, когда потолок над ним открылся, впуская красноватый луч света, вызвавший резкую боль в глазах. И только когда из отверстия в потолке упал конец веревочной лестницы, Омар сел и огляделся. Он дрожал от волнения; в отверстии показалась закутанная в одежды фигура с керосиновой лампой в руке, осторожно она ступила на лестницу. Спуск занял бесконечно долгое время, несмотря на то, что от пола до потолка было не более четырех метров, по крайней мере так показалось Омару. Теперь, в дрожащем свете лампы, он увидел стены, ощупанные им бесчисленное количество раз; он разглядел и тележку, колесо с шестью спицами, богов со звериными головами, коленопреклоненные и бегущие фигуры, а также несметное число иероглифов. Гробница! Омар несколько дней провел в гробнице! В центре камеры стоял саркофаг, и, наклонившись, он увидел остатки мумии. Человек с лампой тем временем спустился на землю. На нем были длинные одежды, а на голове — мешок. Он медленно подходил к Омару. Омар отступил назад и забился в угол, прижавшись спиной к стене, словно желая сделаться маленьким и пытаясь так избежать судьбы. Он измерил взглядом расстояние в восемь — десять шагов до лестницы, но прежде, чем успел совершить прыжок, незнакомец бросился на Омара. Он почувствовал удар по голове и потерял сознание. А потом, сквозь пустоту и бесконечность, он испытал боль в левой руке и захотел крикнуть, но свинцовая тяжесть сковала его члены. Аллах ведает, как долго пробыл Омар без сознания. Когда же он пришел в себя, то ощутил, как вода омывает его тело, а взволнованные голоса повторяют: «Он жив, он жив!» Он почувствовал, как сильные руки подняли его за плечи и потащили по песчаному берегу, затем опустили на траву. И сознание снова оставило его.
Открыв глаза, Омар увидел перед собой морщинистое лицо мужчины, глаза которого за очками казались неправдоподобно большими. — Я доктор Мансур, — сказал тот, — ты меня слышишь? Омар не ответил. Он только кивнул, глядя на вращающийся вентилятор на потолке. Доктор повернулся: — Узнаешь этого человека? — Рядом стоял профессор Шелли. — Да, Саид, — сказал мальчик тихо. Подошла Клэр. В ее глазах стояли слезы, она обняла Омара, прижалась щекой к его щеке, что доставило ему неожиданное удовольствие, и смущенно спросила: — Где же ты прятался столько времени, мой мальчик? Омар решился улыбнуться и, не отвечая на поставленный вопрос, спросил, как он сюда попал. — Ты находишься в клинике в Луксоре, — ответил профессор. — Пастушка нашла тебя в пруду на той стороне Нила. Во имя всего святого, как ты там оказался? Омар попытался привести мысли в порядок, но ничего не получалось. — Не знаю, — ответил он устало, — я вообще не знаю, что произошло. Сколько времени меня не было? — Шесть дней, — ответил Шелли. — И ты ничего не помнишь? — Помню, — ответил мальчик, — там темная дыра с божествами и иероглифами на стенах, это была гробница, и там тяжелый сладковатый запах… Шелли вопросительно посмотрел на доктора Мансура. Тот вышел, а через несколько минут вернулся, неся в руках белый платок, который и протянул Омару. — Этот запах? — Омар мгновенно узнал сладковатую тяжесть. — Хлороформ, — сказал Мансур. — Не может быть, — профессор Шелли был потрясен. — Очень даже может. Я сразу подумал об этом. — Но, значит, мы имеем дело с опасными преступниками, которые ни перед чем не остановятся! — Вы сомневались в этом, профессор? Нам повезло, что мы нашли мальчика живым. Впервые исчезнувший на том берегу Нила обнаружен живым. Омар, слушавший достаточно безразлично, оглядел себя: на нем была длинная белая рубашка. Руки и ноги болели — они были связаны, объяснил Мансур: — Не знаю, сколько ты пролежал в озере, наверное, несколько часов, а это небезопасно, когда речь идет о грязной воде Нила. — Мансур взял руку Омара и осторожно начал снимать повязки, пока не показалась темно-красная резаная рана на предплечье. — Билхарция[4]. — Что это значит? — спросил Шелли. — Билхарция — червь длиной с ноготь, живет в основном в стоячей воде и проникает в организм человека через поры. Он переносит цитосомиазис, ужасную тропическую болезнь. На теле Омара я обнаружил семь таких червей. Удалить их можно было только с помощью надрезов. — Таким образом, ему больше ничего не угрожает? Я имею в виду… — Нет, — прервал его Мансур, — я тщательно обследовал мальчика. И при этом наткнулся на интересную вещь. — Он замолчал, продолжая снимать наложенные повязки. — Вот, — указал он, наконец, на рану возле плеча Омара. Тот взглянул на нее, скривившись. Шелли подошел ближе, осмотрел рану и взглянул на доктора в ожидании объяснений. Тот лишь спросил: — Вы, кажется, что-то заметили, профессор Шелли? — Нет, нет, доктор, — Шелли покачал головой, — в какой-то момент мне просто показалось, что рана имеет очертания сидящей кошки. — И вы не ошиблись, — ответил Мансур, — эта рана — след ожога, нанесенного раскаленной печатью с фигурой кошки. — Боже мой! — пролепетала Клэр и облокотилась о белую спинку кровати. Шелли смотрел на покрытую черной коркой рану величиной с ладонь. — Больно? — спросил он наконец. Омар кивнул. — И ты не знаешь, как это случилось? — Нет, о Саид. Но после того, как я потерял сознание в том мрачном подземелье и не знал, сплю ли я или уже умер, в какой-то момент я ощутил жгучую боль в руке. — Идолов в образе кошек такого типа находили в гробницах фараонов. Обычно они сделаны из золота. — Профессор беспокойно ходил по комнате, Клэр же возмущенно воскликнула: — Но зачем нужно оставлять их раскаленные отпечатки на коже человека? Доктор Мансур взглянул поверх серебряной оправы ОЧКОВ: — Если вы спросите меня, мадам, я предположу, что это знак или предупреждение какой-либо тайной организации, желающей таким образом привлечь к себе внимание. Египет — страна противоречий, здесь множество политических группировок, люди здесь не знают, в каком государстве они живут. Официально это британская колония, но в некоторых вопросах все еще решающее слово имеет турецкий султан, также египетский вице-король, кедив, имеет определенные привилегии. Но кедив не имеет права заключать международные договоры, египетского гражданства не существует, как не существует и египетского флага. Шелли остановился: — Я согласен с тем, что обстановка в стране оставляет желать лучшего, но какое отношение к этому всему имеет мой слуга Омар, мальчик четырнадцати лет? — Но ведь Омар ваш слуга! — холодно возразил Мансур. — Вы считаете, целью всего случившегося был я? Мансур пожал плечами. — Невероятная теория! — возразил профессор. — Она противоречит всякой логике. Насколько я заметил, в Луксоре на данный момент проживает пара сотен англичан, многие уже на протяжении многих лет. Я не вижу причины причинять вред вновь прибывшему, к тому же египтянину. Омар дальше не слушал, усталость взяла свое, глаза закрывались сами собой. Он уже спал, когда доктор Мансур и остальные присутствующие на цыпочках покинули комнату.
Профессор сообщил о происшествии Фонду Исследования Египта и осведомился, следует ли продолжать расследование ввиду опасной обстановки. Больше всех боялась Клэр. Однако в Лондоне случившееся восприняли не столь серьезно и ответили лаконичным посланием: «Продолжать. Желательно иметь при себе оружие». На следующий день Шелли навестил Картера, обитавшего в доме, или, вернее, хижине между Дра абу эль-Нага и эль-Тарифом. Несмотря на то что происшествие с Омаром стало темой дня, Картер от реакции воздержался, хотя как никто другой должен был быть осведомлен о положении дел на противоположном берегу Нила Его молчание вызвало подозрения Шелли. Шелли появился без предупреждения, когда солнце начало садиться и можно было предположить, что археологи вернулись в свои дома. Должно быть, Картер еще издали заметил профессора, так как он вышел ему навстречу. На Картере был пыльный костюм и рубашка без воротника; прежде чем профессор успел произнести хоть слово, тот крикнул: — Разве я не говорил, что нам следует как можно реже встречаться! Не нужно, чтобы нас видели вместе! — Знаете, я, собственно, не вижу этому причин. — Профессор протянул Картеру руку. — Если за мной наблюдают, как можно заключить по последним событиям, то эти люди прекрасно осведомлены о нашем знакомстве. В остальном же, англичанин, приехавший в Луксор и не встретившийся с Говардом Картером, вызывает значительно больше подозрений, чем регулярно наносящий ему визиты. Картер — это отдельная инстанция. Археолог был польщен. — Что же, заходите! — Жестом он пригласил Шелли пройти внутрь хижины. Дом был не более чем четыре на пять метров площадью, построен из кирпича, выброшенного на берег Нила, как и все дома в округе. Входя за окрашенную в зеленый цвет деревянную дверь, посетитель сразу попадал в гостиную, спальню и столовую, а также кухню, ванную и библиотеку, так как комната в доме была всего одна. Ставни единственного окна, выходившего на восток, были лишь слегка приоткрыты, так что свет практически не проникал в помещение, и Шелли пришлось с трудом пробираться между ящиками и коробками, заменявшими практически всю мебель. Единственный стол, квадратное чудище на высоких ножках, был завален кастрюлями, посудой, стопками бумаги, осколками и прочими результатами раскопок, среди которых красовалась черная печатная машинка. — Если бы знал о вашем визите, я бы убрался, — извинился Картер, — но это, как-никак мой мир. — При этих словах он вытер рукавом пыль с табуретки, выдвинутой им из-под стола. — Присаживайтесь! Сам он сел на продавленную кушетку, просевшую, кажется, до пола. — Здесь я и живу, — констатировал он, — согласен, не слишком шикарно. Здесь нет воды, электричества, а до Луксора час пути, но… — при этих словах он распахнул ставни — кто еще сможет похвастаться таким видом из окна! Шелли поднялся. Перед ним простиралась зеленая лента берега Нила, за ним лениво бежала вода реки, а в желтом мареве на другом берегу реки виднелись Луксор, храм, «Зимний дворец» и стройные городские минареты. — Я слышал о ваших неприятностях, — проговорил Картер после долгой паузы, возникшей при созерцании ландшафта. — Неприятностях? — Шелли горько усмехнулся. — Мальчика чуть не убили, оглушили хлороформом и бросили в воду. Чудо, что он пережил все это. — Он поправится? — Доктор Мансур убежден в этом. Он говорит, мальчик силен, как молодой бык. Речь профессора была прервана шорохом, донесшимся из угла комнаты. — Это Дженни, — пояснил Картер, — мой попугай. Она не привыкла, чтобы говорил кто-то, кроме нее. — Теперь Шелли заметил крупную желтую птицу, висевшую вниз головой на сплетенной из бамбука клетке. Профессор продолжил: — Одно в этой истории мне кажется загадочным, Картер, и вы, надеюсь, могли бы мне помочь. — Я? При чем здесь я? — обеспокоенно осведомился археолог. — Ну, вы почти двадцать лет живете в этой стране, вы сами уже стали египтянином, вы знаете людей, а люди знают вас… — Не знаю, к чему вы клоните, профессор. — С похищением мальчика связана пара загадочных подробностей. Может быть, вы дадите им объяснение. Во-первых, бесследно исчезло уже около дюжины людей. Омар же появился через шесть дней. — Слава Аллаху! — Слава Аллаху. — Где он находился? — Омар ничего не помнит, кроме того, что был заперт в темном подземелье, возможно, в гробнице. Пастушка обнаружила его в озере без сознания. До этого момента история еще могла бы считаться ошибкой или случайностью, но на плече мальчика, когда его нашли, оказался ожог — отпечаток сидящей кошки. — Кошки? — Вамчто-нибудь говорит этот знак? Картер наморщил лоб, будто бы обдумывая вопрос. — Кошка, нет, понятия не имею, — заметил он нарочито безразлично. — Но должно же это иметь какой-то смысл, Картер? Тот, однако, молчал, и Шелли не мог избавиться от ощущения, что Картер чего-то недоговаривает. Но как можно заставить говорить такого упрямца? Вспомнив о своей миссии, Шелли решил без обиняков приступить к делу: — Я все время хотел спросить в связи с появлением на черном рынке карт: где вы храните свои чертежи? — И Шелли оглядел темную комнатку, наваленные друг на друга ящики, нечто похожее на книжную полку из необработанных досок, закрепленную кирпичами, и при всем желании не смог представить, где здесь можно спрятать тайные карты. Картер, казалось, прочел мысли профессора. — Не здесь, — сказал он с гордой улыбкой, поднялся, подошел к двери и запер ее изнутри. Он также закрыл ставни, зажег керосиновую лампу и попросил профессора помочь ему отодвинуть стол. На каменном полу лежал потертый коврик. Картер отодвинул его, освободив деревянный люк. Подняв его уверенным движением, Картер открыл проход в темное, глубокое помещение. Он взял лампу: — Если вы не против, я пойду первым. — Держа в одной руке лампу, Картер спустился вниз по лестнице, которая Шелли не была видна. Затем он крикнул: — Так ваша очередь, профессор. Держитесь крепче! Шелли молча протиснулся в отверстие в полу и, спустившись вниз, огляделся. Невысокие стены были покрыты рисунками в человеческий рост, изображавшими как богов, так и повседневную жизнь Древнего Египта Слева и справа в стенах были ниши, места хватало для одного человека, с одной стороны — каменный портал все выполнено в золотых тонах и повсюду столбцы иероглифов. Шелли потерял дар речи. — Добро пожаловать в обиталище Пет-Изиса! — с улыбкой провозгласил Картер. Профессору потребовалось немало времени, чтобы суметь выдавить из себя: — Картер, что это? — Вы находитесь в последнем прибежище священнослужителя Пет-Изиса, Первого Пророка Бога при фараоне Рамзесе Втором, служителя храма и управляющего имуществом храма Амона в Луксоре. — И он указал на рисунок на стене: лысый человек, изображенный в профиль, и следующие за ним священнослужители, астрологи и служители мифологического календаря, а также его жена маленького роста и множество детей. А перед всей процессией — фигуры богов с головами животных: Амон, Мут и Хонсу, Изис и Осирис. Шелли подошел к стене и, ведя палец по иероглифам, начал читать: «Я приблизился к границе Царства Мертвых и вознесся надо всем земным. Темной ночью я видел солнце в сияющем свете. Я приблизился к богам подземным и надземным и предстал перед ними лицом к лицу». Рука профессора дрожала от волнения. — Вы нашли это? — спросил он, наконец. — К сожалению, нет, — ответил Говард Картер. — К вашему сведению, в этой местности чуть ли не каждый дом возведен на захоронении периода Древнего Египта. И сразу отвечу на ваш следующий вопрос: гробница была пуста, когда я впервые вошел в этот дом, и старики, у которых я его снимаю, говорят, что они также нашли ее пустой. — Вы в это верите? Картер пожал плечами: — Я не могу доказать обратного. Вы же знаете, первые захоронения были разграблены около трех тысяч лет назад. Надеюсь, профессор, вы меня не выдадите! — Выдам? Что вы имеете в виду? — Ну, до сих пор никто не знает о существовании этой гробницы. Я бы не хотел, чтобы люди узнали; я просто хочу, чтобы меня оставили здесь в покое, если вы понимаете, о чем я. Я провел долгие ночи здесь, внизу, смотрел на рисунки, сравнивал их с другими, перерисовывал тексты со стен и переводил их. И сделал интересное открытие. Не выдадите меня? — Даю слово чести, Картер. — Вы спросили меня, где я храню тайные планы. Я отвечу: здесь, в этой комнате! Шелли взял в руки лампу и осветил все четыре стены. В одном углу стоял мешок с песком, в остальном комната была пуста. Шелли простучал стены в поисках пустого пространства за ними и, наконец, сдался: — Я не понимаю, вы же сказали, что здесь храните карты. Картер кивнул: — Древние египтяне были люди скрытные и обладали дьявольской фантазией. Пет-Изис, умерев, забрал с собой тайну, тайну, которая мне неведома. Быть может, документы о сокровищах храма или даже о проступках фараона. Вот здесь, внизу, я нашел текст, который не смог расшифровать. — Картер наклонился и осветил стену, исписанную иероглифами. — Вот, прочтите сами! Профессор опустился на колени и с трудом принялся разбирать иероглифы: «Лишь боги юга и севера знают о моей тайне, а ключ к ней находится в главном колонном зале Карнака». — Не понимаю, Картер, что это означает? Археолог усмехнулся: — Эти слова можно понять лишь в одном контексте. — В каком, Картер? — Знаете, профессор, я перерисовал все надписи со стен комнаты, я перечитывал их вновь и вновь. Из них три фразы остаются неясны. Я мог бы спросить совета у других археологов, но этого мне делать не хотелось — ведь тогда бы мне пришлось рассказать о происхождении надписей. Это первая фраза. — А две другие? — Вот. — Картер поднес лампу к голове бога Амона. — Видите? Фраза возле головы бога гласила следующее: «Поставь половину колонны по направлению отсюда на север и узнаешь половину правды». Затем он направился к правому углу, где был изображен Осирис в виде мумии. Его голову обрамляла надпись: «Поставь четвертую часть колонны по направлению отсюда на запад и узнаешь всю правду». — Более чем загадочно, — произнес Кристофер Шелли. — Тексты могут иметь отношение к какому-либо посмертному ритуалу. — Вполне могло бы быть, — ответил Картер. — Египетская Книга мертвых содержит массу текстов, недоступных нам; однако я внимательно просмотрел всю ее в поисках подобных отрывков — ничего похожего. — Вы заинтриговали меня, Картер. — Шелли нервно переминался с ноги на ногу. — Вы нашли разгадку? — Конечно. — Картер был спокоен, как будто речь шла о наипростейшем деле. — Сначала я разобрался со сторонами света. — Он остановился в центре и указал на Амона с головой овна. — Это юг. — Затем на Осириса. — А здесь восток, так? Профессор кивнул. — Вторым вопросом была мера — «половина колонны». Но здесь помогло указание на ключ в колонном зале Карнака. Колонны там самые высокие во всем Египте, и все они высотой в семьдесят стоп. Половина, соответственно, — тридцать пять стоп. Комната явно короче. Я рассчитывал и составлял чертежи, и уже готов был сдаться, когда однажды мне пришло в голову поделить колонну пополам и вертикально на две половины. Вот у меня и получилась половина. Колонна Карнака в окружности составляет тридцать две стопы. Половина — шестнадцать, а четверть — восемь. А теперь проверим, верна ли оказалась моя догадка! Картер взял профессора за руку, прошел с ним от стены Осириса, ставя одну ногу перед другой, восемь «шагов» на запад и велел тому не двигаться с места. — А теперь внимание, профессор! Смотрите вперед, на эту стену! — И Картер подошел к стене Амона, развернулся и, громко считая вслух, отмерил шестнадцать стоп, остановившись так близко от профессора, что они могли коснуться руками. В то же мгновение пол комнаты задрожал, и раздался скрип. Шелли испуганно посмотрел на потолок, как будто боялся, что тот обрушится. Картер высоко поднял лампу и крикнул: «Стойте на месте, профессор! Не сходите с места!» Каменный портал перед ним сдвинулся — не вправо или влево, как дверь, а опрокинулся назад, поворачиваясь вокруг своей оси, и через пару секунд замер в облаке пыли параллельно полу. — Картер, вы безумец! — Шелли пытался выплюнуть пыль изо рта. — Но вы же хотели знать, где я храню свои планы. Здесь, смотрите! — Археолог осветил открывшееся помещение. В нише были сложены папки и бумаги. — И что вы обнаружили, когда впервые открыли дверь? — медленно произнес Шелли. — Не поверите, профессор, ниша была пуста. — Пуста? Но это означает, что до вас некто уже проник в тайну механизма! — Именно так, — ответил Картер, заметивший недоверие на лице Шелли. — Вы мне не верите? — Ну что вы, что вы, — возразил профессор. — Но вы сказали, кроме вас об этом месте никто не знает. — Так и есть. — Картер! — воскликнул Шелли взволнованно. — Вы лжете. Вы бы не смогли в одиночку задействовать механизм. Как вы мне только что продемонстрировали, для этого необходимы двое. Картер привык к недоверию. Он не стал утруждать себя объяснениями, молча подошел к повернутой плите и сильным нажатием вернул ее в исходное положение. Затем направился к углу, в котором стоял мешок с песком, и с трудом перетащил его на то место, где раньше стоял профессор. Сам же вернулся на прежнее место. И будто по мановению чьей-то призрачной руки весь процесс повторился вновь, и открылась потаенная ниша. — Весь секрет, — его голос прозвучал почти печально, — весь секрет основан на механизме, запускающемся в тот момент, когда на двух плитах в полу помещается вес не менее шестидесяти килограммов. Столько весил взрослый египтянин во времена Рамзеса Второго. Я проверял: стоит облегчить мешок на десять килограммов, и все старания будут напрасны. Профессор подошел к археологу и протянул ему руку. — Прошу прощения, Картер. Думаю, я вас недооценил. Думаю, вас вообще недооценивают. — Ничего, профессор. — Картер махнул рукой. — Я привык. Тот, кто родился в Свэттеме и всю жизнь живет на деньги других людей, привык к этому. Позже, поднимаясь мимо скал по плоским холмам в сторону Нила, профессор размышлял о том, что такой человек, как Картер, знает намного больше, чем говорит.
Омар поправлялся даже быстрее, чем предсказывал доктор Мансур, причиной чему были дорогие медикаменты, оплачиваемые лично профессором. Шелли чувствовал свою вину за случившееся и пытался всеми возможными способами ее загладить. Он зашел так далеко, что предложил исполнить любое желание Омара, если оно окажется для него выполнимо. Мальчик попросил день на раздумья, и Клэр уже начала предполагать самые невероятные варианты. Все поразились, когда Омар попросил позволить ему научиться читать и писать. С тех пор Омар каждый день ходил к старому Тахе, всеми уважаемому толкователю Корана, в школу, где учился читать и записывать слова Пророка. Через пару недель профессор снял в Шарье эль-Бар дом, где Омару предоставили хотя и темную, и маленькую, но все же собственную комнату возле кухни. В кухне заправляла Нунда, высокая нубийка с широким лицом и грудями размером с дыни, которые она сознательно демонстрировала, нося белый халат с поясом. У Нунды был добрый характер, и ее смех целыми днями оглашал дом. Как и все нубийцы, она напрочь отказывалась называть людей по именам, что казалось ей чересчур банальным: профессора она величала «Достойным восхищения пророком», его супругу «Благоухающей тамариской», Омар же для нее был просто «Доктор». Тайну появления этого имени Нунда никому не поведала, но Омар чувствовал себя польщенным. Быть может, впервые в жизни он представлялся себе не маленьким и жалким, а значительным и уважаемым. Нубийка Нунда была также первой женщиной, возбудившей в Омаре сексуальные желания, привлекая агрессивностью своего тела. Нерешительно, но настойчиво, используя каждую возможность, он старался оказаться поближе к ней, и ему доставляло удовольствие незаметно касаться ее. Нунда была вдвое старше Омара, и она, конечно, заметила мучительное томление, испытываемое мальчиком в ее присутствии. Сначала ей доставляло удовольствие пользоваться своей властью, смущая его, ей льстило возбуждение Омара, и она всячески провоцировала его вызывающими движениями и прикосновениями, ожидая одного его слова. Но это прошло. Боже, Омару всего четырнадцать, ему нужна мать, а не любовница! Так что Нунда взяла инициативу на себя. Как-то во время купания Омара в деревянном корыте во дворе нагревавшая воду Нунда подошла с ведром серого мыла и молча начала намыливать мальчика. Омар весь вытянулся в ее сторону, Нунда же с нарочитой невозмутимостью продолжала мыть его, не обойдя вниманием и его напряженный половой член. Его лицо исказилось, от удовольствия он закатил глаза, устремив взгляд в полуденное небо, так что видны остались только белки глаз. В этот момент Омару захотелось, чтобы его тело покрывала толстым слоем клейкая масса грязи, чтобы Нунда умножила усилия и делала все, что угодно, но только не прекращала их. Ее груди, прикрытые белым халатом, висели над ним, как спелые фрукты, и когда она подняла кувшин, чтобы полить на Омара горячую воду, одна из них выпала из халата и оказалась перед лицом мальчика, обнаженная и беззащитная. Омар тихо застонал, как от боли, и протянул влажную руку к чему-то светлому находившемуся перед его глазами. Сморщенная вершина холма размером с ладонь. Нунда заметила беспомощность мальчика и засмеялась. Но это был совсем не тот смех, что он привык от нее слышать. Он был лишен кокетства, это был добрый смех, заключавший в себе тепло. — Доктор, — спокойно сказала Нунда, — зачем ты борешься со своими чувствами? Радуйся тому, что они у тебя есть! Тогда засмеялся и Омар, и начал гладить Нунду, сначала робко, затем все с большей страстью, при этом он вертелся, как рыба в водах Нила. Он погрузился в пенную воду, фыркая, вынырнул, схватил Нунду, попытался увлечь ее в воду; она сопротивлялась, ее халат разошелся, и теперь она стояла перед Омаром совершенно нагая. Одно мгновение Нунда раздумывала, затем переступила край корыта и села на мальчика верхом. Омар почувствовал, что он проник в нее. Он дотронулся до ее груди и с наслаждением ощутил, как тело нубийки напряглось и начало содрогаться. Движения Нунды становились все резче, она издавала гортанные звуки, а ее пальцы больно впились в его грудь. И хотя он только что испытал высочайшее наслаждение, в один момент это чувство превратилось в отвращение и возмущение, все в нем восстало, и он резким движением попытался освободиться. Но Нунда так сильно сжала его бедрами, что Омар, даже напрягая все свои силы, не смог ослабить ее хватку. В гневе мальчик приподнялся и укусил Нунду за грудь. Крик боли, — и она отпустила Омара, который теперь, освободившись, бил вокруг себя руками, как сумасшедший. Он ударил ее кулаком в лицо, так что из носа Нунды показалась струйка крови, покрыв влажное тело отвратительными пятнами, и взгляд на это нагое тело, только что доставлявшее ему удовольствие, заставил его содрогнуться. — Хурият! — крикнул Омар. — Хурият! — И вновь: «Хурият!» И он выплюнул мыльную воду, попавшую ему в рот и оставившую отвратительный привкус. Ни профессор Шелли, ни его жена, прежде замечавшая любую мелочь, не узнали о случившемся. Казалось, что отношения Нунды и Омара не изменились. Но с тех пор при встречах они вели себя сдержанно, никогда не обсуждая тот случай, и все же Омар теперь стал другим.
Поначалу профессор избегал привлекать Омара к своим расследованиям на том берегу Нила. Задача Шелли состояла в том, чтобы нанести на карту все имеющиеся следы, указания и обнаруженные тайники, а также отследить возможные места раскопок, которые мог бы осуществить Фонд Исследования Египта, — трудоемкое занятие, как выяснилось позднее: где бы он ни появлялся, профессор везде встречал лишь недоверие. Археологи всех господствующих на международной сцене государств были привлечены сообщениями об открытиях и слетелись сюда, как мухи на верблюжий помет. Большая же часть вины в том лежала на молодом англичанине по имени Вильям Карлайль, дальнем родственнике известного историка, околачивавшемся в Египте, после того как бросил обучение в Оксфорде. Никто точно не знал, чем этот полиглот зарабатывает на жизнь, а то, что он в деньгах не купается, было видно уже по его поношенной одежде, разительно отличавшей его от остальных англичан. Нет, то, о чем говорил Карлайль — что он в качестве специального корреспондента пишет статьи для «Таймс» и других европейских газет и живет на полученные за публикации деньги, безусловно, соответствовало действительности. Он колесил по стране между Александрией и Абу Зимбелом, неделями снимая комнаты в дешевых пансионах и общаясь с археологами и местными жителями, в постоянном поиске сенсаций. Карлайля видели беседующим как на верблюжьем рынке или базаре, так и в Долине Царей. Таким образом он добывал информацию, недоступную для остальных, и никто не мог сказать, случайно ли очередное появление журналиста или оно предвещает новое открытие. Впервые Омар встретился с Карлайлем в газетном киоске в холле «Зимнего дворца», где покупал «Таймс» для профессора. Карлайль заговорил с ним, как обычно, из любопытства, и поинтересовался, он ли читатель «Таймс». Мальчик объяснил, что он слуга профессора Шелли из Фонда Исследования Египта, — так завязался разговор, в течение которого журналист проявлял все больший интерес к юному египтянину. Омар удивлялся тому, что именно он стал объектом внимания англичанина, и рассказал тому больше, нежели обычно рассказывают незнакомцу. Они бродили вдоль Нила, и Омар рассказывал о своем таинственном исчезновении и его счастливом исходе, а также высказал предположение, что целью похищения по неизвестным никому причинам на самом деле мог быть профессор. Человек вроде Вильяма Карлайля не мог не почуять возможную сенсацию и на следующий день попросил профессора о встрече. Шелли говорил охотно, но более того, что уже знал, Карлайль от него не услышал. А Омар забыл упомянуть об одной мелочи — ожоге на его правой руке. Карлайль пообещал держать профессора в курсе, сам же решил заняться этой историей. Несколько дней, покупая «Таймс», Омар озирался в поисках журналиста, но Карлайль не возвращался. От продавца газет мальчик узнал, что тот остановился в отеле «Эдфу» недалеко от вокзала. Через две недели, в течение которых от журналиста не поступало никаких известий, Омар решил навестить его в отеле. Отель оказался продуваемым зданием с террасой, выходящей на улицу. Нити бисера служили дверями. Портье не было, на входе, в узком коридоре с выкрашенными в зеленый цвет стенами с отстающей штукатуркой, просто висел деревянный шкафчик с ключами от комнат. На крик Омара вышел сгорбленный старик, опирающийся на палку. При упоминании Карлайля он заволновался. Ya salaam, англичанин исчез неделю назад, кровать не пронуга, багаж на месте, недельная задолженность по оплате. Омар бросился домой и рассказал профессору о том, что только что узнал. Они вместе отправились в отель «Эдфу», и Шелли попросил показать ему комнату англичанина. Вознаграждение в размере суточной платы открыло ему комнату на первом этаже. Комната была не более чем три на три метра. Чтобы разглядеть хоть что-нибудь, Шелли открыл ставни, заменявшие стекла. Постель была застелена, занавеска, служившая шкафом, приоткрыта, за ней висела одежда. У окна стоял маленький квадратный стол, на нем — пачка чистой бумаги, подставка для перьев из слоновой кости, квитанция с телеграфа на шестьдесят пиастров от 20 ноября, книга В. М. Ф. Питри «Методы и цели археологии», внутренние листы из «Таймс» от 22 ноября 1911 года, темная фотография, изображавшая нескольких человек, а также остатки булочки с кунжутом, явно приглянувшейся мышам. Комната не производила впечатления ни покинутой в спешке, ни оставленной съемщиком без намерения вернуться. Что подтверждалось прежде всего конвертом с марками на пятнадцать фунтов, найденным Шелли во внутреннем кармане куртки. Профессор просмотрел газету: статьи о комете, об отмене рабства в Китае и смерти русского писателя Льва Толстого, однако ничего, хоть как-либо связанного с Карлайлем. Взяв же в руки фотографию, Шелли изумился: это был один из снимков Жильбера, которые он делал на вечерах Мустафы Ага Айата; в центре фотографии — профессор Шелли и Клэр, вокруг же прочие гости, явно в веселом расположении духа. Когда точно он в последний раз видел Карлайля, сгорбленный старик сказать не мог. На вопрос, сообщил ли он об исчезновении в полицию, старик пожал плечами. Не раз уже случалось, что гости проводили пару ночей вне отеля. Но сейчас, раз просрочена плата за целую неделю, он, видимо, обратится в Караколь. Профессор уверил хозяина отеля, что в том нет необходимости и он сам возьмет на себя этот труд, и вместе с Омаром покинул комнатку. Ибрагим эль-Навави приветствовал профессора, как старого знакомого, и умело пустил слезу по поводу чудесного спасения Омара. Исчезновение Карлайля не показалось помощнику мудира достойным занесения в папку, потому что, заметил он с иронией, если бы он заводил дела на всех людей, на пару дней покидающих Луксор, у него было бы слишком много работы. И лишь угроза поставить в известность британского консула Мустафу Ага Айата убедила эль-Навави провести расследование; он сообщит о результатах. Следующие несколько дней профессор Шелли провел, регистрируя и нанося на карту последние находки в Долине Царей; все они касались фараона Тутмоса Второго. При этом все его мысли были сосредоточены на исчезновении Карлайля и его комнате. Через три дня профессор навестил полицейское отделение, но, как и следовало ожидать, расследование не дало ни малейших результатов. Тогда Кристофер Шелли направился в отель «Эдфу», чтобы повторно, на этот раз внимательнее, исследовать комнату журналиста. Комната казалась нетронутой, по крайней мере на первый взгляд. Ничего нового Шелли не нашел, но кое-что сразу бросилось в глаза: на столе у окна все лежало на прежних местах, только одной вещи не хватало — фотографии. Сгорбленный старик с бородой Пророка клялся, что ничего не трогал в комнате, а фотографии даже не помнит. Дрожащими пальцами он нервно начал перебирать по столу, листать книгу, и из нее выпал листок. Шелли поднял его. На бумаге было написано всего одно слово, дважды подчеркнутое: ИМХОТЕП. Ничего больше. Следующий визит профессор нанес на Шарью эль-Исбиталью, где напротив французского госпиталя находились ателье и лаборатория Жака Жильбера, о чем и сообщалось крупными буквами на вывеске перед входом. Шелли выразил желание посмотреть фотографии с праздника британского консула, и Жильбер протянул ему пачку стеклянных пластинок, порекомендовав держать их против света и попросив сообщить ему о том, какие отпечатки необходимо сделать, на что понадобятся всего одни сутки. Профессор был уверен, что найдет снимок, пропавший из комнаты Карлайля, но после двукратного просмотра так его и не обнаружил. На утверждение, что профессор видел отсутствующий здесь снимок с праздника, на котором изображены он с супругой, дагерротипист возразил, что это абсолютно невозможно. Кроме него в Луксоре никто не занимается фотографией, и только ему разрешено фотографировать достопочтенных гостей консула; где же профессор видел ту фотографию? Однако эти сведения Шелли решил оставить при себе — в любом случае, ему показалось неуместным посвящать кого-либо в свои расследования.
На следующую ночь Омара разбудил стук в окно. Окно, непривычно высокое и узкое, было закрыто ставней с вентиляционным отверстием. Сколько он ни напрягал взгляд, ночь оставалась темной и непроглядной. Омар ничего не боялся: не долго думая, он отодвинул задвижку и открыл ставню. Мгновение царила тишина, слышно было лишь стрекотание цикад, затем вдалеке залаяла собака, и тогда из темноты появилась маленькая фигурка. Омар сразу узнал ее. Это была Халима, девочка из поезда. — Ты? — прошептал Омар. Приблизившись, Халима приложила палец к губам, проворно, как газель, взобралась к окну и просунула в него голову и плечи. Опершись на локти, она начала сдавленным голосом: — Прошу тебя, не задавай вопросов, просто слушай, что я говорю. Ты в опасности. Я не могу тебе ничего объяснить, но если тебе дорога жизнь, уходи от этих неверных, уходи куда-нибудь, где тебя никто не знает, туда, откуда ты пришел, и не рассказывай никому о том, что ты пережил. Омар молчал, он смотрел на девочку, хотя и не видел ее глаз. Он заметил, что она дрожит. Растроганно, но беспомощно он погладил ее по голове и, не надеясь услышать ответ, произнес: — Зачем ты это делаешь, Халима? Халима молчала. Неровное дыхание выдало ее: девочка плакала. Омар хотел обнять ее, но окошко было слишком узким. И пока он думал, как ее утешить, Халима сказала: «Удачи тебе» и исчезла в темноте. Омар не знал, что за ними наблюдали. Клэр была разбужена стуком девочки, и наблюдала за их встречей, скрывшись за занавеской своей спальни. Всю ночь Омар не мог уснуть, он не знал, что его больше взволновало: красота девочки или предчувствие опасности, вызванное ее словами: «Уходи куда-нибудь, где тебя никто не знает, туда, откуда ты пришел!» Ее нежный голос продолжал звенеть у него в ушах, как колокольчик, какими украшают верблюдов. Омар видел ее медленно движущиеся губы и ощущал ее близость. И от волнения и возбуждения он дал волю чувствам и расплакался, не в силах собраться с мыслями. В обязанности Омара входило накрыть утром стол, а когда господа выйдут, подать чай. В это утро Клэр дождалась, пока Омар войдет в салон, и обратилась к мужу: — Кристофер! Ты слышал, как кто-то ночью стучал в окно? — Нет, Клэр, наверное, тебе приснилось. — Но я слышала отчетливо, а когда подошла к окну, заметила тень в саду. — Ты ошиблась, дорогая. Я очень чутко сплю, но ничего не слышал. Обратившись к Омару, Клэр поинтересовалась: — Омар, а ты слышал что-нибудь странное этой ночью? Мальчик почувствовал, как краска залила его лицо, но сумел собраться и спокойно ответил: — Нет, мадам, я ничего не слышал. — И исчез на кухне. Он слышал, как господа перешептывались, но разобрать так ничего и не смог — на кухне было слишком шумно. — Кристофер! — снова начала Клэр. — Омар обманывает нас, он лжив, как все египтяне. — Как ты можешь утверждать такое? — У Омара ночью был гость. Точнее гостья. — Ты уверена? — Абсолютно. Я видела ее собственными глазами. Профессор посмотрел на жену: — Сегодня ночью? Боже, мальчик достиг возраста… — Он лжет! — Может быть, Клэр, но представь себя на его месте. Ты бы призналась в том, что, да, сегодня в моей постели была женщина? — Профессор громко засмеялся, и некоторое время они молчали. — Ты уверен, что Омар честен? — снова спросила Клэр. — Я имею в виду, кто может гарантировать, что его к нам не подослали? Мальчика никто кроме микассы не знал. Или я ошибаюсь? Шелли взял жену за руку: — Дорогая, до шпионства Омар еще не дорос. Думаю, если бы ко мне подослали шпиона, он был бы более опытным человеком, а не наивным мальчиком, как Омар. — Нет, тут явно обман, — рассудительно сказала Клэр. — Обман? Тогда его похищение — тоже обман? И обманом было то, что ему чуть череп не проломили, бросили в пруд, где его едва не сожрали черви, — все обман! Я понимаю твои опасения, Клэр, но тут ты слишком далеко зашла!
Визит девочки заставил Омара потерять спокойствие, но хотя он принял ее слова всерьез, не они выбили его из колеи, а встреча с ней. От Халимы исходило что-то, что притягивало Омара, нечто, заставлявшее забыть о предупреждениях. Нет, он не хотел возвращаться туда, откуда пришел. На что он будет жить в Гизе? Вновь срабатывать на жизнь, возя иностранцев на верблюдах? Омар попросил профессора разрешить сопровождать его при походах в Долину Царей, он мог бы помогать в составлении карт, и Шелли, не раздумывая, согласился. За просьбой Омара крылась тайная надежда увидеть на том берегу Нила Халиму. Мальчик оказался очень полезен профессору — он производил замеры, записывал отметки, которые Шелли наносил на карты, таскал измерительные приборы и потрепанный зонтик в первую очередь устанавливаемый в месте замеров. Каждое утро на пути в Долину Царей Омар проходил мимо эль-Курны, оглядываясь в поисках Халимы. И каждое утро видел одно и то же: одетые в черное женщины (те, что помоложе — с открытым лицом, кто постарше — закрытые полностью) несли на головах корзины или кувшины с водой на плечах, немытые дети цеплялись за их длинные одежды, собаки охотились на кур, копошащихся в песке. Не считая пары древних стариков, мужчин в деревне не было. «Спроси Юсуфа! Моего отца все знают!» — крикнула ему Халима на вокзале. И однажды — к профессору приехал кто-то из Лондона — Омару представилась возможность самостоятельно перебраться через Нил в эль-Курну. Перевозчик, к которому обратился мальчик, знал Юсуфа и объяснил, как найти его дом, находившийся возле мастерской шлифовальщика Азиза, тот же легко было узнать по огромным каменным колесам над входом. Перед домом горел факел, изнутри доносились стоны и молитвы. Омар раздумывал, постучать ли ему, но тут старуха с растрепанными седыми волосами возникла на пороге, ударила рукой себя в грудь и бросилась прочь, выкрикивая громкие слова молитвы. Сквозь распахнутую дверь Омар увидел людей, около двадцати мужчин и женщин, которые молились, качаясь, точно в трансе, как тростник на ветру. Никто не заметил, как он вошел, и Омар присоединил свой голос к их молитвам: «La illah il’allah…» Люди собрались вокруг ложа маленького лысого человека. Его глаза были прикрыты, он хватал воздух широко открытым ртом. Омар сразу узнал его, это был человек из поезда — Юсуф. Возле него на коленях стояла Халима. Ее волосы покрывал длинный черный платок. Она держала отца за руку и, молясь, вновь и вновь прижимала ее к своему лбу. Лоб мужчины был покрыт потом. Халима вытерла его платком, и взгляд ее упал на Омара. Ее лицо было бледно, глаза впали. Омар кивнул, по девочка не двинулась, она будто бы сквозь него смотрела. Как долго ждал он этой встречи, как много хотел сказать ей… Теперь же, в этой ситуации, даже взгляд ее был нем. Халима вновь обернулась к отцу. Уже стемнело, когда он покинул дом, думая о том, что тяжелобольной Юсуф не доживет до утра. Теперь и перед другими домами горели факелы. Они стояли в кувшинах или просто были воткнуты в песок Людей видно не было. Омар бегом вернулся к пристани. Перевозчик не проронил ни слова, мальчику тоже было не до разговоров.
Утром следующего дня город облетела новость: холера! По-видимому, эпидемия шла с дельты Нила. Начальник вокзала запретил пассажирам с севера сходить с поезда. Поезда закрытыми проходили дальше. Но, несмотря на принятые меры, холера пришла и в Луксор. Выглядевшие вполне здоровыми люди падали на улицах, как стебли тростника, а через несколько часов умирали с широко распахнутыми глазами и ртами. Добровольцы Красного Полумесяца, завернутые в одежды, возили через город высокие повозки с трупами, потому что гробов не хватало. Некоторых покойников силой приходилось уносить из домов против воли их близких, которые, нарушая предписания, не хотели расставаться с родными. Перед отелем «Зимний дворец» патрулировали никого не пропускавшие вооруженные стражники. Везде в небо поднимались клубы дыма, так как комнаты умерших, согласно распоряжению, необходимо было выжечь. Город был пропитан запахами карболки и серы. Когда на город опускалась ночь, перед каждым домом, отмеченным холерой, зажигали факел, чтобы прохожие обходили его стороной. И даже по ночам продолжали свою работу сборщики трупов, их тележки громко стучали по мостовым опустевших улиц. Наставало время крыс. Сотнями они лезли из каналов, самые толстые — размером с кошку, они наполняли сточные канавы, и многие из них уже не боялись даже извести, использовавшейся для дезинфекции. Там, где подыхал один хищник, устраивали себе пиршество остальные, разрывая его на части. И ни удары палок, ни крики не могли их прогнать. Перед домом профессора Шелли еще не было факела, но в нем царил страх, и когда Клэр пожаловалась на судороги в мышцах икр, сухость в горле и хрипоту, Нунда от страха громко запела, а Омар побежал со всех ног к доктору Мансуру. Врач пришел с тяжелой сумкой и осмотрел Клэр. Шелли вопросительно посмотрел на Мансура. Тот кивнул. В ту ночь Омар зажег факел в кувшине перед домом. Его путала темнота дома, и всю ночь он просидел на улице. Страх убивает усталость. Омар совсем не хотел спать, более всего он был занят тем, что проверял состояние своих икр и звучание голоса, потому что не видел причины, по которой бы холера обошла именно его. Состояние Клэр заметно ухудшалось: ее бил озноб, она дрожала и металась. Врач прописал успокаивающее и прочие горькие напитки и сказал, что, если она переживет следующий день, у нее появится шанс. Шелли решил сообщить жене о ее состоянии, чтобы у нее был стимул бороться. Так Омар стал свидетелем смертельной схватки за жизнь. Он видел борьбу женщины, которая, как ему казалось, бьется со смертью, пытаясь отстоять свое право на жизнь. Клэр стонала, кричала, била руками вокруг себя, как будто отгоняя невидимого противника. Она глотала лекарства, ее тошнило, и она снова пила то, что посоветовал врач. Шелли держал ее за руку. Около полуночи Клэр вдруг издала короткий крик, затем второй, как будто освободилась от объятий врага, затем успокоилась. И лишь ее дыхание оставалось громким и тяжелым. Казалось настоящим чудом то, что Клэр выжила и не заразила никого в доме. Омара же волновало лишь одно: миновала ли холера Халиму? Что с ней случилось? Мудир запретил покидать город. Полиция днем и ночью патрулировала улицы. Пересечь Нил можно было, только предъявив письменное разрешение мамура, а его получали лишь врачи, их помощники из Красного Полумесяца и могильщики. Что оставалось делать Омару? Его мучила мысль о предстоявших неделях неизвестности. Он был не в состоянии есть, и чем дольше это продолжалось, тем яснее ему было, что он просто не доживет до конца. Так что он решил любым способом, но перебраться на противоположный берег Нила. На следующий день Омар сообщил профессору, что хочет стать добровольцем и помогать врачам. Об истинной причине он, конечно, промолчал. Реакция Шелли была неоднозначна: он предупредил мальчика о возможных страшных последствиях, но и не смог сдержать восхищения. Таким образом, Омар получил разрешение, белую повязку на руку и защитную на лицо, а также возможность свободно передвигаться. Надежда увидеть Халиму заставила Омара забыть обо всех ужасах, увиденных им на протяжении следующих дней: корчащихся от боли людей, членов семей покойников, у которых силой отнимали трупы, детей с посиневшими тельцами. Трупы укладывали на доски и в тележки и отвозили на холерные кладбища, окружавшие город. Омар старался думать во время работа о Халиме, вспоминать ее лицо в его окне, но каждый раз он видел только страдание, которое он вез перед собой в тележке. На третий день Омар попросил отпустить его, сказав, что почувствовал слабость, что было не так уж далеко от истины, и побежал к берегу Нила, где полученное разрешение помогло ему преодолеть все посты. Перевозчик отвез его на тот берег. Омар пошел к эль-Курне. Перед домом Юсуфа он на мгновение остановился, но дверь сама открылась. — Халима! — вскрикнул Омар удивленно. За последние дни накопилось столько всего, что он хотел поведать ей, теперь же, когда она внезапно появилась перед ним, Омар лишь повторял: «Халима!» Девочка вышла из дома, подошла к нему, и внезапно оба бросились друг другу в объятия. Они плакали и вытирали друг другу слезы, затем Халима повела его в дом. Омар сразу узнал место, где недавно находилось ложе Юсуфа. — Он мертв? — робко спросил мальчик. Халима молча кивнула, глубоко вздохнула и ответила: — За два дня я стала сиротой. — Твоя мать тоже умерла? — Никогда бы не подумала, что это может случиться так быстро. — У тебя есть братья или сестры? — Халима покачала головой. — Что ты собираешься делать? — Аллах укажет мне дорогу. Омар прошелся по скромной комнате. — Он был такой сильный, — продолжала девочка, — такой упорный. Он сам не знал, сколько ему лет на самом деле. Я думала, он проживет еще лет пятьдесят. — Ты его очень любила? — Я любила его и ненавидела. Я даже очень ненавидела его, но теперь, когда он умер, я забыла о ненависти. Омар посмотрел на Халиму. Он просто наслаждался присутствием девочки, он слушал ее речи, не понимая их. — Он был загадочным человеком; он был моим отцом, но, честно говоря, я совсем не знала его. Он был своенравен, и многое из того, что он делал, казалось мне странным. Даже во время смерти. — Что ты имеешь в виду, Халима? — Когда я заметила, что он близок к смерти, я взяла его за руку. Он был спокоен, но глаза его сверкали, когда он посмотрел на меня. А потом он кое-что сказал. Сначала я подумала, он назвал меня по имени, но он повторял и повторял это слово, и я поняла его: Имхотеп. — Имхотеп? Что это означает? — Я же говорю, Юсуф был загадочным человеком. — Может быть, это связано с твоим предостережением? — Нет, — быстро ответила Халима. — Но предупреждение все еще в силе? Халима молчала, и Омар прижал к себе девочку. Она отвернулась и, не глядя на него, сказала: — Я боюсь за тебя, Омар, но не могу сказать, почему. Ты должен уехать, понимаешь. Даже если будет больно. — Таха научил меня письму и чтению Корана, — ответил Омар. — В третьей суре сказано: «Ни один человек не умрет, не будь на то воля Аллаха», как написано в книге, определяющей сроки всех вещей. Так зачем бежать? Если на то воля Аллаха, чтобы окончилась моя жизнь, так не раз уже он мог исполнить ее. И если суждено мне умереть, воля Аллаха настигнет меня как на вершине Гебель эль-Шайиб, так и в глубинах Катары. На все настойчивые вопросы о том, кто же скрывается за угрозами, Халима так ничего и не сказала, и Омар решил вернуться домой. Он поцеловал Халиму в лоб и сказал, что вернется — завтра или через день. Быстро и внезапно, как появилась, холера оставила город в течение ночи. Факелы постепенно гасили, выжившие начинали радоваться, казалось, все вернулось на крути своя. Плач одетых в черное женщин смешивался с радостными песнями молодежи, восхвалявшими Аллаха Всемогущего. Улицы и площади вновь наполнились народом, люди высыпали из домов, как термиты после грозы, и приветствовали друг друга. Люди раздевались прямо на улице и нагие танцевали перед кострами, в которых сжигали свою одежду. Так близок был путь из ада в рай. Добровольцев, из которых выжил лишь каждый третий, чествовали как героев, среди них и Омара, которого мучила совесть при выслушивании похвал. Но что ему было делать? Не мог же он прилюдно сознаться, что не самопожертвование, а любовь к девушке толкнула его на это. Омар предпочел промолчать. Это было молчание, с которым Омару доведется встречаться не раз, оно несравнимо с высказанной ложью, но в памяти остается куда дольше. По этой причине, а также потому, что профессора это тоже касалось, Омар решил рассказать ему о девочке, ее предостережении и последнем слове, произнесенном Юсуфом. Это нелегко далось ему. Шелли беспомощно смотрел на Омара. — Имхотеп, говоришь? Имхотеп? — Да, Имхотеп, о Саид. Что это может означать? — Хотелось бы мне самому знать! — Но вы удивлены, о Саид. — Да, удивлен. Быть может, это совпадение, но пока ты рассказывал, я вспомнил о книге на столе Карлайля. — Английская книга, если я правильно помню. — Именно так Когда я листал книгу, на пол выпал листок, на котором стояло одно слово, одно имя: Имхотеп! — Кто такой Имхотеп, о Саид? — Имхотеп был врачом, архитектором, священнослужителем и мудрецом. Он жил две с половиной тысячи лет назад при фараоне Джосере и считается изобретателем пирамид. Ему приписывается также древнее египетское учение. В качестве врача он совершал настоящие чудеса, поэтому жители Мемфиса и Луксора называли его богом врачевания. Статуи изображают его лысым стариком, читающим свиток папируса. Для своего владыки Джосера Имхотеп воздвиг подобающую усыпальницу — ступенчатую пирамиду в Саккаре. Говорят, это древнейшая постройка в мире. Вокруг нее археологи обнаружили множество обломков с его именем, так что существует предположение, что и он нашел свое последнее пристанище в этих местах. Другими словами — усыпальница бога! Размышления исследователей свелись к следующему: если древние египтяне так роскошно хоронили своих царей, как же они должны были проводить в последний путь бога?!. Омар увлеченно слушал, но никак не мог соотнести рассказ профессора с Юсуфом и Карлайлем. Хотя все это, конечно, казалось странным. — Что знает девочка? — вдруг спросил профессор. Омар испугался резкого тона и попытался успокоить Шелли: — О, Саид, Халима — хороший человек, она ни за что не совершит зла, Inscha’allah. — Ну, да, — неохотно ответил профессор, — она предупредила тебя, значит, что-то знает. В любом случае, она знает больше, чем говорит. — Вы правы, о Саид. — …и об этом мы сообщим полиции. — Никакой полиции, никакой полиции, — вскинул голову Омар, — Халима — хорошая девочка. — Но это же в твоих интересах! — возразил профессор. Омар выпрямился, как будто физически хотел придать вес своим словам, и уверенно ответил: — О Саид, дайте мне пару дней, лишь пару дней, и я заставлю Халиму все рассказать. Прошу вас! Профессор вначале был против, предпочитая обратиться в полицию, чтобы та оказала давление на девочку, но затем сдался. Кто мог гарантировать, что Халима скажет полиции правду? Профессор согласился. Если и существует человек, которому девочка во всем признается, так это Омар, подумал он.
На следующий день рано утром Омар направился в эль-Курну. Как и обычно, в месяцы дулькада и дульхедша над полями стелился молочно-белый туман. Пахло влажным песком, и невидимые вороны и коршуны исполняли утреннюю песню. Шлифовальщик уже приступил к работе, и повсюду разносился скрежет металла о камень. Перед домом Халимы сидел пожилой мужчина. Он вырезал узоры на своем посохе и не оторвался от работы, даже когда Омар подошел и поздоровался. Омар сказал, что пришел к Халиме. — К Халиме? — Старик посмотрел на него, изучил мальчика сквозь сощуренные веки и вновь принялся за работу, мимоходом заметив: — Халима уехала. — Уехала? Куда? Старик пожал плечами: — Уехала. Теперь я здесь живу. — Но дом… Он ведь принадлежит… — Мустафе Ага Айату, — продолжил за него мужчина, — и он мне его сдал. — И куда ушла Халима? — настойчиво расспрашивал мальчик. — Как тебя зовут? — спросил старик. — Омар Мусса. Не глядя на него, старик поднялся, вошел в дом и вернулся с письмом, которое молча протянул Омару. Омар прочитал следующее:
Когда Омар оторвался от письма, старик уже исчез. Солнце пробивалось сквозь утреннюю дымку. С берега доносились крики перевозчиков. Кричал осел, а но улице брели козы. Омар отправился в обратный путь. На окраине эль-Курны, там, где пыльная тропинка раздваивается и уходит налево, в Дейр эль-Бахари, и направо, в Долину Царей, все еще был слышен шум из дома шлифовальщика. Омар остановился. Где он мог слышать этот звук? Он прошел дальше и вновь остановился. Ну, конечно: он слышал этот звук, находясь в гробнице, где его держали похитители. Омар огляделся. На западе постепенно светлели скалы, а на востоке храм Луксора показался из дымки. Какой секрет скрывает этот пейзаж? Где же найти ключ ко всем необычным событиям, свидетелем которых он стал?«Дорогой мой,
мужчина, который передаст тебе это письмо, знаком с его содержанием, так как он написал его с моих слов, слово за словом. Я знала,что ты придешь и не последуешь моим советам. Ты упрямый. Но смотри не возгордись. Аллах любит лишь тех, кто выказывает покорность. Если ты послушен воле Аллаха, то оставь место, принесшее тебе столько бед. Зло еще витает над ним в ожидании. Ты больше не увидишь меня. Не спрашивай почему. Есть вещи, о которых знать не нужно. Мое сердце болит, и моя душа плачет при мысли о том, что я вынуждена навсегда проститься с тобой, но так будет лучше. Люби меня в своих мыслях, как это делаю я. Во имя Аллаха,Халима».
3 Берлин, Унтер ден Линден
«Поистине, Аллах сведущ в скрытом на небесах и на земле; Он ведь знает про то, что и груди! Он — тот, кто сделал вас наместниками на земле; кто был неверным — против него его неверие; неверие увеличит для неверных у их Господа только ненависть; неверие увеличит для неверных только убыток!»Весна в Берлине. Из отеля «Бристоль» вышла изящно одетая женщина. Ее короткие иссиня-черные волосы были почти полностью скрыты широкополой шляпой с перьями. Опираясь на светлый, украшенный кружевами зонт, как на трость, она направилась к одному из стоящих напротив отеля автомобилей. Шофер распахнул перед ней дверцу и подал руку. — В «Адмиралспаласт!» — бесстрастно произнесла женщина, и по ее акценту стало ясно, что немкой она не была. — «Адмиралспаласт», Фридрихштрассе. — Шофер поднес руку к кепке и тотчас принялся крутить ручку, находившуюся спереди автомобиля. Он резко дернул ручку вверх, и автомобиль завелся. Автомобилям, бывшим в городе нововведением, было запрещено развивать скорость больше, чем двадцать пять километров в час, так что дама имела возможность рассмотреть улицы, по которым проезжала, бульвары с цветочными клумбами и фонтаны, дома с лепными фасадами, высокие стеклянные порталы дверей из черного кованого железа и подоконные парапеты, медные или позолоченные. Привычные места променада высокого общества постепенно перемещались все западнее: с Унтер ден Линден к Курфюрстендаму, на Тауенциенштрассе и району между Ноллендорфплатц и Виктория-Луизе-платц, где за несколько лет как из-под земли выросли многочисленные кафе с живой музыкой, бары и квартиры с телефоном для так называемых актрис. Улицы пестрели вывесками, обещающими всевозможные развлечения, рекламой средств для стирки и плакатами с предупреждением президента: «Объявление. Утверждено право улицы. Улица принадлежит транспорту. Сопротивление закону будет подавлено с помощью оружия. Я предупреждаю любопытных». Слова плаката прежде всего относились к левым демонстрантам, а слова «Я предупреждаю любопытных» быстро стали поговоркой. У английского посольства автомобиль повернул направо, на улицу Унтер ден Линден. Было начало мая, и деревья были одеты в светло-зеленую листву, а шофер пользовался отсутствием движения на улице, чтобы рассмотреть свою пассажирку в зеркало заднего вида. Женщина без сопровождения, около пяти часов вечера, в «Адмиралспаласт»? Да, дело тут нечисто. Этот дом развлечений пользовался не лучшей репутацией. В это время суток там полно было девочек с Тауенциенштрассе, которые днем позволяли угостить себя мороженым, вечером же, вызывающе накрасившись, требовали дорогих коктейлей. Сложно сказать: для «одной из них» она была одета чуть более со вкусом и чуть более ухожена, но на «добропорядочную» женщину она тоже не походила — быть может, несколько легкомысленна. Автомобиль остановился перед «Адмиралспаластом». Над входом, выполненным в помпейско-византийском стиле и больше походившим на ворота дворца, красовалась надпись в человеческий рост: красные буквы рекламы пантомимы «Ивонна». Швейцары в ливреях распахнули двери: посреди колонн и мозаик, красного плюша и высоких пальм — оркестр, повсюду радостная атмосфера кафе-салона, господа в визитках и дамы в блестящих платьях. Музыка играла мелодию «Однажды в Шенеберге в мае». Иностранка нашла свободный столик, опустилась в плюшевое кресло возле оркестра и погрузилась в исследование содержимого своей сумочки. Наконец она достала мундштук, вставила в него сигарету и подождала, пока один из пожилых господ не заметил ее затруднения и предложил огня. Смущенно покашливая, он попытался завязать разговор, но женщина сделала вид, что не понимает его. Она отвечала по-английски, тот же, не будучи наделен лингвистическим даром, вежливо попрощался. — Здравствуете, леди Доусон! Дама подняла глаза и взглянула в лицо молодого, однако несколько обрюзгшего мужчины. На нем был костюм с воротником-стойкой, но сразу было видно, что сидит он недостаточно хорошо, да и чувствует себя в нем вновь подошедший неуютно. — Я сразу узнал вас по описанию, — произнес он на ломаном английском, — позволите? — Так значит, вы — господин Келлерманн, — констатировала дама. — Вы знаете, о чем идет речь? Келлерманн заерзал в кресле: — Ну, сказать «знаю» значило бы преувеличить. Но вы, конечно же, поясните, чего от меня ждете, леди Доусон. Женщина достала из сумочки конверт. Затем подозрительно осмотрелась по сторонам, будто желая убедиться, что за ними не наблюдают, вынула из конверта бумагу и развернула ее перед Келлерманном. На рисунке был изображен разрез длинного здания. — Это, — леди Доусон показала мундштуком на план, — вход, это холл, слева лестница ведет в нужный сектор на первом этаже. Здесь стоят охранники, обычно это пожилые люди в форме. О них главное не забыть на обратном пуги. Вход в выставочный зал находится напротив окна, то есть вне зоны видения охранников. Вы будете использовать динамит. — Леди Доусон усмехнулась. Келлерманн изучил план, прищурившись: — Пока все ясно, леди. И где же искать этот чертов камень? Англичанка указала на крест на плане: — Здесь. В помещении находятся три витрины. В дальней от входа — три экспоната — известковая голова в натуральную величину, маленькая статуя сидящего писателя, а рядом с ней — черный камень, который мне и нужен. Это сломанная плитка, собственно, часть каменной плиты шириной с ладонь и высотой в локоть с нанесенными на нее письменами. — И он нужен вам? — Да, только этот экспонат. Келлерманн вновь рассмотрел план и с подчеркнутым дружелюбием спросил: — Я все сделаю, леди, и во сколько вы оцениваете мою работу? — В конверте половина, вторая часть оплаты — по получении товара. — Леди Доусон сложила план и отодвинула его вместе с конвертом на противоположную сторону стола. Бросив взгляд на конверт и довольно внимательно, без всякого стеснения, оглядев леди Доусон, Келлерманн сказал: — Думаю, я могу предложить вам коктейль, леди. — И, не дожидаясь ответа, щелкнул пальцами, подзывая официанта во фраке с противоположной стороны кафе. Леди Доусон молчала, занятая осмотром окружающей обстановки. — Это, конечно, меня не касается, леди, — Келлерманн с трудом попытался завести разговор, — но неужели вы готовы отдать столько денег за этот старый разбитый камень? — Совершенно верно. — Что верно? — Совершенно верно, что это вас не касается, Herr Kellermann! — Она использовала немецкое слово вместо английского «господин», и в ее тоне явно послышалась ирония, будто она хотела посмеяться над собеседником. Казалось, Келлерманн этого не заметил, но от темы не отошел: — Меня ничто не касается, но если в камне золотая жила… Ну, я имею в виду, я могу исчезнуть со столь ценной вещью. — Для вас эта вещь не имеет никакой ценности, даже абсолютно бесполезна, — засмеялась леди Доусон. — И если вы хотите получить полную сумму оплаты, пожалуйста, сделайте все быстро и без накладок! — Леди поднялась, сердито выпустила дым сигареты и со словами «Надеюсь на скорые известия» повернулась и исчезла в толпе.Коран, 35 сура (36, 37)
Спустя три дня, 6 мая 1912 года, леди Доусон получила на свое имя в отеле депешу следующего содержания:
«Задание выполнено. Встреча в казино „Пикадилли“ в восемь вечера. — К».На Лейпцигерштрассе продавцы газет выкрикивали заголовки свежих газет: «Перед судом за кражу и тройное убийство» — «Бургомистр угрожает отставкой» — «Прибытие императора в Геную» — «Ограбление в музее в Лустгартене». Лустгартен? Старый музей находится в Лустгартене! На Потсдамер-платц леди Доусон приказала остановить автомобиль, чтобы купить берлинскую ежедневную газету новостей «Берлинер Тагесблат». Она торопливо пробежала сообщение «Ограбление в музее в Лустгартене»:
«Вчера неизвестные похитили из музея в Лустгартене египетские древности на огромную сумму. Среди них — статуи и бюсты времен Древнего Египта, обнаруженные при раскопках в одной из ранних экспедиций профессорами Германом Ранке и Людвигом Борхартом. Неизвестные, не оставившие никаких улик, проникли в здание музея ночью через окно. Они могли похвастаться не только детальным знакомством с планировкой, но и поразительным знанием дела, так как похищены только наиболее ценные экспонаты. Полиция объявила розыск».Леди Доусон скомкала газету и крикнула: — Шофер, в казино «Пикадилли», Бюлоштрассе, и побыстрее! Внешне казино, оформленное колоннами и выдержанное в белых тонах, производило подчеркнуто официальное впечатление. Возле латунной кнопки звонка на входе висела полированная табличка «Союз общительности», что явно не подразумевало появления женщин без сопровождения. Портье, нарочито аккуратно одетая дама в возрасте за пятьдесят с короткой стрижкой, открыла только после того, как было названо имя Келлерманна, и коротко сказала: «Последняя дверь справа!» Холл был также оформлен в белом: высокая белая изразцовая печь, белая стойка бара, белое пианино и плетеная мебель — также белая. Подчеркнуто красивые юноши курили вокруг со скучающими лицами, большинство из них, быть может, слишком красивы и слишком полны. Далее, отделенный лишь парчовым занавесом, находился розовый зал, где ожидали дамы, отсюда же вел коридор в ряд отдельных комнат. Последняя дверь направо, леди постучала. Келлерманн распахнул дверь, но прежде, чем он успел открыть рот, леди Доусон обрушила на него поток слов: — Келлерманн, вы с ума сошли! Мне нужен был только камень, об исчезновении которого никто бы и слова не сказал. А теперь это! — И она ударила рукой по газете. — Пст… — мужчина поднес палец к губам. — У стен есть уши. — Затем он усадил леди в громоздкое кресло и спокойно сказал: — Леди, вам нужен был камень, и я достал его. Не понимаю, из-за чего вы волнуетесь. — Почему я волнуюсь? Потому что за вами охотится полиция, Келлерманн! И скоро они начнут искать меня! — Но я не оставил улик. Ни одной. — Да что вы говорите! Это лишь вопрос времени. Вы вообще подумали о том, что будете делать с вашей добычей? Вы что думаете, на этот товар найдется покупатель? — Конечно. Вы! — Келлерманн опустился в кресло напротив и с готовностью кивнул. — Я? — Леди Доусон издала такой вопль, что Келлерманн испугался. Затем она вызывающе громко засмеялась. — Ну так вам придется поскорее выбросить из головы эту идею, Herr! Тот же, злобно улыбаясь, подошел к леди со словами: «Или все, или ничего». — Вы хотите меня шантажировать? Хорошо. Сколько? — Я думал о пяти тысячах. — Вы с ума сошли, Келлерманн! Пять тысяч! — Пять тысяч и ни маркой меньше. Вы можете подумать над моим предложением. Быть может, найдутся другие желающие. Вот мой адрес. Сообщите мне о своем решении. Леди Доусон поднялась. Ее глаза гневно сверкали, когда она брала у Келлерманна протянутую им визитную карточку, затем вышла. Ограбление музея не долго волновало умы берлинцев. Вскоре заговорили о других событиях, например, о гибели «Титаника», унесшей три недели назад жизни полутора тысяч людей. Однако затем, 11 мая, дело приняло неожиданный поворот. В «Берлинской Газете» в тот день появилась заметка: «Ограбление в музее раскрыто — грабитель совершил самоубийство. Берлин — Вчера вечером полиция была вызвана в пансион на Якобсштрассе. В сдаваемой комнате на первом этаже было найдено тело жившего на случайный заработок Герберта К. Он застрелился из пистолета. Во время обыска в его комнате полиция обнаружила похищенные на прошлой неделе из музея в Лустгартене египетские экспонаты. Все они, за исключением одного не имеющего ценности камня, возвращены на место их экспозиции. Вероятно, грабитель без определенного места жительства не подумал о том, что предметы искусства такого уровня невозможно сбыть на черном рынке, и в отчаянии покончил жизнь самоубийством».
Пансион на Кенигсграбен напротив супермаркета «Титц» находился в состоянии упадка. Даже в комнатах четвертого этажа, выходивших на другую сторону, в которых проживали двое египтян, по ночам был слышен шум с вокзала на Александер-платц. Эти двое господ ничем не выделялись и не привлекали к себе внимания, ведь в пансионе останавливались преимущественно иностранцы, в основном приезжавшие в командировки предприниматели из южной Европы. Эти двое заперлись в комнате номер 43, темном помещении с круглым столом в углу. Вокруг него в несколько потертых креслах и сидели мужчины, глядя на нечто черное, лежавшее на столе — не шире ладони и не длиннее руки до локтя. — Если хочешь найти мед, следуй за пчелами, — произнес Мустафа Ага Айат и повел глазами. — Но неужели обязательно нужно было застрелить его? — с сомнением возразил Ибрагим эль-Навави. — Он давил на нас, — тихо ответил Мустафа, — а с шантажистами у нас разговор короткий. Я просмотрел все газеты, ни малейшего подозрения — самоубийство признано единогласно. Да здравствует Египет! — Да здравствует Египет! — беззвучно повторил эль-Навави и добавил, помолчав: — И наше славное прошлое. Тем временем Айат достал сверток и развернул его на столе. На листе бумаги вырисовывались очертания чего-то похожего на кусок овечьей шерсти. Ага положил на бумагу черный камень и попытался совместить края, как в головоломке. Это ему удалось без особых трудов, и Айат торжествующе воскликнул: — Подходит! Без сомнения, подходит! — Ты уверен? — спросил эль-Навави скептически. — Вот, посмотри! — Ага подвинул к нему бумагу с лежавшим на ней камнем и показал на линию разлома. Она была неровной, но точно совпадала с границей рисунка. — Подходит, как борода Пророку. — Надеюсь, ты прав, — сказал эль-Навави, с интересом посмотрел на бумагу, затем откинулся в кресле. — Очень хотелось бы, чтобы этот проклятый камень привел нас к цели. — К цели? — Мустафа Ага Айат закурил сигарету. — Мы должны быть рады, если эта находка продвинет нас хоть на шаг дальше. О цели пока что речь не идет. — Ты понимаешь знаки на камне, я имею в виду — ты можешь установить, стоит ли игра свеч? — Конечно, нет! — сердито ответил Айат. — Если бы мог, не занимался бы проставлением штампов в паспорта иностранцев. Единственное, что я знаю, это то, что надпись на камне демотическая, то есть еще более древняя, чем коптское письмо, и что камень был найден в Рашиде, в западной дельте Нила. — Как же он оказался в Берлине? — Inscha’allah. Это долгая история. Ее корни уходят во времена Наполеона. Когда более сотни лет назад он прибыл в Египет, по приказанию императора в Рашиде был построен форт. Во время строительных работ французы обнаружили каменную плиту из черного базальта размером с колесо телеги. И на этой плите была надпись, сделанная священнослужителями из Мемфиса. Надпись не содержала значительных сведений, замечательным было то, что сделана она была в трех вариантах: иероглифами, демотическим письмом и на греческом языке. С помощью того камня двадцать лет спустя стало возможным прочесть иероглифы. — И какое отношение имеет это все к нашему камню? — Не торопись! На том месте, где более ста лет назад был найден камень с трехъязычной надписью, с тех пор археологи Франции, Италии, Англии и, наконец, Германии проводили бесконечные раскопки в надежде обнаружить сокрытые сокровища — золото, драгоценные камни, скульптуры. Надежда — это канат, на котором танцует множество дураков. — То есть они ничего не нашли? — Ничего, кроме пары фрагментов надписей, которые передали ученым в качестве сувенира. Судя по камням, они, как и камень из Рашида, являлись частями посланий священнослужителей Мемфиса. Их существуют сотни, и никто бы не подумал, что однажды они приобретут такое значение. Продолжение рассказа ты уже слышал. — Ты имеешь в виду то, что рассказал о Кемале? — Да. — И этот Кемаль действительно пасет коз? — Он уже семь лет пасет своих животных в этой местности. Однажды при попытке воткнуть посох в землю он наткнулся на нечто твердое. Он разгреб землю и обнаружил небольшую черную каменную плиту, три из четырех краев которой отсутствовали. Кемаль пришел ко мне, чтобы продать фрагмент. Я высмеял его, сказав, что лучше бы он использовал камень, мостя дорожку перед домом, — такую вещь никто не купит. Но он заплакал, и я дал ему десять пиастров, скорее из жалости. С тех пор камень лежал у меня в кабинете на подоконнике. И продолжал бы лежать и по сей день, если бы однажды Карлайль, этот проныра, не спросил о значках на его поверхности. Я рассказал ему историю о Кемале и десяти пиастрах, мы вместе посмеялись, и англичанин попросил дать ему на время камень, он хотел его кому-то показать. Я не имел ничего против. Через несколько дней он возвратился и взволнованно начал расспрашивать о Кемале и точном месте, где был найден камень. Он хотел искать отсутствовавшие части. Я спросил, не хочет ли Карлайль посвятить меня в свою тайну, но тот начал увиливать, хотел одурачить меня. Но он просчитался. Я забрал у него камень и отдал на перевод знакомому в Каире. Вот что тот прочел. Мустафа достал из кармана лист бумаги и расправил его на столе:
 — Все золото, — повторил помощник мудира. — Именно то, что нужно.
— И я найду его. — Мустафа ударил себя в грудь кулаком. Затем он снова завернул камень в коричневую бумагу и проворчал что-то о неверных христианских псах и о гордости сыновей Египта и, заперев камень в чемодан и убрав тот в шкаф, сказал: — Теперь очередь Нагиба эк-Касара.
— Можно ли вообще доверять этому эк-Касару? — осторожно осведомился эль-Навави.
— Я за него готов руку на отсечение дать, — ответил Айат. — Он давно является соратником Заглула и таким же старым приверженцем нашей идеи, как и тот. Что бы мы без него делали? Он единственный, кто изучал историю культуры нашей страны и может помочь нам. Большинство экспертов — безбожники-иностранцы, они заинтересованы лишь в том, чтобы побольше сокровищ вывезти из страны. Они забрали у нас все: наших богов, наши обелиски, даже мозаики, по которым ступали наши предки. Однажды они увезут с собой пирамиды и вновь соберут их в Лондоне, Париже и Берлине.
Эль-Навави поддерживал Айата, энергично кивая.
— Для европейцев мы всего лишь необразованные погонщики верблюдов, пастухи, торговцы и чистильщики обуви, люди третьего, да что там — четвертого класса, не умеющие сохранить наследие собственных предков. Все европейцы, уже лет сто приезжающие в Египет, считают, что поняли восточный характер. И что еще хуже — в это верят и многие из нас. Мы теряем лучшие черты мусульман и приобретаем худшие качества европейцев. И в этом ничего не изменится и при лорде Киченере. Он есть и останется христианским псом, колонизатором, даже если еще чаще станет повторять «Я один из вас!» Он был и останется британцем, а все британцы — враги. Ты вообще меня слушаешь?
Мустафа Ага Айат действительно не слушал эль-Навави, опустившись на постель и глядя в потолок Но не из невежливости или безразличия. Все, что говорил в тот момент помощник мудира, уже не раз звучало на собраниях националистов и было всеми признано истиной.
— Я сейчас думаю о том, — сказал Мустафа, не отводя взгляда от потолка, украшенного по краям лепниной, — я думаю о том, где же слабое звено. Я имею в виду то, что леди Доусон искала не какой-нибудь черный камень. Она искала тот же обломок, что и мы, и он может стать ключом к великому открытию. Я спрашиваю тебя, Ибрагим, откуда леди известно о камнях?
— Правильный вопрос, — ответил эль-Навави. — Она, видимо, не только прекрасно информирована, у нее должны быть связи с археологами, и не только с английскими!
— Что мы знаем об этой женщине?
— Она англичанка и не обязана быть прописана. Кроме того, как ты знаешь, она живет на корабле и, соответственно, не подпадает вообще ни под какие египетские законы и предписания. Собственно, ты бы должен был знать о ней больше, чем я.
Ага что-то неохотно пробормотал, давая понять, что и он знает не многим больше, чем слышал от самой леди Доусон, а соответствуют ли ее слова истине, неизвестно. На праздниках, на которые ее приглашали, она производила прекрасное впечатление; но, как добавил Айат, быть может, ее красота ослепляла, а под маской красоты скрывался дьявол.
Пока Мустафа говорил, его взгляд постепенно менялся. Прямые морщины, придававшие его лицу властное выражение, исчезли, а брови, обычно скрывавшие глубоко посаженные глаза, распрямились.
— Позволь спросить тебя, что ты имеешь в виду, — осведомился эль-Навави, прекрасно заметивший перемену.
Мустафа принялся жевать нечто несуществующее, а эта привычка всегда выдавала его смущение.
— Думаю, леди — прекрасная сказочница, превосходящая в этом умении всех наших торговцев на базарах. В любом случае ее история о супруге, умершем во время медового месяца, никогда не вызывала моего доверия.
— Все золото, — повторил помощник мудира. — Именно то, что нужно.
— И я найду его. — Мустафа ударил себя в грудь кулаком. Затем он снова завернул камень в коричневую бумагу и проворчал что-то о неверных христианских псах и о гордости сыновей Египта и, заперев камень в чемодан и убрав тот в шкаф, сказал: — Теперь очередь Нагиба эк-Касара.
— Можно ли вообще доверять этому эк-Касару? — осторожно осведомился эль-Навави.
— Я за него готов руку на отсечение дать, — ответил Айат. — Он давно является соратником Заглула и таким же старым приверженцем нашей идеи, как и тот. Что бы мы без него делали? Он единственный, кто изучал историю культуры нашей страны и может помочь нам. Большинство экспертов — безбожники-иностранцы, они заинтересованы лишь в том, чтобы побольше сокровищ вывезти из страны. Они забрали у нас все: наших богов, наши обелиски, даже мозаики, по которым ступали наши предки. Однажды они увезут с собой пирамиды и вновь соберут их в Лондоне, Париже и Берлине.
Эль-Навави поддерживал Айата, энергично кивая.
— Для европейцев мы всего лишь необразованные погонщики верблюдов, пастухи, торговцы и чистильщики обуви, люди третьего, да что там — четвертого класса, не умеющие сохранить наследие собственных предков. Все европейцы, уже лет сто приезжающие в Египет, считают, что поняли восточный характер. И что еще хуже — в это верят и многие из нас. Мы теряем лучшие черты мусульман и приобретаем худшие качества европейцев. И в этом ничего не изменится и при лорде Киченере. Он есть и останется христианским псом, колонизатором, даже если еще чаще станет повторять «Я один из вас!» Он был и останется британцем, а все британцы — враги. Ты вообще меня слушаешь?
Мустафа Ага Айат действительно не слушал эль-Навави, опустившись на постель и глядя в потолок Но не из невежливости или безразличия. Все, что говорил в тот момент помощник мудира, уже не раз звучало на собраниях националистов и было всеми признано истиной.
— Я сейчас думаю о том, — сказал Мустафа, не отводя взгляда от потолка, украшенного по краям лепниной, — я думаю о том, где же слабое звено. Я имею в виду то, что леди Доусон искала не какой-нибудь черный камень. Она искала тот же обломок, что и мы, и он может стать ключом к великому открытию. Я спрашиваю тебя, Ибрагим, откуда леди известно о камнях?
— Правильный вопрос, — ответил эль-Навави. — Она, видимо, не только прекрасно информирована, у нее должны быть связи с археологами, и не только с английскими!
— Что мы знаем об этой женщине?
— Она англичанка и не обязана быть прописана. Кроме того, как ты знаешь, она живет на корабле и, соответственно, не подпадает вообще ни под какие египетские законы и предписания. Собственно, ты бы должен был знать о ней больше, чем я.
Ага что-то неохотно пробормотал, давая понять, что и он знает не многим больше, чем слышал от самой леди Доусон, а соответствуют ли ее слова истине, неизвестно. На праздниках, на которые ее приглашали, она производила прекрасное впечатление; но, как добавил Айат, быть может, ее красота ослепляла, а под маской красоты скрывался дьявол.
Пока Мустафа говорил, его взгляд постепенно менялся. Прямые морщины, придававшие его лицу властное выражение, исчезли, а брови, обычно скрывавшие глубоко посаженные глаза, распрямились.
— Позволь спросить тебя, что ты имеешь в виду, — осведомился эль-Навави, прекрасно заметивший перемену.
Мустафа принялся жевать нечто несуществующее, а эта привычка всегда выдавала его смущение.
— Думаю, леди — прекрасная сказочница, превосходящая в этом умении всех наших торговцев на базарах. В любом случае ее история о супруге, умершем во время медового месяца, никогда не вызывала моего доверия.
Поиски Нагиба эк-Касара оказались делом более сложным, чем ожидалось. Эк-Касар был студентом археологии на пятнадцатом или семнадцатом семестре обучения. При этом ему было не менее тридцати лет. Учебу он серьезно не воспринимал, причиной чему было не отсутствие интереса к предмету, а полная безнадежность в плане получения рабочего места в Египте. Поэтому он учился больше для себя, зарабатывая на жизнь случайной работой, при поиске которой не отличался разборчивостью. В «Кафе на Фридрихштрассе», так и называвшемся, он подрабатывал, танцуя для женщин определенного возраста. Он был строен и высок, и его темные глаза приводили в восхищение некоторых вдов коммерческих советников. Нагиб получал по пять пфеннигов за танец, и нередко ему вручали листочки с адресами и обещанием, что ничего плохого ему не сделают. В вышеозначенном кафе эк-Касара не оказалось, а полная светловолосая матрона, продававшая билетики на просмотр танца за стойкой с витражами в стиле модерн, ответила на вопрос гостей неохотно, ругая Нагиба и называя его обманщиком, перетягивающим одеяло на себя. Она запретила ему появляться в заведении. Нет, она не знает, где он живет, и не слишком этим интересуется. Затем гостей вежливо попросили уйти. Гости уже было направились к массивной вращающейся двери из красного дерева, когда молодой человек потянул Мустафу за рукав и спросил, сколько будут стоить сведения о месте пребывания Нагиба. Мустафа посмотрел на юношу. На том был облегающий костюм с короткой, до пояса курткой. Воротник и манжеты были картонными, глаза накрашенными. Звали юношу Вилли, и он хорошо знал Нагиба. Ага поместил в нагрудный карман танцовщика банкноту в пять марок, на что тот отвел обоих в сторону и объяснил, что Нагиба эк-Касара можно найти в цирке Буш, через одну станцию на трамвае в сторону Александер-платца. Там Нагиб временно работает помощником глотателя огня и заклинателя змей. И вслед гостям Вилли добавил, что Нагиб также может быть у Ашингера, Георгенэке в сторону Фридрихштрассе. Цирк Буш был немецкой организацией и находился в здании на берегу Шпрее. Попасть в него до начала вечернего представления было само по себе искусством. За королевские чаевые девушка в красной шляпке согласилась отвести друзей к Али-паше, как звучно называл себя глотатель огня. Тот оказался урожденным берлинцем, имевшим бабушку-итальянку и экзотическое имя Калинке. Первый же вопрос, обращенный им к гостям, был, не из полиции ли они. Все, кто спрашивал о Нагибе до них, были из полиции. Во время разговора Али-паша репетировал новый номер. Вокруг пахло керосином, который тот набирал в рот, чтобы затем выплевывать горящим. При этом ему ассистировала изящная девушка с длинными темными волосами. На ней были широкие серые мужские штаны и красная блузка, актер называл ее Эммой. Она заняла место Нагиба, со смешком сообщил глотатель огня. Нагиб часто являлся на работу в нетрезвом состоянии, к тому же у Эммы красивее ноги. По дороге к Ашингеру эль-Навави с сомнением заметил, что, быть может, обращаться к Нагибу слишком рискованно. Оба сошлись на том, чтобы посвящать Нагиба только в самые необходимые подробности. Нагиб сидел у Ашингера перед кружкой пива и жевал булку, уставившись перед собой невидящим взглядом. В кафе не было ни скатертей, ни занавесок, к тому же было шумно. Нагиб так набрался, что Айат и эль-Навави затратили немало усилий, прежде чем сумели объяснить, что им нужно. Тот предложил им вернуться на следующий день, лучше с утра, когда он — возможно — еще будет трезв. Когда на следующий день Айат и эль-Навави появились у Ашингера, Нагиб производил впечатление более трезвого, чем накануне. По крайней мере он сразу узнал их и смог следовать за смыслом их речей, сводившихся к тому, что необходимо перевести текст, содержащийся на камне, который хранится в их номере в отеле. Вопросы о том, почему они находятся в Берлине, откуда взялся черный камень и не связан ли он с ограблением в Лустгартене, Айат пресек, протянув Нагибу банкноту и сообщив, что речь идет об их общем деле. Айат и эль-Навави решили, что лучше перевезти эк-Касара к себе в пансион на Кенигсграбене, снабдить его несколькими бутылками пива и запереть на то время, пока он будет расшифровывать текст. Эк-Касар согласился. Он сразу понял, что речь идет о демотическом письме, но засомневался, сможет ли верно понять текст, порой состоящий из обрывков слов. Казалось, его сомнения подтвердились, потому что, когда Айат заглянул к Нагибу около полудня, тот уже опустошил все бутылки, но лист бумаги на столе оставался девственно-чистым. Однако он пообещал сразу приняться за работу, если ему принесут еще пива. Когда вечером Айат и эль-Навави зашли к Нагибу, тот спал на кровати. Ага так разозлился, что кинулся к кровати и стал бить спящего кулаками, называя пьяницей, предавшим ислам и их общее дело. Нагиб эк-Касар закричал, но оказался не в состоянии произнести внятно ни слова. Эль-Навави не сразу понял, что тот хотел сказать, затем подошел к столу. — Эй, оставь его! — крикнул Ибрагим, но Айат так разошелся, что его силой пришлось отрывать от жертвы. — Вот, — сказал эль-Навави и указал на бумагу, в которую был завернут камень. Нагиб написал в столбик шестнадцать коротких строк:
 Айат и эль-Навави молча смотрели друг на друга, пока Нагиб стонал и повизгивал, как собака. Прочитав написанное трижды, Айат возник возле кровати, упер руки в бока, и его живот увеличился в размерах, как грозовое облако.
— Нагиб, — угрожающе произнес он и сделал паузу, — ты уверен, что перевод верен?
Эк-Касар сел, кивнул и ответил заплетающимся языком:
— Как можно говорить о точности при отсутствии контекста. Такие тексты можно интерпретировать только в контексте; но перевод верен в любом случае.
— Я только опасаюсь, что он нам не слишком поможет, — обратился эль-Навави к Айату.
Нагиб пожал плечами и вновь упал на кровать.
— Эй, парень, не спать! — Айат потряс Нагиба. — Допустим, твой перевод верен. Тебе что-нибудь бросается в глаза?
Эк-Касар с трудом поднялся, качаясь, дошел до стола и уставился на потемневший лист бумаги: «Конечно!»
— И что же? — с угрозой в голосе спросил Айат.
Нагиб засмеялся и взглянул на египтян, будто желая сказать, что он еще далеко не так пьян, как они думают. Затем он указал пальцем на бумагу и сказал:
— Это, вероятно, подделка…
Мустафе показалось, что беседа затянулась. Он схватил Нагиба, прижал к стене и вылил ему на голову кувшин воды. Тот закашлялся, захлебнувшись, брызги разлетались по комнате, и Ага бросил ему полотенце.
— Почему ты считаешь, что это подделка? Отвечай!
Нагиб вытерся. Холодная вода мгновенно привела его в чувство. Он вновь подошел к столу и указал на бумагу:
— Здесь упоминается Джосер. Фараон Джосер правил во времена Третьей династии, то есть четыре с половиной тысячи лет назад.
— Ну и?
— Во времена царя Джосера демотическое письмо еще не было известно, оно появилось спустя две тысячи лет. Поэтому я предположил, что надпись — подделка. Такие подделки встречались нередко. В более поздние времена священнослужители часто фальсифицировали древние свидетельства.
— По какой причине? Есть ли этому объяснение?
— Существуют предположения. Например, что таким образом создавался ложный след, чтобы отвести людей от тайников.
Мустафа Ага Айат прервал беседу. Он оторвал часть листа с переводом, и Нагиб почувствовал волнение обоих египтян, но не осмелился задавать вопросы.
На следующий день они отправились в обратный путь. Они сели в ночной поезд до Мюнхена, собираясь оттуда направиться в Аскону, откуда должны были плыть в Александрию. Айат и эль-Навави ехали вдвоем в комфортабельном спальном купе. Они лежали на полках, не раздеваясь, о сне и речи быть не могло. Их разговоры смолкли лишь после Лейпцига.
Было, вероятно, около двух часов ночи, когда Айату показалось, что он слышит странный звук сквозь пение рельсов. Он шел от двери, и казалось, что кто-то царапает замок неподходящим инструментом. Зеленая лампа бросала тень на дверь в купе.
— Ибрагим, — прошептал Айат. Тот ответил невнятным ворчанием. — Ты ничего не слышал?
Эль-Навави ответил отрицательно и, ругаясь, попросил оставить его в покое.
Мустафа задремал. Его мучили сомнения, что поездка в Берлин стоила затраченных усилий и что след, по которому они шли, вообще куда-либо вел. Он также сомневался в том, правильно ли выбрал для дела эк-Касара. Конечно, он их сподвижник с юных лет, но он с тех пор прожил около восьми лет за границей. Что, если он обвел их вокруг пальца, обманул, как хитрый погонщик верблюдов? Проблемы, вопросы — их было так много, и они казались такими неразрешимыми. Мустафа погрузился в сон.
Он проснулся — вернее, пробуждением то состояние, в котором он оказался в следующий момент, вряд ли можно было назвать, скорее наоборот — он почувствовал ужасный удар по голове, принесший боль и одновременно бессилие. С того момента он наблюдал за происходящим, находясь в полуобморочном состоянии: за обыском багажа, внезапным возникновением пламени, шумом, дымом, кричащими людьми и скрипом аварийных тормозов.
В бессознательном состоянии Мустафа Ага Айат и Ибрагим эль-Навави были вынесены из задымленного купе. Когда они пришли в себя, то обнаружили, что лежат на железнодорожной насыпи. Над их головами шипел локомотив. Пассажиры затушили огонь. На вопрос о том, что произошло, проводник ответил, что, вероятно, перегрелась ось. Поезд медленно доедет до ближайшей станции, где вагон отцепят. Естественно, им будет предоставлено другое купе. Все ли в порядке?
Поездка продолжалась. Купе находилось в удручающем состоянии: багаж и одежда перерыты и разбросаны. Айат в первую очередь попытался найти черный камень, но его предположения подтвердились — плита исчезла.
— Inscha’allah, — сухо заметил Айат, достал из кармана бумагу и протянул ее эль-Навави.
Ибрагим эль-Навави, до сих пор не переставший кашлять от дыма, засмеялся: «Ya salaam!»
Айат и эль-Навави молча смотрели друг на друга, пока Нагиб стонал и повизгивал, как собака. Прочитав написанное трижды, Айат возник возле кровати, упер руки в бока, и его живот увеличился в размерах, как грозовое облако.
— Нагиб, — угрожающе произнес он и сделал паузу, — ты уверен, что перевод верен?
Эк-Касар сел, кивнул и ответил заплетающимся языком:
— Как можно говорить о точности при отсутствии контекста. Такие тексты можно интерпретировать только в контексте; но перевод верен в любом случае.
— Я только опасаюсь, что он нам не слишком поможет, — обратился эль-Навави к Айату.
Нагиб пожал плечами и вновь упал на кровать.
— Эй, парень, не спать! — Айат потряс Нагиба. — Допустим, твой перевод верен. Тебе что-нибудь бросается в глаза?
Эк-Касар с трудом поднялся, качаясь, дошел до стола и уставился на потемневший лист бумаги: «Конечно!»
— И что же? — с угрозой в голосе спросил Айат.
Нагиб засмеялся и взглянул на египтян, будто желая сказать, что он еще далеко не так пьян, как они думают. Затем он указал пальцем на бумагу и сказал:
— Это, вероятно, подделка…
Мустафе показалось, что беседа затянулась. Он схватил Нагиба, прижал к стене и вылил ему на голову кувшин воды. Тот закашлялся, захлебнувшись, брызги разлетались по комнате, и Ага бросил ему полотенце.
— Почему ты считаешь, что это подделка? Отвечай!
Нагиб вытерся. Холодная вода мгновенно привела его в чувство. Он вновь подошел к столу и указал на бумагу:
— Здесь упоминается Джосер. Фараон Джосер правил во времена Третьей династии, то есть четыре с половиной тысячи лет назад.
— Ну и?
— Во времена царя Джосера демотическое письмо еще не было известно, оно появилось спустя две тысячи лет. Поэтому я предположил, что надпись — подделка. Такие подделки встречались нередко. В более поздние времена священнослужители часто фальсифицировали древние свидетельства.
— По какой причине? Есть ли этому объяснение?
— Существуют предположения. Например, что таким образом создавался ложный след, чтобы отвести людей от тайников.
Мустафа Ага Айат прервал беседу. Он оторвал часть листа с переводом, и Нагиб почувствовал волнение обоих египтян, но не осмелился задавать вопросы.
На следующий день они отправились в обратный путь. Они сели в ночной поезд до Мюнхена, собираясь оттуда направиться в Аскону, откуда должны были плыть в Александрию. Айат и эль-Навави ехали вдвоем в комфортабельном спальном купе. Они лежали на полках, не раздеваясь, о сне и речи быть не могло. Их разговоры смолкли лишь после Лейпцига.
Было, вероятно, около двух часов ночи, когда Айату показалось, что он слышит странный звук сквозь пение рельсов. Он шел от двери, и казалось, что кто-то царапает замок неподходящим инструментом. Зеленая лампа бросала тень на дверь в купе.
— Ибрагим, — прошептал Айат. Тот ответил невнятным ворчанием. — Ты ничего не слышал?
Эль-Навави ответил отрицательно и, ругаясь, попросил оставить его в покое.
Мустафа задремал. Его мучили сомнения, что поездка в Берлин стоила затраченных усилий и что след, по которому они шли, вообще куда-либо вел. Он также сомневался в том, правильно ли выбрал для дела эк-Касара. Конечно, он их сподвижник с юных лет, но он с тех пор прожил около восьми лет за границей. Что, если он обвел их вокруг пальца, обманул, как хитрый погонщик верблюдов? Проблемы, вопросы — их было так много, и они казались такими неразрешимыми. Мустафа погрузился в сон.
Он проснулся — вернее, пробуждением то состояние, в котором он оказался в следующий момент, вряд ли можно было назвать, скорее наоборот — он почувствовал ужасный удар по голове, принесший боль и одновременно бессилие. С того момента он наблюдал за происходящим, находясь в полуобморочном состоянии: за обыском багажа, внезапным возникновением пламени, шумом, дымом, кричащими людьми и скрипом аварийных тормозов.
В бессознательном состоянии Мустафа Ага Айат и Ибрагим эль-Навави были вынесены из задымленного купе. Когда они пришли в себя, то обнаружили, что лежат на железнодорожной насыпи. Над их головами шипел локомотив. Пассажиры затушили огонь. На вопрос о том, что произошло, проводник ответил, что, вероятно, перегрелась ось. Поезд медленно доедет до ближайшей станции, где вагон отцепят. Естественно, им будет предоставлено другое купе. Все ли в порядке?
Поездка продолжалась. Купе находилось в удручающем состоянии: багаж и одежда перерыты и разбросаны. Айат в первую очередь попытался найти черный камень, но его предположения подтвердились — плита исчезла.
— Inscha’allah, — сухо заметил Айат, достал из кармана бумагу и протянул ее эль-Навави.
Ибрагим эль-Навави, до сих пор не переставший кашлять от дыма, засмеялся: «Ya salaam!»
4 Синай
«О вы, которые уверовали! Вспоминайте милость Аллаха вам, когда пришли к вам войска, и Мы послали на них ветер и войска, которых вы не видели. Аллах видит то, что вы делаете! Вот пришли они к вам и сверху и снизу вас, и вот взоры ваши смутились, и сердца дошли до гортани, и стали вы думать об Аллахе разные мысли».Жизнь в Луксоре стала для Омара самым счастливым временем в его жизни. У Тахи он научился читать и писать и мог теперь декламировать суры Корана, как настоящий чтец в мечети. Клэр, жена профессора, учила его английскому языку, и ежедневным развлечением мальчика было читать и заучивать наизусть объявления о смерти и некрологи на первой странице «Таймс», в результате и в повседневном общении выражался он довольно высокопарно. К восхищению профессора, мальчик не только выказал интерес к археологии, у него был бесспорный талант — тридцать одну династию вплоть до правления Александра Великого он знал наизусть. В процессе своих исследований профессор Шелли подготовил в общей сложности четыре проекта раскопок для Фонда Исследования Египта, два из которых касались поиска гробниц фараонов в Долине Царей, рассчитанных на два сезона при использовании 120 единиц рабочей силы. Забыто было ужасное похищение Омара, и хотя он оставил поиски, но при исследованиях, в которых он с воодушевлением помогал профессору, он вновь и вновь натыкался на границы, переступать которые казалось неблагоразумным. Интриги, убийства и обман были частью повседневной жизни в Египте того времени, и Луксор не был исключением. И государство и правительство находились в состоянии упадка, и немногие могли похвастаться знанием того, кто кому приходится союзником или противником. Официально Египет все еще являлся частью Оттоманской империи султана, его наместником был кедив Аббас Хильми, вице-король с ограниченной властью. Правил страной премьер-министр, но и он, и кедив подпадали под власть британского генерального консула, так как уже тридцать лет Египет являлся британско-египетским кондоминиумом[5]. Можно было предположить, что генеральный консул, лорд Киченер, в той же степени ненавидим жителями Египта, как кедив любим. Однако на деле все было скорее наоборот. Гордый бородатый ирландец полюбился еще в качестве сирдара, главнокомандующего египетской армией. Заняв пост генерального консула, он проявил внимание к судьбе маленьких людей, особенно феллахов, не осмеливавшихся даже носить тюрбаны и приличную одежду, чтобы их не сочли слишком богатыми и не обложили непосильными налогами. Кедив же, напротив, несмотря или, напротив, благодаря своему европейскому воспитанию, был своевольным, эгоистичным, деспотичным интриганом, не знавшим меры ни в чем; кедив не был любим в народе. Аббас Хильми поддерживал все существующие политические группировки и партии, хоть отдаленно нацеленные против власти англичан. То, что многие из них были между собой смертельными врагами, усиливало неоднозначность политической ситуации. Наиболее громко заявляли о себе националисты. Среди них были как умеренные, так и радикалы, экстремисты и террористы. Премьер-министр Бутрос-паша Гали был застрелен. Заговор с целью убийства его преемника Мохаммеда-паши Саида, а также кедива и лорда Киченера был раскрыт в последнюю минуту. Вооруженные толпы бродили по стране, и никто не чувствовал себя в безопасности. В эти дни Омар ничего так не желал, как того, чтобы все националисты объединились и сообща стали бороться за общую цель, за свободный Египет, в котором все были бы равны перед законом. Профессор Шелли был невысокого мнения об этих людях, считал их коварными, продажными и оторванными от жизни, марионетками кедива и пророчил им плохой конец. Омар не противоречил, но в его сердце росла любовь к этой стране, он чувствовал особенную теплоту, когда задумывался о будущем Египта, которое было и его будущим. И его сильно задевало, когда в кафе «Ком Омбо» за вокзалом, куда приходили только местные — пили чай, кофе и зеленый лимонад и курили по двое или вчетвером высокие кальяны, — он не встречал уважения к себе, даже наоборот, к нему относились с недоверием и, прикрывая рот рукой, говорили, что он чужак Ситуация усугубилась тем, что однажды он читал в кафе «Таймс», что здесь считалось явной провокацией, как, например, развевающийся британский флаг. Однажды речь зашла о Юсуфе, не пережившем холеру. Все говорили о нем с большим уважением, и в какой-то момент было произнесено имя Халимы. Имя девочки резануло Омара, как ножом, и с наигранным безразличием он спросил через стол, не знает ли кто-нибудь, где она сейчас находится. Внезапно разговор стих, и все посмотрели на Омара. Толстый, обрюзгший юноша, о котором говорили, будто он предпочитает женщинам особ мужского пола, поднялся, подошел к Омару и нагло заявил: — Посмотрите-ка, он скучает по Халиме. — И нагнулся к Омару ближе. Омар оттолкнул его; он почувствовал, как кровь ударила ему в голову от гнева, но он взял себя в руки и достаточно спокойно спросил: — Где прячется Халима? Кто-нибудь знает? Мы знакомы… — И почти извиняющимся голосом добавил: — Немного. — Он немного знаком с Халимой! — выкрикнул парень несколько раз подряд, хлопая в ладоши, и остальные присоединились к нему: «Он немного знаком с Халимой!» Когда рев стих, толстяк вновь возник перед Омаром, сделал несколько шагов, имитируя танец живота, и фыркнул: — Мы все неплохо знакомы с Халимой, этой маленькой хурият. Мы все успели поиметь ее. В это мгновение Омар потерял над собой контроль: как раненый зверь, кинулся он на толстяка, ударил в живот и начал душить так, что глаза того вылезли из орбит. Увидев, что Омар готов убить толстяка и не отпускает, даже когда лицо того посинело, несколько человек бросились разнимать дерущихся, но Омар, как змея, впившаяся в свою жертву, не ослаблял хватки, несмотря на то что его пытались остановить трое взрослых мужчин. Он бы, вероятно, задушил противника, если бы не произошло нечто, чего никто явно не ожидал: один из мужчин потянул Омара за рукав, материал порвался, как парус на ветру, и оголил правое плечо Омара, на котором четко виднелся ожог в форме кошки. Это происшествие имело неожиданные последствия. Как Омар, так и разнимавшие отпустили своих противников и замерли, глядя друг на друга. И пока толстяк, кашляя и задыхаясь, сползал на землю, все, будто окаменев, смотрели на изображение кошки. В кафе стало совсем тихо. Омар ожидал какой-нибудь реакции, замечания, вопроса, чего-либо, что бы разъяснило ситуацию, но ничего не последовало. Наконец, Омар повернулся и направился к выходу, не произнеся ни слова, но с тяжестью на сердце.Коран, 33 сура (9, 10)
С того дня Омара Муссу в Луксоре стали избегать. По крайней мере так показалось ему: те, чьей дружбы он искал, считая, что этим людям не безразлична судьба Египта, избегали его еще сильнее, чем прежде. Что ему было делать? Все попытки узнать от кого-либо об изображении кошки оканчивались неудачей; все, к кому он обращался, отворачивались, как будто Омар был заразным больным. Даже те, с кем он прежде состоял в дружеских отношениях и кто не был свидетелем инцидента, прекратили общение с ним. В этот период изоляции, когда Омар был вынужден больше общаться с иностранцами, чем с земляками, он занялся самообразованием, в чем ему всячески содействовали профессор Шелли и Клэр. Долгое время он не рассказывал о происшествии в кафе «Ком Омбо», однако когда через несколько недель размышлений он понял, что еще дальше ушел от разгадки, Омар доверился профессору. Шелли долго не верил тому, что причиной недоверия стало изображение кошки, но Омар настаивал на своем. Они предположили, что это может быть знаком какой-либо экстремистской группировки, но это не объясняло того, как с ней может быть связан Омар. Он никогда не говорил о политике, а его похищение произошло в тот момент, когда он — по крайней мере так оно выглядело — хотел заключить сделку. Помощник мудира год спустя отчитался о проведенном расследовании. Как и следовало ожидать, оно оказалось безрезультатным. Если они хотели разобраться в происходящем, то дело нужно было брать в свои руки, что Шелли казалось небезопасным. В поисках точки, с которой можно бы было начать поиски, Омар вновь возвратился к мыслям о гробнице, где его держали во время похищения. Он рассказал о своем предположении, что она должна находиться недалеко от дома шлифовальщика, потому что до него доносился характерный звук, издаваемый вращающимися камнями. После разговора с Говардом Картером, который исследовал эль-Курну с точки зрения археологии и картографии, они узнали, что на расстоянии не более грех сотен шагов от дома шлифовальщика существует семь гробниц, три из которых открыты, четыре же находятся под домами. Все семь известны и изучены. Омар утверждал, что узнает свою темницу вслепую. Три доступные гробницы были местами захоронения Антефа, священнослужителя Амона, мудреца Хапусенеба и генерала Перресенеба. Ни одна из них не была похожа на ту, куда заключили Омара, ни размерами, ни архитектурой. Их можно было вычеркнуть из списка. Четыре занятых домами гробницы принадлежали Ипуэмре, высокопоставленному священнослужителю при Аменофисе Третьем, врачу Имсети, дворецкому Дуамутефу и учителю мудрости Тета-Ки эпохи Восемнадцатой династии. Но и после осмотра этих могил Омар должен был признаться, что ни одна из них не была его темницей. Конечно, осмотр гробниц в эль-Курне профессор Шелли аргументировал его научным интересом, но все же жители относились к нему с явным недоверием, и им пришлось бы отказаться от расследования, если бы не одна случайность. Однажды в деревне они увидели, как собака гонится за кроликом. Кролик казался вполне уверенным в себе, он кружил по деревне, постоянно оставляя дворнягу позади. Омар увлеченно наблюдал за погоней и сам побежал за собакой. Внезапно собака и кролик исчезли, и Омар уже предположил худшее, но вдруг обнаружил собаку у одного из домов перед ямой, прикрытой толстыми балками. Она скулила ипыталась пролезть в дыру, в которой скрылся кролик. Омар отогнал собаку, поднял одну из балок и вгляделся в темноту в поисках кролика. Его мальчик не увидел. Зато перед ним была выбитая в песчанике лестница. Ее ступени осели и частично обвалились. На другом конце лестницы, уходившей в глубину шагов на двадцать, была деревянная дверь, выкрашенная в зеленый цвет, как это принято в эль-Курне. Дверь запиралась на простую задвижку. Шелли отодвинул мальчика и посветил лампой в темноту. Темный проход, открывшийся за дверью, поворачивал направо, затем через несколько шагов еще раз направо и вел к уступу, за которым вновь начиналась лестница. Омару нелегко было представить, что таким мог быть вход в его темницу. Он хорошо помнил барельефы и рисунки, до сих пор же перед ними была лишь скальная порода. У подножия второй лестницы Шелли задержался: сразу за последней ступенью начиналась шахта со стороной примерно в десять ступней и такая глубокая, что свет лампы не доставал до низа. Теперь было понятно, почему первая дверь закрывалась лишь на задвижку. Сладковато пахло летучими мышами, карбидовая лампа шипела. Омар предложил принести сверху одну из досок которыми был завален вход, но профессор уверил его, что доски слишком коротки, длинные же было бы невозможно пронести по узкому извилистому коридору. Омар беспомощно глядел в непреодолимую шахту, затем поднял голову и разглядел массивный свод, с которого спускалась веревка, закрепленная возле выступа стены. Веревка была новой, и было непохоже, чтобы ею когда-либо пользовались. Профессор отвязал ее, проверил на прочность и, качнув от себя, убедился, что она достает до противоположной стороны. Омар посмотрел на Шелли, оба они подумали об одном и том же: выдержит ли веревка? Или это ловушка? Опасность рождает мужество. Омар молча взял веревку из рук профессора, вновь проверил на прочность, подтянулся на руках, оттолкнулся от земли и перелетел через пропасть. Затем он вновь послал веревку профессору. Шелли привязал лампу к поясу и последовал за Омаром. Привязав веревку к крюку, явно предназначенному именно для этого, они продолжили путь и попали в просторное помещение. В середине находилось отверстие, возле него — деревянная крышка, рядом свернутая веревочная лестница. Омара охватило волнение. Он вспомнил, как после долгих дней темноты над ним открылся люк, из которого спустилась веревочная лестница, и свет лампы упал на стены. Омар привязал лестницу к деревянной крышке, взял в зубы ручку лампы и осторожно начал спускаться. Шелли следовал за ним. Спустившись, Омар поднял лампу повыше. — Да, — тихо сказал он, — я прекрасно узнаю это место, изображения богов, тележку с колесами о шести спицах и вот это, — он посветил на пол, — саркофаг с остатками мумии. Да, здесь меня держали, на этой связке тростника я лежал. Лишь Аллаху ведомо, как мне удалось выбраться отсюда. Профессор Шелли взял в руки лампу и погрузился в изучение иероглифов. Внимательно оглядев надписи, он сказал: — Если я не ошибаюсь, мы находимся в гробнице благородного Антефа, укротителя лошадей фараона. Взволнованный внезапным открытием, Шелли не заметил, что Омар весь дрожит. Только когда, задав вопрос, он не получил на него ответа, профессор посветил в сторону мальчика. Омар крепко вцепился в лестницу. Слишком тяжелым оказалось для него воспоминание о бесконечной ночи в темнице, и он стремился поскорее покинуть это место. Выйдя из подземелья, Омар обошел дом, позади которого оно было обнаружено. Его предположения подтвердились: это был дом старого Юсуфа. Без видимой причины Омар слег на несколько дней после открытия. Тело его не принимало пищу, а все мысли были обращены к девочке, развитию их отношений, и в своих снах наяву Омар спрашивал себя, имеет ли его жизнь еще хоть какой-то смысл. Он страдал с удовольствием, какое обычно доставляют тайные прегрешения. Напрасно он считал себя сильной личностью. Все было наоборот, он был слабаком, хотя и способным переносить физические страдания, но терявшим мужество, как только речь заходила о боли душевной. Лето было нестерпимо жарким, какого не помнили местные жители, и Нил, хотя и пополняемый регулярно водой водохранилища под Асуаном, нес теперь лишь половину обычного количества воды. Омар с благодарностью принимал от Нунды влажные полотенца, которые она клала ему на лоб. Они не обменялись ни словом с того самого дня, ознаменованного происшествием в саду, и хотя Омар давно пожалел о своей грубости, поведения не изменил. Теперь же, в том необъяснимом разброде чувств, в котором он находился, Омар внезапно прижал Нунду, менявшую полотенце на его лбу, к себе, так что она вскрикнула. Мягкие черты ее лица, округлые линии груди и бедер вызвали в нем желание, и с проворством, не свойственным больному, он повернулся, взобравшись на Нунду с выражением триумфа, и сорвал тонкое платье с ее тела. Увидев ее, лежащую перед ним обнаженной, Омар властно овладел ею, охваченный желанием причинить ей боль; это помогло мальчику забыть о Халиме.
Излеченный таким странным образом, Омар быстро выздоравливал, так быстро, что сам себе удивлялся. Освободившись от мрачных мыслей и чувств, он уже не мог понять, почему обратил их все на Халиму, ведь верный пес или конь в тысячу раз важнее, чем любая из женщин. Омару было теперь шестнадцать лет, у него была светлая кожа, статная фигура, и он находился на той ступени жизни, когда мужчина начинает полагать, что все стоящее в его жизни уже произошло; в его голове царила смесь глупости и высокомерия, регулярно накатывающая на всех мужчин. И вскоре он получил урок. С некоторых пор ходили слухи, что в Европе начнется война: Австрии против Сербии, Германии против России и Франции, Великобритании против Германии и Турции. Египет же обращал к ней лицо сфинкса. В первую пятницу августа профессор Шелли созвал всех домашних и с серьезностью чтеца Корана сообщил, что египетский премьер-министр 5 августа подписал бумагу, свидетельствующую о том, что Египет обязуется поддерживать Великобританию в войне. Ни один египтянин не имеет права подписывать договоров с гражданами стран — противников Великобритании, ни один египетский корабль не должен входить во вражеский порт, британские войска получают право устанавливать на территории Египта военное положение. Клэр сложила руки будто бы в молитве, но только тревожно вздохнула и спросила: — Что теперь будет, Кристофер? Шелли пожал плечами; он сидел прямо, обратив взгляд в потолок, и, не отводя взгляда, тихо сказал: — Я каждый день должен быть готов к тому, что меня призовут. — То есть… — Да, это означает, что мы должны будем вернуться в Англию. — Шелли сказал «должны будем»; теперь, когда ему грозил призыв, эта страна показалась ему настоящим раем. Когда Шелли прибыл сюда два года назад, они с Клэр зачеркивали дни в календаре и считали, сколько еще им придется пробыть здесь; но это быстро прошло. С тех пор, как они переехали, они почувствовали себя как дома. И казалось, в этот момент они думают об одном. — О Саид, — тихо спросил Омар, — если вам придется уехать, что станет со мной? Профессор молчал. Омар мог предположить, что это означает. До сих пор его не волновала война, но теперь она коснулась его, и он испугался, что не сегодня-завтра окажется на улице, без работы, без крыши над головой, и он проклинал войну. Недели проходили для Омара между надеждой и сомнением, в сознании собственной беспомощности. Хотя профессор и обещал ему позаботиться о нем в том случае, если самому ему придется покинуть Египет, Омар знал, что в нужде каждый сам за себя. Между тем ситуация обострилась; и в кафе, и на улицах люди говорили об одном: к чему это приведет? 18 декабря во всех публичных местах города, на дверях учреждений и ведомств появились желтые плакаты:
«Государственный секретарь иностранных дел Его Британского Величества объявляет, что Египет ввиду объявленного из-за действий Турции военного положения будет находиться под защитой Его Величества и являться частью британского протектората. Таким образом, отменяется суверенитет Турции в Египте. Правительство Его Величества предпримет все возможные меры для защиты Египта и его населения».На следующий день английскими войсками был смещен кедив Аббас Хильми, находившийся в Константинополе, и его место занял принц Хусейн Кемаль, старший из принцев рода Мехмета Али, называвшийся с этого момента султаном Египта. По дороге в Дер эль-Медину профессор получил назначение в Сирию. В Сирии находились части турецкой армии, и англичане опасались удара в направлении Суэцкого канала. По пути домой Омар и Шелли, ехавшие молча, увидели автомобиль британской армии с громкоговорителем. На крыше автомобиля, катившегося по улицам со скоростью пешехода, был укреплен рупор, из которого громче, чем пение с мечети, неслись обрывки музыки, прерываемые призывами вступать в египетский рабочий корпус. Через два дня Омар ехал в поезде, направлявшемся в Каир. Он думал, что просто предоставляет себя в качестве рабочей силы, на самом же деле в тот момент он продал свою душу. Но тогда Омар еще не подозревал этого. За деньги и черт танцует, а два фунта в неделю — немалые деньги для шестнадцатилетнего мальчика. Весь поезд состоял из купе четвертого класса, но Омара это не смущало, ведь он никогда не путешествовал в третьем. Смутило его скорее то, что добровольцев загоняли в вагоны, как телят на бойню. Хороший заработок, бесплатная пища и крыша над головой привлекли тысячи добровольцев; они съехались отовсюду: из Асуана, Ком Омбо, Эидфу и Арманта, Куса и Кены, и их конечной целью была Исмаилия, город на берегу Суэцкого канала. Оттуда, согласно их задаче, они должны были прокладывать железнодорожную линию через Синайскую пустыню. За два дня, в течение которых продолжалось путешествие, добровольцев лишь дважды выпускали из вагонов, да и то посередине прогона, для того, чтобы справить естественную нужду. Кормили их в пул и сухарями, лепешками из муки второго сорта и поили чаем из жестяных кружек — по четыре штуки на купе. О сне можно было забыть — как днем, так и ночью. Одни горланили песни, другие рассказывали непристойности. Потерянный и вырванный из привычной среды, Омар сидел на своем свертке и пытался прогнать мрачные мысли. Он думал о том, чтобы покинуть в Исмаилии стройку и отправиться искать свою судьбу; но куда приведет его этот путь? Ранним утром, когда на востоке в красноватом мареве вставало солнце, поезд достиг Исмаилии. Британские полковники резко выкрикивали команды, которых никто не понимал. Наконец им удалось расставить новобранцев перед вокзалом блоками по триста человек. По узким улочкам города, низкие домики которого казались наполовину разрушенными, гулял пронизывающий ветер. Перед домами стояли корытца с тлеющими углями, горы мусора высились повсюду, запах стоял отвратительный. Завернутые в одежды женщины с привязанными за спинами детьми испуганно прошмыгивали в низкие двери, другие же, напротив, выйдя из домов, потешались над мужчинами и провожали их непристойными жестами. Мальчики прыгали возле колонн солдат, пытаясь идти с ними в ногу. Дворняжки лаяли, куры в ужасе лезли друг на друга. Так новобранцы достигли огромного палаточного лагеря на окраине города. Вокруг плаца, обрамленного британскими флагами, в шахматном порядке выстроились ряды грязно-зеленых длинных палаток, их было около трех тысяч в общей сложности, среди них складские палатки, открытые загоны с верблюдами, мулами и ослами, резервуары с водой и отгороженные уборные. Синай между Суэцем и заливом Акабы представляет собой каменную, похожую на степь пустыню, на юге переходящую в горы, на севере — плоскую с лишь изредка встречающимися оазисами пальм, мальвы и саксаула. В ней водится множество диких зверей, газелей и коз, по ночам подвергающихся нападениям гиен и шакалов, а также ядовитых змей. В этой враждебной человеку местности зимними ночами температура опускается до нуля градусов, днем же нестерпимо палит солнце. Мужчины с шумом устремились к палаткам, одинаково бедно обставленным: разложенный на песчаном полу материал, служивший кроватями, по одеялу на человека, в центре — сборная стойка с жестяной посудой, обтянутые войлоком фляги. Неожиданно Омар оказался в компании девяти человек, из которых каждый был вдвое старше его. Омар занял спальное место возле входа, бросив на одеяло свой сверток, что не понравилось высокому старику, который указал мальчику на дальний угол. Омар повиновался. Мужчину звали Хафиз, больше из него ничего вытянуть не удалось, по крайней мере в первые дни пребывания в лагере. В первый день работ всех собрали на плацу лагеря, и полковник Роберт Солт с помощью переводчика-египтянина огласил условия работы: десять часов в сутки ежедневно с лопатой и киркой в руках, задача — класть милю путей в день. Пара человек возмущенно заворчали. Солт безошибочно определил их в толпе и ударами кнута, которыми имел обыкновение сопровождать свою речь, выпроводил их из лагеря. Увиденное произвело впечатление, с этого момента Солта стали бояться. Он все еще говорил, стоя на деревянном подиуме и окруженный дюжиной солдат, когда с севера подул ветер. Сначала он лишь поднимал облачка песка над землей, но затем стал сильнее, и у новобранцев в первом ряду начали слезиться глаза. Солта, казалось, это не заботило, он перекрикивал ветер, рассказывая о том, что эта железнодорожная линия через Синай — не только британский проект. В первую очередь она принесет пользу Египту, так что каждый участвующий в ее постройке египтянин должен гордиться своим вкладом в экономику Египта. Когда несколько человек попытались протереть глаза, Солт остановил на них угрожающий взгляд и сказал, что их долг — стоять на месте неподвижно, а также что они имеют возможность покинуть лагерь, если не в состоянии соблюдать английскую дисциплину. Но ни один не сделал этого, да Солт и не ожидал от них ничего иного. Солт, элегантный мужчина под пятьдесят лет, всегда носивший сшитую по фигуре форму и усы и похожий на лондонского денди, был старым лисом, умевшим обращаться с солдатами. Сын валлийского книготорговца, он должен был стать священником согласно желанию отца, но, в восемнадцать лет оказавшись перед выбором, он предпочел сутане военную форму. Его отметки в кадетской школе были удовлетворительными или даже плохими, но Роберт с самого начала прорывался вперед за счет отваги и жесткости. Поскольку драки выигрываются не головой, а кулаками, а также из-за того, что не был замешан ни в одну любовную историю или уличен в склонности к ирландскому виски, — каковые грешки часто встречались среди солдат, — он сделал потрясающую карьеру. В девятнадцать лет он участвовал в проигранной битве против Гордона в Хартуме, позже под руководством лорда Киченера добился большого успеха в качестве командира части и достиг бы невероятных высот, если бы не загадочная болезнь, не знакомая ни одному из наблюдавших его врачей. Два месяца Солт, лежа в жару, не мог подняться на ноги. Медикаменты не помогали. Когда он несколько оправился — о выздоровлении и речи быть не могло, — Роберт Солт стал другим человеком. Виски и женщины стали основным содержанием его жизни, но более всего его влекла игра. При любой возможности он брался за карты, и его долги в казино и у собственных солдат во много раз превышали его жалованье. Солт добровольно вызвался работать в египетском рабочем корпусе, но назначение это скорее было шагом назад, более того, оно означало конец карьеры Роберта Солта. Солт прокричал свою речь до конца и приказал тем, кто умеет читать и писать, выйти вперед. Таковых нашлось сотни две. Затем он спросил, кто из вышедших настолько хорошо владеет английским языком, что смог бы передавать рабочим приказы. Омар вызвался. — Как тебя зовут? — Омар Мусса, сэр. — Сколько тебе лет? — Восемнадцать, сэр, — солгал Омар. Полковник обошел юношу, смерил его взглядом, щелкнул себя кнутом по руке и спросил: — Школа? — Нет, сэр. — И, встретив удивленный взгляд полковника, пояснил: — Я четыре года работал у английского профессора. Его призвали в армию его величества, сэр. Омар стоял прямо, руки по швам, будто на нем были не свободные одежды его народа, а британская форма, подняв подбородок, как и следовало солдату — или, скорее, как по его мнению следовало солдату, — и не двинулся с места и тогда, когда Солт, обернувшись к остальным, повторил вопрос. Еще около двадцати человек умели читать, писать и знали английский язык. Из них у одного вместо ноги был протез, еще один мог передвигаться, лишь опираясь на палку. Солт отмахнулся от них, как от надоедливых мух. В то время как остальные расходились по палаткам, ища в них укрытия от песчаной бури, Солт задержал выбранных и разъяснил им их обязанности в качестве помощников, правила дисциплины и подчеркнул, что и в рабочем лагере для солдат его величества сохраняется обязанность отдавать честь. Буря завывала и билась о стенки палаток, на плацу хлопали флаги, и Омар чувствовал, как на зубах скрипит песок. — Стоять смирно! — взревел Солт, пытаясь перекричать бурю, заметив, как один из солдат пошевелился. Затем, испытывая определенные затруднения, он прочел помощникам распорядок, который те должны были донести до солдат. Четырнадцать пунктов, регулировавших жизнь и работу в лагере, и причитающиеся часовым шаги и удары палкой. Тучи песка с невероятной скоростью оседали на коже, причиняя боль, и Омар пожалел, что признался в своих способностях. Он чувствовал, как его лицо краснеет, а глаза слезятся так, что он теперь видел лишь смутные очертания упрямого полковника. В какой-то момент ему захотелось с криком броситься на англичанина и ударить его в лицо, чтобы положить конец царившему безумию, но разум победил, и Омар решил не доставлять полковнику такой радости. Тот стоял перед египтянами, и лицо его выражало надменное чувство превосходства, постепенно превращавшееся в садистскую усмешку. Казалось, он только и ждал, пока кто-нибудь сдастся. Солт, как безумный, размахивал кнутом, чтобы придать значимость своим словам, он явно любовался своей ролью героя, противостоящего даже песчаной буре над Синаем. Но Аллах карает высокомерных. Внезапно произошло то, чего никто не ожидал: голос полковника стал постепенно стихать, слова сменились невнятными хрипами, и, как дерево, долго противостоявшее ветрам и, наконец, уступившее им, полковник упал на землю. Офицеры отнесли его в палатку.
На следующий день буря так и не утихла. Рабочие бастовали, сидя в палатках, так как еда не могла быть доставлена в лагерь из-за погоды. В их распоряжении оказались лишь вода и вареный рис, да и того но миске на человека в сутки, что не поднимало их дух. Люди без дела лежали по палаткам, разговаривали или пытались заснуть. Омар, забившись в свой дальний угол, изучал выданные ему планы. Остальные рабочие невзлюбили его: ведь он, самый молодой, получил право отдавать им приказы. И более всех его ненавидел Хафиз, худой старик, Омар чувствовал ненависть в его глазах, когда тот подолгу смотрел на него. Через день буря стихла, и от порта в лагерь потянулась бесконечная череда тележек и повозок, везших шпалы и рельсы. Британские инженеры начали с вбивания свай по пути будущей железной дороги. Раздача рабочих инструментов — лопат, кирок, корзин — произошла позже из-за того, что складская палатка была наполовину занесена песком. Полковник Солт вновь пришел в себя и отдавал распоряжения офицерам, которые передавали приказания своим помощникам, которые, в свою очередь, переводили их рабочим. В принудительном порядке египтяне были поделены на группы по триста человек. Омар служил у офицера по фамилии Кларендон, которого сослуживцы, ленившиеся произносить длинное имя, называли просто Клэр. Он был сыном фермера из Шрузбери, разводившего овец, скорее авантюристом, нежели солдатом, что успел доказать в Индии. Клэр дал задание на день, Омар перевел его на арабский. Дневная норма на одного человека составляла один кубометр; машины использовались только на особо трудно обрабатываемых участках. По расчетам британцев, в день должна была быть уложена миля путей. Первая выплата зарплаты должна была осуществиться после прокладки семи миль рельсов. С криками египтяне принялись за работу, но уже через несколько часов Омар заметил, что, как ни бились его рабочие, молотя вокруг себя лопатами, насыпь на отведенном участке не увеличивалась, потому что люди не были обучены обращению с этим инструментом. Все, что набирали на лопату, они рассыпали, не донеся до цели. Омар побежал к складу и попросил предоставить ему 150 корзин, в чем ему было отказано: каждой части рабочих предназначалось тридцать корзин. Через десять часов безостановочной работы египтянам не удалось выполнить и половины дневной нормы. Выполнение работ в намеченный срок оказалось под угрозой. Полковник Солт созвал офицеров и помощников на экстренное заседание; он бушевал, называл офицеров безмозглым сбродом, а рабочих — ленивым скотом и заявил, что высечет каждого, не выполняющего норму. — Сэр! — Омар выступил вперед. — Разрешите сделать замечание. Солт подошел к нему, привычно помахивая кнутом. — Сэр! — начал Омар. — Я наблюдал за рабочими, они не могут быстрее работать… — Ах, не могут, не могут! — Солт злобно рассмеялся. — Я заставлю работать этих лентяев! — Нет, — настаивал на своем Омар, — египтяне не привыкли копать лопатой. Я знаю это по опыту археологических раскопок Дайте людям корзины — широкие плоские корзины, в которые они смогут руками сгребать песок, и они будут работать вдвое быстрее. Полковник Солт посмотрел на Омара. Предложение его звучало несколько странно, однако логично. После непродолжительных сомнений он спросил: — Если считать, что ты прав, сколько нам понадобится корзин? — Пятнадцать тысяч, как минимум. По корзине на двух рабочих. Один из офицеров, ответственный за склад, возразил: — Но у нас их лишь тысяча. — Так достаньте недостающие четырнадцать тысяч! — взревел Солт. Два дня спустя необходимое количество корзин было доставлено в лагерь, работы значительно ускорились, и офицеры решили, что пора увеличить дневную норму — сперва до полутора метров, затем до двух. Омар возражал, предупреждая, что это вызовет недовольство рабочих а кроме того, в этом случае следовало бы повысить и оплату. Но к его возражениям не прислушались. Длина уложенных путей увеличивалась. Через неделю она составила восемь миль, и по ней с помощью вьючных животных уже можно было подвозить материал. Солт распорядился поставить новый лагерь, чтобы люди не затрачивали время на ходьбу до места работ. Сэкономленные же часы можно было посвятить укладке рельсов. Это вызвало возмущение рабочих, успевших привыкнуть к долгим прогулкам. Что касается железной дороги, бывшей для Омара сначала лишь мечтой, абстрактной линией сквозь пустыню, то теперь она стала реальностью. Проделанные работы вызывали гордость Омара, ведь и он со своими людьми внес вклад в сооружение насыпи, протягивавшейся все дальше на восток. На карте, имевшейся у каждого помощника, он ежедневно отмечал синим карандашом проложенный участок путей и показывал планы рабочим. Омар сменил одежду: теперь он носил английский костюм, казавшийся ему более удобным из-за обилия карманов. Если бы он знал, чем для него обернется такая перемена, никогда, вероятно, не сделал бы этого. Ведь теперь он отличался от остальных египтян и внешним видом. Он казался им чужим, даже больше — предателем. Однажды ночью Омару приснился сон, что палатка вокруг него горит, густой дым клеенчатых стен душит его. Он забился в ужасе, проснулся и увидел, что кошмар был не сном, а страшной реальностью. Палатка была пуста. Ящики с инструментами, сложенные друг на друга, загораживали выход. Стенки палатки вокруг него горели, и колющая боль в легких становилась невыносимой. Омар почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Собрав все свое мужество, он, полуобнаженный, бросился на горящую стенку. Пламя обожгло кожу на лице и ногах, но непрочный материал с треском порвался, и Омар оказался на свободе. Упав на песок, он стал кататься по нему. Все его тело болело, но когда он, наконец, открыл глаза, то увидел стоящего над ним Хафиза и группу людей из его палатки. Злые, полные ненависти глаза смотрели на него. Омар успел заметить, что один из рабочих поднял лопату с намерением опустить ее ему на голову, и, следуя скорее рефлексу, нежели разуму, откатился в сторону, кинулся на четвереньках между ногами стоявших вокруг и побежал что было мочи к палаткам офицеров. Несколько англичан с криками двинулись ему навстречу. Омар пробормотал что-то о пожаре и людях, собиравшихся убить его, и потерял сознание. Раны от ожогов оказались не такими серьезными, как показалось вначале. Полковник Солт впал в бешенство и, кружа по лагерю, хлестал кнутом стены палаток и рычал: «Саботаж! Мерзкий сброд! Я отдам вас под трибунал!» С большим трудом британским офицерам удалось его успокоить. На следующее утро группа Омара была выстроена на плацу. Солт вместе с Омаром обходил ряды. Ручкой своего кнута полковник бил каждого по очереди в грудь, спрашивая: «Этот?» Омар качал головой. Когда очередь дошла до Хафиза, он мгновение помедлил, но затем вновь ответил отрицательно. Так же он поступил и с остальными. Объясняя полковнику свое поведение, он сказал, что был слишком взволнован и напуган, чтобы различить в темноте лица и запомнить их. То, как повел себя Омар, не отдавая себе в том отчета, привело к неожиданному результату и изменило отношение к нему. Ненависть, не остановившаяся даже перед убийством, внезапно переродилась в уважение и восхищение. Это могло бы показаться странным, но не невероятным для египтянина. Вечером Омар рассматривал планы, будто ничего и не произошло. Вдруг возле него появился Хафиз. Старый Хафиз, за три недели совместной работы и проживания в одной палатке не обменявшийся с Омаром ни словом, безучастно глядя в пламя, произнес: — Зачем ты сделал это? Омар притворился, что увлечен изучением планов, и, не поднимая взгляда, ответил: — Зачем это сделал ты? Огонь, поддерживавшийся верблюжьим навозом, шипел и потрескивал, и звуки эти еще более подчеркивали глубину молчания. Скорость, с которой Хафиз перебирал бусинки своих четок, выдавала его беспокойство. — Мы считали, что ты предал нас, — начал он, помедлив, — предал наш народ. — Потому что ношу брюки и знаю их язык? — настойчиво спросил Омар, кивнув в сторону палаток офицеров. — Я родился в Гизе, возле Великих пирамид, я был погонщиком верблюдов до двенадцатого года жизни, пока не получил возможность поступить в услужение к английскому профессору в Луксоре. Там я научился читать и писать и выучил английский язык. Что в этом предательского, во имя Аллаха? Между тем вокруг собеседников собиралось все больше рабочих, скрестив ноги, они садились на песок и внимали каждому слову. — В нашей стране, — начал Хафиз, — действует военное право. Это означает, что мы, дети Египта, не имеем права голоса в собственной стране. Это несправедливо. Нас втянули в войну, которая нас не касается, страны, с которыми мы были друзьями, назвали нашими врагами. Британцы обращаются с нами, как с глупыми малолетними детьми, угрожая палкой. А ведь Англии не было ни на одной карте, когда египетская культура уже переживала свой расцвет. — Я не могу не согласиться с твоими словами, ответил Омар, — и мне причиняет не меньшую боль то, как они обходятся с нашим народом. Но мне кажется разумнее встать на сторону Великобритании, хотя бы давшей нам султана и пообещавшей Египту независимость по окончании войны, а не на сторону Оттоманской империи. Эти слова привели Хафиза в бешенство, его глаза засверкали, он схватил горсть песка и швырнул его в огонь: — Все это пустые обещания, а ты настолько глуп, что веришь им. Что это за султан, назначенный христианскими псами? Жалкое зрелище! Что сказал пророк Мухаммед, когда несколько арабов пришли к нему с требованием год молиться их богам в обмен на то, что следующий год они будут молиться Аллаху? Он сказал: «О вы, неверные, я почитаю не то, что почитаете вы, а вы не почитаете того, что почитаю я, и я никогда не стану почитать того, что почитаете вы, а вы никогда не захотите почитать то, что почитаю я. У вас своя религия, а у меня своя!» Так сказал он и никак иначе. Англичанин никогда не поймет восточную религию и политику, а религия и политика англичан останутся непостижимы для жителя Востока. Окружающие согласно кивнули, и Хафиз спросил, обратившись к Омару: — Ты понимаешь это, слуга англичан? Омар вскочил, как будто собираясь броситься на Хафиза, но двое мужчин встали между ними, так что он лишь крикнул: — Я не знаю, кто из нас менее честен, я или ты! Я добровольно продаю англичанам свою рабочую силу, я не поступаюсь собственными убеждениями. Ты же, Хафиз, жалкое существо, берешь деньги из той руки, которую готов отрубить при первом удобном случае. После этих слов поднялся возбужденный гул, по которому можно было понять, что Омар не одинок в своем мнении. В любом случае, своей четкой позицией он заслужил уважение людей. И хотя рабочие не стали более дружелюбно относиться к нему, Омару по крайней мере не приходилось теперь бояться за свою жизнь. Работы продвигались быстро, даже быстрее, чем было запланировано, так как материал теперь подвозился по уже уложенным рельсам. Дважды в день извергающий шипение и дым локомотив с дюжиной груженых вагонов пересекал пустыню, направляясь от места стройки к Исмаилии и обратно. Однажды на северном горизонте появились темные тучи песка, они все увеличивались и приближались, и рабочие начали волноваться. Наконец, британские офицеры объявили, что это турецкие пленные, которых ведут в Каир. Встреча посередине Синайской пустыни запомнилась всем. Молча, подавленно и в страхе перед собственным будущим брели тысячи оборванных, измученных турков мимо уставившихся на них египтян. То тут, то там — подавленный взгляд, большинство с опущенными головами, на многих грязные повязки. Британские солдаты на лошадях резкими командами сгоняли их в ряды. Так, медленно, шли пленные вдоль новых путей, направляясь на запад и исчезая за горизонтом. Омар сочувствовал им, принимая сторону слабых, — ведь он сам был одним из них, слабых, — и ему было трудно забыть странное происшествие. Хотя турки и были врагами египтян, а англичане — союзниками, Омар скорее сочувствовал врагам, нежели друзьям, ведь врагов сделали врагами, а союзников — союзниками буквально в течение одного дня. Омар пытался прогнать мысль о том, что все могло сложиться иначе, и британцы стали бы воевать против Египта, турки же — на его стороне, и потребовалось немало дней, прежде чем его охватило безразличие. Вдоль железнодорожных путей через каждые пять миль ставился новый лагерь, откуда рабочие добирались до стройки. Проложив пять миль путей, они переносили лагерь, снося каждый второй построенный до них. Так что каждые десять миль путей можно было встретить небольшой палаточный городок, служивший также складом материала. Небольшие группки людей охраняли их. Там, где насыпь должна была пересечь цепь холмов Гебель эль-Каср, был раскинут самый крупный лагерь. Полковник Солт разделил весь рабочий корпус на три группы. Британская группа взрывателей с помощью грех тонн динамита прокладывала путь сквозь Гебель эль-Каср. Первая группа рабочих освобождала его от обломков, вторая насыпала насыпь, третья укладывала шпалы и рельсы. Через две недели препятствие было преодолено, и корпус двинулся дальше на восток. Омар получил от полковника Солта задание вместе с британским офицером Джерри Бакстоном охранять лагерь эль-Каср — невыносимо скучное занятие, для выполнения которого им отрядили десяток британских солдат и вдвое больше египтян. Впервые в жизни Омар держал в руках оружие, впервые он пожалел, что взял на себя столько ответственности в работе корпуса. В три смены солдаты и рабочие охраняли лагерь. Больше, чем дневная жара и ночной холод, чем тяжелая работа в корпусе, людей томило одиночество бесконечной каменистой пустыни и скука. Они без дела лежали в палатках, курили табак и, несмотря на строгий запрет, опустошали запасы виски. Попытки Бакстона образумить и призвать к порядку оказались бесполезными, так как он сам не был чужд алкоголю. Почти ежедневно между египтянами и англичанами вспыхивали ссоры по поводу того, кому следует отдавать команды, а кому — повиноваться, и драки, на которые вскоре стало затрачиваться больше сил и времени, чем на выполнение задания. Ко всему прочему, заболел повар, и, так как никто не умел исполнять его обязанности, ежедневный рацион свелся к чаю, хлебу и сардинам. Ситуация была накалена до предела. Поняв, что угрозы бесполезны, Джерри Бакстон вызвался отправиться на следующем поезде в лагерь полковника Солта доложить о ситуации. Во время его отсутствия старшим назначался Омар. Когда в течение двух суток от Бакстона не поступило никаких известий, и англичане, и египтяне бросили службу. На увещевания Омара никто не обращал внимания. Лагерь оставался без присмотра и днем, и ночью, и любой проходящий караван, а также случайные пастухи легко могли воспользоваться хранившимися в нем запасами. На третий день Омар решил отправиться на поиски Бакстона. Утром он сел в поезд, двигавшийся на восток, и, достигнув цели, обнаружил Бакстона в окружении офицеров, словно забывшим о своем задании. Когда Омар нашел полковника Солта и приступил к докладу, вдали раздался мощный взрыв. Вскоре на западе возникло черное дымное облако. — Саботаж! Саботаж! — вскричал Солт и бросился в лагерь собирать вооруженных солдат. Никто еще не знал, что именно произошло, а Солт уже грозился отдать Омара и Бакстона под трибунал, если взорваны запасы в Гебель эль-Каср. То, что произошло на самом деле, превзошло все предположения. Когда поезд приблизился к лагерю, машинист стал подавать тревожные знаки в сторону открытого вагона, где находились Солт, Бакстон, Омар и несколько вооруженных солдат. За локомотивом ничего не было видно, но поезд внезапно остановился. — Конечная станция! — крикнул машинист, спускаясь вниз по лестнице. Солт и остальные последовали за ним и осторожно приблизились к кратеру, представшему их глазам. Поникшие, словно стебли тростника, рельсы свисали но его краям, отстоявшим друг от друга шагов на двадцать, не меньше того была и глубина ямы. Взрывной волной шпалы вырвало из-под рельсов и отбросило на палатки лагеря вместе с мусором и обломками камней, разметав их, словно по пустыне прошел сильный хамсин[6]. Людей парализовал страх. Гробовая тишина и полное отсутствие в лагере признаков жизни заставили их содрогнуться. Так они и стояли, словно вкопанные, пока Солт не расстегнул верхнюю пуговицу формы, чтобы глотнуть воздуха. — Это саботаж! — тихо сказал, почти прошептал полковник. Он повторил эту фразу, будто она успокаивала его, будто он собирался с силами, готовясь со всей силой обрушить на окружающих свой гнев. Но этого не случилось. Солт медленно обошел кратер, отбросил в сторону поломанные рельсы и осмотрел мусор, засыпавший лагерь. От охраны не осталось и следа.
Не только то, что окно было совсем маленьким, было причиной темноты в камере: зарешеченное окно выходило в шахту, ведшую к поверхности земли и вновь закрытую решеткой. Камеры, размещенные на один этаж ниже уровня земли, находились в помещении бывшей казармы на окраине Исмаилии, служившей штаб-квартирой английскому генералу сэру Арчибальду Мюррею. Омар был арестован на Гебель эль-Каср и в сопровождении двух вооруженных солдат отправлен в Исмаилию. Полковник Солт обвинял его в измене; он не поверил словам Омара, что заговорщики действовали за его спиной. И хотя у Солта не было доказательств, он заявил, что на ближайшем заседании военного трибунала представит свидетелей. В камере, десять шагов в длину и пять в ширину, с койками у стен, царил смрад, которым Омар поначалу не решался дышать. В первые дни, проведенные им здесь, Омара охватила уверенность в неизбежности конца. Он знал, что значит трибунал и что каждый обвиненный приговаривался к смерти через расстрел. И в отчаянии размышляя о неотвратимом, отчего пропадало желание сопротивляться, Омар впал в некое безумие: сопровождая свои слова театральными жестами, он выкрикивал суры Корана, в которых говорилось о божественной справедливости. Омар отказывался от пищи, подаваемой дважды в день через окошко в двери, — не из протеста, а из-за неспособности принять пищу в этом состоянии. На четвертый день, когда сознание Омара грозило помутиться окончательно, в его камере неожиданно появился еще один заключенный. В скудном свете, проникавшем в камеру, он различил удрученное лицо египтянина. Определенно тот не был ни пастухом, ни крестьянином, скорее служащим какого-нибудь учреждения. Омар протянул вновь прибывшему руку и дружелюбно поздоровался: «Меня зовут Омар». Тот же никак не отреагировал и отвернулся от Омара. Ночью Омар проснулся от страха — незнакомец тряс его за плечи. — Эй, — прикрикивал тот. — Эй, тебе что-то снилось, ты говоришь какую-то бессмыслицу. Омар пробормотал извинения и со страхом уставился в темноту. — Что ты там болтаешь про динамит? — вновь зазвучал голос из темноты. — Ты кричал: «Я всех вас взорву!» — Не знаю, — солгал Омар. — Меня зовут Нагиб эк-Касар, — услышал он. — Омар Мусса, — ответил мальчик, затем повисла пауза. Наконец, Омар, собрав все свое мужество, тихо сказал: — Британцы обвиняют меня в саботаже. Они повесили на меня взрыв на новой железной дороге… Нагиб присвистнул почти что с уважением: — И? — Что «и»? — Я имею в виду, это ты сделал? — Конечно, нет! — возмущенно воскликнул Омар, и в тот же момент ему в голову пришла мысль, что это мог быть шпион, имеющий задание уличить его. — А ты? — спросил он с любопытством. — Шпионаж, — ответил эк-Касар, и вновь воцарилось молчание. — И что же ты выяснил? — осведомился Омар. — Ничего, абсолютно ничего, — заволновался Нагиб эк-Касар. — Я рисовал карты в Рашиде и Саккаре, археологические карты. Я и не знал, что британцы ок; оло недели наблюдали за мной. — Археологические карты, говоришь? — Да, я археолог. Я учился в Берлине. После начала войны мне пришлось вернуться в Египет. Омар сел и, глядя в темноту, размышлял о том, можно ли довериться незнакомцу, рассказав о том, как он работал у профессора Шелли. Но недоверие было слишком велико, и он промолчал. — Они не имеют права так с нами обходиться, — начал собеседник. — Кучка колонизаторов! Но время придет, и тогда… — Тише! — предупредил Омар. — Охрана по ночам подслушивает под дверями. Они проговорили всю ночь, и Омар начал верить, что эк-Касар говорит правду, что он не британский шпион, и все же Омар решил быть очень осторожным. Ненависть, с которой Нагиб говорил об англичанах, могла оказаться ловушкой. Через неделю совместного существования Омар и Нагиб начали постепенно проникаться доверием друг к другу. Это было похоже на осторожное взаимное ощупывание. Они проводили рядом бесконечные ночи, не видя, но лишь слыша друг друга, и это оказалось наиболее важным. Слова, сказанные в темноте и не сопровождаемые мимикой и жестами, весят намного больше. Каждый раз, заговаривая ночью, Нагиб проклинал британцев и колонизаторов вообще, при этом приводя столь убедительные аргументы, что у Омара исчезли сомнения в искренности сокамерника. Казалось, в той же степени, что Омар отчаивался, Нагиб утверждался в своих радикальных взглядах. Нагиб успокаивал Омара, убеждал не бояться будущего, у него, мол, есть много друзей, и они никогда не допустят, чтобы с его, Нагиба, головы хоть волос упал. И Омара в беде не оставят. Омар не слишком верил этим уверениям Нагиба, считая их просто попыткой утешения в безвыходной ситуации. Однако однажды ночью случилось нечто неожиданное: Омар проснулся, услышав стук в окно. — Нагиб! Нагиб! — прошептал Омар. — Ты слышишь? — Да, — ответил Нагиб. — Что это может быть? — Разве я Аллах? — послышалось из темноты. Стук становился громче. — Вставай! — прошептал Нагиб. — Встань спиной к стене и помоги мне. Омар на ощупь пробрался к стене. Сцепив руки, Омар помог Нагибу подняться к окну и открыть внутреннюю задвижку на ставне. — Что там, Нагиб? — нетерпеливо спрашивал Омар, глядя наверх. Под тяжестью сокамерника болели пальцы. Он слышал шорохи, производимые Нагибом, и беспокойно поинтересовался: — Сколько мне еще держать тебя? Нагиб посмеивался, и Омару хотелось даже отпустить руки, лишив того опоры, потому что Нагиб не отвечал, но затем он услышал голос: — Совсем не просто достать бутылку сквозь прутья решетки. Опускай! — Что случилось? — повторил Омар, как только Нагиб оказался внизу. — Кто-то послал нам выпить! — Что? — Именно так, перед окном на веревке висела бутылка. — И он подал ее Омару. — Бутылка? Что это значит? — И Омар вернул ее Нагибу. Вынимая зубами пробку, Нагиб уверенно ответил: — Я же говорил тебе, что у меня много друзей. — В темноте было слышно, как он пьет из горлышка. — Виски, ирландский виски. Омар потерял дар речи. Когда Нагиб вновь передал ему бутылку с предложением выпить, Омар ничего не ответил. Он понюхал напиток, но запах вызвал у него отвращение; Омар вернул бутылку, не приложившись к ней, и лег на свою койку. Нагиб наслаждался виски, как наркотиком, в котором ему было отказано долгое время, издавая удовлетворенное фырканье и беседуя сам с собой, так как Омар молчал. Он восхвалял дружбу и будущее Египта. Когда в своей эйфории Нагиб слишком повышал голос, Омар останавливал его. Омар уже было подумал, что алкоголь усыпил Нагиба, но тот вдруг начал держать пламенные речи о Саде Заглуле, предводителе египетских националистов, и их общем деле. И каждый раз, когда возле дверей камеры звучали шаги охраны, Омар был вынужден зажимать рот пьяного сокамерника. Лежа на койке, ставшей частью его жизни, Омар слушал Нагиба, который и в состоянии глубокого опьянения говорил разумные вещи о том, что Египет принадлежит египтянам и никому другому и что британцам безразлично будущее Египта, но речь в этой войне идет о Суэцком канале и морском пути в Индию. К утру, когда в окно упал луч света, язык Нагиба начал тяжелеть, он постепеннозамолкал и, наконец, уснул. Еще до начала побудки Омар попытался спрятать бутылку. Он хотел опустить ее в ведро, находившееся в камере для совершения естественных потребностей. Но, предварительно оглядев бутылку со всех сторон, он сделал неожиданное открытие: на этикетке, так что увидеть можно было лишь сквозь бутылку, находился рисунок — очертания кошки, точно такой же, как его ожог. Омар испугался. Что это могло значить? Он смотрел на спящего Нагиба и слушал его тяжелое дыхание. Омара нелегко было напугать, но в тот момент он пожалел, что записался в рабочий корпус. Бутылка в его руках дрожала, а на затылке выступил пот. Сквозь дверь он услышал шаги охраны, затем крики: «Утренняя поверка, утренняя поверка!» Он слышал их каждое утро в течение месяца. Нагиб спал. Когда ключ повернулся в замочной скважине, Омар быстро спрятал бутылку у себя под матрасом. Офицеру он объяснил, что Нагиб болен, что тот всю ночь мучился от спазмов желудка и теперь лучше не будить его. После скудного завтрака — чая с темным хлебом — и утренней поверки Омар возвратился в камеру. Нагиб храпел. Закинув руки за голову, Омар глядел в потолок над своей койкой, с которого облезала краска. Уже почти пять лет прошло с момента его загадочного похищения, чуть не стоившего ему жизни, и причины которого так и остались сокрыты. Омар уже забыл о событии, имевшем столько последствий и оставившем столько улик, которые, однако, все вместе ни к чему не вели, или, скорее, заставил себя забыть о нем. Все дальнейшие поиски казались ему бесполезными и даже опасными, а забвение оказалось лучшим лекарством. Быть может, он стал жертвой ошибки что тем не менее не объясняло роли Юсуфа и его дочери Халимы во всей истории. Халима — он все еще не забыл девочку. Долгое время он верил, что она обманула его, иллюзией чувств желая отвлечь от каких-то важных событий. Конечно, тогда он был еще неопытным мальчиком, но ему не хотелось верить в возможность обмана. Не важно, почему Халиме пришлось исчезнуть однажды ночью. Она сделала это не по собственному желанию. Быть может, она, так же, как и он, необъяснимым образом была втянута в какой-то заговор. В любом случае ее исчезновение не давало повода обвинять ее. Так думал Омар, пока лежал и слушал дыхание Нагиба. Менее всего он ожидал, что прошлое настигнет его здесь, в камере. Какое отношение имели британские оккупанты к гробнице под домом Юсуфа, а Нагиб — к нему? И было ли это все вообще связано? Или это просто совпадение? Омар вспомнил слова профессора о том, что величайшие открытия совершаются не с помощью науки, а по воле случая. Что ему делать в этой ситуации? Должен ли он спрятать бутылку и промолчать о своем открытии? Или ему следует выпытать у Нагиба, какое значение имеет образ кошки? Омар не находил ответа и чем больше пытался распутать это сплетение фактов, вопросов и нелепостей, тем менее он был в состоянии мыслить ясно и логично. Следуя интуиции (еще минуту назад эта мысль показалась бы ему неуместной), Омар поднялся, схватил правый рукав сокамерника и оголил его руку. В жизни бывают ситуации, когда то, чего ожидаешь, может напутать больше, чем неожиданное. Омар ожидал увидеть на плече Нагиба такой же знак, что был и у него. Теперь же, когда он четко видел его перед собой, Омара бросило в дрожь. Испуганно, будто увидев нечто запретное, он опустил рукав Нагиба. В этот момент тот проснулся. С наибольшим удовольствием Омар убежал бы подальше, но этому препятствовали стены камеры, запертая дверь и охрана, дежурившая в коридоре. Он почувствовал себя настолько слабым и неуверенным, что решил просто ждать, что произойдет дальше. Поэтому он резким движением достал бутылку из-под матраса и сунул ее Нагибу. Тот сначала испугался, затем, следуя повелительному жесту, пригляделся. Губы Нагиба искривились в усмешке. За то время, что они провели вместе, Нагиб еще никогда не смеялся. Но он молчал, что буквально привело Омара в бешенство. Он нагнулся, поднял рукав и показал ему на знак кошки. Нагиб подскочил, будто в него молния ударила, будто пробудился от страшного сна, и тяжело задышал, протирая глаза и будто не веря им. Прошло некоторое время, прежде чем Нагиб заговорил. Наконец, он произнес, заикаясь: — Но это невозможно. Такого не может быть. Омар оглядел Нагиба. Хотя он и не знал, что случится дальше, страх прошел. Омар наслаждался неуверенностью, которую сумел вселить в сокамерника, что не отвечало никакой логике, потому что Нагибу было известно многое, Омару же ничего. Следовало ли ему сознаться, что он не знает, как случилось, что на его руке появился этот ожог? В тот момент правдоподобно бы это не прозвучало. Так что Омар молчал, ожидая реакции эк-Касара. Нагиб покачал головой: — Итак, неделями двое сидят в одной камере и не знают, что оба принадлежат к тадаману[7]. Тадаман? Омар никогда не слышал этого слова, но решил не признаваться в этом. Он хотел узнать об организации максимально много. — Откуда ты? — спросил Нагиб. — Луксор, — коротко ответил Омар. — Очень хорошо. Тадаману везде нужны люди. Увидишь, они вытащат нас отсюда. — Ты уверен? — Абсолютно, — кивнул Нагиб. — Эта бутылка — знак. Они хотели сказать, что знают, где мы находимся и что нам не надо беспокоиться. — Бутылкой виски? — Ну, да, — Нагиб смущенно опустил глаза, — тадаман знает, что я предпочитаю виски чаю, понимаешь? Омар понял. Но оптимизм Нагиба внушал ему сомнения. Кто смог бы освободить их из британской штаб-квартиры и как это могло быть сделано? Больше же всего его интересовал вопрос, как люди тадамана отреагируют на то, что их окажется двое вместо одного. — Я сразу не поверил тебе, — начал Нагиб. — Взрыв новой железнодорожной линии — мое уважение, это гениально. Омар молчал. — Произведение искусства, — повторил Нагиб с выражением уважения. — Это будет тебе стоить головы, если нас не освободят. Но ты можешь быть уверен: они придут за нами! — Во имя Аллаха! — ответил Омар, желая сменить неприятную тему: — Я тоже не поверил тебе, когда ты сказал, что рисуешь археологические карты, смешно! Нагиб посерьезнел: — Можешь смеяться; но смех застрянет у тебя в горле, когда ты узнаешь, о чем идет речь. — Ya salaam. — Омар подошел к двери и прислушался. — Воздух чист, можешь говорить. — Поклянись Аллахом, что не передашь никому ни слова из того, что я сейчас скажу, иначе поплатишься жизнью. — Клянусь Аллахом. — Ты — тадаман и, как тадаман, имеешь право знать все. Омар кивнул, и Нагиб начал рассказывать: — На рубеже веков в Египет приехал британский профессор Эдвард Хартфилд, он был известным археологом. Его считали лингвистическим гением, потому что он не только говорил на всех современных европейских языках, но и владел языком иероглифов, демотическим, еврейским, хеттским, вавилонским и арамейским. Такие гении рождаются раз в пару сотен лет. По разрешению правительства этот Хартфилд искал в Саккаре гробницу Имхотепа… — Имхотепа? — Услышав это имя, Омар почувствовал, как бешеный поток пронесся от его мозга по всему телу и на мгновение парализовал его. Будто бы вечер листал страницы книги, перед Омаром возникали обрывки воспоминаний: записка в покинутой журналистом Карлайлем комнате и на ней — дважды подчеркнутое слово «Имхотеп», рассказы профессора Шелли о поисках его гробницы. Но какое отношение к Имхотепу имели Нагиб и он, Омар? Какими путаными путями шла судьба, объясняя необъяснимое? — Ты знаешь о значении Имхотепа? — спросил Нагиб. Омар кивнул. — Сначала исследования Хартфилда вызвали не больше интереса, чем любые другие раскопки. Занимаясь археологией, зачастую всю жизнь посвящаешь поискам чего-то одного, в результате же обнаруживаешь нечто совсем иное. И многие тем и удовлетворяются. С Хартфилдом было по-другому. Он сделал огромное количество открытий, таких же значимых, как открытия Мариета, Масперо и Питри, но казалось, они не интересуют его. Ходили слухи, что он обнаружил гробницы Третьей династии, но, опасаясь, что они могут отвлечь его от главной цели, вновь засыпал их. Это странное поведение не осталось незамеченным. Каирское Управление археологии и полиция провели расследование, но ни одни, ни другие не смогли обнаружить в деятельности Хартфилда ничего противозаконного. Когда же Картер призвал его к ответу, спросив об истинной цели его поисков, Хартфилд ответил, что это гробница Имхотепа — исчерпывающее объяснение. Люди, работавшие у Хартфилда, получали очень большое жалованье, большее, нежели у любого другого археолога, а потому из них практически невозможно было что-либо вытянуть — никому не хотелось терять работу. Постепенно все же просочились слухи о том, почему Хартфилд ищет именно гробницу Имхотепа. Вернее, появились три версии: первая утверждала, что в ней сосредоточены сокровища и золото всего человечества, вторая — что там находятся документы со всей мудростью человечества и знаниями, давно потерянными и несущими тому, кто найдет их, власть над миром. — А третья версия? — взволнованно спросил Омар. — Согласно третьей версии, Имхотеп взял с собой в могилу и то, и другое — все золото и все знания. Омар был потрясен, он пытался сопоставить все услышанное между собой, а также с пережитыми им событиями, но мысли его еще больше запутывались. — Но это же всего лишь предположения, — наконец произнес он, — или существуют доказательства? Какие доказательства имеет Хартфилд? Он должен предъявить их! — Этого он, к сожалению, сделать уже не сможет. — Почему? Что это значит? — Хартфилд исчез. Будто испарился. — Чепуха! — возмущенно возразил Омар. — Британский профессор не может просто исчезнуть. Вероятно, он возвратился в Англию, быть может, сдался или, напротив, нашел нечто, чем решил ни с кем не делиться. В любом случае, я не могу представить себе, чтобы профессор растворился в воздухе. У него же были рабочие, они должны были знать, где его видели в последний раз. Жестом Нагиб остановил Омара: — Да, конечно, день исчезновения профессора точно известен. В последний раз его видели девятого дня Рамадана неподалеку от Рашида. Это подтверждают двое из его людей. С тех пор о нем ничего не известно. — Почему в Рашиде? От Саккары до Рашида около сотни миль. Что нужно было Хартфилду в Рашиде? — Послушай, дружок В Рашиде археологи однажды наткнулись на архив священнослужителей. Среди прочего, в нем был обнаружен и «камень языков», найденный солдатами Наполеона, по нему стало возможным расшифровать иероглифы. Большинство из несметного количества плит сломаны, от некоторых найдены лишь обломки, было бы невозможно пытаться сложить документы по кусочкам. Попытка обречена на неудачу, даже если какой-нибудь из исследовательских институтов согласился бы это сделать. Многие фрагменты были увезены археологами с собой, некоторые находятся в музеях Лондона, Парижа, Берлина и даже Нью-Йорка. И, возвращаясь к Хартфилду: вероятно, в его руках оказался наиболее ценный обломок, дающий указание на местонахождение гробницы Имхотепа и ее таинственное содержимое, но информации не хватало для того, чтобы найти ее. Это и есть причина, по которой он в Рашиде искал другие обломки. — Боже мой! — Омара явно заинтересовала история. Он молчал, вновь про себя обдумывая рассказанное Нагибом, и в его душе росло восхищение этим пьяницей-националистом. Его изложение дела было весьма логичным и правдоподобным, даже если он и не понимал, как тайная организация связана с поисками гробницы Имхотепа. Противоречия здесь не было, но и смысла Омар не видел, так что он спросил: — Я только одного не понимаю: ты-то какое к этому имеешь отношение? Я хочу сказать, как ты узнал все это? — Справедливый вопрос, — засмеялся Нагиб, — хотя ответ напрашивается сам собой. Омар, если сведения профессора верны и тот, кто найдет могилу Имхотепа, получит власть над миром, то мы, египтяне, наследники Имхотепа, не имеем права никому другому дать возможность разгадать тайну. Это сокровище принадлежит нам, сыновьям Нила, а не англичанам, не немцам, не французам и не американцам; только нам, понимаешь? — В этом ты прав, Нагиб. Но есть ли у нас соперники в поисках разгадки тайны? — Никто точно не сможет сказать, сколько их. Уверен, что поисками занимаются англичане. Только так можно объяснить мой арест — как предлог убрать меня из Саккары. Кроме них я знаю еще о группе профессиональных расхитителей гробниц из Луксора, которые загадочным образом наткнулись на сведения о захоронении Имхотепа. — Кто же это? — Их имена — Мустафа Ага Айат и Ибрагим эль-Навави, первый — британский консул, второй — начальник полиции и помощник мудира в Луксоре. — Они? — Ты знаешь их? — Я слишком хорошо знаю их. Ты уверен? — Абсолютно. Они допустили ошибку, поддерживая меня. Они думали, что Нагиб эк-Касар — глупое, спившееся Ничто, которым можно вертеть, как угодно. Спившийся — может быть, но глуп Нагиб эк-Касар никогда не был, слава Аллаху. Благодаря этой шайке нам удалось добраться до одного из фрагментов сомнительного послания. Мат и эль-Навави приехали в Берлин, чтобы бесчестным путем завладеть камнем, узким черным обломком плиты с демотическими письменами. Я тогда жил в прусской столице, и за пару жалких монет они попросили меня перевести текст. Я перевёл правильно, ведь обман бы однажды раскрылся, а рисковать я не хотел. Но ни один из них не заметил, что я сделал себе копию перевода. — Если я правильно понял, Нагиб, на сегодняшний день найдены три фрагмента документа, свидетельствующего о месте захоронения Имхотепа: один у Хартфилда, то есть пропавший, второй у Ага Айата и третий, хранившийся в Берлине, тоже у Айата. То есть британский консул владеет наиболее полной информацией. — Логично, но неверно. Подумай, единственный мотив Мустафы — деньги; речь идет лишь о том, чтобы обнаружить несметные сокровища, из которых по закону ему причиталась бы половина. У тадамана же другие мотивы. Никто из нас не гонится за материальными благами. Если мы найдем гробницу, она будет принадлежать нашей стране, нашему народу. Мы готовы пожертвовать жизнью ради общего дела. Мустафа Ага Айат уже давно не обладает своим фрагментом. Мы храним его в тайнике. — Но он знает содержание, вероятно, у него есть копия перевода. — Без сомнения. Но отвечаю на твой вопрос: тадаман располагает не меньшими знаниями, чем британский консул. — И о чем же идет речь в этих фрагментах? — Понять можно немногое. Упоминаются священнослужители Мемфиса, гробница божественного Имхотепа и фараон Джосер; в остальном же — отдельные слова, из которых невозможно понять контекста. Говорится о песке, секретах человечества, о ночи и жидкости. Чем дольше пытаешься разгадать их смысл, тем больше запутываешься. — Профессор Хартфилд имел доступ к этим фрагментам? — Считаю, что это невозможно. Вероятно, Хартфилд нашел еще один фрагмент, наведший его на след Имхотепа. — Но это значит, что тот, кто каким-либо образом завладеет фрагментом Хартфилда, будет иметь наибольшие шансы найти гробницу Имхотепа. — Можно так сказать. Но вероятно и то, что фрагмент Хартфилда утерян. — Я не могу в это поверить, — разгорячено воскликнул Омар. — Исчезновение Хартфилда не может быть случайностью. Оно должно быть связано с этим документом. Кому-то понадобилось устранить профессора, чтобы прибрать к рукам камень. Вероятно, он хранится где-то, как сокровище. Нагиб долго раздумывал, затем произнес: — Ты умен, Омар, ты достоин быть тадаманом. — Я ни минуты не сомневаюсь, — продолжал Омар, — что Хартфилд пал жертвой людей, знавших о его секрете и желавших заполучить камень. Но тогда встает вопрос: кто бы это мог быть? Кто знал о поисках Хартфилда? — Омар смотрел на Нагиба. Тот замахал руками: — Я знаю, о чем ты подумал, но это бессмыслица. Тадаман не имеет отношения к исчезновению Хартфилда. Если бы за этим стояли наши люди, то фрагмент был бы у нас и мы бы продвинулись намного дальше. Слова Нагиба звучали убедительно. То, чего Омар еще не мог объяснить, — это полное отсутствие следов Хартфилда. Омар вновь повторил: — Итак, день исчезновения Хартфилда известен. Должны быть известны и люди, работавшие с ним. — Конечно, они известны. — Вы расспрашивали их? — Да, один из наших людей. — И что он узнал? — Ничего. — Ничего! Это невозможно. Должно быть что-то, какое-то указание, необычное поведение, след, оставленный профессором. — Нет. — И вы довольствовались этим? — Да. А что нам было делать? Омар тряхнул головой: — Искать дальше. Кто был этот человек? — Я не знаю, я забыл его имя, но на него можно положиться, он верен тадаману. Их беседа продолжалась далеко за полночь. Они лежали на койках и разговаривали, прерываемые лишь шагами караульных, с регулярными промежутками приближавшихся к их двери. Каждую ночь караульные, одинаково стуча каблуками, проходили мимо. Можно было посчитать количество шагов — сорок семь в одну сторону от их камеры, двадцать шесть — в другую. Этот ритм прерывался — Аллаху ведомо, по какой причине, — лишь изредка. В бессонную ночь это становилось своего рода сенсацией, и Омар каждый раз напряженно вслушивался в тишину, гадая, что же произошло. При этом нет ничего менее интересного и предвещающего события, чем пустота тюремного коридора. Задержки шагов же, вероятно, были вызваны посторонней мыслью или внезапно зачесавшимся коленом. Омар был склонен верить Нагибу и возможности освобождения, но чем больше времени проходило, тем безнадежнее ему казалось их положение. Омар слышал о скорости, с которой решаются дела перед трибуналом. На вызов свидетелей вполне может не хватить времени. Приговор же обычно исполнялся в тот же день. Нагибу легко было говорить — шпионаж не причинял его величеству никакого ощутимого вреда, тогда как взорванная железная дорога — страшное преступление, которому легко представить подтверждение. К тому же на ежедневных прогулках распространился слух, что война близится к концу, Германия, Россия, Австро-Венгрия и Османская империя практически повержены, британцы же стоят на пороге победы. В душе Омара рос страх, что тадаман откажется от планов по их освобождению, тогда как британцы предадут «справедливой» каре всех пленных. Однажды ночью, когда надежда почти оставила его, Омар проснулся оттого, что монотонный ритм шагов прервался. Омар, вопреки ожиданию, услышал пару быстрых шагов, затем в гробовой тишине раздался глухой удар и звон ключей. Четкость, с которой можно было расслышать все происходившее, объяснялась полной темнотой в камере. Вскоре в замке повернулся ключ, и на пороге появились две фигуры. На головах их были мешки с прорезями. «Нагиб, скорее, пойдем!» Нагиб, полагавший, что Омар спит, спрыгнул с койки и стал торопливо шептать что-то пришедшим, но явно наткнулся на непонимание, так как оба в один голос крикнули: «Нет!» и попытались вытолкнуть Нагиба из камеры. Тот же бросился к Омару, подтащил его к двери, сорвав халат с его плеча, на котором был знак кошки. На одно мгновение оба мужчины замерли. Поведение Нагиба оказалось неожиданным, они переглянулись сквозь прорези в капюшонах, затем один из них шепнул: «Во имя Аллаха, следуйте за нами!»
5 Осенний Лондон
«Лицемеры и лицемерки — одни от других: они внушают неодобряемое, и удерживают от признаваемого, и зажимают свои руки. Забыли они Аллаха, и забыл Аллах про них. Поистине, лицемеры, они — распутники!»От прочих построек подобного рода на набережной Виктории в лондонском Сити это массивное девятиэтажное здание с покоящимся на колоннах порталом, ко входу которого вела широкая лестница, более всего отличала неприметность людей, в него входивших; да и тех было немного. В отличие от министерств, страховых и пароходных компаний между Черинг Кроссом и Блэкферз Бриджем, к которым шоферы подвозили лордов и аккуратно одетых служащих, к зданию Интеллидженс-сервис подъезжали лишь черные кэбы. Большее же число посетителей выскальзывало из толпы на набережной и торопливо исчезало за одной из двух вращающихся дверей. Меланхолический дух, не оставляющий Темзу даже в летние месяцы, в эту осень рано опустился на Площадь вдов. Чем настоящего британца не напутаешь, напротив, в это время высоких сапог и поднятых воротников в Вест-энде начинается театральный сезон — единственное время года, которое человек с положением проводит в Лондоне, не считая 3 июля, дня рождения короля Георга, конечно. В тот год главной темой для разговоров стало событие, обогнавшее по важности все произошедшее за последние годы, ведь Великобритания, Боже спаси короля, вышла победительницей в войне, и в неутихающих беседах в клубах, на Пэл Мэл и в Бромптоне царила неутихающая гордость. Конечно, война потребовала многочисленных жертв, в основном, правда, за границей, в Лондоне погибло «всего» 670 человек во время воздушных атак Германии — конечно, много, но не такое количество, какое предсказывали еще во времена короля Эдуарда. А ведь президент Немецкого общества полетов предупреждал, что на самолетах графа Цеппелина можно совершить то, чего не удалось Наполеону, а с помощью тысячи воздушных кораблей можно мгновенно уничтожить сотню тысяч солдат. Теперь ходили слухи, что автор этих ужасных сказок скончался в сумасшедшем доме. Таким образом, работы у Службы новостей правительства его величества не убавилось. Просто теперь она распространилась на другие области. Полковник Джеффри Доддс уже в течение семи лет возглавлял эту службу, что, судя по многосторонности этой работы, позволяло делать выводы о его необычайных талантах — если вообще можно говорить о таланте, когда речь идет о Службе новостей (название, служившее лишь эвфемистичным описанием шпионажа). Рассказывать о Доддсе подробнее значило бы выйти за всякие рамки, речь же пойдет лишь об основных чертах его характера. Полковник Джеффри Доддс был одним из тех, кто судит о других по их порокам. Добродетель можно сымитировать, пороки же — никогда. Доддс никогда не согласился бы провести жизнь за викторианским, оформленным статуэтками кариатид столом, если бы не получил тяжелое увечье в северной Бирме, наступив на собственную мину. Так что из Индии полковник возвратился с протезом вместо ноги и уверенностью, что, если он собирается и далее служить его величеству, делать ему это придется в сидячем положении. Его привели в восхищение слова умирающего короля Эдуарда о том, что нет смысла продолжать жить, если не можешь продолжать работать. Доддса с его светлой кожей, рыжими волосами и черной, по воле Господа, бородкой можно было принять за швейцара одного из заведений в Сохо — были и некоторые сведения о его недолгой карьере сутенера именно в этом районе, — если бы не идеально аккуратная одежда от Dunn&Co, вызывавшая восхищение окружающих. Есть мужчины, которые надевают твид и кашемир, есть же такие, которые их носят. Доддс принадлежал к последним: он носил свою элегантную одежду с благородством дворянина, родившегося в ней, при том, что не делал тайны из своего происхождения. А родом он был из Ламбета, что у вокзала Ватерлоо. Его аристократичной внешности не соответствовала лишь его манера выражаться — полковник не чуждался непристойностей и просторечий. Если не принимать последнее в расчет, полковник был высокообразованным человеком, приобретшим знания в процессе самостоятельного обучении, идя против воли рано овдовевшего отца, продававшего специи на Ковент-Гарден, чьего заработка вполне хватало на жизнь, но не на высшее образование. Теперь он жил в Кенсингтон Гардене, окруженный роскошной библиотекой и коллекцией картин с изображениями лошадей прошлого столетия и являлся членом Библейского общества и двух клубов, в которых состояли также Редьярд Киплинг и Клод Джонсон, управляющий «Роллс-Ройса», и восхвалял войну, как мать всех вещей (свободно цитируя Гераклита). Все предприятия Интеллидженс-сервис обозначались кодовыми названиями, автором которых был полковник Доддс, в связи с чем он имел обыкновение рассказывать своим агентам историю русского министра иностранных дел Александра Извольского, чтобы предупредить и продемонстрировать важность паролей. Итак, Извольский, тогда еще русский посол в Копенгагене, получил сведения о преобразованиях во всем дипломатическом корпусе царя и понадеялся занять важный пост посла в Берлине. Поэтому он послал своего камердинера, умного и ловкого немца, в Санкт-Петербург, чтобы проверить в определенных, хорошо информированных кругах, каковы его шансы. Чтобы их затея не была раскрыта, посол и его слуга договорились, что последний телеграфирует о результатах, используя всего одно слово: «капуста» — в том случае, если он должен стать послом в Германии, «макароны» — если его путь лежит в Рим. Телеграмма из Санкт-Петербурга содержала совсем другой пароль: «икра». В этом месте рассказа Доддс каждый раз, не умея сдержаться, заливался смехом. Успокоившись, он сообщал, что Извольский был хорошим дипломатом, но никудышным шпионом. Ведь его слуга выбрал самое подходящее слово, чтобы описать его будущий пост — пост министра иностранных дел России. Операция, находившаяся на повестке дня, должна была называться «Фараон», и Доддс предложил молодую команду для освещения аферы, ставшей сенсацией для лондонского общества. Премьер лично — но, конечно, не гласно, ведь никогда неизвестно заранее, где вас ждет позор и неудача, — дал распоряжение заняться этим делом. Поводом послужила статья в «Таймс» от 4 сентября 1918 года, в которой говорилось о загадочном исчезновении профессора Эдварда Хартфилда в северном Египте. Хартфилда считали чудаком, но признавали корифеем в своей области, с тех пор как тот расшифровал надписи на файюмских плитах, собрании иератических текстов Восемнадцатой династии. Встреча состоялась в кабинете на последнем этаже, деревянные стены которого были увешаны картами Британского королевства и его колоний, а в середине красовались длинный стол и кресла, чьим крестным, очевидно против своей воли, был Томас Чиппендейл. Джеффри Доддс занял место во главе стола, по сторонам расселись шестеро агентов, протоколист, присутствовавший на всех заседаниях подобного рода, и пожилой, незнакомый большинству присутствовавших господин, похожий на ученого, погрузившийся в кипу своих бумаг. На доске за спиной полковника были укреплены фотографии и рисунки, и Доддс начал рассказ, взявшись за тростниковую указку. — Это единственная существующая фотография профессора Эдварда Хартфилда, возраст — 54 года, последнее место жительства — Бэйсвотер, 124, Глочестер Террейс, член протестантско-пиетистской церкви, женат на Мэри, урожденной Фишер, оба британские подданные. Присутствующие записывали. — Фотография сделана около двадцати лет назад. По свидетельствам очевидцев, сейчас Хартфилд выглядит примерно так. — Доддс указал на рисунок, демонстрировавший морщинистое лицо человека, намного более старого, чем это следовало из его возраста. На Хартфилде были маленькие круглые очки, лицо украшали бакенбарды, подбородок был выбрит. — В последний раз профессора видели между 21 и 23 июля — точнее установить уже невозможно — в Рашиде, городе в западной дельте Нила. Мне не нужно рассказывать вам о профессиональных данных Хартфилда, они известны всем. Стоит упомянуть, что он не работал ни на Фонд Исследования Египта, ни на какую-либо другую подобную организацию. Хартфилд был ученый и мог многое себе позволить, учитывая размеры унаследованного состояния, в основном — сдаваемых домов в Бэйсутере и Пэддингтоне. Его счета в Вестминстерском банке не предоставляют никакой полезной информации, кроме того, что последняя транзакция была совершена 4 апреля. С тех пор деньги со счета не снимались. Джерри Пинкок, невысокий коренастый юноша с длинными волосами, какие были в моде во времена королевы Виктории, которого называли «ищейкой», потому что он вцеплялся в жертву, как собака, прервал полковника: — Сэр, можно ли утверждать, что профессор не стал жертвой несчастного случая, преступления или иного события, не подпадающего под нашу юрисдикцию? — Этот вопрос не должен волновать нас в данный момент, — с видимым раздражением ответил Доддс. — Любая из названных вами причин могла вызвать исчезновение Хартфилда, в таком случае дело не будет нас касаться. Но есть моменты, которые придают истории своеобразное звучание даже в том случае, если речь идет об обыкновенном убийстве. Прошу вашего внимания! Пока Доддс говорил, тело его расслабилось, а на лице появилась почти счастливая улыбка. Ему нравилось удивлять сотрудников постановкой вопроса, и его охватывала эйфория каждый раз, когда предстояло поведать об обстоятельствах нового дела — Доддс чувствовал себя восточным сказочником. Откинувшись на спинку кресла, скрестив руки на груди и устремляя взгляд то на ровную поверхность стола, то на белый потолок, он начал: — В Египте, являющемся, как вы знаете, частью британского протектората, ежегодно совершаются новые открытия. Думаю, вам знакомы экспонаты Британского музея, найденные во время раскопок. Даже эксперты не могут с точностью сказать, были ли уже сделаны важнейшие открытия или они ожидают нас в будущем. Ответ на этот вопрос делит археологов на два лагеря: одни считают, что раз все обнаруженные до сих пор гробницы оказались пусты, будучи разграблены века назад, то и все последующие раскопки к новым результатам не приведут. Вторая же группа считает, что существуют столь искусно скрытые захоронения, что они были забыты еще во времена правления династий. От одной замечательной личности Древнего Египта не осталось и следа; вернее, уже многие годы обнаруживаются все новые факты, заставляющие верить, что след найден. Но как только один из ученых нападает на него, след теряется вновь. Имя этой личности — Имхотеп. В описании личности Имхотепа Доддс, по обыкновению, так далеко зашел, что присутствующие начали уставать и гадать, не забрели ли они по ошибке на семинар по археологии. Чарльз Уайтлок, мускулистый шотландец из Глазго, обладатель кустистых светлых бровей, не выдержал первым. Ударив кулаком по столу, он крикнул: — Сэр, мы не могли бы перейти к делу? Отвлеченный от рассуждений об истории Египта, Доддс вернулся к теме: — Гробница Имхотепа по той причине, что древние египтяне не испытывали недостатка в золоте, может содержать больше золота, чем все современные золотые запасы мира. Пинкок присвистнул. И слово взял пожилой, незнакомый большинству присутствующих мужчина: — Если позволите, начинать надо не с золота. В дошедших до нас текстах есть указания на вещи, которых мы не понимаем и которые позволяют предполагать, что древние египтяне обладали научными знаниями и работали с системами, позволявшими строить пирамиды и вырезать из камня скал обелиски весом в тысячи тонн и перемещать их на тысячи километров, а также снабжать освещением и кислородом гробницы глубиной в пару сотен метров. Гробница Имхотепа могла бы стать сенсацией. — Профессор Шелли, — представил мужчину Доддс, — эксперт по Древнему Египту. Короче говоря, гробница Имхотепа — слишком важная находка, чтобы позволить другим ее обнаружить. По заданию правительства его величества этим делом должен заняться Интеллидженс-сервис. Уайтлок первый обрел дар речи: — Кто еще занимается поисками? Я имею в виду, помимо Хартфилда? — Это первый вопрос, который нужно прояснить. Мы не знаем, кому известно что-либо об этом деле и занимаются ли поисками другие секретные службы. Известно, что до сих пор две группировки пытались заполучить находки друг друга. В первую входят британский консул в Луксоре, Мустафа Ага Айат, — Доддс указал на фотографию на доске, — и начальник полиции Луксора Ибрагим эль-Навави, чьей фотографией мы не располагаем. Они давно занимаются расхищением могил и имеют контакты с археологами, возможно, в том числе и с английскими. Однажды они чуть не вывели нас из игры, но они не приняли в расчет леди Доусон. При упоминании прекрасной леди по комнате прошел шепоток. В Интеллидженс-сервис леди Доусон пользовалась уважением не только благодаря красоте, но и вследствие ее общепризнанного умения действовать со свойственными женщинам хитростью и коварством. То, что после смерти мужа она жила на корабле, путешествуя по Нилу, вызывало зависть, но ни в коем случае не враждебность. В поисках берлинского фрагмента плиты леди Доусон столкнулась с Айатом и эль-Навави и уже было отчаялась в успешном завершении операции, когда вызванное ею подкрепление инсценировало нападение в ночном поезде, следовавшем в Мюнхен. Рассказ вызвал вопрос Пинкока, какую роль играют во всей истории обломки плиты. По словам Доддса, Хартфилд делал попытки собрать воедино обломки плиты, на которой обнаружил указание на место захоронения Имхотепа. — Профессор Шелли, — добавил Доддс, — расскажет вам об этом подробнее. Профессор поднялся и раздал листы, лежавшие перед ним на столе, как на семинаре. — Первую из частей я обнаружил в Британском музее во время моих исследований относительно последних раскопок в Рашиде. Французы называют ее «Камнем Росета». Получив от вашего начальства доступ к секретной информации, я смог составить следующий текст:Коран, 9 сура (68)
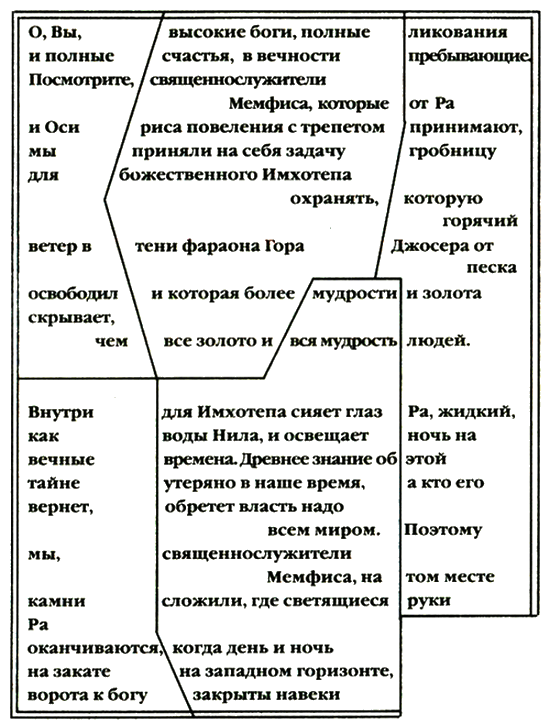 — Вы видите, — добавил профессор, — завершение первой части неполно, но речь идет о золоте и, предположительно, более важных вещах. Быть может, другие осколки содержат больше информации.
Он сел. Агенты чувствовали себя несколько беспомощно. Никто толком не знал, как реагировать.
— Кто еще заинтересован в поисках? — спросил «ищейка» Пинкок.
— Вторая группировка, — продолжил Доддс, — кажется мне намного более опасной, чем первая. Речь идет об одном или даже нескольких объединениях радикальных националистов. А противники, руководствующиеся политическими мотивами, всегда являются самыми опасными. Нам неизвестны ни глава организации, ни количество ее членов. В их безумии, направленном на то, чтобы освободить Египет от любого иностранного влияния, они не остановятся ни перед чем. Они наносят удары по британским подразделениям, взрывают железные дороги и топят корабли на Ниле, чтобы привлечь к себе внимание, и при этом пользуются поддержкой местного населения, так что необычайно трудно выследить этих людей. По всей стране у них есть сподвижники или члены организации, самой же опасной организацией из всех является тадаман, чьи члены — люди образованные и сознательно следующие своим принципам. В нее входят около двух сотен активистов и около двух тысяч сочувствующих. В качестве опознавательного знака они используют рисунок кошки, который встречается в текстах среди иероглифов. Нам неизвестно, почему они избрали именно этот знак, но он мог бы стать ключом к разгадке происхождения организации или местонахождения ее центра. Однако это просто гипотеза, не более.
Доддс достиг высшего момента в своих объяснениях. Это стало заметно по гробовой тишине, свидетельствовавшей о том, что каждый приступил к размышлениям о возможности собственного вклада в прояснение ситуации, — тишине, сравнимой с бесконечным покоем, предшествующим буре. Привыкшие погружаться в проблемы, требующие долгих расследований, лишь после которых становится ясно, существует ли, собственно, проблема, каждый из присутствующих чувствовал себя необходимым. И Доддс коротал время, приводя в порядок свою бороду, пальцами придавая кончикам заостренную форму.
— Сэр! — ищейка Пинкок первый продолжил обсуждение, — если я правильно вас понял, при решении этой проблемы нам придется иметь дело с парой неизмеримых фактов. Мы не только не знаем истинной цели поисков, мы не знаем ни места, ни количества «участников», ни степени риска. Это похоже на уравнение со всеми неизвестными, по законам математики такая постановка вопроса невозможна.
— Пинкок! — возмущенно воскликнул полковник — Мы не в университете находимся, а в секретной службе его величества. — Его все еще довольное лицо потемнело, а на лбу образовались морщинки, так что сотрудник вытянулся и по-военному коротко ответил: «Да, сэр!»
Приступов гнева полковника Доддса боялись, и всем было прекрасно известно, какое выражение его лица говорит: «довольно, дальше не заходи». Те, кто знал Джеффри Доддса достаточно хорошо, были уверены, что тот уже разработал подробный план действий и расписал роли всех участников, расставив их, как шахматы на доске. И было разумнее следовать его правилам. Пинкоку не пришлось долго ждать, потому что Доддс уже приступил к объяснению своего плана.
Исходя из того что Эдвард Хартфилд знал о проблеме больше, чем кто-либо, необходимо начать розыски профессора. Для этого группа разделяется: первая ее часть (далее называемая «А») работает в Лондоне под руководством профессора Шелли, вторая (далее — «Б») занимается поисками в Египте. В случае необнаружения искомого лица или его жены следует начать поиски свидетелей (друзей, знакомых, случайно встретившихся с ним); при отсутствии таковых следует заняться публикациями и документами. Если в процессе расследования будут выяснены новые факты, особенно это относится к сведениям о националистских группировках, в том числе о тадамане, сведения эти должны быть срочно сообщены центру, откуда будут разосланы остальным занятым в операции «Фараон» агентам.
Командным центром для группы «А» и всей деятельности в Великобритании назначался центральный офис Интеллидженс-сервис, набережная Виктории, для группы «Б» и деятельности в Египте — корабль «Изис» леди Доусон, причал Луксора. «А» и «Б» будут располагать одинаковыми финансовыми средствами и полномочиями, установленными внутренним порядком Интеллидженс-сервис, разрешением на применение огнестрельного оружия в рамках операции, а также могут обращаться в государственные учреждения под вымышленными именами. В случае раскрытия деятельности, взятия под арест и заключения одного из агентов не должны стать известными ни его личность, ни задание, ни сведения об их организации. Вышестоящий В. О. (Военный Офис) опровергнет любую причастность.
Полный сознания важности задания, полковник выпрямился в кресле, бросил на присутствующих взгляд победителя и медленно заговорил, подчеркивая каждое слово:
— Господа, вы — элита мировой державы, которая подчинила себе пятую часть мира, а Служба новостей его величества — лучшая в мире. Не забывайте об этом во время проведения операции.
Доддс еще говорил, когда вошел курьер и положил на стол перед Доддсом записку. Доддс сначала сердито оттолкнул ее от себя, затем, однако, начав читать краем глаза, забеспокоился и заерзал в кресле.
— Только что, — начал он, — я получил сообщение из Луксора от леди Доусон: у подножия одной из дюн, в трех милях западнее Саккары, обнаружено тело женщины. Предположительно оно принадлежит Мэри Хартфилд, жене профессора Эдварда Хартфилда. Личность покойницы подтверждает письмо, найденное среди ее одежды. Оно датировано 4 октября 1918 года и подписано одной буквой — «К». В письме говорится о каменном отпечатке, который должен быть передан в обмен на сумму в 10 000 фунтов. Место встречи: отель «Саввой», Каир. Время передачи: 12 октября, 11 утра.
— Кто такой «К»? — взволнованно воскликнул Пинкок, в комнате поднялся шум, все говорили одновременно.
Полковнику Доддсу с трудом удалось успокоить людей, наконец, он заставил их слушать, повысив голос:
— Вы видите, господа, мы столкнулись с очередным конкурентом.
— Вы видите, — добавил профессор, — завершение первой части неполно, но речь идет о золоте и, предположительно, более важных вещах. Быть может, другие осколки содержат больше информации.
Он сел. Агенты чувствовали себя несколько беспомощно. Никто толком не знал, как реагировать.
— Кто еще заинтересован в поисках? — спросил «ищейка» Пинкок.
— Вторая группировка, — продолжил Доддс, — кажется мне намного более опасной, чем первая. Речь идет об одном или даже нескольких объединениях радикальных националистов. А противники, руководствующиеся политическими мотивами, всегда являются самыми опасными. Нам неизвестны ни глава организации, ни количество ее членов. В их безумии, направленном на то, чтобы освободить Египет от любого иностранного влияния, они не остановятся ни перед чем. Они наносят удары по британским подразделениям, взрывают железные дороги и топят корабли на Ниле, чтобы привлечь к себе внимание, и при этом пользуются поддержкой местного населения, так что необычайно трудно выследить этих людей. По всей стране у них есть сподвижники или члены организации, самой же опасной организацией из всех является тадаман, чьи члены — люди образованные и сознательно следующие своим принципам. В нее входят около двух сотен активистов и около двух тысяч сочувствующих. В качестве опознавательного знака они используют рисунок кошки, который встречается в текстах среди иероглифов. Нам неизвестно, почему они избрали именно этот знак, но он мог бы стать ключом к разгадке происхождения организации или местонахождения ее центра. Однако это просто гипотеза, не более.
Доддс достиг высшего момента в своих объяснениях. Это стало заметно по гробовой тишине, свидетельствовавшей о том, что каждый приступил к размышлениям о возможности собственного вклада в прояснение ситуации, — тишине, сравнимой с бесконечным покоем, предшествующим буре. Привыкшие погружаться в проблемы, требующие долгих расследований, лишь после которых становится ясно, существует ли, собственно, проблема, каждый из присутствующих чувствовал себя необходимым. И Доддс коротал время, приводя в порядок свою бороду, пальцами придавая кончикам заостренную форму.
— Сэр! — ищейка Пинкок первый продолжил обсуждение, — если я правильно вас понял, при решении этой проблемы нам придется иметь дело с парой неизмеримых фактов. Мы не только не знаем истинной цели поисков, мы не знаем ни места, ни количества «участников», ни степени риска. Это похоже на уравнение со всеми неизвестными, по законам математики такая постановка вопроса невозможна.
— Пинкок! — возмущенно воскликнул полковник — Мы не в университете находимся, а в секретной службе его величества. — Его все еще довольное лицо потемнело, а на лбу образовались морщинки, так что сотрудник вытянулся и по-военному коротко ответил: «Да, сэр!»
Приступов гнева полковника Доддса боялись, и всем было прекрасно известно, какое выражение его лица говорит: «довольно, дальше не заходи». Те, кто знал Джеффри Доддса достаточно хорошо, были уверены, что тот уже разработал подробный план действий и расписал роли всех участников, расставив их, как шахматы на доске. И было разумнее следовать его правилам. Пинкоку не пришлось долго ждать, потому что Доддс уже приступил к объяснению своего плана.
Исходя из того что Эдвард Хартфилд знал о проблеме больше, чем кто-либо, необходимо начать розыски профессора. Для этого группа разделяется: первая ее часть (далее называемая «А») работает в Лондоне под руководством профессора Шелли, вторая (далее — «Б») занимается поисками в Египте. В случае необнаружения искомого лица или его жены следует начать поиски свидетелей (друзей, знакомых, случайно встретившихся с ним); при отсутствии таковых следует заняться публикациями и документами. Если в процессе расследования будут выяснены новые факты, особенно это относится к сведениям о националистских группировках, в том числе о тадамане, сведения эти должны быть срочно сообщены центру, откуда будут разосланы остальным занятым в операции «Фараон» агентам.
Командным центром для группы «А» и всей деятельности в Великобритании назначался центральный офис Интеллидженс-сервис, набережная Виктории, для группы «Б» и деятельности в Египте — корабль «Изис» леди Доусон, причал Луксора. «А» и «Б» будут располагать одинаковыми финансовыми средствами и полномочиями, установленными внутренним порядком Интеллидженс-сервис, разрешением на применение огнестрельного оружия в рамках операции, а также могут обращаться в государственные учреждения под вымышленными именами. В случае раскрытия деятельности, взятия под арест и заключения одного из агентов не должны стать известными ни его личность, ни задание, ни сведения об их организации. Вышестоящий В. О. (Военный Офис) опровергнет любую причастность.
Полный сознания важности задания, полковник выпрямился в кресле, бросил на присутствующих взгляд победителя и медленно заговорил, подчеркивая каждое слово:
— Господа, вы — элита мировой державы, которая подчинила себе пятую часть мира, а Служба новостей его величества — лучшая в мире. Не забывайте об этом во время проведения операции.
Доддс еще говорил, когда вошел курьер и положил на стол перед Доддсом записку. Доддс сначала сердито оттолкнул ее от себя, затем, однако, начав читать краем глаза, забеспокоился и заерзал в кресле.
— Только что, — начал он, — я получил сообщение из Луксора от леди Доусон: у подножия одной из дюн, в трех милях западнее Саккары, обнаружено тело женщины. Предположительно оно принадлежит Мэри Хартфилд, жене профессора Эдварда Хартфилда. Личность покойницы подтверждает письмо, найденное среди ее одежды. Оно датировано 4 октября 1918 года и подписано одной буквой — «К». В письме говорится о каменном отпечатке, который должен быть передан в обмен на сумму в 10 000 фунтов. Место встречи: отель «Саввой», Каир. Время передачи: 12 октября, 11 утра.
— Кто такой «К»? — взволнованно воскликнул Пинкок, в комнате поднялся шум, все говорили одновременно.
Полковнику Доддсу с трудом удалось успокоить людей, наконец, он заставил их слушать, повысив голос:
— Вы видите, господа, мы столкнулись с очередным конкурентом.
6 Вверх по Нилу от Каира
«Поистине, число месяцев у Аллаха — двенадцать месяцев в писании Аллаха в тот день, как Он сотворил небеса и землю. Из них — четыре запретных, это — стойкая религия: не причиняйте же в них зла самим себе и сражайтесь все с многобожниками, как они все сражаются с вами. И знайте, что Аллах — с богобоязненными!»Назвать отношения Омара и Нагиба эк-Касара дружбой было бы неверно. Несмотря на то что жизнь Омара претерпела некоторые изменения после освобождения из британской тюрьмы, знакомство их оставалось скорее принудительным. И хотя Омар использовал все преимущества своего положения, он сознавал, что причиной их является исключительно знак кошки на его правой руке, чье происхождение теперь несколько прояснилось, автор же оставался по-прежнему неизвестен. Несмотря на то, что война длилась лишь несколькими неделями дольше их заключения, а преступления, в которых они обвинялись, были актуальны лишь в военное время, Омар и Нагиб не знали точно, находились ли они все еще в розыске, а потому решили на некоторое время затаиться. В мире нет другого такого города, где можно было бы жить и умереть настолько незаметно, как в Каире. Ежедневно где-нибудь между Мокатамом и вокзалом рушатся маленькие перенаселенные дома, погребая под своими обломками сотни неизвестных, нигде не зарегистрированных людей, потому что поколениями незаконно нагромождаются все новые этажи домов, пока кирпичи и балки не нагружаются настолько, что рушатся. Так что им обоим не составило труда найти убежище в старом, разваливавшемся сдаваемом доме в одной из боковых улочек Шарьи Ассалибы между мечетями Ибн-Тулун и Султан-Хассан, в тени цитадели. Благодаря содействию одного из тадаманов им выделили две комнатки на шестом этаже с окнами, выходившими на соседний дом, расположенный так близко, что при всем безразличии нельзя было не знать, что происходило напротив. Например, они стали свидетелями нарушения заповедей и поста священного Рамадана. Несмотря на то что Омар был рожден в этом городе, он никогда не чувствовал себя как дома, среди этих людей, похожих, скорее, на сошедших с ума термитов, постоянно снующих вокруг, но, в отличие от них, не имеющих возможности подняться в воздух и начать все сначала. Он не чувствовал себя уютно в грязных, старых лабиринтах старого города на востоке Каира, где постоянно пахло пылью и фекалиями, а более всего — бедностью. Здесь египтяне жили так же, как сотни лет назад, — так же одевались и испытывали ту же нужду. Маленькие радости были все теми же и сводились в основном к посещению прокуренных кофеен, где, имея пару пиастров, можно было скоротать скучный вечер. В домах не было водопровода, а о гигиене и говорить не приходилось. Когда это было необходимо — чтослучалось не часто, — мужчины ходили мыться под своды хамама. Женщины держались подальше от воды, они закрывали лица и с поразительной регулярностью рожали детей, которым суждено было вести ту же жизнь в тех же переулках. Можно было бы предположить, что Омара привлекали западные районы Каира по ту сторону реки, Бар эль-Аама, виллы и дворцы в квартале Аль-Гамалий или Дарб-эль-Масмат, где был рожден кедив. Там год назад европейцы — итальянцы, греки, мальтийцы, французы и британцы — ввели свой образ жизни и свою архитектуру. И остров на Ниле, который до постройки плотины в Асуане ежегодно заливало водой и заносило грязным тростником и прочим мусором, превратился теперь в ботанический сад, элитный теннисный клуб и ипподром. Здесь здания были выкрашены в белый цвет, считавшийся вызывающим, как обувь на ногах нищего попрошайки в мечети, корабельные агентства объявляли пестрыми надписями на плакатах в человеческий рост о преимуществах путешествия первым классом, затемненные стекла банков манили обещанием сохранить тайну сделки, а в отелях «Шепарде» и «Семирамис» комнаты с видом на Нил стоили в три раза дороже, чем зарабатывал в год служивший в них швейцар. Нет, и это не был мир Омара, люди же, ведшие роскошную жизнь, не вызывали его зависти. Он родился на краю пустыни, у ворот неохватного города, и ему нужна была пустыня. Дневная жара, холод ночи, бесконечный горизонт на востоке и голоса, теряющиеся вдали, — вот по чему скучал Омар, тот мир влек его к себе, как аромат женщины. Нагиб считал, что они в безопасности лишь здесь, в переулках Каира, где каждый человек существует в тысяче обличий, потому что все похожи друг на друга. Омар соглашался, что о возвращении в Луксор не может быть и речи, но и здесь оставаться он не мог. По совету Нагиба он коротко постригся и отпустил бородку, что резко изменило его внешность, одежду он предпочитал носить европейскую. В таком виде он и отправился однажды в Гизу, которую покинул восемь лет назад, но которую так и не забыл. Говорят, человек склонен восхвалять прошлое, потому что его сознание устроено таким образом, что все неприятное и страшное забывается или, по крайней мере, приобретает более отвлеченный характер. Омару не пришлось заставлять себя радоваться. У подножия пирамид он провел лучшие годы своей жизни, его миром было расстояние от горизонта до горизонта. Он не знал ничего, что лежало вне его, да и не интересовался этим. Дорога, ведущая из Каира в Гизу, теперь была запружена автобусами, шумными и дымными чудовищами, вытеснившими повозки с лошадьми своей дешевизной и скоростью. Отель «Мена Хаус», бывший когда-то запретной мечтой маленького мальчика, никак не изменился. Все так же перед входом ждали погонщики верблюдов, зазывая желающих. «Polishing, polishing!» Омар не заметил низкого человечка у своих ног; теперь же он беспомощно смотрел на инвалида с ампутированными ногами, приветливо улыбавшегося ему и протягивающего щетку для обуви: «Polishing, sir!» — Хасан! — воскликнул Омар. — Добрый старый Хасан! Улыбка на лице микассы стала неуверенной, причиной чему были сомнения Хасана, следует ли ему поступить вежливо и сделать вид, что он узнал незнакомца, или же правдиво и спросить, кто он такой, где и когда они встречались раньше. Омар опередил чистильщика обуви, сел на теплую мостовую, положил руку ему на плечо и сказал: — Я Омар. Неужели я так изменился? Приветливая улыбка вернулась на лицо старика, он вытер нос рукавом и неуверенно произнес: — Омар Эфенди. Слава Аллаху, позволившему мне дожить до этого дня! — И неожиданно для окружавших их людей двое бросились друг другу в объятия. — Омар Эфенди, — повторял чистильщик обуви, тряся головой. — Я часто думал о тебе, Эфенди, у меня совесть нечиста была, что я продал тебя за десять пиастров незнакомому англичанину. Омар засмеялся: — Он был хорошим человеком — для англичанина. Я научился читать и писать и говорю по-английски, и я зарабатывал деньги; но потом пришла война, и все изменилось. Хасан спрятал щетку в украшенный бисером ящик, который он по-прежнему толкал перед собой, и обратился к Омару: — Ты должен мне все рассказать, Эфенди. Омар взял ящик, и они отправились в сад «Мена Хаус». Служащему, который хотел запретить им войти, Омар сказал пару фраз по-английски, и тот с подобострастной улыбкой исчез. До позднего вечера, когда солнце начало опускаться за Великую пирамиду так, как Омар наблюдал это тысячи раз, беседовали Омар и Хасан. Омар ничего не опускал в своем рассказе: он не только доверял собеседнику, но и был привязан к нему, как к отцу, и чувствовал, что тот любил его, как сына. Хасан слушал и удивлялся, он восхищался потрясающей жизненной силой юноши. Хасан относился к тем редким людям, которые не испытывают ни боли, ни сожаления, хотя судьба и обошлась с ними жестоко. Он не был счастлив, но всегда был доволен и мог послужить примером тем, кто находит удовлетворение в постоянном возмущении и обиде на жизнь. Хасан был слишком горд для того, чтобы просить милостыню, он зарабатывал на жизнь чисткой обуви и с гордостью рассказывал историю о том, как однажды еврей бросил ему монету в пять пиастров, желая совершить доброе дело, как это предписывает его вера. Хасан поймал монету и бросил ее обратно со словами, что ее следует подарить бедняку. Когда Омар окончил рассказ, микасса посмотрел на него озабоченно. — Тадаман, тадаман? — повторял он. — Никогда не слышал о них. Но это, во имя Аллаха, конечно, не означает, что организации не существует. Да, думаю, даже надеюсь, что они существуют. Потому что с нашим народом поступают несправедливо, немногое происходящее проливает бальзам на наши раны. Конечно, не все средства хороши, но британцы ведут себя так, как считают должным и правильным, и это не совпадает с нашими понятиями порядка и справедливости. Если они найдут тебя, то накажут. — Я изменил внешность, — ответил Омар. — Когда я по утрам смотрю в зеркало, я сам не узнаю себя, а для британцев вообще все египтяне на одно лицо. — Я буду молиться Богу, чтобы ты оказался прав. — Я намного больше боюсь тадамана, который против воли принял меня в свои ряды. Они считают, что я обязан им за освобождение из тюрьмы. Я уже думал о том, чтобы бежать, но это слишком рискованно. У тадамана везде шпионы, и, если по англичанину сразу видно, что он подданный его величества, на лице египтянина не прочтешь, подчиняется ли он тадаману. При этом все могло быть простой ошибкой… Уже не оставалось времени, чтобы взглянуть на хижину, в которой Омар провел первые годы своей жизни. Его сводные братья продали ее вместе с верблюдами и отправились искать счастья в большом городе. Омар вернулся в Каир около полуночи. На Шарье Ассалибе кипела жизнь. Продавцы кофе балансировали в толпе с подносами в руках. Пахло орехами, которые жарили одни мальчики по краям улицы, и сдобой с кунжутом, которую разносили в корзинах на головах другие. Между ними бродили хурият всех возрастов, которых можно было узнать по щелканью языка. В кафе «Рояль» на углу улицы, на которой жил Омар, столики которого препятствовали проходу людей и постоянно были заняты, Омар увидел Нагиба, возбужденно с кем-то беседующего. Нагиб представил собеседника, Али ибн аль-Хуссейна, худого мужчину со строгими чертами лица и короткими черными вьющимися волосами, продавца специй из Ливана. У Али были маленькие, веселые, даже коварные глазки — во всяком случае, у Омара сразу возникло такое впечатление. У торговца, рассказывал Нагиб, есть для них стоящее задание, и, заметив недоверие во взгляде Омара, добавил, прикрыв рот рукой, что аль-Хуссейн — член организации. Задание, дававшее возможность заработать каждому из них по пятьдесят фунтов при возмещении всех расходов, на вид не было связано с большим риском: Нагиб и Омар должны были отправиться вверх по Нилу в Асуан и встретить там караван, направлявшийся из Судана и везший специи из Хартума. Омар, не задумываясь, согласился. Шанс покинуть безликий, суетливый город был для него намного важнее опасений относительно намерений Али ибн аль-Хуссейна. Молодость и неопытность удерживали от раздумий и мелочности, на их стороне было и доверие к людям, вероятно, основное свойство характера Омара. Несмотря на то что он прекрасно умел общаться с людьми, он не слишком разбирался в них, а его дружелюбная манера поведения, соответствовавшая его жизнерадостности и беспокойству духа, всю жизнь представляла наиболее уязвимое место Омара. Нагиб, будучи старше, не был тем не менее Омару ни опорой, ни поддержкой. Напротив, в те моменты, когда он подпадал под влияние алкоголя, — а такие часы занимали неизмеримо большую часть его жизни, нежели часы воздержания, — Омар вынужден был либо постоянно одергивать товарища, либо запрещать разговаривать, либо просто удерживать подальше от людей в целях сохранения их, Омара и Нагиба, безопасности. Их отношения давно достигли той стадии, когда уже не может идти речи о недоверии, а причиной совместного существования был только патриотизм. Они давно не занимались постоянной работой, с одной стороны, из соображений безопасности боясь называть свои имена, с другой — потому что Нагиб говорил, что тадаман не даст своим людям пропасть. Исходило ли последнее задание от организации или лично от ливанца, они так и не узнали, так как тот, вручив им конверт с бумагами и некоторой суммой денег, мгновенно исчез. Вообще в поведении Хуссейна было нечто, что удерживало от каких-либо вопросов и возражений. Семнадцатого числа сего месяца Хуссейн должен был ждать их в порту Каира. В бумагах, оставленных ливанцем, к разочарованию обоих, не было адреса Хуссейна, зато был их адрес. Тем не менее обещанное вознаграждение и возможность на две недели покинуть темное обиталище затмили возраставшие сомнения относительно задания. Нагиб и Омар, чтобы не вызывать подозрений, отдельно друг от друга зарезервировали места на пароходе в Асуан, шедшем до конечного пункта три с половиной дня и предоставлявшем пассажирам крохотные кабинки с двухэтажными койками — о кроватях не было и речи. Старый почтовый пароход под названием «Бедрашен» мог похвастаться широкими лопаточными колесами, высокой дымовой трубой, расширявшейся на конце в форме тюльпана, а на трех палубах располагал местами примерно для сотни пассажиров. В темном трюме размещался почтовый груз парохода. На верхней палубе располагалась столовая, защищенная от солнца, обставленная плетеной мебелью, которой в основном пользовались англичане. Омар и Нагиб с полным основанием избегали этого помещения. Большую часть времени они проводили на средней палубе, где стояли крашеные деревянные лавки, как в купе поезда третьего класса. Здесь проводили время египтяне, беседовали, ели принесенное с собой, играли в трик-трак, спали или просто смотрели на Нил. Здесь можно было чувствовать себя в безопасности. И тем не менее Омар и Нагиб старались не появляться вместе. Ночь еще не успела охладить накаленный днем воздух, поэтому Омар предпочел подремать в нише. О сне можно было не думать. Самалут они уже миновали, около полуночи должны были причалить в Минии. Омар с почтительным восхищением созерцал звезды, которые нигде не бывают такими яркими, как над ночным Нилом. Волшебство момента на минуту позволило ему забыть о жизненных тяготах. Голоса двух англичан на верхней палубе вернули Омара к действительности. Как долго, подумал он, придется ему еще жить, как уличной дворняжке, скрывающейся от ловцов собак, без дома, предоставленный воле тадамана и его людей? Полученное задание ни в коей мере не изменило его представления об этих людях, напротив, глубоко в душе Омара спрятался страх перед ними, перед неизвестным и безымянным, тогда как ни с одной опасностью он не боялся встретиться лицом к лицу. Его не оставляла надежда однажды избавиться от тадамана и Нагиба. Раздумья Омара были прерваны обрывками английских слов, доносившихся до него с верхней палубы. Разговор сначала не вызвал его интереса, однако голоса становились все громче, собеседники, очевидно, спорили, тон беседы изменился, и теперь они оскорбляли друг друга, почти крича, так что Омару не приходилось сильно напрягать слух, чтобы услышать их. Один педантично обвинял другого, развязного, в глупости и недалекости. Он, мол, ничем не отличается от шефа, по крайней мере использует те же глупые слова и аргументы. В какой-то момент в разговоре проскользнуло имя, заставившее Омара встрепенуться: Хартфилд. Омар мгновенно проснулся. И если сначала он сомневался в том, что речь шла о пропавшем профессоре, то скоро убедился в правоте своих предположений: те двое занимались поисками профессора Эдварда Хартфилда. Неожиданно быстро одному из собеседников удалось успокоить второго, и голоса вновь стихли. Омару пришлось изо всех сил прислушиваться, чтобы разобрать хотя бы часть разговора: англичане собирались сойти в Луксоре, также прозвучало имя Картера. Далее Омар действовал быстро: он поспешил в свою каюту, надел широкополую шляпу, которую привык носить еще в Каире, и бросился к верхней палубе, где стал двигаться подчеркнуто медленно и безразлично. Он шел в сторону англичан, иногда приостанавливаясь, словно залюбовавшись на звезды, и не вызывая их подозрения. Один из них был низким, в возрасте не старше тридцати лет, у него были длинные волосы. Движения его были резкими и решительными и казались прямой противоположностью спокойным, почти ленивым движениям крупного пожилого собеседника. Разговор резко оборвался, как только Омар приблизился, так что, незаметно рассмотрев англичан, он вновь удалился. После полуночи, когда пароход с шумом, производимым лопастями колес и людьми, высыпавшими на палубу, пристал в Минии, из своей каюты показался засланный Нагиб. Омар сделал ему знак, давая понять, что у него есть важная новость. С кажущимся скучающим безразличием они наблюдали за маневрами пристававшего к пристани парохода, на самом же деле Омар рассказывал о своем открытии. Нагиб мгновенно забыл о сне:. — Двое англичан, говоришь? Омар кивнул, не отворачиваясь от пристани: — Одному около тридцати, второй вдвое старше. — И они сходят на берег в Луксоре? — Так я понял из их разговора. — Когда мы прибываем в Луксор? — Завтра утром. После долгого молчания Нагиб продолжил: — Мы думаем об одном и том же? — Ты считаешь, за ними следует проследить? — Думаю, да. — А как же задание?! Нагиб оглянулся, проверяя, не наблюдают ли за ними; но во всеобщей суматохе их разговор оставался незамеченным. — Нам нужно разделиться, — сказал Нагиб, — один, как и договорились, поедет в Асуан навстречу каравану, другой последует за англичанами. Мы встретимся в Каире. Ранним утром на следующий день Омар со своим багажом первым покинул корабль. Предприятие казалось небезопасным. Омару следовало следить за тем, чтобы не быть узнанным. Кроме того, он, конечно, не должен был лишний раз попадаться на глаза англичанам. Он наблюдал за ними, скрывшись в тени деревянной палатки. Оба англичанина тащили за собой немалое количество багажа — по чемодану и сумке, — видимо, рассчитывая на продолжительное пребывание. Омар предполагал, что их встретит кучер от отеля, в котором те должны были остановиться, но этого не случилось. Они подождали, пока разойдутся люди, отклоняя вежливые предложения кучеров, и, наконец, направились к одному из перевозчиков. Паруса лодок хлопали на ветру, и в свете утреннего солнца Омар разглядел, что старший англичанин не так стар, как ему показалось прошлой ночью. У второго же были рыжие волосы, выдававшие ирландское или шотландское происхождение. Ввиду того, что на том берегу Нила англичане никак не могли исчезнуть бесследно — если только они не направлялись в Каргу или один из оазисов Ливийской пустыни, — Омар не стал преследовать их. Он радовался тому, что может беспрепятственно наблюдать за ними из своего укрытия. Куда они могли направляться? — Вероятно, в эль-Курну или в Дейр эль-Медину, или их должен был встретить Картер, с которым они могли договориться заранее. Пребывание в Луксоре таило для Омара немало опасностей. Его ни в коем случае не должны были узнать, поэтому он отложил дальнейшее наблюдение и решил позаботиться о своей безопасности. После того как пароход вновь отчалил, а англичане переправились на противоположный берег, Омар, взяв свою сумку, направился в сторону вокзала, чтобы снять комнату в одном из дешевых отелей, которые в изобилии имелись в том районе. При этом сложилась ситуация, кажущаяся совершенно необъяснимой, но разве не необъяснимое определяет весь ход нашей жизни? Проходя мимо старого отеля «Эдфу», совершенно не изменившегося за прошедшие годы — разве что деревянный балкон над входом прогнил еще больше, — Омар почувствовал непреодолимое желание увидеть сгорбленного старика, хозяина отеля. Внутри ничто не изменилось. Как и раньше, от стен отшелушивалась зеленая краска, и коричневый ящик для ключей висел на прежнем месте. За стойкой восседал лысый мужчина, назвавшийся новым хозяином отеля и осведомившийся, чем может помочь незнакомцу. На вопрос, есть ли свободные комнаты и сколько они стоят, тот ответил, что в несезон свободны все комнаты, так что Омар может выбрать любую. Насчет цены же всегда можно договориться. Омар выбрал комнату на первом этаже, в которой когда-то жил журналист Вильям Карлайль. По сравнению с остальными эта комната производила наилучшее впечатление. Он назвался Хафизом эль-Гафаром, проживающим по адресу Шарья Квадри, 4, Каир, — это было имя хозяина снимаемой им квартиры, дом же, находившийся по названному адресу, находился в паре кварталов от квартиры Омара. Ему показалось, что теперь он был в достаточной безопасности. Далее встал вопрос, как удобнее наблюдать за англичанами. Омар вновь припомнил разговор на пароходе, свидетелем которого он стал, и убедился в том, что археологами эти двое не были: по опыту работы с профессором Шелли Омар знал, какие манеры и выражения приняты среди археологов. Им-то что могло быть нужно от Хартфилда? Омар упал на кровать, закинул руки за голову и, глядя на противоположную стену, обои которой были разрисованы неприличными картинками и исписаны признаниями в любви, арабскими и английскими именами и расчетами платы за комнату, задумался. Профессор Хартфилд считался пропавшим. Если его исчезновение было связано с фрагментом плиты, о котором говорил Нагиб, то можно было сделать два предположения: либо Хартфилд тайно продолжал поиски гробницы Имхотепа, либо же одна из конкурирующих группировок с целью присвоить его документы устранила профессора, похитив или убив его. Возможно также, Хартфилд не открыл всего того, что знал, и теперь был нужен похитителям; быть может, именно этим англичанам он был нужен более всего. Омара охватило чувство, что им руководит злая судьба, судьба, объединившая в одну цепочку людей и события и стремящаяся к единой цели. Ему не удавалось отказаться от участия в этой истории, начать жизнь заново и жить без постоянного страха, повсюду сопровождавшего его. Нечто необъяснимое постоянно возвращало Омара, притягивая его, как собаку, новыми намеками на след. Быть может, причиной всему была та самонадеянность, с которой Омар противопоставлял себя всем прочим охотникам за тайной, — черта, обычно ему несвойственная, но в данном случае превалировавшая. Его манила идея найти профессора Шелли. Но Омар даже не знал, вернулся ли тот с войны. С другой стороны, ему казалось опасным вступать в контакт с англичанином. Конечно, Шелли во многом облагодетельствовал его, и Омар был ему благодарен, их отношения были намного более близкими, нежели отношения слуги и господина. Но все же Омар не мог с уверенностью сказать, как отреагировал бы Шелли на его появление. Профессор как-никак, был британцем, а Омар находился в розыске в британском протекторате. Омар направился к перевозчику, отвезшему англичан на противоположный берег. За некоторую сумму тот вспомнил, что два Саида направлялись на лодку «Изис», принадлежавшую красивой английской леди. Потом перевозчик рассказал, что мистер Картер недавно совершил открытие в Долине Царей, обнаружив горы золота и драгоценных камней, так говорили жители эль-Курны, но сокровища никто не видел, потому что тот завалил его вновь и выставил охрану. Такие истории не были редкостью с тех пор, как Говард Картер избрал Долину Царей местом своего обитания и своих исследований, а это произошло уже более двадцати лет назад. На западе садилось солнце, окрашивая скалы в фиолетовый цвет. Омар сошел на берег в стороне от лодки «Изис» и прошел остаток пути пешком. Он затаился на безопасном расстоянии и стал ждать. На лодке загорелись огни, и теперь, под покровом темноты, Омар мог подобраться к ней поближе, оставаясь незамеченным. Сквозь приоткрытые иллюминаторы доносились обрывки разговора между англичанами и женщиной. В камбузе на корме готовили ужин, судя по выбрасываемым за борт пищевым отходам. Повар был увлечен разговором с двумя египтянами, одного из которых звали Гихан, и он только что, принеся что-то, возвратился в кухню. Пользуясь шумом парусов и скрипом досок палубы, Омар незаметно влез на борт. На четвереньках он преодолел переднюю палубу и спрятался за двумя бочками с водой, откуда был виден внутренний салон лодки. Жалюзи были закрыты, но сквозь их щели Омар узнал обоих англичан. Они сидели за длинным столом из темного дерева, стоявшим посреди комнаты, склонившись над картой, напротив них — дама в длинных арабских одеждах и с платком на голове. По столу бродила рыжая полосатая кошка. Более низкий мужчина, которого напарник называл Джерри, карандашом рисовал линии, соединявшие отдельные пункты на карте, второй же делал заметки. Омару понадобилось некоторое время, чтобы понять, о чем шла речь в разговоре. В центре обсуждения была безымянная местность в дельте Нила, где был найден некий труп, имевший, судя по рисункам Джерри, отношение к некоторому количеству мест в южном Египте и к поискам гробницы Имхотепа. Загадочным, видимо, казался не сам труп, но место его нахождения, дававшее повод для построения всевозможных догадок. В какой-то момент прозвучало имя Хартфилда, и Омар было подумал, что речь шла о трупе профессора Хартфилда, но из последующих слов стало ясно, что тело принадлежало госпоже Хартфилд. Леди Доусон поражала знанием деталей. Она упоминала имена и факты, наводившие Омара на мысль о том, что она играла ключевую роль в происходившем: леди Доусон — агент британской секретной службы? Омар вспомнил, что профессор Шелли с супругой были знакомы с ней. Неужели он, Омар, сам того не зная, работал на шпиона? В этот момент ему все казалось возможным. Он не мог исключать возможности того, что профессор Шелли позволил ему научиться читать и писать лишь для того, чтобы сделать агентом, работающим против собственного народа, и прекратить операцию его заставила лишь начавшаяся война. Можно было предположить и что ночное нападение и похищение были инсценированы англичанами, чтобы вызвать в душе Омара ненависть к египетским националистам. Неудивительно, что в тот момент Омар готов был выпрыгнуть из своего убежища и броситься на англичан и хитрую шпионку, но кто бы оказался проигравшим в этой схватке? Для египтян характерно принимать обиду со вспышками гнева и жаждой крови, но в их характере заложена также и та быстрота, с какой они успокаиваются. Египтяне похожи на африканских слонов, которые способны долгое время терпеть боль, но когда чаша их терпения переполняется, они идут на врага решительно и вдумчиво. Если бы в тот момент Омар поддался внезапному порыву, он, бесспорно, шокировал бы своих врагов и на мгновение ощутил удовлетворение. Но в конечном счете он проиграл бы, и проиграл глупо, навредив более всего самому себе. Если он действительно хотел причинить зло англичанам, ему следовало затаиться и отвести их от следов Имхотепа; он не должен был позволить им быть первыми в разгадке тайны. Продолжая вполуха следить за разговором, Омар пытался выстроить в уме все то, что он узнал до сих пор. Труп Мэри Хартфилд был обнаружен где-то между Рашидом и Фувой в пустыне дельты Нила. Тогда как ни следа профессора там найдено не было. Решающую роль, по словам англичан, играли документы и результаты исследований Хартфилда. Если Хартфилд и его жена были застигнуты песчаной бурей — а так оно и выглядело, — то и профессор должен был погибнуть. Потому что если бы он остался жив, то наверняка бы начал поиски тела жены. С другой стороны, все, кто занимался поисками гробницы Имхотепа, знали Хартфилда. Так что нельзя было исключать возможности похищения и убийства профессора в целях получения доступа к документам, смерть же его жены могла быть инсценировкой, имевшей целью отвлечь внимание от другого преступления. Убийство можно было приписать любой из группировок, охотившейся за сокровищем: тадаману, искавшему власть и влияние, британской секретной службе, имевшей власть, британскому консулу, которого влекло все, что обещало богатство. Омар задумался о своем положении, забыв о внимательности среди бочек, ящиков, бутылок и ведер, и неаккуратным движением задел одну из бутылок, которая, упав, разбилась на тысячу осколков. Мгновение Омар раздумывал, прыгнуть ли за борт или скрыться, вернувшись по палубе на землю. Но в следующий момент он, остановившись на втором варианте, уже пробежал по палубе к борту и оказался на берегу раньше, чем англичане, один из них вооруженный, показались на палубе. С безопасного расстояния Омар наблюдал, как они обыскали палубу и, никого не обнаружив и предположив, что бутылку разбила кошка, удалились в салон. Омар же проследовал к тому месту, где его ждал перевозчик.Коран, 9 сура (36)
7 Консульство в Александрии
«И если бы Аллах ускорил людям зло, как они ускоряют добро, то их предел был бы уже для них решен. Мы оставляем тех, которые не надеются Нас встретить, скитаться слепо в своем заблуждении».Так, будто в них сам черт вселился, бросились носильщики, служащие отелей, владельцы сдаваемых комнат и торговцы к пассажирам, сходившим на берег по узкому, качающемуся трапу корабля «Медитерране». Портовые служащие в застиранных белых униформах пользовались палками, отгоняя самых настырных от пассажиров, прибывших из Европы. Западный порт Александрии, куда прибывали роскошные лайнеры европейских пароходных компаний, каждый раз, принимая корабль, становился похож на ведьмин котел, будто бы речь шла о жизни и смерти. Мальчики расхваливали каракатиц и морских ежей — они носили товар на палке за плечами, — лепешки и медовые пироги, чай и лимонад; слепой, гордо скрывавший свое страдание под темными очками, предлагал дамам цветы; старик, сгибаясь под весом предлагаемого товара, зазывал покупателей плетеных корзин и ящиков. «Медитерране» пришел из Марселя, он пробыл в пути пять дней, четырнадцать часов и тридцать минут и считался не только самым быстрым, но и самым комфортабельным лайнером в Средиземном море. Неудивительно, что господа, спускавшиеся по трапу, принадлежали к элите европейского общества, а портовый люд старался вовсю. Вслед за семьей, состоявшей из четырех человек — отца, матери и двух дочерей, сопровождаемых гувернанткой, на землю Египта ступили четверо одетых в темное мужчин с большим количеством багажа. Сквозь толпу им навстречу протискивался господин с тростью и белыми перчатками, которыми он приветственно махал прибывшим. — К вашим услугам, Сакс-Виллат! — представился он, вытянувшись в струнку. Доктор Поль Сакс-Виллат был французским консулом в Александрии, наделенным прекрасным вкусом и утонченными манерами. Он родился в Эльзасе, что объясняло его необычную для француза фамилию и любовь к музыке Бетховена. В остальном же он ненавидел все немецкое, как чуму. Мужчины среднего возраста по очереди представились: профессор Франсуа Миллекан, археолог и заведующий секцией Египта в Лувре в Париже, профессор Пьер д’Ормессон, преподаватель истории в университете Гренобля и член Академии наук в том же городе, Эдуард Курсье, лингвист в Коллеж де Франс в Париже, и Эмиль Туссен из Дезьем бюро. Заметив взмах руки, толпа носильщиков бросилась к багажу прибывших, и Сакс-Виллат назвал адрес: Шарья эль-Хорья, 12, французское консульство. Он попросил господ проследовать к автомобилю, огромному кабриолету «Лоррейн-Дитрих», которым сам с удовольствием управлял. Набережная Александрии, широкая и обрамленная пальмами, с обеих сторон от порта обнимала море, образуя естественную бухту. Дворцы, посольства и современные отели придавали городу, основанному по легенде Александром Великим, бросившим на землю свой плащ, очертившим его мечом и приказавшим построить город аналогичной формы, европейский вид, делавший его похожим на Ниццу или Монте-Карло. Изящно одетые господа и несколько европейских дам сидели в уличных кафе, пили, курили и разговаривали о сухом законе в Америке, об эпидемии гриппа в Европе, повлекшей миллионы смертей, об экспериментах, проводимых в Германии и Америке. Далекий от современного мира, в котором самолеты за шестнадцать часов преодолевали расстояние от Америки до Европы, неся на своих крыльях новую музыку, называемую джазом и готовящуюся огласить стены клубов, кафе и концертных залов, этот город демонстрировал свой западный образ, скрывая восточную суть. Мудиры и шейхи в длинных белых одеждах ежедневно встречались здесь с одетыми в британскую форму офицерами, а солдаты национальной армии соревновались с ними в яркости форм. Темный мир мошенников, карманников, инвалидов и попрошаек, не останавливавшийся в Каире даже на границах богатых районов, здесь был вытеснен на окраины или показан с его живописной стороны. Французское консульство, расположенное на Шарье эль-Хорье, могло с полным правом находиться и в Париже на улице Сент-Оноре, и на Унтер ден Линден в Берлине или на лондонском Пэл Мэле, настолько помпезным и вычищенным казалось его здание. Двое прилично одетых служащих распахнули двери кабриолета, как только консул с гостями подъехал ко входу. Сакс-Виллат пригласил гостей в располагавшийся в саду салон, стены которого были обиты пурпурным шелком, мебель же была выполнена в стиле Луи XV. Восточный колорит салону придавали лишь латунные и медные кувшины и пол, мощенный дамасским кафелем. Слуги сервировали кофе в маленьких, аккуратных чашечках и подали лимонную и медовую выпечку из слоеного теста, а также коньяк, конечно, французский. Все это было обставлено столь красиво и продуманно, что можно было заподозрить в этой церемонии вмешательство супруги консула. Тем удивительнее оказывалось обратное: Поль Сакс-Виллат, воспитанный полногрудой гувернанткой без вмешательства увлеченной эзотерическими доктринами матери и по желанию отца по окончании юридического образования в течение трех месяцев и трех дней бывший помолвлен с дочерью эльзасского дворянина, так и не нашел подхода к противоположному полу. После расторжения неудачной помолвки он так и остался холост, что не вызывало интереса, пока он не обратился к карьере дипломата, отправившись в Марокко, где отсутствие супруги и проведение холостяцких вечеров для мужчин бросилось в глаза. Связь с телохранителем марокканского короля чуть было не стоила ему карьеры атташе по культуре, но в дело вмешался высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел Франции, позаботившийся о его дальнейшей судьбе. Этот господин, называемый всеми, кто к нему обращался, просто «Доктор К.», предложил Сакс-Виллату еще более высокую должность и всяческую поддержку в том случае, если помимо обязанностей консула тот согласится также работать агентом на Дезьем бюро. Эта история произошла семь лет назад, и у Сакс-Виллата тогда не было иного выбора, как отправиться в Александрию, чтобы возглавить отдел шпионажа в Египте и на Ближнем Востоке, причем направить свою деятельность в первую очередь против Великобритании. Потому что с тех пор, как 120 лет назад английский адмирал Нельсон разгромил французов под Абукиром и Англия назвала себя хозяйкой Средиземного моря, началось соперничество Англии и Франции в регионе, решающую роль в котором играли английская и французская секретные службы. Сакс-Виллат старался организовать встречу как можно менее официально, чтобы не напугать французских ученых, привлеченных в Египет под одним предлогом и лишь незадолго до отъезда узнавших об истинной цели их поездки. Сакс-Виллат сумел оформить для французских археологов официальную лицензию на раскопки в Саккаре. Целью раскопок и исследований, на которые неизвестными источниками было выделено 25 000 франков, был комплекс гробниц к северу от ступенчатой пирамиды, где полсотни лет назад уже проводил раскопки великий французский археолог Мариет, сдавшийся после двух недель безуспешных поисков. Но лицензия была для Сакс-Виллата лишь предлогом. Истинной целью мероприятия, проходившего в Дезьем бюро под кодовым названием «Vacance», что могло означать как «Каникулы», так и «Вакансию», было наблюдение за действиями других секретных служб и организаций относительно поисков гробницы Имхотепа. Шансы на успех казались не меньшими, чем у остальных участников, даже напротив. Профессор Миллекан, узнав о сведениях, касающихся гробницы Имхотепа, обнаруженных на фрагментах каменной плиты, вспомнил о переписке между Берлинским музеем и Лувром, сохранившейся в анналах парижского музея. Речь в ней шла об обломках базальтовой плиты, которые — по мнению французов — могли быть частями одного целого, но ее содержание оставалось неясным из-за отсутствия недостающих частей. Таким образом в Лувр попал текст плиты, находившейся в Берлине; однако исследования были прекращены по причине недостатка информации. Французские археологи чувствовали себя в Саккаре как дома, с тех самых пор как Огюст Мариет обнаружил скрытый в этой местности лабиринт с саркофагами 24 Аписов-быков, так что еще одна лицензия на раскопки в этой местности не должна была вызвать подозрений. Саккара, некрополь Мемфиса, столицы древнего государства, занимает полосу длиной в тридцать миль на левом берегу Нила между скалами под Абу Рош и Лиштом, название ее предположительно — а в этой местности многое было известно лишь предположительно — происходит от имени бога мертвых, Сокара. Как и везде в Египте, здесь уже проводились раскопки и исследовались постройки, и ничто не привлекало интереса в этой богом забытой земле, где лишь полуразрушенные пирамиды напоминали о былом могуществе Египта, и даже открытие Мариета было случайностью, а не итогом долгих и упорных исследований. Однажды он скакал на юг и чуть было не упал в темную, глубокую дыру, оказавшуюся входом в подземный лабиринт. Как Сакс-Виллат ни старался, атмосфера в консульстве царила напряженная; и причиной тому была не только усталость людей, проведших пятеро суток на корабле и преодолевших шторм недалеко от Мальты. Причина неловкости заключалась в том, каким образом ученых удалось привлечь к заданию. Месяцами за ними велось наблюдение, за это время секретной службе стали известны факты их биографии, недостойные их положения и могшие разрушить их карьеру. Можно себе представить, какие последствия имела бы огласка того, что профессор Франсуа Миллекан, статный цветущий мужчина, женатый и имеющий взрослую дочь, со всем правом претендующую на удачный брак с каким-нибудь секретарем Министерства внутренних дел, например, — что профессор состоит в связи со своей падчерицей, нежной темноглазой девушкой девятнадцати лет, дочерью его жены Жюстины от первого брака. Конечно, ни один из присутствовавших не знал ахиллесовой пяты остальных, но каждый подозревал, что и они прибыли сюда не добровольно. Никто бы не подумал, например, что д’Ормессон, профессор, имевший дворянские корни, вращается в сомнительных кругах среди торговцев предметами искусства и подделывает свидетельства экспертизы, а полученными гонорарами расплачивается за карточные долги, давно превысившие все полученное им после продажи замка на берегу Изара. И Курсье, лингвист в Коллеж де Франс, холостяк-кутила сорока лет со шрамом на правой щеке, занимающийся своим делом скорее из любви к искусству, нежели ради заработка с тех пор, как продал унаследованные им земли под Амбуссоном, конечно, никогда не согласился бы помогать секретной службе, если бы не одна история. Это произошло уже года три-четыре назад, вызвав в Париже сенсацию. В Сурене, за аллеей де Лоншам, был найден застреленный оперный певец Луи де Бержерак. Де Бержерак был одним из лучших друзей Курсье, пока оба они не попались на удочку балетной танцовщицы Клео де Мерод, однажды услаждавшей часы бельгийского короля Леопольда, проведенные им в Париже. Их спор окончился дуэлью за аллеей де Лоншам. Певец погиб, что удивило Курсье, ведь он впервые в жизни держал в руках пистолет. Убийцу так и не нашли, так как о происшествии знали только участники дуэли и их секунданты, поклявшиеся молчать. То, как секретной службе удалось узнать о его участии в убийстве, для Эдуарда Курсье так и осталось загадкой. Оказавшись перед дилеммой — оказаться в камере городской тюрьмы Парижа или сотрудничать с секретной службой, — он выбрал последнее. Все они должны были работать под руководством начальника Отдела Ближнего Востока Эмиля Туссена — мужчины за тридцать, низкого, со сросшимися на переносице бровями и зачесанными на лоб волосами, постоянно вертящего в руках одну из своих трубок, которые он извлекал, кажется, из всех имеющихся карманов, но почти никогда не закуривал. Сознавая силу шантажа, Туссен разговаривал с подчиненными грубо, и даже улыбка, с помощью которой он иногда пытался придать приятное выражение своему лицу, производила впечатление провокации. В его присутствии даже Сакс-Виллат чувствовал себя неуверенно: не имея доказательств, он не сомневался, что агенту известно и его прошлое. Такова была причина повисшего молчания, казавшегося бесконечным и прерываемого лишь покашливанием одного из присутствующих, лишь усугублявшим ситуацию, вызывая всеобщее замешательство. Туссен набивал трубку, Курсье, выглядевший наиболее уверенным, барабанил пальцами по столу, консул, не переставая, мешал кофе в чашке, все остальные следили за этим процессом. В этот момент Сакс-Виллат задумался о том, можно ли ждать от этих людей необходимой отдачи. Его идеей было привлечь к выполнению задания профессионалов и его же идеей был способ их привлечения. Полдюжины агентов, занимавшихся делом ранее, лишь внесли путаницу, не решив ни одной проблемы, чему мешало отсутствие знания предмета. — Я хотел бы вкратце обрисовать перспективы, — начал консул, отложив ложку в сторону. — Вы в курсе дела. Операция кажется нашему государству слишком важной, так что мы не должны пропустить вперед британцев или каких-нибудь националистов. К тому же речь идет о национальной гордости. В конце концов, надписи на камне Розетта, который вы теперь называете Рашидом, расшифровал именно француз. — Консул на минуту замолк — Мы не знаем точно, — продолжил он, — кто еще занимается поисками, но будьте готовы столкнуться со множеством конкурентов. Мои люди выделили три основные группы. Во-первых, это британцы. Число их агентов нам неизвестно, мы предполагаем, их около десяти. Их штаб-квартира — лодка «Изис», стоящая на якоре в Луксоре. Их затраты и упорство позволяют предположить, что они самые опасные наши соперники. Вторая группа — самая многочисленная и наименее обозримая для нас. Вероятно, речь идет о нескольких группах, объединившихся под общим названием националистов. Насколько нам известно, в их числе нет профессионалов, экспертов и археологов, однако их возможности нельзя недооценивать, так как на их стороне большинство местных жителей. Третью группу составляют профессиональные мошенники, работающие с антиквариатом и произведениями искусства. Они действуют подкупом. Их основное преимущество — это мощная финансовая база, что немаловажно в столь коррумпированной стране, как Египет. Об активности немцев существуют лишь предположения. У нас нет доказательств того, что они тоже занимаются поисками гробницы Имхотепа, официальной лицензии у них нет. Но, честно говоря, я бы сильно удивился, если бы узнал, что они вне игры. Курсье, несколько заинтересованный делом, обратился к консулу с вопросом: — У кого, по вашему мнению, наиболее полные сведения? Или, говоря иначе, как вы оцениваете наши шансы? Ответил Туссен: — Это же ясно, как день! У нас на руках все козыри. Если исходить из того, что камень Рашида — ключ к загадке, то у нас три части этого ключа, тогда как у остальных — два. — Если считать, что немцы не занимаются поисками! — вмешался Миллекан. — И вы забываете о переписке с Лувром! — добавил Ормессон. — Думаю, к настоящему положению дел это не относится, — ответил консул. — Но пока не будет доказано обратное, будем исходить из того, что мы обладаем наиболее полной информацией. Ответом на слова Сакс-Виллата был смех Курсье. Он достал из сумки несколько мелко исписанных листков, облизнул указательный палец и, выбрав нужный лист, поместил его на стол перед собравшимися.Коран, 10 сура (12)
 Курсье смеялся, он смеялся громко и заразительно, что раздражало Туссена, посчитавшего его веселье излишним.
— Мсье! — решительно сказал Туссен. — Секретная служба оценила ваши способности лингвиста. Если бы ей необходимы были услуги клоуна, она обратилась бы в цирк.
Он попал в точку, и улыбающееся лицо Курсье окаменело.
— В остальном, — продолжил Сакс-Виллат, — берите пример с Шампольона, который, если я не ошибаюсь, преподавал в Коллеж де Франс и расшифровывал иероглифы при значительно более сложных обстоятельствах, несмотря на то что немцы и англичане утверждают, что секрет иероглифов давно им знаком.
Курсье понял, что с Туссеном шутить не стоит. Снисхождения от него ждать не приходилось, а любая попытка освободиться приведет лишь к тому, что веревка затянется крепче. Так жертва, пытающаяся вырваться из объятий удава, каждым рывком туже сжимает его кольца. Туссен был прав: их стартовая позиция была не так плоха, как казалось. А то, что остальные не знали о намерениях французов, должно было только помочь делу.
— Если я правильно понял, — обратился Миллекан к Сакс-Виллату, — мы будем проводить раскопки в Саккаре, но лишь для отвода глаз, основныеже усилия мы должны направить на поиски гробницы Имхотепа.
— Я нанял для вас двадцать пять рабочих, — кивнул консул. — Это количество не слишком обременит наш бюджет и в то же время не навлечет на нас подозрений неестественной малочисленностью. Они поступят в ваше распоряжение послезавтра. О вашем проживании позаботятся во французской миссии. Сегодня вам предоставят ночлег в летнем домике.
Курсье беспокойно ерзал на стуле. Было заметно, что нечто не дает ему покоя, и Сакс-Виллат спросил:
— У вас есть возражения, мсье?
— Нет, нет, — ответил Курсье, стараясь сохранить серьезную мину, задавая вопрос: — Только предположим на минуту — ведь не исключено, что во время раскопок в Саккаре мы наткнемся на гробницу Имхотепа. Что тогда?
Повисло молчание, словно Курсье произнес нечто неприличное. Сакс-Виллат уставился на озадаченного Туссена, Туссен же взглянул на д’Ормессона; тот пожал плечами и вопросительно глянул на Миллекана. Профессор лишь повторил: «Да, что тогда?»
Сакс-Виллат более трех месяцев занимался лишь поисками указаний на местонахождение гробницы Имхотепа, он продумал все возможности и вероятности, он нашел лучших людей и добился в секретной службе предоставления бюджета, достаточного для того, чтобы раскопать всю Саккару. Лишь об одном он ни разу не задумался: что делать в том случае, если они действительно найдут гробницу. Действительно, никаких указаний, как действовать в таком случае, разработано не было. И, не видя возможности дольше тянуть с ответом, консул сказал:
— В таком случае следует засыпать вход, хранить молчание и ожидать дальнейших инструкций из Парижа.
Такой ответ не добавил энтузиазма, что стало заметно по безразличию людей, сквозившему в их вопросах. Безвыходность, безнадежность, беспомощность, приведшие каждого из них из Парижа в Египет, постепенно превращались в упрямство и возмущение. Поэтому Сакс-Виллат нашел необходимым напомнить присутствующим, что все они знают, о чем идет речь и какой важный долг они выполняют по отношению к родине.
— Да здравствует Франция! — Курсье, от природы наделенный чувством юмора, отреагировал на слова консула фразой, над которой не позволено шутить ни одному французу. Увидев обращенные на него взгляды и уже готовясь к скандалу, он внезапно спросил: — Рано или поздно мы столкнемся с британцами, националистами или немцами — что тогда?
К этому вопросу Сакс-Виллат был готов:
— Этого допустить нельзя! Но мы понимаем, что такого развития ситуации и исключать нельзя тоже. В таком случае главное — это сохранение тайны. А значит, вы не должны подать повод к сомнению относительно научности ваших исследований. В ваших записях и схемах не должно встречаться имя Имхотепа. Разговоры и обсуждения в непосредственной близи рабочих исключены, так как некоторые из них могут владеть французским языком. В случае возникновения экстренной ситуации или конфликта, требующего немедленного прекращения работ, используйте пароль «фараон». Он будет действовать как при общении внутри команды, так и при обращении в центр в Александрии. И означать он будет полное уничтожение следов и ожидание дальнейших указаний.
Пароль мог вызвать улыбку, что свидетельствует об ограниченности мышления даже сотрудников тайных служб. Именно из-за таких мелочей порой проваливаются операции, потребовавшие больших физических, умственных и финансовых затрат. Конечно, пароль «фараон» сам напрашивался. Он был даже слишком очевиден, настолько, что секретные службы двух государств обозначили им эту операцию. То, что фараоном Имхотеп не был, было упомянуто лишь вскользь.
Тем временем Эмиль Туссен раскурил трубку, и сладковатые облачка дыма поплыли по комнате. Он упорно разглядывал бумагу, лежавшую перед Курсье, и тот, поняв взгляд, передал лист Туссену со словами:
— Я уже сотни раз читал эти строки и, поверьте, не продвинулся ни на шаг.
В порыве гнева, частично вызванного заметным безразличием говорившего, д’Ормессон ударил кулаком по столу. Он был единственным, кто смирился с происходящим и даже начал получать удовольствие от предчувствия необычного задания.
— Таким образом, — воскликнул он, — мы никогда ничего не добьемся! Чего мы хотим от этих строчек, от обрывков слов, когда даже неизвестно точно, принадлежат ли они к одному тексту. Нам нужны факты, следы, указания, а не предположения!
Своими словами д’Ормессон задел луврского профессора. Миллекан достал из кармашка жилета очки с круглыми с золотой окантовкой стеклами, надел их изящным движением, попросил передать ему лист с надписями и начал тоном докладчика:
— Господа, настоящие отрывки, без сомнения, являются фрагментами единого текста, выбитого на базальтовой плите, обломки которой были обнаружены в Египте, Париже и Берлине. Фрагменты, находившиеся в Египте и Берлине, идеально дополняют друг друг а, в тексте нет пропусков, что подтверждает их единое происхождение. Элемент, находившийся в Лувре, не соотносится с текстом первых двух обломков непосредственно, однако, если вы обратите внимание на расположение строк, у вас не останется сомнений в едином происхождении фрагментов текста. Кроме того, размер шрифта, глубина букв и их написание подтверждают, что все это — составные части одного текста. Гладкие левый и нижний края последнего фрагмента свидетельствует о том, что это край плиты.
— Пустая болтовня! — прервал профессор д’Ормессон своего парижского коллегу. — Допустим, что вы правы. Я согласен. И все же вы должны признать, что эти три текста гроша ломаного не стоят, пока в наших руках не окажутся недостающие части плиты. А мы ведь даже не знаем, один ли это обломок или их множество. Они могут покоиться в песках Египта или пылиться в магазине где-нибудь в Европе.
Миллекан пожал плечами и развел руками. Начало было не лучшим, он признавал это. Археология могла опьянять, как опиум, и возбуждать, как шампанское, но могла быть и сухой, как высушенная кожа. Но разве не в этом крылась прелесть их задания?
Курсье смеялся, он смеялся громко и заразительно, что раздражало Туссена, посчитавшего его веселье излишним.
— Мсье! — решительно сказал Туссен. — Секретная служба оценила ваши способности лингвиста. Если бы ей необходимы были услуги клоуна, она обратилась бы в цирк.
Он попал в точку, и улыбающееся лицо Курсье окаменело.
— В остальном, — продолжил Сакс-Виллат, — берите пример с Шампольона, который, если я не ошибаюсь, преподавал в Коллеж де Франс и расшифровывал иероглифы при значительно более сложных обстоятельствах, несмотря на то что немцы и англичане утверждают, что секрет иероглифов давно им знаком.
Курсье понял, что с Туссеном шутить не стоит. Снисхождения от него ждать не приходилось, а любая попытка освободиться приведет лишь к тому, что веревка затянется крепче. Так жертва, пытающаяся вырваться из объятий удава, каждым рывком туже сжимает его кольца. Туссен был прав: их стартовая позиция была не так плоха, как казалось. А то, что остальные не знали о намерениях французов, должно было только помочь делу.
— Если я правильно понял, — обратился Миллекан к Сакс-Виллату, — мы будем проводить раскопки в Саккаре, но лишь для отвода глаз, основныеже усилия мы должны направить на поиски гробницы Имхотепа.
— Я нанял для вас двадцать пять рабочих, — кивнул консул. — Это количество не слишком обременит наш бюджет и в то же время не навлечет на нас подозрений неестественной малочисленностью. Они поступят в ваше распоряжение послезавтра. О вашем проживании позаботятся во французской миссии. Сегодня вам предоставят ночлег в летнем домике.
Курсье беспокойно ерзал на стуле. Было заметно, что нечто не дает ему покоя, и Сакс-Виллат спросил:
— У вас есть возражения, мсье?
— Нет, нет, — ответил Курсье, стараясь сохранить серьезную мину, задавая вопрос: — Только предположим на минуту — ведь не исключено, что во время раскопок в Саккаре мы наткнемся на гробницу Имхотепа. Что тогда?
Повисло молчание, словно Курсье произнес нечто неприличное. Сакс-Виллат уставился на озадаченного Туссена, Туссен же взглянул на д’Ормессона; тот пожал плечами и вопросительно глянул на Миллекана. Профессор лишь повторил: «Да, что тогда?»
Сакс-Виллат более трех месяцев занимался лишь поисками указаний на местонахождение гробницы Имхотепа, он продумал все возможности и вероятности, он нашел лучших людей и добился в секретной службе предоставления бюджета, достаточного для того, чтобы раскопать всю Саккару. Лишь об одном он ни разу не задумался: что делать в том случае, если они действительно найдут гробницу. Действительно, никаких указаний, как действовать в таком случае, разработано не было. И, не видя возможности дольше тянуть с ответом, консул сказал:
— В таком случае следует засыпать вход, хранить молчание и ожидать дальнейших инструкций из Парижа.
Такой ответ не добавил энтузиазма, что стало заметно по безразличию людей, сквозившему в их вопросах. Безвыходность, безнадежность, беспомощность, приведшие каждого из них из Парижа в Египет, постепенно превращались в упрямство и возмущение. Поэтому Сакс-Виллат нашел необходимым напомнить присутствующим, что все они знают, о чем идет речь и какой важный долг они выполняют по отношению к родине.
— Да здравствует Франция! — Курсье, от природы наделенный чувством юмора, отреагировал на слова консула фразой, над которой не позволено шутить ни одному французу. Увидев обращенные на него взгляды и уже готовясь к скандалу, он внезапно спросил: — Рано или поздно мы столкнемся с британцами, националистами или немцами — что тогда?
К этому вопросу Сакс-Виллат был готов:
— Этого допустить нельзя! Но мы понимаем, что такого развития ситуации и исключать нельзя тоже. В таком случае главное — это сохранение тайны. А значит, вы не должны подать повод к сомнению относительно научности ваших исследований. В ваших записях и схемах не должно встречаться имя Имхотепа. Разговоры и обсуждения в непосредственной близи рабочих исключены, так как некоторые из них могут владеть французским языком. В случае возникновения экстренной ситуации или конфликта, требующего немедленного прекращения работ, используйте пароль «фараон». Он будет действовать как при общении внутри команды, так и при обращении в центр в Александрии. И означать он будет полное уничтожение следов и ожидание дальнейших указаний.
Пароль мог вызвать улыбку, что свидетельствует об ограниченности мышления даже сотрудников тайных служб. Именно из-за таких мелочей порой проваливаются операции, потребовавшие больших физических, умственных и финансовых затрат. Конечно, пароль «фараон» сам напрашивался. Он был даже слишком очевиден, настолько, что секретные службы двух государств обозначили им эту операцию. То, что фараоном Имхотеп не был, было упомянуто лишь вскользь.
Тем временем Эмиль Туссен раскурил трубку, и сладковатые облачка дыма поплыли по комнате. Он упорно разглядывал бумагу, лежавшую перед Курсье, и тот, поняв взгляд, передал лист Туссену со словами:
— Я уже сотни раз читал эти строки и, поверьте, не продвинулся ни на шаг.
В порыве гнева, частично вызванного заметным безразличием говорившего, д’Ормессон ударил кулаком по столу. Он был единственным, кто смирился с происходящим и даже начал получать удовольствие от предчувствия необычного задания.
— Таким образом, — воскликнул он, — мы никогда ничего не добьемся! Чего мы хотим от этих строчек, от обрывков слов, когда даже неизвестно точно, принадлежат ли они к одному тексту. Нам нужны факты, следы, указания, а не предположения!
Своими словами д’Ормессон задел луврского профессора. Миллекан достал из кармашка жилета очки с круглыми с золотой окантовкой стеклами, надел их изящным движением, попросил передать ему лист с надписями и начал тоном докладчика:
— Господа, настоящие отрывки, без сомнения, являются фрагментами единого текста, выбитого на базальтовой плите, обломки которой были обнаружены в Египте, Париже и Берлине. Фрагменты, находившиеся в Египте и Берлине, идеально дополняют друг друг а, в тексте нет пропусков, что подтверждает их единое происхождение. Элемент, находившийся в Лувре, не соотносится с текстом первых двух обломков непосредственно, однако, если вы обратите внимание на расположение строк, у вас не останется сомнений в едином происхождении фрагментов текста. Кроме того, размер шрифта, глубина букв и их написание подтверждают, что все это — составные части одного текста. Гладкие левый и нижний края последнего фрагмента свидетельствует о том, что это край плиты.
— Пустая болтовня! — прервал профессор д’Ормессон своего парижского коллегу. — Допустим, что вы правы. Я согласен. И все же вы должны признать, что эти три текста гроша ломаного не стоят, пока в наших руках не окажутся недостающие части плиты. А мы ведь даже не знаем, один ли это обломок или их множество. Они могут покоиться в песках Египта или пылиться в магазине где-нибудь в Европе.
Миллекан пожал плечами и развел руками. Начало было не лучшим, он признавал это. Археология могла опьянять, как опиум, и возбуждать, как шампанское, но могла быть и сухой, как высушенная кожа. Но разве не в этом крылась прелесть их задания?
8 Бегство
«И откуда бы ни вышел ты, обращай свое лицо в сторону запретной мечети; ибо это — истина от твоего Господа, — поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете!»В караван-сарае, находящемся на расстоянии мили на юго-восток от Асуана Нагиб эк-Касар в условленный день принял пять ящиков специй из Судана. Климат, жара и тысячи огромных черных мух, с особым удовольствием облеплявших глаза, нос и губы, делали короткое пребывание невыносимым, и Нагиб поторопился найти упряжку мулов, которые бы отвезли груз к причалу. Старый феллах с темным морщинистым лицом пообещал исполнить работу за вознаграждение в пятьдесят пиастров. Сумма была огромная, но Нагиб думал лишь об одном — исчезнуть из проклятого места. Последние дни он жил в страхе. Последнюю ночь он провел в дешевом отеле «Абталь эль-Тахир», окна его комнаты были забиты досками, чтобы защитить постояльца от жары; живописный отель «Катаракт» с красными балконами был, во-первых, дорог, во-вторых, населен англичанами. Но и в «Абталь эль-Тахир» их было ненамного меньше, и в постоянном страхе быть опознанным Нагиб рано забирался в свою комнатку, спал же мало и беспокойно. Страх и ненависть жили в его душе. Британцы заняли все чудесные уголки страны, египтяне же все ждали данного перед началом войны обещания — вернуть им их страну. Старик молча шел возле повозки, Нагиб же ехал на ней, укрыв голову платком от палящего солнца. Было бы счастьем, пришло ему в голову, достичь цели вместе с грузом. Нагиб только сейчас понял, на что он согласился — почти у каждой дорожной развилки стояли полицейские, зачастую вместе с британскими солдатами. И не было ничего странного в том, что Нагиб, погруженный в раздумья, ни разу не взглянул на красоты пейзажа. На скалы цвета охры, величественно, как слоны, возвышавшиеся над песками пустыни и сгрудившиеся у берега Нила, как звери, пришедшие на водопой. На пальмы, качавшиеся под порывами жаркого ветра пустыни, стоя поодиночке, словно не терпели возле себя соперниц, и изгибавшиеся, как танцовщицы. Непонимание того, почему Али ибн аль-Хуссейн не забрал груз сам, почему он поручил это ему и Омару, о которых ничего не знал, а следовательно, и доверять им не должен был, вселяло тревогу в сердце Нагиба. Он смотрел на ящики. Они были сколочены из нетесаных досок, схвачены полосками жести, на крышках виднелась арабская надпись «Хартум-Каир». Нагиб чувствовал себя не в своей тарелке, не зная, что находится в ящиках; и чем больше он раздумывал об опасности предприятия, тем более усиливались его сомнения в том, что вез он действительно специи, и росла уверенность, что в ящиках нечто таинственное, запретное. Однажды его обвинили в преступлении, которого он не совершал, похоже, он вновь попал в ловушку. Нагиб подскочил от неожиданности, когда старик остановил повозку резким окриком «Эээйя». Портовый служащий в тюрбане и с повязкой на глазу помог разгрузить повозку, сообщил, что отправление задержится до поздней ночи, и спросил, куда направляется Нагиб с грузом. Тот ответил, что его цель — Каир, указав на надпись на ящиках, на что служащий предложил проследить за грузом на борту. Раньше десяти часов пароход не отплывет, сообщил он и, подмигнув, добавил, что на Шарье Амир эль-Гош можно найти девочек за пять пиастров. Выделив служащему некоторую сумму денег и намереваясь больше не возвращаться к своему грузу, Нагиб попрощался и углубился в суету базара Асуана. Повсюду толкались люди. Торговцы с юга, сыны пустыни, пытались сговориться с местными, желая обменять фрукты, меха и чудесные ковры на пищу и одежду. Крики птиц в плетеных клетках могли поспорить по громкости с криками торговцев, которые несли на головах подносы со сдобой и красными и темными напитками. Можно было купить одежды всевозможных цветов и мешки с хлопком, изделия из стекла и дешевые духи, распространявшие над базаром тысячи ароматов. Между ними — рыба, кровавое мясо, кипящие котлы с нестерпимо острыми овощами. Праздник для глаз, постоянная смена впечатлений и декораций — все это не слишком успокаивало тревогу Нагиба. В каждом торговце, в каждом незнакомце ему мерещился шпион, предатель, в каждом проталкивающемся сквозь толпу человеке — преследователь. Он был близок к помешательству. Нагиб не осмеливался остановиться, торопился, будто его преследовали фурии, преодолеть одну за одной улицы, для защиты от солнца увешанные ткаными полотнами. Он будто находился под влиянием сковывающего мысли наркотика, позволяя толпе нести себя, словно бумажный кораблик по воде, ничего не предпринимая и лишь наблюдая за тем, что происходит вокруг. Измученный и разбитый, Нагиб, наконец, упал в кресло одного из уличных кафе, влил в себя несколько стаканов анисовой водки и чашек какого-то темного напитка и впал в отрешенное состояние глубокой апатии, позволившее ему забыть обо всем. В своей подавленности Нагиб не заметил, как стемнело, золотые огни осветили базар, превратив его в мерцающий огненный салон «Тысячи и одной ночи». Даже звенящая музыка бродячих музыкантов не проникала в его сознание, и он, вероятно, заснул бы, если бы на его плечо внезапно не опустилась чья-то рука. Прикосновение подействовало на Нагиба, как удар кнута. Он почувствовал, что его свободе пришел конец, и, даже не думая бежать, поднялся. Лишь когда незнакомец заговорил, напомнив, что пришло время подняться на борт, Нагиб узнал одноглазого. Во имя Аллаха, он сам вогнал себя в такой страх, что потерял способность отличать реальность от вымысла; даже теперь он не мог с точностью сказать, кажется ли ему это или он действительно идет по улицам вслед за одноглазым. А он шел: он тащился по улицам, не задумываясь, отвечал на вопросы своего провожатого и слушал его говор, не понимая, о чем идет речь. На пароходе, который теперь был забит народом, одноглазый занялся сбором денег за проезд и провоз багажа и предоставил Нагиба самому себе. Небольшое количество имевшихся кают были заняты, но из-за жары в них было даже тяжелее, чем на воздухе, и Нагиб устроился среди багажа на носу парохода, где его обдувал ветер. Лежа на двух ящиках, сложив руки на груди, Нагиб смотрел в звездное небо. До него долетали слова разговаривавших на палубе людей, а где-то внизу волны отбивали о борт неясный ритм. Страх, мучивший его последние часы, постепенно отпускал, переходя в безразличие, даже уверенность в безопасности. Нагиб надеялся, что Омар присоединится к нему в Луксоре, и проклинал себя за то, что позволил ему пойти своей дорогой. Если Омар хотел вовремя попасть в Каир, он должен был сесть на этот корабль, но Омар на борт не взошел. Так что Нагиб в одиночестве продолжил путь, один на один с загадочным грузом. Двое суток длится путешествие вниз по Нилу, и именно ночи предоставляют время для раздумий. И чем больше думал Нагиб об их заказчике и его методах ведения дел, тем больше убеждался в его непорядочности. Принадлежал ли он тадаману или нет, любил он Египет или нет, он подло воспользовался их положением, втянув их за деньги в опасную игру, в которой сам проиграть не хотел. Если все пойдет по плану, завтра он получит свой груз в целости и сохранности, им же даст их «чаевые». В противном случае он останется тем, кто он есть, — торговцем специями без имени и адреса. Эта цепочка рассуждений привела Нагиба к мысли о том, что же случится, если аль-Хуссейна не окажется в условленном месте. Допустим, все пройдет удачно, но что делать с ящиками, если аль-Хуссейн не придет? Волнение вновь охватило Нагиба, переросло в гнев, и в ночь перед прибытием в Каир он набросился на один из ящиков с кинжалом. Наконец он смог отогнуть пару досок. Ничего не было видно, но он почувствовал мешковину и воткнул кинжал в ткань. Из отверстия посыпался белый порошок. Опиум! То, о чем уже несколько дней догадывался Нагиб, чего он боялся, подтвердилось: Али ибн аль-Хуссейн использовал их патриотизм и веру в своих грязных целях. Если этим занимается тадаман, он, Нагиб эк-Касар, не хочет иметь с ним ничего общего. Вновь заколачивая ящик, стараясь остаться незамеченным, Нагиб, которого трясло от страха, пытался понять, как аль-Хуссейн вышел на них, почему именно их он избрал для своего поручения. Но решения головоломки он не находил. Зато тысячи других идей носились в его голове. Как теперь ему вести себя, узнав правду? Мошенник был в его руках, это правда. Он мог шантажировать его, требовать денег за собственное молчание, мгновенно разбогатеть. Почему не разделить товар пополам? Но тогда аль-Хуссейн выдаст его англичанам, а это означало конец. Дрожа, Нагиб вдыхал ночной воздух. На берегу светились огни Бени-Суэйфа. Как можно дать понять аль-Хуссейну, что Нагиб знает о содержимом? Тонкого намека будет достаточно, чтобы аль-Хуссейн встревожился и повысил оплату опасного предприятия. Явным препятствием были жесткость, эгоизм и коварство аль-Хуссейна, которыми он добивался своих целей. Конечно, Нагиб эк-Касар был жалким насекомым по сравнению с разбойником и окажется в проигрыше в их поединке. Но затем Нагиб вспомнил историю с консулом Мустафой Ага Айатом и помощником мудира, произошедшую в Берлине. Они недооценили его; он же незаметно заполучил копию фрагмента надписи. Вероятно, они до сих пор радуются его непроходимой глупости. Полный неуверенности и сомнений, на следующий день Нагиб прибыл в Каир, где его ждал аль-Хуссейн с кучкой своих лакеев. Несмотря на жару одетый по-европейски, не исключая белого воротничка-стойки и бабочки, что предавало ему несколько смешной вид, аль-Хуссейн вновь продемонстрировал свою надменность, не поприветствовав и не поблагодарив исполнителя. Это обидело Нагиба, и если до этого момента он еще сомневался, как вести себя, то теперь уверенно заметил, что не согласен с суммой вознаграждения, ведь в конце концов он знает, о чем говорит, задание могло стоить ему жизни. Али ибн аль-Хуссейн сделал вид, что не услышал слов Нагиба. Намного сильнее он казался обеспокоенным отсутствием Омара. Он кричал, называя его ненадежным типом и не принимая объяснений Нагиба, он грозился продемонстрировать всю силу своего кнута, если Омар не объявится в течение следующих дней. Ящики были погружены его слугами на высокую повозку, запряженную ослами, какие тысячами катились по улицам старого города. Али сел в экипаж и направился в сторону, противоположную движению повозки. Нагиб задумался, за кем ему последовать. Что было важнее: узнать, где скрывается аль-Хуссейн или где он прячет опиум? Наконец, он выбрал первое, рассудив, что, зная, где находится аль-Хуссейн, он всегда сможет проследовать за ним к его складу. Экипаж медленно продвигался по запруженным улицам. На правом берегу к пешеходам и экипажам добавились автомобили и повозки, запряженные ослами и мулами, так что о продвижении вперед фактически можно было забыть. Нагибу не составило большого труда последовать за экипажем. На Мидан эль-Тарир, где пересекаются крупнейшие улицы города, аль-Хуссейн повернул на восток, вновь сменил направление на Мидан аль-Фалаки и направился к вокзалу Баб эль-Луг, обогнув его слева и продолжив движение на юг. На мгновение Нагибу показалось, что аль-Хуссейн заметил его, потому что тот сделал огромный крюк, хотя мог бы достичь цели напрямую, но он продолжил наблюдение. Экипаж еще несколько раз поменял направление, пока, наконец, не свернул в одну из улочек за мечетью Ибн-Тулун. Отсюда было совсем недалеко до кофейни «Рояль», где они и встретили аль-Хуссейна, и до квартиры Нагиба. Экипаж остановился перед домом, выделявшимся светло-зеленой окраской, что было редкостью, ведь в Каире большинство домов выкрашено в одинаковые охряно-коричневые тона. Высокие ворота, полностью заслонявшие обзор, открылись, и экипаж исчез за ними. Лишь спустя некоторое время отважился Нагиб приблизиться к воротам. Ни дом, ни улица имени не имели, что было не редкостью в этом районе, и ничем более не выделялись. Ставни на окнах всех четырех этажей были закрыты, перед дверью был навален мусор — в этом дом тоже не выделялся из общего множества. И все же он притягивал Нагиба. Тот пару раз прошелся по улице, не выпуская дом из поля зрения. Он не мог объяснить своих действий; просто у Нагиба было чувство, что с этим домом связаны какие-то события, касающиеся в том числе и его, хотя он даже не знал, живет ли в нем аль-Хуссейн или еще кто-нибудь. Вполне хватило бы слуги, курьера или кухарки, выходящих из ворот, чтобы задать им пару интересовавших Нагиба вопросов. Но ворота оставались заперты, и Нагиб удалился, чтобы никто не заметил его присутствия, предварительно еще раз пять пройдя по улице. Вернувшись в квартиру, которую они снимали с Омаром, Нагиб попытался вспомнить, как он, пробравшись сквозь лабиринты переулков, оказался возле зеленого дома; потому что намеревался навестить аль-Хуссейна еще до возвращения Омара под предлогом обещанного ему вознаграждения. Но все вышло иначе. Утром — Нагиб глубоко и спокойно спал после напряженного путешествия — его разбудил стук в дверь. Двое египтян, одетых в поношенную европейскую одежду, попросили его открыть. Их послал аль-Хуссейн — они должны привести к нему Нагиба. Тот, сразу подумав о причитавшихся ему деньгах, беспрекословно последовал за ними. На полпути, заметив, что они идут совсем не в том направлении, куда вчера уехал Али, он спросил, куда его ведут. Один из провожатых, толстый мужчина с нависшими бровями и плоским, как у боксера, носом, неопределенно махнул рукой, не ответив. Второй — сухой, высокий египтянин с открытым лицом, чьи мягкие черты не могло скрыть даже мрачное выражение, коротко ответил: «К аль-Хуссейну, увидишь». Сомнение Нагиба росло, и он забеспокоился, когда впереди показались бараки, деревянные и жестяные хижины самых бедных жителей Каира, и подножия холма Моккатам. Здесь жили не имевшие ни имени, ни законных прав, кому жизнь отказала в удовлетворении минимальных потребностей. Они существовали, питаясь отходами с рынков и на то, что им, особенно детям, удалось выпросить, а нередко и украсть в других районах. Ночью эта местность считалась опасной, и любой чужак подвергался опасности быть убитым. Да и днем люди пропадали в лабиринтах улочек между хижинами, и их никогда больше не видели. Какие намерения были у аль-Хуссейна? Хотел ли он избавиться от Нагиба, узнавшего его тайну? В то, что его привели, чтобы выплатить вознаграждение, Нагиб уже не верил. Опыт последних дней привел к тому, что Нагиба, не бывшего по натуре трусом, охватывал все больший страх, страх, подкрепленный знанием того, как аль-Хуссейн пользовался людьми для исполнения своих планов. Нагиб хорошо разбирался в людях и обычно чувствовал их намерения раньше, чем начинал осознавать это. Этим объяснялись его последующие действия: Нагиб бросился в сторону, сбив при этом женщину с ребенком. Он пробежал между двумя линиями домов, завернул за угол и пошел нарочито спокойно, чтобы не выделяться в толпе своей суетливостью, по грязной улице. В толпе бесправных Нагиб чувствовал себя в безопасности и думал, что, если достигнет мечети Асункор, купол и минареты которой виднелись над домами, может считать, что выбрался из лабиринта. Однако затем он увидел перед собой шеренгу людей с «боксером» посередине, обернувшись же, обнаружил позади другую во главе со вторым провожатым. Они медленно сближались, и, подойдя, «боксер» с такой яростью ударил ему в лицо, что у Нагиба поплыло перед глазами. Придя в себя, он обнаружил, что его, как скот на бойню, волокут по улице. Перед домом, стены которого украшали проржавевшие жестяные накладки, они остановились. В доме не было окон, лишь покосившаяся дверь. Нагиба втолкнули в темный проход. Когда глаза Нагиба привыкли к скудному свету, просачивавшемуся сквозь отверстие в потолке, он увидел перед собой аль-Хуссейна. Тот сидел на одном из ящиков, глаза его сверкали. — Ты и вправду думал обмануть меня? — тихо начал аль-Хуссейн, и в его голосе послышалась угроза. — Ты, червяк, хочешь обмануть меня, Али ибн аль-Хуссейна? — Али Эфенди, — отвечал Нагиб, — о чем ты говоришь? Я выполнил твое задание, как ты хотел. И это было связано, как тебе известно, с большой опасностью… Аль-Хуссейн прервал его жестом: — Ты, отродье вонючего верблюда, притронулся к чужой собственности. Я научу тебя, как обманывать Али ибн аль-Хуссейна. — С этими словами он щелкнул пальцами, «боксер» подошел к Нагибу и начал бить его, пока тот, после удара в живот, не упал на пол. Второй провожатый вылил ему на голову ведро помоев, так что Нагиб вновь пришел в себя. Он поднялся. Из его носа сочилась кровь. — Во имя Аллаха Всемогущего, — пролепетал он, — я не знаю, чего ты хочешь. Это ящики, которые мне передали в Асуане, и я доставил их тебе в уговоренный срок. Почему ты бьешь меня? — Ты знаешь, что в ящиках? Нагиб помедлил. Настаивать ли ему на неведении или признаться, что вскрыл один из ящиков, обнаружив опиум? Он разрезал мешок, отрицать было невозможно, и это было уликой. Так что Нагиб сознался; да, движимый непростительным любопытством, он вскрыл один из ящиков, увидел опиум и сразу же вновь закрыл ящик. Али ибн аль-Хуссейн поднялся и по очереди открыл все пять ящиков. Полные мешки все еще лежали в них. Нагиб вопросительно смотрел на Али, будто спрашивая, в чем тот его обвиняет. Но не успел Нагиб и слова произнести, аль-Хуссейн схватил по пригоршне из каждого вскрытого мешка и бросил в лицо Нагибу, так что глаза его заслезились. — Ты знаешь, что это? — взревел аль-Хуссейн в ярости. — Ты знаешь, что ты привез на мои деньги из Асуана в Каир? — Песок? — испуганно спросил Нагиб. — Пять ящиков песка! — Но я же собственными глазами видел белый порошок! Аль-Хуссейн злобно рассмеялся: — Итак, ты видел порошок! И он так понравился тебе, что ты передал его своему напарнику и наполнил ящики песком, положив лишь сверху настоящий товар, чтобы не возникло подозрений при беглом осмотре. — Клянусь бородой Пророка, нет! — закричал Нагиб. — Этого не было! Али ибн аль-Хуссейн подошел к нему и угрожающе медленно обхватил руками его шею. Нагиб почувствовал, как кровь его вскипела, прилила к лицу которое, казалось, готово было взорваться. Угрюмые черты превратились в отвратительную гримасу, аль-Хуссейн открыл рот и закричал: — Где Омар? Я задушу его собственными руками! — Он тряс Нагиба, будто желая вытрясти из него душу. Нагиб и не пытался освободиться. Он знал, что это было бессмысленно, и полностью предоставил себя судьбе. Тысячи мыслей роились в его голове, причем мысль о смерти занимала его менее всего. Можно ли доверять людям каравана? Путь от Хартума до Асуана долог, он продолжался три недели. Не составило бы труда за это время заменить груз. Потом одноглазый на пароходе. Слишком уж он охотно вызвался последить за грузом. И еще одна, совершенно абсурдная мысль: можно ли было доверять Омару? Быть может, история с двумя англичанами была им придумана для того, чтобы сойти с корабля? — Где этот Омар, я хочу знать! — будто издалека донесся до него крик аль-Хуссейна. Тот ослабил хватку, и Нагиб жадно глотнул воздуха. — Эфенди, — просипел он, — как я уже говорил, Омар сошел в Луксоре. Но он вернется, верь мне, Али Эфенди. На Омара можно положиться! — Говоря это, Нагиб уже сам не был столь уверен в своих словах. — Я буду искать его! — крикнул аль-Хуссейн. — Я буду искать и найду его. И моли Аллаха, чтобы я нашел его! Иначе… — И он провел плоской ладонью перед шеей. Затем сделал знак охранникам. Они затащили Нагиба в темное помещение без окон, связали ему руки и ноги и оставили лежать в углу. Али ибн аль-Хуссейн в тот же день на пароходе отправился в Луксор в сопровождении обоих телохранителей.Коран, 2 сура (144)
Семь дней прошло с того момента, как Нагиб с Омаром расстались, семь достаточно безрезультатных дней, не считая того, что Омар узнал, что леди Доусон — агент британской секретной службы. Мужчины, за которыми он следил целыми днями, также ни к чему не привели его. Предположение Омара касательно того, что в какой-то момент должен появиться профессор Хартфилд, не оправдалось. Он же рассчитывал на это, когда леди Доусон вместе с обоими мужчинами отправилась в Долину Царей, где они скрылись в доме Картера, затем вместе с ним спустились по узкой тропинке к подножию утеса. Омар быстро нагнал их по мощеной дороге. Издалека он видел, как Картер, держа в руках планы, очерчивает некий ареал, делая неопределенные жесты руками, будто убеждая слушателей в чем-то невероятном. Пользуясь суковатой палкой, точно феллах, Омар приблизился к ним, кивнул и поздоровался, попытавшись одновременно уловить пару слов из разговора. То, что он услышал, однако, производило впечатление, что ищут они не Имхотепа, а гробницу какого-то фараона, опираясь на кубок и ларец, находившиеся, видимо, некогда внутри и обнаруженные теперь Картером. Леди Доусон, прикрывавшаяся от солнца изящным зонтиком, и оба агента в своих широкополых шляпах не слишком стеснялись бедняка, будучи уверены в том, что человек сто положения не может знать их языка. Так Омар, пристроившийся на камне неподалеку, узнал, что лорд Карнарвон, по чьему заданию Картер вел раскопки в Долине Царей, был жадным охотником за предметами искусства, о науке же был невысокого мнения, и что Картер был в тот момент близок к решению бросить работы. Насколько Омар мог понять, Картер обладал некоторой информацией, которую и собирался сообщить агентам и о которой лорд Карнарвон ничего не должен был знать. К удивлению Омара, об Имхотепе не было сказано ни слова, как и о Хартфилде, главной фигуре поисков. Примечательным Омару показалось сообщение агентов, что, начиная со следующей недели, Картер сможет найти их в отеле «Мена Хаус» в Каире. Из чего можно было заключить, что дальнейшая деятельность британской секретной службы будет развернута в северном Египте. Чтобы не вызвать подозрений, он направился в город, намереваясь на следующий день вернуться в Каир. В комнате отеля «Эдфу» Омар упал на кровать и задумался. Он следил за агентами в надежде, что они приведут его к Хартфилду. Однако здесь, в Луксоре, он оказался дальше, чем когда бы то ни было, от цели. Он начал сомневаться, правильно ли расслышал их слова той ночью на корабле. Неужели он так увлекся поисками профессора, что уже не в состоянии был отличить реальность от собственной фантазии? Эта мысль вызвала гнев, с которым Омар не в силах был совладать. «Allah akbar — Аллах велик» — было написано на противоположной стене арабской вязью, ниже европеец поместил написанное изящным почерком любовное признание: «Jane forever — Джейн навсегда», имя дважды подчеркнуто. Фигурки перемежались изображениями зверей, а также многочисленными непристойностями. Омар отчаялся. Он почти стеснялся возвращаться в Каир, где ему придется встретить Нагиба, о чьей судьбе он ничего не знал. Мгновение его занимала идея использовать представившуюся возможность для того, чтобы освободиться от пут тадамана. Такая удобная возможность вряд ли скоро повторится. Но Омар отогнал от себя эту мысль: тадаман не отпустит так просто его, столь глубоко впутавшегося в дела организации; кончится тем, что его станут преследовать и англичане, и националисты. Так что Омар вернулся в Каир. Квартира была пуста, что сначала не взволновало его; единственным признаком пребывания Нагиба был листок с какой-то закорючкой, не многое сказавший Омару. И лишь после двух суток отсутствия товарища он решил заняться поисками. В кофейне «Рояль» на углу улицы ничего нового ему не сообщили: официант, в совершенстве владевший искусством разноса напитков на держащемся на трех цепочках подносе, лавируя между посетителями, давно не видел Нагиба, а человека по имени Али ибн аль-Хуссейн вообще не знает — по его словам, по крайней мере. Целый день Омар бесцельно бродил среди громоздившихся вокруг домов. Каир раздражал его, город внушал ему страх: кричащие люди толкались, они ничего не значили, никем не были, оголодавшие дети протягивали руки, прося денег, босые женщины, целиком укутанные в одежды, несли на головах корзины, британские солдаты в униформах, ослы, торговцы со своими тележками, все растущее число автомобилей, лающие дворняжки и везде кошки, кошки со свалявшейся шерстью, грязные и ободранные, как окружавшие их улицы и дома. Даже не имея цели, Омар жаждал покинуть этот город как можно быстрее. Поздно вечером он вернулся в свое безымянное жилище на безымянной улице. Надежда на то, что Нагиб вернулся или хотя бы дал о себе знать, не оправдалась. На столе лежал все тот же лист бумаги, на который по приезде он не обратил особого внимания. Перекрещенные линии, если смотреть на них долго, складывались в улицы — на листе был план города; без единого слова подсказки Омар узнал находившуюся неподалеку площадь Мидан Салах эд-Дин, мечеть Султан-Хасан и поворот улицы Шарья Ассалиба, находившийся в паре шагов от их квартиры. Посреди линий стоял крест. На следующий день, зажав план в руке, Омар отправился на поиски. Он не мог представить себе, куда приведет его план, найти Нагиба он не рассчитывал, и все же что-то тянуло его к месту, обозначенному на карте крестом. Это было одним из тех совпадений, которые называют судьбой и которые вызывают впоследствии лишь недоверчивую улыбку. Омар остановился перед зеленым домом на безымянной улице. Должно быть, это его цель. Решив постучать, он не мог представить себе, что может его ожидать. Дверь открыл слуга, он смерил Омара оценивающим взглядом и вежливо с оттенком пренебрежения сказал: — Мой господин, Али ибн аль-Хуссейн в данный момент отсутствует. Чего ты хочешь? Любого другого подобная неожиданная встреча лишила бы дара речи или повергла в шок, заставив бежать прочь. Однако среди прочих качеств Омара было и умение быстро реагировать, сохраняя трезвость мысли в неожиданных ситуациях. — Я, — спокойно ответил он, — друг твоего господина Али ибн аль-Хуссейна. Мы принадлежим одной организации — ты понимаешь, о чем я. Мне нужно поговорить с ним! Таинственный намек встревожил слугу, он не мог сообразить, что Омар имел в виду, и мгновенно стал дружелюбнее: — Верь мне, Эфенди, я бы не отсылал тебя, но, Аллах свидетель, Али ибн аль-Хуссейн в отъезде! Омар отодвинул слугу и вошел в темный холл. На каменном полу лежали дорогие ковры, канделябры свисали с высокого потолка, правее располагался бассейн. — Мне нельзя впускать тебя, Эфенди. Я позову госпожу! — воскликнул слуга высоким, резким голосом. Но прежде, чем он успел позвать на помощь, на лестнице появилась госпожа, привлеченная криком. Она была в черном, как это подобало замужним женщинам, и ее длинные одежды отличались изысканной простотой. — Все в порядке, Юсуф, — сказала она, подавая слуге знак удалиться. Затем подошла совсем близко к Омару и открыла лицо. Омар окаменел. Будто железную скобу вбили ему в грудь, и она мешала биться его сердцу, затрудняла дыхание, сковывала движение, Омар стоял и, не двигаясь, смотрел на лицо женщины. Она подняла правую руку и положила ему на грудь. — Ya salaam! — тихо с трудом проговорил Омар, добавив застенчиво и как бы не веря себе: — Халима? Халима кивнула. Глаза ее блестели, Омар тоже боролся со слезами. Ему трудно было сдержаться, чтобы не прижать к себе Халиму, не ощутить ее бьющееся сердце и ее тело. Сколько лет не видел он Халиму? Прошло около шести или восьми лет с тех пор, как он нашел пустым ее дом в эль-Курне. Как горько ему было тогда читать ее письмо, в котором она прощалась с ним. Омар знал его наизусть, сотни раз прочел он его, каждое слово, целовал его, как ребенок, но так и не понял прощальных слов Халимы. — Халима, — повторил он беззвучно, — ты, здесь? Халима пожала плечами. На ее губах играла нежная улыбка, словно она хотела извиниться, извиниться за неожиданную встречу. Тусклый свет холла скорее скрывал, чем освещал, и все же Омар ощущал, чувствовал Халиму, потому что так и не забыл ее за все эти годы. Ее близость действовала, как пустынный ветер хамсин, чей жар незаметно обжигает кожу, она заставляла его гореть и дрожать от холода одновременно, отнимала способность мыслить. Омар видел Халиму сердцем, разумом же его был затемнен. Что-то в нем противилось моменту, она не могла, просто не могла быть здесь, в доме этого Али ибн аль-Хуссейна. Госпожа! Боже, этого просто не могло быть! Именно тот, кого он мог предположить в последнюю очередь, забрал ее у него. Во имя Аллаха, почему она последовала за таким негодяем, как Али ибн аль-Хуссейн? Почему она молчит? Почему не объяснит эту необъяснимую ситуацию? Почему не скажет, что все еще любит его так, как по-прежнему любит ее он? Он не мог дотронуться до Халимы, как ни желал этого. Время изменило ее. Она не стала менее красивой или желанной, изменились ее движения. Теперь она вела себя как женщина, а не как девочка. Перед Омаром стояла повидавшая жизнь, взрослая женщина, в чьем присутствии он почувствовал себя мальчишкой. В душе Омара рос страх, страх перед тем, что Халима может сказать нечто, что разрушит их связь, она могла сказать: «Уходи и никогда не возвращайся, нам нельзя видеться!» Как она уже сделала это однажды. Так что он попытался заговорить первым и начал лепетать — иначе его слова назвать нельзя было — нечто нечленораздельное: что-то о Нагибе, своем друге, которого надеялся найти, потому что аль-Хуссейн дал им задание. Халима долго не отвечала. Она изучала Омара, насколько это позволяло освещение в холле, и ему показалось, что прошла вечность; затем она тихо спросила с тем превосходством в голосе, которое с самого начала поразило Омара: — Больше тебе нечего мне сказать? Ах, зачем он наговорил столько глупостей! Теперь он понял, насколько был легкомыслен. Он почувствовал, как кровь приливает к лицу, и надеялся только, что Халима не заметит в темноте, как он покраснел. Омар увидел, как она обернулась, бросила быстрый взгляд в сторону лестницы, затем подошла к нему ближе и прижала к себе. Омар не ожидал этого и повиновался безвольно, как ребенок, спрятавшийся в объятиях матери, не в силах противиться ее чувствам. Халима взяла в руки его голову и стала покрывать его лицо поцелуями, и Омар почувствовал нечто, чего не ощущал еще никогда в жизни. Скованность исчезла, и он прижал к себе любимую с такой силой и страстью, что почувствовал боль. Ни Омар, ни Халима не знали, сколько времени они так простояли. Будто пробудившись от долгого сна, они одновременно открыли глаза. Омар смертельно испугался: перед ними стоял Юсуф, слуга. Его глаза были опущены, и он сказал, не глядя на Халиму: — Госпожа, пора. Халима была не так встревожена, как Омар, и, увидев страх в его глазах, успокоила: — Ему можно доверять, он мой самый верный слуга. — Сказав это, она взяла Юсуфа за руку. Каждый день в одно и то же время Халима в сопровождении Юсуфа шла на рынок за покупками, которые слуга потом нес в корзинах домой. Эта прогулка была обычаем, почти ритуалом, так что ее задержка или отмена потребовала бы длительных объяснений. Халима была главой огромного дома, при котором состояла дюжина слуг и лакеев, а также постоянно меняющееся количество женской прислуги — девушек, предлагавших себя на базаре в обмен на жилье и еду, если их выгнали из дома или они не сумели выйти замуж. Не считая их, в доме была вторая женщина, молодая, почти ребенок, обладавшая, однако, внешностью взрослой женщины. Али ибн аль-Хуссейн взял ее второй женой, что не противоречило законам страны, однако глубоко оскорбило гордость Халимы. — Нам многое нужно рассказать друг другу, — сказала Халима, и Омар кивнул: — Но не здесь. — Нет, не здесь, — ответила она. — Ты знаешь, где находятся ворота базара Канн эль-Калили. За воротами направо уходит улица торговцев коврами. Первый магазин принадлежит Ахмеду Амеру. Ахмед мне многим обязан. После полудня я буду ждать тебя у него. Удачи. Ошеломленный, Омар вышел на улицу. Ему казалось, что фасады домов плыли перед его глазами, а шум улицы доносился откуда-то издалека. Он шатался, но крайней мере таковы были его ощущения, когда он сворачивал на Шарью Ассуругью, ведшую на север, в сторону базара. Он не видел ни людей на улице, ни автомобилей, он видел только Халиму, ее фигуру на лестнице и ее лицо в сумраке холла и, не шевеля губами, вновь и вновь произносил лишь одно слово: «Халима». Добравшись до высокой башни, где начиналась рыночная суета, Омар легко нашел продавца ковров. Он назвался, и Ахмед Амер проводил посетителя наверх по деревянной лестнице, где в тесной комнатке его ждала Халима. Она сидела на свернутом ковре. Сквозь ставни пробивались лучи света. Пахло шерстью и средством от моли, но в тот момент Омар не видел и не слышал ничего, кроме Халимы. Не говоря ни слова, он опустился перед ней на пол, обвил руками ее бедра и положил голову ей на колени, как будто стеснялся, как будто хотел спрятаться. Халима поняла его и погладила по голове. Так они сидели некоторое время, собираясь с мыслями. Омар ощущал тепло, исходившее от ее тела, а Халима чувствовала, как его слезы капают на ее подол. — Не плачь, — сказала она, сама с трудом сдерживая слезы, и подняла его лицо так, что смогла заглянуть в его глаза. — Я не плачу, — ответил Омар, вытирая рукавом слезы. И, вздохнув, робко спросил: — Почему все так случилось? — Судьба сама тасует карты, нам остается только играть. — Халима улыбнулась, но в улыбке ее сквозила грусть. — Почему все так случилось? — повторил Омар, качая головой. — Ты счастлива? — Счастлива? — Халима не ответила ему, но Омар заметил, что она повернулась к окну. — Почему ты вышла за этого Али ибн аль-Хуссейна? Почему? — Когда он заметил, что Халима не хочет отвечать, Омар поднялся и сел возле нее, так что она уже не могла спрятать глаз. — Почему, Халима? — Ты действительно хочешь это знать? — Ты должна мне сказать, Халима! — Но это не сделает тебя более счастливым. — Но я и страдать не буду сильнее, чем уже страдаю сейчас. Тогда Халима подняла рукав рубашки Омара, так что стало видно ожог. Она ласково погладила место ожога и, запинаясь, заговорила: — Не знаю, задумывался ли ты о том, как это все произошло тогда, в эль-Курне. — О чем ты говоришь, Халима? — Об этом! — Она положила руку на знак кошки. — Если бы ты знал, где они держали тебя… Омар сглотнул, затем ответил: — Я знаю, Халима. Это не давало мне покоя. Однажды случай помог мне. Я услышал шум из дома шлифовальщика — это был тот же звук, что был слышен в моей темнице. Так что я начал поиски и наткнулся на дом твоего отца. Это потрясло меня. — И что ты подумал обо мне? Омар пожал плечами и отвел взгляд. — Честно говоря, я никак не мог выстроить все, что знал, в единую цепь. Прежде всего, я не знал, какую роль играешь ты во всей истории. — А теперь? — Теперь не больше, чем прежде. А то, что ты вышла замуж за этого аль-Хуссейна не делает твое поведение понятнее. Словно боясь услышать злобу в его словах, Халима закрыла ему рот рукой. — Мс говори больше ничего, любимый! — прошептала она. — Я все объясню тебе. Но ты должен мне верить, пообещай! Некоторое время они сидели молча, затем Халима медленно начала рассказывать: — Юсуф, мой отец, был уважаемым человеком в эль-Курне. Его национальная гордость, гордость за то, что он египтянин, прославила его далеко за пределами нашей деревни. Юсуф был единственным, кто отказывался работать на заносчивых англичан, пытавшихся отнять у нас родину. Я любила своего отца за это и слишком поздно заметила, какие странные личности и бездельники собираются в нашем доме. Они восхваляли новый, свободный, самостоятельный Египет, и все чаще звучало слово «тадаман». Я не знала, что это значит, и спросила отца. Он объяснил мне, что за словом «тадаман» кроется организация египетских патриотов, поставившая целью добиться свободы Египта, а опознавательным знаком они избрали кошку — зверя, который сосредоточивает в себе скрытые силы, видит в темноте и для всех свят. Затем он прижал меня к груди, мягко погладил по голове и произнес тоном, пугающе противоречившим смыслу его слов, чтобы я никому ни слова об этом не говорила, предатели должны умереть. Все большее количество людей пропадало, в основном египтяне, но иногда и иностранцы, о которых мой отец, если о них заходила речь, отзывался пренебрежительно, говоря, что они враги Египта и лишь получили законное наказание. На мой вопрос, какое же наказание получают враги государства, отец ответил, что их заживо замуровывают в стены гробниц времен фараонов. То равнодушие, скоторым Юсуф рассказывал об этих преступлениях, ужаснуло меня, и с этого дня я возненавидела отца. Твоя встреча с тадаманом произошла по ошибке. Юсуф считал тебя британским шпионом, люди тадамана в любом случае не верили, что профессор прибыл в Луксор, чтобы купить антиквариат. Они считали профессора британским агентом, который прибыл за определенными сведениями. Поэтому они решили убить профессора, его жену и слугу. Ты просто первым попал в их руки. Так не было запланировано, просто так получилось. У меня кровь застыла в жилах, когда они принесли тебя той ночью и бросили в темницу. Я сразу узнала тебя и пришла в отчаяние. Как я могла помочь тебе? Юсуф не знал сострадания, если речь шла о деле тадамана, и ты бы умер от голода, если бы я не добилась от отца, чтобы он отдал мне твою жизнь, или, скорее, выторговала ее. Это была недостойная сделка, но главное было то, что ты остался жив. — Недостойная сделка? Как это понимать, Халима? Омар по беспокойству в ее глазах догадался, как трудно было сто любимой сказать правду. — Ты не догадываешься, чего потребовал отец в обмен на твою жизнь? Омар ужаснулся. — Догадываюсь, — ответил он неслышно. И Халима продолжала: — Среди товарищей моего отца был один, прославившийся своей бескомпромиссностью и жестокостью — Али ибн аль-Хуссейн. Несмотря на то что я была еще почти ребенком, он положил на меня глаз. Он хотел взять меня в жены, и Юсуф пообещал ему меня. Но я сопротивлялась изо всех сил своих шестнадцати лет. Я пригрозила, что расцарапаю ему лицо, если он только подойдет ко мне, и при ближайшей возможности убегу и никогда не вернусь обратно. Таким образом мне удавалось держать Али ибн аль-Хуссейна на расстоянии. Когда я поняла, что другого способа освободить тебя нет, я пообещала отцу выйти за него замуж в том случае, если они отпустят тебя… Халима опустила взгляд. Ей было стыдно смотреть Омару в глаза, поэтому она не заметила слез в них, слез отчаяния и злобы. Омар начал всхлипывать, громко и не сдерживаясь, как ребенок, и зарыдал. В этот момент беспомощности в его голове царила одна мысль — что это все неправда, что Халима все выдумала из смущения. Но чем дольше длилось ее молчание, тем четче он осознавал, что сказанное было правдой. И тогда ярость и безнадежность смешались в одну мысль: рано или поздно я убью его. Она повторялась и повторялась в его мозгу, пока Омар громко не крикнул: «Я убью его, я убью его!» Чтобы заглушить его крик, Халима прижала голову юноши к груди и стала гладить его волосы. Омар чувствовал сквозь одежду тепло ее тела. Он почувствовал желание, или даже больше — страсть охватила его, он хотел слиться с ней, не обращая внимания на непозволительность такого поведения в данной ситуации. Омар хотел, чтобы Халима принадлежала только ему, хотел обладать ею и никому не отдавать. Она была для него всем, единственной ценностью его жизни, его любимой, самой его жизнью. Он не мог себе представить, что через минуту Халима встанет и уйдет к Али ибн аль-Хуссейну. А если она сделает это, то жизнь его потеряет смысл. Но он почувствовал прикосновение руки Халимы к его волосам, знак того, что она понимает его, что чувствует то же, и Омара охватило чувство радости, счастья, и уверенность в том, что должен быть какой-то выход. Охваченные страстью и убежденные в том, что они двое были созданы друг для друга и никто не сможет разлучить их, они упали на сложенные ковры, стали ласкать и целовать друг друга, пока, обессилев от безумных ласк, не затихли в нежном объятии. Как будто проснувшись ото сна, когда человек постепенно начинает осознавать реальность наступившего дня, Омар возвращался к действительности. — Что же с нами будет дальше? — беспомощно спросил он. Халима села. Она тихонько провела пальцем по геометрическому рисунку ковра: — Я не знаю, Омар. Я только знаю, что люблю тебя. — Нам нужно бежать, — сказал Омар. — Бежать, куда? — Омар пожал плечами. — Аль-Хуссейн и его люди будут преследовать нас по всему Египту, — заметила Халима, — и они не остановятся, пока не найдут нас, поверь мне. Омар обнял Халиму за плечи: — Если ты действительно любишь меня, ты пойдешь со мной. Мы уедем в Европу, в Англию или Францию. Там они не найдут нас. — Не обманывай себя, — ответила Халима, — люди тадамана есть и в Европе. А оскорбленный в своем тщеславии аль-Хуссейн не остановится перед тем, чтобы в поисках нас обшарить пол-Европы. Он умеет пользоваться услугами людей, которые ни его имени, ни адреса не знают, и он не остановится перед убийством. Аль-Хуссейн знает множество ухищрений, чтобы оградить от подозрений и опасности себя самого. За зеркалом в его спальне я обнаружила потайную дверь, ведущую к пожарной лестнице. В любое время он может скрыться по ней. Скорее всего, он боится мести за все свои темные дела. Мне он ничего не рассказывал об этом ходе. — Но ведь именно его темные делишки свели нас вместе! — Я знаю, — ответила Халима. Омар смотрел на закрытые ставни, сквозь щели которых пробивались лучи заходившего солнца, освещавшие облака пыли в тесной комнатке. Он думал. Казалось, вся страна ополчилась против них. Чувство бессилия охватило его, но он скорее бы откусил себе язык, чем рассказал о нем в ответ на вопросительный взгляд Халимы. Он восхищался этой женщиной, думая о том, как спокойно она говорила о страданиях, наполнявших ее жизнь, не жалея себя и не прося его благодарности. Омар почти стеснялся своей нерешительности. Халима будто прочла его мысли, взяла его за руку, избегая все же смотреть в глаза, чтобы не смутить его, и Омар почувствовал благодарность за ее жест. В течение последовавшего далее разговора они старались говорить только о мелочах, будто бы пытаясь отрешиться от тяжести их положения. Внезапно Халима спросила, как ему удалось найти ее. Омар рассказал о рисунке, который оставил его товарищ Нагиб эк-Касар на столе в комнате и по которому он, Омар, нашел ее дом после того, как тот не появился в течение нескольких дней. — Нагиб эк-Касар? — Халима недоверчиво взглянула на него. Затем она тряхнула головой и начала рассказывать, что ее муж аль-Хуссейн схватил эк-Касара и с несколькими спутниками отправился в Луксор на поиски друга эк-Касара. — Его друг — это я, — спокойно сказал Омар. — Я уже поняла это, — ответила Халима. — Чего он хочет от меня? — Аль-Хуссейн утверждает, что ты обманул его, украв товар из последней поставки опиума из Судана. — Но ты же ему не веришь? — И все же? — Во имя Аллаха, это не так, — воскликнул Омар. — Мы вместе отправились в Асуан, чтобы выполнить задание аль-Хуссейна, но в Луксоре наши пути разошлись. С тех пор я не видел Нагиба. — Как бы то ни было, аль-Хуссейн теперь охотится за тобой. Юсуф, слуга, покашливая, поднялся по лестнице. На полпути он остановился и тихо сказал: — Госпожа, пора! Халима больше прежнего желала придерживаться обычного распорядка дня. Только так она могла быть уверена, что не вызовет подозрений. Поэтому их прощание было коротким, почти холодным; но Халима пообещала вернуться на следующий день в то же время.
Положение, в котором оказался Омар, не могло быть более запутанным и безвыходным, и не было бы ничего странного, если бы Омар впал в отчаяние. Но он успел усвоить, что именно отчаяние и бессилие мобилизуют скрытые силы и укрепляют дух для совершения единственно верного поступка. Тадаман, которому Омар был обязан жизнью, становился тем ненавистнее ему, чем больше он узнавал о деятельности и членах организации. Сад Заглул мог быть достойным уважения человеком. Британцы выслали его как предводителя египетских националистов сначала на Сицилию, затем на Сейшельские острова. И приверженцы его партии тоже, вероятно, были людьми достойными. Но среди экстремистов, принадлежавших к тадаману и действовавших в основном совершая вооруженные налеты, было множество подозрительных личностей и криминальных элементов, интересовавшихся только личной выгодой и готовых войти в организацию лишь для ее достижения. Основой организации была анонимность ее членов. Лишь немногие знали их имена, не будучи при этом знакомы с иерархией и не зная, кто в ней старший. Неизвестен был и глава организации, неясно было, кому повиноваться. Но именно на такой неопределенности членов и основывалась организация. Омар, конечно, знал, что его жизнь и яйца выеденного стоить не будет, если он теперь покинет организацию, столь непреднамеренно принявшую его в свои ряды. Перед ним стояла дилемма: должен ли он встретиться с аль-Хуссейном, сделав вид, что ничего не знает, или лучше на время исчезнуть, ожидая, пока для них с Халимой не представится возможность бежать. Если он скроется, то аль-Хуссейн будет искать его и не успокоится, пока не найдет, так как исчезновение однозначно будет расценено как признание вины. Если же он начнет оправдываться, все уверения в том, что он не имеет отношения к исчезновению опиума, аль-Хуссейн пропустит мимо ушей. К тому же существовала опасность, что аль-Хуссейн разоблачит Омара, потому что до сих пор, видимо, он не догадывался, что Омар — это тот мальчик, благодаря которому он получил Халиму. Они не встречались тогда, когда Омар стал жертвой ошибки. Он не знал, слышал ли аль-Хуссейн его имя, а причину, по которой Халима, так настойчиво отклонявшая его ухаживания, согласилась выйти замуж, он наверняка давно забыл. Аль-Хуссейн не был человеком, привязанным к своему прошлому, и не в его характере было задумываться о том, что осуществилось согласно его желаниям. В чем он резко отличался от Омара. Когда страсти немного улеглись, Омара вдруг охватили сомнения в том, что Халима все та же, что и в юности, что она по-прежнему любит его. Быть может, неожиданная встреча зажгла пламя, которое угаснет через мгновение. Эта мысль преследовала его с такой силой, что при повторных встречах в условленном месте Омар ловил себя на том, что следит за каждым словом и жестом Халимы, какими бы незначительными они ни были, ища подтверждения своим подозрениям. Халима, тонко чувствовавшая малейшие перемены настроения, не могла не заметить колебаний Омара, и при их третьем свидании расспросила его. Разве было в его сомнениях что-то странное? Омар даже не пытался защищаться. Жизнь научила его, что чувства подвержены изменениям, как верхушки деревьев — порывам ветра. С их первой встречи прошли годы. Однако больше всего беспокоили Омара мысли об их совместном будущем. Халима жила среди комфорта, имела слуг. Мысль о том, что ей придется столкнуться с бедностью, не имея будущего, приводила его в ярость. В эти дни тайных встреч у продавца ковров Омар переживал моменты сильнейшего отчаяния. Не раз он решал бежать и никогда не возвращаться, но затем вновь спешил на встречу с Халимой. Халима предупредила, чтобы он не возвращался в свою квартиру. За домом давно могло вестись наблюдение. Продавец ковров, добрый старик с седой бородкой и маленькими очками с толстыми стеклами, предложил ему убежище в складском помещении у себя во дворе. Омар демонстрировал свою благодарность, дни напролет помогая мыть ковры, что было нелегкой работой: щетки кололись, мыло ужасно пахло, руки краснели и отекали. Только Омар и Халима, отбросив сомнения, сошлись в решении бежать в Европу, Омара вновь охватила грусть. Халима рассказала о возвращении аль-Хуссейна из поездки, не принесшей успеха, и о его раздражении во время их встречи. С тех пор Омар не находил себе места то от нетерпения, то от злости на аль-Хуссейна. Мысль о том, что Халима должна возвращаться домой, оказываясь в распоряжении этого человека после их совместных часов счастья, сводила его с ума. В эти моменты он вскакивал и ходил по комнате, в которой они предавались любви, сжав кулаки. Рано или поздно, повторял он, я убью его, убью его! Ярость аль-Хуссейна возросла еще больше, когда один из слуг доложил ему, что Нагиб эк-Касар бежал из темницы, загадочным образом избавившись от пут. Аль-Хуссейн затопал ногами, швырнул в вестника стул, достал револьвер, который всегда носил с собой, и начал вслепую стрелять в потолок Не впервые Халима испугалась аль-Хуссейна, но этот страх только утвердил ее в намерении покинуть мужа. Потому что однажды он направит свою злобу против нее. А день, в который он узнает об их с Омаром свиданиях, будет ее последним днем. Во время каждой своей полуденной встречи они предавались любви, потому что этого просили их тела, изголодавшиеся после долгих лет отсутствия ласк, но любовь между свернутыми коврами все более становилась похожа на акт отчаяния, и им не удавалось подавить в себе страх. Халима не могла сказать, кто стоял за освобождением Нагиба; его могли освободить его друзья или он сам мог освободиться. И это тоже не давало Омару покоя. Нагиб эк-Касар был опытен, провел долгие годы в Европе и мог бы быть полезен влюбленным в их непростой ситуации, он смог бы помочь им бежать в Европу. Но где искать Нагиба? Наконец, Омар вспомнил о старом чистильщике обуви перед отелем «Мена Хаус». Омар часто рассказывал о нем Нагибу, и тот знал, что Хасан — единственный человек, которому доверяет Омар. Наверняка Нагиб обратится к нему, если захочет найти Омара. Халима давно уже дала ему крупную сумму денег, от которой Омар сначала отказался, затем же принял с благодарностью. Теперь он был рад этому, потому что смог позволить себе путешествие в Гизу на омнибусе. Хасан устроился на прежнем месте перед отелем. Казалось, он не имел возраста — за то время, что его знал Омар, он ничуть не изменился. Хасан мгновенно заметил беспомощность в глазах друга и махнул в сторону скамейки парка, скрывавшейся в тени олеандров и не видимой от входа в отель. — О тебе уже спрашивали, — сказал старик, взобравшись на скамейку. — Нагиб эк-Касар? Микасса кивнул. — Где он? — Не знаю, — ответил Хасан, срывая листочек олеандра и старательно разжевывая его. — Он производил достаточно унылое впечатление, а на все вопросы отвечал коротко и ничего не значащими фразами. Я не знал, что и думать о нем. Наконец, он сказал, что вернется. Забавная личность! — И Хасан выплюнул листок олеандра. Омар принялся рассказывать о том, что произошло с тех пор, как они виделись в последний раз: о загадочном задании аль-Хуссейна, его безрезультатной слежке за англичанами и неожиданной встрече с Халимой. Омар не остановился и перед тем, чтобы рассказать об их любви, встречах и планах побега, а также рассказал об их растерянности. Замолчав, Омар почувствовал облегчение. Хасан сначала безмолвно смотрел перед собой, потом стал покачивать головой, будто обдумывая свое окончательное мнение. Наконец он набрал в легкие воздуха и так выпрямился, что его короткое тело приняло почти угрожающий вид. Не глядя на Омара, он сказал: — Этого тебе делать нельзя, нельзя. — Чего? — воскликнул Омар. — Она его жена. Ты не имеешь права забрать ее. — Но он преступник. Он мучает ее, я боюсь, что он убьет ее, если узнает о наших встречах! — И все же Халима перед Аллахом — законная жена Али ибн аль-Хуссейна, и никто ни по ту, ни по эту сторону Нила не имеет права забирать у него жену. — Но я же рассказал, как произошла свадьба! — Священные законы Корана не спрашивают об обстоятельствах, в которых произошло бракосочетание, они спрашивают, произошло ли оно. Дала ли Халима аль-Хуссейну согласие? — Да, но… — Значит, она его законная супруга, и никто, и ты тоже, не может оспаривать ее у него. Уверенность микассы, сквозившая в его речах, смутила Омара. Он никогда не шел против его слов и советов. Хасан был для него лучшим советчиком до сегодняшнего дня, в том числе и в вопросах морали. Но теперь все изменилось. Омар ни минуты не сомневался в правильности своего поведения. Отдать Халиму этому негодяю? Никогда! Омар назвал свой адрес. Если Нагиб появится, сказал он, Хасан должен сказать о его местонахождении. Старик пообещал сделать это, и Омар пустился в обратный путь. В омнибусе он нашел место в последнем ряду. Его голова разрывалась от дум. Его угнетала необходимость пойти против совета микассы, но оставить Халиму он не мог. Конечно, Хасан был мудрым стариком, и все его советы до сих пор помогали ему, но в данном случае возраст — не лучший советчик. Омар хотел жить с Халимой, даже если законы всего мира будут против них. Обсуждая побег, Омар и Халима сначала вместе решили ехать в Англию. Омар говорил на английском языке, а профессор Шелли многое рассказывал ему о культуре и истории страны. Деньги не составляли проблемы. Если бы Халима продала свои украшения, — а она уверяла, что готова это сделать, — у них бы появилось достаточное количество денег, чтобы прожить около года. Однако, когда Омар, отправившись на набережную, спросил в одной из компаний, есть ли свободные каюты на корабль, следующий из Александрии в Саутгемптон, ему сообщили, что билеты продаются лишь вместе с визой, для чего ему необходимо сообщить свое имя и адрес. Омар в отчаянии покинул агентство. Омар был твердо уверен, что имя его все еще значилось в списках лиц, находившихся в розыске, хотя со времени взрыва прошло уже четыре года. Но как он мог убедиться в обратном, не подвергнув опасности себя и Халиму?
Не проходило и дня без очередной демонстрации каирских националистов. Нападения на британских служащих и забастовки работников почты и железной дороги усугубляли серьезность положения. В качестве протеста взрывали телеграфные столбы, железнодорожные пути и ирригационные каналы. Заглул был в ссылке, страна с некоторых пор существовала без правительства, над цитаделью в Каире реял британский флаг, а британский комиссар лорд Оленби пытался уговорить премьер-министра его величества, Ллойда Джорджа, хоть что-нибудь изменить в политической обстановке страны. В один из первых весенних дней в магазине ковров у башни внезапно возник Нагиб эк-Касар. Омар уже оставил надежду когда-либо увидеть его. Нагиб сказал, что узнал адрес Омара у старого микассы, но тот так странно себя вел, что Нагиб засомневался, не ловушка ли это. Поэтому он несколько дней следил за обиталищем Омара, но кроме женщины с закрытым лицом, ежедневно заходившей в магазин в одно и то же время, ничего подозрительного не заметил. Понадобилось немало времени, чтобы убедить Нагиба в том, что женщина — жена аль-Хуссейна и в то же время любимая Омара, которой он обязан своей жизнью, и что Нагибу нечего бояться. Недоверие Нагиба исчезло лишь после того, как Омар поведал ему об их планах побега и неудавшейся попытке уплыть в Англию. Эта мысль пришлась Нагибу по душе, он и сам лелеял мечту покинуть страну и давно уехал бы из Каира, если бы у него были деньги. Халиме Нагиб понравился. Прежде всего его трезвый ум и жизненный опыт, так контрастировавшие с эмоциональностью Омара. Ей казалось, что втроем у них больше шансов на успех, и Халима вызвалась оплатить билет Нагиба. Тот сообщил, что через несколько дней будет снят британский протекторат, и султан Фуад станет королем Египта. Одновременно будет объявлена генеральная амнистия, так что бояться британцев им уже не придется. Халима торопила товарищей. Ситуация становилась опаснее день ото дня. Аль-Хуссейн объявил вознаграждение за головы Омара и Нагиба в размере ста фунтов. Было ясно, что если найдут их, пропадет и она. Нагиб скрывался у сестры матери. Там он чувствовал себя в безопасности и избегал появляться на улице вместе с Омаром, ведь даже в базарной давке можно было наткнуться на шпионов аль-Хуссейна. В день, когда Египет был объявлен независимым государством (что было лишь видимостью независимости, так как Англия сохраняла контроль над политикой безопасности и обороны), в этот великий день Аллах повелел случиться событию, поколебавшему уверенность Омара в правильности его намерений и заставившему задуматься о совете старого микассы. Омар и Нагиб договорились встретиться у часов на Шарье абд эль Калиг, где находилось большинство пароходных компаний. Омар с интересом наблюдал за белым автомобилем, шофер которого сидел под открытым небом, пассажира же, изящно одетого англичанина с моноклем, закрывала от солнца ширма купе. Автомобиль припарковался в нескольких шагах от Омара. В этот момент появился Нагиб. Омар махнул Нагибу рукой, но, прежде чем они успели поздороваться, к ним с разных сторон подскочили трое мужчин, оттолкнули их в сторону и принялись стрелять в англичанина, выходившего из автомобиля. Омар и Нагиб стояли как вкопанные, они еще были не в силах пошевелиться, а гангстеры уже побросали револьверы на землю и пустились в бегство по улочкам, ведшим к опере. Англичанин лежал на асфальте, голова его была неестественно вывернута лицом вниз. Возле него расплывалось пятно черной крови. Пальцы левой руки, устрашающе поднятые вверх, задрожали, будто под сильным напором воды, затем рука стала биться об асфальт. Со всех сторон сбегались кричащие люди, и только теперь Омар понял, что они стояли ближе всех к убитому. Он схватил Нагиба за рукав и начал проталкиваться сквозь ряды зевак, мгновенно столпившихся вокруг. Это заметил шофер, спрятавшийся от выстрелов за автомобилем, и в панике закричал, указывая на них: «Держите их! Убийцы!» Парочка особо отважных, вставших на их дороге, была сметена на бегу. Омар и Нагиб бежали, спасая свою жизнь. Они понимали, что лишь случайно стали свидетелями нападения, но также понимали, что даже в качестве простых свидетелей им придется назвать свои имена, что могло повлечь за собой ужасные последствия. Омар, знавший местность, устремился сквозь улочки и переулки к вокзалу, Нагиб следовал за ним. Почувствовав себя в безопасности, они замедлили бег и влились в толпу народа. Расставшись, они направились в разные стороны, договорившись встретиться в магазине ковров. Халима замерла в ужасе, услышав о происшедшем. Наконец, она опустилась на один из ковров, спрятала лицо в ладони и заплакала горько, как маленькая девочка. Положение казалось совершенно безвыходным. Омар молчал. У него из головы не выходили слова старого микассы. Нагиб стоял, прислонившись к стене между окнами, и смотрел в одну точку на потолке. — И? — спросил Омар требовательным тоном. Он знал это выражение лица Нагиба, когда тот погружался в раздумья, в конце концов они достаточно много времени провели вместе в тесном замкнутом помещении. — Я знаю одного начальника порта в Александрии, — запинаясь, начал тот, и Халима взглянула на него с надеждой. — Ну, сказать, что я его знаю, было бы преувеличением, но я знаю, что он продажен. Банкноты действуют на него, как опиум. За пару бумажек он готов на все. Не единожды он ставил на кон все, открывая ночью ворота склада, откуда люди тадамана вывозили вагоны американских и английских сигарет. Затем он вновь запирал их, полиция же ломала голову над тем, как мог исчезнуть груз. — Но нам не нужны сигареты! — невольно бросил Омар. — Нет, — ответил Нагиб, — нам не нужны сигареты. Но мы иначе могли бы воспользоваться его помощью. — Говори же! — торопила Халима. — Например, если бы Георгиос — так зовут начальника порта, потому что он по происхождению грек, как и многие из живущих в Александрии, — провел нас мимо таможенного и паспортного контроля. — В качестве слепых пассажиров? — Халима махнула рукой. — Что значит — в качестве слепых пассажиров! Георгиос знаком с командами кораблей, а они не менее продажны. — Ты имеешь в виду, что мы могли бы купить билеты в обход всех служб? — Я уверен в этом. Глаза Халимы загорелись. Деньги, по ее словам, не имели значения. Она продаст украшения и возьмет несколько сотен фунтов, хранившихся у аль-Хуссейна в доме. — Он убьет тебя, если обнаружит отсутствие денег, — сказал Омар не слишком уверенно, он знал, что это был их единственный шанс. Халима взяла Омара за руку. — Ни минуты не сомневаюсь в этом, — горько усмехнулась она, — но это ему не удастся. Я верю в тебя. — Омар обнял ее. Нагиб, сидевший до этого момента на ковре, присел на колени перед влюбленными и тихо заговорил: — Но все должно произойти очень быстро! Когда аль-Хуссейн заметит исчезновение Халимы, мы уже должны быть на борту или в крайнем случае в порту Александрии. Поняли? Омар и Халима кивнули. — Лучше всего нам будет разделиться. То есть каждый из нас будет добираться в Александрию по отдельности. И ты тоже, Халима. Втроем и даже вдвоем это будет слишком опасно. — Хорошо, — ответил Омар, аргумент показался ему веским. — Когда? — Завтра, — коротко ответил Нагиб. — Нельзя терять времени. Первый поезд в Александрию уходит около шести. — Но это невозможно! — возразила Халима. — Аль-Хуссейн никогда не выходит из дома раньше девяти. Если я выйду раньше, это вызовет подозрение. Поэтому они решили, что Халима поедет на следующем поезде. В Александрии они должны были встретиться в порту возле башни, время встречи — каждый полный час. В порту постоянно находилось много людей, и они не должны были выделяться. Из складок одежды Халима достала пачку банкнот, разделила ее на глаз и дала по половине Омару и Нагибу. Оба молча спрятали деньги. Затем Халима обняла Омара. Она прижалась к нему со всей силой. Нагиб отвернулся. — Да поможет нам Аллах, — сказала она и спустилась по узкой лестнице. Когда она исчезла, Омар будто окаменел. Один внутренний голос говорил ему: верни ее! Ты не можешь отпустить ее сейчас! Другой призывал к спокойствию. Только так они могли рассчитывать на успех. — Ты дрожишь. — Нагиб подошел к Омару и взял его за руку. Тот отвернулся. — Тебе нечего стесняться, — проворчал Нагиб, — нет ничего постыдного в том, чтобы бояться за женщину. Ты ее очень любишь? Омар не ответил, да Нагиб и не ожидал ответа. Той ночью, которую Омар считал своей последней ночью в Каире, он не мог заснуть. Ему не давала покоя мысль о том, что на следующий день он навсегда покинет родину. Никогда больше не почувствует на коже хамсина, гонящего песок и пыль, ни запаха Нила, не увидит звезд на ночном небе юга, горящих, как драгоценные камни. Он боялся говорить на чужом языке, жить в незнакомой стране, носить другую одежду. Омар любил Египет, он любил эту страну, тогда как ничего странного не было бы, если бы он ее ненавидел. Потому что в этой стране были только две категории людей — живущие в темноте и живущие на свету. А Омар всю жизнь провел в темноте. Человек легче привыкает к темноте, нежели к свету. Одна мысль о том, что они с Халимой начнут новую, совместную жизнь, вселяла в Омара мужество и вызывала неожиданную улыбку, означавшую скорее неуверенность в следующем дне, чем радость его ожидания. Омар начал новый день с того, что оставил хозяину пять фунтов и записку со словами благодарности и направился на базар, в одну из лавок, торговавших подержанной одеждой на любой вкус и карман. Беглецы договорились надеть европейскую одежду, чтобы не слишком бросаться в глаза. Омар выбрал светлый льняной костюм. Брюки слегка отвисли на коленях, костюм был поношен и не должен был привлечь внимание к его обладателю. Сумка из парусины, которую Омар привык носить с собой еще во времена строительства железной дороги, помогала скрыть его происхождение. После утомительного путешествия он достиг вокзала в Александрии. Город, как только путешественник покидал типичный восточный вокзал, производил впечатление вполне европейского. Не менее суетливый, чем Каир, он, однако, казался современнее безымянных улиц столицы. Нагиб уже ждал в условленном месте. Он был взволнован, потому что начальник порта за свои услуги запросил сумму, вдвое превышавшую предполагавшуюся. Следующий корабль в Англию уходил через пять дней, и было не вполне ясно, сумеет ли Георгиос посадить их на борт. На следующий день шел корабль в Неаполь, но его команда постоянно подвергалась проверкам, с тех пор как в Италию бежал известный националист и опубликовал там сенсационные заявления. Этой же ночью порт покидает «Кенигсберг», капитан которого многим обязан начальнику порта. Короче говоря, на этом корабле есть свободная каюта на нижней палубе, капитан же может изготовить для них все необходимые документы, так что в Гамбурге они вполне официально смогут сойти на берег. Германия? На лице Омара появилось разочарованное выражение. Ведь он надеялся, что они окажутся в Англии, где он по крайней мере сможет объясниться. Но Германия? Нагиб, проведший несколько лет в Берлине, был иного мнения. Конечно, у него остались не лучшие воспоминания о жизни в Берлине, где он зарабатывал на жизнь случайной работой, зачастую бывшей нелегальной, но все же в этом городе не приходилось бояться за собственную жизнь. И оказавшись перед выбором, уплыть ли еще сегодня или ожидать в страхе и сомнениях, Омар согласился. Но где же Халима? Омар оглядывал набережную, нет ли ее где-нибудь в толпе, но Халима не появлялась, и страх смешивался в его душе с грустью. Побег Халимы мог быть замечен, ее мог выдать кто-нибудь из прислуги, тогда аль-Хуссейн уже преследует их. Омар почувствовал полную безнадежность. В этот момент он даже убежать не смог бы, такой страх его охватил. Нагиб, понявший состояние Омара, успокаивал его: — Выше голову, она придет! — Они отошли к стене и, повернувшись спиной к солнцу, стали оглядывать проходивших мимо людей. — Судьба справедлива, — начал Нагиб, сплюнув в воду. — Если Халима придет, то на то воля Аллаха, если нет, то ты должен будешь подчиниться. Омар молча кивнул, хотя эта мысль мучила его. Египтянин не сознает собственного страдания. Он знает, что все происходит в соответствии с волей Аллаха. — Подождем до следующего часа, — сказал он, опасаясь, что Нагиб откажется, — а потом поедем одни. — Договорились, — согласился Нагиб, — но только до следующего часа. Иначе корабль уйдет без нас. Омар ничего не видел. Жизнь никогда не казалась ему более бессмысленной, чем в тот момент. Желание бежать с Халимой, начать вместе новую жизнь постепенно исчезло. Один, без определенной цели, он совсем по-другому смотрел на будущее. Зачем ему вообще уезжать? Для чего? Страх растягивает время, и Омар не знал, сколько времени прошло. Он почувствовал прикосновение Нагиба к своему плечу, будто пробудившее его ото сна. Омар поднял взгляд, и Нагиб качнул головой в сторону: на расстоянии пары шагов прохаживалась изящная, по-европейски одетая дама. На ней был узкий костюм с юбкой средней длины, на голове — вызывающая шляпка по последней моде, в руке — чемодан. Халима? Была ли это действительно она, или она ему снилась? Нет, женщина действительно была Халимой. Робко, будто боясь ошибиться, Омар подошел к даме. Ей тоже понадобилась пара минут, чтобы узнать его. — Халима! — Омар! Нагиб позвал их за собой, предупредив, чтобы они вели себя поестественнее. В здании руководства порта, снабженном невероятным количеством дверей, на каждой из которых красовалась надпись из букв или цифр, их ждал Георгиос. Он казался взволнованным, но, скорее, не нарушением, которое он готовился совершить, а денежной суммой, которая ему за него причиталась. Георгиос был египетским служащим, и каждый знал, что на жалованье эти люди прожить не могут. Фактически государственная должность считалась уважительной причиной для коррупции, и Георгиос, имевший жену и четырех детей, просто не смог бы выжить без этих достаточно регулярных поступлений средств. Он часто проводил находящихся вне закона людей на иностранные корабли — людей, скрывавшихся от закона, и людей, просто желавших исчезнуть, не оставив следов. Обычно Георгиос брал за услуги двадцать фунтов, что соответствовало его месячному заработку; но он всегда присматривался к людям, которые к нему обращались, и судил об их финансовых возможностях по их виду. С троих беглецов он потребовал сумму, почти вдвое превышавшую обычную, а точнее сто фунтов. Если они считают сумму слишком большой, они могут попробовать договориться еще с кем-нибудь, сказал Георгиос. Нагиб чуть не потерял контроль над собой, по крайней мере он выглядел так, будто собирался броситься на начальника порта и потащить его в полицейский участок. Но что бы это изменило? Начальник порта оспорил бы любое заявление, и, что еще хуже, им троим пришлось бы назваться, а этого им делать было нельзя. Так что Халима протянула Георгиосу сотню фунтов, и тот уладил с капитаном все формальности, включая документы, и с наступлением темноты они «абсолютно легально» взошли на борт корабля. «Кенигсберг» был судном, перевозившим как грузы, так и пассажиров и совершавшим раз в месяц рейсы из Гамбурга в Александрию. Путешествие на корабле, бесспорно, было комфортнее, но путь по морю до Неаполя с пересадкой на поезд до Гамбурга сократил бы путешествие на одну треть. Троим запоздавшим пассажирам была предоставлена каюта на нижней палубе, где в основном размещались слуги, сопровождавшие господ, путешествующих на двух верхних палубах. Нагиб, единственный, кто уже плавал на кораблях, сказал, что каюта без иллюминаторов более чем скромна, но им она подходила своим незаметным расположением. Здесь они не должны были привлечь внимание других пассажиров. Когда корабль отчаливал, за час до полуночи, Омар, Халима и Нагиб стояли у перил среди других пассажиров. Огни Александрии становились все меньше, Омар следил за ними, обнимая Халиму. Она тихо плакала. Омар крепче прижал ее к себе, так что теперь вздрагивал и он. Не произнеся ни слова, они, однако, чувствовали одно и то же — счастье оказаться вместе и страх перед будущим. Inscha’allah.
9 Берлин, между Жандарменмарктом и Уранией
«О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: они — друзья один другому. А если кто из вас берет их себе в друзья, тот и сам из них. Поистине, Аллах не ведет людей неправедных!»Они надеялись, что бегство в Европу освободит их от проклятия прошлого, что они смогут начать новую жизнь, не обремененную страхом. Для этого они покинули Египет, направившись в неизвестность. Но человек может скрыться от настоящего, бежать же от прошлого не в его власти. Когда Омар, Халима и Нагиб сошли с корабля в Гамбурге после двухнедельного путешествия и остановились в нерешительности, куда направиться в незнакомой стране, к ним приблизился мужчина, одетый в серое. На нем была кепка шофера с золотой накладкой. Он неожиданно появился перед ними и с вежливой сдержанностью спросил: — Господа прибыли из Египта? Нагиб, единственный, кто понимал немецкий язык, ответил утвердительно и спросил, почему это интересует господина. Мужчина в сером пропустил вопрос мимо ушей и продолжил: — Тогда вы должны быть господами Омаром Муссой и Нагибом эк-Касаром? Услышав свое имя из уст незнакомого человека, Омар пришел в ужас; он схватил Халиму за руку и думал уже было бежать, скрывшись в толпе. Нагиб же, заинтересованный тем, откуда тому известны их имена, удержал Омара за рукав: «Спокойно. Не торопись». И, вновь обернувшись к незнакомцу, ответил: — Бесспорно, эти имена принадлежат египтянам. Их разыскивает полиция? Вопрос Нагиба вызвал улыбку на лице господина. Он понял тактику Нагиба и решил попытаться добиться доверия путешественников другим способом. — Разрешите представиться, — сказал он, наклонив голову и оставаясь при этом прямым, как дерево, — мое имя — Ханс Калафке, но называют меня просто Жан. Я секретарь, шофер и слуга Густава-Георга, барона фон Ностиц-Вальнитца, если вам что-нибудь говорит его имя. Говорит ли ему что-нибудь это имя! Нагиб сглотнул. Ностиц-Вальнитц был одним из богатейших людей в Германии, владел дюжиной компаний тяжелой индустрии, имел собственный банк, считался главой немецкой центристской партии, и каждый ребенок знал его имя: «Стальной барон». Ya salaam! Чего хотел от них Стальной барон? Омар, заметивший удивление, даже изумление Нагиба, вопросительно смотрел на него. — Господин барон хочет поговорить с вами, — сказал Калафке и продолжил, предупреждая дальнейшие расспросы: — Я должен отвезти вас в Берлин. Вы позволите? — И, не ожидая ответа, он взял их багаж и направился к припаркованному на набережной автомобилю. Нагиб торопливо пытался объяснить Халиме и Омару происходящее. Халима прижималась к Омару, тот же убеждал Нагиба, что все это — полицейские штучки, их просто хотят арестовать и отправить в Египет следующим рейсом. Подойдя к автомобилю, Нагиб попросил подождать их. Слуга, привыкший подчиняться, занял место за рулем темного лимузина, нарочито безучастно глядя в пустоту. — С каких это пор полиция присылает лимузины с шофером? — спросил Нагиб, оглянувшись на Ханса Калафке. Омар пожал плечами. На уловки полиции это действительно похоже не было. — Но откуда ему известны наши имена? Как он узнал о нашем прибытии? — Главное, чего он от нас хочет? — вмешалась Халима и беспокойно огляделась в поисках спрятавшихся полицейских агентов. Разговор затянулся, и Калафке заметил нерешительность египтян. Он вышел из автомобиля, подошел к Нагибу и сказал: — Я понимаю ваше недоверие, сударь, но смею заверить вас, барон фон Ностиц имеет лучшие намерения! — Вы знаете, о чем идет речь? — осведомился Нагиб. — Сударь, — продолжал Калафке, — мне не пристало вмешиваться в дела барона, а если бы я и знал что-либо, то счел бы своим долгом промолчать. Но вы можете быть уверены, что барон — человек чести. Нагиб перевел слова Калафке друзьям, Омар и Халима беспомощно переглянулись. — Что значит человек чести? — спросила Халима. — Человек чести? В нашем языке такого понятия нет. Это значит, что он справедлив и что ему можно доверять. — И ты веришь этому кучеру? Нагиб пожал плечами. Затем подошел к шоферу, который вновь сел за руль, и спросил: — А если мы откажемся? — Сударь, я не могу принудить вас. Мое задание — передать вам пожелание барона. Впрочем, барон фон Ностиц-Вальнитц не привык, чтобы ему отказывали. Не могу сказать, как он отреагирует. — То есть вы хотите сказать, что мы можем идти туда, куда захотим, и с нами ничего не случится? — Я не могу помешать вам в этом. Обдумав слова слуги, трое беглецов решили ввериться судьбе и сели в машину Калафке.Коран, 5 сура (56)
Между Жандарменмарктом и Уранией на Фридрихштрассе располагался дворец «Стального барона». Несмотря на то что в распоряжении барона была также вилла в Грюневальде, где он раньше и проводил большую часть времени, развлекаясь разведением почтовых голубей, с тех пор как пару лет назад умерла его супруга Эдигна, которую он называл «Эдди», барон предпочитал суету города уединению природы. Берлин походил на пороховую бочку. Правые экстремисты убили министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Каждый день происходили убийства на политической почве. И несмотря на репарации англичан, в стране наступила инфляция. Средний класс разорился, в то время как отдельные личности увеличили свое состояние до нереальных размеров. Одним из них был барон фон Ностиц-Вальнитц. Дворец на Фридрихштрассе, выкрашенный в цвет охры, с высокими, блестящими окнами с жалюзи, был окружен железным решетчатым забором. Вход днем и ночью охраняли вооруженные стражи, благодаря чему здание стали называть «Кафе Рейхсвер». Несмотря на такую откровенную демонстрацию личного богатства в городе голодающих, барона здесь не ненавидели. Одной из черт его характера была периодическая потребность творить добро и громко заявлять об этом — или, скорее, слушать. Когда он — а случалось это нередко, — проезжая на своем лимузине по шикарной улице Унтер ден Линден, видел нищего, барон выходил из машины, расспрашивал об имени и судьбе несчастного и одаривал его, в зависимости от ситуации, квартирой, работой или оплатой его долгов. Случайно же находящийся неподалеку фотограф «Берлинер Цайтунг» или «Моргенпост» каждый раз помещал соответствующую статью в газету. Фон Ностиц-Вальнитц любил делать добро, потому что — как он часто повторял — ценности меняются, а чувства остаются. И приводил пример газеты «Берлинер Иллюстрирте», новогодний номер которой стоил две марки, рождественский же уже восемьдесят, хотя газета не стала ни лучше, ни толще, ни красивее. Уже наступили сумерки, когда Омар, Халима и Нагиб прибыли на Фридрихштрассе. Автомобиль остановился перед колоннами входа, лысый слуга в сером пиджаке принял гостей, поприветствовав от имени барона. За дверью находился холл, занимавший два этажа и разделенный посередине мраморной лестницей. На полу, выложенном черно-белой плиткой в виде шахматной доски, красовались персидские ковры. Два кожаных кресла, столик и стоящий поодаль белый рояль составляли всю обстановку. С потолка свисала хрустальная люстра, не уступавшая по великолепию интерьеру каирского дворца султана, собранные же бархатные шторы придавали помещению серьезный, почти музейный вид. Тем временем путешественники забыли о недоверии, любопытство заглушило неуверенность. Слуга проводил их на второй этаж, где попросил подождать перед двустворчатой дверью. Он исчез, не сказав ни слова, через несколько минут вернулся и открыл перед ними дверь, что Омар, Халима и Нагиб восприняли как предложение войти. Помещение, представшее их глазам, было освещено рассеянным светом, стены до потолка уставлены книгами, между двумя оконными нишами — черный письменный стол огромных размеров, за ним мужчина с красным лицом с седыми волосами, в левой руке сигара, правой рукой он ставил подписи в папке, механически, не глядя на документы. Это был Густав-Георг барон фон Ностиц-Вальнитц. Когда он оторвал взгляд от поверхности письменного стола, на лице его появилось подобие улыбки, но попытка окончилась неудачей, и улыбка превратилась в гримасу, потому что фон Ностиц не привык улыбаться. Ему с трудом удавалось даже выражение дружелюбности; обосновывал он это следующим образом: я богат, мне не над чем смеяться. Фон Ностиц поднялся, и теперь стало заметно, что барон, несмотря на полноту, очень невысок и при ходьбе подтягивает за собой левую ногу. Казалось, ходьба требовала от барона сильного напряжения. Он подошел к гостям, поприветствовал их, указал на кресла и без обиняков начал: — Вы, конечно, удивились, что вас ждали в Гамбурге по прибытии, и наверняка задумались, прежде чем принять мое приглашение. Я прекрасно вас понимаю. Но хочу заверить, вам здесь нечего опасаться. Напротив, здесь я являюсь просителем. Просителем? Нагиб, единственный, кто понимал слова барона, перевел их и посмотрел на Омара, тот переглянулся с Халимой. — Как вы узнали о нашем прибытии? — вежливо осведомился Нагиб. — Это выдолжны узнать, и это я вам объясню. — Обстоятельно, не торопясь, барон закурил сигару, выпуская маленькие облачка, повернулся к Нагибу и начал рассказ. — Вероятно, вы уже задумывались о том, кто освободил вас из ловушки Али ибн аль-… — Аль-Хуссейна? — Верно, аль-Хуссейна. Вы вообще-то еще должны были находиться в его темнице в Каире, будучи схвачены этим разбойником. Халима, услышав из уст барона имя аль-Хуссейна, вскочила и бросила взгляд на дверь, а затем на Нагиба, будто ожидая сигнала к побегу. Но тот успокоил ее жестом, сделав знак сесть. — Откуда вам это известно? — недоверчиво продолжал спрашивать Нагиб. Барон вытянул левую, поврежденную ногу, с удовольствием взглянул на свою сигару и ответил, не глядя на гостей: — Знаете ли, наш мир стал очень тесен. Улицы и железные дороги соединяют города, самолеты пересекают океаны. С телеграфа государственной почты можно послать телеграмму в любую точку мира. Речь Ллойда Джорджа во время конференции в Генуе за семьдесят минут была передана в Лондон через Берлин. Я хочу сказать, теперь каждый имеет доступ к любым данным, стало достаточно трудно скрыть что-либо — если вы понимаете, о чем я. — Нет, я ничего не понимаю, — ответил Нагиб. Барон фон Ностиц-Вальнитц откашлялся: — В паре кварталов отсюда находится управление немецкой секретной службы, лучшей из секретных служб мира. С некоторых пор ее агенты наблюдают за деятельностью английских и французских коллег в вашей стране. Цель была до некоторых пор сокрыта для нас, но в Египет привлекалось все большее количество археологов. Предположение, что секретные службы могут интересоваться археологическими исследованиями, было бы абсурдным. Тайная полиция не интересуется прошлым, ее внимание устремлено в будущее. То, что было, интересно; но интерес тайной полиции сосредоточен на том, что произойдет или может произойти в будущем. Таким образом, должно было быть иное объяснение активности наших коллег в сфере археологии. Наша тайная полиция скоро обнаружила его. — В разных музеях находятся обломки плиты, которые, если их составить вместе, указывают на местонахождение гробницы Имхотепа. Британский археолог по имени Хартфилд, по всей видимости, обнаружил самый большой фрагмент, он утверждал, что в гробнице сосредоточены сокровища, золото, украшения, но и приборы, и документы об утерянных знаниях человечества. Вот это-то последнее и интересует секретные службы. Ходили невероятные слухи по поводу того, что находится в гробнице: химические и физические формулы, чудесные напитки и указания на другие захоронения. Со времен Наполеона ходят легенды, которыми занимаются уважаемые археологи, согласно которым египтянам была известна незнакомая нам форма энергии, и они могли изменять магнитную силу полюсов. Короче говоря, даже если будет обнаружена хоть часть этих знаний, их обладатель окажется в преимущественном положении по отношению ко всему человечеству. То есть сможет властвовать над миром. Потому что если что-то и может подчинить себе мир, то это знание. Фон Ностиц-Вальнитц говорил с воодушевлением, позволявшим догадаться, насколько подробно он ознакомился с делом. Его гостям становилось понятно, почему он их разыскал. Лишь как оставалось загадочным, как Сфинкс в Гизе. Во время паузы, когда барон предложил гостям коньяк, от которого они отказались, Нагиб отважился спросить, как ему удалось найти их. — Об этом я вам расскажу, — ответил фон Ностиц-Вальнитц, и по лицу его вновь проскользнуло неудавшееся подобие улыбки, как и при встрече. — Я получаю информацию из первых рук. Фридрих Фрейенфельс, глава тайной полиции Германии, — мой бывший одноклассник; несколько лет подряд мы делили с ним женщину — как видите, нам нечего скрывать друг от друга. Когда мой друг Фридрих рассказал мне о таинственной истории поиска гробницы в Египте, во мне проснулось желание заняться этим самостоятельно. Нагиб, Омар и Халима молча переглянулись. — Я знаю, о чем вы сейчас подумали. — Ностиц залпом допил коньяк. — Вы думаете, это очередная причуда миллионера и он забудет о ней через пару недель. Но, могу вас заверить, это не так. С тех пор как я в курсе дела, меня не оставляет мысль о том, что я, Густав-Георг барон фон Ностиц-Вальнитц, мог бы сотворить нечто вечное, достичь чего-то, что увековечит мое имя. — При этих словах глаза барона загорелись, как глаза ребенка при виде неожиданного подарка, и возбуждение, сквозившее во взгляде, стало заметно и по вздувшимся венам на висках. — Кто знает, — продолжал барон, — кто знает, сколько мне еще отмерено! Оглядываясь назад на свою жизнь, я спрашиваю себя: чего ты достиг? — и должен сознаться: единственное, чего я достиг, — это богатство, нажил кучи грязных, бесполезных бумажек, бумажек, теряющих свою стоимость день ото дня, и скоро годных лишь на то, чтобы подтирать ими задницу. А однажды меня не станет, и этого никто не заметит. Я не мог иметь детей, к вашему сведению, и я последний Ностиц-Вальнитц. Со мной умрет мое имя. Лет через пятьдесят люди будут спрашивать: Ностиц-Вальнитц? Никогда не слышали. Эта мысль убивает меня — прожить шестьдесят — семьдесят лет, и через поколение тебя уже не вспомнят! Если бы вы знали, как я завидую садоводу! Выведя новый сорт роз, он может дать ему свое имя. Или астроному, открывшему звезду, маленькую и ничего не значащую звездочку. Эта бесполезная звезда в течение тысяч лет будет носить его имя, запечатленное во всех учебниках астрономии. Должно быть, счастье — умирать с сознанием этого. Если я завтра умру, то покажусь себе ничтожным, маленьким и жалким, потому что все, что я делал в этой жизни, было ничтожным, маленьким и жалким. Эти слова представили гостям маленького, неприятного барона, осчастливленного всеми благами мира, в новом свете. Но чего он хотел от них? — Вы не ответили на мой вопрос, господин барон, — настаивал Нагиб, — как вы нашли нас и чего от нас ожидаете? Фон Ностиц вновь неуклюже улыбнулся. — Я же говорил вам, секретная служба Германии — лучшая в мире. Лучше французской и английской. Фрейенфельс и его люди давно заметили вас, точнее, в тот день, когда Омар Мусса начал следить за британскими агентами на борту парохода, плывшего по Нилу в Луксор. Мы также наблюдали за агентами. Так что некто, имевший аналогичный интерес, явно бросался в глаза. Сначала мы сочли вас агентом некоей неизвестной нам организации, но уже через несколько дней подробного расследования касательно вашей личности наши люди сообщили, что вы принадлежите к тадаману и — чего мы раньше не знали — что тадаман также интересуется гробницей Имхотепа. Все остальное было лишь цепочкой. Сначала мы столкнулись с фигурой Али ибн аль-Хуссейна, затем Нагиба эк-Касара и, наконец, Халимы аль-Хуссейн. Омар беспокойно заерзал в кресле. Мысль о том, что этот человек знает о них гораздо больше, чем им хотелось бы, пугала его. Но знал ли он действительно все? — Скажи ему, — обратился Омар к Нагибу, — что мы оба являемся невольными членами тадамана и что за нами охотятся, потому что мы не исполнили задания. Он должен знать это! Нагиб перевел слова Омара, и барон фон Ностиц уверил, что это ему также известно и в некоторой степени устраивает его, потому что экстремисты любого толка — люди плохо управляемые и не способные ни на что, кроме достижения собственных целей. В процессе разговора становилось ясно, что немцы уже несколько недель наблюдают за ними, детально знакомы с личной жизнью всех троих и даже незаметно направляли их пути. Та торопливость, с которой начальник порта в Александрии посадил их на немецкий корабль, не была случайностью: Георгиосу немало заплатили за это немецкие агенты. Так что он заработал двойную сумму денег — часть получил от беглецов, часть — от немецких тайных агентов. Более чем неприятно шаг за шагом узнавать, как ты жил последнее время. Что еще было известно безумному барону и чего он хотел от них? — Скажите же, наконец, чего вы от нас хотите! — начал Нагиб. — Вы знаете все о нашей жизни — хорошо, вы доставили нас сюда, в Берлин, — хорошо, но мы полагаем, вы поступили так не из соображений чистого альтруизма. Так чего же вы хотите? — Я хочу сделать вам предложение. — И какое же? — Работайте на меня. Найдите для меня, найдите со мной гробницу Имхотепа! Фон Ностиц поднялся и подошел к стене, выдвинул одну из книг, и, как по волшебству, книжный шкаф отодвинулся, открыв нишу, заставленную папками и бумагами. Лицо барона осветилось гордостью. Он наслаждался удивлением гостей и, с удовлетворением указав на нишу, сказал: — Я не бездействовал. Все, что собрано на сегодняшний день касательно поисков гробницы Имхотепа, вы найдете здесь. В том числе и сведения, собранные службами других государств. Омар и Нагиб подошли к полкам и уставились на аккуратно исписанные листы, манускрипты и конверты, фон Ностиц же, небрежно достав одну из папок, полистал ее, остановившись на фотографии. Халима подошла, взглянула на фотографию и вскрикнула: «Это мой отец!» Она показала на лысого человека, стоящего в ряду. Верно, теперь Омар узнал фотографию с одного из праздников Мустафы Ага Айата. На ней были профессор Шелли и его жена Клэр, директор железной дороги Луксора, леди Доусон, начальник полиции Ибрагим эль-Навави — все с веселыми лицами. — Фото, — удивленно заметил Омар, — сделано еще до войны, невероятно. Я тогда был еще мальчиком и служил у профессора, ya salaam. Фон Ностиц удовлетворенно кивнул: — Теперь вы можете убедиться в тщательности моих исследований. Омар покачал головой: — Вы собрали столько материала, о Саид, провели такую работу, почему вас интересует именно наша помощь? — Очень просто. — Барон вернул папку на место. — У меня сложилось такое впечатление, что пути всех, кто ищет Имхотепа, пересекаются с вашими, и каждый раз именно в тот момент, когда они узнают что-либо новое, о ком бы ни шла речь — об археологах, авантюристах или агентах. Другими словами: вы постоянно оказываетесь на шаг впереди. Слова барона звучали лестно, но не развеивали сомнений. Конечно, здесь, в Берлине, под защитой такого человека, как барон, они могли чувствовать себя в полной безопасности. Но при общении с агентами тайной полиции им не слишком долго удастся скрываться. А когда их настоящие имена всплывут, аль-Хуссейну понадобится немного времени, чтобы настичь их. Тогда им вновь придется опасаться за собственную жизнь. Возвращение же в Египет в ближайшее время для них невозможно. Как он представляет себе их работу? Фон Ностиц на такие мелочи внимания обращать не привык. Он решил найти гробницу Имхотепа, и для этого ему нужна была помощь троих египтян. Его взгляд достаточно ясно выражал, что он рассержен сомнениями его гостей касательно сделанного им предложения. Барон нервно мял гаванскую сигару между пальцами. — Проблема с Али ибн аль-Хуссейном сама собой скоро решится, — значительно сказал он, не уточняя, каким именно образом, — а что касается ваших имен, то мне не составит труда сделать для вас любые документы. Этот странный барон не привык настаивать или просить. Даже император, повторял он частенько, продажен, вопрос лишь в цене. И чем дольше гости слушали, тем яснее им становилось, насколько он может быть упорен в достижении поставленных целей. Люди, подобные барону фон Ностицу, одаренные всеми земными благами, испытывают удовлетворение только от сознания своего несчастья и ставят перед собой все новые недостижимые цели. Они не находят радости в личном счастье — либо уже ощутив его, либо считая, что оно невозможно. Но жгучая мысль о достижении недостижимого, несуществующего и возможности завоевать немножко бессмертия заставляет их глаза сверкать. Отклонить предложение такого человека казалось не только глупым, но и опасным. Барон был, как ребенок, тихим, когда все шло в соответствии с его пожеланиями, и впадал в ярость, как только ему отказывали. В такие моменты его следовало бояться. И не дожидаясь ответа, будто все уже обговорено, фон Ностиц поднялся, позвонил и дружелюбным тоном сообщил, что неподалеку отсюда, в отеле «Кемпински» для его гостей забронированы комнаты. Калафке отвезет их. Появился Калафке и проводил Омара, Халиму и Нагиба через холл обратно к лимузину.
10 Из Долины Царей в Саккару
«Поистине, Аллах сведущ в скрытом на небесах и на земле; Он ведь знает про то, что в груди! Он — тот, кто сделал вас наместниками на земле; кто был неверным — против него его неверие; неверие увеличит для неверных у их Господа только ненависть; неверие увеличит для неверных только убыток!»Среди своеобразных существ, населявших Долину Царей к западу от Луксора, самым своеобразным, без сомнения, был Говард Картер. Не достигший еще и сорока семи лет, он, сгорбленный и подавленный, производил впечатление древнего старика. Он все реже появлялся в Луксоре, обычно по средам, забирая свою почту и набирая на базаре в мешок лепешки, овощи и семена для попугая. Укрываясь от солнца, он всегда носил широкополую шляпу; пыльный костюм, который он надевал даже в сильную жару, пережил уже не один сезон, как и его трость, без которой он не выходил из дому. Все знали, что Говард Картер — англичанин, но этот факт не создавал ему ни друзей, ни врагов, его просто считали частью Долины Царей, как Сфинкса — частью комплекса в Гизе. И если бы он вдруг не появился в Долине в один из дней за исключением воскресенья, это бы встревожило прочих ее обитателей. Картер, которому во многом было свойственно английское безразличие, был пунктуален, как часы, по крайней мере это касалось его распорядка дня. Ровно в семь часов утра он, сверившись со временем на своих никелевых часах, покидал стоявшую возле дороги кирпичную хижину, которую он делил с попугаем и ослом, что было поводом для множества анекдотов, и отправлялся в Долину. В семь часов вечера он возвращался (зимой в пять), будучи так же пунктуален, как и по утрам. Между этими двумя моментами лежали двенадцать часов самоотверженной работы в жаре, пыли и грязи и несбыточных мечтаний однажды обнаружить гробницу, не тронутую расхитителями. В первую субботу ноября Картер вернулся домой намного позже обычного. Он вдумчиво накормил осла, затем вошел в дом, снял ботинки и начал беседу с попугаем: — Припозднился сегодня, извини. — Хороший мальчик, — чирикнул попугай, чем и исчерпывалась половина его словарного запаса. Кроме «хороший мальчик» он мог произнести еще «не дрейфь», и то только по утрам, так что на эту фразу в тот вечер можно было уже не рассчитывать. — Сколько мы уже ютимся в этой проклятой Долине? Ты не знаешь. Пять лет! — Хороший мальчик, хороший мальчик! — неслось фоном из клетки. — Пять лет в никуда и ни за что. Люди должны считать нас сумасшедшими; но… — голос Картера стал громче, — я никогда не терял надежды, и, кажется, я награжден за упорство. Я кое-что нашел. Дженни, я сделал открытие! — Принимаясь заваривать чай, он продолжал, не отрываясь от дела: — Ты не спрашиваешь, что я нашел. Тебе ведь это не интересно, да? — Хороший мальчик, хороший мальчик. Картер подошел к накренившейся клетке и, подчеркивая важность каждого слова жестами, вновь заговорил: — Шестнадцать ступеней, за ними запечатанная дверь, в середине печать. Знаешь, что это значит? Что на протяжении трех тысяч лет никто не ступал в эту гробницу. Это значит, что я, Говард Картер из Свэттема в Норфолке, буду первым, кто нашел нетронутую гробницу, которую не посетили расхитители. Слышишь, Дженни? Не было ничего странного в том, что Картер разговаривал с попугаем. Он любил его, почти боготворил и позволял большую часть времен свободно кружить по комнате. Доверчивость, с которой Дженни встречала даже незнакомцев, буквально прославила ее. В тот вечер Картер был сам не свой. Потому что он уже и сам не верил, что когда-нибудь его труды будут вознаграждены. До сих пор он провел много лет в Долине, ценность же найденного им была невелика. Гробницы, которые он обнаруживал раньше? Они все были разграблены, да и ничего примечательного в них не было. Недостаточно для признания, для некоторого признания. Говард Картер был, как говорили на его родине, беден как церковная крыса, он ничего не имел и был никем, что, бесспорно, не является пределом мечтаний, таким, как счастье или богатство. Но он никогда не страдал от этого, никогда не считал свое положение постыдным. Вплоть до того дня прошедшей осенью, когда лорд Карнарвон поставил его на место. Причиной тому стала непродолжительная связь с Эвелин, дочерью лорда. Эвелин сопровождала отца, когда он два года назад впервые прибыл в Луксор, чтобы ознакомиться с ходом финансируемых им раскопок. Девушке было двадцать лет, она была невысокой и невероятно красивой, а ее темные, живые глазки заставили Картера почувствовать себя влюбленным школьником. При этом он в отцы ей годился и никогда не решился бы приблизиться к Эвелин, если бы она не намекнула на свои чувства нежными прикосновениями, а затем пылкими письмами, которые может писать лишь влюбленная девушка. Высокий Лорд их платонические взаимоотношения, конечно, мог бы долго не замечать, если бы Эвелин не начала внезапно интересоваться египетской историей и раскопками в Долине Царей, забросив журналы мод и вечеринки, составлявшие до тех пор смысл ее жизни. Отношения между Картером и Карнарвоном и без того были не лучшими. Картер презирал Карнарвона за его богатство, а тот его за бедность, о чем лорд не раз заявлял. И во время их разговора, речь в котором шла — по словам лорда — «об увлечении незрелой девочки», основной темой была не любовь и не разница в возрасте — что Картер понял и принял бы, — а деньги или, скорее, имущество, без которого нельзя стать полноправным членом английского высшего общества. Картеру не следовало забывать об этом. Конечно, Картер сказал, что ему надо было подумать об этом, извинился и написал Эвелин прощальное письмо, сообщавшее о том, что им больше не следует видеться. На следующий после упомянутого разговора день лорд с дочерью отправились в Лондон. Однако то, что задумывалось как финал любовной истории, оказалось, как это часто происходит, ее истинным началом. Без ведома отца Эвелин регулярно писала Картеру письма, одно в неделю, не надеясь на ответ. Честные письма трогали Картера почти до слез, он неделю носил их с собой, перечитывая вновь и вновь, а затем, по примеру египтян, складывал в глиняный кувшин, освобождая место следующему. С тех пор Картер копал только из упрямства, отчаяния и с мыслью о том, что одно сенсационное открытие может прославить его на весь мир, как это случилось с мародером сэром Френсисом Дрейком. И погруженный в мечты, какие овладевают одинокими людьми куда чаще, нежели остальными, Картер представлял себя среди открытых им захоронений и найденных ящиков золота, закопанных вместе с фараонами, уходящими в последний путь. В ночь перед тем, как была обнаружена стена, Говарду Картеру приснился сон, отличавшийся от обычных четкостью цветных образов, бывших обычно черно-белыми и расплывчатыми, и произносимыми речами. По бесконечной сияющей лестнице из глубины к нему пришел Анубис с головой шакала и огненным взглядом, который кладет на весы сердца в Судный день, за ним следовала вереница белых статуэток Ушебти со сложенными на груди руками, которые, согласно возложенному на них заданию помогать людям в ином мире, издавали сотни криков: «Я здесь! Я здесь!» Потом Картер увидел себя самого спящим на кровати, Анубис наклонился к нему так близко, что Картер почувствовал его зловонное дыхание, и начал говорить тихим, хриплым голосом. Тутанхамон, сказал он, покоится в десяти шагах на запад и десяти на север, но Картер не должен тревожить его, потому что того, кто потревожит покой фараона, настигнет месть бога мертвых Осириса. Потом он отсчитал ему шестнадцать черных камушков и сказал, что каждый следующий камень, который он найдет, будет преступлением против богов подземного мира, и не успел Картер сказать ни слова, Анубис и бесконечная процессия растворились в воздухе, и он проснулся. Десять шагов на запад и десять на север. С тех пор как Картер обнаружил под землей запечатанную стену, сон не выходил у него из головы. Были ли шестнадцать камней, которые ему дал Анубис, намеком на шестнадцать ступеней, ведших к запечатанной стене? Для такого человека, как Картер, проведшего всю жизнь в поисках сокровищ в подземных лабиринтах, «страх» было словом незнакомым. Так что он не стал раздумывать над предупреждением Анубиса не тревожить покой фараона. Дженни, попугай, заснула, и Картер, запивая сухие лепешки чаем, погрузился в раздумья о том, как же ему вести себя дальше. Договоры с Управлением археологии в Каире и договоренность с лордом Карнарвоном требовали немедленного сообщения об открытии. Как Рекс Энгельбах, английский генеральный инспектор учреждения, так и Карнарвон заявили о желании присутствовать лично. Но кто поставит ему в вину, если Картер сейчас тайно отправится в Долину Царей. Это была его гробница, его открытие, которое стоило ему многих лет жизни. Он давно понял, что есть два типа людей — победители и проигравшие. И он принадлежал к последним. Всю жизнь он тянул пустые билеты в лотерею, и даже те, кто неплохо к нему относились, общались с ним из жалости. Беспокойство, охватывавшее Картера, когда он начинал думать о запечатанной двери, было вполне понятно. Он не верил в то, что полоса неудач, тянувшаяся через всю его жизнь, вдруг вот так прервется. Он, Говард Картер из Норфолка, — счастливчик? Его высмеют, над ним будут издеваться, если за стеной окажется пустая гробница. Все эти мучительные раздумья привели к тому, что Картер поднялся, оседлал осла и под тусклым лунным светом поскакал к Долине Царей. Долина, каменная низина между полосками скал, и тысячу лет назад выглядела так же. Во всем Египте не найти другого такого места, где бы ландшафт был столь един со временем, и в этом, бесспорно, крылась причина того, что фараоны древнего Египта выбрали эту местность в качестве своего последнего пристанища. Днем над скалами кружили коршуны, по ночам по каменистым тропинкам пробирались шакалы. Перед лагерем, где работники хранили инструменты и воду, Картер остановился. Он привязал осла к решетке и достал лампу и тяжелую железную жердь. Затем, с лампой в одной руке и жердью в другой, он сошел вниз по ступеням. На середине лестницы он поставил лампу так, чтобы она освещала все пространство ниже уровня земли, затем опустился на нижнюю ступень, оперев подбородок на руки, и задумался. Погрузившись в раздумья, прав ли он в своем намерении и соответствует ли оно важности открытия, он вдруг почувствовал, будто два глаза наблюдают за ним из темноты, читая его мысли. Он попытался прогнать глупое чувство, приписав его внутреннему возбуждению, но затем, услышав шаги, отдававшиеся на каменистой земле, вскочил. — Здесь кто-нибудь есть? — крикнул он негромко, будто опасаясь услышать ответ. Лампа мешала разглядеть что-либо за пределами ямы. В волнении он поспешил наверх. Перед ним стояла невысокая фигура, он сразу узнал ее, несмотря на необычную одежду: леди Доусон. На ней были облегающие, расширяющиеся ниже колен брюки и строгий пиджак, что не было ее стилем; но еще более Картера удивила кобура под курткой Джоан Доусон. — Вы? — спросил Картер недоверчиво и в то же время беспомощно. — Вы ожидали увидеть кого-то другого? — ответила она вопросом на вопрос. — Честно говоря, я вообще никого не ожидал увидеть здесь. — Я тоже. Но уже издалека заметила свет. Это заинтересовало меня. — Леди Доусон выглядела вполне искренне, будто это было абсолютно обычным делом — разгуливать по ночам в Долине Царей. И она добавила с любопытством: — И что же вы делаете здесь в столь поздний час или, скорее, в столь ранний? Картер раздумывал. Собственно, скорее ему следовало расспросить леди о причине ее появления здесь, но она была для него слишком загадочной фигурой. Так что Картер не задал ответного вопроса, а кивнул в сторону ямы с шестнадцатью ступеньками: — Для фараона не существует понятий «рано» или «поздно», для фараона существует лишь вечность. Картер намеренно вел себя загадочно, в его намерения не входило информировать нежданную гостью о своем открытии. Тем более он был удивлен, когда, опуская дальнейшие расспросы, она осведомилась: — Так вы считаете, что нашли гробницу фараона, Картер? Та самонадеянность, с которой вела себя эта дама, приводила Картера в ярость, и он ответил со всей заносчивостью, на которую был способен: — Как вам, вероятно, известно, я обнаружил в своей жизни достаточно много гробниц фараонов, у них был лишь один маленький недостаток: грабители успели побывать в них раньше, но в данном случае, кажется, мне улыбнулась удача. — И что заставляет вас думать так? Картер вновь поднял лампу и взял леди под руку: — Пойдемте! — Спустившись на дно ямы к стене, он осветил печать. На печати размером не больше ладони были изображены лежащие друг напротив друга шакалы. Их морды и стоящие торчком уши были хорошо различимы. Леди Доусон, остававшаяся до тех пор спокойной, мгновенно изменилась: — Что это значит? — Вот об этом-то и речь, леди Доусон! — Картер провел рукой по оттиску. — Это печать могильщиков города мертвых. Каждая гробница, каждое подземное помещение, созданное ими, запечатывалось таким образом. Это свидетельство гордости за проделанную работу, но одновременно печать предназначена, чтобы отвратить грабителей. — Говорят, могильщиков убивали после завершения работ? — Это легенда, каких много в истории Египта. Не обязательно верить всему, что рассказывают гиды в Луксоре. Леди Доусон засмеялась. В восхищении она дотронулась до печати. — И что вы теперь намерены делать? — спросила она. — Вот об этом-то я и думал, — солгал Картер. — Я знаю, вы еще прославитесь! — заверила его леди Доусон. — Были ли уже когда-нибудь найдены нетронутые гробницы фараонов? — Еще никогда, — ответил Картер. — Те мумии фараонов, которые мы обнаружили, находились в двух тайниках, устроенных священнослужителями в давние времена. В страхе перед грабителями они открыли все известные им гробницы и унесли из них мумии фараонов, спрятав их в тайниках. Это было не слишком уважительно, однако, как показало время, не бесполезно, так как в последующее время грабители не пропустили ни одной гробницы. Картер и леди Доусон молча смотрели на печать. Несмотря на то что год подходил к концу и солнце уже не стояло в полдень в зените, скалы все же хранили достаточно тепла, чтобы противостоять ночному холоду. Издалека доносился вой шакалов, и время от времени тишина ночи нарушалась шумом падения камней, осыпавшихся со скалистых склонов и стремившихся в Долину, подпрыгивая, будто тушканчики, спасающиеся от преследователей. — Я знаю, о чем вы сейчас думаете, — вновь заговорил археолог. — Вы спрашиваете себя, почему этот Картер так уверен в том, что гробница нетронута. И я отвечу вам: археология — это наука. Но наука основывается на фактах, археология же — на предположениях. Если бы я не допускал возможности, что грабители и священники могли пропустить хоть одну гробницу, я бы впал в ужаснейшую депрессию и оставил археологию. Но в моей профессии невероятного не существует. Когда была обнаружена гробница царицы Хатшепсут, а надо сказать, она оказалась довольно бедной и грязной для женщины ее положения, никому и в голову не пришло искать вторую гробницу. Да и зачем? Даже царица может быть захоронена лишь в одном месте. И тем не менее существовало две гробницы царицы Хатшепсут. Первую царица сочла недостаточно изысканной, когда она увидела ее еще недостроенной. Работы затруднялись твердыми породами, и тогда царица отдала приказ начать работу над второй в местности с более мягкой почвой. Первая же была засыпана. Вероятность подобного стечения обстоятельств практически равна нулю, но все именно так и произошло. На фоне чего мое предположение о том, что гробница одного из фараонов затерялась в веках, выглядит намного правдоподобнее. — Согласна, — ответила леди Доусон, — но откуда, скажите на милость, вы знаете, что это гробница фараона. Я хочу сказать, здесь с тем же успехом мог быть похоронен какой-нибудь министр или визирь. — Теоретически, леди, вы правы, — усмехнулся Картер. — Но практика показывает, что в Долине Царей действительно хоронили лишь царей, да еще к тому же эти находки… — Находки? — Долгие годы работая в этой местности, я постоянно находил осколки посуды, амулеты и плитки с царским именем Тутанхамона. Никто не находил ничего подобного во всем Египте. Можно ли это объяснить как-либо иначе, нежели тем, что здесь-то и захоронен Тутанхамон? Леди Доусон пожала плечами и произнесла низким голосом: — Как, вы говорите, имя этого фараона? — Тутанхамон. Бесспорно, великим фараоном, таким, как Сети или Рамзес, он не был. Но все же он был последним представителем великой династии. Он пришел к власти еще ребенком, и ребенком и погиб и, несомненно, должен был быть захоронен со всеми возможными почестями, полагавшимися умершему фараону в те времена. — Леди Доусон смотрела на стену, отделявшую их от гробницы. Неужели за этой ничем не примечательной стенкой покоится фараон? — Вы, конечно, спросите, почему забыть могли о гробнице именно этого фараона? На то могут быть две причины. Во-первых, Тутанхамон мог быть столь мало известен, что имя его стерлось из памяти людей через пару лет после его смерти. Вторая причина скорее связана с техникой. Картер поднял лампу над головой, освещая пространство ямы. — Вот здесь находится вход в гробницу Рамзеса Шестого, к слову сказать, его правление также не оставило следов, но она была разграблена еще в древности. В процессе ее сооружения работники сбрасывали весь мусор и камни на то место, где находился вход в гробницу Тутанхамона. Было ли это случайностью или попыткой скрыть гробницу, я сказать не могу. Однако, таким образом Тутанхамон был скрыт от расхитителей. Одна из прекрасных случайностей, которыми живет археология. Леди Доусон кивнула: — В таком случае вас нужно поздравить, Картер. Видимо, вы счастливчик. При этих словах Картер невольно поежился. Счастливчик? Он не решался даже подумать об этом. Наконец он добавил с присущим ему равнодушием: — Ну, счастьем это вряд ли назовешь. Думаете, я не знаю, что местные жители, а также и коллеги археологи считают меня сумасшедшим? Существует множество трудов величайших археологов, в которых говорится о том, что в Долине Царей не осталось необнаруженных гробниц. И вдруг приезжает некий бедняк из Свэттема в Норфолке, существующий на средства эксцентричного лорда из Хайклера, и полжизни роется в Долине, там, где уже десятки лет назад завершились последние работы. Я ни в чем не могу упрекнуть тех, кто считает меня помешанным. — Видимо, это просто справедливая удача, — заметила леди Доусон. — Вы не слишком любите лорда Карнарвона? Я имею в виду, у вас чисто деловые отношения? — Можно и так сказать. Господин лорд позволяет производить раскопки. Карнарвон коллекционирует антиквариат, а правительство пообещало ему половину всех находок. До сих пор, тем не менее, все предприятие принесло ему больше убытков, нежели прибыли. Пара алебастровых кувшинов и шкатулка — это все. Сомнительный доход. Я бы, вероятно, тоже не слишком воодушевился. — И вы никогда не думали о том, чтобы начать другой проект? — Миледи! — Картер повысил голос. — Для человека вроде меня главное — не желание, а возможность. Я не могу себе позволить пойти на поводу у своих желаний, моя судьба в том, чтобы исполнять желания других людей. Сначала я служил Фонду Исследований, затем Высокому Лорду. Я всегда должен был держать рот на замке и делать то, что мне прикажут. Почему вы спрашиваете? — Есть один проект, который меня бы, например, заинтересовал. — Вы меня заинтриговали. — Имхотеп. — Имхотеп? — Картер испуганно поежился. Казалось, само произнесенное имя уже вызвало в нем ужас, будто леди Доусон сказала нечто недозволенное, таинственное, о чем говорить запрещено. — Имхотеп, — начал Картер, и по его голосу стало ясно, что тема для него неприятна, — скрывает одну из величайших тайн археологии, предположительно непостижимую для людей. Существуют загадки, которые призывают людей и требуют быть разгаданными; есть же иные. Они выходят за пределы человеческого разума и, будучи разгаданы раньше времени, принесут человечеству больше вреда и несчастья, нежели пользы. Слова Картера взволновали леди Доусон. Хладнокровная англичанка, которую невозможно было представить себе потерявшей контроль над собой, сделала шаг вперед и возбужденно произнесла: — Вы знаете об Имхотепе больше. Расскажите все, что вы знаете, все! Близость леди была неприятна Картеру, и он отодвинулся, сделав вид, что поправляет балку прохода. Взяв принесенную жердь, он двинулся к выходу, мимоходом заметив: — Я ничего не знаю об этом, слышите? Ничего. И я этому несказанно рад. — И, не обращая более внимания на леди Доусон, он запер решетку, отвязал осла и отправился в обратный путь. Некоторое время они молча шли рядом. Предложение сесть на осла леди Доусон отклонила. Дойдя до развилки, где пути их расходились, они заметили, что на востоке над Нилом встает солнце. — Желаю удачи, — коротко сказала леди и, отвернувшись, пошла прочь, так что Картеру ничего не оставалось, как крикнуть ей вслед слова прощания. Оседлав осла и направившись на восток, в сторону дома, Картер задумался о необычной встрече. Конечно, в странной леди всегда было что-то загадочное, и те, кто знал ее ближе, считали даже, что этот образ она создавала нарочно, но в этот раз ее появление было столь неожиданным, что Картер затруднялся делать предположения. Никто кроме рабочих не знал о гробнице, да и они не догадывались о том, что обнаружили. Была ли их встреча случайной? Нелегко было в это поверить. Картеру леди Доусон никогда не нравилась, уже из-за одного того, что строила глазки, бесспорно, глазки соблазнительные, лорду Карнарвону. Картер обладал чутьем, когда речь шла о порядочности людей, и эту даму он считал хитрой интриганкой, даже не имея на то ни малейшей причины. Люди данного типа отличаются постоянными перепадами между заискиванием и грубостью, что отталкивало Картера ничуть не меньше, чем постоянное самомнение лорда Карнарвона. В любом случае, внезапное появление леди не позволило ему совершить ужаснейшую ошибку. Потому что чем дольше Картер думал, тем глупее казался ему план тайно вскрыть и затем вновь запечатать гробницу. Это не только нарушило бы все договоры, это уничтожило бы его репутацию серьезного археолога и стало бы концом его карьеры. Нет, Картер решил не думать больше об Эвелин и на следующий день послать Карнарвону телеграмму с приглашением присутствовать при распечатывании гробницы. Добравшись до дома, он попытался заснуть. Но, несмотря на сковывающую тело усталость, охваченный беспокойством, он вскоре вышел, переправился через Нил и отправил телеграмму лорду Карнарвону:Коран, 35 сура (36, 37)
«Наконец потрясающее открытие в Долине + великолепная гробница за неповрежденной печатью + все закрыто до вашего прибытия, поздравляю».Текст не совсем соответствовал истине, но Картер твердо решил засыпать вход камнями до поступления новых указаний от лорда Карнарвона. Это должно было предотвратить недозволенные попытки, в том числе и его собственные. Вернувшись к полудню домой, Картер сразу заметил, что что-то не в порядке. За открытой дверью его встретила тишина. Тишина, вызывавшая беспокойство своей неестественностью. Картер собрался было позвать попугая, чтобы тот прочирикал свое утреннее «Не дрейфь», но вовремя заметил на полу посреди комнаты змею толщиной с руку. Она медленно двигалась, ближе к голове на ее черном блестящем теле был заметен бугорок. В его происхождении не оставалось сомнений: по всему полу разлетелись желтые перья — следы неравного поединка.
Профессор Франсуа Миллекан с самого начала был убежден, что выбор ареала раскопок к северу от пирамиды Саккары был неверен и возбудит дополнительные разногласия в команде, и он не ошибся. Несмотря на то что все они жили в одном доме, причем в стесненных условиях, имея в своем распоряжении лишь одну спальню на четверых, Миллекан и д’Ормессон общались письменно или через Туссена и Курсье в качестве посредников. Выглядело это примерно следующим образом: «Мсье Туссен, не сообщите ли вы мсье д’Ормессону, что его последние предположения столь же лишены логики, сколь ненаучны, и не продвинут нас ни на шаг в исследованиях». На что д’Ормессон, находившийся в той же комнате и прекрасно слышавший сказанное, отвечал: «Мсье Туссен, передайте, пожалуйста, мсье Миллекану следующий ответ: „Мне жаль тратить время на общение с дилетантом“». Чаще же они излагали мысли на бумаге и из соображений безопасности сжигали после прочтения. Трое известных ученых, вынужденных работать над одним проектом, очень быстро становятся противниками; трое же ученых, подозревающие о темном прошлом друг друга, становятся смертельными врагами, они во что бы то ни стало будут стараться умалить важность открытия другого, оспаривать верность предположений и, таким образом, наносить ущерб общему делу. И если Курсье сохранял еще уверенность в себе и достоинство и старался возможно вежливо обращаться и к Миллекану, и к д’Ормессону, то те уже через несколько недель настолько возненавидели друг друга, что д’Ормессон, позабыв о своем дворянском происхождении, дал пощечину Миллекану, сбив с носа его очки в золотой оправе. Причиной тому стала общая беседа во время ужина, перешедшая после обычной перепалки в жестокий спор, в процессе которого Миллекан назвал коллегу достойным сожаления фальсификатором предметов искусств, которого давно уже пора посадить за решетку. К счастью, рядом с учеными был Эмиль Туссен, сотрудник Дезьем бюро. Несмотря на то что он был моложе их, его строгий вид и резкая манера выражаться заставляли уважать себя. И не раз Туссену приходилось вмешиваться, пресекая ссоры словами или угрожающими движениями. После недель поисков к северу от пирамиды Джосера, во время которых были найдены многочисленные осколки и Ушебти, которые, впрочем, никаким образом не давали новых подсказок, исследователи постепенно переместились дальше, по направлению к разрушенному храму Изиса. Их изначальное намерение с помощью раскопок скрыть истинное занятие — поиски и изучение документов, давно было забыто, так как консул Сакс-Виллат, несмотря на мощную поддержку тайной полиции, не поставлял никаких новых сведений. Таким образом, их труды становились похожи на известные поиски иголки в стоге сена, причем следовало еще делать вид, что предметом поиска является все, что угодно, но только не Имхотеп. Настроение упало до нуля, когда французы внезапно обнаружили слоистый свод с пустым пространством под ним. Место было лишь на несколько сотен метров удалено от того, где около семидесяти лет назад Мариет обнаружил лабиринт. Аналогичными были и обстоятельства. Но у Мариета было преимущество: во время исследований в одной из рукописей он нашел указание на расположение в этих местах гробницы. Профессор Миллекан поспешил воспользоваться кодом «фараон», остановив официальные раскопки. Далее исследования велись узким кругом ученых. Но решение оказалось преждевременным. Гробница принадлежала Неферу, сборщику налогов при Джосере, то есть по крайней мере современнику Имхотепа. Как и прочие гробницы в этой местности, она несколько раз была разграблена, и кроме мумий обезьян и ибисов, а также нескольких кувшинов, не содержала ничего, достойного упоминания. Несмотря на то что гробница не имела научного значения, а также не содержала сведений касательно Имхотепа, Миллекан праздновал свое открытие, как великое событие. Консулу с большим трудом удалось отговорить его от оглашения в прессе. Миллекан настаивал на том, чтобы обследовать гробницу. По его мнению, нельзя с уверенностью говорить о том, что она не содержит важных сведений, не расшифровав всех иероглифов, содержавшихся на ее стенах. Д’Ормессон, что никого не удивило, высказался против. Гробница, по словам гренобльского профессора, была уже не раз открыта, опустошена и изучена на предмет указаний о местонахождении других тайников. Миллекан и слушать не хотел. Он настаивал на том, что расхитители и авантюристы навряд ли обладали достаточной компетенцией, чтобы читать иероглифы. Этот аргумент убедил консула, и тот решил очистить гробницу и две прилегавшие комнаты от мусора и тщательно исследовать. Рабочие еще не успели полностью очистить помещение, а Пьер д’Ормессон уже принялся расшифровывать надписи на стенах, местами стертые или плохо сохранившиеся. Содержанием их были, как и в прочих гробницах, причитания над покойником, обращенные к Гору и его отцу Осирису, которые распоряжаются дальнейшей жизнью покойного. Через неделю помещения были очищены настолько, что можно было приступить к осмотру кувшинов и мумий животных, находившихся восточнее самой гробницы, вычищенной расхитителями вплоть до простого каменного саркофага. Кувшины, два высотой в человеческий рост и семь, исписанных иероглифами, пониже были пусты, если не брать в расчет камни и песок. Было не совсем безопасно работать в этом помещении, сконструированном, как это делалось в раннюю эпоху развития архитектуры, с плоским сводом, грозившим обрушиться при малейшем смещении нагрузки. Профессору д’Ормессону потребовалось около двух недель, причем работал он в основном по ночам, для того чтобы расшифровать иероглифы. Он хвалил поэзию отдельных песен и часто цитировал их во время совместных трапез, как чтец Корана в мечети. И без того не просторное жилище стало еще теснее, когда Миллекан и Туссен перенесли в него пару сотен мумий животных и меньшие по размеру сосуды или то, что от них осталось. Мумии, меньшие из которых были размером с руку, большие же — с ребенка, хотя и не издавали запаха, как и утверждал парижский профессор но распространяли повсюду мельчайшую пыль, так что вскоре французы начали страдать от боли в легких и рези в глазах и решили было сменить местожительство. Кроме Миллекана, гордившегося находкой и чувствовавшего себя Мариетом, никто не радовался нахождению гробницы.Иероглифические тексты не имели большой ценности, будучи представлены в прочих найденных ранее гробницах, немногочисленные рельефы были разрушены грабителями или движениями почвы, а прочие находки оказались настолько неинтересными, что даже Миллекан согласился с предложением Курсье вернуть их на прежнее место. Никаких сведений об Имхотепе обнаружено не было. В этой ситуации казалось не слишком правильным обращаться к рабочим, чтобы вернуть на место мумии и кувшины. Даже в том случае, если гробница будет замурована, огласка привлечет воров. Причем французов не столько волновало содержимое гробницы, сколько то, что в случае огласки вокруг них соберется всяческий сброд, за ними начнут наблюдать, что ограничит их настоящие исследования. Так что четверо французов решили вернуть содержимое гробницы на место в ночное время суток, закрыть ее и начать на утро раскопки в другом месте. Египетскому руководству сообщат, что находки были отправлены в музей Каира. Около полуночи работа, казавшаяся со стороны обычным извлечением оставшегося содержимого, была завершена. Оставалось лишь замуровать вход, что должен был сделать Эдуард Курсье. Решено было отдохнуть. Несмотря на ночную прохладу, воздух в доме был обжигающе горячим и настолько пропитан пылью, что на улице казалось значительно приятнее. По кругу пустили бутылку красного вина, наступила мертвая тишина. Казалось, уснули даже шакалы. — Все впустую! — сказал д’Ормессон и со злобой уставился в пол. Несмотря на то что он отвернулся от Миллекана, тот понял, что слова эти были упреком в его адрес, и произнес, обратившись к Туссену: — Утром профессор д’Ормессон начнет новые раскопки, которые, несомненно, приведут нас к гробнице Имхотепа! Туссен засмеялся и выпил вина. — Знать бы, как далеки от цели остальные. Иногда я задумываюсь, не прекратить ли работу и затем начать заново. — Что вы имеете в виду? — спросил д’Ормессон. — Для меня остается открытым вопрос, не была ли бы более успешной попытка обнаружить что-нибудь в архивах, а не здесь, на местности. Потому что, честно говоря, наиболее ценные сведения были обнаружены в документах, хранившихся в каких-нибудь музеях, и большинству из них за сотню лет. — По мне, чем скорее мы прекратим работу здесь, тем лучше, — согласился д’Ормессон. В следующий же момент он в ужасе вскочил. Глухой рев сотряс землю. — Где Курсье? — крикнул Миллекан. — Курсье! — Тишина. Миллекан, Туссен и д’Ормессон побежали к гробнице Нефера. Туссен зажег карбидовую лампу. — Курсье! — кричал он в темноту. — Курсье? В свете лампы они увидели, что земля над гробницей провалилась. — Курсье! Курсье! — по очереди звали мужчины. Там, где они обнаружили вход, зияла глубокая дыра. Из нее поднималась пыль. — Боже мой, Курсье, — прошептал Миллекан. Туссен первым пришел в себя. Он закрыл платком лицо и полез в образовавшийся кратер. — Вы с ума сошли? — Миллекан кружил вокруг отверстия в земле и беспрерывно повторял: — Вы с ума сошли? Беспощадный к окружающим, Туссен был беспощаден и к себе. С привязанной к поясу лампой он спускался в отверстие. Спуск был тяжелым, потому что плиты лежали неровно, а Туссену приходилось следить за тем, чтобы они не обрушились под его весом. Достигнув дна кратера, Туссен увидел, что вход в гробницу завален. Однако камни обрушились таким образом, что, упершись друг в друга, оставили зазор у земли. Не раздумывая, Туссен на четвереньках пролез в него, взяв в зубы кольцо лампы. В тот момент он просто не думал об опасности, которой подвергался. Потолок центральной камеры обрушился, но в левом переднем углу хватало пространства для того, чтобы встать. Туссен поднял лампу. Карбидовый газ, с шипением вырывавшийся из отверстий лампы возле кольца, почти лишил его сознания. Плотная мелкая пыль наполняла воздух, мешая обзору. В свете лампы Туссен заметил, что плита, предотвращавшая до того обвал потолка, теперь держалась лишь одним краем и с виду давно должна была не выдержать веса. Туссен непроизвольно втянул голову и, пытаясь избежать опасности, сделал пару шагов в сторону боковой камеры. Проход и одна из стен выдержали. Насколько позволял видеть тусклый свет, рухнувший потолок расколол кувшины, по крайней мере все вокруг было усыпано осколками ближнего сосуда, как после взрыва. Дальний же был скрыт каменными плитами. И какими плитами! Многие высотой в человеческий рост, но не толще ладони, они беспорядочно торчали среди обломков. Между ними были многочисленные отверстия и зазоры. Туссен осветил все по очереди промежутки, но и следа Курсье не обнаружил. Если Курсье оказался погребен под рухнувшим сводом, то ему уже ничем нельзя было помочь. Но, быть может, пришло в голову Туссену, Курсье вовсе не было в камере. Возможно, ему удалось выбраться и он бросился в ночь бог знает куда. И в этот момент Туссена охватил страх, страх, который он задушил в себе мыслью о необходимости оказать помощь. Мысль о том, что плиты в любой момент могут обрушиться на него, подействовала так, что ноги отказались повиноваться голове. Будто окаменев, стоял Туссен, не в силах двинуться с места, страх быть погребенным под обломками гробницы стремительно увеличивался, и он, так и не сумев заставить свое тело повиноваться, опустился на колени и согнулся. Так он пополз в сторону выхода, толкая перед собой лампу, хотя вполне мог идти выпрямившись. Там, где в основной камере плиты оставили лишь узкое отверстие, Туссен внезапно увидел прямо перед собой неподвижную руку. Предплечье примерно посередине было раздавлено плитой. Можно было лишь догадываться о том, соединено ли оно еще с телом. Курсье! Туссен подтолкнул лампу ближе к руке. Кровь окрасила пыль вокруг. — Курсье! — тихо позвал Туссен. — Курсье! — Возле руки лежал темный свиток, казалось, он выпал из руки Курсье, и Туссен взял его. Боль за человека, с которым он проработал последние недели, подействовала на Туссена неожиданным образом. Его глаза наполнились слезами, и мужчина, не помнивший, когда в последний раз плакал, зарыдал. Одновременно он почувствовал, что ноги вновь начали повиноваться, и, шатаясь, выбрался на поверхность. Миллекан и д’Ормессон молча стояли и вопросительно смотрели на Туссена. Тот только кивнул и махнул в сторону дома, что можно было истолковать как: «Здесь больше нечего делать. Пойдемте!» Придя домой, Туссен рассказал, как обнаружил Курсье. Они сидели за единственным столом, вливали в себя вино стакан за стаканом, и Миллекан с д’Ормессоном впервые разговаривали друг с другом. Почти случайно Туссен вынул из кармана свиток, найденный им возле руки Курсье. Ученые с интересом наблюдали за тем, как он пытается расправить листы. — Это лежало возле руки Курсье, — сказал Туссен, протягивая им бумагу. Это была старая упаковочная бумага темно-коричневого цвета, порванная, размером примерно с раскрытую книгу. Туссен положил ее на середину стола, чтобы все могли видеть. Бумага была старой, и ее не раз использовали, а рисунки, сделанные грубым плотницким карандашом, местами были неразличимы. Вернее, это были мелкие геометрические фигуры: треугольники, квадраты и круги, соединенные линиями. Загадочные двух- и трехзначные числа дополняли картину. — Кто-нибудь понимает, что это? — медленно спросил Туссен. Д’Ормессон подвинул бумагу ближе к себе, повернул несколько раз, посмотрел на свет, протянул Миллекану и, наконец, ответил: — Я не знаю. — Но этот лист выпал из руки Курсье. Как еще он мог попасть в гробницу? Миллекан откинулся на спинку деревянного стула, взял бумагу в руки, так что на нее падал свет от лампы, и что-то забормотал, на что остальные не обратили внимания. — Ведь это с любым из нас могло случиться, — сказал д’Ормессон, выпил, вытер рукавом губы. — Завтра нужно достать его. Туссен, вы знаете, как это сделать? Туссен пожал плечами: — Нам нужен домкрат. Если нам удастся приподнять плиту, упавшую на Курсье, мы легко сможем вынести его. Но безопасным это мероприятие не назовешь. — Хороший парень был, — заметил профессор д’Ормессон, — а ведь мне он сначала не понравился. Впечатление производил, будто больше в женщинах понимает, чем в истории Древнего мира. Казался человеком, способным на все, что сулит деньги. Есть такие люди. Туссен покачал головой: — Он был прекрасным ученым. Он легко бы мог жить на деньги, полученные в наследство, но работал в Коллеж де Франс, потому что ему это нравилось. Миллекан начал тщательно протирать очки, при этом не отворачиваясь от бумаги, лежавшей перед ним на столе, и периодически повторяя: «Интересно, интересно!» При этом он кивал головой. Туссен и д’Ормессон подвинулись ближе. — Что вы об этом думаете, профессор? — спросил Туссен. Тот привычным неспешным движением надел свои очки в золотой оправе, хлопнул ладонью по бумаге и сказал: — Я не уверен, но подозреваю, что это план Саккары. Собеседники озадаченно смотрели на профессора. План, если это действительно был план, выглядел совсем непохожим на те, которыми они пользовались. — Конечно, это старый план! — добавил Миллекан. — Ему не менее пятидесяти лет. Посмотрите, вот! — Он показал на правый нижний край, где были видны буквы «О» и «М». — О, точка, М, точка? Что это значит? — спросил Туссен. — Как вы думаете? — обернулся Миллекан к д’Ормессону. — Полагаю, мы думаем об одном и том же, — ответил тот. — Огюст Мариет. — Верно. Мужчины склонились над столом. Д’Ормессон подвинул лист ближе к себе, остальные, вытянув шеи, следили глазами. — Вот, — сказал Миллекан и постучал указательным пальцем по треугольнику в центре. — Это пирамида Джосера. Далее на северо-восток пирамида Усеркафа, на юго-запад — пирамида Унаса, а немного дальше — Сехемхета. — Четыре треугольника, расположенных практически на одной линии. — Предположим, вы правы, — ответил Туссен, — тогда на северо-западе от пирамиды Джосера должен быть лабиринт быков Аписа. — Совершенно верно! — взволнованно воскликнул д’Ормессон. — Посмотрите на эту решетку, это Серапеум. Все больше объектов мужчины узнавали на карте — гробницы, обозначенные квадратами, и круги, имевшие, видимо, особое значение, например, один обозначал дом Мариета возле Серапеума, и считывали указанное расстояние в метрах. Бесспорно, в связи с существованием плана вставало множество вопросов. Например, как он попал к Курсье, зачем он взял его в гробницу Нефера и почему не рассказал о существовании документа. Более чем невероятным казалось предположение, что Курсье нашел его в гробнице и именно после того, как в нее было возвращено бесполезное содержимое. Скрывал ли этот план некое указание, о котором Курсье не хотел рассказывать? Было ли в гробнице нечто, представлявшее интерес, чего не заметил никто из них? Ночью же было принято решение задействовать код «фараон», поставить консула в известность о гибели Курсье, остановить работы и отложить поднятие тела до поступления указаний из Александрии. Рабочие же должны были на следующий день начать работы в другом месте, к северу от дома, в котором жили французы. Вход в гробницу Нефера было решено для начала закрыть железной решеткой. О сне в эту ночь никто и не думал: Миллекан считал, что обнаруженная им гробница оказалась важнее, чем кто-либо мог предположить; д’Ормессон, хотя и завидовал успеху коллеги, мечтал о том, чтобы поскорее прекратить расследование; перед глазами Туссена же стоял образ раздавленной руки Курсье. Французы решили заняться тем, чтобы сличить объекты на плане Мариета со всеми известными им до сих пор. Работа эта оказалась сложной, прежде всего потому, что необходимо было каждый раз учитывать, велись ли раскопки до или после деятельности Мариета. Таким образом, стало абсолютно ясно, что документ действительно является планом Саккары. Собственно говоря, в существовании такого плана не было ничего таинственного, ничего, что могло бы заставить Курсье скрывать его. После сличения остался лишь один объект — круг, помеченный крестом, — оставшийся для французов загадкой. Место находилось западнее пирамиды Джосера, расстояния не были указаны, по-видимому, речь шла об ареале, до сих пор не охваченном археологами. Миллекан задался вопросом, не искал ли уже Мариет гробницу Имхотепа, что лишь вызвало усмешку д’Ормессона: Мариет, конечно, не был особо аккуратен в фиксировании своих исследований и чаще пользовался взрывчаткой, чем древними рукописями, когда речь шла о возможности совершить открытие, но поиски гробницы Имхотепа скрыть ему все же не удалось бы. Ученые были близки к тому, чтобы вновь разругаться, но вмешался Эмиль Туссен, заметив, что на протяжении недель они руководствовались и более незначительными подсказками и, быть может, следует попытаться использовать этот шанс. Этим, подчеркнул Туссен, он ни в коем случае не хочет сказать, что принимает сторону Миллекана, но не считает его идею также и абсурдной. Он предполагает направить документ в Бюро секретной службы, чтобы проверить его подлинность и выяснить возраст. На следующее утро гробница Нефера была временно закрыта решеткой, что не вызвало подозрений, ведь и прочие гробницы в округе были закрыты так же. Миллекан отправил консулу в Александрию телеграмму следующего содержания:
«Фараон + стоп + присутствие срочно необходимо + стоп + Миллекан».Доктор Поль Сакс-Виллат прибыл в Саккару на следующий день, собственноручно управляя кабриолетом «Лоррейн-Дитрих». Последние два километра пути он, правда, предпочел проделать на осле, с одной стороны, щадя автомобиль, с другой — дабы не вызывать ненужных подозрений. Это действительно было вполне благоразумно, потому что все пространство Саккары было в то время заселено, как муравейник. Туристы со всего мира, привлеченные зазывающими статьями в журналах, скупали туры. Высокие автобусы компании «Кук» пробирались по дорогам пустыни вплоть до самых пирамид, и вымуштрованные гиды на всех языках восхваляли мудрого Имхотепа, строителя этих чудесных сооружений. В доме археологов состоялось совещание. Эмиль Туссен, между тем вновь обретший свою жесткость и хладнокровие, настаивал на том, чтобы оставить тело Курсье там, где оно было, и объявить его пропавшим без вести. Любые иные действия, по его мнению, вызвали бы излишние затруднения. Профессора были возмущены, и Сакс-Виллат также не соглашался с предложенным Туссеном планом. Официальное заявление об исчезновении человека вызовет переполох, его начнут искать, да и пресса заинтересуется обстоятельствами исчезновения. Все это могло помешать сохранить в тайне их миссию. Наконец, все согласились с предложением консула поднять тело Курсье под покровом ночи, отвезти в Александрию на санитарной машине французской миссии, там оформить официальное свидетельство о смерти и переправить в Марсель на следующем корабле. Туссен занялся реализацией плана. Следующий корабль, на который они могли успеть, был «Братством», он отчаливал через день вечером. Следовательно, тело Курсье должно было быть извлечено следующей ночью. Домкраты и прочие инструменты были готовы. Туссен и д’Ормессон добровольно вызвались осуществить задуманное. Спустя час после захода солнца они отправились к гробнице Нефера. Долина Саккары утопала в тишине, и, несмотря на то что чистое звездное небо дарило прохладу, песок пустыни все еще хранил жару дня. Два осла были навьючены инструментами, лампами и носилками из парусины. Под предлогом необходимости транспортировки больного на полночь была заказана санитарная машина. У Туссена и д’Ормессона было целых три часа. Сакс-Виллат должен был дежурить у входа, Миллекан остался в доме. На случай необходимости немедленной остановки операции были разработаны световые сигналы. Туссен отважился спуститься первым, затем были спущены инструменты, и, наконец, настала очередь профессора. Д’Ормессон дрожал всем телом. Профессор и дворянин, он не привык к таким волнениям. Да и миссия была на редкость необычной. — Эй, да вы весь дрожите! — воскликнул Туссен, когда д’Ормессон спустился. — Мне не каждый день приходится заниматься подобными вещами, — отшутился профессор. — Самое опасное пока что впереди. Д’Ормессон попытался сориентироваться. Узкий, заваленный проход казался устрашающим. Если бы с ним не было Туссена, который, не проронив ни слова, пригнулся и полез в дыру, профессор наверняка отказался бы от задуманного. Теперь же ему ничего не оставалось, как последовать за коллегой. Д’Ормессон набрал в легкие воздуха, встал на колени и пополз за Туссеном. Узкий проход был около шести-семи метров длиной, однако мысль о том, что нагроможденные каменные глыбы в любой момент могут рухнуть, превращало это расстояние в бесконечность. К тому же д’Ормессон не мог представить, как они собираются вытащить тело по этому проходу. Д’Ормессон как раз достиг конца туннеля, когда стоявший перед ним Туссен громко вскрикнул. Туссен крикнул что-то, чего профессор не смог разобрать, и тот было подумал, что Туссен поранился об один из камней. Но он стоял, выпрямившись, держа лампу в вытянутой руке, и смотрел вниз. — Эй, что случилось? — Д’Ормессон потряс Туссена за плечи. Тот лишь молча указал на плиту перед ними. — Ну и что с ней? Господи, Туссен, что случилось? — Он еще никогда не видел этого человека, способного, казалось, выдержать все, что угодно, таким. — Курсье! — пробормотал тот. — Он исчез. — Что значит исчез? Может, он восстал из мертвых, как Иисус Христос? — Не знаю, — тихо ответил Туссен. — Вы шутите, Туссен! — Нет! — крикнул тот, схватил д’Ормессона за грудки и пригнул его к земле. — Посмотрите. Из-под этого камня торчала его рука. Я видел ее своими глазами, а теперь плита поднята, и Курсье здесь нет. Исчез! Д’Ормессон посветил в отверстие под камнем, затем повернулся, осветив камни, и, наконец, направил свет в глаза Туссену. Ослепленный, тот закрыл лицо рукой. — Что вы делаете, вы с ума сошли, д’Ормессон? Тот опустил лампу, бросавшую теперь таинственные тени на их лица. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. — Я знаю, о чем вы сейчас думаете, — начал Туссен. Взгляд его был беспомощно устремлен на плиту. Д’Ормессон пожал плечами: — Я бы сказал, вы по крайней мере должны дать нам объяснение. — Какое объяснение? — вспыхнул Туссен. — Я и сам ничего не понимаю! Я знаю, что вы сейчас сомневаетесь в трезвости моего рассудка, но я могу поклясться, что собственными глазами видел руку Курсье под этим камнем. Вот, здесь… — Туссен поставил лампу на землю. — Это темное пятно — это кровь. А вот здесь — след от того, что тело вытаскивали. Может быть, теперь вы мне поверите. Д’Ормессон наклонился. Действительно, на камне было большое темное пятно, похожее на запекшуюся кровь. Д’Ормессон поднялся, провел рукой по лбу и сказал: — Туссен, предположим, вы действительно видели здесь Курсье, тогда вы должны это объяснить. — К черту ваши объяснения! Я сам не знаю, что об этом думать. Сам Курсье в любом случае выбраться не мог. Кроме того, он был мертв. Мертв, мертв, мертв! — Туссен крикнул так громко, что стены отразили звук; качая головой, он рассматривал пространство под плитой. Было не просто объяснить ситуацию консулу Сакс-Виллату. Он рассмеялся, когда услышал, что тело Курсье исчезло, приняв это за шутку, и потребовалось все умение обоих свидетелей убеждать, чтобы заставить консула поверить. Обычно столь изысканный и вежливый, он изрыгал проклятия, так что профессор весь сжался и начал прохаживаться перед входом в гробницу мелкими, быстрыми шажками. — Вы вообще понимаете, что это значит? — возбужденно шептал он. — За нами давно наблюдают. Но и это не все! Вероятно, Курсье работал на кого-то другого. — На кого-то другого? — На британцев, немцев, националистов, американцев, откуда я знаю? — Если позволите заметить, — вставил д’Ормессон, — ваша аргументация нелогична. Допустим, Эдуард Курсье действительно по неизвестным нам причинам работал на кого-то другого и он действительно погиб. Но было бы откровенной глупостью со стороны этого кого-то доставать тело погибшего Курсье; это ведь мгновенно наводит на мысль о двойном агенте. Мысль была трезвой. Но должна же была быть какая-то причина для того, чтобы кто-то извлек тело Курсье из-под камней. Ситуация была абсурдной. Секретная служба создает команду специалистов, и вот они сами оказываются под наблюдением. Профессор Миллекан отказывался работать в такой обстановке. Ведь может оказаться, что Курсье знал нечто важное, быть может, он был близок к разгадке тайны Имхотепа и, таким образом, встал кому-то поперек дороги, кому-то, не остановившемуся перед убийством. В этих обстоятельствах уместен вопрос, случайно ли обрушился свод гробницы Нефера. Вполне возможно, что ответ на все вопросы кроется в плане, обнаруженном возле тела Курсье. Миллекан и д’Ормессон были уверены в этом, Сакс-Виллат был слишком потрясен, чтобы сформировать собственное мнение, Туссен сомневался.
На следующий день из Александрии в Саутгемптон отправился пароход «Александра». На борту находился запаянный гроб. Свидетельство о смерти было оформлено на Чарльза Уайтлока из Глазго. За каюту платило британское Министерство иностранных дел, отдел Интеллидженс-сервис.
11 Берлин — Лондон — Берлин
«Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядочные женщины — благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их».Знакомство с капризным бароном неожиданным образом изменило их жизнь. Омар, Халима и Нагиб привыкли к нужде и лишениям, теперь же они внезапно оказались среди берлинского высшего общества, причем малейшее упоминание о дружбе с бароном открывало перед ними любые двери. Барон фон Ностиц-Вальнитц предоставил им просторную, со вкусом обставленную квартиру в одном из сдаваемых им домов между Императорским банком и Драматическим театром, в том районе, где никогда не показываются бездомные, наводнявшие Берлин, и не скапливаются очереди бедняков перед бесплатными столовыми. Дважды в день Нагиб давал друзьям уроки немецкого языка, остальное время они проводили в архиве барона. Просмотр и изучение имевшегося материала заняли три недели и обеспечили им обширнейшие знания предмета, так что Омара и Нагиба охватила настоящая эйфория. Они добровольно проводили в архиве дни и ночи, делали пометки, развивали теории и вновь отклоняли их. Подтвердилось то, что они давно подозревали: вся деятельность британской секретной службы была завязана на леди Доусон, и именно эта организация обладала наиболее полной информацией. Египетские националисты, среди которых ключевой фигурой можно было назвать Али ибн аль-Хуссейна, окончательно разругались между собой, кроме того, ими в основном руководила личная заинтересованность, что значительно усложняло процесс поисков. Что касается Дезьем бюро, то не вполне было ясно, над чем работают французы, так как они часто меняли место и объект исследования, и, не углубляясь в подробности, можно бы было упрекнуть их в некомпетентности и наивности, если бы не участие в проекте опытного Туссена, известного умением вести двойную игру и создавать иллюзию деятельности там, где ее нет. Уже один тот факт, что немецкая секретная служба наблюдала за деятельностью служб стран-соперниц, при этом действуя столь умело, что те очень сомневались, что Германия в курсе тайны Имхотепа, доказывало превосходное качество ее работы. Так что Фрейенфельс, рассматривавший все занятия барона как баловство, был абсолютно прав, заподозрив в фон Ностице, работавшем теперь со своей вполне компетентной командой и пользовавшемся предоставленной ему по старой дружбе информацией, соперника императорской секретной службы; он даже начал бояться, что все сливки достанутся именно барону. В баре отеля «Адлон» состоялась беседа бывших друзей, во время которой звучали достаточно резкие обвинения. Фон Ностиц заявил о разрыве сорокалетней дружбы, Фрейенфельс называл бывшего друга бессовестным эгоистом: ситуация стала слишком серьезной, чтобы доверить дело столь несерьезному человеку, и если барон этого не понимает, очень жаль. Барон фон Ностиц-Вальнитц не понимал. Он вызвал Омара и Нагиба и объяснил им ситуацию, спросив, видят ли они возможность работать дальше. Он, в свою очередь, готов предоставить им любую посильную помощь. До того времени ни французы, ни англичане, располагая значительными средствами, не сумели достичь значимых успехов. В этом, по словам Омара, был ответ на вопрос. Бесполезно бродить с лопатой по пустыне в поисках гробницы Имхотепа, если даже примерно неизвестно место, где она находится. Фон Ностиц вскинул голову: — Вы не верите, что она в Саккаре? — Что значит верить? Необходимо знать! — бросил в ответ Нагиб. — Ни в одном из текстов, обнаруженных в пирамидах, нет указания на то, что создатель пирамид покоится вместе со своим господином либо возле него, то есть в тени пирамид. Конечно, нельзя полностью отвергать возможность того, что Имхотеп захоронен именно в Саккаре, это все же был город мертвых при Мемфисе, а Мемфис был столицей государства. Но с уверенностью этого утверждать также нельзя. — Кажется, вы идете совсем по другому следу! — Скорее, по следу следа! — ответил Омар. — Я считаю, мы должны искать там, где потерпел неудачу тот, кто стоял ближе всех к разгадке тайны. — О ком вы говорите, Омар? — Я говорю о профессоре Хартфилде. Хартфилд располагал наиболее полными сведениями и наиболее ценным элементом текста плиты, являющейся ключом к тайне. — Но Хартфилд мертв. Его убрали с дороги чьи-то агенты. Это же ясно как день! — Ничего неясно, — возразил Омар, — это не будет доказано, пока не найдут тело Хартфилда! Барон взмахнул руками: — Но вы же не думаете, что миссис Хартфилд была убита, а профессор похищен и теперь вынужден продолжать поиски для кого-то? — Не вижу в этом ничего невероятного, — задумчиво проговорил Омар. — И на чем основано ваше предположение? — Может быть, это просто идея-фикс, — пожал плечами Омар. — Но у меня какое-то странное предчувствие. Однако даже если Хартфилд мертв, необходимо выяснить, что с ним произошло. Нагиб кивнул, барон медленно покачал головой. — Когда исчез профессор? — спросил он наконец. — Судя по данным ваших документов, примерно четыре года назад. Я сужу по сообщению в лондонской «Таймс» от 4 сентября 1918 года. Жена Хартфилда Мэри была найдена мертвой позже в пяти километрах на запад от Саккары. Следы профессора не обнаружены. — В пяти километрах на запад от Саккары, говорите? Что же понадобилось миссис Хартфилд в Ливийской пустыне? — Если бы мы это знали, — усмехнулся Омар, — то продвинулись бы достаточно далеко. Но мы не знаем этого. Просматривая собранные вами документы, я заметил интересную деталь. Немецкая секретная служба узнала, что при миссис Хартфилд было найдено письмо… — Ах, перестаньте вы! Мертвецы не носят с собой писем. Оно наверняка было подброшено, чтобы отвести подозрение от чего-то другого. Было бы интересно узнать о причине ее смерти. Как погибла миссис Хартфилд? — Этого бумаги не говорят. Лишь то, что следов насилия на теле обнаружено не было. Барон задумался. Затем спросил: — Что же было в письме? — Речь шла о встрече в каирском отеле «Савой». Во время нее должна была состояться передача отпечатка плиты за вознаграждение, от которого дух захватывает. — Сколько? — Десять тысяч английских фунтов. — Десять тысяч фунтов? Это же куча денег! — Это целое состояние. Впрочем, Хартфилды бедными людьми не были. В средствах они не были ограничены. Их дома в Бэйсвотере и Пэддингтоне приносили больше денег, нежели можно потратить. Однако, судя по всему, миссис Хартфилд предложение не приняла. Нагиб полистал бумаги и извлек копию досье секретной службы, в котором шла речь о письме. — Вот, — сказал он, похлопав по листку, — 12 октября 1918 года, в 11 утра должна была состояться передача. Но до этого, видимо, дело не дошло. Фон Ностиц задумался: — Если исходить из того, что Хартфилд еще жив, где бы вы начали поиски? — Послушайте, — ни на минуту не задумавшись, ответил Омар, — я бы искал там, где этого еще никто не делал. Не в Саккаре, а там, где он жил, — в Лондоне. Я не собираюсь оспаривать важность достижений секретных служб. Но если мы хотим добиться успеха, нужно идти своим путем. Решительность, с которой говорил Омар, понравилась барону, и на следующий день он достал юноше документы и посадил на паром, снабдив достаточной суммой денег. Халима, все больше увлекавшаяся столичной жизнью, осталась. Нагиб же получил разрешение на поиски в архиве Нового Музея. Официально его интересовали каталоги египетских экспонатов, на самом же деле он хотел изучить корреспонденцию касательно последних находок немецких археологов в Египте. Сначала ему было отказано, позднее же, в ответ на личную просьбу барона, министр дал положительный ответ. Причина была в одной афере, ставшей настоящей сенсацией. Один берлинский археолог десять лет назад в Египте обнаружил бюст царицы Нефертити и, обойдя закон, вывез ее в Германию. Когда об этом стало известно, возникли трения на дипломатическом уровне, и с тех пор Египет тщетно прикладывал усилия, чтобы вернуть собственность. Омар отправился в Дувр, там сел в поезд, следовавший до Лондона, прибыл в столицу ровно в 18:10 на вокзал Виктории, взял черное такси и отправился, минуя Букенгемский дворец и Парк-Лейн, в сторону Бэйсвотера. Неподалеку от вокзала Пэддингтон, где делает поворот Харроу-роуд, Омар снял номер в «Мидленде», — если верить проспектам, отеле высшей категории, — и осведомился, заполняя анкету гостя, далеко ли до Глочестер Террейс. Портье сделал комплимент касательно прекрасного английского языка вновь прибывшего, поправил манжеты и, жестикулируя, указал Омару дорогу — нужно было трижды повернуть, путь не занимал и пяти минут. Не проглотив ни крошки, Омар лег в постель и основательно выспался.Коран, 4 сура (38)
Следующее утро было солнечным, что случается в Лондоне чаще, нежели принято считать, Омар проглотил скудный английский завтрак и отправился в путь. Несмотря на то что он впервые был в Лондоне, город не показался ему таким чужим, как Берлин. Омар мысленно поблагодарил за это профессора Шелли и его жену Клэр, которые в Луксоре долгими зимними вечерами рассказывали ему об Англии и Лондоне. То, что отличало Лондон от Каира и любого другого египетского города, — это чистота его улиц и упорядоченность движения. Автомобилей было намного больше, чем экипажей, по улицам ездили двухэтажные омнибусы на высоких колесах. Первое, что удивило Омара, когда он оказался перед домом 124 на Глочестер Террейс, — двухэтажным, белым зданием в раннем викторианском стиле, о чем в первую очередь свидетельствовал портал с колоннами, — была металлическая табличка с именем Хартфилд, которую, судя по ее блеску, полировали не реже раза в неделю. То же можно было сказать и о ручке звонка, за которую Омар решительно потянул. Дверь открыл седой пожилой мужчина, похожий на дворецкого. За ним появилась дама средних лет и таких же манер, судя по мужским брюкам и сигарете, которую она курила, зажав между зубами и не придерживая пальцами. Омар не знал, как выглядел профессор Хартфилд, но сразу понял, что перед ним не он. Так что представился бывшим работником профессора, пожелавшим навестить его, будучи в Лондоне по делам. Он не видел профессора около четырех лет. Эти слова были встречены не слишком приветливо. Женщина отстранила старика и попросила Омара представиться, что он и сделал, не найдя причин скрывать свое настоящее имя. После непродолжительной беседы, касавшейся в основном ее внешности и садовых работ, она представилась. Имя женщины — Амалия Дунс, она была родственницей миссис Хартфилд но материнской линии. Та же, упокой, Господи, ее душу, была ее тетей. Амалия Дунс, не замолкая, рассказывала Омару о том, что уже пятнадцать лет является добрым духом этого дома. Хартфилды отсутствовали месяцами, она же вела все дела еще до того, как погибла миссис Хартфилд и исчез профессор. Ее заявление о смерти профессора Омар молча отклонил на основании некоторых улик, свидетельствовавших об обратном. Амалия Дунс была единственной законной наследницей Хартфилдов, и ее надежды на получение наследства были вполне обоснованы. То, что удивило Омара во время разговора на пороге дома, это сдержанность, с которой разговорчивая дама отреагировала на его вопрос о препятствиях в признании смерти профессора. Сама она, по ее словам, видела профессора в последний раз летом 1918 года, если не считать сна, в котором он явился ей в образе монаха в серой рясе. Она горько усмехнулась и сказала, что это случилось около трех недель назад, однако с тех пор она часто просыпается, напуганная видением профессора или монаха, склоняющегося над ней. Чтобы избежать дальнейшего обсуждения снов Амалии Дунс, Омар вежливо распрощался, пообедал в «Кингз Армз» и отправился в расположенный неподалеку Гайд-Парк, где, усевшись на скамейку, наблюдал за лебедями и размышлял о том, что ему думать об этой Амалии Дунс. Ему показалось интересным, что заявление о смерти профессора было отклонено по причине определенных улик. Так что Омар направился в бэйсвотерский суд. Старое здание имело угрожающий вид, как и все судебные учреждения мира, и прошло не менее часа, пока Омару удалось найти соответствующий отдел, а в нем судью Киттербелла, высокого мужчину с коротко остриженными волосами, уже с четверть века зарабатывавшего на хлеб и будущую пенсию тем, что с понедельника по пятницу, сидя за столом из темного дерева, выносил решения касательно заявлений о смерти в округе Бэйсвотер. Омар предъявил паспорт и сказал, что у него есть вопросы по поводу дела Хартфилда, заявление о смерти которого было отклонено данным судом. Сказанное им не встретило особого энтузиазма со стороны Киттербелла, явно нарушив привычное течение его трудового дня и вынудив вызвать мисс Спаркинс, девушку, зимой и летом одетую в черное и принадлежавшую к союзу суфражисток. После долгих поисков она принесла соответствующие папки, и Киттербелл углубился в изучение их содержимого. Между тем Омар рассказал судье ту же историю, что и миссис Дунс, о том, что когда-то он работал на Хартфилда и уже несколько лет не видел его, так что считал давно погибшим. Омар надеялся таким образом заставить судью прокомментировать решение об отказе признать смерть профессора. И он не ошибся в расчете. Киттербелл достаточно несдержанно отреагировал на рассказ Омара, потребовал доказательства смерти, достал из папки квитанцию на двадцать тысяч фунтов из Вестминстерского банка и положил ее на стол. На квитанции стояла дата: Каир, 4 апреля 1921 года, а также подпись Хартфилда. В качестве адреса был указан счет в Миср банке в Каире, где указанная сумма и была снята по предъявлении доверенности и в соответствии с законом, о чем свидетельствовало подтверждение на запрос. Ни Вестминстерский банк, ни Миср банк не выразили сомнений в подлинности подписи, а так как покойники поставить свою подпись на документе не могут, видимо, следовало считать профессора Хартфилда живым. Археологи — люди своеобразные, они зачастую избегают общества, чего никак нельзя поставить в упрек в наши неспокойные времена. Может ли он, Омар Мусса, свидетельствовать о смерти профессора или назвать свидетелей? Этого он не мог, да и не желал — то, чего он хотел, Омар достиг. Видимо, его давнее предположение подтверждалось: Хартфилд жил где-то в Египте, и не было причин считать, что он оставил планы найти гробницу Имхотепа. Но с чего начать поиски? Казалось бессмысленным искать человека, желавшего скрыться, в стране, которая больше, чем Англия. Это было все равно что искать иголку в стоге сена. Что же знала миссис Дунс? Омар не сомневался, что она знала больше, чем сказала. Что было причиной ее сдержанности? Надежда получить наследство или сообщничество с профессором? Почему она не упомянула о денежном переводе? Если она вела все дела профессора, она не могла не знать о нем. Так что на следующий день Омар вновь направился на Глочестер Террейс, чтобы узнать, известно ли миссис Дунс о переводе денег профессору в апреле прошлого года, который, без сомнения, являлся доказательством того, что профессор жив. Вопрос Омара подтвердил то, что Амалия Дунс и подозревала, — он явно пришел не просто навестить профессора. Не вынимая сигареты изо рта, она назвала Омара ищейкой и пригрозила полицией, при этом она считала подпись поддельной, а в ее доме ему больше показываться не рекомендовала. Но бросать начатое, не добившись результата, было не в духе Омара. Поэтому он вновь отправился к судье Киттербеллу и расстроенно сообщил, что миссис Дунс считает подпись на чеке подделкой. Для Киттербелла важнее всего в данную минуту было избавиться от настырного информатора, он закатил глаза и подтвердил, что миссис Дунс заявляла о том, что подпись — фальшивка. Эксперт, однако, признал ее подлинность. Когда же судья начал задавать вопросы касательно того, почему Омар интересуется данным делом, тот предпочел распрощаться.
Пока Омар занимался расследованием в Лондоне, в Берлине судьба готовила ему неожиданный удар, какого ему еще не приходилось переживать, один из тех, о которых не забывают даже тогда, когда раны, казалось бы, уже затянулись. Все началось во время одной из коктейльных вечеринок, которые барон фон Ностиц-Вальнитц устраивал каждый четверг. Если попытаться классифицировать событие такого рода, его следовало бы отнести к разряду мероприятий, на которые приходят, чтобы «себя показать и на других посмотреть» — Ярмарка тщеславия, участвовать в которой считалось честью. На ней можно было встретить не только актеров, режиссеров и писателей, но также конструкторов и владельцев электростанций. Здесь рождались звезды, критиковались министры, нанимались боксеры, заключались торговые сделки и делалась политика. За два дня до покушения министр иностранных дел Вальтер Ратенау беспечно беседовал здесь с Ф. В. Мурнау, чей немой фильм «Носферату» только что произвел сенсацию. На одной из таких вечеринок, к радости представителей мужского пола, появилась и Халима, очаровавшая всех своим арабским акцентом. Затем произошло событие, которое могло показаться случайным. Макс Никиш, репортер «Берлинер Иллюстрирте», так неудачно столкнулся с Халимой, что опрокинул красное вино из своего бокала (Никиш пил только красное вино) на платье Халимы, испачкав его. Никиш, известный тем, что ничто не могло взволновать его, после того как он проехал по натянутому в башне церкви императора Вильгельма тросу на цирковом мотоцикле, лепетал невнятные извинения, повторяя, как неудобно ему за свое поведение. Он предложил Халиме отвезти ее домой, чтобы хоть как-то искупить вину, и Халима согласилась, вынужденная покинуть общество. Никиш, невысокий, щуплый человек, зачесывавший назад темные, блестящие волосы, был похож на Рудольфе Валентино. Он не выходил из дома без красной бабочки, вся же его прекрасная обувь была куплена у Вальдмюллера на Курфюрстендаме. Серый мерседес-бенц, на котором он передвигался, был явно не по карману репортеру, о чем, однако, знал лишь он сам. Причину, по которой на сороковой год своей жизни он все еще не женился, также знал один только Никиш. В любом случае, он считался одним из самых завидных женихов в Берлине, и женщина, за которой он начинал ухаживать, что происходило нечасто, имела полное право гордиться этим. Никиш вел себя по-старомодному вежливо, даже излишне корректно, прикладывая все силы, чтобы не потерять достоинство и не испортить репутацию. Еще ни одному сплетнику не удалось приписать ему связь с той или иной особой, а их было немало в клубах и салонах на Лейпцигер и Доротеенштрассе. Вследствие этого станет понятно то уважение, с которым было воспринято поведение Никита в течение следующих дней. Как и следовало ожидать, он отвез Халиму домой и терпеливо дождался, пока она переоденется, затем же, как и обещал, привез ее обратно к барону фон Ностиц-Вальнитцу. В тот вечер он ни на секунду не терял ее из вида, успел сделать множество комплиментов и, прощаясь, попросил разрешения увидеть ее на следующий день. Будучи египтянкой, Халима не привыкла ни к комплиментам, ни к приглашениям на свидания; учтивость Никита льстила ей, и она согласилась. Во время завтрака посыльный принес ей букет желтых роз с запиской. Халима не помнила, чтобы ей когда-нибудь дарили цветы, записка же содержала приглашение на прогулку по магазинам с предложением заменить испорченное платье. Произошло это в салоне на Александер-плац, куда были вхожи представители высшего общества. Новое платье было желтым, чуть ниже колена и узко в соответствии с модой, а на левом бедре собрано в крупные складки. Предположение, что платье может оказаться слишком вызывающим для восточной женщины, Никиш опроверг, сказав, что красивая женщина должна носить красивые платья, а ее недостойны и самые красивые из имевшихся. Комплименты подобного рода, на которые Никиш не скупился, волновали, как шампанское, и вселяли незнакомое счастливое чувство. Всю свою жизнь Халима служила и терпела и никогда не жаловалась, потому что эта роль соответствовала ее происхождению и воспитанию. Теперь же она чувствовала себя дамой, о которой заботились и которой восхищались, она будто заново родилась. Даже Омар, по которому она все же скучала, не относился к ней с таким уважением, как немец. Он не мог иначе, ведь он был воспитан на Востоке. От барона фон Ностица Халима узнала, что Омар задержится в Лондоне дольше вследствие некоторых событий, требовавших его присутствия, и что он передает ей наилучшие пожелания. И так вышло, что чувства Халимы неожиданно изменились в пользу Макса (она называла его Матцем, не в силах выговорить звук «кс»). Вместе они поехали в «Скалу», известный театр-варьете, где капитан по имени Вестерхольд демонстрировал новую сенсацию — радиоуправляемый корабль. Они фланировали по сомнительным кафе и кабаре на Фридрихштрассе, смотрели известнейшие немые фильмы тоговремени — «Доктора Мабуза» Фрица Ланга на востоке города, «Носферату» Мурнау на Курфюрстендаме, в западной части, где оркестровая музыка сопровождала демонстрацию на экране. Можно было встретить их за ужином в «Адлоне» или в полночь у палатки Мейера на углу Фридрихштрассе и Таубенштрассе, где подавали лучшие котлеты в городе. Перед этой палаткой между Уранией и Драматическим театром после долгих дней беззаботных свиданий Макс, наконец, признался Халиме в любви. Скорее это было даже не просто признание, потому что Никиш клялся Халиме в том, что не может больше жить без нее, умоляя поверить ему. Будто окаменев, стояла Халима в свете уличного фонаря, она дрожала, но не из-за ночной прохлады, а от сознания важности происходившего. Макс обнял Халиму, он почувствовал ее дрожь и тепло ее тела. — Не говори ничего! — настойчиво произнес он. — В жизни бывают моменты, когда мы не в состоянии найти нужные слова. Халима пыталась сдержать слезы — почему, она и сама не знала. Ее так трогали манера этого мужчины, его сила и уверенность, внезапно превращавшиеся порой в привлекательные слабости. Она хотела, она должна была сказать ему о тысяче вещей, она должна была объяснить ему все, пока не стало слишком поздно. И она начала рассказывать ему свою историю, дрожа в его объятиях в свете фонаря на пересечении Фридрихштрассе и Таубенштрассе. Она рассказала о бедном детстве, о том, как босой работала с отцом на плантациях сахарного тростника, о первой встрече с Омаром и той цене, которую ей пришлось заплатить за его свободу. Халима не умолчала ни о чем, ни об одиночестве и несправедливости, которые ей пришлось вытерпеть во время брака, ни о страданиях, которых ей стоила каждая близость с аль-Хуссейном. Она поведала о неожиданной встрече с Омаром и их общем решении бежать из Египта. Умолчала Халима лишь об истинной причине их знакомства с бароном. — Теперь ты знаешь, — закончила Халима свое повествование, — что связался с прелюбодейкой, сбежавшей от мужа, что является страшным грехом согласно законам ислама. Я одна из тех женщин, от которых Аллах повелевает держаться подальше, покидать их жилища и наказывать по собственному разумению. Потому что мужчина может покинуть женщину, она же его — нет. Халима ждала, что ее слова вызовут его отвращение, что Макс извинится и покинет ее. По крайней мере такое поведение ее нисколько не удивило бы, да, она даже втайне надеялась на него, потому что тогда бы ей удалось избежать всего, что готовило ей в будущем новую боль. Но ничего подобного не произошло. Макс обнял Халиму еще крепче и покрыл ее лицо поцелуями. Разумно, как отец, он ответил: — Халима, ты приехала из далекой страны, где царят иные законы и верования. Но теперь ты в Европе, и здесь, в Германии, многое иначе. Ты женщина и имеешь равные права с мужчиной. Если муж обращается с тобой жестоко, ты имеешь такое же право покинуть его, как и он тебя. И это не важно для человека, который тебя любит. — Но ведь есть еще Омар! — в отчаянии вскрикнула Халима, пытаясь освободиться из его объятий. Она била Никита кулачками в грудь. — Он любит меня, а я люблю его! Ее слова не испугали Макса. Он сжал ее руки и спокойно ответил: — У любви свои законы, и они не подчиняются логике. Сегодня ты говоришь, что любишь Омара, но завтра это может измениться. Я сделаю так, как ты захочешь. Если ты прикажешь мне уйти, я уйду, но любить тебя не перестану. И сквозь слезы Халима крикнула: — Тогда уходи, прошу тебя, уходи! Нам больше нельзя видеться! Будто ожидая именно такой реакции, Макс, не проронив ни слова протеста, взял Халиму за руку и махнул проезжавшему такси. Он открыл ей дверь и быстро поцеловал руку, пока она садилась. Его прощального взмаха Халима уже не заметила, потому что плакала, как ребенок.
Омар же, между тем, вцепился в загадку, как хищник в свою жертву. Все то, что ему до сих пор удалось узнать о Хартфилде, казалось бесполезным. Он должен был добиться большего на Глочестер Террейс. Он не сомневался в том, что курящая сигарету за сигаретой миссис Дунс играла сомнительную роль во всей истории. Но как добиться от нее информации, он не знал. Мысль о том, чтобы расспросить соседей, он быстро отбросил. Во-первых, это не предвещало большого успеха — кто знает своих соседей в таком огромном городе, как Лондон? С другой стороны, он опасался, что о расспросах чужака сообщат миссис Дунс и она станет осторожней. Так что Омар решился на самый простой и утомительный способ: он устроился на улице напротив ее дома и стал ждать, кто придет в дом 124 на Глочестер Террейс. Так он проводил дни с семи утра до десяти вечера. Ничто не бывает так скучно, как подобное наблюдение. Часы, пролетавшие обычно мгновенно, теперь растянулись в бесконечность. Пока Омар прохаживался по противоположной стороне улицы, он считал плитки тротуара, учил наизусть номера проезжавших автомобилей, а дважды в день, около полудня и вечером, он покупал последние номера газет, которые читал, прислонившись к углу дома. В первый день не произошло ничего, не считая того, что утром дверь дома приоткрылась и чья-то рука забрала бутылки с молоком, которые незадолго до того принес темнокожий молочник. Молочник! Молочники и парикмахеры всегда знают больше всех! На следующее утро Омар последовал за молочником, сунул ему в руку фунтовую купюру, что было немалой суммой для человека его положения, назвался частным детективом, что не было редкостью в Лондоне двадцатых годов, и попросил рассказать о жителях дома № 124 на Глочестер Террейс. Молочник оказался человеком, не слишком одаренным природой, чье внимание не распространялось дальше ступеней дома. На все вопросы он отвечал приветливой глупой ухмылкой, поднимая к лицу три пальца: «Миссис Дунс, сэр, три бутылки». В тот день Омар увидел выходившего дворецкого, вернувшегося через два часа, видимо, купив необходимое для хозяйства. Одно было ясно уже теперь: слишком гостеприимной хозяйкой миссис Дунс не была; казалось, она жила совсем уединенно. Задремав от скуки, Омар слишком поздно заметил, как на следующий вечер дом покинул высокий мужчина в пальто; не успел он перебежать улицу, чтобы проследить за гостем, как тот исчез в темноте. Мужчина, что можно было сказать с уверенностью, не был дворецким — незнакомец был высок и имел более легкую походку. Омара насторожило прежде всего то, что он не видел, как тот попал в дом. На следующий день, в пятницу, знакомые события повторились: молочник принес бутылки, зашел почтальон, около десяти дом покинул дворецкий, затем ничего примечательного. Было около восьми, уже темнело, когда случилось нечто неожиданное, на что Омар уже и не надеялся: дверь дома открылась, и вышла миссис Дунс в сопровождении мужчины. Мужчина был тем самым незнакомцем в пальто. Рука об руку они поднялись по Глочестер Террейс по направлению к Сассекским садам, Омар следовал за ними на безопасном расстоянии. Они шутили и, казалось, были в хорошем настроении, через некоторое время они зашли в один из многочисленных китайских ресторанчиков. Удостоверившись в том, что миссис Дунс со спутником нашли свободный столик, он последовал за ними. Они устроились за одним из дальних столиков, разделенных бамбуковыми решетками, увитыми цветами, так что Омар мог позволить себе занять место за столиком напротив, не рискуя быть замеченным. Он хотел лишь запомнить лицо мужчины. Скрыв лицо за меню, которое ему принес низенький китаец, Омар следил за парой напротив. Лишь когда подошел официант, мужчина повернул голову так, что его лицо стало видно Омару. Во имя Аллаха Всемогущего! Мужчина, сопровождавший миссис Дунс, был Вильямом Карлайлем. Да, в этом не могло быть сомнений — Вильям Карлайль, журналист, с которым он познакомился четыре года назад в холле отеля «Зимний дворец» в Луксоре и который однажды исчез из своего отеля, оставив пиджак, конверт с марками на 15 фунтов и книгу с запиской, на которой стояло одно слово: «Имхотеп», дважды подчеркнутое. Омару нелегко было привести в порядок собственные мысли. Миссис Дунс — профессор Хартфилд — Карлайль. Между этими людьми была какая-то связь, какая-то точка соприкосновения их судеб. В любом случае должна быть какая-то связь между Хартфилдом, который, видимо, все еще был жив, и Карлайлем, в чьем физическом существовании не могло быть сомнений, исчезнувшими чуть ли не в один день. Тысячи предположений проносились в голове Омара, но ни одно не казалось ему достаточно правдоподобным. Та сцена, которую он наблюдал, не давала никаких определенных подсказок. Пока миссис Дунс и Карлайль делали заказ, Омар наблюдал за каждым их движением, которые зачастую могут сказать больше, чем слова. Слова могут солгать, глаза же — нет. Только удалился официант, Карлайль взял миссис Дунс за руку и долго, не говоря ни слова, смотрел ей в глаза. Ya salaam! Родственники, знакомые или деловые партнеры так не смотрят друг на друга! Они состояли в любовных отношениях. — Что вам принести, сэр? — маленький улыбающийся китаец стоял перед Омаром, готовый принять заказ. Омар отложил меню и дружелюбно ответил: «Спасибо, я передумал!» Затем он покинул ресторан. Похолодало, со стороны Гайд-Парка потянулся первый осенний туман. Омар поднял воротник. В том случае, раздумывал он, если между Амалией Дунс и Вильямом Карлайлем существует любовная связь, что, судя по всему, скорее вероятно, чем невероятно, возникает вопрос, какое отношение к происходящему имеет дядя Амалии, Эдвард Хартфилд. Хартфилд и Карлайль должны были быть знакомы, их общий интерес к Имхотепу не мог быть случайным. Но если они были знакомы, почему шли к достижению цели разными путями? Омар, прежде придерживавшийся версии о том, что исчезновение Хартфилда вызвано не смертью, теперь не мог избавиться от чувства, что тот мертв. Быть может, это было нелогично и недоказано, но Омар был сыном пустыни, а дети пустыни обычно доверяют своим ощущениям. Так и не решив, где продолжить поиски, Омар вошел в отель «Мидланд». Вместе с ключом портье передал ему телеграмму из Берлина. Нагиб сообщал, что он должен срочно вернуться, если ему дорога Халима. Что мог иметь в виду Нагиб? Омар этого не понял.
Даже если бы Омар понял предостережение друга, он опоздал бы. В Берлине многое изменилось. По Унтер ден Линден ветер гнал пожухлые листья, по утрам пахло туманом, сильнее всего в Лустгартене и у рейхстага, где через город течет Шпрее. Дожди шли чаще, чем и без того дождливым летом, а цены на хлеб, мясо и овощи росли с каждым днем. На многих автомобилях, стоявших вдоль улиц, появились надписи «Продается», и мужчины с табличками «Ищу работу», привязанными спереди или на спине, наводнили город. Повсюду сновали торговцы контрабандным товаром и спекулянты, больше же всего было торговцев наркотиками. «Коко», как называли кокаин, был в моде, как и морфий, и стоили они в Берлине несравнимо дешевле, нежели в Париже или Лондоне. В одном из подвальных кабаков на Лейпцигерштрассе ярко накрашенная шансонетка в годах каждый вечер повторяла один куплет:
Двумя днями позже Омар вернулся в Берлин и, узнав о том, что произошло за время его отсутствия, почувствовал, что мир рухнул. Беспомощно бродил он по улицам огромного города, не в состоянии собраться с мыслями. Ну почему, почему, бормотал он целыми днями. На мосту Императора Вильгельма за собором он остановился и долго смотрел на медленно текущую воду. Ему хотелось умереть; но чем больше он думал о смерти, тем сильнее его охватывала ненависть к мужчине, отнявшему у него женщину. Оружие! Ему нужен был револьвер, шестизарядный, этого хватит. На вокзале Александер-плац был неплохой выбор. Как во сне, он направился вверх по улице Императора Вильгельма в сторону Маркгалле, свернул на Нойе Фридрихштрассе и по ней дошел до вокзала. Темнело, и город осветили сотни огней. Толпы людей валили из слишком узких дверей вокзала. Повсюду сновали спекулянты и безработные, и Омар внимательно присматривался к ним, ища того, кто мог бы предложить интересующий его товар. Один предлагал кокаин, другой — половину поросенка в обмен на фортепиано, еще один прошептал, что у него есть партия крема «Муссон», шестьдесят штук в коробке. Револьвер? — Нет. Может быть, у Кале Эльзнер. — Где? — У Ашингера на Александер-плац, но не раньше десяти. На Александер-плац было полно народа и транспорта. Казалось, все автомобили, омнибусы, такси и трамваи города съехались сюда. Маленькая блондинка не старше восемнадцати лет потянула Омара за рукав: — Привет, господин, хотите немножко удовольствия? — Я не хочу удовольствия, я хочу револьвер! — проворчал Омар на своем плохом немецком и попытался отделаться от девочки. — Револьвер? — не отставала блондинка. — Эй, парень, не сходи с ума. Не ищи несчастья на свою голову. Теперь Омар взглянул на девочку. Не ищи несчастья на свою голову. Так коротко и четко. Звучало, как строка Корана. Просто смешно. Вот появилась незнакомка, девка, и вернула ему рассудок. — Меня зовут Тилли, — сказала малышка, решив, что заинтересовала господина. Она подняла руку с растопыренными пальцами, подмигнув: — Пять, только для тебя! — Что пять? — Ну, тысяч. За удовольствие! Омар, наконец, понял. В то время столько же стоили фунт чая или дешевая рубашка. — У меня топят. Это возле полицейского участка. Ну, дай же волю своим желаниям! Не можешь же ты оставить несовершеннолетнюю вот так, одну на улице! У Тилли было милое, открытое лицо. Светлые волосы падали ей на глаза, и она время от времени сдувала их в сторону, выставляя вперед нижнюю губу. Она была стройной и изящной, но ее грудь не заметить было нельзя. — Ты ведь не здешний? — спросила она, потому что Омар все еще молчал. — Выглядишь как-то удрученно. Я тебя развеселю. Внезапно Омар потянулся к сумке, вынул пачку купюр и протянул девушке. Тилли сделала реверанс, будто маленькая девочка, и засунула деньги в поношенную бархатную сумочку. Комната с отоплением находилась на первом этаже, сразу за входной дверью в дом, и Тилли гордо сообщила, что живет с подругой. Та рекламирует сигареты в ночном клубе в Шарлоттенбурге, так что ночью квартира свободна. Омар опустился в яркое кресло, на котором оставили отпечаток пережитые им годы, и посмотрел на девушку, которая начала раздеваться, будто бы это было самым обыкновенным занятием. — Ты хочешь в одежде? — заметила Тилли, прищурившись, будто это обещало особое наслаждение. — Я не против. — Когда же она наконец заметила, что Омар смотрит будто сквозь нее, унесшись далеко в своих мыслях, Тилли встала перед ним на колени, взяла его руки в свои и сказала: — По-моему, тебе сейчас не нужна женщина для любви, тебе нужна женщина для разговора. Ну, давай, рассказывай. И будто он только этого приглашения и ждал, Омар начал говорить. Он облегчал свою душу, поток его слов не заканчивался, он рассказывал о своей любви к Халиме, их рискованном побеге, неожиданном его завершении, о пустоте, наполнявшей его теперь, о беспомощности, которую он ощущал в сложившейся ситуации. Тилли слушала Омара, ни разу не прервав, и, когда он кончил говорить, ответила после долгого молчания: — Если бы ты спросил меня, я бы сказала, что ни одна женщина не стоит того, чтобы бегать за ней. Поверь мне, если она тебя любит, то вернется сама — у нас у всех бывают помутнения рассудка, а если она не вернется, значит, никогда не любила тебя. Простые слова этой девчонки принесли внезапное облегчение Омару. Тилли удовлетворенно следила, как он пытается улыбнуться. — Ты хорошая девочка, — сказал Омар, — почему ты это делаешь? Тилли все простила бы ему в этой ситуации, любые подлости и бесстыдства, к которым она привыкла, но только не эти глупые слова, произносимые каждым вторым посетителем. И она ответила так же глупо: — Ну, хорошо, если тебе так хочется знать: потому что это доставляет мне удовольствие и потому что так я зарабатываю больше, чем телефонистка, вот. — Извини, — ответил Омар, — я не хотел. — В любом случае, — заметила Тилли, — мать моей матери, то есть моя бабушка, работала на Алексе еще девочкой и тем не менее стала уважаемой женщиной. А по закону господина Менделя дети чаще бывают похожи на бабушек и дедушек, нежели на родителей. Научное обоснование этого способа существования позабавило Омара, и они заговорили о жизни вообще и об отношениях полов; а потом вдруг пошли к Ашингеру, где даже ночью на столе можно было найти бесплатный хлеб, и пили пиво, и говорили о самом личном, потому что знали, что расстанутся и никогда друг друга не увидят вновь. Ничего в его жизни за это время не изменилось, и все же Омар почувствовал себя лучше после этого необычного свидания. Самостоятельность девочки произвела на него впечатление, и он отодвинул чувство жалости к себе, которому с наслаждением предавался последние два дня. На следующий день Омар появился в доме барона фон Ностица, который приносил ему всяческие извинения, ведь именно на его вечеринке Халима познакомилась с Никишем. Он был очень удивлен, услышав из уст Омара, что ни одна женщина не стоит того, чтобы за ней бегали, и если она его любит, то вернется сама, а если не вернется, значит, никогда не любила. После этих слов собеседники перешли к делу. Омар сообщил барону, что напал на новый след, след, по которому уже шел однажды, но выпустил из внимания из-за нехватки сведений. Короче говоря, человек по имени Карлайль, бесследно исчезнувший, оставив в отеле личные вещи, в том числе листок с надписью «Имхотеп», вновь появился в Лондоне, причем в качестве любовника племянницы профессора Хартфилда. То, что профессор жив, подтверждает некая спорная улика — денежный перевод, осуществленный им в прошедшем году, вследствие чего было отклонено заявление о его смерти. — Значит, вы полагаете, что Хартфилд жив? — взволнованно воскликнул фон Ностиц. Омар беспомощно пожал плечами: — Существуют как свидетельства его смерти, так и того, что он жив. Уверен я только в одном: тот, кто найдет Хартфилда, живым или мертвым, сразу на шаг приблизится к разгадке. И я решил найти Хартфилда! Густав-Георг барон фон Ностиц-Вальнитц нервно стряхнул пепел: — И как, если позволите, вы намерены сделать это? — Я рассчитываю на вашу поддержку, — спокойно ответил Омар. — Как вы знаете, в Египте у меня есть враги, которые охотятся за мной. Вернуться в Египет под именем Омара Муссы было бы настоящим самоубийством. Но если бы вы сделали для меня фальшивый паспорт, все бы стало иначе. Я бы отправился в Египет и не вернулся бы, пока не нашел Хартфилда. — Ну, если это все! — Маленький, толстый барон рассмеялся. — Все, что нам нужно, — это фотография и новое имя. — Хафиз эль-Гафар, — сказал Омар, вспомнив имя своего квартиродателя, которое он уже как-то использовал в Луксоре, — Шарья Квадри, 4, Каир. Узнав о намерении Омара вернуться в Египет, Нагиб приложил все усилия, чтобы отговорить друга. Он вполне может прямо здесь пустить себе пулю в лоб и, таким образом, сэкономить деньги на поездку, потому что с аль-Хуссейном шутки не пройдут. Он понимает боль Омара из-за ухода Халимы, но этой страсти к смертельному риску ему не понять. Самого его и десятью лошадьми в Египет не затащишь, даже если ему придется зарабатывать себе на жизнь, продавая газеты. Омар должен благодарить Аллаха Всемогущего за то, что такого поворота событий они могут не бояться. Во всяком случае, на его, Нагиба, помощь Омар может не рассчитывать. Омар ответил, что он готов отказаться от помощи Нагиба, с Халимой же его планы также никак больше не связаны. Он собирается искать Хартфилда и найти его, живым или мертвым, и для этого барон оформит ему фальшивый паспорт. Он собирается отпустить бороду, какую имел раньше, став, таким образом, вновь похож на семь миллионов египтян. Естественно, разговор окончился спором Нагиба и Омара. Через два дня господин Хафиз эль-Гафар сел на поезд до Мюнхена, потом пересел на поезд, следовавший до Триеста, где его ожидала каюта на корабле, следовавшем в Александрию, конечно, первого класса.
12 Сиди Салим
«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите приближения к Нему и усердствуйте на пути Его, — может быть, вы будете счастливы! Поистине, те, которые не веруют, если бы у них было все то, что на земле, и столько же еще, чтобы выкупить этим себя от наказания вдень воскресения, все это не было бы принято от них, и им — наказание мучительное!»Как и всегда, когда Нил, следуя своим собственным законам, поднимается, становясь из зеленого коричневым, Египет оживает. «Изис», старая яхта леди Доусон, поднялась вместе с водами, натянув удерживавшие ее канаты, и волны сильнее прежнего начали биться о ее борт. С запада подул сильный бриз. Отплывший с противоположного берега, от Луксора, перевозчик боролся с волнами. Он предупредил иностранца, что, когда Нил поднимается, переправа становится небезопасна, особенно в ночное время суток Однако его сомнения были развеяны толстой пачкой денег. Теперь же положение действительно стало опасным, и перевозчик выкрикивал в темноту извечное Inscha’allah! молясь и подбадривая себя и отгоняя страх одновременно. Леди Доусон наблюдала за представлением из салона, «Это должен быть он! Французы всегда опаздывают, это самый невезучий народ из всех, что я знаю». Агент Джерри Пинкок, прозванный «ищейкой», подошел ближе. Его трудно было узнать: с тех пор как он попал в Египет, он стал коротко стричь волосы, что положительно отразилось на его внешности. Лорд Карнарвон прибыл из Англии вместе с дочерью Эвелин, а если где-то появлялась Эвелин, значит, неподалеку был и Картер. Он сидел за освещенным столом в центре комнаты, не выражая ни малейшего интереса к происходившему на реке, перед ним лежала стопка карт и документов. — Лучше бы он остался в отеле, — заметил Пинкок, не страдавший недостатком мужества, засомневавшийся, однако, в правильности решения путешественника, чье положение становилось все опаснее. Мужчина в лодке был для них важной фигурой. Казалось, лодка совсем не продвигалась вперед. Скорее перевозчик боролся с ветром и делал все возможное для того, чтобы парусная лодка не перевернулась. Наконец, у леди Доусон кончилось терпение, и она предложила гостям занять места. Как обычно, Джоан Доусон сидела во главе стола. Справа от нее — лорд Карнарвон, далее Пинкок, слева — Картер и Эвелин, с которой не спускал глаз отец. Слуга-египтянин принес виски и шерри на круглом подносе, Пинкок поднялся, взяв бокал, и произнес с присущей случаю серьезностью: — Я пью за уважаемого Чарльза Уайтлока, погибшего при исполнении ответственного задания на службе Британской империи. По нашим сведениям, вчера он был похоронен в Глазго, в Шотландии. За Чарльза! — За Чарльза! — присутствующие встали. — Уайтлок был женат? — спросил Карнарвон после минутного молчания. — Женат? — Леди Доусон усмехнулась. — Агенты и археологи не могут позволить себе подобной роскоши. Нет, у Чарльза Уайтлока была только одна любовь, которой он полностью посвятил свою жизнь, — Интеллидженс-сервис. И все же — неприятная история. — Неприятная история, — повторил Пинкок и выпил, — это могло случиться с каждым из нас. — Как это вообще произошло? — Лорд Карнарвон придвинулся ближе. — Как получилось, что дело дошло до конфликта с французами? — Сейчас расскажу, — ответил Пинкок. — Мы давно наблюдаем за агентами Дезьем бюро, хотя, должен сознаться, иногда мне кажется, что это французы за нами наблюдают. Они считают, что мы прячем Хартфилда. Как бы то ни было, Поль Сакс-Виллат, официально занимающий пост французского консула в Александрии, на самом деле агент французской секретной службы. Он руководит работой группы профессионалов, с точки зрения компетентности как в области науки, так и секретности. Мы подозревали, что им известно больше, чем нам. По крайней мере, они занимались вещами, которые нам казались абсолютно непонятными, например, начинали раскопки в местах, признанных нашим экспертами бесперспективными. Так что мы исходил из того, что они опередили нас в расследовании. Соответствующее послание, направленное в Лондон с запросом помощи со стороны профессионалов, взволновало полковника Доддса. Он пообещал любую необходимую поддержку и попросил высказаться яснее. Но прежде чем мы успели прояснить ситуацию, от полковника Доддса была получена очередная телеграмма: ничего не предпринимать, ждать новых указаний. Позднее мы узнали, что один из французских агентов, ученый-лингвист Эдуард Курсье, обратился в британскую секретную службу. Его принудили к работе над данным проектом; у него же, однако, не было ни малейшего желания поддаваться на шантаж Дезьем бюро. Он выразил желание поделиться имеющимися знаниями с британцами. — Мы должны были соблюдать осторожность, — продолжила леди Доусон. — Француз мог затеять двойную игру. Поэтому я предложила, чтобы сначала Чарльз Уайтлок вошел в контакт с Курсье и проверил его искренность. Уайтлок был лучшим актером среди нас. Никому не удавалось так идеально изображать британского туриста. Ему не составило труда войти в контакт Курсье. Он подтвердил, что француз вполне серьезен своих намерениях, казалось, его особенно привлекал перспектива внезапного ночного исчезновения из лагеря французов. Тем временем Сакс-Виллат и его агенты обнаружили гробницу современника Имхотепа, что, однако, не принесло никаких новых сведений, так что они решили вновь замуровать гробницу и засыпать вход. Уайтлок наблюдал за происходящим с безопасного расстояния и отважился показаться из укрытия лишь в тот момент, когда французы прервались и вернулись в дом, где проживали. Остался лишь Курсье. По его словам, он спрятал в гробнице ценное имущество, и Уайтлок вызвался сопровождать его. На то у него были особые причины. Он взял с собой поддельный план, который должен был возбудить подозрения французов касательно того, что еще Огюст Мариет искал гробницу Имхотепа. Для составления плана мы провели подробнейшее расследование относительно Мариета и пометили место, где при всем желании нельзя раскопать ничего, кроме песка и камней. План должен был сбить французов со следа и дать, таким образом, фору нам. Далее произошло следующее: свод обрушился. Курсье удалось выбраться, Уайтлок же был раздавлен огромной плитой. — Около часа ночи, — продолжил Пинкок, — пришел Курсье, абсолютно разбитый. «Изис» тогда бросила якорь милях в трех от места происшествия. Мы пришли в ужас, узнав о происшедшем. Лишь леди Доусон сохранила ясность рассудка. Она поняла, что, если Уайтлок будет обнаружен, мы пропали, — французы поймут, что мы наблюдаем за ними. Так что было решено, что мы с Курсье должны вернуться к гробнице и извлечь из нее тело Уайтлока. Французы оставили домкраты, так что с их помощью нам удалось приподнять плиту, под которой находился Уайтлок. Что, честно говоря, было небезопасно. Мы протащили тело Уайтлока около полумили по пустыне, затем закопали в песке. На следующий день мы завершили начатое. Бедный Чарльз! Леди Доусон поднялась и подошла к окну. Шторм так и не успокоился. Парусника видно не было. — Они перевернутся, — проговорила она. Картер был все еще погружен в свои бумаги, он не следил за объяснениями. — Вы должны его понять, он слишком взволнован, — сказал лорд Карнарвон, — нам ведь теперь нужно понять, как действовать дальше. Подчеркивая каждое слово, будто пытаясь придать особый вес сказанному, леди Доусон ответила: — Поэтому вы и были приглашены сюда. — Я не понимаю, — возразил лорд Карнарвон, а Картер поднял голову. — Какое отношение имеет мое открытие к вашему проекту? Картер с досадой отвел взгляд, и Эвелин поняла почему. Ее отец сказал «мое открытие», будто это он рылся в грязи на протяжении двадцати лет, будто не Картер потратил жизнь на то, чтобы совершить это открытие. Она почувствовала, что Картер оскорблен, и ей тоже стало больно. Лицо леди Доусон изменилось еще больше, на нем появились резкие морщинки, глаза заблестели. Наконец, досадливо вздохнув, она ответила: — Лорд Карнарвон, видимо, вы неправильно расцениваете ситуацию. Речь идет не о вашем или моем проекте, речь идет о деле государственной важности. Военный министр в качестве ответственного лица со стороны правительства его величества перенял ответственность за ведение дела Имхотепа. Это значит, распоряжения исходят от военного министра. — Интересно! — ответил лорд Карнарвон с иронией, присущей всем британцам, в особенности же британским лордам. — Я вот только никак не пойму, что общего имеют ваши длящиеся годами бесплодные поиски гробницы безвестного строителя пирамид с моим открытием? Впервые найдена нетронутая гробница, и мы еще даже не знаем, что ждет нас за запечатанной стеной. — Вот именно, — заметила леди Доусон, — именно потому, что впервые найдена нераспечатанная гробница, что мы не знаем, что ждет нас за дверью, шумиха вокруг данного события будет сильнее, нежели когда-либо прежде. Картер покачал головой: — Быть может, вы выразитесь яснее? О чем, собственно, речь? Пинкок вступил в разговор: — Автор идеи — Джеффри Доддс, и я считаю ее потрясающей. До сих пор масса усилий уходила на то, чтобы скрыть нашу истинную деятельность. Ваше открытие, лорд Карнарвон, после огласки в мировой прессе станет сенсацией, в Луксор со всего мира съедутся не только представители прессы, но и ученые и археологи потянутся в Долину Царей, остальные же районы раскопок опустеют. — Я начинаю понимать, — вставил Карнарвон. — Пока мы здесь открываем гробницу фараона, вы хотите получить возможность спокойно работать в Саккаре. — Именно так На следующей неделе в Каир прибывает команда археологов из Оксфорда. Лично министр внутренних дел добился получения лицензии. Руководитель раскопок, профессор Винбери, составил карту, на которой обозначены все проводимые ранее в Саккаре раскопки, при этом он обнаружил площадку размером не более футбольного поля, на которой по неизвестной причине никогда ранее раскопки не проводились. — Звучит неплохо. — Я прошу сохранить сказанное в тайне. Об истинной цели предприятия знает лишь Винбери. Даже его команда не знает, что конкретно они будут искать. — Потрясающе, великолепно, — согласился лорд. Картер же, наоборот, пробормотал нечто о глупости и беспомощности и, наконец, сказал: — Открытие нельзя сделать вдруг, его вероятность должна расти постепенно, а рост требует удобрений. Удобрения археологического открытия — это информация, информация и еще раз информация. Я никогда не нашел бы гробницу Тутанхамона, если бы не располагал сведениями, к которым никто прежде не получал доступа. В Долине Царей до сих пор существует множество мест, где никогда не велись раскопки, и не имеет смысла копать там лишь потому, что ранее этого никто не делал. Но это мое личное мнение. Леди Доусон ответила на высказывание археолога лишь небрежным жестом и спросила, обращаясь к лорду Карнарвону: — Сколько времени, по вашим расчетам, потребуется для того, чтобы открыть и оценить содержимое гробницы? — Послушайте, леди, — грубо прервал ее Картер, — мы (да, он сказал именно «мы») совершили открытие, которое, возможно, — я говорю, возможно, — подарит миру уникальнейшие сокровища из всех когда-либо найденных. И вы спрашиваете, сколько времени понадобится на то, чтобы извлечь их. — Он ударил ладонью по столу. — Три тысячи лет фараон покоится в гробнице, а вы хотите составить расписание его поднятия. Это абсурд с точки зрения науки. Эта гробница — мое открытие (он сказал «мое»), и я буду решать, сколько времени потратить на ее исследование! — Он вскочил, вышел из салона и, встав у релинга, устремил взгляд в темноту. Шторм стих, легкими шагами к нему приблизилась Эвелин. Она положила руку на его плечо и успокаивающе проговорила: — Я понимаю твое волнение, Говард, но люди из секретной службы — невежды. Не принимай этого так близко к сердцу. — Они злы, высокомерны и глупы, — выпалил Картер, схватив Эвелин за руку. — Но они еще узнают меня. В этот момент подошел Карнарвон. Лицо его выражало беспокойство, но скорее не о том, что его дочь окажется в опасной близости к археологу, а о состоянии последнего. — Картер, — сказал он примирительно, — вы правы, но дело Имхотепа имеет национальное значение, по крайней мере по мнению правительства его величества, и мне кажется, было бы ошибочно вступить в конфликт с военным министром. Быть может, он когда-нибудь поможет нам в наших поисках. В жизни бывают моменты, когда умнее сдаться, нежели настаивать на своих нравах. Думаю, вам следует обдумать все еще раз, пока дело не дошло до скандала. Эвелин взяла Картера за руку и, не дожидаясь ответа, повела в салон. Картер сел, полистал свои бумаги и осведомился, не глядя на окружающих: — Так что вам от меня нужно? — Поймите меня правильно, — ответила леди, — секретная служба правительства его величества ни в коей мере не стремится принизить ваши заслуги. Мы бы хотели от вас одного: чтобы вы согласовали с нами планируемые сроки проведения работ, то есть мы были бы очень обязаны вам, если бы вы учли наши пожелания. Прежде чем Картер успел ответить, лорд Карнарвон выразил согласие. С берега раздались крики. Пинкок вышел посмотреть, в чем дело. Вернулся он бледный как мел. — Лодка исчезла. Боюсь, она затонула. — А что с Курсье? — взволнованно спросила леди. Пинкок пожал плечами.Коран, 5 сура (39, 40)
Теперь его звали Хафиз эль-Гафар, на нем была аккуратная европейская одежда, усики, делавшие его существенно старше и придававшие элегантности. Однако можно сменить имя, одежду и даже взгляды, но человек всегда останется самим собой. Омара охватила тоска, когда он сошел с корабля в Александрии, откуда несколько месяцев назад бежал вместе с Халимой, мечтая начать новую, счастливую жизнь. И что теперь? Он был бесконечно несчастен, неся в себе злобу обманутого человека, чувство, с которым ни один мужчина не в состоянии справиться, по крайней мере не так быстро. В поезде, везшем его в Каир, Омар ехал первым классом, как это и подобало человеку его внешности, — в конце концов, барон фон Ностиц-Вальнитц снабдил его необходимым количеством средств. Впервые он заметил, что Египет — страна богатая. В поезде ехали торговцы и служащие, мудиры и назиры с богато одетыми женами. Все они не имели ничего общего с людьми из задних вагонов, в которых до сих пор путешествовал и Омар. Как и всегда, нуждаясь в совете, Омар первым делом вспомнил о микассе. Конечно, тот с пренебрежением воспринял его любовь к Халиме, и они даже повздорили, но все же инвалид остался единственным человеком, которому Омар мог слепо доверять. Омар прибыл ночью и снял номер в «Мена Хаус». Несмотря на то что прошло уже двадцать лет, Омар вспомнил, как когда-то, будучи ребенком, был выгнан из богатого отеля. Утром взгляд его упал на караван-сарай, где старый Мусса учил его пользоваться набутом и объяснял, что он символизирует мужскую силу. Хижины остались прежними, но теперь из них выходили другие люди. Исключением был Хасан. Безногий инвалид был древним стариком все те годы, которые Омар помнил его, и, соответственно, сейчас должен был еще больше состариться. Так что на фоне воображаемого образа он показался даже помолодевшим. Их встреча была теплой, спор забыт, и Омар принялся рассказывать обо всем происшедшем. — Разве я тебе не говорил? — вздохнул микасса, сощурив правый глаз, видевший явно лучше другого. — Но ты не хотел верить старому инвалиду. — И он дружески пихнул Омара в бок. — Самое ужасное, — продолжил тот, — что я все еще люблю ее, и если она завтра вернется и скажет… — Ты с ума сошел! — гневно воскликнул микасса. — Ты действительно сошел с ума. Женщина вроде нее заслуживает кнута! Тебе бы следовало отвести ее в пустыню, чтобы она погибла там. Глупец! — Чтобы сменить тему, Хасан внимательно осмотрел костюм Омара: — Ты стал настоящим Саидом, мой мальчик. Кто бы мог подумать! Я должен быть счастлив, что ты вообще снисходишь до беседы с бедным старым микассой. Тогда Омар отвел старика в сторону и рассказал об истинной причине своего возвращения в Египет, о том, что путешествует он с поддельными документами на имя Хафиза эль-Гафара, боясь мести аль-Хуссейна и его людей, и попросил не выдавать его во имя Аллаха Всемилостивого. Основной его целью был поиск профессора Хартфилда, потому что, найдя Хартфилда, он надеялся продвинуться в разгадке тайны. Омар рассказал о своей поездке в Лондон и неожиданном открытии относительно пропавшего в Луксоре журналиста Вильяма Карлайля, состоявшего в связи с племянницей Хартфилда, носившей мужские брюки и постоянно курившей. Микасса напряженно думал. — Мужские брюки, курит как паровоз? И она стройная, и у нее светло-рыжие волосы? — Да, — ответил Омар. — А этот Карлайль? Невзрачный, повыше нее, с высоким лбом? — Да, откуда ты знаешь? — Они были здесь. Здесь, в отеле «Мена Хаус». Я хорошо помню. Они вели себя, будто только что признались в любви друг другу, держались за руки и миловались, как ласточки по весне. При этом дама-то в годах. Я бы сказал, ей за пятьдесят. — Когда это было? — Омар наклонился и схватил Хасана за плечо. — Еще что-нибудь тебе запомнилось? — Дорогая обувь, — кивнул Хасан. — На обоих — прекрасная кожаная обувь, кожамолодого теленка, британского производства, старая, но очень хорошо сохранившаяся. Прекрасные люди! — То есть ты не мог бы представить себе, что они убили профессора, чтобы получить огромное наследство? — Исключено. — Почему же? — Хартфилд жив. — Откуда ты можешь знать это? — Я скажу тебе, мой мальчик. Так, как запоминаются мне люди в хорошей обуви, хозяева старой и изношенной также не остаются не замеченными мною. Когда же люди в хорошей обуви встречаются с людьми в плохой, это вызывает мое любопытство, потому что обычно хорошие туфли живут среди хороших, плохие же среди плохих. — Не мог бы ты выражаться несколько яснее? — Так вот, однажды в отеле появилась мрачная личность, мужчина в поношенном костюме. Он как-то не подходил к собственной одежде, и любому было ясно по его движениям, насколько неловко он себя чувствовал. И тут я увидел его туфли и сразу все понял: на нем были сделанные вручную сандалии из дешевой кожи, рисунок на этой коже был в виде креста в круге, как буква «х» в алфавите неверных, а это символ монахов Сиди Салима. Я понял, что мужчина — переодетый монах, и, конечно, заинтересовался им. В зале отеля он встретился с госпожой и господином в хороших туфлях из Англии. Хорошие люди не отказываются от услуг чистильщика обуви, так что я спросил господина, могу ли служить ему. Хорошая работа требует времени, так что я стал свидетелем интересного разговора, из которого мог заключить, что профессор Хартфилд где-то скрывается, раскрыть его местонахождение мужчина отказывался. Конечно, англичане не знали, что разговаривают с монахом. Видимо, Хартфилду понадобились какие-то документы, которые и были переданы посланнику, скорее всего, в надежде напасть на след профессора. Но монах все предусмотрел. Он извинился, сказав, что ему нужен телефон, и направился к телефонной будке в холле отеля. Одна подробность была известна ему, не будучи известна иностранцам: в будке два входа, спереди и сзади. И он исчез через вторую дверь. Омар, с удивлением слушавший рассказ микассы, нерешительно спросил, будто боясь, что угадал ответ: — Но ты же знал, откуда монах. Ты сказал об этом англичанам? — Зачем мне это было делать? — почесал лоб Хасан. — У хороших людей есть плохая привычка платить лишь за то, что от них требуется. Понятие бакшиша им неведомо. А если не наградишь чистильщика обуви, не рассчитывай на то, что он поможет тебе. Ma’alesch. — Но ведь Карлайль и миссис Дунс наверняка не сдались просто так! — Да что ты! Две недели они искали посланника с папкой! Но могли бы искать и еще две, не найдя и следа! Они ведь не знали, что это один из монахов скал. Я получил огромное удовольствие! — Да ты сам дьявол! — засмеялся Омар. — Но ты мне оказал огромную помощь. И ты уверен, что они не нашли монастырь в скалах? — Как бы им это удалось? У них не было никаких сведений. Через две недели, полностью вымотанные, они уехали. — С этими словами Хасан свернулся в клубок. Вокруг Хартфилда все сгущались тайны. Во имя Аллаха Всемогущего, что могло связывать профессора Хартфилда с монахами Сиди Салима? В отеле, возле ящика с ключами, висела карта северного Египта. Сиди Салим был обозначен маленьким треугольником. К удивлению Омара, неподалеку от монастыря Сиди Салим находилось местечко под названием Рашид, где Хартфилд нашел важнейший фрагмент плиты, содержавшей указание на местонахождение гробницы Имхотепа. Казалось, здесь была какая-то связь. — Ты дурак, — сказал Хасан, взглянув в задумчивое лицо Омара, — ты впутался в дело, о котором лучше бы тебе забыть. Это химера, игра воображения европейцев. Будто бы древние египтяне обладали знаниями, не известными нам теперь. Это, — говорил микасса, указывая на шикарный автомобиль, остановившийся перед входом в отель, — это новое время, это одно из величайших изобретений человечества. Или ты рассчитываешь найти нечто подобное в гробнице Имхотепа? — О, нет, — ответил Омар, — думаю, содержимое гробницы куда значительнее, нежели этот автомобиль. Хочешь пойти со мной? — Я? Куда? — В Сиди Салим к монахам скал. — Избавь меня Аллах от безумия! — воскликнул инвалид. — Сиди Салим, сын мой, находится более чем в ста милях отсюда, где-то в бесконечной дельте. Я лишь раз в жизни покидал Гизу, мне тогда и двадцати лет не было, я хотел поехать в Бену, на верблюжьи бега, но доехал лишь до Каира. На вокзале была такая давка, что я упал на рельсы под колеса приближавшегося поезда. Теперь ты знаешь, как это со мной случилось. — И он указал на то, что осталось от его ног. — И мне ехать с тобой в Сиди Салим? Нет, старого инвалида вроде меня ты отсюда не выманишь. Даже обещание Омара взять напрокат автомобиль — а Хасан еще никогда не ездил на подобном транспорте — не подействовало. Должен ли был Омар отважиться в одиночку отправиться на поиски монастыря? Он даже предположить не мог, что его могло ждать там. Можно было не сомневаться, что переодевающиеся и исчезающие через задние двери монахи обрадуются посещению незнакомца. С другой стороны, довериться Омару было некому. И если он хотел продолжать поиски, нужно было отправляться в Сиди Салим.
Если человек вроде Эмиля Туссена, которого ничто не могло задеть настолько, чтобы заставить отложить в сторону свою трубку, вдруг начинает курить черные сигареты, это можно считать недвусмысленным симптомом его состояния. Но в полной мере это почувствовали лишь члены его команды. Изначально Туссен считал, что именно британцы стояли за катастрофой в гробнице Нефера, он же слишком беспечно подошел к выполнению операции. Полностью раскритиковав собственные действия, он перешел к разбору действий Дезьем бюро, чьей, собственно, задачей и было сокрытие работы собственных агентов от секретных служб стран-соперниц. И в этом его поддержал консул Сакс-Виллат. Таким образом, на некоторое время французы оставили свою истинную миссию — поиски Имхотепа, занявшись поисками потенциальных противников. Требование Туссена прислать на место еще двух секретных агентов было мгновенно удовлетворено, но их прибытие в Александрию стало причиной новых беспокойств. Они везли с собой результаты экспертизы плана, найденного рядом с телом Курсье, свидетельствовавшие о том, что план был подделкой, бумага изготовлена не более десяти лет назад и, по всей видимости, имела британское происхождение. Встал вопрос, чего добивались британцы этой акцией. Была ли это просто попытка отвлечь их от работы? Или решение, вызванное разочарованием, связанным с тем, что сами британцы не могли продвинуться в расследовании? Или, напротив, у них были сведения о местонахождении гробницы Имхотепа и французы мешали им действовать? Из двух возможностей агенты, подобные Туссену, всегда останавливаются на худшей, таким образом, было созвано экстренное совещание в Александрии, на котором должен был быть разработан дальнейший план. Прежде всего речь шла о том, как завладеть доступной британцам информацией. Казалось, даже в центральном офисе Дезьем бюро о деятельности британцев знали больше, нежели агенты на месте: после расшифровки полученной из Парижа телеграммы Туссен и Сакс-Виллат узнали о том, что лодка леди Доусон была центром работы британской секретной службы в Египте, владелица же руководила операцией. Мониак и Мальро, вновь прибывшие агенты, молодые, неопытные парни, один из которых был похож на гориллу, другой же худ как жердь, так что их совместное появление не могло остаться незамеченным, вызвались потопить лодку с помощью тактики, разработанной во время войны. Консул Сакс-Виллат отклонил предложение. Потопленная лодка не принесет французам большой выгоды. Речь шла о том, чтобы заполучить информацию, имевшуюся у британских агентов, а для этого нужно было либо заслать собственного агента в штат врага, либо найти того, кто, работая на британцев, выдаст их секреты. Сообщение о том, что лорд Карнарвон и его археолог Картер обнаружили в Долине Царей нетронутую гробницу фараона, было встречено скептически. Миллекан считал, что это возможно; Туссен же видел в этом один из способов пустить пыль в глаза. Все газеты пестрели сообщениями об открытии, с тех пор как появилась роскошно оформленная статья в «Таймс», но до сих пор никто не знал, что скрывается за запечатанной стеной, не было названо и даты, когда будет открыта гробница. Это само по себе свидетельствует о сомнительности заявления, считал д’Ормессон, он по крайней мере не мог себе представить, чтобы археолог, сделав столь великое открытие, ждал и терпеливо рассылал приглашения на открытие. Во время прений раздался звонок субмудир из Куса, провинциального городка, расположенного в пятидесяти километрах ниже по течению Нила от Луксора, сообщал о том, что бедняки вытащили из воды тело француза, имя которого, судя по документам, — Эдуард Курсье. Первой реакцией Сакс-Виллата было усомниться в заявлении: это невозможно, скорее всего, речь шла о какой-то ошибке. На вопрос субмудира, где проживает Курсье в том случае, если тот жив, и не пропадали ли его документы, Сакс-Виллат был вынужден признать, что тот действительно исчез две недели назад. Подробностей он сообщать не стал. Однако когда субмудир описал труп, упомянув шрам на щеке, Сакс-Виллат побледнел. Присутствующие отказывались верить словам консула, и действительно, сложно было поверить, что некто, выбравшись из-под обрушившегося на него свода гробницы, мог проплыть шестьдесят километров вверх по течению Нила, пока не утонул. Профессор Миллекан, до сих пор наиболее спокойный во всей разношерстной команде, которого не волновало ничто кроме науки, сорвал очки с переносицы, недоверчиво протер глаза и изрыгнул проклятия, так же недостойные человека его круга, как грех сладострастия священника. Миллекан назвал происходящее цирком и несколько раз повторил, что сожалеет, что принял участие в операции, и отказывается работать далее, пока загадочные обстоятельства смерти Эдуарда Курсье не будут выяснены. Вечером того же дня Сакс-Виллат и Туссен отправились в Луксор, куда доставили тело Курсье. В подвале больницы доктора Мансура они опознали бывшего коллегу.
В Луксоре и шага нельзя было ступить, не наткнувшись на журналиста. Повсеместно царили суета и возбуждение, отели были забиты, а места на паромах на противоположный берег Нила выкуплены на несколько дней вперед, если желающие, конечно, не готовы были дать бакшиш. Лорд Карнарвон ежедневно давал пресс-конференции в отеле «Зимний дворец», не сообщая ничего принципиально нового. Для облегчения передвижения он приобрел американский автомобиль «форд», черный, как и все автомобили этой марки. Говард Картер днем и ночью находился под охраной, лорд предоставил ему телохранителя, чтобы отвадить от него назойливых журналистов, потому что Карнарвон продал эксклюзивное право публикации результатов его раскопок газете «Таймс», с главным редактором которой его связывала давняя дружба. Успех может сделать друзей даже из противников. Лорд Карнарвон и Говард Картер в последние дни как никогда были во всем согласны друг с другом, лишь любовь Картера к Эвелин оставалась для них табу. Леди Доусон назвала дату открытия гробницы — 29 ноября, до тех пор в Египет должна была прибыть группа агентов британской секретной службы в составе двенадцати человек, руководимая Джеффри Доддсом, и начать масштабную акцию по поискам Имхотепа. Ни Карнарвон, ни Картер не отличались самообладанием, чтобы хладнокровно ожидать наступления торжественного момента. После того как дата была назначена и приглашения разосланы, а событие объявлено событием столетия, обоих охватили сомнения. Ведь гробница могла быть разграблена еще в древности, а затем вновь запечатана. Тогда их ждет фиаско. Эта мысль возникла, когда Картер справа от собственно гробницы обнаружил замурованное отверстие. Тем временем прибыл Пеки Календер, британский археолог, работавший южнее и состоявший с Картером в дружеских отношениях (если с человеком вроде Картера вообще можно состоять в дружеских отношениях). После продолжительного обсуждения они решили расширить проход, ведший к гробнице, чтобы попытаться проникнуть в нее через какую-нибудь дыру в стене. Долина Царей была закрыта, и благодаря этому их намерение не вызвало подозрений. Картер и Календер отгребли мусор в сторону справа от двери и примерно через два метра обнаружили замурованное отверстие. Надежда почти оставила их. Значит, все же неудача! Значит, гробница уже была открыта, но расхитители избрали не прямой путь через дверь, а проникли через боковую стену, чтобы содеянное ими осталось незамеченным. Готовый расплакаться, Картер в невыразимом гневе ударил ломом в стену. Вскоре неплотно сложенные камни поддались. Календер помог очистить проход, позволявший проползти под стеной. Первым полз Картер, толкавший перед собой лампу. Вскоре он вернулся, но на вопросы ничего ответить не смог. Он казался оглушенным и лишь указывал на проход, говоря, что они сами должны взглянуть на это. Лорд Карнарвон первым последовал его совету, затем Эвелин, последними в проход полезли Календер и Картер. Единственная лампа отбрасывала загадочные тени на стены помещения размером примерно четыре на восемь метров, заставленного фигурами, ларцами и прочей утварью. Слева лежали части двух позолоченных тележек, справа стояли две фигуры стражей в человеческий рост со стеклянными глазами, вооруженные копьями, выполненные настолько реалистично, что незваные гости даже испугались. Напротив — ящики, ящички, ларцы, шкатулки, узлы тканей и кувшины, отделанные с невероятным мастерством. Пахло сухой пылью, и при каждом шаге поднималось такое ее количество, что вскоре стало трудно дышать. Сколько тысячелетий эта пыль и этот воздух не знали движения? Сколько тысячелетий не видели эти стены света? Сколько тысячелетий прошло с тех пор, как в последний раз человек ступал на эту священную землю? Никто не отваживался вымолвить ни слова. Ни Картер, ни лорд Карнарвон, ни Календер, ни Эвелин, чье обычно столь решительное щебетание всегда поддерживало Картера. Они чувствовали себя проникшими в недозволенное. Глядя на сокровища, которыми верующий народ снабдил смертного фараона, провожая его в последний путь, Картер пытался привести свои мысли в порядок. Конечно, это была только первая камера на пути к гробнице. Где же находилась камера с саркофагом царя? Карнарвон и Эвелин почтительно покинули гробницу. Хладнокровный лорд был взволнован, дочь жалась к отцу. Она дрожала, с одной стороны, из-за ночной ноябрьской прохлады, с другой — от возбуждения. После того как Календер и Картер также покинули гробницу, все четверо обнялись. Картер целовал Эвелин со страстью, не свойственной скромному археологу, и даже лорд Карнарвон не возражал. Ранним утром, когда над Долиной зазвучали крики коршунов, стена вновь была замурована и завалена камнями и мусором. И четыре человека поклялись друг другу никогда в жизни никому ни слова не говорить о происшедшем за последние несколько часов.
Омар пренебрег предостережениями микассы. Несмотря на то что скальный монастырь Сиди Салим находился в удалении от населенных людьми пространств, о монахах ходили всякие слухи, и путь туда был связан со множеством опасностей Но Омар должен был выяснить, что же произошло с Хартфилдом. По пути, сначала по железной дороге до Даманура, ему на память пришло письмо, обнаруженное на теле миссис Хартфилд и подписанное «К», что свидетельствовало о том, что она была знакома с «К». Быть может, за инициалом скрывался Вильям Карлайль? Но это значило, особенно принимая во внимание записку, оставленную им в отеле, что Карлайль имел виды не только на племянницу профессора, но и на Имхотепа. Быть может, его связь с Амалией Дунс была лишь предлогом, чтобы подобраться к Хартфилду? Омару трудно было представить себе, что может заинтересовать мужчину в носящей мужские брюки и курящей как паровоз суфражистке. Если говорить правду, он вообще не мог себе представить, как мужчина может полюбить женщину, не выглядящую, как Халима. Но об этом он старался не вспоминать. И еще об одном думал он, сидя в поезде, пересекавшем бесконечную дельту Нила в северном направлении: разве Амалия Дунс не говорила ему во время их встречи, что профессор является ей в черной рясе? Во имя Аллаха Всемилостивого, пути Господни неисповедимы. В Дамануре Омар вышел, купил незаметную одежду рабочего и еду на три дня. На единственном автомобиле города он отправился в Дисук, маленький городок, расположенный в двадцати пяти километрах на левом рукаве дельты Нила, не тронутый временем. Ночь он провел в отеле «Эль-Шафти», откуда Омар послал телеграмму барону фон Ностиц-Вальнитцу, в которой сообщал, что находится примерно в ста километрах восточнее Александрии и направляется в Сиди Салим, где надеется найти профессора Хартфилда. Отель скорее походил на караван-сарай, постояльцы, в большинстве своем торговцы из Каира и Александрии, предавались развлечениям с греческими девушками, которые, бог знает по какой причине, во множестве предлагали свои услуги. Омару не составило труда влиться в компанию, он беседовал с окружающими, смеялся над непристойностями, пил дешевую местную водку, которая развязывала язык, как дождь растворяет необожженный кирпич из грязи Нила. Таким образом Омар завязал беседу с владельцами «Эль-Шафти», двумя лысыми жизнерадостными мужчинами. Как только они узнали о цели путешествия Омара, их лица потемнели. Намерение незнакомца, казалось, обеспокоило их, на их лицах отразился страх, когда Омар упомянул монастырь Сиди Салим. К своему удивлению, он узнал, что коптские монахи Сиди Салима ненавидят всех людей, как огонь воду. Регулярно черные монахи пытаются истребить жителей одноименной деревушки Сиди Салим. Они использовали как современное оружие, так и древние заклятия и яды, чьи рецепты хранятся в катакомбах, глубоко под землей. Больше никто ничего не знал, потому что никто никогда не был в монастыре, а те, кто отваживался на это, платили за смелость жизнью. Монастырь Сиди Салим буквально излучал ужас и зло, и Омару понадобилось немало усилий на то, чтобы найти человека, который бы отвез его на осле в эту проклятую землю. Наконец, старик, пивший чай в дальнем углу ресторана и куривший кальян со странным ароматом, вызвался за десять египетских фунтов отвезти незнакомца до того места, где дорога раздваивается: западный путь ведет в Рашид, восточный — в Сиди Салим. Старика звали Али, он не боялся ни смерти, ни дьявола и был хитер, скуп и продажен (о чем свидетельствовала заломленная им цена), но он также был и единственным, кто согласился выполнить то, что требовалось Омару. Конечно, мужчины в отеле не скупились на предостережения, более же всего их интересовала причина, по которой молодой человек добровольно отправляется в такое путешествие. Английский профессор был последним предпринявшим подобную попытку из Фувы, что ниже по течению. Он исчез и больше не возвращался. Когда это случилось, как — никто не знал. Было это год или два назад. Неожиданное указание на местонахождение Хартфилда так взволновало Омара, что он был готов отправиться тем же вечером. Но старик отказался, сказав, что сейчас ему нужно поспать, и протянул руку. Она была изуродована, то есть на ней были только указательный и большой пальцы. Как позже узнал Омар, причиной тому был обычай начала века отрубать ворам палец, грабителям — руку. Потирая пальцами друг о друга, Али настойчиво давал понять, что нуждается в задатке. Омар дал ему пять фунтов, старик склонился перед щедрым Саидом и обещал быть перед отелем на рассвете. Всю ночь Омар провел, не раздеваясь, лежа на кровати, прислушиваясь к незнакомым звукам, издаваемым пустыней. Ни у одной из комнат не было ключа, иначе говоря, единственным ключом запирались все двери, что, казалось, не мешало постояльцам. Впрочем, даже за запертой дверью Омар не смог бы уснуть, настолько сильно он был взволнован мыслями о том, что его ожидает. Неподалеку отсюда могла лежать разгадка тайны, поисками которой занимаются секретные службы всего мира. Однако то, что во главе заговора стояли коптские монахи, приводило Омара в растерянность. С первым криком петуха Омар поднялся, собрал вещи и спустился по скрипучей лестнице. Издалека послышался стук двухколесной тележки, по возрасту чуть не превосходившей своего хозяина и издававшей жалобные звуки. От нее исходила дикая вонь, потому что обычным грузом в ней были клетки с курами по дороге на базар. Старик молчал, сидя на своем месте, лишь иногда трогал поводья. Взгляд его был устремлен за горизонт. Так они ехали в течение двух часов на север, иногда по проторенным дорогам, иногда по земле, на которой не видно было следов, чтобы сократить путь, как вскоре понял Омар. Старик ориентировался по солнцу, чей свет едва сочился сквозь мутный воздух, смесь пыли и влаги. Поселения давно исчезли. Местность была безлюдной, мертвыми были даже немногочисленные побеги. И здесь ютятся люди? Становилось все жарче, ни дуновения ветерка не чувствовалось среди этой духоты. На дне повозки лежал бурдюк из козьей кожи, какие пастухи используют для хранения воды. Время от времени старик делал глоток, всегда только один, но такой большой, что ему приходилось надувать щеки, как лягушке. Внезапно — они ехали уже около трех часов — Али заговорил, указав на восток, где на горизонте появилась цепь холмов; он сказал, что их путь лежит в ту сторону и половину они уже проехали. Затем вновь воцарилась гробовая тишина, и прошло не менее часа, прежде чем погонщик вновь обрел дар речи. Сощурив глаза, он взглянул через правое плечо на юг, где небо начинало темнеть, и промолвил: «Хамсин», что могло означать «пятьдесят», но одновременно и ветер, который с особой силой бушевал в течение пятидесяти дней после того, как ночь сравняется с днем, но также и в осенние дни, такие, какие стояли теперь. Омар знал, насколько может быть опасен хамсин для тех, кто не успел укрыться от песчаной бури, и огляделся, но здесь негде было спрятаться. Возвращаться же было бесполезно, главным образом потому, что они бы двигались тогда навстречу ветру. Значит, необходимо было достичь холмов на востоке. Омар крикнул, понукая осла, затем вырвал у Али кнут и стегнул осла по спине, так что тот подпрыгнул и ускорил бег. Это не понравилось погонщику, он попытался отнять у Омара кнут, продемонстрировав недюжинную силу, и закричал, что осел может встать и дальше его идти тогда не заставишь. Таким образом, дошло до драки, Али выхватил из складки одежды нож и метнулся в сторону Омара, задев его левую руку, так что на рукаве показалась кровь. Омар, испугавшись, что старик убьет его, схватил вещи и спрыгнул с тележки. Будто только этого и ждал, погонщик развернулся, обогнув Омара по широкой дуге, и поехал в обратном направлении. Издалека еще некоторое время доносились его проклятия. Омар посмотрел на рану на левом предплечье. Нож проник достаточно глубоко в руку. Чтобы остановить кровь, он разорвал рукав и обернул рану тканью. Затем оглянулся, беспомощно осмотрев местность, и решил двигаться в сторону холмов, где должен был находиться монастырь. Он был рад избавиться от странного старика и не сомневался, что достигнет цели и без его помощи. Единственное, о чем Омар не подумал, была жажда, которая мучила его все больше и больше. Еще около часа он продолжал видеть Али — беспокойную темную точку в бесконечном просторе пустыни, затем тот исчез, будто испарился. В тот же момент в воздухе началось движение, сначала незаметное, затем охладившее пот на спине, и, наконец, ветер начал поднимать облачка пыли. Омар побежал к скалам, в которых надеялся укрыться и которые лежали перед ним. Не останавливаясь ни на минуту, Омар спешил на восток. Губы его слипались, на зубах скрипел песок. Глаза начали слезиться, так что пустыня перед ним расплывалась, как отражение в луже. Только не сдаваться, стучало у него в голове, которая все больше тяжелела. В такие моменты Омар начинал сомневаться в себе, сомневаться, действительно ли он достаточно силен, чтобы побороть обстоятельства и справиться, не завез ли его старик в ложном направлении и не ожидают ли Омара его сообщники. Слишком молчаливым показался ему Али, и опасения людей из отеля подтверждались. Но теперь было поздно, дороги назад не было. Дыхание его стало громким, Омар кричал и ругался в гневе. Это помогло. Во время строительства железной дороги он попадал в худшие ситуации, и мысль об этом прибавила сил. Но их хватило не более чем на пару сотен метров. Омар выплевывал песок изо рта. В груди кололо, беспомощность заставила усомниться, сможет ли он достичь цели. Серо-черное небо и все сгущавшиеся облака пыли закрывали обзор и скрывали цель; в какой-то момент Омар испугался, поняв, что не знает, в каком направлении идти, — холмы и скалы исчезли. Тучи носились над землей и издавали звук, похожий на кипение воды. Что делать? Омар побежал дальше в том направлении, где, как ему казалось, была его цель. Ветер усилился, срывая с него одежду. Только не теперь, не так близко к цели. Дышать было трудно. Омару казалось, что он вдыхает больше песка, чем воздуха, он кашлял, плевался и пытался втянуть голову в плечи, чтобы уменьшить сопротивление ветра, сверток с вещами он прижимал к груди. Омар чувствовал, как покраснело его лицо под ударами миллионов песчинок. Ребенком, у пирамид Гизы, ему нравилось закрывать глаза и ощущать покалывание песка, несомого ветром: это было похоже на освежающие потоки воды. Теперь же, заблудившись, он впал в отчаяние от мысли, что, обессилев, упадет и будет занесен песком, как миссис Хартфилд. При этом было абсолютно ясно, что цель его где-то рядом. Песок стал глубоким, как у подножия блуждающих дюн или с той стороны улицы, что обращена от ветра. Но как ни всматривался Омар в темноту в надежде разглядеть подъем почвы, он ничего не видел. В отчаянии и полностью обессилев, он опустился на колени и согнулся, решив, что так будет проще противостоять хамсину. Старый Мусса, сын пустыни, знавший камни и цветы по именам, всегда учил не относиться к пустыне высокомерно. Пустыня, говорил Мусса, как божество, а боги требуют покорности. Омар невольно вспомнил слова своего приемного отца, ему казалось, он слышит этот низкий голос. Ya salaam! он действительно слышал голоса, подпевавшие хамсину. Омар затаил дыхание, решив, что это мираж — невнятное, прерываемое пение доносилось до него. Омар попытался встать на ноги и идти по направлению к звукам, борясь с ветром. Но откуда они доносились? Он не мог с точностью сказать этого и решил идти направо. Однако уже через пару шагов он засомневался, не ходит ли уже некоторое время по кругу. И в тот момент, когда он собрался было вновь опуститься на землю, буря внезапно приоткрыла завесу темноты, солнечный луч прорвался сквозь туман, как сверкающий меч, и осветил руины, по которым хамсин гонял песок. Сиди Салим! Чем еще, как не монастырем могли быть эти заброшенные осколки цивилизации? Видение было близко, но, прежде чем Омар успел сделать шаг в его сторону, оно исчезло. Лишь пение было слышно в темноте. Но теперь, казалось, оно раздавалось с другой стороны. Омар рвался вперед, не опуская глаз. Внезапно он оказался перед воротами, которые никуда не вели. За ними также бушевала песчаная буря. Справа от руин Омар разглядел стену или, скорее, остатки стены, местами доходившей до колен, местами высотой в несколько метров; странно извиваясь, она уходила вдаль. За ней Омар укрылся от ветра и попытался сориентироваться. Здесь были и другие арки. Казалось, многие столетия назад люди оставили этот город в пустыне. Поодаль стена поворачивала направо и подходила к строению с дверью и окнами, похожему на другие в этой местности. Омар, прячась за стеной, подполз к нему и вошел: он был окружен стенами, но крыши не было. Все же это была лучшая защита от песка, и Омар решил отдохнуть, забившись в угол. Омар устал до смерти, чувствовал себя измотанным и побитым, его рука болела. Некоторое время он продремал, пока странное пение не вернуло его к реальности. Отверстие в полу, закрытое решеткой, действовало как рупор. Омар приблизился к нему на четвереньках, но в глубине не сумел ничего разглядеть. До него донеслись крики боли, хор вновь и вновь прерывали звуки, похожие на удары бичом. Невольно Омар оглянулся в поисках входа в подземный мир, однако ничего не увидел и решил обойти жилище, откуда неслись звуки. И только он собирался выйти тем же путем, как вошел, но услышал под ногами эхо, свидетельствовавшее о том, что под одной из плит пола была пустота. Внимательно обследовав плиту, он пришел к поразительному открытию: двухметровая плита толщиной не более двух пальцев находилась в состоянии равновесия, и как только он наступал на один из ее краев, другой медленно поднимался. Его край опускался примерно до уровня колен, металлическая жердь не давала ему подняться вновь. Вниз вела крутая узкая лестница, вырубленная в скале. Быстрый спуск или подъем был бы здесь невозможен. У Омара были некоторые сомнения по поводу проникновения в подземный лабиринт, даже больше — войти туда было бы откровенной глупостью. Но что-то притягивало его как магнит, нечто, заглушавшее доводы разума. Внизу лестницы находился зал со сводами и тремя колоннами, на которых висели масляные лампы, распространявшие тусклый свет. Помещение было пусто, если не считать нескольких кувшинов, занимавших правую сторону зала и наполненных водой, водой из цистерны, чье заложенное камнем отверстие можно было различить в полу. В зале было душно, в воздухе витал сладковатый запах, внушавший отвращение. Омар пересек зал на звуки пения, ставшего теперь еще громче. Певцов должно было быть около полудюжины, не больше, но незнакомый Омару язык звучал громко и страстно. Казалось, монахи используют сводчатые помещения в качестве резонатора. В противоположной стене комнаты были две двери или, скорее, два прохода, потому что здесь, внизу, дверей не было. Правый проем вел в темный коридор, из которого не доносилось ни звука, правый — к следующей лестнице. Она вела вниз, была широкой и удобной и выложена светлыми плитами. Внизу было вытянутое помещение, похожее на неф христианской церкви, чей свод покоится на колоннах. Справа и слева от центрального прохода стояли длинные столы со скамьями из необработанного дерева. Места хватило бы человек на пятьдесят, может быть, больше. На стенах Омар увидел изображения святых, частично закопченные и облупившиеся, выполненные в приглушенных тонах. Песня становилась все слышнее, так же как резкие команды, свист бичей и крики боли. Во имя Аллаха Милосердного, это называлось монастырем? До сих пор Омар не встретил ни одного человека, и это придавало ситуации еще большую таинственность. На мгновение он в нерешительности укрылся за одной из колонн, затем все же смело направился к боковому порталу, откуда проникал свет. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. В широком освещенном проходе, вдоль которого тянулись отгороженные решетками камеры, стоял бородатый, одетый в черное монах с кнутом. Вокруг него с пением танцевало около дюжины жалких бритых существ, некоторые совсем обнаженные, некоторые полуголые, их животы раздулись, как у голодных детей, которых Омар видел на Синае. Как выдрессированные звери, они, двигаясь по кругу, читали молитву, мысли же их были где-то далеко. Безумные! — пронеслось в голове Омара. Их лица и вправду светились безумием. Когда же один из них по какой-либо причине пытался напасть на соседа, монах стегал его кнутом, и тогда они визжали и извивались. Омар, захваченный этим зрелищем, скорее похожим на бред, стоял, будто окаменев, в дверях и не двинулся с места даже тогда, когда монах с кнутом взглянул на него. Монах испугался больше, чем Омар: казалось, он не верит собственным глазам, считая Омара призраком. Не обращая более внимания на поющих, он приблизился к Омару с протянутой рукой, будто с помощью прикосновения хотел убедиться, что перед ним не мираж. Омар кивнул, желая продемонстрировать таким образом свои дружеские намерения, что ему не удалось. Монах испуганно замер и поднял кнут, приготовившись к обороне. Успокоился он, только заметив спокойствие Омара. — Кто ты, незнакомец? — спросил он подчеркнуто вежливо, будто желая умилостивить злобного гостя. — Меня зовут Хафиз эль-Гафар, — ответил Омар громко, чтобы перекричать молитвенное пение. И будто невидимый дирижер взмахнул палочкой, безумные смолкли, уставившись на пришельца удивленными глазами. В их глазах был свет мудрости, в телах — признаки разложения. Они приблизились, чтобы получше разглядеть его. — Там бушует хамсин, — прибавил Омар, будто в свое оправдание. — Хамсин. — Монах пару раз кивнул и ответил: — Нам незнакома смена природных явлений. Ничто не есть более преходяще, нежели ветер и погода. Что есть песчаная буря в масштабе вечности? Не более чем искра огня. Но как ты вообще сюда попал? Теперь Омар понял, что совершенно не готов к подобному вопросу, и ответил первое, что пришло ему в голову: — Я археолог, я заблудился на пути в Рашид. — Замолчав, он мгновенно пожалел о своих словах, но было слишком поздно. — В Рашид? — Казалось, монах успокоился. Внезапно он хлопнул в ладоши и повернулся к наблюдавшим за ними умалишенным, столпившимся вокруг собеседников, крикнув: — Во имя Иисуса Христа, в камеры! Бормоча и всхлипывая — некоторые заплакали, как дети — те разбрелись по клеткам, и монах поторопился запереть решетки, за которыми, насколько удалось разглядеть Омару, стояли лишь покрытые тростниковыми циновками кровати. — Нечасто к нам забредают незнакомцы, — говорил человек в рясе, закрывая клетки, — честно говоря, с тех пор, как я здесь, а этот срок намного превосходит среднюю продолжительность жизни египтянина, не приходил ни один. По крайней мере не доходил до этих комнат. Одного иностранца мы как-то спасли от смерти. Мы нашли его лежащим в двух милях отсюда, он умирал от жажды. Мы отправились пуда охотиться на змей, он был почти мертв. — Охота на змей? — Мы охотимся на змей, чтобы прокормиться. Мы ловим больше, чем можем съесть. Дважды в год на Епифанию и в праздник апостола Андрея, покровителя нашего монастыря, патриарх Александрии присылает нам зерно — по мешку на брата. Слишком много для людей, сделавших пост содержанием своей жизни. Пойдем, я покажу! Он подтолкнул Омара к проходу на другом конце комнаты, от которого несколько ступенек вели вверх, в комнату, освещавшуюся через отверстие в своде. Судя по очагу в центре и сложенным из камня хранилищам, это была кухня. В одном углу были натянуты полотна со странными гирляндами. Рассмотрев их поближе, Омар понял, что это сушатся змеи. Гораздо больше его удивило следующее зрелище. Монах подошел к каменному корыту, поднял деревянную крышку и предложил гостю взглянуть. Омар отпрянул. В корыте ползали змеи, многие толщиной в руку, занимавшиеся, видимо, в основном тем, что глотали друг друга. Когда они вернулись в коридор с клетками, монах повел Омара по лестнице к противоположным воротам и затем на следующий этаж, где находилось помещение, похожее на церковь. В нем были витые колонны и отсек для хора, очевидно, на восточной стороне. Стулья для молитвы из нетесаного дерева были аккуратно расставлены, их количество свидетельствовало о том, что в монастыре жило намного больше людей, чем Омар видел до сих пор, либо что их было больше в прежние времена. Справа от входа в деревянных ящиках были аккуратно уложены головы мертвецов, у каждой на лбу — Андреевский крест и дата смерти, ниже — кости. Слева — полки с древними книгами, изготовленные из того же темного дерева. Некоторые тома были раскрыты и лежали на подставках для чтения. Многие были отделаны дорогими материалами. Страницы большинства никогда не озарял солнечный свет. — Вот, — показал черный монах, и его хмурое лицо, казалось, посветлело, — здесь вся мудрость Запада и Востока сохранена в буквах и цифрах на веки вечные. Увлеченный словами верующего человека, Омар сделал шаг к полке, чтобы пролистать один из томов, но тот преградил ему путь: — Подожди, чужеземец. Поостерегись дотрагиваться до одной из рукописей. Это опасно! — Опасно? Что ты имеешь в виду? Тогда монах осенил себя крестным знамением и отвел Омара в сторону. Теперь он говорил почти шепотом: — Наверняка ты удивился поведению моих собратьев. Все они мудрее меня, но все поражены странной болезнью. Ее называют болезнью мумий, а также коптской болезнью. Болезнью мумий, потому что ею часто заражаются исследователи, изучающие мумии при непосредственном контакте с объектом, а коптской болезнью — потому что также часто она поражает монахов, которые изучают коптские манускрипты и книги. Каждый из моих собратьев прочел сотни этих книг, в каждом сосредоточена мудрость наших предков. Но кажется, будто Господь Бог сотворил защиту против всеведения, поражая каждого, кто приблизится к полноте овладения знанием, болезнью. — А ты, — взволнованно спросил Омар, — кто ты и что ты сделал, чтобы противостоять коптской болезни? — Я Менас, самый младший из братьев, обладаю ничтожным знанием, даваемым школами и университетами. — И ты не читал ни одной из книг? Менас покачал головой: — Никогда. Я слышал кое о чем, но что такое рассказ по сравнению с истинным знанием! Столетиями, с тех пор как существует зараза, принят обычай, что на одного из братьев, наделенного самым малым даром познания, накладывается запрет прикасаться к книгам. Ему надлежит заботиться об остальных, когда на них нападают приступы слабости рассудка. — Их состояние меняется? — Постоянно. Ты видел их в состоянии экстаза, в эти моменты они похожи на детей. Они ведут себя как дети и нуждаются в строгом обращении, чтобы не навредили друг другу. Затем последует фаза просветления, когда они обратятся к изучению книг и достигнут апогея познания. — И как часто происходят перемены? — Иногда раз в день, обычно же раз в три дня. Однажды фаза длилась две недели. Мы никогда не знаем, что нас ждет, и, вероятно, так даже лучше. Если бы коптская болезнь приходила по часам, каждый мог бы достичь совершенного знания. Теперь же каждый живет с сознанием того, что через минуту может потерять разум. С этими словами монах оперся ногой о молитвенную скамеечку, и из-под черной рясы показалась черная сандалия с Андреевским крестом в круге. Это напомнило Омару об истинной цели его посещения монастыря, и он задумался, не спросить ли ему просто о профессоре Хартфилде. Но Менас может ответить, что никогда не слышал этого имени и никогда не видел в монастыре чужаков. Что тогда останется делать Омару? Так что он решил потянуть время, чтобы решить, как использовать сложившуюся ситуацию. Рашид находился в одном дне езды от монастыря, и казалось вполне возможным, что профессор когда-либо встречался с монахами. Но с какой целью, Омар не мог себе представить. — И вы никогда не покидаете стен монастыря? — спросил Омар. — Ну что ты, мы не оторваны от жизни. Путь к познанию проходит в этом мире, он лишь далек от суеты. Суета — враг метафизики. Для нас важны иные вещи, нежели для большинства людей. Людьми правит не их голова, но их желудок. Сытые люди дружелюбны. Сытые не совершают революций, сытые не думают, сытые дают жить — если ты понимаешь, о чем я говорю. Омар кивнул, хотя и не понимал, что монах хотел сказать своими словами, и вежливо спросил, позволят ли ему провести ночь в монастыре, ведь хамсин наверняка стихнет за ночь. Если Омар удовлетворится тем, что здесь есть, он может остаться, ответил Менас и повел Омара обратно в коридор с клетками, затем на лестницу и на расположенный глубже этаж с отдельными клетками, стоявшими пустыми и производившими впечатление, что они готовы принять нежданного гостя. В отличие от тех, в которых жили монахи, эти были обставлены деревянной мебелью: кровать, стол, стул и ящик с кувшином воды составляли их убранство. Омар жадно пил, Менас же зажег масляную лампу и пожелал ему спокойной ночи во имя Господа. Омар промыл водой рану, затем лег на жесткую постель и задумался. Он не знал, что и думать о Менасе и его умалишенных братьях и в состоянии ли они держать здесь против его воли человека вроде Хартфилда. Некоторое время он продремал, затем поднялся, взял лампу и пустился в путь по монастырю, влекомый неясным предчувствием. Было тихо, песен больше слышно не было, лишь из осветительных шахт доносились таинственные звуки. Чтобы не заблудиться, Омар взял с собой тростник с кровати, которым отмечал путь. Большинство виденных им комнат были пусты. Их каменный пол был чисто прибран, будто в ожидании постояльца. В одной из незапертых камер было сложено оружие: ружья, револьверы и пистолеты, а также два ящика взрывчатого вещества. Больше всего Омара интересовала церковь монастыря с запретной библиотекой. Он никогда не слышал о коптской болезни. Быть может, монах хотел лишь напугать его, не дать прочесть книги. Как грешник, который, согрешив однажды, стремится повторить свой грех, он изучал полку за полкой, не трогая при этом книг. В какой-то момент Омар заметил, что книги расставлены не по алфавиту, как это принято в библиотеках, а по дате появления книги, слева направо, сверху вниз, вопреки правилам арабского письма. Большинство названий Омар прочесть не мог, потому что книги были составлены на сахидском, ахмимском, башмурском и других коптских языках. Постепенно он дошел до достаточно новых книг, написанных в основном на арабском и английском языках и поэтому вызвавших его особый интерес. В конце бесконечных рядов книг, то есть с точки зрения временного отсчета — в настоящем, он обнаружил целую секцию книг, посвященных одной теме: Имхотеп. Ya salaam. Фолианты, пергамента и карты с надписью «Имхотеп» были сложены в стопки, в самом низу — папки с именем Эдварда Хартфилда. Теперь можно было не сомневаться, что между монахами Сиди Салима и профессором из Бэйсвотера существовала какая-то связь, и Омар совсем было уже собрался достать папки с именем профессора, но, вспомнив предостережение Менаса и вид монахов, остановился. Еще никогда Омар не ощущал такого внутреннего раздвоения, так не метался, рассматривая все «за» и «против», как в тот момент. Быть может, перед ним, черным по белому или нарисованная карандашом, лежала разгадка тайны Имхотепа. Быть может, монахи уже давно занимались ею, быть может, им были ведомы вещи, скрытые ото всех остальных людей. Быть может, они уже были незримыми властителями мира. СердцеОмара готово было выпрыгнуть из груди. Осторожно поднося лампу к каждой папке, он рассматривал старую, рассыпающуюся бумагу в опасной близости к угрожающему ей пламени. С помощью пера, лежавшего на полке, он попытался сдвинуть бумаги, не дотрагиваясь до них, но не сумел, при этом огромная стопка карт и документов упала на пол, подняв столб пыли. Омар прислушался, не разбудил ли кого-нибудь звук падения бумаг. Но ничто не нарушило тишину, и он начал собирать бумаги с помощью пера. Внезапно ему на глаза попался небольшой, размером с ладонь, осколок. Он, должно быть, лежал между документами и, будучи черного цвета, остался не замечен Омаром. На осколке были демотические письмена, которых он не мог прочесть. Во имя Аллаха, это должен был быть недостающий фрагмент плиты из Рашида — последнее звено в цепочке указаний, разбросанных по всей Европе. Почему именно здесь, в этом удаленном монастыре? Ответ напрашивался сам собой, но Омар попытался не думать об этом. Та ситуация, в которой он находился, была слишком опасна, чтобы принимать во внимание законы логики. Сначала он решил взять осколок и сбежать. Но этот поступок таил ряд опасностей: даже если бы ему удалось бежать, даже если бы он преодолел хамсин, пропажу скоро обнаружили бы и монахи бы все поняли. Срисовать незнакомые письмена он не решался, боясь ошибиться — они были местами стерты, к тому же потребовалось бы слишком много времени. Во время размышлений Омар вспомнил о способе, которым часто пользовался профессор Шелли, да и другие виденные им археологи. Но для этого Омару необходим был лист бумаги размером с оригинал. На алтаре капеллы стоял открытый требник. Омар закрыл его таким образом, что задняя обложка оказалась сверху. Затем он приподнял ее и вырвал последнюю, пустую страницу книжки. Окунув лист в чашу со святой водой и подождав, пока он не пропитался влагой, он положил его на осколок плиты и прижал ладонью так сильно, как мог. Через пару минут лист принял очертания каменной плитки, Омар помахал им, высушивая, и спрятал под рубашку. По дороге к камере, в которую его проводил монах, Омар проходил проем, ничем не отличавшийся, казалось бы, от десятков остальных, если бы не одна заинтересовавшая его деталь: за аркой двери висел старый потрепанный занавес, скрывавший внутреннее помещение. Омар прислушался и, ничего не услышав, отодвинул занавес. Перед ним была просторная, лучше, чем другие, освещенная комната, имевшая еще одно отличие от остальных: деревянная мебель, стол, стулья и ящики, сложенные в виде шкафов, заставленных картами, папками и книгами, придавали ей вид средневекового кабинета. Все было затянуто паутиной, и казалось, в комнату уже давно никто не входил. Почему же она была освещена? Пока Омар пытался разобраться в хаосе, царившем в комнате, взгляд его упал на открытый шкаф по левую руку: среди листков, обрывков и документов сидел седой человек в пыльной одежде. Сначала Омар подумал, что он мертв, но, осторожно приблизившись и склонившись, заметил живой огонек в его глазах. Морщинистое лицо растянулось в подобии улыбки, напугавшей Омара. Неподвижно, скрестив ноги, как египетский писец, старик сидел, больше похожий на видение, чем на существо из плоти и крови. И если бы он исчез так же внезапно, как появился, это не показалось бы Омару странным. — Профессор Хартфилд? — осторожно спросил он. Мужчина поднял голову и уставился мертвым взглядом мимо Омара. — Хартфилд мертв, — ответил он монотонно, — я его Ка, его жизненная сила, если ты понимаешь, о чем я говорю. Но Омар не понял. Древние египтяне называли бессмертный дух, охраняющий человека, Ка, поэтому часто человек изображался с двойными очертаниями. Что он имел в виду: я его Ка? Омар все раздумывал, а старик продолжил свое бесцветное повествование: — В оке Гора, в яйце мира покоюсь я. В оке Гора сосредоточена вечная жизнь. Оно хранит меня, даже когда закрыто. Окруженный сиянием, брожу я по дорогам. Повинуясь желаниям сердца, движусь я повсюду. Я есть и я живу… Не успел он закончить, как тело его опало, как шланг, по которому была прекращена подача воды, голова упала на плечо, руки повисли, будто сказанные слова потребовали нечеловеческих усилий. Странный голос не мог скрыть английского акцента говорившего. Человек должен был быть Хартфилдом, но казалось, что он впал в безумие, как и прочие обитатели монастыря. Стараясь не напугать мужчину, Омар опустился перед ним на колени, осторожно тронул рукой и тихо сказал: — Профессор Хартфилд, вы меня слышите? Почувствовав прикосновение, мужчина выпрямился, встряхнулся, как собака, вылезшая из воды, и вновь заговорил: — Не дотрагивайся до меня, чужестранец, потому что я Ка. Ка Эдварда Хартфилда. А каждый, дотронувшийся до Ка, умрет. Невольно Омар отпрянул. Но, будучи Так близок к цели, он не собирался сдаваться. Вторя собеседнику, он произнес: — Ка Эдварда Хартфилда, как ты попал сюда и кто твои враги? С открытым ртом слушал Хартфилд слова Омара. Дрожание век говорило о том, что он понял их. После долгого молчания он ответил: — Мои враги — коптские монахи. Они держат меня здесь, как дикого зверя, и наверняка давно убили бы, если бы я не был им нужен с моими знаниями. — А как ты попал сюда? Хартфилд упорно молчал. Он смотрел в пол, наклонив голову вперед, руки его бессильно висели. Казалось, первая же внятная фраза стоила ему неимоверных усилий. — Как ты попал сюда, Ка Эдварда Хартфилда? — настойчиво повторил Омар. Он схватил мужчину за плечи и встряхнул его, но ничего не изменилось. — Ка Эдварда Хартфилда, ты слышишь меня? — крикнул Омар, помня о том, что его могут услышать и за пределами комнаты. — Что тебе известно об Имхотепе? Не успел он произнести имени Имхотепа, как жизнь вернулась в члены человека. Он широко раскрыл рот и вздохнул, затем закрыл глаза, будто для молитвы, развел руки в стороны ладонями кверху и голосом, заметно отличавшимся от прежнего, заговорил: — О ты, прародитель мира, Имхотеп, чье тело светится, как бог солнца Ра, который ведет нас к свету и изгоняет тьму своим духом, о великий из великих, когда-либо живших на земле, владеющий нектаром богов, имеющий глаза из лазури и тело белое, как цветок лотоса, который предстает пред властителем мира и странствует по тому миру, как охотник по берегу Нила, ты истинный творец жизни, и я поклоняюсь твоему могуществу. Боги создали небо, где они царят, похожие на золотых соколов, но ты, Имхотеп, создал землю с ее чудесами. Ты играл пирамидами, как детскими игрушками, ты растворил небесный свет и запер в сосуде, чтобы освещать ночь, единственной формулой ты вернул людям вечную жизнь, которую боги отняли у них. Слава тебе, о, самый божественный человек на земле, слава тебе, Имхотеп. Хартфилд говорил прерывисто, отдельными фразами, его молитва была похожа на пение монахов монастыря, и когда он смолк, его тело вновь опало, будто из него выкачали воздух, и он неподвижно замер. — Где Имхотеп, Хартфилд? Ты знаешь, где находится гробница? — взволнованно кричал Омар. Но безумец не отвечал. Он смотрел перед собой, а как только Омар тронул его за плечо, упал на землю и больше не двигался. Привлеченный голосами, в дверях возник Менас. Его сопровождали двое монахов, чьи тупые лица привели Омара в ужас. Трое преградили ему дорогу, и Менас, ранее бывший с ним вежливым, угрожающе проговорил: — Что ты ищешь здесь, чужак? Разве мы не были гостеприимны по отношению к тебе, а ты злоупотребляешь нашей добротой? Что ты ищешь здесь и кто послал тебя? Омар хотел ответить, что не мог заснуть, пошел бесцельно бродить и заблудился, но, прежде чем он открыл рот, Менас кивнул монахам, те схватили Омара под руки и потащили вверх по лестнице по двум коридорам в круглое помещение с четырьмя зарешеченными дверями. Менас, следовавший за ними, открыл одну из решеток, и монахи втолкнули Омара в темную клетку. Затем они заперли замок и оставили его в одиночестве. Будто во сне прожил Омар последние несколько часов и лишь теперь, лежа на каменном полу, смог обдумать все произошедшее. Жизнь его, казалось, не стоила больше и ломаного гроша. Менас догадывался об истинной причине его визита — поисках Хартфилда, и монахи, безумные монахи наверняка готовят ему смерть от голода и жажды. Когда-нибудь они отнесут его тело в пустыню, как тело миссис Хартфилд, которая, вероятно, также была лишь обузой для коптов. Inscha’allah. В темноте мысли становятся более четкими, и Омар вспомнил молитву, которую Хартфилд в своем безумстве обращал к Имхотепу. Профессор использовал форму молитвы из Египетский книги мертвых, в которой было собрано множество молитв. Стены всех древних гробниц испещрены подобными текстами, редкостью они не являются. Но что он имел в виду, говоря, что Имхотеп играл пирамидами, растворил небесный свет и вернул людям вечную жизнь? Хартфилд упомянул три давние мечты человека. До настоящего времени оставалось загадкой, как величайшие сооружения в мире, пирамиды, могли быть созданы человеком согласно законам звезд. Научиться преобразовывать свет в иную форму энергии является мечтой современной науки, как и поиск источника вечной жизни. Что было известно так же Хартфилду? Издалека до Омара доносились звуки, по которым он мог судить о распорядке дня монахов, состоявшего в основном из пения и молитв. Он надеялся, что ему принесут хотя бы кувшин воды, и к вечеру, вцепившись в решетку в бешенстве, вероятно вызванном страхом смерти, стал звать на помощь. Но, осознав бесполезность своих усилий, заснул, забившись в угол. Сколько он проспал, Омар не знал. Проснулся он, испугавшись дрожавшего перед его глазами света лампы. Перед ним стоял Хартфилд. Приложив палец к губам, он предупреждал Омара не шуметь. Профессор выглядел совсем иначе. Тупость и сон покинули его лицо, и он производил впечатление вполне нормального человека, если не считать осторожности его движений. — Кто вы и как попали сюда? — спросил профессор шепотом. — Меня зовут Хафиз эль-Гафар, — ответил Омар, — я искал вас, профессор! — Меня? — Казалось, профессор был удивлен. — Как же вам удалось найти меня? Омар помедлил, затем ответил: — Думаю, мы с вами ищем одно и то же. — О, боже, — проговорил Хартфилд, — вам не следует делать этого. Забудьте об этом, если вам дорога жизнь. Вы молоды, у вас еще все впереди. Не ищите Имхотепа. Умоляю вас! Не успел Хартфилд договорить, как зажал рот Омара рукой и погасил лампу. В темноте послышались шаги; некоторое время спустя они вновь удалились в обратном направлении. — Я выведу вас, — сказал профессор из темноты, — пойдемте! — И он схватил Омара за руку. Тот не понимал, что происходит, он сомневался, что Хартфилд в состоянии исполнить задуманное, но вместе с тем понимал, что это, вероятно, его единственный шанс живым покинуть ужасный монастырь. Хартфилд снаружи запер решетку, Омар последовал за ним. Англичанин прекрасно ориентировался, должно быть, он тысячи раз проделывал этот путь, потому что безошибочно находил дорогу. Когда они достигли освещенного помещения с кувшинами, Хартфилд сказал: — Бегите быстро, как можете, и приведите помощь. Нам нужна дюжина вооруженных людей. Не знаю, день ли сейчас или ночь. Если день, идите на северо-запад, вслед за заходящим солнцем. Если ночь, ориентируйтесь на Сириус, это самая яркая звезда, вы не ошибетесь. Вы попадете в Рашид. Бог да поможет вам! — И он подтолкнул Омара к лестнице. — Профессор! Я не пойду без вас. Почему вы не пойдете со мной? — У нас нет времени на разговоры, — ответил Хартфилд сердито. — Я не в лучшей физической форме. Время от времени я впадаю в безумие, теряя рассудок. Я был бы для вас только помехой. На карту поставлены моя и ваша жизни. — И добавил: — Я бы все равно не оставил монастырь без своей жены. Они держат ее где-то здесь… — Но… — Омар замолчал, проглотив конец фразы. — Я ищу ее всякий раз, когда нахожусь в здравом уме. Я искал Мэри, когда нашел вас. А теперь идите! Омар помедлил, но все же предпочел промолчать. Он поднялся по лестнице, нарушил равновесие камня и выбрался на свободу. Была ночь. Омар взглянул на небо. Над ним сияли звезды. Он нашел самую яркую и решительно пошел на нее.
13 В тени пирамиды
«Солнцу нс надлежит догонять месяц, и ночь не опередит день, и каждый плавает по своду. И знамение для них — что Мы носили их потомство в нагруженном корабле. И Мы создали для них из подобного ему то, на чем они ездят. А если Мы пожелаем, то потопим их и нет помощника для них, и не будут они спасены, если не по милости от Нас».29 ноября, день открытия гробницы Тутанхамона, приближался. И если был на земле человек, чей характер изменило археологическое открытие, то это был Говард Картер. Некогда столь застенчивый, закрытый и высмеиваемый всеми, археолог теперь, когда на него были устремлены глаза всего человечества, словно преобразился. Он отмахивался от репортеров и постоянно задававших вопросы зевак, как от назойливых мух. Даже лорд Карнарвон, привыкший обращаться с ним, как с голодным бедняком, внезапно оказался лицом к лицу с ученым, наслаждавшимся лучами поздней славы. Хотя никто кроме четырех человек, проникших в первую камеру гробницы, не знал, что ожидало человечество, среди журналистов и любопытных бездельников, наводнивших в то время Луксор, ходили слухи, а в особо хорошо информированных кругах с уверенностью говорили о сокровищах стоимостью в миллион фунтов стерлингов, находившихся в гробнице. В этой обстановке не могло удивлять то обстоятельство, что Картер и шага не мог сделать, чтобы за ним не следовали или тайно не наблюдали. План леди Доусон и Интеллидженс-сервис осуществлялся, как и было задумано. Можно было подумать, что Луксор стал центром мира, по крайней мере для искателей приключений и ученых. Он затмил собой пирамиды Гизы, не говоря уже о Саккаре. Сначала леди Доусон планировала спуститься по Нилу на «Изисе» и бросить якорь в паре километров от Саккары. Но затем Джерри Пинкок предположил, что отплытие лодки именно в этот момент может вызвать подозрение. Было решено отправиться на поезде в Хелуан, остановиться в обычном отеле и оттуда координировать действия на восточном берегу Нила. Из Лондона Джеффри Доддс прислал команду археологов, дюжину компетентных исследователей, просвещенных касательно мероприятия. Они должны были остановиться в отеле в деревне Митрахин, в миле к востоку от Саккары. Руководитель команды, англичанин польского происхождения по имени Джон Камински, как и французы, выразил предположение, что Огюст Мариет, знавший местность как свои пять пальцев, мог уже однажды обнаружить гробницу Имхотепа, но промолчал и засыпал ее по каким-то причинам. Изучив все имевшиеся документы, он составил план раскопок, начатых Мариетом, даже если они были остановлены достаточно быстро, и предложил Интеллидженс-сервис провести повторные раскопки, рассчитывая таким образом напасть на новый след. Тот факт, что вся общественность переместилась в Луксор, где должно было состояться открытие гробницы Тутанхамона, был очень на руку британцам, желавшим остаться незамеченными. Шанс продвинуться в расследовании таким способом был достаточно мал. Но если до сих пор масштабные поиски не привели ни к чему, то имело смысл использовать любую возможность, а это была одна из немногих. Доддс тем временем почувствовал необходимость добиться успеха. Расследование его длилось уже несколько лет. Затраты на него были немалые. Военный министр же, заинтересовавшийся и увлеченный делом более, нежели того желали руководители секретной службы, периодически требовал отчетов и демонстрировал свое разочарование. Несколько самодовольно он имел обыкновение замечать, что секретной службе его Величества проще обнаружить дезертира в восточноазиатских джунглях, чем мумию, не способную более перемешаться, на кладбище площадью с лондонский Гайд-парк. Доддс передал это — по его словам — оскорбление леди Доусон, и с тех пор отношения между Лондоном и Луксором стали напряженными. В отличие от французов, пользовавшихся помощью местных жителей, Камински отказался от использования посторонней рабочей силы. С одной стороны, он стремился по возможности сильно сузить круг посвященных, с другой — считал, что главное не перекопать как можно больше земли, а делать это в соответствии с целью. Некоторые объекты, например лабиринт быков Аписов, к которому Камински проявил особый интерес, должны быть обследованы ночью, чтобы избежать лишних соглядатаев, а также необходимости запрашивать разрешения в официальных инстанциях. Среди экипировки команды археологов были палатки и тенты для защиты от солнца и ветра, какие во множестве используются при раскопках. Таким образом, они могли разбить лагерь вдалеке от города, укрывшись от любопытных взглядов. Англичане прикладывали максимум усилий, чтобы вызвать как можно меньше подозрений. Расчет леди Доусон оправдался. В день открытия гробницы Тутанхамона поле раскопок в Саккаре будто вымерло. Объявление об археологической сенсации привлекло всех туристов и исследователей в одно место. Несмотря на то что участвовать непосредственно в церемонии были приглашены лишь немногие, все хотели по крайней мере быть поближе к происходящему. Картер оказался прекрасным организатором. В Долину Царей допускались лишь приглашенные гости, единственным журналистом среди них был Артур Мертон, корреспондент лондонской «Таймс». Его описание первой камеры, которую Картер видел прежде, так что мог себе позволить войти в нее с полным спокойствием, встретило восхищение мировой общественности, а первые фотографии содержимого гробницы — ваз, ларцов, тронов и других подношений из алебастра и слоновой кости — взволновали людей, как ничто другое. Луксор и Долина Царей были у всех на языке. Саккара была забыта, так что англичане могли спокойно работать. Сначала Камински решил обследовать вход в лабиринт, надеясь на повторную случайность. Быть может, как и в случае Картера, при сооружении лабиринта был завален вход в гробницу Но удача не приходит дважды в одной форме. Второе подозрение внушала неукрепленная дорога, тянувшаяся через всю Саккару. Камински и его люди прорыли ее в нескольких местах, но на глубине двух метров начинался рыхлый слой земли. После четырнадцати бесплодных попыток рвы вновь были засыпаны. Вечером члены команды собрались в круглой военной палатке, которую англичане установили к северо-востоку от ступенчатой пирамиды, в стороне от дороги на Дахшур. Все были раздражены. Камински считал, что секретная служба его величества — организация достойная, но к данному делу привлечена ошибочно. Они влезли в историю, выдуманную кем-то на набережной Виктории, — невозможно найти нечто, чего даже не существует. Джоан Доусон напомнила, что поиски до сих пор проводились в местах, выбранных самим профессором. А где, как не в Саккаре, мог быть похоронен Имхотеп? После короткой перепалки образовалось два лагеря: первый, во главе с Камински, требовал остановки работ, второй, во главе с леди Доусон, настаивал на их продолжении. Внезапно раздался выстрел, прервавший дискуссию. Неподалеку от палатки пронеслись всадники, преследуемые толпой людей. Когда англичане выбежали из палатки, чтобы посмотреть, что происходит, они увидели вспышки ружейных выстрелов менее чем в миле от их лагеря. Происходящее казалось обманом зрения, и всадники исчезли так же быстро, как появились, в направлении на север, к Абу Гурабу. Мертвая тишина, наступившая вслед за выстрелами, была нарушена предсмертным лошадиным ржанием. Ужасный звук проникал в душу и не кончался, напротив, становясь все сильнее. Тогда Пинкок, достав револьвер, приказал остальным мужчинам следовать за ним. С факелами и ружьями на изготовку Пинкок и шестеро археологов пошли на крик. Уже издалека стали видны конвульсии бившегося на земле животного. Подойдя ближе, они увидели вторую лошадь. Она была мертва. Возле нее лежали двое мужчин. Пинкок поднял ружье, направил его в голову ревевшему животному и выстрелил. Последний вздох, конвульсии задних ног, затем тишина. Тела мужчин лежали на земле, они были пробиты пулями. Ни один не подавал признаков жизни. Пинкок предложил сложить палатку и отправиться в Митрахин, но Камински и остальные ученые возразили, что так они наверняка вызовут подозрения. Тела были перенесены к палатке. В животе одного из них, седого мужчины среднего возраста с угловатыми чертами лица и маленькими глазками, пуля пробила огромную дыру. Второй, темнокожий, более молодой, с острой бородкой, имел множество ранений в грудь, одна из пуль задела сонную артерию. Леди Доусон отвернулась. Камински прикрыл рот рукой. Остальные стояли вокруг, растерянные и не знающие, что предпринять. Единственным человеком, сохранившим способность соображать в этой ситуации, был Пинкок. — Что это может значить? — спросил он, спокойно, почти безучастно осмотрев карманы старшего и найдя пачку темных банкнот общей стоимостью не менее пяти тысяч фунтов. Карманы второго, также одетого по-европейски, были пусты. Вокруг его пояса был застегнут кожаный патронташ искусной работы. Когда Пинкок расстегнул один из ремней, которыми закрывались отделения, он тихо присвистнул. Достав белый мешочек, он развязал его, облизнул палец, опустил его в содержимое и попробовал. — Кокаин, — сказал он, взглянув на остальных. Затем подвинул труп и расстегнул ремень. Открыв остальные отделения, Пинкок обнаружил множество пакетиков с порошком. — Ужасно неприятная ситуация! — Не сказал бы, — отозвался Камински. — По крайней мере ясно, что нападение нас не касалось. Вероятно, здесь в окрестностях обитает множество бандитов, связанных с наркотиками. Мне их не жалко. Пинкок возразил: — Но полиция непременно появится здесь. Не вижу в этом ничего хорошего. — Мы не сделали ничего незаконного! — ответил Камински. — Не понимаю, чего нам бояться. Леди Доусон подошла к профессору, глаза ее сверкали: — Я скажу вам, сэр. Мы вызываем подозрения одним нашим присутствием. Или вы серьезно собираетесь настаивать на том, что дюжина британских археологов и сотрудников секретной службы приехала в Саккару провести отпуск? Вам не следует забывать одного: египтяне, как и мы, уже несколько лет занимаются поисками Имхотепа. И я не хочу, чтобы наша операция провалилась из-за какой-то глупой случайности! — Что вы собираетесь делать? — неуверенно спросил Джон Камински. — Мы, — ответила леди, вставляя черную сигарету в мундштук, — отнесем трупы туда, где они были найдены, этой же ночью сложим палатку и до наступления утра уничтожим все следы нашего присутствия. Несмотря на то что леди Доусон ни у кого не спрашивала согласия с планом, началась дискуссия. В какой-то момент Джерри Пинкок поднял патронташ и между делом заметил: — Его звали Хафиз эль-Гафар. Здесь так написано. Леди Доусон пожала плечами. Имя не было известно британской разведке. Когда восемь часов спустя над Саккарой вставало солнце, от пребывания англичан не осталось и следа, а сами они вернулись в Митрахин. Через некоторое время в полицейский участок эль-Бедрашена поступил анонимный звонок. В пустыне севернее Саккары произошло столкновение банд наркодельцов. Возле дороги на Абу Рош лежат два трупа.Коран, 36 сура (40–44)
Причиной того, что Густав-Георг барон фон Ностиц-Вальнитц, человек, привыкший жонглировать миллионами и принимать судьбоносные решения, два дня взволнованно кружил по комнате, повторяя: «Он сам дьявол, действительно, дьявол!», было пришедшее из Египта написанное от руки письмо с приложенным к нему помятым листком бумаги, на котором отпечатались странные значки. Омару потребовалось двое суток, чтобы достичь Александрии и поселиться вдали от центра, в отеле «Аль-Саламек», откуда он послал барону телеграмму, в которой сообщал, что нашел Хартфилда, еще важнее — последний фрагмент плиты, отпечаток уже отослан им в Берлин, он же ожидает дальнейших указаний. Нагиб эк-Касар теперь трудился над значками, а барон, в чьем городском дворце происходила работа, не спускал глаз с письменного стола, заваленного книгами, папками и документами. С помощью химического карандаша проявив надписи, частично стертые и местами вовсе не различимые, Нагиб пытался перенести их на бумагу. Сомнения, возникшие по поводу того, действительно ли речь идет о фрагменте базальтовой плиты из Рашида — а Нагиб долго не хотел верить в успех Омара, — развеялись, как только были расшифрованы первые две строки, а в третьей Нагиб заметил имя Имхотепа. После отъезда Омара Нагиб не терял времени. Работая в архиве музея, он сделал два немаловажных открытия. Во-первых, он обнаружил переписку парижского Лувра с Берлинским Музеем, в которой речь также шла о плите. В процессе переписки произошел обмен фрагментами, так что в берлинском архиве теперь был текст с левого нижнего края плиты. Во-вторых, в одной из специальных британских газет он нашел статью под заголовком «Некоторые неопубликованные текстовые фрагменты, найденные в Рашиде», подписанную неким Кристофером Шелли. Один из фрагментов, который обычно не вызывал интереса из-за небольшого размера, показался Нагибу похожим на текст все с той же плиты. Он начинался типичной для Древнего Египта формой приветствия «О, Вы» и напомнил Нагибу начало фрагмента Мустафы Ага Айата, продолжавшегося словами «высокие боги». Не нужно было обладать особыми способностями, чтобы сопоставить два фрагмента, составив единый текст: «О, Вы, высокие боги, полные ликования и полные счастья, в вечности пребывающие». Особенно ценных сведений текст не содержал, по крайней мере указания на местоположение гробницы Имхотепа и ее таинственное содержимое отсутствовали. Фон Ностиц выкуривал одну сигару за другой и постоянно снабжал Нагиба кофе и коньяком. — Я вас отсюда не выпущу, пока текст не будет переведен! — заметил он, стукнув кулаком по столу. Нагиб пробормотал нечто, так что могло показаться — избыток алкоголя поколебал чистоту его сознания. Но, напротив, Нагиб был трезв как стеклышко, он чувствовал близость к открытию, и никакой силой его было не оттащить от стола. Поздно ночью — облака дыма заполнили комнату, а бутылка опустела — Нагиб положил на стол карандаш, значительно откашлялся, будто собираясь сделать ясным голосом какое-то важное заявление, и сказал: «Готово!» Фон Ностиц, некоторое время назад опустившийся в кресло и поломавший дрожащими пальцами уже некоторое количество сигар, вскочил и поспешил, насколько это позволяла его поврежденная левая нога, к столу, на котором были разложены пять листков. — Ну, читайте же, Нагиб! Читайте! Тот наслаждался моментом триумфа с видимым безразличием посвященного. Но спокойствие это было наигранным. На самом деле кровь прилила ему к голове, и ему огромных усилий стоило заставить свои руки не дрожать. — Умоляю, говорите же, наконец! — повторил барон, и голос его действительно приобрел оттенок мольбы, чего с этим человеком еще не случалось. — Я не останусь в долгу, — продолжал он. — Если нас ожидает успех, вы будете иметь право на исполнение одного желания, Нагиб. Я привык держать слово! Обещание, произнесенное бароном, не было пустыми словами. Не было сомнений в том, что фон Ностиц исполнит обещание, а также в том, что он не станет ограничивать объем и масштаб желаемого. На мгновение Нагиба увлекла эта мысль, затем же он вновь обратился к письменам, лежащим перед ним. Он сдвинул их вместе, как головоломку, так что образовался квадрат, и начал медленно читать, указывая пальцем на каждое читаемое слово:
 На некоторое время воцарилась тишина, оба находились под впечатлением текста тысячелетней давности. Первым заговорил Нагиб:
— Барон, думаю, вы заметили…
— Что?
— Текст плиты до сих пор неполон. — Он указал на правый нижний угол. — Здесь, в этом месте, не хватает трех строк. Будто колдовство какое-то, но мне кажется, что именно они содержат важнейшее указание.
— Хорошо, хорошо, начнем с положительного. Допустим, плита настоящая и мы не попались на удочку каких-нибудь мошенников.
— Об этом мы уже говорили достаточно, — прервал барона Нагиб. — Фрагменты исследовали величайшие археологи, так что если вы не доверяете моему мнению, то уж в их компетентности можете не сомневаться, господин барон.
— Я не хотел обидеть вас, Нагиб, я только высказываю свои мысли. Из текста следует, если я его правильно понял, что существует гробница Имхотепа и в ней сосредоточены, по свидетельству людей, видевших ее три тысячи лет назад, сокровища и знания, утерянные уже в момент ее повторного открытия и, по мнению священнослужителей, настолько важные, что с их помощью можно править миром. Бог мой! — Фон Ностиц глубоко вздохнул.
— Вы совершенно правы, — ответил Нагиб. — И даже этой информации хватит для того, чтобы лишить человека дара речи. Но быть так близко к цели и не иметь последнего фрагмента, к тому же самого важного! От этого можно сойти с ума!
Фон Ностиц посмотрел на пустое место в правом нижнем углу, сравнил его с фрагментом, присланным Омаром, покачал головой и произнес:
— Эти три строчки могут быть частью как берлинского фрагмента, так и фрагмента Хартфилда…
— И вам кажется случайностью, что именно эти, важнейшие строки отсутствуют? — горько усмехнулся Нагиб. Фон Ностиц пожал плечами. — Ни в коем случае! — воскликнул Нагиб. Глаза его зло сверкали. — Я скажу вам, что я об этом думаю: тот, кому известно местоположение гробницы, отломил маленькую, но важную часть плиты! В Берлине никто не знал о фрагменте Хартфилда, а только при наличии его части текст вообще приобретает какой-либо смысл. Однако можно исходить из того, что Хартфилд, признанный египтолог, знал о существовании берлинского фрагмента, так что мог, составив полный текст, прочесть о месте захоронения Имхотепа. Но Хартфилд — человек осторожный. Он отколол угол плиты, содержавший важнейшее указание и, таким образом, стал единственным обладателем знания. Если только не…
— Не что?
— Можно было бы сделать и другое предположение: Омар с Хартфилдом заодно, они сообщники и ведут двойную игру.
— Вы считаете, Омар способен на это?
Нагиб сжал губы и скривился в улыбке.
— Ваши отношения, конечно, с некоторых пор испортились, — заметил фон Ностиц.
— Можно и так сказать. Но я не хочу ничего утверждать.
— Не могу себе этого представить. Если бы вы были правы, Омар послал бы телеграмму с текстом вроде: «Мне очень жаль, Хартфилда найти невозможно». По крайней мере, он не послал бы нам эту часть текста. Нет, вы на ложном пути, и вам не следует вести игру, основываясь на личной антипатии.
— Это было просто предположение, — оправдываясь, произнес Нагиб.
Барон задумался.
— Омар знает, где находится Хартфилд. Так чего же мы ждем? Надо найти Хартфилда!
Нагиб хотел возмутиться, сказать, что никогда в жизни больше не поедет в Египет, потому что боится за свою жизнь. Но не успел. Слуга сообщил о визите дамы, и не успел он попросить ее войти, как в дверях появилась Халима. Ее лицо было в слезах, тело сотрясалось от рыданий.
С тех пор как она переехала к Никишу, Нагиб не видел Халиму. И он так и не простил ей этого, прежде всего потому, что сам в свое время положил на нее глаз. Но теперь, когда она стояла перед ним, беспомощная и несчастная, он подошел, обнял ее и спросил о причине слез.
Молча Халима достала из сумочки свернутую газету и показала на статью на первой странице. Рыдая, она воскликнула: «А я его так любила!» — и бессильно опустилась на пол.
Фон Ностиц звонком вызвал слугу и попросил позвать кого-нибудь из женской прислуги и врача, и они перенесли Халиму на цветастый диван салона. Служанка принесла влажные полотенца и положила их на лоб находившейся без сознания Халимы. Через некоторое время она вновь пришла в себя. Она начала извиняться, но барон попросил ее поберечь себя и помолчать. Лишь теперь он и Нагиб обратились к статье:
На некоторое время воцарилась тишина, оба находились под впечатлением текста тысячелетней давности. Первым заговорил Нагиб:
— Барон, думаю, вы заметили…
— Что?
— Текст плиты до сих пор неполон. — Он указал на правый нижний угол. — Здесь, в этом месте, не хватает трех строк. Будто колдовство какое-то, но мне кажется, что именно они содержат важнейшее указание.
— Хорошо, хорошо, начнем с положительного. Допустим, плита настоящая и мы не попались на удочку каких-нибудь мошенников.
— Об этом мы уже говорили достаточно, — прервал барона Нагиб. — Фрагменты исследовали величайшие археологи, так что если вы не доверяете моему мнению, то уж в их компетентности можете не сомневаться, господин барон.
— Я не хотел обидеть вас, Нагиб, я только высказываю свои мысли. Из текста следует, если я его правильно понял, что существует гробница Имхотепа и в ней сосредоточены, по свидетельству людей, видевших ее три тысячи лет назад, сокровища и знания, утерянные уже в момент ее повторного открытия и, по мнению священнослужителей, настолько важные, что с их помощью можно править миром. Бог мой! — Фон Ностиц глубоко вздохнул.
— Вы совершенно правы, — ответил Нагиб. — И даже этой информации хватит для того, чтобы лишить человека дара речи. Но быть так близко к цели и не иметь последнего фрагмента, к тому же самого важного! От этого можно сойти с ума!
Фон Ностиц посмотрел на пустое место в правом нижнем углу, сравнил его с фрагментом, присланным Омаром, покачал головой и произнес:
— Эти три строчки могут быть частью как берлинского фрагмента, так и фрагмента Хартфилда…
— И вам кажется случайностью, что именно эти, важнейшие строки отсутствуют? — горько усмехнулся Нагиб. Фон Ностиц пожал плечами. — Ни в коем случае! — воскликнул Нагиб. Глаза его зло сверкали. — Я скажу вам, что я об этом думаю: тот, кому известно местоположение гробницы, отломил маленькую, но важную часть плиты! В Берлине никто не знал о фрагменте Хартфилда, а только при наличии его части текст вообще приобретает какой-либо смысл. Однако можно исходить из того, что Хартфилд, признанный египтолог, знал о существовании берлинского фрагмента, так что мог, составив полный текст, прочесть о месте захоронения Имхотепа. Но Хартфилд — человек осторожный. Он отколол угол плиты, содержавший важнейшее указание и, таким образом, стал единственным обладателем знания. Если только не…
— Не что?
— Можно было бы сделать и другое предположение: Омар с Хартфилдом заодно, они сообщники и ведут двойную игру.
— Вы считаете, Омар способен на это?
Нагиб сжал губы и скривился в улыбке.
— Ваши отношения, конечно, с некоторых пор испортились, — заметил фон Ностиц.
— Можно и так сказать. Но я не хочу ничего утверждать.
— Не могу себе этого представить. Если бы вы были правы, Омар послал бы телеграмму с текстом вроде: «Мне очень жаль, Хартфилда найти невозможно». По крайней мере, он не послал бы нам эту часть текста. Нет, вы на ложном пути, и вам не следует вести игру, основываясь на личной антипатии.
— Это было просто предположение, — оправдываясь, произнес Нагиб.
Барон задумался.
— Омар знает, где находится Хартфилд. Так чего же мы ждем? Надо найти Хартфилда!
Нагиб хотел возмутиться, сказать, что никогда в жизни больше не поедет в Египет, потому что боится за свою жизнь. Но не успел. Слуга сообщил о визите дамы, и не успел он попросить ее войти, как в дверях появилась Халима. Ее лицо было в слезах, тело сотрясалось от рыданий.
С тех пор как она переехала к Никишу, Нагиб не видел Халиму. И он так и не простил ей этого, прежде всего потому, что сам в свое время положил на нее глаз. Но теперь, когда она стояла перед ним, беспомощная и несчастная, он подошел, обнял ее и спросил о причине слез.
Молча Халима достала из сумочки свернутую газету и показала на статью на первой странице. Рыдая, она воскликнула: «А я его так любила!» — и бессильно опустилась на пол.
Фон Ностиц звонком вызвал слугу и попросил позвать кого-нибудь из женской прислуги и врача, и они перенесли Халиму на цветастый диван салона. Служанка принесла влажные полотенца и положила их на лоб находившейся без сознания Халимы. Через некоторое время она вновь пришла в себя. Она начала извиняться, но барон попросил ее поберечь себя и помолчать. Лишь теперь он и Нагиб обратились к статье:
Нагиб уронил газету. Он посмотрел на фон Ностица, взглянуть в глаза Халиме он не решался. — Я так любила его, — всхлипывала она, и не оставалось сомнений, что она имела в виду не аль-Хуссейна, а Омара, чей фальшивый паспорт был оформлен на имя Хафиза эль-Гафара. — Завтра мы едем в Египет, — сказал фон Ностиц и вызвал Калафке, приказав позаботиться обо всем необходимом. Халима поднялась: — Я еду с вами!«ПЕРЕСТРЕЛКА В ПУСТЫНЕ
Каир — В вооруженном столкновении двух противоборствующих банд наркодельцов к югу от Каира были застрелены двое египтян. Одним из них оказался ливанский торговец специями Али ибн аль-Хуссейн, глава одной из банд, другим — неизвестный полиции Хафиз эль-Гафар».
В Каире они первым делом отправились в Караколь, расположенный недалеко от центра, где надеялись узнать подробности происшествия. Было раннее лето, и люди, несмотря на сильный ветер, толпами бродили по улицам. В городе царило приподнятое настроение, столь противоположное их собственному. Халима попрощалась с Никишем, поцеловав его и извинившись. Но сказала она ему и горькую правду: между ними все кончено, и все это было ошибкой, ошибкой ее чувств, какая случается хоть раз в жизни с любой женщиной. Никиш все понял и пожелал ей всяческого счастья, подарив на прощание медальон, который носил с четырнадцати лет. Они не плакали, а слова звучали лишь добрые, потому что за эти несколько недель, которые они провели счастливыми, словно дети, оба поняли, что хотя Восток и Запад могут взаимодействовать физически, привлекает их друг в друге взаимная непохожесть и души их никогда не сблизятся. Нагиб старался, как мог, утешить Халиму, и в этот период они сошлись, как никогда. Горе раскрывает сердца, и кто знает, чем бы все закончилось, если бы они не отправились в Караколь, где соответствующий чиновник за соответствующий бакшиш не ответил с удовольствием на все их вопросы, ничего — а этого вполне можно было ожидать — не спросив о причинах их настойчивой заинтересованности в происшедшем. Таким образом они узнали, что тело аль-Хуссейна было опознано Лейлой, его второй женой, и выдано ей для совершения обряда захоронения. Неженатый же Хафиз эль-Гафар был опознан матерью, которая вызвалась оказать ему последние почести. Упоминание о матери эль-Гафара смутило Халиму, Нагиба и барона, ведь они знали, что у Омара не было ни отца, ни матери, и поэтому засомневались, был ли этот Хафиз Омаром. — Как вообще ему пришло в голову это имя? — спросил Нагиб барона. — Он назвал его так спонтанно, и адрес тоже. У меня не было причин спрашивать, — ответил фон Ностиц. — Оформить паспорт, не важно, на какое имя и на какой адрес, — это всего лишь вопрос денег. Все трое отправились в одну из приятных кофеен на набережной Нила, чтобы обсудить, что теперь делать. Беспомощность вселяла такую неуверенность, что Халима даже предположила, что это все может быть махинацией одной из секретных служб, целью которой было завлечь их в ловушку. Но вдруг Нагибу в голову пришла мысль обратиться за помощью к Хасану, инвалиду, чистившему обувь перед отелем «Мена Хаус» в Гизе. Если кто-то и мог помочь им, то только он. Фон Ностиц, заметив, что начинается песчаная буря, затмевающая небо, предпочел остаться в отеле «Семирамис», а Халима и Нагиб отправились в Гизу. Хасан со своим ящиком прятался в одной из ниш стены перед входом в отель. Несмотря на то что тучи песка застилали видимость, носясь по улицам и вокруг отеля, Хасан сразу узнал Нагиба. — Где мой друг Омар? — спросил он, пока Нагиб представлял ему Халиму. Он даже представить себе не мог, какие чувства будит в них своим вопросом. Не ответив на вопрос, Нагиб осведомился, слышал ли микасса что-нибудь о перестрелке в Саккаре. Хасан посмотрел на Халиму и кивнул ей, будто желая выразить соболезнование, но вместо этого произнес: — Ты, наверное, рада, что избавилась от этого аль-Хуссейна. Омар мне много рассказывал о тебе. — А этот эль-Гафар? — нетерпеливо спросил Нагиб. — Такой же разбойник, как и его господин. Официально он смотрел за одним из сдаваемых домов аль-Хуссейна, на самом же деле был его верным сообщником, совершая любые мошенничества. Аллах наказывает всех, кто того заслуживает. У Нагиба будто пелена с глаз упала. Он знал, что уже где-то слышал это имя. Теперь он понял, почему Омар выбрал именно его. Хафиз эль-Гафар смотрел за тем домом, где они с Омаром несколько лет назад снимали квартиру. Поняв все, Халима бросилась на шею Нагибу, заплакала от счастья и закричала сквозь бурю, что она любит Омара и никого другого. Но где же Омар был сейчас? С облегчением барон фон Ностиц-Вальнитц узнал новости. Звонок в отель «Аль-Саламек» в Александрии прояснил ситуацию. Там сообщили, что некий Хафиз эль-Гафар действительно все еще проживает в этом отеле, но в данный момент отсутствует, и спросили, что ему следует передать. В тот же день барон, Халима и Нагиб отправились в Александрию. Вечером они уже выходили из такси возле означенного отеля, маленького и не слишком роскошного, но достаточно неброского, чтобы быть подходящим местом для лиц, не желавших бросаться в глаза. Эль-Гафар, как им доложили, находился в ресторане. Портье послал за ним слугу. Халима дрожала. Она кусала кулачки, ходя взад-вперед по холлу отеля. Она не решится взглянуть ему в глаза. Но, быть может, думала Халима, Омар и не удостоит ее взглядом, назовет ее хурият и отвернется от нее. Она бы не смогла упрекнуть его в этом случае. Сквозь отделанную белым орнаментом стеклянную дверь было видно идущего Омара. Без сомнения, это был именно он. Халима хотела броситься к нему, упасть в его объятия, но стояла, будто окаменев. Ноги, которые должны были нести ее к нему, не слушались. Халима боялась. Не говоря ни слова, Омар подошел к ней и кивнул, будто говоря: «Я знал, что ты вернешься». Но он ничего не сказал и обнял Халиму. Промолчал он и тогда, когда она прошептала: — Прости меня. Я люблю тебя. Некоторое время барон и Нагиб не вмешивались, затем же они обрушили на Омара поток вопросов. Полночи он рассказывал им, как добирался из Дисука в Сиди Салим и обнаружил там Хартфилда и безумных монахов. О том, как нашел обломок плиты в архиве и о странном поведении Хартфилда, периодически впадавшего в безумие, становясь похожим на безжизненную статую. Барон казался опьяненным, не раз в течение ночи он повторял, что это счастливейший день в его жизни, при этом его лицо сияло. От Нагиба Омар узнал перевод фрагмента, а также и то, что важнейшая часть отсутствует, что наводит на мысль о том, что Хартфилд сломал плиту, чтобы скрыть истину. Наконец, они решили на следующий день отправиться в Рашид и оттуда дальше в Фуву. Там они собирались найти мулов и отправиться в Сиди Салим. Целью предприятия было освобождение профессора Хартфилда. Опасения Омара, что дорога может быть слишком утомительной для барона, тот отверг. Он не даст отстранить себя от плодов своих трудов. Если понадобится, он в одиночку вызволит Хартфилда из подземелья. На следующий день они арендовали автомобиль и достигли Фувы. Барон демонстрировал стойкость и выносливость в условиях июньской жары. У одного из кузнецов Рашида они купили оружие, назир продал им старую армейскую палатку. Для людей и всего снаряжения, включавшего недельный запас воды, фон Ностиц купил пять мулов, которых торговец обещал взять обратно за умеренную плату в том случае, если окажется, что они не соответствуют требованиям покупателя. Итак, Омар, Нагиб и барон отправились в путь. Халима осталась в отеле. В отличие от своего первого путешествия в Сиди Салим, когда Омар слепо доверился погонщику, теперь в его распоряжении была превосходная карта. Вверх по Нилу от Рашида в сторону Фувы вела широкая дорога. Через два часа пути они достигли развилки, от которой на восток вела тропа, проложенная караванами. Сначала она поворачивала на юг мимо озера и через болотистую местность, затем же постоянно шла на восток. У маленькой речушки, текущей с юга на север, тропа сворачивала направо и шла прямо в сторону Сиди Салима. Фон Ностиц, никогда в жизни не сидевший даже на лошади, что уж говорить о муле, с достоинством и спокойствием переносил путешествие. Он приобрел шляпу от солнца и форму хаки, какую носили все англичане, приезжая в Египет, и видел свою основную задачу в том, чтобы осматривать горизонт в полевой бинокль, дабы избежать нежелательных встреч с монахами Сиди Салима. Омар разработал следующий план: в трех часах пути от Сиди Салима они должны были разбить лагерь, отдохнуть и дождаться темноты. Затем, оставив все снаряжение, пробраться к монастырю под покровом ночи. Самого выносливого мула они собирались взять с собой — трудно предсказать, в каком состоянии будет Хартфилд. Они молча проверили оружие. Омар и Нагиб научились обращаться с оружием еще во времена сооружения железной дороги через Синайскую пустыню. У Нагиба было крупнокалиберное арабское ружье, старомодное, но — по его мнению — бьющее точно в цель, легкое и простое в обращении. Омар был вооружен наганом калибра 7.62. В кобуре барона покоился маузер, однако тот достаточно недоверчиво относился к собственному оружию, так как из-за поврежденной ноги не принимал участия в войне и утверждал, что прибегать к его использованию будет лишь в крайнем случае. Их единственная возможность выйти победителями против превышающих их числом монахов, также имевших оружие, состояла в использовании эффекта неожиданности. Они должны были незамеченными проникнуть в лабиринт, освободить профессора и так же быстро, как пришли, исчезнуть. Сидя в палатке, они пытались проработать все возможные варианты осуществления плана. Омар чертил палкой на земле примерные очертания монастыря, как он его запомнил, и тот путь, которым они должны были воспользоваться, чтобы попасть в помещение, где обитал профессор. Омар упоминал все детали, которые ему удалось вспомнить. — Есть еще одна важная проблема, — добавил Омар, закончив рассказ. — Что мы будем делать, если профессор откажется пойти с нами? Барон удивленно посмотрел на Омара: — Почему он должен отказаться? Монахи же держат его насильно! — Конечно. Но когда я его спросил, почему он не идет со мной, Хартфилд сказал, что не покинет монастырь без жены, которую тоже держат взаперти. — Но ведь миссис Хартфилд умерла! — воскликнул фон Ностиц. — Именно так.Но профессор может пережить сильное потрясение, если узнает об этом. — Тогда мы уговорим Хартфилда покинуть монастырь под предлогом проводить его к супруге! — прервал собеседников Нагиб. — Это, конечно, несколько подло, но в данном случае, очевидно, единственная возможность заставить его последовать за нами. Вечером они отправились в путь — Омар, Нагиб, фон Ностиц и мул, которого они нарекли Зулейкой. Перед ними выросла цепь холмов, в которых находился монастырь. Слева, по обе стороны ручейка, росли кусты и низкие деревца. Несмотря на то, что стареющая луна была скрыта низкими облаками глаза быстро привыкли к темноте, так что ориентироваться было несложно. — Смотрите! — Омар указал на запад. — Бог мой! — фон Ностиц замер. — Руины церкви посреди пустыни. На фоне темного неба возвышались развалины. Невероятная картина, завораживающая, как декорации в опере. Хотя Омар и рассказал им о Сиди Салиме достаточно подробно, оба его спутника были удивлены, даже поражены увиденным, потому что иначе представляли себе то, что их ожидало. Ночное видение посреди нетронутой человеком природы было скорее романтично, нежели подавляюще. И было трудно сосредоточиться на том, что происходило где-то под землей. Омар прислушался: — Слышите пение? Нагиб и барон затаили дыхание. — Похоже на отдаленные крики в лесу и одновременно на визг побитой собаки, — тихо сказал фон Ностиц. — Это литания монахов. Сейчас у нас есть хорошая возможность. Пока они заняты пением, нам нечего бояться. Потому что брат Менас присматривает за ними. Далее все шло точно согласно плану Омара. Барон занял позицию в углу здания, из которого лестница вела вниз, в лабиринт, с маузером на изготовку. Омар встал на парящую плиту, будто по мановению руки открылся проход, Нагиб и Омар исчезли в нем. Несмотря на то, что барон знал о вооружении монахов и что Омар предупреждал об их непредсказуемости и опасности, фон Ностиц не чувствовал ни малейшего страха. Мужество внушало это новое чувство — впервые в жизни он совершал нечто смелое, дерзкое, отчаянное и безрассудное, далекое от его расписанной по часам жизни. Чтобы ощутить это, ему понадобилось ждать до старости. И уже не впервые в душу ему закралась мысль, что он неправильно прожил жизнь. В первой камере с кувшинами для хранения воды Омару потребовалось немало усилий, чтобы уговорить Нагиба пойти с ним дальше. Пение становилось все громче, и Нагиб снял ружье с предохранителя. — Знаешь, чего я не понимаю? — прошептал он. — Почему тут не выставлена стража? — Единственный человек, не теряющий здесь разума, а значит, способный выполнить подобное задание, — Менас. А он прежде всего занят тем, чтобы следить за монахами, чтобы они не перебили друг друга. Они набросятся друг на друга, как дикие звери, если он хоть на мгновение отвлечется. А кроме того, сюда забредают лишь ненормальные вроде нас. Омар остановил Нагиба движением руки. В конце коридора сиял яркий свет. Пение стало громче. Омар и Нагиб крались, осторожно переставляя ноги. Дойдя до конца, Омар, прислонившись к стене, выглянул из-за угла. Затем предложил другу взглянуть на поющих. Бросив короткий взгляд на монахов, Нагиб отвернулся. Вид этого убожества вызывал в нем отвращение. Искаженные лица, странное поведение престарелых мужчин, годами не видящих солнца, ужасали. В чем же крылась причина всего этого? Нагиб не понимал. Омар повлек его дальше. Они вернулись, поднялись по крутой лестнице на следующий этаж и, наконец, достигли — Нагиб давно потерял ориентацию — комнаты профессора. Омар осторожно отодвинул занавес, закрывавший вход. Хартфилд сидел на полу все в том же положении со скрещенными ногами, как и во время первой их встречи. Несмотря на то что взгляд его был устремлен прямо на занавес, гостей он явно не заметил. — Пойдем! — Омар сделал Нагибу знак, и они вошли в ярко освещенную комнату. Они молча опустились на колени перед лишенным разума профессором, и Омар тихо заговорил: — Ка Эдварда Хартфилда, ты слышишь мой голос? Бледный мужчина задвигался механически, будто марионетка, голос его прозвучал ненатурально: — Я Ка Эдварда Хартфилда, кто меня зовет? — Ка Эдварда Хартфилда, мы пришли, чтобы забрать тебя отсюда. Мы отведем тебя в безопасное место, где тебе не придется бояться власти монахов. — Я не хочу никуда уходить, — ответил Хартфилд бесцветным голосом. — Здесь мой дом, это моя жизнь. Убирайтесь отсюда, иначе они поймают и вас. — Ка Эдварда Хартфилда, — вновь начал Омар, но теперь слова его были более настойчивы, — мы пришли, чтобы отвести тебя к твоей жене Мэри… — Я Ка Эдварда Хартфилда, — монотонно повторил профессор, — я не знаю, о чем вы говорите, я Ка Эдварда Хартфилда. Омар и Нагиб переглянулись. Что им было делать? Единственное, что могло им помочь, — это ожидание. Нужно было ждать, пока безумие не покинет профессора. Но до тех пор монахи закончат петь, а как будет реагировать Хартфилд, если попытаться вывести его силой, сказать было невозможно. — Где Мэри? — внезапно спросил Хартфилд. — Где Мэри? Нагиб сразу ответил: — Ваша жена в Александрии. Мы пришли, чтобы отвести вас к ней. Не препятствуйте и идите с нами! — Где Мэри? — повторял профессор, и теперь его голос звучал настойчиво и угрожающе. — Если вы пойдете с нами, мы отведем вас к ней, — повторил Нагиб. Затем воцарилась тишина. Профессор молчал, и взгляд его был настолько непроницаем, что невозможно было сказать, что происходит у него в душе. И тут случилось нечто неожиданное: Хартфилд поднялся, взглянул на дверь и неуверенно, словно сомнамбула, пошел к коридору, вниз по узкой лестнице, мимо коридора, ведшего к поющим монахам, к входной камере. Омар и Нагиб следовали за ним. Они были так поражены неожиданным поворотом событий, что не проронили ни слова за все время пути. Таким они не представляли себе освобождение профессора. Они думали, что если не силой, то, поддерживая, повлекут Хартфилда по коридорам. Теперь же он уверенно выступал перед ними. Перед узкой лестницей, ведшей наружу, Хартфилд остановился. Он смотрел на ступени, и казалось, предоставлял одному из них идти первым, потому что, хотя и не впервые видел дверь, не был знаком с ее механизмом. Омар поднялся по лестнице, поднял плиту, и один за другим они выбрались на свободу. Фон Ностиц держал маузер на изготовку и, увидев троих мужчин, поднимавшихся на поверхность, издал возглас удивления. На всю операцию потребовалось не более получаса, все случилось намного быстрее, чем они предполагали. В духоте ночи, мгновенно окутавшей его, профессор зашатался. Бог знает, когда в последний раз он вдыхал свежий воздух. Омар и Нагиб поддержали его. Теперь нельзя было терять ни минуты. Хотя Омар был уверен, что, не найдя Хартфилда в его комнате, монахи сначала обыщут монастырь, что займет немало времени, нельзя было забывать, что затем они наверняка отправятся в погоню. С трудом им удалось посадить профессора на мула. Профессор не сопротивлялся. Направляясь на север вдоль заросшей речки, они молчали. Омар, Нагиб и барон были погружены в раздумья, и каждый из них искал свой путь к гробнице Имхотепа. Самая сложная задача, вставшая теперь перед ними, была заставить профессора говорить. Они почти не сомневались, что Хартфилд знал, где находится гробница. Можно было даже предположить, что он входил в нее, сам или под давлением монахов. Но как им выведать его секрет? Еще не взошло солнце, когда они достигли лагеря и оставленных мулов. Предложение Омара, не задерживаясь, отправиться дальше встретило протест Нагиба, но поддержку барона, все это время демонстрировавшего невероятную выносливость. Немного передохнув, они сложили палатку и пустились в путь. Хартфилд не сопротивлялся, позволяя делать с собой все, что угодно, ел и пил все, что ему давали, и молча ехал на муле. В первых лучах солнца перед ними возникли дома Рашида. И уже под вечер того же дня Омар, Нагиб, фон Ностиц и Хартфилд на арендованном автомобиле прибыли в отель «Аль-Саламек» в Александрию, где их ждала Халима. Халима сообщила, что все эти дни ей казалось, что за ней наблюдают. Человек европейской внешности, по крайней мере точно не египтянин, следовал за ней по пятам и исчез лишь с их появлением. Фон Ностиц в связи с этим объявил о немедленном отъезде в Каир, заказав на следующий день автомобиль. В течение нескольких полных суеты дней Хартфилд все чаще приходил в сознание. Он часто правильно отвечал на вопросы, ни одного, в то же время, не задавая, и слушался, как привык это делать у монахов. Омар предложил остановиться в «Мена Хаус», где, по его мнению, иностранцы менее всего бросались в глаза. До Саккары же можно было добраться по дороге через пустыню. — А это кто? — спросил микасса, указывая взглядом на фон Ностица и Хартфилда. Омар ответил, и тот выразил удивление, со сколь почитаемыми людьми общается его друг. — Слышал о лорде Карнарвоне? — спросил Хасан. — О Карнарвоне? А что с ним? — Он умер. — Карнарвон умер? — Два дня назад. Вот через эту дверь его вынесли. — Как же это случилось? Он же был в самом расцвете лет! — Очень странная история, — кивнул микасса. — Картер и Карнарвон открыли в Луксоре усыпальницу фараона. Они достали мумию, а через пару дней Карнарвон почувствовал слабость. Вновь придя в себя, он погрузился в фантазии, говорил о большой черной птице, а когда он умер, в два часа ночи, во всем Каире погас свет. Никто не знает, почему. Но теперь все говорят о проклятии фараона. Будь осторожнее! — Во-первых, — ответил Омар, — Имхотеп не был фараоном. А во-вторых, я несуеверен. Что с Картером? — Ничего. Он занимается тем, что достает сокровища из гробницы. — Вот видишь, он в эти бредни не поверил. Микасса, человек по природе робкий, пожал плечами, будто желая сказать: «Что может знать такой человек, как я!» Барон фон Ностиц-Вальнитц добровольно согласился взять на себя обязанность сообщить Хартфилду о смерти его жены. Он дождался одного из моментов просветления профессора, наступавших все чаще, и с чувством, которое трудно было ожидать от столь хладнокровного человека, рассказал ему, где и как было найдено тело Мэри Хартфилд, и о том что предположительно, ее убили безумные монахи. Хартфилд, чья комната находилась между комнатами барона и Нагиба и была под постоянным наблюдением, принял печальное известие сдержанно, будто давно предполагая такую возможность. — Вы поняли меня? — настойчиво спросил барон. И профессор ответил: — Да, я понял вас, моя жена мертва. — Мне очень жаль, — извинился барон, — что Омар и Нагиб уговорили вас покинуть монастырь под предлогом, что хотят отвести вас к супруге. Но это казалось единственной возможностью в той ситуации. Простите. Профессор кивнул. В этот момент Омар, Нагиб и Халима вошли в комнату. Некоторое время все сидели молча. Затем Хартфилд задал вопрос — впервые с момента освобождения: — Почему вы пришли за мной туда? — Вам срочно необходимо обследование врача, — поспешно ответил Омар. — Мы отвезем вас в британский госпиталь. — Это очень мило с вашей стороны, — ответил Хартфилд, — но ради этого вы не стали бы рисковать жизнью. Не будем обманывать друг друга. Я знаю, чего вы от меня хотите, но от меня вы ничего не узнаете, ничего! — Профессор, — начал Нагиб, — мы знаем об Имхотепе больше, чем вы думаете. Нам известно не только все то, что известно британской, французской и немецкой секретным службам… — Секретным службам? — Вы не знали о том, что это дело давно расследуется всеми секретными службами? — Нет, этого я не знал. И к какой же относитесь вы? — Мы не имеем к ним никакого отношения. Мы ищем Имхотепа, потому что не хотим, чтобы успех достался какой-либо из секретных служб. — Успех? — Хартфилд покачал головой. — Не знаю, можно ли назвать успехом нахождение гробницы Имхотепа. — Мы располагаем не только информацией секретных служб, — продолжил Нагиб, — но у нас есть и ваш фрагмент из Рашида. — Он достал листок, на который был перенесен полный текст. Хартфилд медлил. Казалось, он был удивлен. Барон, опасаясь, что они требуют от него слишком многого, сделал предупреждающий жест. Но Хартфилд торопливо просматривал текст и, закончив, едва заметно улыбнулся и вернул его. — Если позволите дать вам совет… Больше он ничего не сказал. Было ли это последствием перенапряжения или его ужасной болезни, но Хартфилд без сил повалился на пол и тяжело задышал. Его уложили на постель, и Халима осталась присмотреть за ним. Омар, Нагиб и барон отправились на ужин в изящно оформленный ресторан отеля, из которого видны пирамиды Гизы. Вечером, когда их силуэты становятся фиолетовыми на фоне более светлого неба, они кажутся непреодолимыми горами и почти что внушают страх. Все трое нехотя ковыряли вилками в тарелках. Не потому, что им не по душе пришлась европейская кухня, превалировавшая здесь из-за обилия иностранцев. Готовили здесь превосходно. Но потому, что каждый из них размышлял о том, как им подступиться к достойному жалости профессору. Фон Ностиц прежде всего раздумывал о причинах молчания Хартфилда. Профессор не был похож на человека, замалчивающего информацию ради собственной выгоды. А в то, что он заодно с умалишенными монахами, поверить было и вовсе невозможно. Внезапно появилась Халима. — У него бред, — тихо сказала она и оглянулась, проверяя, не подслушивают ли их. — Он говорит об Имхотепе. Больше я ничего не понимаю. Он говорит по-английски. Омар поднялся, сделал остальным знак оставаться на месте и последовал за Халимой в комнату профессора. Хартфилд теперь дышал коротко и неровно. Он ворочался, говоря нечто невнятное о тени фараона, о сияющих руках Ра и запретной двери. — Ты что-нибудь понимаешь? — взволнованно спросила Халима. Омар склонился совсем близко к лицу профессора, пытаясь расслышать каждое его слово. — Нет, — наконец ответил он, — я только понимаю, что его волнует то же, что и нас. Он говорит о плите, на которой описана гробница Имхотепа. Его слова не складываются в связные мысли, по отдельности же они вполне понятны. — Затем Омар начал записывать обрывки фраз, произносимых профессором. — Быть может, позже можно будет выявить их смысл. Халима села возле Омара. Она положила руку на его плечо и молча следила за тем, что он записывает. Близость к тайне возбуждала ее, но еще больше ее возбуждала близость Омара. Она была счастлива, что вновь обрела его. И, если он и демонстрировал некоторую сдержанность по отношению к ней, упрекнуть его в этом она не могла. Внезапно Омар отдернул руку. Хартфилд заговорил на арабском, который знал в совершенстве. Но эта перемена в состоянии бреда показалась ему странной. В монастыре Сиди Салим, будучи Ка Эдварда Хартфилда, он говорил по-арабски. Казалось, в душе Хартфилда боролись два существа, обладавшие разными характерами. — Тысяча — шагов — от гроба — царя — дверь к познанию — вода — Имхотеп. Будто совершив огромное усилие, Хартфилд уронил голову на подушку. Дыхание его стало ровным и спокойным. Он заснул. — Думаю, — заметил Омар, глядя на свои записи, — Хартфилд рассказал нам больше, чем хотел. Он сбежал в холл отеля, нашел Нагиба и барона сидящими у стойки бара и, не говоря ни слова, положил листок с записями перед ними. — Что это значит? — осведомился фон Ностиц. — Я записывал все, что говорил Хартфилд в бреду. Вот здесь самое любопытное. Почему-то он произнес это по-арабски. — В тысяче шагов от гроба царя? — Барон задумался. — Тысяча шагов в каком направлении? На юг, на север, на восток, на запад? — вставил Нагиб. Все трое переглянулись. — По крайней мере, — ответил барон, — мы теперь знаем, что гробница Имхотепа находится в тысяче шагов от пирамиды Джосера. Если бы мы знали длину шага, то могли бы очертить окружность, на которой следует искать вход. — Сообщение расстояния в шагах соответствует точной мере египтян, — ответил Нагиб. — Один шаг равняется двум длинам ступни, то есть 66 сантиметрам. Если считать от центра пирамиды, радиус окружности составляет 660 метров. — Фантастика! — Глаза барона загорелись, как это происходило каждый раз, лишь только речь заходила об Имхотепе. Фон Ностиц был убежден, что он подобрался близко к цели. Для него все предприятие только что вступило в новую фазу, и ни предупреждения, ни угрозы, и уж никак не неуверенность в том, что их ожидало, не могли заставить его отказаться от задуманного. Это была тоска по необычному — иначе нельзя было определить его настрой, — которая нападает на каждого человека хотя бы раз в жизни, выступая в разных формах и которую большинство вытесняет в подсознание. Таким образом, становится понятно, почему уже на следующий день барон уговорил Омара и Нагиба отправиться в Саккару. Халима осталась с профессором. То, что поначалу казалось точным с точки зрения географии указанием, на местности оказалось расплывчатым намеком. Окружность была длиной в несколько километров, а измерить что — либо было невероятно трудно по причине холмистой местности. Они пользовались стометровой веревкой, которую натягивали шесть с половиной раз, начав с западного направления, где находился наименее исследованный регион. Они не взяли с собой никаких специальных инструментов, надеясь обнаружить каменный вал, упоминаемый на плите из Рашида и через несколько часов работы под палящим солнцем все были абсолютно вымотаны. При этом они не исследовали и тридцатой части окружности. Омар и Нагиб были разочарованы, и лишь фон Ностиц работал с упорством помешанного. В отеле «Мена Хаус» тем временем Халима пыталась снизить жар профессора, прикладывая к его лбу и груди мокрые полотенца. Судороги были настолько сильны, что она боялась, что Хартфилд может не вынести одной из них. Она была близка к тому, чтобы, несмотря на указания барона, вызвать врача. Когда около полудня Хартфилд ненадолго пришел в себя, он потребовал холодной воды с уксусом, которую использовали монахи Сиди Салима, чтобы облегчить приступы. После этого он стал спокойнее. — Ты добра ко мне, — сказал Хартфилд, — как тебя зовут? — Халима. — Как я могу отблагодарить тебя? — Не стоит, — ответила она, погладив руку профессора. — Где остальные? Где остальные? — повторил Хартфилд, заметив, что Халима не хочет отвечать. Ей не хотелось излишне беспокоить его своим ответом. Но, заметив его настойчивость, правдиво ответила: — Они поехали в Саккару. — Как можно быть такими глупцами. Они никогда не найдут Имхотепа… — Во время бреда вы говорили… Хартфилд приподнялся. — Бог мой, — пробормотал он по-английски, затем продолжил по-арабски: «Что я говорил?» — Вы сказали, что Имхотеп находится в тысяче шагов от ступенчатой пирамиды, не дальше. Теперь они там все измеряют, надеясь так найти его гробницу. — Этого нельзя делать! — воскликнул Хартфилд возбужденно. — Ты должна остановить их! — Я не могу сделать этого. Фон Ностиц будто одержим, никто не в силах сдержать его. А Омар и Нагиб подчиняются его приказам. — Хочешь, чтобы с ними произошло то же, что и со мной, Халима? Халима вопросительно посмотрела на профессора. Что он мог иметь в виду? — Моя жизнь потрачена зря, — начал Хартфилд. — Все впустую, потому что я слишком многого захотел. — Я не понимаю, что вы имеете в виду, профессор. — Слушай, до сих пор науку сдерживают границы знания, перешагнуть которые не дает вера. Я хочу сказать, что есть вещи, которые человек в силах узнать, и все же это неразумно. Потому что они превосходят рамки его разума. Человек, верящий в Бога, постарается уменьшить риск Но высокомерие — одна из древнейших черт человеческого характера. Уже в Ветхом Завете повествовалось о том, как люди пытались сравняться с Богом. Но Бог наказал их. Имхотеп был таким человеком. Способности, которыми его одарили боги, позволяли ему вершить то, что не дано простому человеку. Имхотеп попытался осуществить то, о чем сотни лет мечтали древние египтяне — научиться сохранять не человеческую душу, а Ка, жизненную силу, в теле. Выражаясь яснее, он искал некую форму бессмертия, вечной жизни. Он открыл тайное средство — бактерию, вирус, можно называть это как угодно. Знания древних египтян в этой области были более обширными, чем это предполагается сейчас… — Лорд Карнарвон! — воскликнула Халима. — Карнарвон? — Он присутствовал при открытии Картером гробницы Тутанхамона. Нетронутой гробницы, — добавила она. — И теперь он мертв. — Проклятие фараона, — сказал Хартфилд, — может принимать разные формы. Когда Имхотепу удалось вселить Ка в человеческую плоть, чтобы сделать человека бессмертным, он не подумал о том, что человек не в силах вести подобное существование в здравом рассудке. И теперь каждый, побывавший в тени Имхотепа, периодически, и все чаще и чаще, подвергается приступам безумия, уничтожающим в нем собственно то, что делает его человеком. — Хартфилд горько засмеялся. — Что за конец Имхотепа! Быть почитаемым как божество, обреченным на жизнь и опустившимся до уровня животного — как коптские монахи, которые открыли мне тайну, и как я, когда моей силы воли не хватает на то, чтобы покончить с этим. — Думаю, я понимаю, о чем вы говорите. — Имхотеп, — продолжал Хартфилд, — был близок к бессмертию, достичь его он так и не смог. Он совершил самоубийство, будучи в замутненном сознании. И его современники захоронили его со всем его наследием и с почестями, достойными фараона, снабдив золотом и драгоценностями. А его познания они замуровали в стены, чтобы познания гения не были утеряны. Помедлив, Халима предположила: — Вы видели гробницу, профессор? Воцарилось долгое молчание. Затем он ответил: — Посмотри на меня. Три двери ведут к склепу. Первая называется «Воротами мира», вторая — «Воротами тоски», а третья несет имя «Ворот безумия». Тот, кто переступит последний порог, подвергнется действию «тени смерти» — тех раздражителей, что веками множились в гробнице. И ни у кого нет шанса выйти оттуда в здравии. Я был первым переступившим порог тайны и вскоре почувствовал это. Затем монахи Сиди Салима вынудили меня открыть им место, где находится вход. Несмотря на предостережения, они все вошли. Теперь в монастыре царит безумие. Теперь они готовы перегрызть друг другу горло. — Во имя Аллаха Всемилостивого! — в ужасе вскричала Халима. — Нельзя, чтобы они нашли гробницу. Хартфилд взглянул на нее и кивнул. — Поэтому я и рассказал тебе все. В голове Халимы роились ужасные образы. Казалось, она видит Омара, проходящего через первые, вторые, третьи ворота. Она закричала так, будто ее саму настигла «тень смерти», и выбежала из комнаты, оставив профессора лежать на кровати. Миновав холл отеля, она прыгнула в одно из ожидавших у порога такси и крикнула: «В Саккару. Как можно быстрее!» Хасан, от чьего внимания не ускользало ни одно событие, происходившее в отеле «Мена Хаус», наблюдал за описанной сценой издалека. Однако ничего не мог понять. — Не могли бы вы ехать побыстрее? — постоянно спрашивала Халима у водителя. Тот вел свой старый «форд» на предельной скорости, однако со спокойствием погонщика верблюдов заметил: — Аллах создал время, о спешке речи не было. Она уже дважды теряла Омара, третьего раза она не перенесла бы. Этого просто не могло произойти. Омар не имел права входить в гробницу. Халима внезапно поймала себя на том, что она молится, призывает Аллаха, просит его не позволить свершиться несправедливости. Мстит ли ей сейчас Аллах за то, что она покинула аль-Хуссейна, которому поклялась в вечной верности? Она была готова искупить свою вину, заплатить любую цену, только не такую непомерно высокую, только бы не безумие Омара было расплатой! Автомобиль поднимал тучи пыли, и видно его было издалека. Фон Ностиц сделал остальным знак прекратить работу. На полпути Халима выскочила из такси и побежала по песку к троим мужчинам, лишь теперь узнавшим ее. — Что случилось? — издалека закричал Омар. — Вы нашли Имхотепа? — взволнованно спросила Халима. Фон Ностиц отмахнулся, так что сразу стало понятно, что их поиски оказались безуспешны. Тогда Халима бросилась на шею Омару. Она покрывала его лицо поцелуями и радостно повторяла: «Аллах так пожелал. На то воля Аллаха!» Сначала никто, и меньше всех Омар, не понимал, что происходит. Лишь когда Халима успокоилась и рассказала о предупреждении Хартфилда, лица мужчин изменились. Барон выразил сомнение и предположил, что история была лишь уловкой профессора, желавшего заставить их отказаться от дальнейших поисков. Однако Омар и Нагиб напомнили барону о его состоянии. В таком состоянии, как профессор, люди обычно не способны на хитрости. В любом случае они были едины в том, что в данный момент следует вернуться в Гизу и поговорить с Хартфилдом. Перед «Мена Хаус» их ждал микасса. Казалось, он был взволнован. — Здесь был этот Карлайль, — сообщил он Омару. — Карлайль? — Омар был настолько удивлен, что не нашелся, что сказать. — Он второпях покидал отель. Но что значительно интереснее, я не видел, как он входил. А я, как ты знаешь, не пропускаю ничего. — Микасса пожал плечами. Омар не успел найти подходящее объяснение визиту Карлайля, как Нагиб схватил его за руку: — Бежим! Они взбежали по широкой каменной лестнице на первый этаж к комнате профессора. Хартфилд лежал на кровати с широко раскрытыми глазами. Ноги его были перекрещены. Правая рука лежала на груди, сжатая в кулак, левая свисала с кровати. У кровати лежала веревка с двойными узлами на концах, какие используют погонщики верблюдов, чтобы бить животных. Хартфилд был мертв. Задушен. Фон Ностиц и Халима вошли в комнату. Никто не сказал ни слова. В душе Омара боролись грусть и ярость. Ярость объяснялась тем, что он прекрасно знал, кто убийца. Но все убийцы ошибаются, и в данном случае он не принял во внимание чистильщика обуви перед входом в отель. — Нужно уведомить полицию, — сказал Омар. Фон Ностиц кивнул. Омар подошел к кровати и попытался выпрямить ноги и руки покойного. Кулак на груди был сжат с такой силой, что Омару потребовались все его силы, чтобы разогнуть ее. Казалось, в руке Хартфилд сжимал какой-то медальон. Однако когда Омар разжал кулак, он обнаружил лишь осколок, маленький, темный и почти квадратный. Можно было подумать, главным в момент смерти для Хартфилда было сохранить эту вещицу. Нагиб долго смотрел на него. Фон Ностиц сразу понял, о чем идет речь: письмена были поразительно похожи на надписи на прочих фрагментах плиты из Рашида. Затем же произошло то, чего в сложившейся ситуации никто не ожидал: Нагиб засмеялся. Возле тела профессора его безудержный сардонический смех вселял ужас. Омару хотелось ударить его по лицу. Но Нагиб сам заметил неуместность своего поведения и мгновенно умолк. — Три слова, — сказал он серьезно, — вся тайна заключалась в трех словах. Невероятно.
 Барон достал лист с переводом текста плиты из Рашида, который он постоянно носил с собой. Он протянул его Нагибу, но тот отвернулся. Он знал содержимое наизусть.
— Три слова! — повторил Нагиб, указывая на три строчки.
— Последнее предложение текста с плиты из Рашида гласит: «Поэтому мы, священнослужители Мемфиса, на том месте камни сложили, где светящиеся руки Ра оканчиваются, когда день и ночь сравняются на закате на западном горизонте, чтобы ворота к богу закрыты навеки остались».
Фон Ностиц был поражен неожиданным открытием. Как долго бродили они в темноте, а решение оказалось таким простым. Во времена Имхотепа существовало лишь одно строение, которое могло отбрасывать тень. И на закате тень падала на восток То есть вход в гробницу находился восточнее пирамиды, точнее, в том самом месте, где тень заканчивалась в день равноденствия, 21 мая или 23 сентября. Но которую из дат имели в виду священники? Весеннее или осеннее равноденствие?
— Какое сегодня число? — спросил барон, взглянув на остальных.
Нагиб кивнул, Омар и Халима не реагировали. От дня осеннего равноденствия их отделяли трое суток. Но кого это теперь волновало? Всем им стало ясно, что в природе существуют загадки, не требующие разгадок, и вопросы, не нуждающиеся в ответах, загадки и вопросы, обращенные в вечность.
Омар заявил об убийстве в Караколе в Гизе. Он также сообщил о темных делишках Вильяма Карлайля и племянницы Хартфилда Амалии Дунс и о том, что Карлайля видели непосредственно после убийства, когда он в спешке покидал отель. Розыски полиции быстро дали результат: Карлайль был задержан в отеле «Ориент», приличном месте, в котором останавливались преимущественно англичане. Омар опознал Карлайля как находившуюся в розыске личность, микасса же подтвердил, что видел, как тот покидал отель «Мена Хаус».
Когда Омар в ярости бросил Карлайлю в лицо обвинение в том, что тот убил Хартфилда, чтобы вступить совместно с его племянницей во владение имуществом убитого, Карлайль, чьи нервы были на пределе, сломался и признался в том, что миссис Дунс уговорила его совершить преступление, пригрозив бросить его. Но это бы означало для Карлайля конец его жизни, потому что он был в нее влюблен.
Две вещи занимали мысли Омара, когда он на такси возвращался в «Мена Хаус»: во-первых, как мужчина может влюбиться в суфражистку вроде Амалии Дунс. Но жизнь научила его тому, что предсказать можно лишь путь звезд, все человеческое же своеобразно и непредсказуемо. Второй заботой было объяснить барону, что Омар больше не хочет иметь ничего общего с тем делом, для которого тот его нанял. Он хотел начать с Халимой новую жизнь, причем где-нибудь подальше от Саккары.
Во время ужина в «Мена Хаус», который всегда проходил в общем составе, барон фон Ностиц отсутствовал. Происшествия последних дней так потрясли их, что ни Халима, ни Омар, ни Нагиб не придали этому особого значения. Когда они перешли к десерту — сладкому блюду из риса и коричневого сахара, — барон же все еще отсутствовал, Омар поднялся в его комнату и обнаружил ее пустой.
— Он уехал, — сообщил Омар, вернувшись за стол.
Все трое переглянулись — и все подумали об одном и том же. Фон Ностиц был не тем человеком, кто сдается на полпути, и уж точно не перед самой целью. Он вбил себе в голову, что должен совершить нечто значительное, чтобы имя его осталось в памяти потомков. Он сделал это — по крайней мере, по его мнению.
Но о том, кого помнить, решают сами потомки. На следующее утро Густав-Георг барон фон Ностиц-Вальнитц был найден мертвым в 660 метрах на восток от ступенчатой пирамиды в Саккаре. Он застрелился из собственного маузера. Тело барона находилось в нескольких метрах от замурованной цистерны, запечатанной поколения назад и служившей до сих пор мусорной кучей для бедняков.
Несколько дней спустя туристы обнаружили неподалеку нацарапанную на земле надпись: «Вечное непостижимо».
Барон достал лист с переводом текста плиты из Рашида, который он постоянно носил с собой. Он протянул его Нагибу, но тот отвернулся. Он знал содержимое наизусть.
— Три слова! — повторил Нагиб, указывая на три строчки.
— Последнее предложение текста с плиты из Рашида гласит: «Поэтому мы, священнослужители Мемфиса, на том месте камни сложили, где светящиеся руки Ра оканчиваются, когда день и ночь сравняются на закате на западном горизонте, чтобы ворота к богу закрыты навеки остались».
Фон Ностиц был поражен неожиданным открытием. Как долго бродили они в темноте, а решение оказалось таким простым. Во времена Имхотепа существовало лишь одно строение, которое могло отбрасывать тень. И на закате тень падала на восток То есть вход в гробницу находился восточнее пирамиды, точнее, в том самом месте, где тень заканчивалась в день равноденствия, 21 мая или 23 сентября. Но которую из дат имели в виду священники? Весеннее или осеннее равноденствие?
— Какое сегодня число? — спросил барон, взглянув на остальных.
Нагиб кивнул, Омар и Халима не реагировали. От дня осеннего равноденствия их отделяли трое суток. Но кого это теперь волновало? Всем им стало ясно, что в природе существуют загадки, не требующие разгадок, и вопросы, не нуждающиеся в ответах, загадки и вопросы, обращенные в вечность.
Омар заявил об убийстве в Караколе в Гизе. Он также сообщил о темных делишках Вильяма Карлайля и племянницы Хартфилда Амалии Дунс и о том, что Карлайля видели непосредственно после убийства, когда он в спешке покидал отель. Розыски полиции быстро дали результат: Карлайль был задержан в отеле «Ориент», приличном месте, в котором останавливались преимущественно англичане. Омар опознал Карлайля как находившуюся в розыске личность, микасса же подтвердил, что видел, как тот покидал отель «Мена Хаус».
Когда Омар в ярости бросил Карлайлю в лицо обвинение в том, что тот убил Хартфилда, чтобы вступить совместно с его племянницей во владение имуществом убитого, Карлайль, чьи нервы были на пределе, сломался и признался в том, что миссис Дунс уговорила его совершить преступление, пригрозив бросить его. Но это бы означало для Карлайля конец его жизни, потому что он был в нее влюблен.
Две вещи занимали мысли Омара, когда он на такси возвращался в «Мена Хаус»: во-первых, как мужчина может влюбиться в суфражистку вроде Амалии Дунс. Но жизнь научила его тому, что предсказать можно лишь путь звезд, все человеческое же своеобразно и непредсказуемо. Второй заботой было объяснить барону, что Омар больше не хочет иметь ничего общего с тем делом, для которого тот его нанял. Он хотел начать с Халимой новую жизнь, причем где-нибудь подальше от Саккары.
Во время ужина в «Мена Хаус», который всегда проходил в общем составе, барон фон Ностиц отсутствовал. Происшествия последних дней так потрясли их, что ни Халима, ни Омар, ни Нагиб не придали этому особого значения. Когда они перешли к десерту — сладкому блюду из риса и коричневого сахара, — барон же все еще отсутствовал, Омар поднялся в его комнату и обнаружил ее пустой.
— Он уехал, — сообщил Омар, вернувшись за стол.
Все трое переглянулись — и все подумали об одном и том же. Фон Ностиц был не тем человеком, кто сдается на полпути, и уж точно не перед самой целью. Он вбил себе в голову, что должен совершить нечто значительное, чтобы имя его осталось в памяти потомков. Он сделал это — по крайней мере, по его мнению.
Но о том, кого помнить, решают сами потомки. На следующее утро Густав-Георг барон фон Ностиц-Вальнитц был найден мертвым в 660 метрах на восток от ступенчатой пирамиды в Саккаре. Он застрелился из собственного маузера. Тело барона находилось в нескольких метрах от замурованной цистерны, запечатанной поколения назад и служившей до сих пор мусорной кучей для бедняков.
Несколько дней спустя туристы обнаружили неподалеку нацарапанную на земле надпись: «Вечное непостижимо».
Там, где кончаются следы
Это была история Омара Муссы, как она была записана им в дневнике; но история Муссы еще не окончена. Он не стал дописывать ее до конца, и я, вероятно, знаю на то причину. Омар не хотел больше вспоминать об этом. На небольшое состояние, оставленное ему, Халиме и Нагибу Густавом-Георгом бароном фон Ностиц-Вальнитцем, они начали новую жизнь. Омар с Халимой вернулись в Берлин, он открыл антикварный магазин на Кенигсштрассе, около 1930 года они поженились. Нагиб задержался в Каире, но через пару лет также перебрался в Германию, поселившись в Дюссельдорфе, где достаточно быстро растратил все деньги. Если говорить честно, Омар с Нагибом никогда не были настоящими друзьями. Судьба свела их при необычных обстоятельствах, и лишь это определило их годами поддерживавшиеся отношения. Это объясняет ту внезапность, с которой разошлись их пути, и тот факт, что, живя в одной стране, они были столь далеки друг от друга. Возвращаясь к началу нашей истории, начавшейся с незаметной записки с надписью «Убийца № 73», я хотел бы вновь вернуться к убийству профессора Хартфилда, которое, казалось бы, не имеет отношения к делу. Казалось бы… После признания в совершении убийства, которое дал Вильям Карлайль под давлением Омара, он был выслан египетскими властями, так как речь шла о преступлении иностранца по отношению к иностранцу, и приговорен в Лондоне к смертной казни. Затем же приговор был смягчен на пожизненное заключение. Я узнал об этом в Лондоне, на Глочестер Террейс, 124, где надеялся найти Амалию Дунс, племянницу профессора Хартфилда. Омар столь точно описал двухэтажное здание викторианского стиля, что я узнал его еще издали. Металлическая табличка с именем «Хартфилд» была заменена на пластиковую, с именем «Клейтон», что сперва не вызвало моего удивления. Лишь когда в ответ на мой звонок дверь открыла привлекательная женщина средних лет, которую, как мне показалось, я уже где-то видел, я вспомнил о Джульет Клейтон, служащей «Кристис», чье поведение тогда — а наше знакомство состоялось около двух лет назад, — показалось мне загадочным. Женщины всегда готовы загадывать нам загадки своей внешностью (и не только ею!). Некоторые из них раз в несколько лет полностью меняют внешность — прическу, косметику, стиль. Но в тот момент мне пришло в голову, что передо мной все же сестра Джульет. И я не ошибся. Не упоминая имени Джульет Клейтон, я представился знакомым миссис Дунс и узнал, что стоявшая передо мной женщина — ее дочь, а миссис Дунс умерла от рака легких несколько лет назад. Амалия Дунс в середине тридцатых годов вышла замуж за некоего Герберта Клейтона из Сассекса. У них было две дочери, Джульетт и Сара. Сара Клейтон жила одна в огромном доме, а дамы этого типа, если завоевать их доверие, начинают изливать на вас настоящие словесные потоки. Такому потоку информации я и обязан ценными сведениями: например, я узнал, что брак родителей Сары не был счастливым, потому что между ними постоянно вставал мужчина по имени Карлайль. Несмотря на то что тот был приговорен к пожизненному заключению, — о причинах которого мисс Клейтон не захотела говорить, — одно упоминание о нем вызывало постоянные ссоры. Наконец, по причине преклонного возраста — ему уже исполнилось семьдесят — Карлайль был освобожден, и первым человеком, которого он захотел увидеть, была ее мать. В тот же день Клейтон, ее отец, ушел из дома; он запил и через год умер. Карлайль же, напротив, появлялся все чаще. Несмотря на то, что полжизни он провел в тюрьме, Карлайль обладал невероятной жизненной силой и относился к сестрам как отец. Я поймал себя на том, что не слушаю мисс Клейтон. Ее рассказ вызвал во мне ряд ассоциаций, и я осторожно осведомился, не отвечали ли они, сестры, этому Карлайлю симпатией. О да, ответила мисс Сара Клейтон. Бедняга, он ведь искупил свою вину. Это была старая, запутанная история, из-за которой его приговорили. Далее я услышал, что тот часто говорил о своем деле. Скорее даже в его рассказах была лишь одна тема — его «дело», и лишь оно его занимало. Поддерживала ли его Амалия Клейтон? Без сомнения. А сестры? Насколько это было в их силах. Упоминал ли он когда-нибудь имя важнейшего свидетеля, Омара Муссы? При упоминании этого имени разговор стих. Мисс Сара спросила, не из полиции ли я и что вообще мне от нее нужно, она и так рассказала мне, чужаку, слишком много. Мне пора уходить. Что я и сделал. Из отеля «Глочестер» я послал ей букет цветов с моей визитной карточкой и словами благодарности за предоставленную информацию. Мне не долго пришлось ждать, Сара Клейтон вскоре позвонила мне в отель. Она извинилась за грубость, но ведь история эта настолько деликатная, что ее нельзя просто так рассказать любому встречному. Но, так как, судя по всему, я знаю обо всем этом больше, чем ей бы хотелось, она приглашает меня на следующий день на чашку чая — если я не против. Конечно, против я не был, а чай, который она подала, был превосходен. Но еще более меня удивило присутствие ее сестры, Джульет Клейтон. Как только Сара рассказала ей о моем визите, та вспомнила меня и предложила встретиться, потому что опасалась, что с моим упорством я не остановлюсь, пока не узнаю всего, а ложными сведениями я мог причинить больше вреда, нежели узнав сразу всю правду. Таким образом я узнал о том, что произошло на самом деле: Вильяма Карлайля после освобождения преследовала лишь одна мысль: месть Омару Муссе. Он был убежден, что без свидетельства Омара он бы не был осужден за убийство Хартфилда. Годами он искал Муссу, сначала в Египте, затем в Берлине и, наконец, узнал, что после войны тот переселился в Дюссельдорф. Как всегда, сведения эти попали к Карлайлю случайно. Джульет рассылала в «Кристис» каталоги аукционов и однажды наткнулась на имя Омара Муссы, адрес — Кенигсаллее, Дюссельдорф. Когда Карлайль узнал, что Омар получил номер на аукцион египетского искусства, он разработал дьявольский план. С помощью каких-то темных связей, оставшихся у него со времен заключения, он достал так называемый смертельный шприц, укол которого прекращает кровообращение, вследствие чего через несколько секунд наступает смерть. Обе женщины утверждали, что ничего не знали об этом, а Джульет клялась Всевышним, что, знай она о планах Карлайля, никогда не выдала бы номер 135. В суете аукциона Джульет не заметила, что в зале находятся два человека с одинаковыми именами. Как выяснилось позже, на протяжении лет за Омаром следили агенты нескольких секретных служб. Ни одна из служб не продвинулась в поисках Имхотепа, но немцы и англичане (французы прекратили расследование) считали, что Омару известно больше всех. Предложение стоимостью в 1 000 000 фунтов, сделанное английской службой, Омар отклонил, сказав, что вообще не понимает, о чем идет речь. Конечно, Джульет не подозревала, что участник с номером 135 — не Омар, а агент, присвоивший его имя, вероятно, чтобы сбить с толку своих противников. Карлайль не видел Омара около пятидесяти лет, к тому же был настолько увлечен мыслями о мести, что также не заметил подмены. После совершения задуманного он бежал в Бристоль к бывшему товарищу по заключению, но через несколько дней вследствие сильного волнения сто хватил удар, и он умер. Вопрос о том, кто же подложил записку с надписью «Убийца № 73» в статуэтку кошки Бастет, остался загадкой. Если исходить из того, что документы Омара подделал агент британской службы, можно было заподозрить агента соперников, наблюдавшего за сценой. Ситуация, однако, могла быть и прямо противоположной, однако для данной истории это абсолютно не важно.Ф. В.Байеррайн, август 1990
Последние комментарии
1 день 23 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад