Бега [Юрий Александрович Алексеев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Юрий Алексеев БЕГА сатирический роман
Вступление
Писатель Юрий Алексеев стал «официальным» писателем не сразу. В советское время можно было писать талантливые произведения, но если ты не был членом Союза Советских Писателей, тебя писателем не считали. И еще «непризнанный» писатель трудился простым журналистом в газете «Советский спорт». Заканчивались пятидесятые годы прошлого столетия. Находясь на переднем крае советского спортивного движения, «товарищ Алексеев» стал писать остроумные фельетоны, выявляя недюжинное юмористическое и сатирическое дарование. Вскоре его заметили и пригласили сотрудничать в газету «Вечерняя Москва», после чего в течение нескольких лет подписчики газеты «балдели» от удовольствия, читая искроносные фельетоны Юрия Алексеева. А затем молодой фельетонист был «проглочен» журналом «Крокодил» и стал одним из любимых его сотрудников. Здесь мастерство журналиста приобрело, как говорят, вторую космическую то есть, писательскую скорость. И в свободное от командировок по нашей великой Родине время он присаживался за свой сатирический роман «Бега». Сам автор по большому счету (в отличие от автора предисловия) игрой на ипподроме особенно не увлекался — ну, от силы пару раз «снял», как говорят натуральные игроки, рублей по семьдесят. Но подноготную единственного в те времена в нашей стране злачного прибежища изучил досконально. Однако, ипподром, как таковой служит лишь «пусковым механизмом» в развитии событий, связанных с алчностью нелепо и вдрызг проигравшегося на бегах персонажа. А виной всему стала картина деревенского придурка-дальтоника «Голубой козел», за которую в «самом городе Парижу» платили баснословные деньжищи. Эта картина и становится двигателем занимательных и остроумных сюжетных коллизий, в центре которых оказывается редакция газеты, ее многочисленные сотрудники, окологазетные дельцы, разного сорта прохвосты и, разумеется, богема и липнувшие к ней личности с неопределенным прошлым… Все, как сегодня, хотя до открытия в нашей стране беспредельного количества казино и игровых автоматов оставалось еще приличное количество лет… Роман изобилует колоритнейшими персонажами: все куда-то бегут и что-то неведомое ищут. За этой беготней иронично наблюдает автор, а вместе с ним, не сомневаюсь, будут безудержно веселиться и читатели, поражаясь современности характеров и сюжетных поворотов… Ведь все мы, как и герои этой книги, находимся в постоянных бегах за неизвестно чем, надеясь все-таки поймать «емелину щуку», чтобы жить «по щучьему велению, по моему хотению»…Аркадий Арканов,азартный человек
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Фортуна

Глава I Лишняя копейка
Ночью по крышам катались драные коты и грохотали так, будто они были в сапогах. В город пожаловала весна. Утром, когда затихали подворотни и чердаки, горожане выходили на улицу и смотрели в небо. Небо было чистым. Нежно дымился под солнцем влажный асфальт. Воздух отдавал маникюрным лаком и «Лесной водой». Горожанин становился мечтательным и думал о вечном обновлении природы, пока не приходил к выводу: надо делать ремонт. Мечтатели устремлялись в магазин «Уют» и возвращались с поленницей обоев через плечо. Одновременно в разных концах города начались облавы на вольного маляра. Маляры высокомерничали. Всю зиму они простояли за так и теперь брали свое. В ремонтном ажиотаже за маляра был принят и плакатист Станислав Бурчалкин. С пучком колонковых кистей в руках он возвращался из рекламбюро, когда к нему пристроился мечтательный семьянин и начал зазывать на квартиру. Художник с трудом отлепил от себя нанимателя, но тот не успокоился и продолжал семенить сзади, нежно пощипывая мастера за рукава. — Не хватайтесь за поручни уходящих вагонов, — сказал плакатист, остановившись, и, провожаемый горячим шепотом об исключительных условиях подряда, зашагал проходными дворами в сторону ипподрома. Кузница лошадиных кадров откликнулась на приход весны в числе первых; заборы на ближних подступах к ипподрому пестрели свежими афишами:
На дорожке ипподрома застенчиво суетились воробьи. С утра на конюшню привели пополнение рысаков, и отощавшие за зиму пичуги оживленно делились видами на урожай. До начала заездов оставалось больше часа, но на трибунах уже толкались знатоки с фиолетовыми губами. Они щелкали секундомерами, слюнявили химические карандаши и лихорадочно размечали программки, приговаривая: — Это уж точно! Как в шведский банк!.. Знатоку обычно известны и скорость ветра, и состояние дорожки, и самочувствие конюха, и родословная лошади до седьмого копыта. Разбуди его ночью и спроси: «Кто такой Квазимодо?» И, не размыкая век, он живейше ответит: «Жеребец от Кваса и Зимушки». И уж, само-собой, знатоку до смешного ясно, как сложится любой забег, кто кого обставит на корпус или полшеи. Он глубоко верующий человек и, стоя на трибунах, заранее прикидывает: — Выкупить пальто — полсотни, за квартиру — десять, четвертак — в кассу взаимопомощи… Остальные просто некуда девать! После финального заезда он идет пешком в неоплаченную квартиру, утирая слезы ломбардной квитанцией. Он бледен, зол и готов выпороть себя вожжами. Но вожжей ему не дают, и через день он снова на трибунах и, ревниво озираясь по сторонам, шепчет: — Верная комбинация… Как в шведский банк! Но сегодня знатоки держались одной кучей и обсуждали последнюю ипподромную новость: любитель скачек Ян Пшеничнер ездил в отпуск к брату в Одессу, проигрался, но зато купил на толкучке редкостную картину и заработал чуть ли не двадцать тысяч!.. Событие всколыхнуло азартные беговые умы. Больше всех горячился Оракул — несчастный красноглазый жучок в пальтишке с обглоданными пуговицами. Он то лез в самую кучу и ложился небритым подбородком на плечо завсегдатая Акимушкина, то отбегал на значительное расстояние и прикидывал что-то на грязноватых пальцах. Кроме табачной трухи в карманах жучка давно ничего не водилось. Сумма его ошеломила. В голове гудело, как в бочонке, и он хватался за нее и кряхтел, будто насаживал на нее обруч. — Двадцать тысяч новыми, — прокричал ему в ухо Акимушкин. — Это же ни одна лошадь не привезет! Оракул застонал. — Не может быть, — включился пессимист по прозвищу Копыто. — Что же это за картина? Что за Рафаэль этот Пупырев? — Никакой он не Рафаэль! Это мой сосед с улицы Карпеля, — убежденно сказал Акимушкин. — Как сейчас помню, он сбежал за кордон в тридцать шестом… — Вместе с Федей Шаляпиным, — добавил для солидности кто-то. — Только в газетах об этом не писали. — Кто же об этом станет писать, — перешел на шепот Акимушкин, — если Пупырев поплевывает теперь на всех с Эйфелевой башни, а вечерком ест не спеша омара. Интеллигентный Акимушкин не ел с утра и про омара сказал особенно доходчиво. — О черт, он… он ест омара! — беспричинно ожесточился Оракул. — А что вы думали? — подлил масла в огонь Копыто. — Это же наш человек… На улице Карпеля дураков не водится.Большие рысистые испытания
приз открытия сезона
для кобыл старшего возраста

— Как бы не так! — взвился Оракул. — И ноги его на улице Карпеля не было. Слова эти были встречены в штыки. На Оракула злобно зашикали, а Акимушкин на высоких нотах сказал: — Нет, вы только на него посмотрите! Однако Оракул смотреть на себя не позволил, для чего убежал на лестницу, где опять начал прикидывать на пальцах сумму, обкусывая попутно заусенцы. За этим занятием и застал его Станислав Бурчалкин. Завидев художника, Оракул быстро застегнулся на осколки пуговиц и сделал приветливое лицо. Бурчалкин отвел глаза в сторону. Это означало, что денег он не даст. — Нет-нет, вы меня не поняли, — засуетился Оракул. — У меня всего-навсего вопрос. Вы знаете Николая Пупырева? — Откуда такие духовные запросы? — сказал Бурчалкин. — Уж не собираетесь ли вы начать новую жизнь в искусстве? — Не надо смеяться. Скажите, он действительно великий художник? — Великим художником, дорогой Аркадий Иванович, при жизни признан один Нерон. Остальные устраиваются, как могут. — Но позвольте, двадцать тысяч и Нерону не снилось!.. — Слышал, слышал, — перебил Бурчалкин. — Поговорим в другой раз. Мне надо глянуть на лошадей. Стасику было не до Нерона. Он собирался ограбить ипподром и в условленном месте ожидал гонца от Багдадского вора — неразговорчивого наездника Квашенинникова. Знатоки относились к «вору» уважительно и складывали о нем устные легенды. Сказывали, например, что он знает особенное трын-сено и потому может выиграть на любой лошади, даже на рысаке конного милиционера Зеленихина, охранявшего в дни футбола кассы стадиона «Авангард». Весточка от Квашенинникова запаздывала, и Бурчалкин мучался нетерпением, а гонец — бездельник, старший конюх Евстигнеич посиживал себе на перевернутом ведре и лениво скоблил казенной карчеткой фиолетовую цифру 17, проставленную ему на щиколотке в городском доме трезвости. Цифра, по чести говоря, ему не мешала, но он сводил ее в знак протеста. — Лучше бы уж постригли, — ворчал он, трудясь. В самый б раз к праздникам… А то развели химию, паразиты! Ни сердцу ни уму. Расписались!.. Скоро «не приносить!», «не распивать!» на ногах рисовать будут… — Ты чего расселся, как в электричке? — набросился на помощника Багдадский вор. — Тебе где надо быть, а? — Где надо, там меня нет, — рассудительно определил Евстигнеич. — Долг не велик, успеется…

— Я тебе покажу «успеется»! Дело есть дело, сколько можно повторять? Огорченность мешала Евстигнеичу сосредоточиться, и Квашенинникову пришлось разъяснить дело трижды. — Все понял? — спросил он напоследок для верности. — Все, — сказал Евстигнеич, хотя понял далеко не все. — Отнести, значит, на ярус полтинник долгу и… — Не полтинник, а пятьдесят одну копейку. Точь-в-точь. — Ну да, значит, пятьдесят одну, лишнего не сорить и галопом, значит, обратно. Евстигнеич опустил штанину, выбил пиджак о коновязь и пошел на трибуны, размышляя о вреде химии. Последняя мысль привела Евстигнеича к буфетной стойке, где вокруг него табуном сгрудились знатоки.
 — Ну как там? Кто в шансах?
— Так ведь лошадь вроде человека — ее понять надоть…
Знатоки поняли: интеллигентный Акимушкин проворно расстегнул интеллигентный портфель, Копыто полез за пазуху и достал раскладной стаканчик, употреблявшийся некогда для бритья.
Евстигнеич опорожнил стаканчик и обвел подобревшими глазами окружение.
— Сегодня, значит, не поедем, — сказал он. — Отдыхать будем. Лошадь — она не деревянная!
Евстигнеич постучал по дубовой стойке, отчего из кулака выскочила монета и покатилась вниз.
Конюх длинно выругался и, нагнувшись, принялся разгребать колени знатоков.
— Сдвинься в сторону: копейку обронил!
— Да шут с ней, на тебе двушник! — предложил Копыто. — Кто поедет, скажи? Кто в шансах?
Евстигнеич приложил двушку к полтиннику и пожевал губами.
— Надо полагать, Жнея и Казбек… Им полведра овса лишку задали.
Не успел Евстигнеич выбраться на верхний ярус, как по ипподрому уже пронесся слух: «Квашенинников сегодня не едет. А Жнея в шансах… Как в шведский банк!»
Бурчалкин нервно посматривал на часы. Время поджимало. Наконец он сам заметил в толпе расслабленного конюха и бросился ему навстречу.
— Быстро… долг, — проговорил он ему сжато, как сквозь зубную щетку. — Быштро!
— На, держи, — сказал безответственный Евстигнеич и, в нарушение заповеди «лишнего не говорить», прибавил: — Мелочный ты, однако, человек, как я погляжу.
— Топай, топай, отец, я не люблю критики снизу.
Стасик подбросил на ладони полтинник и двушку. Пятьдесят две копейки были условной шифровкой. Они обозначали, что в первом заезде победит лошадь № 5, а во втором — № 2. Не теряя времени Стасик ринулся в кассы. Там была давка. Слухи сделали свое дело: знатоки дружно ставили на Казбека и Жнею.
— Пять — два… Сто билетов, — проговорил Стасик, отпихивая от окошка Акимушкина. Интеллигент слабо заурчал, но покорился.
Вернувшись на трибуны, Стасик развернул программку. В заезде было девять лошадей. Под номером пять выступала Икота — рыжая кобыла от Иконостаса и Тачанки.
— Кого играем? — спросил, подсаживаясь, Оракул.
— «Даму с камелиями», дорогой Аркадий Иванович. И предупреждаю: режиссура собственная, осветителей и суфлера не требуется.
— Вы все шутите, а я только что с конюшни, — понизил голос Оракул. — Есть сведения. Сыграйте Казбека и Жнею…
Аркадий Иванович, он же Оракул, был профессиональным беговым доброжелателем. Стасик жил с ним в одной квартире и точно знал, что играть Оракулу не на что. Но зато он настырно советовал, причем каждому совершенно разный вариант. Дело было верное. Какая-то лошадь все равно выигрывала, и счастливчик тащил благодетеля в буфет.
Стасик искренно не любил своего соседа. Но сейчас ему нужен был зритель. Свидетель ошеломляющего выигрыша. Потому он не стал больше дразнить бегового жучка и дал ему закурить, разрешив запустить грязноватую руку в пачку.
Затренькал сигнальный колокол.
Наездники в разноцветных камзолах стали выезжать на дорожку. В этот момент через барьерчик падока перевалил захмелевший Евстигнеич.
— Все в порядке? — крикнул ему с коляски Квашенинников.
Евстигнеич замотал головой и показал большой палец. Пояснить словесно он ничего не мог по причине выпадения из речи гласных звуков.
Колокол затих. Лошади развернулись и ломаной шеренгой подтянулись к стартовому столбу.
— По-ошел! — отмахнул клетчатым флажком стартер.
К огорчению знатоков, на Казбека полведра не подействовали. Бег повел коварный Квашенинников на своей костистой, рыжей, как отслуживший якорь, Икоте № 5. Остальные лошади вместе с Казбеком плелись за ней так, будто на финише их ждал не приз, а конокрад.
— Деньги назад! — заголосил Акимушкин и голосил с возрастанием до самого финиша, ибо точно знал, что ничего ему не возвратят.
Багдадский вор победил под улюлюкание взбешенных знатоков. Акимушкин задыхался. Копыто пищал, как подранок.
— Прекрасно! — уронил Бурчалкин. — Так будет каждым, кто верит слухам. Пусть неудачник платит. А мы будем получать. Я не Оракул, но смею заверить, в ближайшем заезде победит сыночек Валенка и Долины — Валидол под номером два.
Вопли не прекращались вплоть до следующего заезда, пока, на радость знатокам, вперед не вышла фаворитка Жнея.
— Ну вот, извольте! — встрепенулся Оракул. — Я же говорил — одна Жнея, и никого рядом!
— Уймите волнения и страсти, — сказал Бурчалкин. — На бегах знание — не сила. У лошади свои планы, а у наездника — свои.
Однако приемистая Жнея ушла вперед на целый столб.
За ней с отрывом следовали вороной Валидол и колченогий Горбунок, погоняемый Квашенннниковым. Близился финиш.
— Жнея! Одна Жнея! — прыгали от радости знатоки.
— Что я говорил? — возликовал Оракул. — Как в банк!
— Я ставлю на тех, кто правит, а не на тех, кто везет, — сказал Стасик. — У меня привычка смеяться последним…
И тут произошло нечто, понятное лишь кругам, приближенным к конюшне. И без того резвую Жнею наездник презентовал хлыстом. Кобыла вскинулась и козлом запрыгала поперек дорожки…
Знатоки ахнули. Потом затихли. И тут же обрушили на Жнею проклятья.
— Только так! — оживился Бурчалкии. — Так будет с каждым! Пусть неудачник платит, кляня свою судьбу… А вот и мой Валидольчик зашевелился. Пять — два… Только так!
Валидол № 2 шилом проскочил мимо застопоренной Жнеи, но за ним прытко рысил голова в голову маленький ишачковый Горбунок. Цифра 1 на его чересседельнике перекосилась и походила на тире.
«Куда он жмет, подлец!» — заволновался Стасик и без всякой надежды быть услышанным закричал:
— Придержи, багдадец!..
Но «багдадец» привстал в коляске, поднял хлыст и стал обхаживать Горбунка быстро и злобно, словно пыльный ковер. Горбунок вытянул, как только позволили позвонки, шею и закончил бег первым…
— Пять — один? — подскочил Аркадий Иванович. — Ну, знаете, это чистый грабеж! Такую комбинацию даже я никому не советовал… Боже мой, какие деньги!.. Ты слышишь, Стасик?
Стасик ничего не слышал. Медленно, словно там была муха, он разжал кулак и с ненавистью смотрел на полтинник и двушку. Пять — два… В чем же дело? Он ничего не понимал. Тем временем Евстигнеич тоже ничего не слышал и не понимал. Он спал, подложив под голову чепрак. Ему снился санитар, запряженный в коляску. На спине санитара проступала лиловая таблица Менделеева.
— Ну как там? Кто в шансах?
— Так ведь лошадь вроде человека — ее понять надоть…
Знатоки поняли: интеллигентный Акимушкин проворно расстегнул интеллигентный портфель, Копыто полез за пазуху и достал раскладной стаканчик, употреблявшийся некогда для бритья.
Евстигнеич опорожнил стаканчик и обвел подобревшими глазами окружение.
— Сегодня, значит, не поедем, — сказал он. — Отдыхать будем. Лошадь — она не деревянная!
Евстигнеич постучал по дубовой стойке, отчего из кулака выскочила монета и покатилась вниз.
Конюх длинно выругался и, нагнувшись, принялся разгребать колени знатоков.
— Сдвинься в сторону: копейку обронил!
— Да шут с ней, на тебе двушник! — предложил Копыто. — Кто поедет, скажи? Кто в шансах?
Евстигнеич приложил двушку к полтиннику и пожевал губами.
— Надо полагать, Жнея и Казбек… Им полведра овса лишку задали.
Не успел Евстигнеич выбраться на верхний ярус, как по ипподрому уже пронесся слух: «Квашенинников сегодня не едет. А Жнея в шансах… Как в шведский банк!»
Бурчалкин нервно посматривал на часы. Время поджимало. Наконец он сам заметил в толпе расслабленного конюха и бросился ему навстречу.
— Быстро… долг, — проговорил он ему сжато, как сквозь зубную щетку. — Быштро!
— На, держи, — сказал безответственный Евстигнеич и, в нарушение заповеди «лишнего не говорить», прибавил: — Мелочный ты, однако, человек, как я погляжу.
— Топай, топай, отец, я не люблю критики снизу.
Стасик подбросил на ладони полтинник и двушку. Пятьдесят две копейки были условной шифровкой. Они обозначали, что в первом заезде победит лошадь № 5, а во втором — № 2. Не теряя времени Стасик ринулся в кассы. Там была давка. Слухи сделали свое дело: знатоки дружно ставили на Казбека и Жнею.
— Пять — два… Сто билетов, — проговорил Стасик, отпихивая от окошка Акимушкина. Интеллигент слабо заурчал, но покорился.
Вернувшись на трибуны, Стасик развернул программку. В заезде было девять лошадей. Под номером пять выступала Икота — рыжая кобыла от Иконостаса и Тачанки.
— Кого играем? — спросил, подсаживаясь, Оракул.
— «Даму с камелиями», дорогой Аркадий Иванович. И предупреждаю: режиссура собственная, осветителей и суфлера не требуется.
— Вы все шутите, а я только что с конюшни, — понизил голос Оракул. — Есть сведения. Сыграйте Казбека и Жнею…
Аркадий Иванович, он же Оракул, был профессиональным беговым доброжелателем. Стасик жил с ним в одной квартире и точно знал, что играть Оракулу не на что. Но зато он настырно советовал, причем каждому совершенно разный вариант. Дело было верное. Какая-то лошадь все равно выигрывала, и счастливчик тащил благодетеля в буфет.
Стасик искренно не любил своего соседа. Но сейчас ему нужен был зритель. Свидетель ошеломляющего выигрыша. Потому он не стал больше дразнить бегового жучка и дал ему закурить, разрешив запустить грязноватую руку в пачку.
Затренькал сигнальный колокол.
Наездники в разноцветных камзолах стали выезжать на дорожку. В этот момент через барьерчик падока перевалил захмелевший Евстигнеич.
— Все в порядке? — крикнул ему с коляски Квашенинников.
Евстигнеич замотал головой и показал большой палец. Пояснить словесно он ничего не мог по причине выпадения из речи гласных звуков.
Колокол затих. Лошади развернулись и ломаной шеренгой подтянулись к стартовому столбу.
— По-ошел! — отмахнул клетчатым флажком стартер.
К огорчению знатоков, на Казбека полведра не подействовали. Бег повел коварный Квашенинников на своей костистой, рыжей, как отслуживший якорь, Икоте № 5. Остальные лошади вместе с Казбеком плелись за ней так, будто на финише их ждал не приз, а конокрад.
— Деньги назад! — заголосил Акимушкин и голосил с возрастанием до самого финиша, ибо точно знал, что ничего ему не возвратят.
Багдадский вор победил под улюлюкание взбешенных знатоков. Акимушкин задыхался. Копыто пищал, как подранок.
— Прекрасно! — уронил Бурчалкин. — Так будет каждым, кто верит слухам. Пусть неудачник платит. А мы будем получать. Я не Оракул, но смею заверить, в ближайшем заезде победит сыночек Валенка и Долины — Валидол под номером два.
Вопли не прекращались вплоть до следующего заезда, пока, на радость знатокам, вперед не вышла фаворитка Жнея.
— Ну вот, извольте! — встрепенулся Оракул. — Я же говорил — одна Жнея, и никого рядом!
— Уймите волнения и страсти, — сказал Бурчалкин. — На бегах знание — не сила. У лошади свои планы, а у наездника — свои.
Однако приемистая Жнея ушла вперед на целый столб.
За ней с отрывом следовали вороной Валидол и колченогий Горбунок, погоняемый Квашенннниковым. Близился финиш.
— Жнея! Одна Жнея! — прыгали от радости знатоки.
— Что я говорил? — возликовал Оракул. — Как в банк!
— Я ставлю на тех, кто правит, а не на тех, кто везет, — сказал Стасик. — У меня привычка смеяться последним…
И тут произошло нечто, понятное лишь кругам, приближенным к конюшне. И без того резвую Жнею наездник презентовал хлыстом. Кобыла вскинулась и козлом запрыгала поперек дорожки…
Знатоки ахнули. Потом затихли. И тут же обрушили на Жнею проклятья.
— Только так! — оживился Бурчалкии. — Так будет с каждым! Пусть неудачник платит, кляня свою судьбу… А вот и мой Валидольчик зашевелился. Пять — два… Только так!
Валидол № 2 шилом проскочил мимо застопоренной Жнеи, но за ним прытко рысил голова в голову маленький ишачковый Горбунок. Цифра 1 на его чересседельнике перекосилась и походила на тире.
«Куда он жмет, подлец!» — заволновался Стасик и без всякой надежды быть услышанным закричал:
— Придержи, багдадец!..
Но «багдадец» привстал в коляске, поднял хлыст и стал обхаживать Горбунка быстро и злобно, словно пыльный ковер. Горбунок вытянул, как только позволили позвонки, шею и закончил бег первым…
— Пять — один? — подскочил Аркадий Иванович. — Ну, знаете, это чистый грабеж! Такую комбинацию даже я никому не советовал… Боже мой, какие деньги!.. Ты слышишь, Стасик?
Стасик ничего не слышал. Медленно, словно там была муха, он разжал кулак и с ненавистью смотрел на полтинник и двушку. Пять — два… В чем же дело? Он ничего не понимал. Тем временем Евстигнеич тоже ничего не слышал и не понимал. Он спал, подложив под голову чепрак. Ему снился санитар, запряженный в коляску. На спине санитара проступала лиловая таблица Менделеева.
Глава II Нечестивый козел
Размерами и прокуренностью комната Бурчалкина напоминала тамбур общего вагона дальнего следования. Хозяин лежал на тахте, занимавшей ровно половину житейского пространства, и находился в привычных размышлениях: «Что же предпринять?» За окном резвилось утро. Солнечные лучи стаями бились о переплет, рассыпаясь по стенам в золотистый пух. Стасик лежа исследовал потолок и прислушивался, как по коридору ходит Аркадий Иванович и ругает государственное устройство. Наконец шаги замерли, и нерешительная рука стала тихонечко морзировать в тонкую дверь. — Меня нет! — крикнул Стасик. — Я ушел в себя. — Прости, сосед, я буквально на минуту. — Аркадий Иванович протиснулся в комнату на полбюста. — Выручите рублем до пятницы, а то форменный суховей в горле. Аркадий Иванович икнул и боковым петушиным взором покосился на флакон с остатками «Шипра». Стасика передернуло: — Да-а, по страданиям вы обогнали Вертера! С этими словами он полез рукой под тахту и достал плоскую флягу с днестровским аистом на этикетке. Аркадий Иванович судорожно и благодарно пошевелил кадыком. Стасик отвинтил пробку и налил полстакана. Аркадий Иванович опрокинул стаканчик и уставился на аиста так, будто ждал от него детей. Бурчалкин понял, но флягу тем не менее убрал. Оракул помолчал, оттаял и почему-то обнаглел. — Мелкий ты человек, Станислав Ильич, — сказал он сварливо, — Евстигнеич правильно тебе это припомнил. Мелкий!.. — Вот так так! Я принес этому умирающему лебедю «живой воды», а он выгнул шею «вопросом» да еще грубит! — Все равно мелкий и невоспитанный, — шипел лебедь, глядя под тахту. — А я, к вашему сведению, был королем, — он повел плечами, будто поправлял мантию, — королем сложных переломов, лучшим хирургом Поволжья. Меня даже приглашали в Москву. Но я отпугнул фортуну перегаром, и она прошла мимо с полным рогом, так и не дав мне ничего… — Бросьте, Аркадий Иваныч. Фортуны нет. — Нет есть! Только она бросает дары через дуршлаг. Да, да! Не елочной кучей, не лавиной, а именно через дуршлаг. Главное, попасть под дырку… Под такую дырку и попал конопатый Колька Пупырев, а по деревенскому просто Пуп. Вранье, что он с улицы Карпеля! Мы росли в Больших Крохоборах на реке Безрыбице. Вместе удили рыбу, играли в бабки и трясли яблони. Но я был коноводом, сорвиголовой, а Пуп не умел ни плавать, ни верхом. Когда играли в бабки, он, кривая рука, с удара разносил стекло в ближайшей избе. Вдобавок он был дальтоником и рисовал листочки коричневыми, а ствол — зеленым. В шестнадцать лет он добыл в соседнем Белужинске тюбики и намалевал… что бы вы думали?.. Зеленую корову с желтым выменем! Мы хватались за животы, как от щавеля. Мы, дураки, смеялись. А его дед, старовер и сектант, поставил его в угол на горох (есть такой милый обычай) и велел таким образом набираться разума… И Коля «набрался». Отстояв положенное, он стянул чистую холстину и нарисовал голубую козлиную рожу с бельмами на глазах и сивой бородой, как у деда. Дед хоть и не пользовался ни в жисть зеркалом, но каким-то чутьем себя опознал и отодрал внука веревочными вожжами. Веревочные — это, я вам доложу, не суконные! Колю пришлось отливать водой. Но он просох, отлежался и снова взялся за кисточки… Дед, понятно, обратно за вожжи… Так у них и пошло. В тридцать девятом я закончил фельдшерское училище и вернулся в Крохоборы большим человеком. Старики снимали шапки и называли меня «Иванычем». А как, спрашиваю, наш Пуп? Не протер его дед вожжами? А Пуп, представьте, забрал свои помалевки и смотался в Одессу… Простору, видите ли, ему после вожжей захотелось… Ну, ладно! Проходит год, и от него — письмо. Думаете, из Одессы? Из Парижа… Каково? У нас дальше Белужинска люди не выбирались, а тут тебе натуральный Париж! О нем и толком-то никто не знал. (Я, признаться, так разволновался, что выпил недельный запас спирта.) И писал он нам, что поезда в Париже ходят под землей, а народ — ест лягушек. По селу, конечно, поползли слухи: «Париж город овражистый и голодный, коль до лягушек добрались». Но потом Коля прислал деду сапоги с бархатной оторочкой, и суждение о Париже изменилось. Из дальнего Заозерья шли ходоки глянуть на французскую обувку. Дед повесил сапоги рядом с ходиками и не снимал со стены до самой смерти. И козлиный портрет свой он тоже полюбил, и тоже посадил на гвоздик. Ну, да бог с ним, с дедом. Но Пуп — вот что интересно! Как он ускользнул в свой Париж? На каком пароходе? И почему его помалевки стоят таких бешеных денег… Вожжи ему, что ли, зачлись! Ведь теперь за его ранними картинами гоняются как за воблой, а платят как за бамбукового медведя. Редкость! А когда-то эта «редкость» валялась в коровнике на краю Больших Крохобор, а «великий» художник спал на кулаке и рукавом укрывался. Это я вам точно говорю. Так бы он и продремал, но вот — фортуна! Я — бывшая надежда сельской хирургии — разношу за стаканчик слухи с конюшни, а дальтоник — чудной все-таки город Париж — прыгнул из коровника на Эйфелеву башню. Теперь он, везун, поплевывает на меня с высоты и трескает каждый день омара. Вот что значит не родись красивым… Фортуна! И Пшеничнеру — тоже, между прочим, дико повезло. Как он раскопал какую-то пупыревскую картину в Одессе — чудеса! Чистой воды фортуна!! Ведь столько лет прошло… Но ничего, еще осталась одна картина — тот самый «Голубой козел». Ее никому не раскопать! Только один человек может это сделать. Он беден и болен. Но он найдет денег на дорогу, а нет, так пойдет в деревню пешком! В комнате повисла подвальная тишина. Со двора доносилась одиночная сухая стрельба доминошников. Кто-то надсадно звал Петьку завтракать. Жирный голубь цокал лапами по карнизу.
— И «бедный, больной человек» твердо намерен шагать в Большие Крохоборы? — раздельно проговорил Стасик.
— Еще бы! Без отдыха и привалов.
— Ну-ну. Передайте пешему привет. Мозолин и платок я вышлю ему бандеролью в Крохоборы.
— Это для чего же мне твой платок?
— Будете вытирать слезы на поминках. Вашего козла давно нет в живых. От него осталось не больше, чем от сапог с бархатной оторочкой.
— Много ты понимаешь! — сказал Оракул. — Плакать мне не придется. — Три года назад я ездил хоронить сестру и знаю…
— Что вы знаете? Что же вы примолкли?
— Никому и ни за что! — Аркадий Иванович замотал головой, будто вынырнул из Безрыбицы и желал теперь освободить уши от воды. — Не скажу ни за какие деньги!
— При чем тут деньги? — Стасик полез рукой под тахту, снова достал фляжку с аистом и поставил ее на стол. — Простите, на чем мы с вами остановились? Вы что-то рассказывали про сестру…
Аркадий Иванович зашаркал ногами по полу, словно собирался его отциклевать. Фляга гипнотизировала Аркадия Ивановича, отнимала все мысли и не давала присочинить на ходу что-либо путное. Он мог сказать только правду, накрепко засевшую в голове, но этого ему как раз и не хотелось.
— И этот человек еще говорит о воспитанности, — сказал Стасик, наполняя стакан, нацеливаясь на него самым определенным образом. — Ну?.. Я долго ждать не буду: у самого в горле сухо…
— Не трогайте стакан! — прохрипел Аркадии Иванович. — «Козел» по-прежнему в нашей деревне… Да, да, в Крохоборах. Он хранится у Герасима блаженного… Отдайте коньяк!.. У них там секта и Козел отпускает грехи. Козел отпущения… ясно?
Аркадий Иванович утихомирил дрожащие руки и залпом выпил.
Минутой позже он зачмокал губами и обмяк на стуле, словно пальто, рухнувшее с вешалки.
Стасик заметался по комнате. Потом остановился у окна. Тугой голубь камнем полетел вниз. Доминошники размашисто обмолачивали щербатый стол. По-прежнему звали Петьку. Петька молча корчил рожи, спрятавшись за дворовый гараж.
— Фортуна, конечно, есть! — сказал Бурчалкин. — Не домком же послал мне Оракула!
Он переложил спящего на тахту, прикрыл дверь и с блудливой улыбкой выскочил во двор.
Антикварный магазин помещался почти рядом с ипподромом, в старом доме с минаретными окнами, Ян Пшеничнер, лысоватый пухлый человечек с влажными маслиновыми глазками, сидел в узком подвальном отсеке, забитом картинами, люстрами и вазами. Вазы поражали своими размерами. Их можно было выставлять разве что у ворот города для удержания неприятеля.
На столе директора лежали потертые нарукавники, школьная непроливашка и пачка сигарет «Махорочные». Ян Пшеничнер очень заботился о наглядной бедности.
С этой же целью он по три месяца задерживал квартплату и одалживал у соседей по рублю до получки.
Благополучно обогнув вазы-надолбы, Бурчалкин по-свойски присел на угол стола.
— Здравствуй, Янчик, есть дело, — сказал он пониженным голосом. — У меня один нескромный вопрос: сколько дадите за картину Николая Пупырева?
Пшеничнер вспыхнул, задвигался, но тотчас слабость в душе подавил и голосом, полным безразличия, сказал:
— Ты еще спроси, что я дам за иерихонскую трубу? Где ты ее возьмешь? Где?!.
— Спокойно, Янчик, я знаю где. У меня есть точная широта, долгота и даже номер подъезда. Нужны только деньги… Немного — пара сотен.
Стасик рассказал все, что знал, утаив широту, долготу и номер подъезда.
Маслиновые глазки Пшеничнера забегали, отражая работу коммерческой мысли.
— Видишь ли Стася, — начал он, затуманившие обращаясь как бы к самому себе, — разве я спорю? Нет, я не спорю. Дело стоящее. Но в какую эпоху мы живем? Мы живем в эпоху лотерейных билетов. И откуда я знаю, как пройдет твой номер? Я не знаю, как пройдет твой номер. Может, будет автомобиль, а может — зубная щетка. А зачем мне зубная щетка, Стася? У меня трое детей, и каждый ест, как инспектор на именинах.
— Значит, не рискнешь? — помрачнел Стасик. — Благородства не хватает? Понимаю. А сколько дашь за Голубого Козла?
— Десять тысяч с довеском…
— Ты хочешь сказать, восемнадцать?
— Мне как-то ближе двенадцать, — уточнил аккуратный Пшеничнер.
— Я вас понял, — сказал Стасик. — Остановимся на пятнадцати. Будем считать эту цифру исходной.
— Исходите из меня, Стася, — сказал Пшеничнер. — У меня Русланчик ходит в музыкальную школу. А вы знаете, что такое музыкальная школа?
— Я все знаю, — сказал Стасик. — Но не слишком ли дорого цените вы Русланчика?
— А что вы думаете? Очень способный мальчик.
— Я тоже. И постараюсь вам это скоро доказать.
Стасик вышел на улицу. Возле магазина разнеженно купались в лужице ипподромные воробьи. Стасик посмотрел на них и задумался. Истраченные на бегах деньги были последними. Оставалась единственная надежда на старшего брата — Романа, человека доброго, но с предрассудками.
Сочиняя на ходу жалостную легенду. Стасик побежал в газету «Художественные промыслы», где работал предрассудочный брат.
В комнате повисла подвальная тишина. Со двора доносилась одиночная сухая стрельба доминошников. Кто-то надсадно звал Петьку завтракать. Жирный голубь цокал лапами по карнизу.
— И «бедный, больной человек» твердо намерен шагать в Большие Крохоборы? — раздельно проговорил Стасик.
— Еще бы! Без отдыха и привалов.
— Ну-ну. Передайте пешему привет. Мозолин и платок я вышлю ему бандеролью в Крохоборы.
— Это для чего же мне твой платок?
— Будете вытирать слезы на поминках. Вашего козла давно нет в живых. От него осталось не больше, чем от сапог с бархатной оторочкой.
— Много ты понимаешь! — сказал Оракул. — Плакать мне не придется. — Три года назад я ездил хоронить сестру и знаю…
— Что вы знаете? Что же вы примолкли?
— Никому и ни за что! — Аркадий Иванович замотал головой, будто вынырнул из Безрыбицы и желал теперь освободить уши от воды. — Не скажу ни за какие деньги!
— При чем тут деньги? — Стасик полез рукой под тахту, снова достал фляжку с аистом и поставил ее на стол. — Простите, на чем мы с вами остановились? Вы что-то рассказывали про сестру…
Аркадий Иванович зашаркал ногами по полу, словно собирался его отциклевать. Фляга гипнотизировала Аркадия Ивановича, отнимала все мысли и не давала присочинить на ходу что-либо путное. Он мог сказать только правду, накрепко засевшую в голове, но этого ему как раз и не хотелось.
— И этот человек еще говорит о воспитанности, — сказал Стасик, наполняя стакан, нацеливаясь на него самым определенным образом. — Ну?.. Я долго ждать не буду: у самого в горле сухо…
— Не трогайте стакан! — прохрипел Аркадии Иванович. — «Козел» по-прежнему в нашей деревне… Да, да, в Крохоборах. Он хранится у Герасима блаженного… Отдайте коньяк!.. У них там секта и Козел отпускает грехи. Козел отпущения… ясно?
Аркадий Иванович утихомирил дрожащие руки и залпом выпил.
Минутой позже он зачмокал губами и обмяк на стуле, словно пальто, рухнувшее с вешалки.
Стасик заметался по комнате. Потом остановился у окна. Тугой голубь камнем полетел вниз. Доминошники размашисто обмолачивали щербатый стол. По-прежнему звали Петьку. Петька молча корчил рожи, спрятавшись за дворовый гараж.
— Фортуна, конечно, есть! — сказал Бурчалкин. — Не домком же послал мне Оракула!
Он переложил спящего на тахту, прикрыл дверь и с блудливой улыбкой выскочил во двор.
Антикварный магазин помещался почти рядом с ипподромом, в старом доме с минаретными окнами, Ян Пшеничнер, лысоватый пухлый человечек с влажными маслиновыми глазками, сидел в узком подвальном отсеке, забитом картинами, люстрами и вазами. Вазы поражали своими размерами. Их можно было выставлять разве что у ворот города для удержания неприятеля.
На столе директора лежали потертые нарукавники, школьная непроливашка и пачка сигарет «Махорочные». Ян Пшеничнер очень заботился о наглядной бедности.
С этой же целью он по три месяца задерживал квартплату и одалживал у соседей по рублю до получки.
Благополучно обогнув вазы-надолбы, Бурчалкин по-свойски присел на угол стола.
— Здравствуй, Янчик, есть дело, — сказал он пониженным голосом. — У меня один нескромный вопрос: сколько дадите за картину Николая Пупырева?
Пшеничнер вспыхнул, задвигался, но тотчас слабость в душе подавил и голосом, полным безразличия, сказал:
— Ты еще спроси, что я дам за иерихонскую трубу? Где ты ее возьмешь? Где?!.
— Спокойно, Янчик, я знаю где. У меня есть точная широта, долгота и даже номер подъезда. Нужны только деньги… Немного — пара сотен.
Стасик рассказал все, что знал, утаив широту, долготу и номер подъезда.
Маслиновые глазки Пшеничнера забегали, отражая работу коммерческой мысли.
— Видишь ли Стася, — начал он, затуманившие обращаясь как бы к самому себе, — разве я спорю? Нет, я не спорю. Дело стоящее. Но в какую эпоху мы живем? Мы живем в эпоху лотерейных билетов. И откуда я знаю, как пройдет твой номер? Я не знаю, как пройдет твой номер. Может, будет автомобиль, а может — зубная щетка. А зачем мне зубная щетка, Стася? У меня трое детей, и каждый ест, как инспектор на именинах.
— Значит, не рискнешь? — помрачнел Стасик. — Благородства не хватает? Понимаю. А сколько дашь за Голубого Козла?
— Десять тысяч с довеском…
— Ты хочешь сказать, восемнадцать?
— Мне как-то ближе двенадцать, — уточнил аккуратный Пшеничнер.
— Я вас понял, — сказал Стасик. — Остановимся на пятнадцати. Будем считать эту цифру исходной.
— Исходите из меня, Стася, — сказал Пшеничнер. — У меня Русланчик ходит в музыкальную школу. А вы знаете, что такое музыкальная школа?
— Я все знаю, — сказал Стасик. — Но не слишком ли дорого цените вы Русланчика?
— А что вы думаете? Очень способный мальчик.
— Я тоже. И постараюсь вам это скоро доказать.
Стасик вышел на улицу. Возле магазина разнеженно купались в лужице ипподромные воробьи. Стасик посмотрел на них и задумался. Истраченные на бегах деньги были последними. Оставалась единственная надежда на старшего брата — Романа, человека доброго, но с предрассудками.
Сочиняя на ходу жалостную легенду. Стасик побежал в газету «Художественные промыслы», где работал предрассудочный брат.
Глава III Командировка в Помпею
— Где Белявский?! — Вы не видели Белявского? — Да найдите же, наконец, Белявского!!! Деловая и трезвая жизнь газеты «Художественные промыслы» была нарушена внезапным исчезновением рабкора Белявского. Его искали, его спрашивали, его требовали, донимая звонками приемную и отделы. — Нету его! Что? Сами незнаем… Звоните в третьей половине дня, — отвечали в редакции. Но Белявский был нужен всем до зарезу, и наиболее настырные просители являлись в газету лично. Сотрудники изнемогали от их допросов; секретарша приемной Милочка охрипла и заговорила крякающим голосом уличного точильщика, а отдел науки и новаторства полным составом отсиживался в уборной: по комнатам бродил угрюмый изобретатель утюга на жидком топливе и требовал все того же Белявского. Чем только не занимаются люди в большом городе! Служат в мимансе. Скрещивают бумажные цветы. Адаптируют сказки Пушкина. Продают камушки для аквариумов. Пишут рефераты «О себестоимости отстрела страусов для условий Южного Урала» или зарабатывают на хлеб-соль рекламными афоризмами типа «Надувная лодка — лучший подарок молодоженам»… Внештатный сотрудник «Художественных промыслов» Белявский был сорокалетним представительным трепачом. В этом и заключалась его профессия. В жизни он придерживался только одного принципа: все обещать, ни в чем не отказывать и ничего из обещанного не делать. — Вам квартиру? Исхлопочу! Да, в центре, только окна будут на север. — Прописать дядю из Саранска? А племянницу устроить в консерваторию? Подумаешь, делов-то! Эта безотказность и создавала ему репутацию человека, который «все может», благодаря чему он действительно кое-что мог… Гурий Михайлович никогда не служил в стрелочниках, не играл в МХАТе и не был инвалидом. Однако носил значок «Почетный железнодорожник», значился членом Театрального общества, состоял в елочной комиссии Дома композиторов и отдыхал почему-то в лечебнице тяжких травм под Хостой. Пасмурные калеки злобно тыкали в цветущего Белявского костылями, но он оставался невозмутимым и, лишь завидев главного врача, неохотно припадал на одну ногу. Невозмутимость Гурия Михайловича была обоснована и покоилась на крепком фундаменте. Взяток он никому не давал, не грозил и не вымогал. Он только обещал… И за это ему бескорыстно шли навстречу. Весна действовала на Гурия Михайловича пробуждающе и рождала приток фантазий. Возмечтавши беспошлинно отдохнуть, он тотчас пообещал что-то темное на киностудии, после чего был оформлен консультантом по быту и реквизиту народов Крайнего Севера и зачислен в съемочную группу «Держись, геолог». Крайний Север не пугал Гурия Михайловича. Сродственная группа «Таежная история» уже выехала в дебри Пицунды, а двухсерийные «Лесорубы» застенчиво «валили лес» в Боржоми. И «геологи» не собирались от них отставать. Во всяком случае, первую опытно-показательную ярангу Белявский наметил раскинуть о зоне Цимлянского водохранилища. Этим и объяснялось его отсутствие в редакции, где он так был всем нужен. Едва Стасик показался в редакции, как на него сразу насел изобретатель адского утюга и, стараясь выглядеть нормальным, еле слышно спросил: — А где товарищ Белявский, а? Куда вы его дели? — Я не здешний, — отмахнулся нетерпеливый Бурчалкин. — Знаем! Знаем мы эти штучки, — завопил, отбросив притворство, изобретатель. — Все вы так говорите. Все! И все-таки пол-кило мазута нагревают утюг добела!.. — С чем вас и поздравляю, — сказал Бурчалкин. — Благодарю вас, — прослезился изобретатель и проводил Стасика взглядом, полним тихой опасной радости. В любую редакцию ходят самые загадочные посетители: изобретатель квадратных колес, личный секретарь Диогена (мемуары) и слегка тронутый заморозками на почве фенолог с одноглазым филином Тишкой на плече. Когда фенолог идет опровергать «Погоду на завтра», Тишка нарочно светит зеленым таксомоторным оком — дескать, мы народ свободный! — и нарочно гукает: «У-уа-у!» Это не к добру. Это предвещает, что в редакцию заявится конферансье — графоман Лесипедов и принесет непечатную смешинку: «Люблю торт „Отелло“: ты его днем ешь, а ночью он тебя душит… а-аха-ха!» Но и в самой редакции, отдадим справедливость, тоже есть что показать. Почти каждая редакция имеет сорокалетнего юношу с ясными, как линзы, и наивными, как у разбуженной Иоланты, глазами. Это — фотокор по отделу спорта. Его нетрудно убедить, что на Огненной Земле вошли в моду сапожки из асбеста, и всполошить сообщением, что такие сапожки завезли недавно в Дом обуви № 2. Насчет Огненной Земли фотокора просвещает внешний обозреватель, гордый и заносчивый эрудит. По редакции он ходит так будто несет на голове аквариум или глобус вместе с народонаселением. В руках у него зарубежный журнал, а из кармашка торчит ручка «Паркер», которой он не пользуется, чтобы не повредить перо. Иностранный язык он «знает» лучше иностранца. Русским владеет со словарем, но охотно выступает на собраниях. И уж в каждой газете непременно есть живой неликвид — человек, не снабженный инвентарной табличкой лишь по невежеству завхоза. Неликвид приходит на службу в девять ноль-ноль, вешает пиджак на принесенные из дому плечики, скатертью расстилает свою газету и весь день пьет на ней чай с хрустящими хлебцами. В рабочей горячке его не замечают год, а то и два. Но наконец в нем пробуждается страх (он же совесть), и неликвид пишет для очищения статью «Куренье и кашель». Тут он попадает в фокус, и все начинают допытываться: «А кто его, собственно, в редакцию привел?» Вместо ответа он начинает судиться. И побеждает… потому что не опаздывает, «как некоторые!», и пьет только чай — «не как некоторые!» В каком именно кабинете помещается отдел культуры, Стасик забыл и потому сунулся наугад в комнату, где сидел международный обозреватель Еланский и замерял высоту потолка глазами. Две мысли одновременно бередили душу Еланского: отобьют ли испанцы Гибралтар у англичан и на какие средства живет Белявский? — Вы не подскажете, где мне найти… — Нету, нету его, — оборвал пришельца Еланский. — И вообще тут иностранный отдел. Здесь Белявского не бывает. — Мне Романа Бурчалкина, — уточник Стасик спокойно. — Миль пардон! — смутился обозреватель. — Третья дверь налево, рядом с кабинетом заместителя редактора. Станислав миновал кабинет заместителя редактора Яремова, откуда доносились возбужденные голоса, и уперся в табличку «Отдел культуры и быта». Чуть ниже мелкими буквами было написано:Бурчалкин Р. И. Кытин В. Я.Ни Кытина, ни Бурчалкина Р. И. в комнате не наблюдалось. Там стояли два жестких стула, кудлатое кресло для посетителей и два стола, на одном из которых лежала волглая пахучая полоса. Стасик по-хозяйски углубился в кресло и от нечего делать взялся за полосу. То была последняя страница завтрашней газеты: новости спорта, программа телевидения, фельетон, погода. Фельетон назывался «Аль Капонэ из Сыромятного переулка».
«До поры до времени Александр Капитонович Епонский, проживающий в Малом Сыромятном переулке, в доме № 5 кв. 1 (вход со двора), считался нашим простым человеком. Но вот пронесся слух, что он, член профсоюза работников торговли и активный семьянин, по ночам ест салат из куриных пупков, а запивает чуть ли не молоком колибри… — Так просто до пупка не доберешься, — говорили работящие, любящие свое дело соседи по лестничной клетке. — Колибри на зарплату не выдоишь! Но Епонский молчал, будто пупков в рот набрал. А ему бы самому пойти в ОБХСС да рассказать бы. Ну дали бы ему лет пять, пусть даже десять, но сколь очистилось бы у него на душе. А главное — кончились бы лестничные пересуды и неудовольствие трудящихся. Но он не пошел, пока за ним не пришли… И вот он сидит. Сидит перед нами — человек-колибрипийца. „Аль Капонэ“ — так звали Александра Капитоновича товарищи по овощной базе. — Как же дошли вы до жизни такой? — спрашиваем мы. — Ведь учились в нашей школе, собирали лом, заливали норки сусликов. И вот… Ведь нехорошо? — Чего же хорошего? — Вам бы взять бы да не воровать бы, — говорим мы. — Да, мне бы взять бы, — соглашается он. — А что — писать будете? — Еще бы! — говорим мы. — Тогда пришлите газетку в камеру, — просит он. Дверь камеры захлопывается с металлическим стуком. — Вам бы пойти бы да рассказать бы! — кричим мы вслед. За дверью слышится тяжелый вздох. Вздох человека, оторвавшегося от коллектива. — Ну что же, — думаем мы. — Аль Капонэ — алькапоньево. С этим пора кончать. Вик. Кытин»
За стеной в кабинете зам. редактора Яремова не утихали шум и все те же возбужденные голоса. Казалось, там передвигают шкаф, а на деле шел творческий спор между Романом Бурчалкиным и автором фельетона Виктором Кытиным; в качестве третейского судьи выступал сам Кирилл Иванович Яремов — представительный и несколько надутый мужчина, походивший лицом на африканского вождя в белом исполнении. — Как тебе влезло в голову переделать Александра Капитоновича в Аль Капонэ? — наступал Роман. — При чем тут Аль Капонэ?! — Такова правда жизни, — упирался, покрасневши, Кытин. — Так звали его товарищи по овощной базе. На лице Кирилла Ивановича выразилось недоверие, но словами он это не подтвердил. Он не любил спешных решений. — Ты хочешь сказать, что товарищам из Овощной базы крайне дорог и близок язык мафии, — усмехнулся Роман. — Ну, а пупки-то при чем, Кытин? Это же курам на смех! — Это художественный прием, — жалобно посмотрел на колеблющегося Яремова сочинитель. — Без пупков не будет фельетона. — И не надо, — сказал Роман. — После суда фельетоном не машут. — Кхм, тут вы, Бурчалкин, не правы, — наложил вето Кирилл Иванович. — Суд — помощник в нашей работе, после него не бывает опровержений. — Больше всего на свете Яремов боялся мышей и опровержений. — И вообще надо помнить о воспитательном резонансе. Не так ли? Стасик между тем исчитал полосу целиком и в ожидании брата размышлял: глуповат ли Кытин от рождения или просто нуждается в деньгах? То, что одно не исключает другого, он ненароком упустил. — Здорово, пропащий! — оборвал размышления голос брата. — Ты с чего это прискакал? Опять проигрался? Стасик поднялся с кресла и, распахнувшись в улыбке, обнял брата за плечи. — Эх ты, морда, — сказал он с грубостью, которую можно было принять и за нежность. — Соскучился я по тебе смертельно. Ну, а кроме эмоций, есть еще и дело. Только скажи сразу: брат ты мне или не брат? — Сколько тебе? — сказал Роман. Он был догадлив. — Сто рублей, — вздохнул Стасик. — На недельку — на полторы. Это я тебе говорю де-юре и де-факто. — Хорошо, но хотелось бы знать зачем? Опять верная комбинация? Опять бега? — Ну что ты! Я туда больше не ходок. Это же форменная мышеловка: вход — копейка, выход — рубль. Между нами, я влетел там в такую историю… Тут Стасик поднапрягся, обдумывая, в какую же именно. — …Словом, как бы тебе яснее… Взялся я, понимаешь, реставрировать картину для одного чудака — Пшеничнер его фамилия — и потерял ее на ипподроме. Нет, нет!! Не проиграл, а оставил, позабыл в расстройстве у касс. — Ну и что же дальше? А дальше хоть села обходи с медведем! Картина-то денег стоит, как ты думаешь. Хорошо еще, чудак Пшеничнер согласен на замену… И требует в сущности чепуху — кустарного «Голубого козла»… — Ну а я-то тут при чем? Неужели сто рублей тебя выручат? — Еще как! Слушай и не перебивай. Представь себе на минуточку Париж и село с поэтичным названием Большие Крохоборы…
— Вот это, я понимаю, тема. Фантастика! — зажегся Роман, дослушав до конца. — Люди молятся на картину дальтоника. Такой материальчик поискать нужно. Тут вход не со двора… «Идеалист, романтик суши, — подумал Стасик. — Знал бы ты, сколько мне вынесет со двора за эту „тему“ Пшеничнер!» — Секта «Голубого козла» — это вам не овощная база! Роман сбегал в соседнюю комнату, принес большую карту и расстелил ее на полу. Стасик лег животом на нейтральный Афганистан и заскользил пальцем по голубой прожилке, обозначавшей реку Безрыбицу. Отыскать Большие Крохоборы не позволял масштаб. Вдоль Безрыбицы собрались, как на водопой, Арбузово, Гончарск, Тихославль, Ивано-Федоровск. Но Белужинск, где еще непризнанный Николай Пупырев покупал краски, тоже словно исчез с лица земли. — Что за новая Помпея? — сказал Стасик. — Не сгорел же он в самом деле! — Кто его знает, — сказал Роман, обдумывая что-то свое. — Если хочешь, едем со мной в Арбузово. Там и узнаем. — Ехать я хоть сейчас! Но почему ты решил в Арбузово? — Там спускают на воду корабль и отправляют по маршруту трех морей: Цимлянское — Азовское — Черное. Так нам написал рабкор Белявский… — А на кой шут нам Цимлянское?! — Все-таки повод. Не могу же я попросить командировку в «Помпею». Наша бухгалтерия шуток не понимает. «У меня повод основательнее», — подумал Стасик и сказал: — Что же, давай. Путешествие по воде — лучший отдых. Братья вышли в коридор. Возле туалета все еще стоял, как на часах, изобретатель утюга и ждал Белявского.
Глава IV Арбузовский мамонт
Есть люди, которые никогда не опаздывают на поезд: это проводники и картежники. Они приходят в вагон раньше всех. Поездка для них — это напряженная, бессонная работа. Едва первый вагон скорого поезда, увозившего братьев Бурчалкиных в Арбузово, проскочил первый семафор, по узкому, как учебный окоп, коридору забегал изможденный человечек: — Пулечку не желаете?.. А напрасно: чая не будет, зато радио будет голосить до самой Рязани, так что все равно не уснем. Поверьте опыту! По вагону заходилипроводники, навьюченные верблюжьими одеялами. Смолкло радио. Стук колес стал еще отчетливее. Дороги… дороги… Днем и ночью со свистом пушечного ядра проносятся скорые поезда, и семафоры только успевают подмигивать им разноцветными глазами. Пожалуй, мы самая пассажирская в мире страна. Страна в движении. Схватывая на лету малосольные огурцы и моченые яблоки, бегают на полустанках непоседливые геологи, монтажники, нефтяники. С пехотным гулом, сквозь который пробивается слово «план», заполняют гостиницы участники широких и узких совещаний. А в транзитных залах на тяжелых противотанковых скамейках с дубовым гербом МПС мирно дремлет отпускник-путешественник с мягким чемоданом в бдительной руке. Но валится из рук чемодан. Отпускник вскакивает, разбуженный трубами и ревом, какой издает разве что китобойная флотилия на подходе к Одессе. Это на перрон выходит шумная зеленая колонна — студенческий строительный отряд. В дорогу! Они едут туда, где нужны их крепкие руки, туда, где огни электросварки стали соперничать с северным сиянием. В дорогу. В дорогу!Когда-то на месте нынешнего Арбузова простирались заброшенные бахчи. На плоской, лишенной горизонта земле копошились толстенькие суслики, в бездонном небе слышался тонкий, флюгерный посвист ястребиных крыльев. Грызуны объедались дикими кавунами, а ястребы избавляли их от резей в желудке. Чучела этих коренных обитателей и составляли основной фонд краеведческого музея. Раз в месяц экскурсоводы пересыпали сусликов нафталинной крошкой и заодно чистили пылесосом «Вихрь» живописную стаю стервятников, приколоченную к стене. Музей занимал целый этаж, и его единственными посетителями были тайные агенты различных организаций, покушавшихся на великолепную площадь. Директор музея Орест Орестович Береста вел с ними позиционную гражданскую войну. В среду после очередной атаки на музей со стороны безземельного женского клуба «Искатели», он начистил зубным порошком медаль, лично выданную ему полковником Егуповым, и пошел в горсовет объясняться. Ночью прошел дождь, и лужицы на тротуарах сверкали как зеркальные осколки. Пересекая «Парк энтузиастов», Орест Орестович поразился тому обстоятельству, что ограда перекрашена за ночь в неприличный мимозный цвет. Запах свежей краски действовал на птиц одуряюще, и они пробовали голоса так робко и заискивающе, будто в них целились из рогатки. — Новаторы! — буркнул Береста уже на площади и, заранее сердясь, поднялся по цементным ступеням в горсовет. — Так, значит, история больше не наука? — сказал он вместо «здравствуйте». — А мы с вами, Егор Петрович, — Иваны, родства не помнящие! Так? — Береста уперся кулаками в стол и посмотрел на председателя страшными, как у боярыни Морозовой, глазами. — Ну зачем же так ставить вопрос, Орест Орестович! — поежился председатель. — Помещение и для живых ястребов великовато. А город растет. Молодежь кафе требует… — Вот именно растет, — перехватил инициативу Орест Орестович. — А его престиж?.. Где освоение былинного прошлого? Где летопись родных и близких сердцу мест? Узко мыслишь, дорогой Егор Петрович! Для ястреба оно, может, и впрямь велико… А для мамонта? Егор Петрович распахнул на взлете белесые ресницы: — Какого еще мамонта?!. — Обыкновенного! Чем же наша земля хуже, чтобы по ней мамонтам не ходить? Ты не думай, раскопаем… «Бред какой-то», — подумал Егор Петрович и сказал против воли: — Ну, конечно, богатство наших местных ресурсов… — Тем более, — поймал на слове Орест Орестович. — Значит, помещение за нами? — Я этого не обещал. — Да пойми меня правильно, Егор Петрович, — с горечью сказал Береста. — Уже само слово «кафе» — бразильское и настраивает на карнавал. И кого? Трудовую часть нашей арбузовской молодежи!.. «Искатели»!.. Знаем мы, чего они ищут. А нужны нам такие настроения? Нет, не нужны. Орест Орестович говорил в испанской манере самовопроса, при которой оратор зажигает себя гораздо больше слушателей и в конце концов сам начинает верить в то, что говорит. Егор Петрович слушал и опять же против собственной воли кивал замороченной головой. Он знал, что потом будет ругать себя последними словами. Но когда Береста говорил, на душе делалось беспокойно: там ползали какие-то противные муравьи; председатель начинал чего-то смутно бояться и не находил сил возражать. — Ну, так будем считать вопрос решенным? — истолковал молчание председателя Береста. — Не знаю, не знаю, — вырвался из оцепенения Егор Петрович. — Надо как следует подумать. — Да чего там думать! История — наука или не наука? — Наука, — вздохнул Егор Петрович и без всякого перехода сказал: — Хочешь на повышение в Белужинск, то есть в Ивано-Федоровск, а? Им в горсовет давно крепкий человек нужен, а сейчас в особенности… — Это что же за особенность? — осведомился не без интереса Береста.
— Да как тебе, Орест Орестович, сказать, не особенность, а сущее бедствие. Дворники, понимаешь, захватили силком целый дом и такую бузу развели — хоть караул кричи. А туда, извольте радоваться, иностранец лыжи навострил! Он и к нам заглянет, будь оно неладно. Егор Петрович говорил горькую правду. После того, как знатный скульптор Сипун сторговался установить в Белужинске грандиозный памятник Первопечатнику, город срочно переименовали в Ивано-Федоровск. Памятник получился удивительный: «Ивана Федорова» было видно издали за три версты. Ничего подобного у соседей не было и даже не предполагалось. Ивано-федоровцы стали малость задаваться. Одновременно у них построили трехэтажный дом с итальянскими окнами и горячей водой. Запланированные четвертый и пятый этажи были съедены прожорливым монументом, но городок тем не менее возгордился окончательно и задумал потягаться чистотой улиц с Арбузовом. За метлами дело не стало. Но потребовались дворники. Тогда и появился на сцене затаенный злодей Муханов. Местом жительства ему определили подвал на улице Льва Толстого, которую он обязался освобождать от окурков, козьих орешков и других, умалявших достоинство Ивана Федорова, предметов. Однако с той поры никто не видел, чтобы Муханов, его жена или старшие сыновья подметали хотя бы раз улицу или ухаживали за Иваном Федоровым. Занятие это они целиком переложили на многодетного родственника Руслана Шаламова, специально выписанного для этого из далекого селения Тон-Орда. Добрый Руслан увлек за собою нежно любимого брата Акбара и нелюбимого дядюшку Акстафу, обещавшего провезти их даром через знакомого проводника.
Так в подвале на улице Льва Толстого появилось двадцать три новых жильца и один ягненок, которого дядюшка Акстафа захватил с собою для ведения подсобного хозяйства. Но горожане не чувствовали, что грядет беда. Их умы были поглощены новым домом. Молодожены томно бродили под итальянскими, еще заляпанными известкой окнами, а главный претендент на однокомнатную квартиру врач Юденич не ел, не пил и едва не отравился калужским «Памиром». А дом стоял пока под замком; запершись в совещательной, комиссия до ночи сочиняла тезисы приветствия новоселам. Тщательно отрабатывался текст. Но жизнь внесла поправку к тексту. В ту же ночь к дому бесшумно подкрались Мухановы — Шаламовы и по приставной лестнице влезли в итальянские окна с семьями и пожитками. Наутро в квартире, предназначенной Юденичу, улюлюкала гармоника с бубенцами и двенадцать пар ног отплясывали танец Ой-Буза, а тринадцатая отмокала в ванной после дальней дороги из Той-Орды… — Так что положение у наших соседей аховое, — заключил рассказ Егор Петрович. — Принимать иностранца врачу Юденичу негде — раз, гостиницу заняли киношники — два, да еще вдобавок собачьи свадьбы и грязища возле памятника… Может, съездишь к ним в Ивано-Федоровск? Они давно крепкого человека просили. А насчет музея — оставь! Не тем у меня голова сейчас занята, будь оно неладно. В час по местному времени Егор Петрович встречал на вокзале именитых гостей. За председателем горсовета неотступно тянулась стая поджарых фотокорреспондентов, загодя прибывших на торжество. Депутация горожан нервно поглядывала на шпалы, убегавшие за линию горизонта мимо Пудаловских бань, и волновалась. Спуск арбузовцами на воду корабля «Чайка» и предстоящая поездка на нем по маршруту трех морей привлекли повышенное внимание со стороны. Первыми нагрянули киношники. Их представитель Белявский пообещал отснять событие на пленку и попутно забронировал двадцать мест на «Чайке» до Янтарных Песков. Испытать качество кают на корабле пожелал и автор памятника Ивану Федорову скульптор-монументалист Сипун. Он дал специальную телеграмму и сообщил, что с ним едет какой-то мистер Бивербрук — «частный предприниматель и общественный деятель». Заграничному деятелю бронь была не нужна (он ехал через Арбузово в Ивано-Федоровск для обмена марками с тамошним знаменитым филателистом Юденичем), но легче от этого арбузовцам не становилось. Опыта по приему иноземцев у них не было. Но подумавши, Егор Петрович на всякий случай велел снять бельевые веревки с балконов, подновить облезлую ограду «Парка энтузиастов» и, главное, вывезти под видом экскурсии за город потомственных дебоширов — Тихоню и Баклажана. Веревки сняли, ограду перекрасили, а на излов дебоширов послали специальный дозор. Теперь можно было встречать гостей. Шестой вагон скорого поезда проскочил метров на десять против обычного, и встречающие побежали вдогонку. Первыми под всполохи фотоблицев попали братья Бурчалкины, а потом чемодан из кожи безымянного животного, который вытащил на ступеньки переводчик Сеня Ольшаный. Следом животом вперед на перрон сошел ваятель-монументалист Сипун в пиджаке «делегат» на шести пуговицах. Крутой излом бровей и сомкнутые скобою вниз губы сразу выдавали в нем мыслителя, озабоченного чем-то важным, а может быть, и первостепенным. Он неспешно подал Егору Петровичу свою знаменитую руку и затем уже представил собравшимся иностранца. Седовласый, но по-ребячьи гладкий иноземец приподнял касторовый котелок и неглубоко поклонился. Не зная, как в таком случае ответить, Егор Петрович отставил ногу назад и приснял свою кепку на два пальца. — Мистер Бивербрук благодарит товарища мэра за встречу и питает надежду, что общение будет взаимоприятным, — затараторил переводчик Ольшаный. Товарищ мэр снова откинул ногу, будто отпихивая кого-то, мешавшего ему сзади, и заверил, что надежда имеет основания. Гостей бережно погрузили в исполкомовскую «Волгу» и повезли прямо на пристань. Следом за ними на городском автобусе отправились и братья Бурчалкины. А на пристани уже началась праздничная суматоха. Принаряженная городская общественность нервно грызла подсолнухи. Представитель солнечного Крыма Остожьев, приготовивший праздничную речь, стукал согнутым пальцем по микрофону и не без удовольствия повторял: — Раз, два, три — проверка слуха. Оркестранты продували медные мундштуки. Виновник торжества — белый корабль на подводных крыльях — разбрасывал по воде пляшущих солнечных зайчиков и готовился в первый рейс с конечным пунктом в Янтарных Песках. Роману Бурчалкину корабль понравился. Он представился Егору Петровичу, и тот познакомил его с главным конструктором судоверфи Суздальцевым. Пока Роман интересовался скоростью корабля, водоизмещением и другими скучными материями, Стасикприметил поодаль «Чайки» неказистый пароходик «Добрыню» и отправился на разведку местности. «Добрыня» ласково терся о причал отслужившими свое мазовскими покрышками, висевшими на его бортах. Команда готовилась к отплытию и криками поторапливала мешочников. По неровному, прошпаклеванному шелухой от подсолнухов трапу споро поднимались Орест Орестович Береста и знаток иностранных душ переводчик Ольшаный, угнетенный задачей обеспечить на уровне и не сорвать встречу Бивербрука с Юденичем в Ивано-Федоровске. Возле трапа стоял вахтенный в фуражке с крабом такой величины, что будь он настоящим, его хватило бы на пять салатов. — Здорово, отец, — обратился Стасик к вахтенному. — Давно плаваешь на корабле? — Какой это корабль! — обнажил свой нигилизм вахтенный, грубо намекая на былую причастность к эсминцам. — Баркас для бабушек, дно в ракушках. Только распилить да шкатулок наделать. Знаешь такие — «Привет из Крыма». А ты «корабль»… — Извини, заведующий, погорячился! — в тон вахтенному сказал Стасик. — А есть на этой реке город-порт Белужинск? — Да разве же это город! — опять намек, дескать, бывали и в Одессе, и в Марселе, — «Белужинск», ха! Не зря его в Ивано-Федоровск обернули: там на пристани и веревку от воблы не найдешь!.. — Это надо проверить, — оживился Стасик. — Я тебе точно говорю, — обиделся моряк. — А не веришь, возьми палубный да проверь! — и отвернулся. Мигом взяв два палубных билета, Стасик ринулся за братом. Роман стоял возле самой трибуны в окружении главного конструктора Суздальцева, Егора Петровича, Агапа Павловича и переводил англичанину выступление представителя солнечного Крыма товарища Остожьева. — Большому кораблю — большое плавание! — певуче повторял Остожьев, радуясь метко найденному слову. — Далекое становится близким. Мы всегда, дорогие арбузовцы, были сердцем с вами, а теперь связаны навеки прямым и дешевым путем! — Срочно на «Добрыню», — шепнул Стасик, потянув брата за руку. — Мы едем в Ивано-Федоровск… — Обождите, товарищ корреспондент! — взмолился Егор Петрович. — Я ведь, кроме «хенде хох!», ничего иностранного не могу, а переводчика мы услали. Останьтесь до завтра… Вам охота «Ивана Федорова» посмотреть? Так не убежит он за ночь, а утром я вам с дорогой душой «Волгу» дам, и поедете вместе с мистером Бивербруком. Ему тоже туда приспичило, будь оно неладно… — Оставайся, — посоветовал Стасик, прикинув, что слишком пылко настроенный на фельетон брат чего доброго «вспугнет» Козла, помешает добыть картину. — Оставайся, а я там все разведаю и буду ждать в гостинице. Будь здоров, пока! — и побежал на посадку. — Да, товарищи, большому кораблю — ба-альшое плавание! — в пятый раз сообщил с трибуны Остожьев, как бы провожая Стасика в дорогу, и в это время в толпе показались потомственный дебошир Тихоня и совершенно синий от наколок Баклажан. За ними смущенно, с чувством невыполненного долга пробирался руководитель лопнувшей «загородной экскурсии». На его честном обескураженном лице светился багровый знак, похожий на отпечаток копыта. Общественность заволновалась. Скульптор-монументалист прикрыл на всякий случай телом свой чертежный футляр, а незнакомый с местными обычаями Бивербрук усиленно закрутил головой, отыскивая причину… Тогда Егор Петрович быстро поднялся к микрофону, оттеснил вздымавшего руки к тучам Остожьева и сказал: — На этом праздничное торжество разрешите считать закрытым! Музыканты взасос припали к мундштукам и затрубили: «В путь, в путь, в путь». Тихоню и Баклажана прикрыли транспарантом «Больше грузов по течению». Почетные гости и сопровождающие повалили к причалу. Пока гости табунили на палубе и задавали нелепые сухопутные вопросы, в салоне накрывали банкетный стол. Тяжело бряцали тарелки дулевского фарфора. Слышался рассыпчатый звон ножей. Официанты из прибрежного «Дуная» белками прыгали между стульев. В центре стола, на самом видном месте, высился метровый деревянный макет — кисть Нептуна, сжимавшая трезубец. Это был как бы символ маршрута трех морей, выполненный весьма искусно. Когда утоленное любопытство сменилось чувством голода, гостей пригласили откушать. — Друзья! — сказал ваятель-монументалист, поднявшись. — Товарищи руководители, строители, речники и другие передовики производства. Позвольте мне, уроженцу здешних некогда скудных окраин, от души поздравить вас с большой победой. Совершен настоящий трудовой подвиг. Не надо бояться слов, товарищи! Совершено нечто историческое! Незабываемое!! Радуясь вместе с вами, я не могу остаться в стороне. Считаю своим прямым долгом увековечить ваш подвиг монументом. Пусть будет он таким же великим и грандиозным! — Ура! — закричал представитель Крыма Остожьев, форсируя аплодисменты. Егор Петрович похолодел. От монумента «Первопечатник» отказались семь городов, а восьмой — Белужинск не устоял и, сделавшись Ивано-Федоровском, оказался на страшной мели. А Сипун переждал «ура» и продолжал: — Слава нашей науке!! Я вижу перед собой великое. Пусть и память о том будет столь же великой! С этими словами он откупорил затянутый патефонной кожей тубус и развернул ватман напоказ. Замысел ваятеля был действительно грандиозен. Бородатый ученый в глухом пиджаке сидел на якоре, ухватившись за голову, как Иван Грозный за голову сына. Взор его упирался в неведомое. Улыбчивый бутуз протягивал ему на толстых ручках кораблик, пионерка — кролика, а группа селян — сноп кукурузных початков. Всего композиция насчитывала двадцать шесть фигур разного пола и возраста. К проекту в качестве объяснения прилагались чуть пожелтевший на сгибах хвалебный отзыв полковника Егупова и газета с подчеркнутыми карандашом словами — «классик жизнеутверждения». Все это Агап Павлович попросил передать через стол Егору Петровичу и главному конструктору судоверфи Суздальцеву. Егор Петрович отодвинул от себя тарелку и беззащитно оглянулся по сторонам. Однако помощи ниоткуда не последовало. — Товарищи, что же вы не участвуете? — потерялся Егор Петрович. — Вот хотя бы вы, товарищ корреспондент… Как вам? — Да, — сказал Бурчалкин, созерцая собранную на ватмане толпу. — Народу, как на демонстрации!.. — Без народа нет связи с жизнью, — сверкнул глазами Агап Павлович. — И наука тоже питается жизнью. Вам, газетчику, пора бы это уяснить. — А по-моему, молодой человек где-то прав, — вступился за газетчика Суздальцев. — Композиция слишком громоздка и парадна. — Может, вам не нравится жизнеутверждение? — хрипло произнес Агап Павлович и вдобавок прокашлялся. Но Суздальцев не испугался. — Утверждать можно по-разному, — сказал он. — И нас больше устраивает иной проект… — Это чей же, если не секрет? — не поверил Сипун. — Скульптора Потанина, если вам интересно. Агапа Павловича так и прожгло. — Потанина?! — вскрикнул он, как оплеснутый кипятком. — Этого… этого затворника от искусства? Этого мифолога?! Представляю, что он вам подсунул! Удосужились, нечего сказать. — Зачем такие резкие выражения, — проговорил Суздальцев. — Вот, пожалуйте, макет перед вами, — и показал на середину стола, где стоял трезубец. — Та-а-ак, — опертым голосом выдавил из себя Сипун. — И что же это такое? (Будто бы он и не знал!) Надо полагать, вилы? — Это, Агап Павлович, трезубец Нептуна, — отличился не к месту ученостью Егор Петрович. — Символ моря-океана, говоря откровенно… — Та-а-ак, значит, символизмом увлекаетесь? Ну-ну! — Вы о чем это, Агап Павлович? — забеспокоился Егор Петрович. — Может, было какое решение, а? Я-то не в курсе, подскажите! Агап Павлович приподнял брови и сделался снисходительно-затаенным: дескать, нам кое-что известно, да вас не положено в оное посвящать — носом еще не вышли. — Не было, не было никакого «решения», — размаскировал Агапа Павловича Бурчалкин. — Откуда вам это известно? Что вы можете вообще знать?! — въедливо и гневно поинтересовался Сипун. — Повременим! Жизнь покажет, — он хотел снова сделаться затаенным, но так обозлился, что не мог сосредоточиться в нужной позе. — Предлагаю тост за работников напряженного умственного труда! — поспешил смягчить обстановку Егор Петрович. — Ура! — закричал вздремнувший было Остожьев. — Пусть будет он таким же великим и грандиозным! После пятого тоста обстановка в салоне разрядилась. И только у Агапа Павловича все еще лежал на сердце камень. Выпив со всеми вместе за освоение крымских степей, он поманил пальцем восторженного Остожьева и утащил его на кормовую палубу. Там было темно и тепло. — Крым — это великая здравница, — начал Сипун любовно. — И не говорите. Настоящая кузница здоровья, — похвастался ничего не подозревавший Остожьев. — Великая кузница, — уточнил Агап Павлович. — Грандиозная! А вы видели моего «Ивана Федорова»? Тут Остожьев засомневался, и пыл его сошел на нет. — Кавказ еще грандиознее, — сказал он с надеждой, — и к тому же богаче… — Кавказ Кавказом, но и у вас я в неоплатном долгу, — обескровил надежду Агап Павлович. — Но пришло время… В славном городе Янтарные Пески мы установим памятник Отдыхающему труженику! — Да куда нам! Не заслужили еще, — сделал робкую попытку Остожьев. — Это наши-то люди не заслужили?! Эх, товарищ Остожьев, да памятник при жизни — лучший стимул для жизни. Последовало неловкое молчание. «Что-то я не то сказал», — подумал Сипун и для крепости добавил: — А с Потаниным будет разговор особый! Остожьев окончательно пал духом. За кормой чавкала вода. Где-то в темноте страстно пыхтели разомлевшие от обилия комаров лягушки.
Глава V Герасим блаженный
Ниже по Безрыбице, там, где вдоль берега вытянулись Большие Крохоборы, вечер выдался еще благодатнее и теплее. В палисадниках закипала белая сирень. Майские жуки копошились в яблоневых деревьях и прислушивались к пению самовара во дворе сектанта Петра Растопырина. В небе чудился вечерний звон. В такие вечера бешено зреют огурцы и мысли о времени и о себе. О себе Растопырин не думал. Мысли не ценились, а огурцы можно было всегда продать. Ими он, собственно, и занимался. Порыхлив гряды цапкой и добавив туда коровяку, Петруня пошел на Безрыбицу за водою. По реке ползал белесый туман. Бабы полоскали на мостках белье и судачили на свадебные темы: на село вернулся старшина сверхсрочник Паша Уссурийский, и вопрос стоял довольно остро, свежо. Заметив баб, Петруня захотел подкрасться сзади и крикнуть «ха!» или пошутить как-нибудь еще более пугательно. Он проворно скинул сапоги, неслышно подобрался к мосткам и только было набрал в грудь побольше воздуха, как услышал слово «мерин» в полной связи со своей, то есть растопыринской фамилией… Слух о том, что Петрунины дети небывало схожи с Герасимом блаженным, давно гулял возле деревенских колодцев и разносился по селу с великим удовольствием, но обидную кличку «мерин» Петр услышал впервые, и она его прямо-таки ударила. Петр отпрянул, словно наступил на грабли, и, как был босиком, побежал от мостков домой. — Алевтина! — закричал он уже в сенях. — Алевтина, это не по-граждански! На призыв его никто не откликнулся. В горнице горел полный свет. Мирно тикали часы с римским циферблатом, а под ними, скомкав половик, беспризорно боролись близнецы Ванятка и Потап. Обычно Петр держал сторону Потапа. Но сейчас ему было не до этого. Снявши со стены зеркало, он разнял вспотевших двойняшек и начал сличать свое хмурое изображение с личностью Ванятки и Потапки. Близнецам такая игра понравилась, но Петруня остался неудовлетворенным. Зеркало мутилось пятнами и ничего толком не разъясняло, зато дети, как ему показалось, смотрели на него слишком осмысленно, инородно, по-городскому. Медленно распаляясь, Петр определил зеркальце на прежнее место и вышел на улицу с очевидным намерением причинить кое-кому материальный ущерб. Огурцов у Герасима блаженного не было, и в этот упоительный вечер он предавался мыслям о себе. Как-никак ему перевалило за сорок, и последнее время его преследовали мысли о женитьбе. На сей раз поводом для раздумий было письмо от невесты из Крыма, где она проводила обычно отпуск, отдыхая от суетливых городских забот. «А не послать ли и мне все к чертям? — размечтался блаженный. — Копи не копи, один раз в жизни живем, да и то скучно». Герасим блаженный был далек от религии и варил по ночам самогон, который, впрочем, не пил из-за скверного качества, а сплавлял в палатку «Пиво-воды» на Ивано-Федоровской пристани. Через этого же палаточника он снабжал город «крохоборским женьшенем», вызывавшим невероятный упадок сил с температурой 37,8. За то он и ценился искателями бюллетеней, особенно по понедельникам. Как изготовлялся «женьшень» — неведомо. Но сбор «куриной слепоты», «волчьих ягод» и «конского щавеля» отнимал у Герасима Федотовича слишком много сил и требовал свободного статуса. Потому он и пошел в раскол. Блаженного сельский житель не обидит. Герасим Федотович знал эту слабинку, потому что был достаточно умен, образован, а главное — жизнелюбив. Жизнелюбив и прихотлив настолько, что, рискуя репутацией, держал дома магнитофон с записью концерта для моряков-подводников с песенками Робертино Лоретти. Прочитавши еще раз письмо, звавшее его в дорогу, Герасим Федотович решил поддержать настроение песенкой «Вернись в Сорренто», до которой был великий охотник, хотя слов и не понимал. Он склеил пленку, распрямился и хотел было спрятать ацетон за образ Голубого козла, но склянка выскользнула из рук, а сам он, вобрав голову в плечи и скрючив пальцы, скукожился в неестественной позе… Герасим увидел нечто странное и даже страшное в своей непонятности: в наступивших сумерках Голубой козел светился холодным фосфорным светом, чего с ним раньше не было, да и быть не могло! Шкура явственно отливала лунным серебром, морда мерцала, как гнилушный пень — неровно, смутно, с провалами. Но главное, и это пугало больше всего, светились бельма, отчего козел, казалось, закатил глаза, подыхая не своей, мучительной и удушливой смертью. Герасим не верил ни в бога, ни в черта. Но тут его взял настоящий испуг и в душе зашевелилась какая-то беспокойная пружина. Блаженного охватило предчувствие неминуемой близкой беды. Рубашка на спине взмокла, грудь стеснило, и стало трудно дышать. Герасим Федотович спешно попятился к дверям и едва не отдавил ноги Петру Растопырину, выросшему на пороге неслышно, как тень. — Здравствуй, брат мой, — проговорил Герасим Федотович, радуясь живому человеку и простирая к нему руки, будто намеревался принять противень с пирогами. — Здорово, блаженный, — процедил Растопырин, заложив руки за спину. Герасим отодвинулся на всякий случай подальше; ему страшно не понравилась мирская интонация в слове «блаженный». — С чем пожаловал, брат мой? — владимирским рожком пропел он. — Сейчас скажу, брат мой, — с той же певучестью протянул Петр, пряча за спиной что-то. — В общем, такое дело, брат мой, не отец ли ты, часом, детей моих? — Все мы дети божии, — уклонился Герасим. — Ты мне вола не крути! — сказал Растопырин, подступая поближе. — Может, еще на алименты подашь? — сорвался Герасим, перейдя неожиданно на мирской язык. — Может быть, — Растопырин сделал шаг вперед и, не говоря худого слова, хряснул блаженного по шее кнутовищем. Все дальнейшее наблюдалось Герасимом как бы сквозь накомарник. Петр раздавил склянку с ацетоном, сплюнул на пол и, прихватив магнитофон, злобно бухнул дверью. Герасим Федотович едва поднялся на дрожащие ноги. «Тут никакого имущества не хватит, — подумал он. — Ежели понабежит вся его родня, кожу с меня на сапоги снимут! Душу вынут, несмотря что блаженный». Не мешкая, он бросился в сени и отвалил крышку погреба. В ноздри ударило кислятиной. Спустившись вниз, Герасим Федотович откатил в сторону бочку, раскопал в прозеленелом углу плоскую жестянку из-под халвы и положил ее за пазуху. Затем вылез, набил наволочку свежим «женьшенем» и начал сваливать в бурый чемодан пожитки. Покоробленная временем крышка чемодана сопротивлялась ровно живая. Ее дыбили «Ветхий завет» и башмаки на каучуке. Герасим вышвырнул «Ветхий завет» и дожал крышку животом. На дверях дома он повесил амбарный замок и задворками побежал к брату Митричу.
Ездовой Митрич был покладистым стариком, но обладал неудобной особенностью. Он решительно отказывался признавать себя за глухого и, ухватив тугими ушами одно слово, обязательно делал все невпопад.
Полчаса Герасим втолковывал, что ему нужна лошадь до Ивано-Федоровска, а не «кошка Федоровых».
— Я так сразу и понял тебя, — сказал на тридцать первой минуте Митрич. — У Федоровых зимой снегу не выпросишь. А я — всегда. Сей момент засупоню и отвезу.
Погружая вещи, глуховатый брат заинтересовался, зачем и надолго ли отбывает блаженный.
— Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, — негромким голосом ответил Герасим.
— Что ж, дело хорошее, — понимающе сказал Митрич и шевельнул кобылу вожжами.
Митрич гнал шибко. Через час они были уже в Ивано-Федоровске. Там Герасим велел свернуть в Малый Грибоедовский переулок и остановиться у нового дома под черепичной крышей.
Дом принадлежал Кондрату Мотыгину, заведовавшему палаткой «Пиво-воды» на пристани.
Брат Кондрат тоже был безбожником и в секте «Голубого козла» числился лишь для милиции. Отстроился он совсем недавно, а до этого, скованный служебным положением, образцово ютился в развалюхе на берегу Безрыбицы. Обзаводиться хоромами он боялся. Но блаженный его надоумил. Кондрат записался в секту, и после краткой молитвы развалюха вспыхнула, как солома. Новый дом «погорельцу» отстроили как бы купно — «за счет братьев». Теперь Кондрат Мотыгин не опасался наводящих вопросов и показательного суда в клубе речников.
Поднявшись на крыльцо «братского» дома, Герасим поставил чемодан и трижды постучался.
Ждать пришлось довольно долго. Мотыгин все слышал, но, мучаясь у замочной скважины, на голос своего благодетеля не откликался.
После новоселья у Кондрата появилось то неуютное чувство, какое овладевает, если надеть на голое тело пальто: вроде бы и прикрыт и не дует, а тебе муторно, торчат ноги и скребет какая-то чесотка. Одна мысль, что кто-то знает подноготную, уже отравляла покой. И Мотыгин вместо благодарности возненавидел Герасима Федотовича всеми фибрами и, если бы не самогон да «женьшень», с удовольствием бы от блаженного отрекся.
Дверь он, конечно, открыл, но провел гостя в комнаты с неохотой и, не предложив присесть, уставился на его чемодан и еще какой-то обернутый в тряпку плоский предмет:
— Далеко ли собрался? Небось опять в Москву?
— Может, и в Москву, — сказал Герасим неопределенно. — А может, в Крым.
— Видать, денег у тебя, как у дурака махорки, — сказал Мотыгин. — Вот и бесишься.
— Дело не в махорке. — Герасим вздохнул и выложил все, как на духу.
— Ну удружил! Ничего не скажешь, удружил! Нашел на кого польститься, — забегал Мотыгин, хватаясь то за голову, то за сердце. — Вот петух! У тебя же невеста… А самогон теперь как? Как с «женьшенем»?!
— Я тебе цельный мешок привез, — сказал Герасим Федотович. — Там в телеге у Митрича.
— Час от часу не легче! — вскрикнул Мотыгин. — Ты бы уж сразу и Растопырина с собой прихватил для компании. У меня же дом на руках!.. Соображаешь? Как же ты меня выдаешь?! Ну как прибегут сюда «братцы»?.. Нет уж, Герасим Федотович, извини, оставаться тебе у меня опасно! Тебе же добра желаю…
— Да ты что, Кондрат! Куда же мне на ночь-то глядя?
— А ты. Герасим Федотович, на автобус и с богом — в Тихо-славль. Как раз успеешь. Я тебя провожу.
«Отогрел гадюку! „Женьшенем“ бы тебя напоить», — подумал Герасим Федотович и сказал просяще:
— Вещи-то хоть разреши оставить. В этот чертов автобус с ними не влезешь.
С этими словами он протянул Кондрату десятирублевку и добавил:
— Вышлешь мне багажом в Москву.
Мотыгину страсть как не хотелось связываться с вещами, но десятка автоматически оказалась у него в кулаке. Прикинув, что сдачи в его пользу останется достаточно, он помягчал и согласился.
— Чемодан можешь отправить малой скоростью, — сказал Герасим Федотович. — А с «женьшенем» не тяни. Как продашь, дай мне знать телеграммой по такому адресу, — Герасим Федорович вынул из кармана конверт и зачитал: — «Янтарные Пески, Госпитальная, 16, Карецкой Карине Зиновьевне — для Герасима Федотовича».
— Может, лучше письмо? — обронил как бы невзначай Мотыгин.
Герасим на это ничего не сказал, а выдал рубль дополнительно.
— Ну, пошли, — заторопил Мотыгин. — Неровен час, автобус прозеваем.
На остановке возле рынка мрачно покуривали сосредоточенные на поклаже мешочники. Они готовились к штурму.
Когда с ближайшей улицы послышалось кастрюльное клацанье, они побросали окурки на землю и засуетились. Посадка на транспорт всегда носила у них эвакуационный характер. Зная такую повадку, водитель автобуса тормозил метрах в ста от остановки. Это растягивало мешочников в цепь и не давало опрокинуть машину навзничь. Герасим Федотович был налегке и в автобус протиснулся чуть не первым.
— Не забудь телеграмму! — крикнул он уже из окна.
Автобус взвыл, будто ему вырвали с корнем поршень и, жалуясь на недомогание в моторе, загремел по улице Агаты Кристи.
Вернувшись домой, Мотыгин лег в кровать, но заснуть не мог. В окна била луна, и по потолку катались немые тени.
«Растопырина мне не избежать. Определенно, — думал Мотыгин, разглядывая тени на потолке. — Этот „братский“ дом загонит меня в могилу».
За окном надсадно заорал петух. В ответ послышался девичий визг и глухой удар камня о штакетник. Наглый петух заорал еще истошнее.
«Пора! — сказал сам себе Мотыгин. — Пора идти за водой. А с вещами я все-таки зря связался: лишняя улика мне совсем ни к чему. В сарай перепрятать, что ли?..»
Он недобро посмотрел на еле различимый в темноте чемодан и перевел взгляд на странный, обернутый кое-как в тряпку и похожий на стиральную доску предмет.
— Это еще что такое?
Поколебавшись, Мотыгин нервно развернул тряпку и тут же руки отдернул, будто ожегся или зацепил занозу. Никакой доски под тряпкой не оказалось… В холодном лунном свете на Мотыгина смотрели с картины мертвенно-белые козлиные глаза.
Покоробленная временем крышка чемодана сопротивлялась ровно живая. Ее дыбили «Ветхий завет» и башмаки на каучуке. Герасим вышвырнул «Ветхий завет» и дожал крышку животом. На дверях дома он повесил амбарный замок и задворками побежал к брату Митричу.
Ездовой Митрич был покладистым стариком, но обладал неудобной особенностью. Он решительно отказывался признавать себя за глухого и, ухватив тугими ушами одно слово, обязательно делал все невпопад.
Полчаса Герасим втолковывал, что ему нужна лошадь до Ивано-Федоровска, а не «кошка Федоровых».
— Я так сразу и понял тебя, — сказал на тридцать первой минуте Митрич. — У Федоровых зимой снегу не выпросишь. А я — всегда. Сей момент засупоню и отвезу.
Погружая вещи, глуховатый брат заинтересовался, зачем и надолго ли отбывает блаженный.
— Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, — негромким голосом ответил Герасим.
— Что ж, дело хорошее, — понимающе сказал Митрич и шевельнул кобылу вожжами.
Митрич гнал шибко. Через час они были уже в Ивано-Федоровске. Там Герасим велел свернуть в Малый Грибоедовский переулок и остановиться у нового дома под черепичной крышей.
Дом принадлежал Кондрату Мотыгину, заведовавшему палаткой «Пиво-воды» на пристани.
Брат Кондрат тоже был безбожником и в секте «Голубого козла» числился лишь для милиции. Отстроился он совсем недавно, а до этого, скованный служебным положением, образцово ютился в развалюхе на берегу Безрыбицы. Обзаводиться хоромами он боялся. Но блаженный его надоумил. Кондрат записался в секту, и после краткой молитвы развалюха вспыхнула, как солома. Новый дом «погорельцу» отстроили как бы купно — «за счет братьев». Теперь Кондрат Мотыгин не опасался наводящих вопросов и показательного суда в клубе речников.
Поднявшись на крыльцо «братского» дома, Герасим поставил чемодан и трижды постучался.
Ждать пришлось довольно долго. Мотыгин все слышал, но, мучаясь у замочной скважины, на голос своего благодетеля не откликался.
После новоселья у Кондрата появилось то неуютное чувство, какое овладевает, если надеть на голое тело пальто: вроде бы и прикрыт и не дует, а тебе муторно, торчат ноги и скребет какая-то чесотка. Одна мысль, что кто-то знает подноготную, уже отравляла покой. И Мотыгин вместо благодарности возненавидел Герасима Федотовича всеми фибрами и, если бы не самогон да «женьшень», с удовольствием бы от блаженного отрекся.
Дверь он, конечно, открыл, но провел гостя в комнаты с неохотой и, не предложив присесть, уставился на его чемодан и еще какой-то обернутый в тряпку плоский предмет:
— Далеко ли собрался? Небось опять в Москву?
— Может, и в Москву, — сказал Герасим неопределенно. — А может, в Крым.
— Видать, денег у тебя, как у дурака махорки, — сказал Мотыгин. — Вот и бесишься.
— Дело не в махорке. — Герасим вздохнул и выложил все, как на духу.
— Ну удружил! Ничего не скажешь, удружил! Нашел на кого польститься, — забегал Мотыгин, хватаясь то за голову, то за сердце. — Вот петух! У тебя же невеста… А самогон теперь как? Как с «женьшенем»?!
— Я тебе цельный мешок привез, — сказал Герасим Федотович. — Там в телеге у Митрича.
— Час от часу не легче! — вскрикнул Мотыгин. — Ты бы уж сразу и Растопырина с собой прихватил для компании. У меня же дом на руках!.. Соображаешь? Как же ты меня выдаешь?! Ну как прибегут сюда «братцы»?.. Нет уж, Герасим Федотович, извини, оставаться тебе у меня опасно! Тебе же добра желаю…
— Да ты что, Кондрат! Куда же мне на ночь-то глядя?
— А ты. Герасим Федотович, на автобус и с богом — в Тихо-славль. Как раз успеешь. Я тебя провожу.
«Отогрел гадюку! „Женьшенем“ бы тебя напоить», — подумал Герасим Федотович и сказал просяще:
— Вещи-то хоть разреши оставить. В этот чертов автобус с ними не влезешь.
С этими словами он протянул Кондрату десятирублевку и добавил:
— Вышлешь мне багажом в Москву.
Мотыгину страсть как не хотелось связываться с вещами, но десятка автоматически оказалась у него в кулаке. Прикинув, что сдачи в его пользу останется достаточно, он помягчал и согласился.
— Чемодан можешь отправить малой скоростью, — сказал Герасим Федотович. — А с «женьшенем» не тяни. Как продашь, дай мне знать телеграммой по такому адресу, — Герасим Федорович вынул из кармана конверт и зачитал: — «Янтарные Пески, Госпитальная, 16, Карецкой Карине Зиновьевне — для Герасима Федотовича».
— Может, лучше письмо? — обронил как бы невзначай Мотыгин.
Герасим на это ничего не сказал, а выдал рубль дополнительно.
— Ну, пошли, — заторопил Мотыгин. — Неровен час, автобус прозеваем.
На остановке возле рынка мрачно покуривали сосредоточенные на поклаже мешочники. Они готовились к штурму.
Когда с ближайшей улицы послышалось кастрюльное клацанье, они побросали окурки на землю и засуетились. Посадка на транспорт всегда носила у них эвакуационный характер. Зная такую повадку, водитель автобуса тормозил метрах в ста от остановки. Это растягивало мешочников в цепь и не давало опрокинуть машину навзничь. Герасим Федотович был налегке и в автобус протиснулся чуть не первым.
— Не забудь телеграмму! — крикнул он уже из окна.
Автобус взвыл, будто ему вырвали с корнем поршень и, жалуясь на недомогание в моторе, загремел по улице Агаты Кристи.
Вернувшись домой, Мотыгин лег в кровать, но заснуть не мог. В окна била луна, и по потолку катались немые тени.
«Растопырина мне не избежать. Определенно, — думал Мотыгин, разглядывая тени на потолке. — Этот „братский“ дом загонит меня в могилу».
За окном надсадно заорал петух. В ответ послышался девичий визг и глухой удар камня о штакетник. Наглый петух заорал еще истошнее.
«Пора! — сказал сам себе Мотыгин. — Пора идти за водой. А с вещами я все-таки зря связался: лишняя улика мне совсем ни к чему. В сарай перепрятать, что ли?..»
Он недобро посмотрел на еле различимый в темноте чемодан и перевел взгляд на странный, обернутый кое-как в тряпку и похожий на стиральную доску предмет.
— Это еще что такое?
Поколебавшись, Мотыгин нервно развернул тряпку и тут же руки отдернул, будто ожегся или зацепил занозу. Никакой доски под тряпкой не оказалось… В холодном лунном свете на Мотыгина смотрели с картины мертвенно-белые козлиные глаза.
Глава VI Ванятка и Потап
Глухо стукнувшись о пристань, «Добрыня» выбросил на берег трап и трех пассажиров. Первым на берег сошел Береста. Истомившись в своем музее по настоящему делу, он горел теперь нетерпением. Переводчик и знаток иноземных душ Ольшаный, напротив, зябко поеживал плечами: подготовить Ивано-Федоровск к визиту англичанина сдавалось ему затеей несбыточной, и мыслями он был сейчас далеко-далеко в Республике Кокосовых пальм, куда ему посулили недавно командировку. — Не слышны в саду даже шорохи, транспорт замер тут до утра, — вернул его на родную землю голос Стасика. Попутчики спустились к павильону «Пиво-воды», на котором висело объявление:«Киногруппе „ДЕРЖИСЬ, ГЕОЛОГ“ срочно требуются: ватники ношеные — 3 шт., картины народные — 5 шт., лампы керосиновые — 2 шт. С предл. обращаться в гост. „Ермак“ к тов. Белявскому».К павильону, опустив бесчестные глаза к земле, медленно подходил Кондрат Мотыгин с полными ведрами воды в руках. — Хорошая примета! — кивнул на ведра Береста. — Для не пьющих пива, — уточнил Бурчалкин и поспешил навстречу палаточнику. — Салют алхимикам, — сказал он приветливо. Мотыгин отвернулся и еще сильнее заработал ногами. — Ты воду-то хоть кипятишь или прямо так разбавляешь? — Отцепись! — пропыхтел Мотыгин, опуская глаза еще ниже. — Зачем пристал? Чего тебе от меня надо? — Крохоборы отсюда далеко? — Часа три хода. Перейдешь мост, вон там, у бань, и — влево, по грунтовке. — Понятно. Автобус ходит? — Ходит. С хвостом на четырех подковах. — Ясно, а дорога туда прямая? — Прямее не бывает… Пьяный черт кочергой отмерял. — Спасибо и на этом, — сказал Бурчалкин. — Вам, папаня, надо анашу курить или Фрейдом заняться. Больно вы разочарованный, вроде хиппи. Привет! Мотыгин опустил ведра, вытер потное лицо фартуком и недобрым, настороженным взглядом проводил незнакомца, удалявшегося в сторону Пудаловских бань. Дорогу в Большие Крохоборы действительно меряли кривой кочергой, и порою Стасику казалось, что он идет обратно в Ивано-Федоровск. Наконец, впереди замерцали огоньки, и Бурчалкин прибавил шагу. На краю села дружно взвыли охочие до городских штанов дворняги. Чуть дальше, за банями, слышались интригующий гоготок и кокетливое «Не пихай в крапиву!». А где-то рядом трещал плетень: горемычный ухажер подбирал себе инструмент для душевных объяснений с Пашей Уссурийским. Но все эти звуки — и лай, и треск, и ленивая ругань гусей в кюветах — заглушались хором японских гейш, певших по-своему о вишневом соке любви. Хор гремел из распахнутого окна пятистенки, заставленного бархатными от пыли фикусами, а под окном, хоронясь в тени, плясал мальчик с пачкой соли в руках. — Эй, Шубарин! — окликнул его Бурчалкин. Мальчик кренделить перестал, насупился и сказал: — У нас Шубариных нет. Может, вам Катаевых нужно? — Нет, обойдусь, — сказал Бурчалкин. — А ты не знаешь, где тут живет Герасим блаженный? — Как не знать, — мальчик засмеялся нехорошим смехом. — Только он сбежал. — Как сбежал? От налога, что ли? — Петруня его побил, — мальчик показал пальцем на фикусы и компетентно, повторяя чужие слова, добавил: — У Петру-ни дети сами собой родятся. Вот какая история. — Но, но, не говори, чего не знаешь. Научились тут в школе продленного дня. Что же он их, в колбе выращивает? — Что вы, дядя! В колбе и один не уместится, а тут двойня. Мальчик объяснил про близнецов и добавил: — Потапку он все же признал, а Ванятка значится условным. Так что Петр в город поедет за исполнительным листом. — За что я люблю простых людей, так это за логику, — сказал Стасик восторженно. — Идеалистам тут делать нечего. Без куска по миру пойдут. Гейши смолкли, и вместо них зарыдал итальянец. — Подожди, юннат, ты мне будешь нужен, — сказал Стасик. С этими словами он поднялся на крыльцо и потянул дверь на себя. В избе было шумно. Посреди горницы стоял крытый клеенкой стол, а на ней обливное в червоточинах блюдо и бутыль с мутным ангинным осадком. Тут же стояла и «Яуза-2», плаксиво склонявшая Петруню вернуться в Сорренто, где его, понятно, никто не ждал, да и не поехал бы он туда ни за какие деньги. Петр Растопырин сидел над блюдом с неподвижным, воспаленным как у старого углежога лицом, лишенным всякой осмысленности. Но одна думка, что кличка «мерин» пристанет навечно, все же блуждала в его сознании. Неровно, вспышками, он представлял себе языкастых баб у колодца, и тогда бухал кулаком об стол и кричал: — Алевтина, это не по-граждански! На что Алевтина, женщина красивая, плотная, да к тому же еще и не глупая, говорила: — Что те прозвище? Сашка Рябова все «Чапаем» кличут, а военкомат его даром не берет… Вот и верь людям! — А как же листок за Ванятку? — испугался Петр. — Все одно подадим. Кто ж от своего счастья отказывается!
 — Тогда и Потапку ему пришьем, — треснул по столу Петр.
— Пристегнем. Наши бабы подмогут.
«Нет, Джерми такой сюжет не по зубам, — подумал Стасик. — Это вам не развод по-итальянски!» — и со знанием дела сказал:
— Здравствуйте, хозяева! С радостью вас и прибытком!
Петруня отключил «Яузу», не спеша обозлился и сказал:
— Ты кто такой? Я тебя не знаю.
— Так и я вас почти не знаю, — обезоружил такой наскок Бурчалкин, — но хочу от души помочь. Исполнительный — дело хорошее, но для верности надо написать в газету. Там охотно корректируют личную жизнь. Напишите. Пусть неудачник платит!..
— А ты ушлый, — похвалил Петр, — хоть в сельпо назначай.
— Спасибо за доверие, — сказал Стасик. — Но для газеты нужен точный адрес… Где теперь алиментщик Герасим, вы знаете?
— А тебе какой прибыток? — насторожилась умная Алевтина.
— Как бы вам объяснить, — затруднился Стасик. — Я, видите ли, альтруист…
— Поняла? — сказал Растопырии. — Он портреты увеличивает. Дай хорошему человеку карточку, пусть цветного Потапку сделает.
Только тут Стасик обратил внимание, что изба сплошь увешана увеличенными фотопортретами детишек, солдат, матросов, стариков и покойников с оживленными ретушью, радостными глазами. Но больше всего поражали сдвоенные монтажи, где Петруня в ефрейторских погонах был любовно соединен с Хозяйкой Медной горы, переснятой с «Экрана», а Потапка — спарен со Львом Толстым накануне бегства в Астапово.
Подлинного деда у Потапки с Ваняткой как бы и не было.
Пока умная Алевтина не спеша разыскивала карточку, Стасик осторожно подошел к главному предмету:
— У Герасима, как ты знаешь, картина есть… «Голубой козел», — вскользь заметил он, пытая взглядом Петруню.
— Ну есть. А тебе зачем?.. Неушто он заказал увеличить?! Вот сукин кот! Ты слышь, Алевтина?
— Мало кому какая блажь взойдет! Были бы деньги, — выразила свой подход Алевтина.
— Не бойсь! Я ему кошелек-то рассупоню, — пообещал Петр. — Разом, сукин кот, полегчает! Не бойсь…
Стасик не растерялся и пошел по горячему следу:
— А где сам кошелек, ты знаешь? Где его искать?
— Я все знаю, — похвалился Петр. — Он в Белужинске. Митрич хоть и глухой, а врать не станет.
Петруня мыслил предметными категориями, и обычный адрес выглядел так: «От базара по большаку до Ивана Грозного (он не признавал ни Первопечатника, ни Ивано-Федоровска) и напрямки мимо бань по-над берегом до кривой ветлы. От-тель в проулок с рябыми лопухами и до упора, пока не углядишь круглый дом под черепенным верхом…»
— Это как понять «круглый»? — удивился Стасик.
— Круглый — значит крестовый, — «растолковал» Петр. — Стучи шибче, зови Мотыгина. Не бойсь!
Получив на вечную память фото Потапки, Стасик пулей вылетел на улицу, где его ждал честный поводырь.
— Ну, следопыт, показывай, где дом Герасима блаженного!
Мальчик переложил пачку в другую руку и повел пришельца в кромешную тьму. Он оказался говоруном и охотно делился сельскими новостями.
— Бригадира Ивана Васильевича наградили орденом. В больницу привезли рентгеновский аппарат. А баяниста Федю забрали в армию, и на его проводах забракованный Сашок Рябов оседлал борова и проехал от скотного двора до читальни. Борову ничего не сделалось, а зашибленного Сашка просвечивали на другой день рентгеном и нашли в почках камни.
Вдоволь напитав Стасика информацией, поводырь вывел его наконец к приземистой, едва различимой во тьме избе. Небо тем часом почернело окончательно: ковш Медведицы провалился в бездну, скрылась нафталинная россыпь Млечного Пути.
— Вот он, дом его, — сказал мальчик откуда-то снизу. — А я побежал. Дождь сейчас хлынет, как бы соль не намочить.
— Спасибо, пионер, — сказал Стасик и, напрягши зрение, шагнул к дверному проему.
Замка на дверях не было, и она колыхалась, как живая, с леденящим душу ревматическим скрипом. Бурчалкин зажег спичку, поднял ее над головой. В комнатах было пусто. Пахло ацетоном. На полу валялись осколки стекла, книга с отпечатком каблука, обрывки магнитофонной ленты.
Стасик нащупал выключатель, но свет не понадобился. Небо распорола жуткая фарадеевская молния, и оно пошло огненными трещинами до самой земли. Ослепительный свет залил окна, озарились стены, и на линялых грязных обоях Стасик ясно увидел свежий квадрат — след недавней стоянки «Голубого козла». Следом раздался новый страшный удар. Завыло, захохотало в трубе. Молния уперлась в землю голубыми рогами, в квадрате, как показалось Бурчалкину, заплясала перевернутая козлиная рожа. Вслед за этим стало темно. Дождь лавиной обрушился на кровлю, дробясь и скатываясь в шипящие лужи. Еще одна молния захватила полнеба и ударила в землю где-то под Ивано-Федоровском.
— Тогда и Потапку ему пришьем, — треснул по столу Петр.
— Пристегнем. Наши бабы подмогут.
«Нет, Джерми такой сюжет не по зубам, — подумал Стасик. — Это вам не развод по-итальянски!» — и со знанием дела сказал:
— Здравствуйте, хозяева! С радостью вас и прибытком!
Петруня отключил «Яузу», не спеша обозлился и сказал:
— Ты кто такой? Я тебя не знаю.
— Так и я вас почти не знаю, — обезоружил такой наскок Бурчалкин, — но хочу от души помочь. Исполнительный — дело хорошее, но для верности надо написать в газету. Там охотно корректируют личную жизнь. Напишите. Пусть неудачник платит!..
— А ты ушлый, — похвалил Петр, — хоть в сельпо назначай.
— Спасибо за доверие, — сказал Стасик. — Но для газеты нужен точный адрес… Где теперь алиментщик Герасим, вы знаете?
— А тебе какой прибыток? — насторожилась умная Алевтина.
— Как бы вам объяснить, — затруднился Стасик. — Я, видите ли, альтруист…
— Поняла? — сказал Растопырии. — Он портреты увеличивает. Дай хорошему человеку карточку, пусть цветного Потапку сделает.
Только тут Стасик обратил внимание, что изба сплошь увешана увеличенными фотопортретами детишек, солдат, матросов, стариков и покойников с оживленными ретушью, радостными глазами. Но больше всего поражали сдвоенные монтажи, где Петруня в ефрейторских погонах был любовно соединен с Хозяйкой Медной горы, переснятой с «Экрана», а Потапка — спарен со Львом Толстым накануне бегства в Астапово.
Подлинного деда у Потапки с Ваняткой как бы и не было.
Пока умная Алевтина не спеша разыскивала карточку, Стасик осторожно подошел к главному предмету:
— У Герасима, как ты знаешь, картина есть… «Голубой козел», — вскользь заметил он, пытая взглядом Петруню.
— Ну есть. А тебе зачем?.. Неушто он заказал увеличить?! Вот сукин кот! Ты слышь, Алевтина?
— Мало кому какая блажь взойдет! Были бы деньги, — выразила свой подход Алевтина.
— Не бойсь! Я ему кошелек-то рассупоню, — пообещал Петр. — Разом, сукин кот, полегчает! Не бойсь…
Стасик не растерялся и пошел по горячему следу:
— А где сам кошелек, ты знаешь? Где его искать?
— Я все знаю, — похвалился Петр. — Он в Белужинске. Митрич хоть и глухой, а врать не станет.
Петруня мыслил предметными категориями, и обычный адрес выглядел так: «От базара по большаку до Ивана Грозного (он не признавал ни Первопечатника, ни Ивано-Федоровска) и напрямки мимо бань по-над берегом до кривой ветлы. От-тель в проулок с рябыми лопухами и до упора, пока не углядишь круглый дом под черепенным верхом…»
— Это как понять «круглый»? — удивился Стасик.
— Круглый — значит крестовый, — «растолковал» Петр. — Стучи шибче, зови Мотыгина. Не бойсь!
Получив на вечную память фото Потапки, Стасик пулей вылетел на улицу, где его ждал честный поводырь.
— Ну, следопыт, показывай, где дом Герасима блаженного!
Мальчик переложил пачку в другую руку и повел пришельца в кромешную тьму. Он оказался говоруном и охотно делился сельскими новостями.
— Бригадира Ивана Васильевича наградили орденом. В больницу привезли рентгеновский аппарат. А баяниста Федю забрали в армию, и на его проводах забракованный Сашок Рябов оседлал борова и проехал от скотного двора до читальни. Борову ничего не сделалось, а зашибленного Сашка просвечивали на другой день рентгеном и нашли в почках камни.
Вдоволь напитав Стасика информацией, поводырь вывел его наконец к приземистой, едва различимой во тьме избе. Небо тем часом почернело окончательно: ковш Медведицы провалился в бездну, скрылась нафталинная россыпь Млечного Пути.
— Вот он, дом его, — сказал мальчик откуда-то снизу. — А я побежал. Дождь сейчас хлынет, как бы соль не намочить.
— Спасибо, пионер, — сказал Стасик и, напрягши зрение, шагнул к дверному проему.
Замка на дверях не было, и она колыхалась, как живая, с леденящим душу ревматическим скрипом. Бурчалкин зажег спичку, поднял ее над головой. В комнатах было пусто. Пахло ацетоном. На полу валялись осколки стекла, книга с отпечатком каблука, обрывки магнитофонной ленты.
Стасик нащупал выключатель, но свет не понадобился. Небо распорола жуткая фарадеевская молния, и оно пошло огненными трещинами до самой земли. Ослепительный свет залил окна, озарились стены, и на линялых грязных обоях Стасик ясно увидел свежий квадрат — след недавней стоянки «Голубого козла». Следом раздался новый страшный удар. Завыло, захохотало в трубе. Молния уперлась в землю голубыми рогами, в квадрате, как показалось Бурчалкину, заплясала перевернутая козлиная рожа. Вслед за этим стало темно. Дождь лавиной обрушился на кровлю, дробясь и скатываясь в шипящие лужи. Еще одна молния захватила полнеба и ударила в землю где-то под Ивано-Федоровском.
Глава VII У подножия Ивана Федорова
Всякий, кто подъезжал к Ивано-Федоровску со стороны Пудаловских бань, восклицал обычно «ни-и черта себе!!», но тут же пыл усмирял, и ему делалось как-то пасмурно на душе… Высунув голову над городом, словно купаясь в нем, как в тесноватой дождевой бочке, на приезжего смотрел и пытал немигающими каменными глазами грандиозный Иван Федоров. Мысль о бочке и вырывала из вашей груди «ни-и черта!!», а каменный взгляд поселял туда робость и смятение. Сами ивано-федоровцы, бывшие белужинцы, тоже не могли привыкнуть к монументу. Иван Федоров подавлял их своими невероятными размерами и смущал твердым исподлобным взором, в котором так и читалось: «Мне сверху видно все, ты так и знай!» И где бы ни находился ивано-федоровец — торопился в аптеку, прохлаждался на бережке или покупал на базаре «крохоборский женьшень» — везде и неотступно за ним присматривали каменные глаза; и отовсюду с любой точки города житель видел над собою твердый подбородок, сомкнутые скобою вниз губы и надменный излом бровей. Казалось, в городе поселился всевидящий Гулливер, и жители чувствовали себя неуютно: виноватых в чем-либо так и подмывало покаяться, а безвинным хотелось взять на себя какое-нибудь обязательство. Однако и те и другие ограничивались порывами и, не сговариваясь, обходили Ивана Федорова стороной. И только городской карлик — бакенщик Ваня Федоров был с «тезкой», что называется, накоротке, отирался у его подножия и прозрачно намекал горожанам на какие-то скорые и значительные перемены в своей внешности и судьбе. Вместе с ним хороводили возле монумента дети. Они любили все огромное, но ни гор, ни океана местная природа им не доставила. Роман Бурчалкин и мистер Бивербрук подкатили к Ивано-Федоровску как раз со стороны Пудаловских бань. — Ни-и черта себе!! — вскрикнул Роман. А мистер Бивербрук протер платочком глаза и, все еще терзаясь сомнениями, все же сказал: — Oh, devil! It should be for TV…[1] А до Ивано-Федоровска было еще с километр. И попасть туда было непросто. Возле деревянного моста через Воробьиху, являвшую собою приток Безрыбицы, скопились грузовики и подводы. Судя по мешкам с картошкой и молочным бидонам, затор образовался с утра. Рынок, как и все другие жизненные очаги Ивано-Федоровска, расположился по другую сторону Воробьихи. А на этом берегу было с десяток домов, бывшая усадьба купца Пудалова и каменная баня, выстроенная ему итальянским зодчим Шапиро. Бежевая «Волга», в которой следовали из Арбузова Бурчалкин-старший и мистер Бивербрук, оказалась в самом хвосте затора. Роман вылез из машины и отправился выяснять причину задержки. Мост был цел, но оцеплен заградительным отрядом, протянувшим между перил якорный канат. На канат усиленно лезли животами поставщики мясного и молочного ряда. Но больше всего горячились Стасик и Петруня. Растопырин кричал: «Может, у меня дети не кормленные», а Стасик требовал: «Я по делу союзного значения!»
Никакого результата от их горячности, однако, не получалось. Заградительный пикет их просто отпихивал ладонями. А посреди моста, напустив на себя важность, медленно прогуливался Береста и на крики толпы не реагировал. Следом за ним вышагивал переводчик Ольшаный в квадратных темных очках и мечтательно толковал про кокосовые орехи.

Пробиться к мосту было совершенно невозможно. Тогда Роман сложил ладони лодочкой и прокричал: — Стасик! Ты меня слышишь? В чем там дело? — Сюда, товарищи! Прошу вас, — отозвался, расталкивая мешочников, Бурчалкин-младший и, обращаясь уже к начальству, крикнул: — Пропустите иностранную делегацию! Береста, казалось, только того и ждал. Он приветственно помахал рукой и поспешил навстречу. — Уже приехали? Ну и прекрасно, — сказал он, перелезая под канатом. — А у нас, товарищи, карантин!.. Привозная ветрянка! — с доверительностью шепнул Береста и, во избежание дополнительных вопросов, представил очкастого: — Переводчик Ольшаный… Между прочим, скоро едет в Республику пальм… — Кокосовых пальм, — уточнил Ольшаный, протирая замшевым лоскутом свои роскошные фильтры. — Идемте, товарищи… — Как там секта «Голубого козла»? — спросил Роман с нетерпением у брата. — Что? Ах, секта… секта лопнула… Нету там ничего, кроме близнецов. — Так я и знал! Ну как тебе после этого верить? — Здрасьте! На что им прикажешь молиться, когда «Козел» теперь в городе. Точно тебе говорю. Упроси, чтобы нас с тобой туда пропустили, и я докажу. У меня и адрес есть: круглый дом под черепицей… Роман на это ничего не сказал. Молча подошли вместе со всеми к машине, где Ольшаный с прекрасным прононсом доложил гостю про ветрянку. — Ничего, товарищ мистер, все равно не зря прокатились, — утешил через переводчика Береста. — «Ивана Федорова» и отсюда видно, а еще мы вам покажем Пудаловские бани. Англичанин кисло и вежливо улыбнулся. Компенсаж его не устраивал. — Это вы напрасно, — поднажал Береста. — Историческая примечательность. И какая! Если сложить площадь вымытых спин будет побольше цельного Люксембурга. — Оу?! — сказал Бивербрук. — А в Люксембурге об этом знают? — Не верите! — ложно обиделся Береста. — А напрасно. Вот товарищи подтвердят, — и показал зачем-то на Романа. — Еще бы! — сказал Роман. — Да ладно тебе, — потянул его за руку брат. — Охота тебе морали читать, когда у меня дело, можно сказать, горит. Говоря это, Стасик успел заметить, что крестьяне снимают с подвод мешки и спускаются тропкой к Воробьихе. — Не будем отрываться от народа. Пошли! — сказал он. Левее блокированного моста частная инициатива положила через Воробьиху пару здоровенных бревен. По ним балансировали в город мешочники, а из города перебирались несознательные Акстафа и Акбар с банными свертками под мышкой. Одолев Воробьиху, братья оказались в Ивано-Федоровске. Карантинного уныния в городе не наблюдалось. По улице Льва Толстого маршировали чистенькие пионеры и пели «Вива ла Куба и революсьон», а за ними шагал бакенщик Ваня Федоров с натюрмортом «Пчела на дыне» в одной руке и сатанинским ватником в другой. Вдоль улицы двумя шеренгами стояли много видавшие на своем веку липы. Свежий ветер с реки нес им как на ладонях прохладу и запах плотвы, и деревья беспечно лепетали листвою о каких-то своих тайных делах. Городок, казалось, блаженствовал. О карантине напоминали разве что новехонькая урна, поставленная по приказу Бересты на пустынной площади Первопечатника, да еще плакат на ближайшем заборе:
Бейте мух! Активно уничтожайте источник заразы!— Ни-и черта себе! — повторил Роман, вглядываясь в гиганта Федорова и находя в нем нечто удивительно знакомое — то же озабоченное чем-то первостепенным лицо, тот же властный излом бровей, те же сомкнутые скобою губы, с которых, казалось, вот-вот должно сорваться: «Пусть будет все таким же великим и грандиозным!» — Ни-и черта… Это же сам Агап Павлович!.. И это действительно было так. Но бывшие белужинцы в эти тонкости не входили, равно как и не допытывались, с чего вдруг Иван Федоров сделался их земляком. — Поразительно! — сказал Стасик. — Вот, оказывается, рецепт нестарения. Ну и Сипун! Сам себе вечную память… — Местные деятели тоже хороши, — сказал Роман. — Пусть они даже не доглядели, что Иван — это вылитый Агап. Но откуда в них эта запоздалая петровщина: «сперва триумфальную арку, опосля баню и протчее»… Установить «арку» в эдаком городке? — Да, памятник что надо! Меня до слез трогает, когда рядышком с таким монументом единая, неделимая и непросыхающая миргородская лужа, а в ней — колесо, на котором сидит застенчивая сельская трясогузка. Здесь, правда, луж не видно. Но иногда от великого до смешного — один шаг, да и тот надо делать в галошах. — Ты, как всегда, предубежден и не видишь другого, — сказал Бурчалкин-старший. — Лжефедоров, конечно, хуже пожара. Но чем тебе не нравится сам город? Здесь нет асфальта — но нет и грохота пневматических молотков. Мы мчимся с тобой по нашему городу с неутомимостью братьев Знаменских и набираем «второе дыхание» из выхлопных труб, а тут — покой и тишина. Есть, есть еще города, где люди живут без пирамидона! За разговорами братья незаметно вышли к кривой ветле и, ориентируясь от нее, свернули в проулок, заросший сорной травой и притоптанными лопухами. «Круглый», он же «крестовый» дом под «черепенным верхом» находился в самом конце проулка и был обнесен новым штакетником, сквозь который проглядывал голый, не обсаженный ничем двор. Посреди двора стоял Мотыгин и сортировал кирпич, швыряя половняк в отдельную кучу. «Вот это номер! — подумал Стасик, меньше всего ожидавший повторного знакомства с палаточником. — Встреча обещает быть теплой. Дело только за дружеской обстановкой!» — и, обращаясь к брату, сказал: — Прошу тебя ничему не удивляться. Однако то, что произошло потом, повергло Романа в удивление, впрочем, вполне законное. Стасик лег локтями на штакетник и с не приличной случаю фамильярностью крикнул: — Салют труженикам стесненной торговли! Как насчет анаши? «Салют» подействовал на Мотыгина как взаправдашний, а в слове «анаша» почудился явный намек на «женьшень». Он вздрогнул, обернулся на голос и мягко опустился задом на по-ловняк. — Ну что? Что вам от меня еще нужно? — заговорил он прыгающим голосом. — Успокойтесь, ради бога! — сказал Стасик как можно душевнее. — Ваши водные «процедуры» меня не волнуют. Но Мотыгин успокаиваться не захотел: в слове «бог» ему почудилась угроза и даже шантаж. — Да успокойтесь же! — повторил Стасик. — От вас лично ничего не нужно. Мы с поручением к Герасиму блаженному. «Конец! — подумал Мотыгин. — Я в руках этого мерзавца». — Ну что я вам сделал плохого? — взмолился он, складывая ладони по-мусульмански. — При чем Герасим? — Отомкните калитку! — приказал Стасик. — Вы слышите! Откройте представителям прессы. — Зачем?.. Я ни в чем не виноват! — заупрямился Мотыгин. — Я построился на свои трудовые… — Да поймите вы, неразумный человек, у нас дело к Герасиму. Он обещал «Голубого козла». Говоря это, Стасик поставил ногу на штакетник с явным намерением его перемахнуть. — Не входите! Он уехал в Янтарные Пески, — завизжал Мотыгин, и в голове у него пронеслось: «Нет у тебя дела, под дом копаешь» и еще: «Ну, блаженный, ну, поганец, по гроб жизни тебя не забуду!». Последняя мысль его настолько растравила, что он поступил, прямо сказать, по-свински: — Янтарные Пески, Госпитальная, шестнадцать! — предал он Герасима. — Там его ищите… Но Стасик не поверил и, как ни удерживал его старший брат, все-таки перемахнул забор. — Какие еще «пески»? — сказал он надвигаясь. — Не темните, у меня твердая договоренность встретиться с ним насчет картины. Мотыгин беззвучно зашевелил губами и, тоскуя, полез задом на кучу кирпича. Добравшись до самой вершины и поняв, что дальнейшее отступление невозможно, он собрался с духом и выпалил: — Уже продана! Я… то есть Герасим отдал ее в кино…
Глава VIII Сила слова
Мотыгин, конечно, соврал. Наутро после отъезда Герасима Федотовича он пошел в сарай, чтобы изрубить в куски и закопать голубую улику. «Буду я с ней чикаться! — рассуждал он, пробуя лезвие топора на палец. — Денег на пересылку он мне не давал — только на чемодан — и вообще о ней не заикнулся». Кондрат занес топор, но тут вдруг вспомнил объявление «Киногруппе требуются: ватники ношеные, картины народные», и намерение переменил. Завернув «Козла» в сдвоенную газетку, он потащился в гостиницу «Ермак». Киногруппа «Держись, геолог» занимала весь второй этаж. Но по здравому разумению Мотыгин решил обратиться в номер получше, зная, что распорядители кредитов в плохих обычно не проживают. Итак, он сразу постучался в единственный номер с ванной, но вместо «войдите» услышал такие слова: — «Вода! Не она ли вздымает розы на груди усталого бархана? Не она ли оживляет Ивана-царевича и турбины ГЭС?.. Вода! Ты блестишь на травушке перстнем слезчатым, ты баюкаешь корабли каботажа большого и малого, поишь лань трепетную и овцу тонкорунную. Да и что есть человек? Три четвертых воды в нем, не менее! Нет, Вадим, я не стану звездой балета. Разве есть на свете должность краше газировщицы!» О воде Мотыгин был другого мнения, да и газировщиц очень даже знал. Но ласковое бормотание укачало его, размагнитило, и только секундой позже он понял, что в номере живет обманщик, ухо с которым надо держать востро. Он постучал еще раз, дернул ручку на себя и увидел посреди комнаты лысого человека, прижимавшего к груди стакан с зубной щеткой внутри, и женщину в кресле, поедавшую этот стакан глазами и шептавшую, как в тифу: — Вникаю, Тимур Артурович. Изумительно… Гениально! — Здесь покупают картины? — сказал Мотыгин, прокашлявшись. — Вон отсюда, дебил! — сказал лысый, не обернувшись, и продолжал: — «Нет, не стану звездой балета! Не замерзай, милый, у нас скоро будет сын…» — Извиняюсь, — сказал Мотыгин. — Я не хотел мешать… — Да вы что? Русского языка не понимаете! — Идите в четырнадцатый, к Белявскому, — сказала женщина. — Идите! Из раскрытых дверей, четырнадцатого номера доносились совсем иные мотивы. — Ване Федорову палец в рот не клади, — говорил кто-то самодовольным голосом. — Карлики, они себе на уме и притом задиристые — просто ужас! Разговор Мотыгину понравился. В номер он вошел без опаски и, спросив: «Кто будет товарищ Белявский?», — выложил «Голубого козла» на стол. — Ну рожа?! — сказал сытенький, казалось, состоящий из мягких полушарий Белявский. — Посмотрите на зенки, Сергунин… Ну, точь-в-точь как у вашего бухгалтера, когда ему отчет по командировке сдаешь. Возьмем для смеха, а? Простолицый кинокрасавец Сергунин, тот, кому Белявский про карликов докладывал, предложением очень воодушевился. Мотыгину это опять же понравилось: дело выгорало. — Сколько же вы за нее хотите? — сказал консультант по быту и реквизиту Белявский. — Пятьдесят, — сказал Мотыгин, но, боясь, что заломил несуразно, на всякий случай оправдался: — В Янтарные Пески еду, подлечиться… А там расходы знаете охо-хо-хо! Но вранье это было зряшным. Картину приобрели не торгуясь, и Мотыгин ушел, терзаемый подозрениями, что продешевил. Сергунин сбегал за гвоздем, и картину повесили для потехи на стену. Вот тут-то ОНО и началось… Белявский все еще продолжал хехекать, представляя, как напотешит коллектив, когда ему вдруг показалось, что козел сверкнул бельмами и оскалился ответно… Причем в оскале этом было что-то злокозненное и подзуживающее на безобразный поступок. Сергунину, между прочим, почудилось то же самое, но, боясь прослыть за дурака, вслух он ничего не сказал. Промолчать-то они оба промолчали, но камень на сердце остался и начал потихоньку давить… Сергунин отошел к окну, посмотрел на местные пейзажи и сравнил их мысленно с крымскими, отчего в ушах вдруг зашумело, будто кто приложил к ним морские раковины. И тогда с языка его сорвалось: «Все люди как люди!»… Слова эти, надо сказать, были запретными. Режиссер-постановщик Тимур Сапфиров вовсе не желал быть «как все». Не для этого он носил косоворотку, расщеплял клюкой декорации и, нарочно окая, вещал: «Солнце — рампа земли! Каждый воробушко в ее свете соловушко!» И картину свою снимал не «как все», а по методу неоспиритизма. К замерзающему в тайге геологу поочередно являлись — его возлюбленная газировщица (она же тайная балерина), их будущий сын Никита, Отто Юльевич Шмидт, Дерсу Узала, секретарь первичной организации товарищ Зуев, Иван Сусанин и, наконец, композитор Ян Груетман со скрипкой и хором химко-ховринских цыган. Все говорили герою: «Держись, геолог!», или пели: «Ты солнцу и ветру брат…» Вершиной фильма был диалог героя с философствующим Иваном Федоровым о силе слова, который как бы обострял все ранее сказанное и спетое. Согретый словом геолог встряхивался, как воробушко, и добирался до заимки современного лесника-интеллектуала, любителя Пикассо и Стравинского. Сам диалог и поездка в Ивано-Федоровск были подсказаны режиссеру Агапом Павловичем Сипуном. И Сапфиров ухватился за совет обеими руками: прославленный ваятель был не только другом Тимура Артуровича, но и славился необычайным умением попадать в струю. Идея была принята с восторгом. Но помучиться с воплощением режиссеру пришлось… Погоды в Ивано-Федоровске стояли прекрасные. Оператор Бржевский с утречка выставлял на площади Первопечатника аппаратуру, а консультант Белявский расстилал белым саваном вату. Сапфиров надевал против солнца тропический шлем. Сергунин облачался в ватник. Но едва раздавалась команда «мотор!», как на площадь, словно пущенный из пращи, вылетал карлик Ваня и занимал позицию перед объективом. Так оно повторялось изо дня в день. Бороться с Ваней было невозможно. И на просьбы, и на ругань он выставлял один и тот же резон: «А чем я хуже? Теперь все равны» — и смотрел при этом нескромно на актрису Маньяковскую. — Голубчик, я этого не отрицаю! — приторно соглашался Сапфиров. — Но вы должны понять: у каждого своя работа. — От, чудной! — поражался на режиссера Ваня. — Кто же бакена днем жгет? Я же теперь свободный… Применять к нему силу было стыдно, а просить вспоможения у милиции тем более. Но Ваня истолковал причину своей неприкасаемости иначе и приписал в том заслугу своему могучему покровителю и тезке — «Ивану Федорову». На четвертый день он окончательно распоясался и, подумавши, объявил: — Я вас всех с работы посымаю. — Он меня с ума сведет, — сказал Сапфиров в изнеможении. И тогда, прекрасно освещенный солнцем, вперед выступил рабкор, почетный железнодорожник, член елочной комиссии Дома композиторов, консультант по быту и реквизиту народов Крайнего Севера Гурий Михайлович Белявский. — Минуточку, гражданин, послушайте знающего человека, — сказал он, потирая руками медленно и значительно, будто платный врач над раковиной; а группа стояла позади не дыша, словно держала наготове полотенце. — Вот вы все равенства добиваетесь, а напрасно… Я тебе по секрету скажу… Гурий Михайлович присел для удобства на корточки и прошептал Ване что-то на ушко. — Врешь! — встрепенулся Ваня. — Вот те крест! — Белявский полез сгоряча за пазуху, но вспомнил, что креста на нем сроду не было, и показал паспорт. Документ подействовал на Ваню благотворно, и он положил его для залога в карман. Потом они еще о чем-то пошептались и удалились, даже не оглянувшись на притихшую киногруппу. — В пивную пошли, — горько сказала Маньяковская и, как все подозрительные женщины, ошиблась. Гурий Михайлович и Ваня отправились в городскую библиотеку имени Ивана Федорова. Что искали они в Малой энциклопедии, зачем разглядывали африканские пейзажи и рылись в пожелтевших «Ведомостях» — неизвестно. Но съемки прошли беспрепятственно. — Как это вам удалось, Гурий Михайлович, сладить с таким гепардом? — поинтересовался потом кинокрасавец Сергунин. — Очень просто. Я ему закон прояснил о досрочной пенсии лилипутам. — А разве есть такой? — Здравствуйте!.. Я по нему двоюродного брата оформил[2]. — Вот несчастье. Он что же, у вас тоже того… недомерок? — Да не очень… Во всяком случае до метра семидесяти не дотянул, — и, спохватившись, добавил: — Впрочем, я его не мерял… — Ну, Гурий Михайлович, вы действительно все можете! — Все не все, а съемку я вам обеспечил. Пора бы и о маршруте трех морей подумать. Иначе зачем я к вам нанимался? Для кого бронь на «Чайку» выколачивал?! Однако неблагодарный Сапфиров на юг не торопился все из-за того же проклятого стремления быть не «как все». Больше того, в интересах творческой неповторимости он решил закончить съемки в Ивано-Федоровске. И тогда Белявский начал свою интригу. — Все люди как люди, — говорил он, заглядывая «на минутку» из одного номера гостиницы в другой. — «Таежная история» давно в Пицунде, «На диком бреге» загорают в Алуште, «Лесорубы» в Боржоми… А мы, видите ли, «не как все»! Мы, извольте радоваться, на Безрыбице сидим… В самом что ни на есть Ивано-Федоровске?! Слово «Федоровск» произносилось Белявским как «Нерчинск». Коллектив бросало в озноб, и во время работы на съемочной площадке поднималась форменная смута. Оператор Бржевский начинал прямо вслух бредить маршрутом трех морей. Маньяковская заводила разговор про черешню. Осветители давали не тот свет, а ослепленный Сергунин страстно швырял шапкой-ушанкой в юпитер. — Я не могу воплощаться в такой обстановке! — кричал он, глухо топая казенными пимами. — Меня самого звали в «Лесорубы». Все люди как люди! А мы?.. Однако Сапфиров, что называется, зарвался и объявил слова «все люди как люди» вне закона. Объявить-то он объявил, но достаточно было Мотыгину ляпнуть про Янтарные Пески — да еще этот Козел с его подзуживающей ухмылкой! — и в душе Сергунина всколыхнулся желчный осадок. Гурий Михайлович это сразу подметил и не растерялся: — А на юге сейчас хор-рошо! — сказал он, подстрекательски поглаживая грудь и по-кошачьи жмурясь. — А вот я ему покажу «воробышка», — остервенился Сергунин и опрометью кинулся в коридор. За какие-нибудь полчаса он сколотил блок человек в двадцать и внятно бормоча: «Янтарные Пески — родина барханов», — повел толпу в небезызвестный номер с ванной. Сапфиров все еще тютюшкался с граненым стаканом, а Маньяковская продолжала шептать «гениально, изумительно», но в шепоте этом улавливалось нечто змеиное, да и как могло быть иначе, если она думала про себя: «Ну, паташон, ну, изверг, когда же это кончится»… — Все люди как люди! — начал Сергунин, нахально прерывая репетицию. — Что?! — переспросил Сапфиров, хотя отлично расслышал сказанное. «Все люди как люди», — мстительно повторила Маньяковская. — В чем дело! — вспыхнул Сапфиров. — Где дисциплина, спрашиваю, вы что, забыли про закон? Белявский протолкся вперед и развел руками, давая понять: мол, закон законом, но против массы не попрешь. — Я мерю мир особым взглядом! — сатанинским голосом пригрозил Сапфиров. — Каждый воробушко… — А меня звали в «Лесорубы», — напомнил Сергунин. — Вон товарищи подтвердят. — Прекратить! — закричал Сапфиров, забывая в горячке окать. — Прекратите базар, Сергунин! Этого только Сергунин и дожидался. — A-а!.. Так, по-вашему, коллектив — базар?! — полез он на стену, вдохновляя притихших было статистов. — И не кричите на меня. Я вам не любовница. — Что вы имеете в виду? — взвилась некстати Маньяковская. — Товарищи, я прошу вынести Сергунина на собрание! Статисты в дверях пфыкнули в кулачки, а Бржевский не нашел ничего лучшего, как сказать: «Не в этом дело». — Как «не в этом»? Нет уж позвольте! Я вам не газировщица!!! — заверещала Маньяковская, вцепившись в Сергунина накрашенными коготками. Их бросились разнимать, и в номере все пошло вверх дном. Это была уже не комната, а какой-то птичий остров, крикливый и бестолковый. Маньяковскую успокаивали в десять голосов и предлагали воды, но она визжала: — Я не лань трепетная! Не овца тонкорунная! Сапфиров понял, что добром это не кончится и надо предпринимать нечто срочное — размолотить клюкою стол в порошок или самому пасть в обморок. Но и то и другое не обещало результата, и, как человек не глупый, а очень даже хитрый, он пошел на попятный. Клюкой по столу он таки треснул, но следом за этим прокричал: — Позвать ко мне Олега Поповича! Соавтор Сапфирова литератор Попович прибежал с неестественной быстротой. Это был золотой человек, готовый написать хоть собственный некролог. Объяснения с ним длились не больше минуты. Олег тут же притулился к подоконнику, на столах он писать не привык, и дополнил сценарий эпизодом, где замерзавший в тайге герой внезапно вспоминает о море. Мудрого Олега поздравили с творческой удачей, причем первой это сделала Маньяковская, непостижимым образом успевшая подкраситься и навести полный марафет. Коллектив включился в суматошную работу. Сапфиров диктовал объяснительную телеграмму на студию. Статисты паковали реквизит и аппаратуру. Белявский заказал разговор с Янтарными Песками и в ожидании звонка стал печатать на машинке новое объявление:Съемочной группе «Держись, геолог» Требуются: картины, эстампы — 4 шт.; ватники ношеные — 5 шт.; чучело глухаря — 1 (одно).Глухаря надо было выставить при съемках на пляже для показа, что море — вовсе не море, а бред замерзающего геолога. Белявский торопился и печатал с ошибками: «Чайка» отправлялась в рейс ровно через два с половиной часа. Когда братья Бурчалкины прибежали в гостиницу, там было хоть шаром покати. У высокого, словно в тире, барьерчика отирался Ваня Федоров и, показывая дежурной то «Пчелу на дыне», то ватник, донимал ее приставанием: — Как так «съехали»?! Дыню видишь? Ну! А вот ватник ему. Ношеный, как договаривались… Он мне нынче без надобности. Я на полное довольствие становлюсь: мне от государства положено, потому как я теперь пихмей… — Много ты на себя берешь, Ваня, — отвечала дежурная сонно. — Ты бы прежде в толк взял: на шута им в Крыму твой ватник?.. Аль под голову заместо подушки класть? — Четырнадцатый у себя? — лег на барьер Стасик. — Вот еще один, — сказала дежурная. — Уехали они. Все уехали. Каждому в отдельности, что ли, повторять, — и, вспомнив вдруг нечто важное, встрепенулась и крикнула: — Клава, ты слышь? Нюрка-то замуж выходит! — Но? — гулко отозвалось из титанной. — Кой леший на нее позарился? Роман не терпел скандалов, но тут его задело за живое. — Вы на работе или на завалинке? — сказал он по возможности ровным голосом. — Вас ведь живой человек спрашивает. — А у нас других не бывает, — нисколько не испугалась дежурная. — Мертвых, гражданин, не поселяем. Оглушенный таким хамством, Роман только хватил в себя воздух, как это бывает, когда хочешь чихнуть, да не получается. Тогда Стасик оттеснил в сторону брата и с фальшивой заинтересованностью произнес: — Это какая же Нюрка? Не Журавлева? — Да нет, буфетчица из «Дуная», — с превеликой охотой уточнила дежурная. — Скажи пожалуйста, кто бы подумал! — сказал Стасик, настраиваясь на родную для дежурной волну. — А куда, кстати, уехали из четырнадцатого и надолго ли? — В Янтарные Пески, на море… Напоследок графин кокнули, паразиты, и осколки под ковер, а четырнадцатый гвоздь в стенку засадил. Зубами бы его заставить… — А на гвозде там ничего не осталось? Можно мне посмотреть? — перебил Стасик. — Поди оставят! — сказала дежурная. — Нашего бы чего не прихватили. Артисты! — Когда же они уехали? — Да с час, наверное, будет. — Час! Всего час, — застонал Стасик. — Ты представляешь, Роман, какой-нибудь час, и мы бы их застали… О черт! Будь проклят этот карантин!.. Не успел он это воскликнуть, как его слова эхом повторились в дверях. Этим «эхом» был переводчик Ольшаный. На знатока иностранных церемоний было больно смотреть. Его буквально шатало, и в своих темных роскошных очках он походил на слепого, потерявшего на тротуаре палочку. — Во, еще один артист, — аттестовала такое явление дежурная. — Люди не завтракали, а он уже хорош! Разве тут графинов напасешься? — Что с вами, товарищ? — спросил заботливый Роман. — Все!.. Все кончено, — откликнулся на сочувствие переводчик. — Меня лишили Республики Кокосовых пальм… О, зачем я таскал чемоданы?! Зачем не пил и даже не курил? — Не понимаю. Вы жалеете, что сохранили здоровье?!
 — Зачем мне здоровье! — стиснул бледные кулачки Ольшаный. — У меня два языка — английский и кокосовый. И все прахом из-за какой-то бани да еще этого карантина…
В баню Ольшаный не ходил из принципа: там его принимали за подростка и просили потереть спину. Но на этот раз он пошел на сделку с гордостью. Экскурсию взял на себя Береста, и поначалу все шло прекрасно. Втроем они подошли к бассейну, Береста попросил у нарушивших карантин пловцов внимания и сказал:
— Граждане, сейчас в данной воде будет купаться гражданин Бивербрук. Освободите место!
Предвкушая зрелище, публика живо повылазила на берега. Живость эта и поднапортила делу. Береста пригласил гостя в воду, но тот, видя, как из бассейна бегут люди, вздумал, что в бассейн хлынул кипяток, и попятился, благодарственно приложив к сердцу мочалку.
— Жизнь показывает, что мыться он не настроен, — сказал Орест Орестович и повел мистера в парную.
В парилке было мрачновато и жарко, как в Республике Кокосовых пальм. К потолку эшафотом тянулся деревянный помост, и оттуда слышались стенания. Мистер Бивербрук глянул наверх и со страху принялся за массаж по системе пенджабских йогов. В это время в углу шевельнулась чья-то тень и махнула руками в сторону печи. Печь ухнула и заклубилась, как Фудзияма. Мистер схватился рукой за стену, а Олыпаный пошатнулся. Переводчику показалось, что на голову ему свалился заветный орех.
— Прекратить кочегарить! — приказал Береста. Но с полка закричали «Эй-эй!», оттуда скатился красный, весь в березовых струпьях Муханов и, приплясывая на кавалерийских ножках, швырнул в жар еще пару шаек.
На полке грянуло: «Эх-х-ха!!». Веники засвистели, как шашки.
В предбанник мистера Бивербрука вынесли на простынях. Очнувшись, англичанин сказал: «Вот это да!», а Олыпаный простонал: «О пальмы в Гагре» и «Виза закрыта…»
— Будь он проклят, этот карантин! — с плачем закончил рассказ Олыпаный. — Пусть сгорит, кто его придумал!!
— Зачем мне здоровье! — стиснул бледные кулачки Ольшаный. — У меня два языка — английский и кокосовый. И все прахом из-за какой-то бани да еще этого карантина…
В баню Ольшаный не ходил из принципа: там его принимали за подростка и просили потереть спину. Но на этот раз он пошел на сделку с гордостью. Экскурсию взял на себя Береста, и поначалу все шло прекрасно. Втроем они подошли к бассейну, Береста попросил у нарушивших карантин пловцов внимания и сказал:
— Граждане, сейчас в данной воде будет купаться гражданин Бивербрук. Освободите место!
Предвкушая зрелище, публика живо повылазила на берега. Живость эта и поднапортила делу. Береста пригласил гостя в воду, но тот, видя, как из бассейна бегут люди, вздумал, что в бассейн хлынул кипяток, и попятился, благодарственно приложив к сердцу мочалку.
— Жизнь показывает, что мыться он не настроен, — сказал Орест Орестович и повел мистера в парную.
В парилке было мрачновато и жарко, как в Республике Кокосовых пальм. К потолку эшафотом тянулся деревянный помост, и оттуда слышались стенания. Мистер Бивербрук глянул наверх и со страху принялся за массаж по системе пенджабских йогов. В это время в углу шевельнулась чья-то тень и махнула руками в сторону печи. Печь ухнула и заклубилась, как Фудзияма. Мистер схватился рукой за стену, а Олыпаный пошатнулся. Переводчику показалось, что на голову ему свалился заветный орех.
— Прекратить кочегарить! — приказал Береста. Но с полка закричали «Эй-эй!», оттуда скатился красный, весь в березовых струпьях Муханов и, приплясывая на кавалерийских ножках, швырнул в жар еще пару шаек.
На полке грянуло: «Эх-х-ха!!». Веники засвистели, как шашки.
В предбанник мистера Бивербрука вынесли на простынях. Очнувшись, англичанин сказал: «Вот это да!», а Олыпаный простонал: «О пальмы в Гагре» и «Виза закрыта…»
— Будь он проклят, этот карантин! — с плачем закончил рассказ Олыпаный. — Пусть сгорит, кто его придумал!!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Карамболь

Глава IX Бесенята
Умиротворенный Гурий Белявский сидел в номере полу-люкс без штанов, пил холодный нарзан и смотрел на лазурное море. На пляже прямо под окнами гостиницы копошились шоколадные фигурки. Разноцветными мячиками колыхались у берега шапочки пловцов. Белый катер приплясывал на волнах под веселую песенку «Ландыши», доносившуюся с его палубы. Изумительно пахло мокрыми солеными полотенцами. — И жизнь хороша и жить хорошо! — констатировал Белявский разнеженно, но чьи это слова, убей его, не сказал бы. Он был замурыженным, спешным человеком и невежественным настолько, что по приезде в Янтарные Пески приобрел вместо нужного глухаря бесполезное чучело цесарки. Да и откуда горожанину, содержавшему на сто рублей две семьи (и неплохо содержавшему!), знать такие птичьи тонкости. Белявский покончил с бутылкой, похлопал мокрой ладошкой по брюшку и почти одновременно услышал в комнате сопение. Гурий удивился. Цесарка, естественно, сопеть не могла, если бы даже была живой, и он недоверчиво покосился в угол, где валялся «Голубой козел». — Ну? — сказал Гурий Михайлович вызывающе. Он был не из робких. Сопение продолжалось. Хуже того, Гурию Михаиловичу померещилось, что Козел глянул на него дерзко с прищуром, будто знал про брата «лилипута» или еще что-то нехорошее. — Этого еще не хватало! — соскочило у Гурия с языка, а в душе зашевелился колкий шерстяной комочек. Шевеление продолжалось и в конце концов родило попутную мысль, что обе семьи любят Гурия Михайловича исключительно за долгие командировки. — Это уже черт знает что! — попытался сбросить мысль Белявский. — Генриетта еще пожалуй, но чтобы Анна?! Не верю… — Гурий Михайлович, — послышалось в замочную скважину с присвистом. «А, так вот откуда сопели!» — обрадовался Белявский. — Гурий Михайлович, — послышалось вторично. — Аиньки? — отозвался Гурий, впрыгивая на ходу в брюки. — К вам можно? — повторил чей-то голос. — Одну минуту… одну минуту! Гурий Михаилович накинул поверх плеч рубашку и повернул ключ. На пороге стояли два симпатичных молодых человека в одинаковых салатовых брюках с широченными поясами, утыканными медной мебельной кнопкой. Один из них, узкогрудый, стриженный под санитарку, держал в руках что-то завернутое в наволочку. Другой, пониже ростом, веснушчатый и круглолицый, ничего не держал, отчего крайне смущался и не знал, куда девать руки. — Вы консультант по быту и реквизиту? — спросил смущенный, снимая яхтсменку и теребя ее потными пальцами, будто искал за подкладкой гривенник. — Ну я, — подтвердил Гурий, зевая. — Входите, чего вам? — Мы по объявлению, — сказал стриженный под санитарку. Он проворно сдернул наволочку, и глазам директора открылся грязноватый холст, измалеванный смазанными наперекосяк и потому, казалось, стремительно падавшими куда-то кирпичами. — Что это? — спросил Белявский строго. — Я назвал это «Упреки подозрения», — зарделся яхтсмен, выдавая тем самым свое авторство. — Где упреки? Какие подозрения? — сказал Гурий с досадой. — Вы что, меня за дурака принимаете? Это разгрузка самосвала, а не «подозрения». Три копейки цена таким «упрекам». — Мы бы ее и за сто рублей не продали, — обиделся яхтсмен. — Разве не понимаете… — Не понимаю, — сказал Гурий. — Говорите прямо, чего вам нужно? — Мы хотим сниматься, — заалевшись, выдавил из себя стриженный под санитарку. — Ясно, — сказал Гурий. — С этого и надо было начинать. А то «упреки», «подозрения»! Промотались на юге, бесенята? — Нет, нет, вы нас опять не поняли! — заегозил патлатый. — Мы за так… на общественных началах, — потупился в плечико яхтсмен. Белявский озадачился. Молодые люди всячески упирали на свое бескорыстие. Но это Гурия Михайловича как раз и настораживало. Он сам, и не один раз, преследовал личные интересы «на общественных началах» и теперь нутром чуял, что тут кроется какое-то плутовство. — Нет уж, нет уж! — отгораживался он от молодых людей пальчиком. — Ничегошеньки у вас не выйдет. Но яхтсмен, назвавшийся Лаптевым, и патлатый по фамилии Клавдии не унимались и твердили свое: — Вы, Гурий Михайлович, все можете. Нам сказали… В конце концов Белявскому это надоело. Он решительно показал молодым людям на дверь, а сам взял «Голубого козла», цесарку и пошел в номер к Сапфирову. В номере Тимура Артуровича находился уже знакомый Гурию Михайловичу человек с опущенными вниз губами и надменным изломом бровей, торчавших на изгибах жесткими проводочными кустиками. Белявский заметил его еще в Арбузове при посадке на «Чайку» и воскликнул в душе: «Ни-и черта себе! Это же во плоти Иван Федоров!!»… Гурий Михайлович видал, что называется, «виды» и сам эти виды порою создавал. Но тут даже он удивился. Шестым, никогда не подводившим его чувством, он сразу же предположил в животастом лицо ответственное, полномочное и, возможно даже, инспектирующее. Интуиция Гурия Михайловича оказалась просто снайперской. Каюта у животастого была отдельной, а обращение к нему — особенным. Вот и сейчас живой «Федоров» сидел будто каменный, а Сапфиров кружился подле него и всплескивал руками, как деревенская бабушка над городским внуком. — Да как же они, Агап Павлович, посмели! — кудахтал он. — А вы отзыв Егупова им показывали? Ну, знаете, я даже не знаю… — Ничего, они с этим «Трезубцем» еще наплачутся, — пообещал Агап Павлович. — Это только начало, — он пошевелил газетой «Южная здравница». — У меня с Потаниным будет разговор длинный. М-да… Ну, а как там в Ивано-Федоровске? Памятник народ одобряет? — Одобряет! Очень даже одобряет, — заторопился Сапфиров. — Один так просто от него не отходит. Даже съемку нам затруднил. — Это хорошо, — сказал Агап Павлович. — Надо бы им тоже газетку послать. Пусть знают… И поднялся, намереваясь уходить. — Вот достал глухарька, — пользуясь паузой, сказал Белявский. — Перышко к перышку. Сто рублей заломили, мерзавцы! Тимур Артурович взял цесарку за шею и взвесил, будто покупал на базаре гуся. — Что-то он какой-то подозрительный. Усох, что ли? — заколебался Сапфиров. — Как вы думаете, Агап Павлович, сойдет за глухаря, а? Агап Павлович медленно повернул голову и зашевелил своими проволочными кустиками, отчего лицо его стало еще более многозначительным. — Мы доверяем нашему зрителю, значит, и он должен нам доверять, — сказал он, и голос его прозвучал настолько тезисно, что Белявскому самому захотелось почему-то поверить и в зрителя, и в цесарку. — А как вам картина? — решил воспользоваться он авторитетом Сипуна. — Сойдет? Неизвестно, что там напрокудил Козел, закатил, подлец, бельма или выкинул номерок почище, но на этот раз бровные кустики Сипуна зашевелились с такой силой, будто в них кто прятался и делал это впопыхах. Агап Павлович покраснел, искоса посмотрел на Сапфирова, и во взгляде его было нечто, отчего Тимур Артурович заволновался и тут же озверел. — Вы что, не читаете газет? — набросился он на Белявского. — Или, может, разучились?! — В каком смысле? — заершился Гурии Михайлович, чувствуя нутром неладное, по не понимая еще истоков. — Я напротив… Я сам рабкор… И не сажусь без газеты завтракать. — И обедать? — обнажил иронию Сапфиров. — И обедать, — подтвердил Белявский, — ибо человек, который не читал газет… — тут Белявский замялся, ибо чтением себя никогда не утруждал. — …Словом, мне странно даже от вас эдакое слышать… — Нет, это мне странно! — воскликнул Сапфиров, швыряя в Белявского «Южной здравницей». — Работаете на переднем крае искусства и не удосужились прочесть статью Агапа Павловича Сипуна!! С этими словами он слегка склонился в сторону Агапа Павловича и пожал извиняюще плечами, всем своим видом говоря: «Вот, извольте, с каким народом приходится работать». Белявский ловко поднял «Южную здравницу» и подобострастно уткнулся в статью, озаглавленную непонятно, но крепко: «Трезубец в болоте». Статья эта прозрачно намекала: «Каждому городу — своего „Ивана Федорова“ и разъясняла, что „Трезубец“ Потанина увяз в болоте символизма». На это вообще и на Потанина в частности призывалось обратить внимание частных лиц и организаций. — Но позвольте, — зарделся Белявский, понимая, что попал впросак. — Вы же сами, Тимур Артурович, приказали: «Дайте что-нибудь оригинальное, наш лесник тонкая натура — любитель Пикассо» и этого самого… Ну как его? — Чего «этого самого»? — с ненавистью поинтересовался Сапфиров и покраснел. «Что же это я как дурак краснею», — подумал он и покраснел еще гуще. — Вы бы мне вместо «этого самого» вентилятор поставили! — закричал он, обмахиваясь ладонями. — Немедленно организуйте… Так невозможно работать! А «Козла» сжечь! Аннулировать эту мерзость… Гурий Михайлович встрепенулся, сделался необычайно приветливым и сказал: — Это мы мигом! Вы же знаете Белявского… — К вечеру закажите машину, — бросил вдогонку Сапфиров. — Поедем на Ялтинскую студию. Белявский вышел в коридор. Там все еще топтались неуемные Клавдии и Лаптев. Белявский скорчил озабоченное лицо и неторопливо зашагал к себе в номер, держа картину под мышкой. Молодые люди пристроились за консультантом. За спиной Гурия Михайловича слышались интригующие хрюкание и покашливание. «А что, эти, пожалуй, клюнут, — подумал Гурий Михайлович. — Не пропадать же добру!» Он обернулся, прикусил для солидности ноготь и сказал: — Вот что, друзья мои хорошие, «за так» работать даже у нас не положено. Но выход, кажется, есть…Глава X Первый сон Агапа Павловича
Мимолетная встреча с «Козлом» имела для Агапа Павловича возмутительные последствия. Той же ночью ему приснился отвратительный сон. Надо сказать, и во снах Агап Павлович оставался реалистом. Ему снилось только то, что когда-то с ним было или моглобыть в действительности. Но на этот раз сновидение пришло к нему в каких-то недопустимых прибауточных формах. Ему приснилась выставка соперников, то есть «потанинцев» или «художников-затворников», как он их умышленно называл. Так вот, во-первых, привиделось, что он явился туда инкогнито, то есть в маске и с топориком, запрятанным в букет гладиолусов. Это уже было чушью: гладиолусы он терпеть не мог за один только граммофонный вид. А во-вторых, вместо праздничной ленточки, которую полагалось резать, у входа в зал висел ипподромный колокол и стоял сводный хор в туниках из шинельного сукна. То, что выставка была в манеже, колокола еще не объясняло, и «затворники» жались на подходе к ленточке по стеночкам и перешептывались. Судя по их вытянутым лицам, они ожидали чего-то значительного, особенного. Но вот дирижер подтянул кожаные галифе, поднял руки самолетиком и заворочал шеей, осматривая медные трубы. Все смолкло, застыло, напряглось. Пауза уже начала томить, но тут дирижер взмахнул и хор рявкнул несуразное, несовместимое с моментом: — Ку-кы, ку-кы, ку-калочки, едет Ваня на палочке!.. А теноришко с бабьим лицом выскочил вперед, заложил пухлые шулерские пальцы за портупею и, сладостно закатив глазки, заголосил: — А Ду-уня в тележке, щелкает орешки!.. Не успел Агап Павлович опомниться от куплета, как в проходе показался полковник Егупов верхом на палочке и с биноклем. Следом шла Евдокия Егупова с горностаевой муфтой в руках и щелкала из нее семечки, с беличьим любопытством тараща бусинки на обомлевших «затворников». — Здравствуйте, товарищи художники! — прокричал Егупов с палочки. — Здравия желаем, товарищ полковник! — отвечали за всех ординарцы, дирижер и Евдокия. — Поздравляю вас с открытием выставки! — продолжил мысль Егупов. — Ура!.. Ура!.. Ура!! — раскатили по залу ординарцы, Евдокия и Агап Павлович, сделавший вид, что ничего особенного не происходит, все гладко и все своим чередом. — Ура и слава! — дополнил он с нарочным опозданием. И полковник его приметил. — Начнем, пожалуй, — сказал Егупов. Хор расступился и открыл выставочное пространство. Егупов поманил пальцем все еще сомневавшихся скульпторов, а когда они сгрудились, ударил в колокол и сказал: — Пошли! Музыка заиграла «Марш 23-го кавполка», и «затворники» кто пошел, а кто побежал к своим работам, чтобы объяснить при надобности смысл и направленность своих творческих усилий. Оценив тягу и, любовь Егупова к шутке, Агап Павлович поскакал на топоре, но скакать на нем оказалось для колеи низко и потому неловко. Агап Павлович как ни старался, а пришел последним, когда Егупов уже осматривал скульптурные труды Потанина — Гекату и Кентавра, бросившихся ему в глаза своей непохожестью на лепные образы современников, стоявших по соседству. — Это кто? Змей Горыныч? — спрашивает полковник, тыча пальцем в трехглавую Гекату. — Но почему тогда морды разные, одна лисья, другая песья, третья лошадиная?… Где единство формы и содержания! — Егупов посмотрел на Гекату в бинокль. — Не вижу! — Это, видите ли, Геката из греческой мифологии, — отвечает Потанин с предупредительностью, нужной только в разговоре с тяжело больным или сильно пьяным человеком. — Нам ли у греков занимать? — сбрасывает маску и подает голос подоспевший Агап Павлович. И Егупов его слышит. — Внесем ясность, — говорит полковник. — Ехал грека через реку, видит грека в реке — шиш!.. Оживление среди ординарцев. — Мифы нужны тем, у кого нет действительности! Агап Павлович зааплодировал первым, и полковник это заметил. — А эт-то что? — Егупов перешел к кентавру. — Опять без единства? То ли луковка, то ли репка!.. Как его хоть зовут? — Это кентавр, — беззащитно оправдывается Потанин. — Имена же вы им, я скажу, выбираете!.. «Кентавр»?! Если это человек, то почему на копытах? Он что же, сеном объелся? (Смех ординарцев.) Или работал, «как лошадь»?.. (Смех Евдокии, переходящий в аплодисменты Агапа Павловича.)…Где вы видели эдакое в действительности?! Зал притих в ожидании. Упрек Егупова исходил из самых глубин. — Практика показывает, что таких людей не бывает! — обобщил Егупов. — А лошадей — тем более. Это не лошадь, а позор для нашей кавалерии… Таких мы не держим! У нас таких лошадей нет и, надеюсь, не будет. Все слышали?.. — Я, я вас слышу, — кричит Агап Павлович. — Не будет, сейчас же не будет! Он бросается на трехглавую Гекату и махом отрубает ей лошадиную морду. «Затворники» пятятся назад. — Я живенько, я скоренько! — шепчет Агап Павлович. Р-раз — и, закатив к небу немые белки, летит на пол срубленная голова кентавра. И вместе с ней падает в обмороке Потанин. — Воды! Воды!.! — просит Агап Павлович, и ему бегом несут стакан на хрустальном подносе. А в зале паника. Скульпторы рассыпаются и закрывают телами свои работы, становясь перед ними на манер распятия. — Один момент, сию минуточку, — приговаривает Агап Павлович, смачивая из стакана лошадиную морду Гекаты и прилепливая ее к обезглавленному кентавру. — Пожалуйте, лошадь подана… — Как зовут? — спрашивает Егупов, оглядывая новорожденную. — «Сивка-бурка». Взор Егупова загорается ясностью и проникновением в суть. Он сдвигает на бедро кобуру и вспрыгивает на белый круп. — Нельзя! — вскрикивает очнувшийся некстати Потанин. — Что вы делаете, товарищ Егупов?! — Пеший конному не товарищ, — смеется полковник, прилаживаясь на кентавре. — Конь — огонь! Безъящурный, строевой, — и показывает биноклем на Агапа Павловича. — Считать его первым среди лучших! В приказ! — Готов и впредь… Я… примите от верного сердца, — задыхается от волнения Агап Павлович и протягивает Егупову, словно хлеб-соль, голову кентавра на хрустальном подносе. И Егупов принимает «хлеб-соль». И начинает выкручивать кентавру ухо, стараясь отщипнуть, как положено, кусочек. — Опомнитесь! — стонет Потанин. — Это же голова… — Я выше, мне виднее! — сообщает полковник. — Я на коне! И тут из конских ноздрей плеснуло самоварным пламенем с белыми пепельными хлопьями. Хлопья взметнулись и осели на круп вроде мыльной пены. Лошадь задрожала, вскинулась и запрыгала по манежу, бешено крутя приставной головой и топча в порошок скульптуры. — Н-но, не балуй! — прикрикнул Егупов. Но лошадь понесла. Она лущила паркет копытами, и тот летел из гнезд, как вощеные кукурузные зерна, в облаках гипсовой пыли, грохоте падающих скульптур и криках о помощи. Все смешалось, осатанело, побежало. И в этой пожарной суматохе Агапа Павловича подхватили песья и лисья морды Гекаты и взмыли ввысь, в холодное и пустое пространство… Здесь было тихо и звезды сияли дружно, как в планетарии. Пес летел молча, по-баскервильски освещая дорогу зелеными глазами, а лиса то колыхалась печным дымом, то расстилалась, как шкура по прилавку. — Послушайте, граждане хорошие, — сказал Агап Павлович, — куда вы меня, собственно, тащите? Это непорядок! — Ты что, своих не узнаешь? — сказал пес небрежно. — Не шуми. Есть закурить? — На взлете не курят, — сказала лиса. Это чтобы вменить Агапу Павловичу, что они летят правильно. — Виноват, сестренка, склероз, — сказала псина извиняюще. Видно, все у них было отрепетировано. — За кого вы меня принимаете? — сказал Агап Павлович. — Вы это бросьте! Что значит «свой»? — Свой — значит наш, — пояснила лиса, — как говорят: душа в душу. — Наш! Наш человек! — пролаял наглый пес. — Ерунда. Форменная ерунда! Не впадайте в мистику, товарищи, — сказал Агап Павлович, хотя по ситуации и чувствовал себя в некотором роде зависимым. — Никакой души нет. — Это ты говоришь потому, что нам ее отдал, — сказала лиса. — Клевета! Давайте придерживаться фактов, товарищи. У вас что, свидетели есть? — В нашем деле свидетели не требуются, — сказал пес. — Один дал, другой взял, и никто не видал. Подумаешь — «душа». Главное — нюх хороший и хватка. — С душой одна морока: то болит, то простора, то водки требует, — сказала лиса как бы из личного опыта. — А у пса и голова даже не болит. Верно, песик? — С чего ей болеть? — зевнул пес. — За меня хозяин в ответе: я с ошейником… — Я бы попросил выбирать выражения! — разгадал пса Агап Павлович. — У товарища Егупова, кажется, есть свое имя и звание. Да и я, слава кое-чему, не мальчик! Кто вас уполномочил так со мною разговаривать? — У нас особые полномочия, — скользко пояснила лиса. — Может, у вас и мандат есть? — уколол зверье Агап Павлович. — Я бы взглянул, не поленился… — Есть, — сказала лиса жеманно, — только я его в другой шубе оставила. — Богато живете, — усмехнулся Агап Павлович, предвкушая скорое освобождение. — Может, у пса какой документик найдется? — Ему не нужно — он со мной, — вывернулась лиса. — Так, выходит, доказательств — никаких? Прекрасно! Так знайте же, я вас не признаю. Вас попросту для меня нет, с чем вас и поздравляю. Вы иллюзия! — Во дает! — тявкнул пес. — Ты бы еще с нас метрики потребовал, идиот. — Не лайся, — сказала псу лиса, — все эмпирики одинаковы. Вот придем на место, там и разберемся… — Тут и разбираться нечего, — сказал Агап Павлович. — Вы как факт для меня не существуете. Кого не признают — тех нет! — Это ты моим голосом говоришь, — заегозила лиса. — Хитришь, дружок. Ты взял мою повадку. Я подарила тебе рыжую ложь на длинных, как у манекенщиц, ногах… Кстати, ты любишь манекенщиц, дружок? В слове «кстати» Агап Павлович уловил скрытую провокацию, но не смутился и вызов принял: — А вот, представьте, не люблю. Они вылизаны глазами с ног до головы. Передвижные фигуры, да и только! Великое искусство женщины, искусство обращать на себя чужое внимание, превращено у них в поденную работу. Оттого они так скучны, холодны и фригидны. — Попался, попался, который кусался! — захохотал пес. — Я так и ждал. Молодец, сестренка! — Не стройте из себя «капкана». Где, в чем попался? — Тут один нюансик имеется, — вкрадчиво сказала сестренка. — Если ты не любишь манекенщиц, значит, не любишь и себя. Ты ведь тоже «передвижная фигура»… Посуди сам, внешне — с тебя хоть открытки печатай, а внутри — пустота, холод. Оттого и родить толком ничего не можешь. Не так ли, дружок? Твоя работа — та же поденщина, дружок. — Топорная работа, — подхватил на лету пес. — Искусство жертвовать собою заменено уменьем жить… — И жертвовать чужою головою, — мягко вклинила лиса. — Идите вы к черту! — выругался Агап Павлович. — Сейчас не время, — сказал пес, — у нас там обеденный перерыв. — Отрицаю! — закричал Агап Павлович. — Нет перерыва, нет собачьего нюха, нет никакой рыжей лжи. Ничего нету!! — Ах не-е-ту? — пропел пес. — Оставь его, сестра! Пусть посмотрит, на чем он держится… В тот же миг зверье отринулось, и все пошло кувырком. Кубарем покатилась луна, закаруселили, путаясь в голубой клубок, звезды. Агап Павлович сделал «бочку», потом «штопор» и камнем пошел к земле. А сверху из голубого клубка на него с подлым интересом смотрела давешняя морда Голубого козла. Агапу Павловичу стало страшно. Нестерпимо засвистело в ушах, а тело стало нагреваться. Приближалась земля… Вот она близко. Совсем рядом… Вот уже над облаком показалась каменная голова Ивана Федорова, и Агапа Павловича несет на нее, как корабль на риф. Голова все ближе… ближе… Агап Павлович поджал ноги, расставил руки самолетиком и замахал ими, как бы ища в этом спасение. Но вместо спасения с земли грянуло несуразное, несовместимое с моментом: — Ку-кы, ку-кы, ку-калочки, едет Ваня на палочке! А теноришко вскочил на стул, заложил шулерские пальцы за портупею и, закатив, глазки на Агапа Павловича, сладко заголосил: — На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях! У Агапа Павловича опустились руки. «Все! — подумал он. — Души у меня нет, а телу — каюк!» Проснулся он совершенно разбитым, весь в горячем и липком поту. Во рту было сухо и горько, а в ушах звенело, как и впрямь после долгого перелета. — Ну, погоди! — шепнул Агап Павлович кому-то невидимому. Он с трудом выпутал ноги из одеяла, оделся и пошел в соседний номер к Сапфирову. — Нет ли у тебя чего от головной боли, Тимур? Агап Павлович проглотил таблетку и тотчас же спросил: — Эту мерзость уже сожгли? Я про «Козла» тебя спрашиваю. — Разумеется! Белявский — человек слова, — поторопился Сапфиров. — Надо бы и пепел развеять, — сказал Сипун. — Ну, это уж слишком. — Не слишком, а в самый раз. Кстати, как ты относишься к манекенщицам? — Бывает. Дело-то житейское, — соткровенничал Сапфиров. — Я не об этом, дурак. Ты как: их любишь или нет? — Что вы, что вы! — испугался режиссер. — Я их близко к камере не подпускаю. Только в массовых сценах и не больше. «И этот попался бы», — подумал Сипун, после чего ему сразу полегчало. Вторую таблетку он глотать не стал.Глава XI Будни юга
Скорый поезд прибывал в Янтарные Пески очень рано, когда суматошные курортники только начинали выстилать на пляже посадочные кресты, занимая место под солнцем родственникам и знакомым. Но еще раньше поднимались жители разбойного селения Круча. Не имея консульских отношений с квартбюро, они выходили на перрон и брали пассажиров живьем. Едва Стасик Бурчалкин спрыгнул с подножки, его подхватила на руки бой-баба в пламенном сарафане «Ярость Анапы» и мужских сандалетах на босу ногу.
— Сынок! — прилипла она к Стасику жарким телом. — Ты надолго? У меня коечка рядом с морем. Где он, твой чемоданчик?
— Мне в гостиницу, — сказал Бурчалкин, силой размыкая душные объятья.
— Куку с макой там получишь!
— А без мака можно? — сказал Бурчалкин, но «Ярость Анапы» уже подхватила чей-то вспученный чемодан и, поставив владельца перед фактом, повела его в дикое предгорье.
Так всегда поступали жители аула Круча, отбивая хлеб у горожан.
Бурчалкин вышел на вокзальную площадь и увидел прямо перед собою гостиницу «Прибой». Из «Прибоя» выскакивали и торопились, как на работу, постояльцы с махровыми полотенцами через плечо. Бухать в двери дежурным тут не приходилось: к половине восьмого в гостинице оставались одни горничные.
Стасик думал, что ему придется будить консультанта по реквизиту Белявского, но в «Прибое» задержалась из-за прически одна Эльвира Маньяковская. Режиссер и консультант укатили чуть свет в Ялту, а оставленный без присмотра коллектив смылся на пляж, захватив с собой для отвода глаз чучело таежной цесарки.
Тимур Артурович и Белявский должны были обернуться за два дня, так сказала Маньяковская, и самое лучшее было стеречь их прямо в гостинице. Но к табличке над стойкой администратора «Мест нет» кто-то приписал от руки: «и не будет».
— А Госпитальная отсюда далеко? — спросил Стасик после того, как испробовал все средства для поселения и пять рублей, заложенные в паспорт, в том числе.
Оказалось, что недалеко.
«Познакомлюсь-ка я с отцом Герасимом, — решился Бурчалкин, нащупывая в кармане фотографию Потапки. — Госпитальная, шестнадцать… Прекрасно! Денег, как всегда, в обрез, а выкупать картину дело тяжкое».
Дом 16 по улице Госпитальной представлял собой двухэтажный особнячок, огороженный невысоким каменным забором. За ним открывалась виноградная беседка, уставленная раскладушками, а чуть дальше виднелся сарайчик, сотворенный из кровельных отбросов.
Стасик пересек мощенный плиткой двор и остановился как вкопанный. Из дверей выпорхнула никем не заверенная, но тем не менее действительная копия Брижит Бардо. Может быть, не совсем та прическа и платье не от «Диора», но она была определенно из тех, ради кого сидят за растрату и лезут за эдельвейсами, даже зная, что шея не ломается дважды.
Стасик был далеко не середнячок: метр восемьдесят, осетинская талия, торс гребца, нос молодого Байрона и нацеленные снайперские глаза, приводившие обычно в смятение продавщиц универмага. Но отечественная Бардо проскочила мимо Бурчалкина, как предмета неодушевленного, разглядывая при этом облака, которых и на небе-то не было вовсе. Лишь на выходе со двора она сделала затяжной пируэт в полтора оборота и продемонстрировала со всех сторон пляжный ансамбль «Монако».
«Есть, есть женщины в крымских селеньях!» — пробормотал Стасик, намереваясь тотчас же блондинку догнать, но принял все-таки другое, разумное решение.
— Хозяйка! — позвал он. — Есть тут кто живой?
Дверь лоскутной сараюшки заскрежетала, и оттуда показалась копна мятых простыней, а за нею и сама хозяйка, несшая копну перед собой красными от стирки руками.
— Кто звал? — сказала она, повернувшись боком, чтобы увидеть из-за копны хоть что-то.
— Я, хозяюшка. Хотелось бы у вас остановиться, — сказал Стасик, унизительным дачным голосом.
— Надолго? — спросила хозяйка.
— Да на месяц, не меньше, — сказал для близиру Стасик.
— Пойдемте.
Стасика повели в виноградную беседку и ознакомили с раскладушкой, покрытой солдатским одеялом и отдававшей малость лесным клопом.
— Как насчет дождя? — показал Стасик на жидкое решето из лозы над головою.
— В это время дождей не бывает, — сказала хозяйка, наполняя речь топами искусственного бархата.
— Будем надеяться, — сказал Бурчалкин. — А что за блондинка у вас живет?
— Артистка из Дома модного шитья. Каждый раз в новом платье выступает, только вот домой, или куда в гости, им обнов не дают. У них с этим строго.
— Это хуже, — сказал Стасик, прикидывая в уме, что хозяйка болтлива и спрашивать про Герасима у нее пока не следует. Спугнешь, а потом ищи ветра в поле.
Выдав аванс в размере трешницы, Стасик побежал к морю. На углу Госпитальной и проспекта Айвазовского он купил артельные плавки на суровой конькобежной тесьме и спустился на городской пляж, откуда слышался пронзительный писк транзисторов.
Пляж в Янтарных Песках походил на охотничий сапог. Голенище занимала обычная публика, а мысок захватили автодикари. Там стояли низкие брезентовые курятники, сохли на колышках кастрюли и чадили керогазы «Везувий».
У палаток крутились одичавшие дети. Прыгал дог с прозеленелой медалью.
Переодевшись на цивильной стороне, Стасик принялся обозревать курортную публику.
На голенище шел сеанс массового загара. Жители северных центров и окраин лежали плашмя, как под пулеметом. Только изредка над каленым песком поднималась взлохмаченная голова. Сплюнув сухую ракушку, горячий погружался в море, и тогда вода шипела и бурлила, будто в нее опустили кипятильник.
Побарахтавшись пять секунд возле берега, пластуны снова плюхались на собственную тень. И напрасно лаял в мегафон пляжный врач, угрожая ожогами первой степени. На его окрик они еще глубже уходили в песок, сотрясая ударами сердца Крымский полуостров.
В междурядье, оставленном кое-где пластунами, томно слонялись бесенята в салатовых брюках и вели между собою спор.
— Изволь, я угощаю живым примером, — говорил бесенок в яхтсменке, указуя на шершавую воспаленную, будто зрелый гранат, спину пластуна. — Посмотри, Гера, на что идет человек, чтобы выделиться из толпы. Может, солнце ему сейчас хуже горчишника, зато вернется в свою Пермь или еще куда почище всякого мулата. Понял? А ты боишься…
— Тоже сравнил! Загорать я и сам готов, — сказал Гера, тот, что «Упреки подозрения» Белявскому приносил. — Загорать всякому разрешено.
— Ха, «разрешено»! — возмущенно зашевелил плечами Максим Клавдии, тот, что ничего не приносил. — Разве в люди по «разрешению» выходят? Тут скандал, гражданин Лаптев, нужен и слухи разные о тебе или твоей жене.
— Где же их взять, когда мы не женаты?
— Этого еще не хватало! Моторин-Соловейчик тоже не женат, а поэт европейской известности.
— Это верно, что он балерину с представленья украл? — заинтересовался Гера озабоченно.
— Конечно, нет. Но зато какая реклама! А ты говоришь — «загорать». Демарш, только демарш!..
— Хорошо, — согласился Гера, — я за демарш, но как бы чего попутного не стряслось, у меня и так хвост по сопромату…
— Правильно я говорю или нет?
— Ну хорошо, — сказал Максим Клавдии, — пойдем в тир. Кто больше выбьет, тот и прав.
Возле тира потно резвились бронзовые волейболисты и жестами приглашали девушек в кружок. Рядышком был тент, под которым, отгородившись от мира кефирными бутылками, женатые пары играли в «японского дурака». Там же, но под персональным балдахином из махровой калькуттской простыни, полулежал Агап Павлович. Он был в шелковой майке и сатиновых миди-трусах, в каких на заре отечественного футбола сражались славные орехово-зуевцы. Трусы изящными морщинами ниспадали на белые колени ваятеля, вызывая снисходительную улыбку у Бурчалкина. Но Агап Павлович этого не замечал, находясь под частичным наркозом ночного сна, который мешал ему обдумывать проект памятника Отдыхающему труженику.
Тут как раз появилась манекенщица, она же отечественная Бардо.
Ее заметили сразу. Волейболисты стали делать припадочные прыжки, а ужаленные отцы семейства тяжело зарыскали глазами и, опрокидывая бутылки с кефиром, замололи женам какой-то оправдательный бред насчет яркости солнца и голубизны моря.
Стасик решил никаких прыжков не выдумывать и прямо пошел «на перехват». За ним, позабыв про намеченную дуэль, потянулись Лаптев и Клавдии.
Увертюра пляжного знакомства содержит всего три ноты:
— Девушка, вы не были прошлым летом в Гагре?
— Нас не знакомили в гостях у Диккенса?
— Скажите, а вода сегодня теплая?
Мысленно Стасик сразу отбросил все три фразы пляжного букваря, но, настигнув манекенщицу у самого берега, не нашел ничего лучшего как сказать:
— Э… простите, который час?
— Четверть десятого, — сказала она снисходительно.
— Как — уже? — втерся нагловатый Клавдии. — Черт возьми, я же киносъемку задерживаю!
— Иди, иди, сынок, — сказал Стасик, — а то в школу опоздаешь…
— К вашему сведению, поэты в школу не ходят! — парировал Клавдии затравленно и, прикинув на глазок атлетические данные соперника, добавил: — Жаль, не имею времени отрывать себя по пустякам от искусства, — и солидно, стараясь не оглядываться, отчалил в направлении тира.
Едва Стасик Бурчалкин спрыгнул с подножки, его подхватила на руки бой-баба в пламенном сарафане «Ярость Анапы» и мужских сандалетах на босу ногу.
— Сынок! — прилипла она к Стасику жарким телом. — Ты надолго? У меня коечка рядом с морем. Где он, твой чемоданчик?
— Мне в гостиницу, — сказал Бурчалкин, силой размыкая душные объятья.
— Куку с макой там получишь!
— А без мака можно? — сказал Бурчалкин, но «Ярость Анапы» уже подхватила чей-то вспученный чемодан и, поставив владельца перед фактом, повела его в дикое предгорье.
Так всегда поступали жители аула Круча, отбивая хлеб у горожан.
Бурчалкин вышел на вокзальную площадь и увидел прямо перед собою гостиницу «Прибой». Из «Прибоя» выскакивали и торопились, как на работу, постояльцы с махровыми полотенцами через плечо. Бухать в двери дежурным тут не приходилось: к половине восьмого в гостинице оставались одни горничные.
Стасик думал, что ему придется будить консультанта по реквизиту Белявского, но в «Прибое» задержалась из-за прически одна Эльвира Маньяковская. Режиссер и консультант укатили чуть свет в Ялту, а оставленный без присмотра коллектив смылся на пляж, захватив с собой для отвода глаз чучело таежной цесарки.
Тимур Артурович и Белявский должны были обернуться за два дня, так сказала Маньяковская, и самое лучшее было стеречь их прямо в гостинице. Но к табличке над стойкой администратора «Мест нет» кто-то приписал от руки: «и не будет».
— А Госпитальная отсюда далеко? — спросил Стасик после того, как испробовал все средства для поселения и пять рублей, заложенные в паспорт, в том числе.
Оказалось, что недалеко.
«Познакомлюсь-ка я с отцом Герасимом, — решился Бурчалкин, нащупывая в кармане фотографию Потапки. — Госпитальная, шестнадцать… Прекрасно! Денег, как всегда, в обрез, а выкупать картину дело тяжкое».
Дом 16 по улице Госпитальной представлял собой двухэтажный особнячок, огороженный невысоким каменным забором. За ним открывалась виноградная беседка, уставленная раскладушками, а чуть дальше виднелся сарайчик, сотворенный из кровельных отбросов.
Стасик пересек мощенный плиткой двор и остановился как вкопанный. Из дверей выпорхнула никем не заверенная, но тем не менее действительная копия Брижит Бардо. Может быть, не совсем та прическа и платье не от «Диора», но она была определенно из тех, ради кого сидят за растрату и лезут за эдельвейсами, даже зная, что шея не ломается дважды.
Стасик был далеко не середнячок: метр восемьдесят, осетинская талия, торс гребца, нос молодого Байрона и нацеленные снайперские глаза, приводившие обычно в смятение продавщиц универмага. Но отечественная Бардо проскочила мимо Бурчалкина, как предмета неодушевленного, разглядывая при этом облака, которых и на небе-то не было вовсе. Лишь на выходе со двора она сделала затяжной пируэт в полтора оборота и продемонстрировала со всех сторон пляжный ансамбль «Монако».
«Есть, есть женщины в крымских селеньях!» — пробормотал Стасик, намереваясь тотчас же блондинку догнать, но принял все-таки другое, разумное решение.
— Хозяйка! — позвал он. — Есть тут кто живой?
Дверь лоскутной сараюшки заскрежетала, и оттуда показалась копна мятых простыней, а за нею и сама хозяйка, несшая копну перед собой красными от стирки руками.
— Кто звал? — сказала она, повернувшись боком, чтобы увидеть из-за копны хоть что-то.
— Я, хозяюшка. Хотелось бы у вас остановиться, — сказал Стасик, унизительным дачным голосом.
— Надолго? — спросила хозяйка.
— Да на месяц, не меньше, — сказал для близиру Стасик.
— Пойдемте.
Стасика повели в виноградную беседку и ознакомили с раскладушкой, покрытой солдатским одеялом и отдававшей малость лесным клопом.
— Как насчет дождя? — показал Стасик на жидкое решето из лозы над головою.
— В это время дождей не бывает, — сказала хозяйка, наполняя речь топами искусственного бархата.
— Будем надеяться, — сказал Бурчалкин. — А что за блондинка у вас живет?
— Артистка из Дома модного шитья. Каждый раз в новом платье выступает, только вот домой, или куда в гости, им обнов не дают. У них с этим строго.
— Это хуже, — сказал Стасик, прикидывая в уме, что хозяйка болтлива и спрашивать про Герасима у нее пока не следует. Спугнешь, а потом ищи ветра в поле.
Выдав аванс в размере трешницы, Стасик побежал к морю. На углу Госпитальной и проспекта Айвазовского он купил артельные плавки на суровой конькобежной тесьме и спустился на городской пляж, откуда слышался пронзительный писк транзисторов.
Пляж в Янтарных Песках походил на охотничий сапог. Голенище занимала обычная публика, а мысок захватили автодикари. Там стояли низкие брезентовые курятники, сохли на колышках кастрюли и чадили керогазы «Везувий».
У палаток крутились одичавшие дети. Прыгал дог с прозеленелой медалью.
Переодевшись на цивильной стороне, Стасик принялся обозревать курортную публику.
На голенище шел сеанс массового загара. Жители северных центров и окраин лежали плашмя, как под пулеметом. Только изредка над каленым песком поднималась взлохмаченная голова. Сплюнув сухую ракушку, горячий погружался в море, и тогда вода шипела и бурлила, будто в нее опустили кипятильник.
Побарахтавшись пять секунд возле берега, пластуны снова плюхались на собственную тень. И напрасно лаял в мегафон пляжный врач, угрожая ожогами первой степени. На его окрик они еще глубже уходили в песок, сотрясая ударами сердца Крымский полуостров.
В междурядье, оставленном кое-где пластунами, томно слонялись бесенята в салатовых брюках и вели между собою спор.
— Изволь, я угощаю живым примером, — говорил бесенок в яхтсменке, указуя на шершавую воспаленную, будто зрелый гранат, спину пластуна. — Посмотри, Гера, на что идет человек, чтобы выделиться из толпы. Может, солнце ему сейчас хуже горчишника, зато вернется в свою Пермь или еще куда почище всякого мулата. Понял? А ты боишься…
— Тоже сравнил! Загорать я и сам готов, — сказал Гера, тот, что «Упреки подозрения» Белявскому приносил. — Загорать всякому разрешено.
— Ха, «разрешено»! — возмущенно зашевелил плечами Максим Клавдии, тот, что ничего не приносил. — Разве в люди по «разрешению» выходят? Тут скандал, гражданин Лаптев, нужен и слухи разные о тебе или твоей жене.
— Где же их взять, когда мы не женаты?
— Этого еще не хватало! Моторин-Соловейчик тоже не женат, а поэт европейской известности.
— Это верно, что он балерину с представленья украл? — заинтересовался Гера озабоченно.
— Конечно, нет. Но зато какая реклама! А ты говоришь — «загорать». Демарш, только демарш!..
— Хорошо, — согласился Гера, — я за демарш, но как бы чего попутного не стряслось, у меня и так хвост по сопромату…
— Правильно я говорю или нет?
— Ну хорошо, — сказал Максим Клавдии, — пойдем в тир. Кто больше выбьет, тот и прав.
Возле тира потно резвились бронзовые волейболисты и жестами приглашали девушек в кружок. Рядышком был тент, под которым, отгородившись от мира кефирными бутылками, женатые пары играли в «японского дурака». Там же, но под персональным балдахином из махровой калькуттской простыни, полулежал Агап Павлович. Он был в шелковой майке и сатиновых миди-трусах, в каких на заре отечественного футбола сражались славные орехово-зуевцы. Трусы изящными морщинами ниспадали на белые колени ваятеля, вызывая снисходительную улыбку у Бурчалкина. Но Агап Павлович этого не замечал, находясь под частичным наркозом ночного сна, который мешал ему обдумывать проект памятника Отдыхающему труженику.
Тут как раз появилась манекенщица, она же отечественная Бардо.
Ее заметили сразу. Волейболисты стали делать припадочные прыжки, а ужаленные отцы семейства тяжело зарыскали глазами и, опрокидывая бутылки с кефиром, замололи женам какой-то оправдательный бред насчет яркости солнца и голубизны моря.
Стасик решил никаких прыжков не выдумывать и прямо пошел «на перехват». За ним, позабыв про намеченную дуэль, потянулись Лаптев и Клавдии.
Увертюра пляжного знакомства содержит всего три ноты:
— Девушка, вы не были прошлым летом в Гагре?
— Нас не знакомили в гостях у Диккенса?
— Скажите, а вода сегодня теплая?
Мысленно Стасик сразу отбросил все три фразы пляжного букваря, но, настигнув манекенщицу у самого берега, не нашел ничего лучшего как сказать:
— Э… простите, который час?
— Четверть десятого, — сказала она снисходительно.
— Как — уже? — втерся нагловатый Клавдии. — Черт возьми, я же киносъемку задерживаю!
— Иди, иди, сынок, — сказал Стасик, — а то в школу опоздаешь…
— К вашему сведению, поэты в школу не ходят! — парировал Клавдии затравленно и, прикинув на глазок атлетические данные соперника, добавил: — Жаль, не имею времени отрывать себя по пустякам от искусства, — и солидно, стараясь не оглядываться, отчалил в направлении тира.

— Так на чем мы остановились? — сказал Бурчалкин незнакомке, как бы продолжая давно начатую и крайне интересную беседу. — Ах, да, я интересовался «который час». Знаете, это — классический неувядаемый вопрос всех эпох и народов. Бледный юноша задавал его еще при Октавиане Августе у единственных в городе часов. И Она, заметьте, не кричала: «Ты что, слепой?» «Без четверти два», — говорила Она и в худшем случае добавляла: «Ровно в два у Восточных ворот меня ждет храбрый воин Аника». Между прочим, как вас зовут?.. Карина?.. Прекрасно, а меня Станислав. Знаете, был такой орден Станислава. Его вешали на шею. Так вот, Карина, юноша вздыхал так, что гремели латы, шел на пустырь и выкалывал на груди копьем «Нет в жизни счастья». Юноша страдал, а его пороли за наколку ликторы и учили: «Счастье в службе императору». Лично я о счастье другого мнения. А вы? Манекенщица молчала, подавленная не столько информацией, которую она воспринимала слабо, сколько напором, с каким ей эти сведения подавались. — Кстати, вы одна? Без компании? Я тоже, и это плохо, — продолжал наступать Стасик, — анималист-гуманист Сетон-Томпсон утверждает, что медведю вредно одиночество… Человеку, надо полагать, оно вообще ни к чему. Так не послушаться ли нам Сетон-Томпсона? Карина подумала и сказала: — А нас не знакомили в Гагре? Знакомство развивалось бурными южными темпами. Вечером Стасик повел Карину в ресторан при гостинице. Несмотря на ранний час, народу в «Прибое» было достаточно. Давила духота. Положивши голову на скрипку как на плаху, грустный музыкант с аргентинскими пейсами исторгал мелодии кишиневского направления. Ему мрачно аккомпанировала зрелая пианистка в приталенном пиджаке и шляпке с бутафорским виноградом. — Таких музыкантов не найдешь даже в Бремене, — сказал Стасик. — Ими только разбойников на дороге пугать. — Были мы в этом Бремене, — сказала Карина. — Ужасно отсталая страна. Представляешь, там в гостинице кипятильники не позволяют включать… Пробки, видишь ли, горят! Из-за этого мы с девочками только по одной кожаной юбке привезли: остальную валюту проели.
 — А в Республике Кокосовых пальм ты, случайно, не была?
— А как же! Три недели на орехах сидели (они там даром) и по целому чемодану кофт привезли, а Маргоша (у нее банка сайры была) еще на два платка выкроила… Вот это, я понимаю, страна! Солнце, море, орехи…
Пока официант загромождал стол салатами, осетровой рыбой и мускатами, к утомленному скрипачу подтянулся на подмогу оркестр, на сцену вышла певица в бархатном платье и ниткой тульского жемчуга на короткой шее. Публика потеплела.
— А в Республике Кокосовых пальм ты, случайно, не была?
— А как же! Три недели на орехах сидели (они там даром) и по целому чемодану кофт привезли, а Маргоша (у нее банка сайры была) еще на два платка выкроила… Вот это, я понимаю, страна! Солнце, море, орехи…
Пока официант загромождал стол салатами, осетровой рыбой и мускатами, к утомленному скрипачу подтянулся на подмогу оркестр, на сцену вышла певица в бархатном платье и ниткой тульского жемчуга на короткой шее. Публика потеплела.

В центре пятачка веселился аскетичный брюнет в сандалетах на резиновом ходу. Пел он совершенно вызывающе, а когда танцевал, падал на колено и по-краковски обводил партнершу вокруг себя. — Давай, Троепанский! — подзуживали из-за стола. И брюнет дал. Оставив свою даму, он отпрыгнул метра на полтора назад и замельтешил в чечетке, грохоча подошвами, как трактор. — Такой танец лучше плясать в валенках, — заметил Бурчалкин. — Оно как-то пластичнее. — Он перегрелся или объелся орехами, — определила Карина. — С Маргошей было то же самое в Республике пальм. — О нет, Кариночка, товарищ абсолютно здоров, не пьян, а просто раскован, то есть не боится утратить авторитет. При сослуживцах он бы эдакое болеро не позволил. Но сейчас ему не грозят пересуды. Он живет от вольного впрок. А что делать? Впереди у него, может быть, одиннадцать месяцев канцелярской отсидки, да еще жена, которая всегда права. — Он, наверное, полярник, — внезапно предположила Карина. — Один мой знакомый по одиннадцать месяцев на льдине сидит, а как вернется, так от радости в мух шампанским стреляет. Наведет пробкой, бац — и готово! — Наследник Робин Гуда, — определил Стасик. — Впрочем, я его понимаю: на полюсе мухи — редкость. — Ты думаешь? — Точно знаю. С живностью там дефицит. — Вот оно что. То-то я шапку не могу достать. Там, наверно, и нерпа перевелась от бензина. Правда, меня познакомили с одним человеком, так он обещал. Говорят, он все может, даже в столицу из Сызрани прописать. Он консультантом по быту работает… В ресторане начали гасить огни. Оркестранты облегченно заиграли «Доброй вам ночи». Стасик рассчитался с официантом и сказал Карине: — Зайдем на минуту в гостиницу. — В такой час? Не надо: сейчас больше одиннадцати. — Ничего страшного, мне только узнать, не приехали ли знакомые с Ялтинской студии. — Нет, нет. Только не сегодня!.. «Ага, вон оно как! — подумал Бурчалкин. — Медлить тут нельзя». И сказал: — Хорошо, я не настаиваю. Они вышли на проспект Айвазовского. В небе фонарем висела луна. Море дышало ровно и лениво. Стасик обнял любимую за плечи и, плохо владея собой, сказал: — В такую ночь хочется украсть где-нибудь арфу и до рассвета играть на пирсе. — А ты умеешь? — сказала Карина уважительно. «О, черт, с ней надо попроще!» — решился Стасик. Они неслышно пересекли мощенный плиткой хозяйкин двор, пробрались в виноградную беседку и присели на скамью, упиравшуюся в забор. Карина сняла туфли и стала вытряхивать из них песок. — Карина, — сказал Стасик, изготовившись для поцелуя, — я художник, и все прекрасное пробуждает во мне… — Нет, нет, только не сего… Ей так и не удалось договорить. С моря набегал игривый бриз. Теплая южная ночь баюкала Крымский полуостров.
Глава XII Никакой личной жизни
Объяснения с Кариной в виноградной беседке затянулись до первых петухов, после чего Стасик заснул, как убитый. — Преступление! — воскликнул он, пробудившись и замечая, что солнце почти в зените. — Я пью волшебный яд желаний, а работа-то стоит! Он ринулся в гостиницу, но группа «Держись, геолог» уже выехала на естественную натуру. Море ласково пенилось у кромки «голенища», обдавая солеными брызгами цесарку, значившуюся по ведомости глухарем. Солнце, оно же «Рампа Земли», щедро освещало рабочий квадрат, огороженный с суши пеньковыми канатами. Съемочный ринг обступили в несколько рядов праздные курортники, а за порядком присматривали дружинники в парусиновых клешах и с выгоревшими повязками на обнаженных руках. Их вожак с поредевшим в боях, но еще могучим ржаным чубом грыз янтарный кукурузный початок и томился в ожидании мелких нарушений. Молодые люди, и особенно волейболисты, без стыда подтрунивали над злым, укутанным в меха Сергуниным. Девушки относились к съемкам куда серьезнее. Они незаметно, как им казалось, поправляли прически и зовуще косились на крепкую эвкалиптовую лысину Тимура Артуровича. Загоравшая за канатом без отрыва от производства Маньяковская приводила их в хищное недоумение: они были куда интереснее, типичнее, моложе! Рядом с томной от жары Маньяковской прели в ношеных ватниках Максим Клавдии и Гера Лаптев. Им было не до девушек. Сблизившись головами, они скрытно переговаривались над обрывком газетного листа со статьей Сипуна о скульпторе Потанине. — Промедление недопустимо, вот свидетельство, — убеждал Клавдии сквозь зубы. — Жертва ферзем и партия — наша! Сейчас или никогда… — Ну почему непременно сейчас? — отвечал на это Гера, обмахиваясь расстегнутыми полами ватника, одетого на голое тело. — Сдам сопромат и потом хоть в петлю, а сейчас… — Разуй глаза, читай — «обратить особое внимание частных лиц и организаций…» Особо-е. Черным по белому написано и подчеркнуто: «„Трезубец“ нельзя обойти молчанием». — Трезубец оно, конечно, неплохо, — промямлил Лаптев. — Но там еще и про «трясину» сказано… — Разрешите заметить, Геракл Петрович, — сказал Клавдии поучающе, — у Иван-царевича стрела тоже в болото тюкнулась. А что из этого вышло? — Хорошо вышло, только там сказка-присказка, а тут вон они с повязками стоят… — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, — быстро и злобно проговорил Клавдии. — Демарш, только демарш!.. Чем мы хуже, черт возьми, похитителя балерин Моторина-Соловейчика?! А в квадрате тем временем кипела напряженная работа. Разошедшийся Тимур Артурович выбрался из-под тента и, прикрывши голову пробковым шлемом неизвестных колониальных наемников, кричал с раскладного стула в сторону моря, где над чучелом тяжело скакал умученный полушубком Сергунин. — Не то, Сергунин, типичное не то! Зачем эти зверские жесты? Так курицу к обеду ловят. Мягче, инертнее, с лирикой! Повторяйте за мной. Сапфиров закатил глаза и потянулся к чучелу, будто играл с ним в жмурки.
— Откуда ты, орел лесов таежных? — заокал он. — Как ты впарил в мою мечту: мечту прекрасную, как я — ее носитель…
Сергунин шаркнул взглядом по «орлу» и начал нервно раздеваться.
— Это же бред замерзающего, Сергунин, — продолжал с закрытыми глазами Сапфиров. — Понимаете, сонный бред…
— Это-то я как раз отлично понимаю, — нехорошо согласился Сергунин. Он окончательно разделся, зашел по колено в море и, по-женски приседая, стал шумливо плескаться.
— Что вы делаете! — закричал Сапфиров. — Вы на работе или на курорте?
— Я в тайге, — сказал Сергунин, отфыркиваясь, и показал мокрым пальцем на цесарку. — И не кричите на меня. Я вам не верблюд двужильный. Дайте мне дублера.
— Он саботажник, — внятно сказала Маньяковская, налепливая на нос свежую бумажку.
— Прекратить! — Тимур Артурович треснул клюкой по песку, но ни сильного звука, ни испуга от этого не получилось.
Маньяковская лениво повернулась на другой бок, а Сергунин продолжал как ни в чем не бывало плескаться.
— Товарищ режиссер! — крикнул Стасик, протискиваясь к канату. — Разрешите в порядке исключения. У меня к вам срочное дело…
Сапфиров посмотрел из-под ладошки на толпу.
— Сейчас облает, — пообещала оператору Бржевскому Маньяковская.
Но Тимур Артурович лаяться не стал.
— Пройдите на площадку! — приказал он Бурчалкину.
Стасик проворно перелез канат, и приблизился к режиссеру.
— Что же, рост у вас подходящий, — сказал Сапфиров, не отвечая на вежливое «здрасте». — Умеете ездить верхом? А плавать? Ну и прекрасно. А не хотели бы вы послужить высокому искусству? Разве есть на земле должность краше?
Тут Тимур Артурович окунулся в окающую речь с обильным пользованием слов «массовое искусство».
Стасик рыл ногами песок, но не перебивал, стараясь произвести на Сапфирова приятное впечатление. Отсеяв «массовое искусство», Бурчалкин уяснил, что ему предлагают стать дублером Сергунина и нисколько, разумеется, не загорелся. Тем не менее он благодарно положил руку на солнечное сплетение:
— Извольте, я готов хоть завтра. Но у меня к вам…
— Шесть рублей в день, — опередил Сапфиров.
— Речь о другом: мой дядя хронический алкоголик…
— Ну и что? — вскинул брови режиссер.
— По болезни он продал вам еще в Ивано-Федоровске мою любимую картину.
— И что вы хотите?
— Выкупить… И я тут же к вашим услугам.
— Гурий! — позвал Тимур Артурович.
Из-под тента вылез человек в панаме и коротких шортах, обнажавших гладкие, без признаков коленок ноги. Перекатываясь как на ластах, пухленький Гурий Михайлович подбежал к Сапфирову и замер над его тропическим шлемом.
— Товарищ спрашивает картину, — сказал режиссер властно.
— Да-да, знаете ли, с «Голубым козликом», — нетерпеливо уточнил Бурчалкин.
Белявский фальшиво изумился и, воровато оглянувшись на притихших Лаптева и Клавдина, разбитным голосом отрапортовал:
— Козлика я аннулировал, Тимур Артурович. Вы же сами давали указание, вот я и выполнил.
— Как, то есть, «аннулировал»?! — падающим голосом переспросил Стасик.
— Сжег, — весело пояснил Гурий Михайлович.
У Стасика заглохло сердце, а лицо перекосилось, как при двойном переломе челюсти. Понимая, что сейчас произойдет нечто страшное, Гурий Михайлович попятился и быстро залопотал:
— Если хотите, если желаете, могу показать акт…
— Повесьте его себе на стену, — хрипло выдавил Бурчалкин.
Он повернулся и на ватных ногах попер прямо на зевак. У него мутило в глазах, и лица за канатом казались плоскими дынями.
— Минуточку! — закричал вдогонку Сапфиров. — Разве есть на свете должность краше актера…
Бурчалкин молча удалялся, чуть ли не наступая ногами на бесчувственных пластунов. Мысли в его голове путались и разбегались, как бильярдные шары после удара городошника.
Еще вчера жизнь была прекрасна и удивительна. Он обещал Карине упоительную поездку на теплоходе «Адмирал Ушаков» с высадкой в залитом ресторанными огнями Сочи и обезьяньем Сухуми. Наворотил, нагородил с три короба про столичный вернисаж, где его голубой шедевр уже оценен приемной комиссией (председатель Ян Пшеничнер) в сто тысяч старыми деньгами. И Карина отнеслась к сообщению чутко, с пониманием, так что возвращаться на Госпитальную было теперь просто стыдно.
— Никакой личной жизни! — проговорил Бурчалкин, осуждая пространство.
А пляж смеялся, не зная никаких забот. Бубном гремел волейбольный мяч. Пищали разноголосые транзисторы. Молодые люди интересовались у незнакомок температурой воды. В разгулявшихся волнах рьяно барахтался катерок «Неугасимый», и над ним, словно пух над подушкой, кружились истеричные чайки.
«Это все не для меня, — решил Бурчалкин скептически. — Когда нет денег, к жизни надо подходить философски».
Стасик подошел к киоску «Краснодарвино», выпил стакан приторной «Улыбки» и нашел ее отвратительной. Пережитое все еще теснило грудь, ворочалось внутри беспокойной матрацной пружиной. Стасик смочил пружину стаканчиком «Акстафы», после чего незаметно, но уверенно пустился в траурный загул.
В мрачной шашлычной на проспекте Айвазовского он познакомился с каким-то Василием из Воркуты и очутился в горном ресторанчике «Адра», который, по словам Василия, содержал на паях с государством грузин Гриша.
Ресторанчик и впрямь делился на две части. Надземная у подножья Нипетри — представляла обычную забегаловку с голыми столами на алюминиевых ножках. Зато вторая располагалась прямо в горном ущелье, перекрытом камышовой крышей. Туда вели крутые замковые ступени. В подземном зале бежал минеральный ручеек, светились разноцветные огни, а вместо стульев стояли гладкие дубовые колоды, драться которыми не смогли бы моряки ни одной флотилии. Ручеек струился возле самой эстрады, откуда, мощно отталкиваясь от скалистых стен, гукали звуки «Калипсо».
Стасик был уже на взводе, и электрическое ущелье привело его в шумный восторг. Василий же, как видно, тут дневал и ночевал. За столом они побратались с земляками Василия, геологами из Воркуты, и напились окончательно.
Под занавес Бурчалкин прокричал: «Не в деньгах счастье! Это доказано научно», — но сам же себе не поверил и разбил с расстройства два фужера о порожистый берег ручейка.
Василию затея понравилась. Он со звоном последовал примеру друга, после чего их грубо выставили наверх.
— Не в деньгах счастье, — бормотал Василий, хватая вышибалу за талию. — Внимание дороже! Ты меня уважаешь?
— Хамье! — бушевал Бурчалкин, спотыкаясь о каменные ступени. — Видно, сервис у вас тоже «на паях»!
Наверху друзья облапились и, кляня почем свет неустроенность планеты, полезли в гору — навстречу звездам.
— «Вот мчится скорый — „Воркута — Ленинград“», — надрывался Василий, продираясь сквозь ежовые лапы держи-дерева.
— «Никто тебя не любит так, как я», — вторил Бурчалкин, обнимая шершавый ствол дикого кизила.
Измочаленный бессонной ночью, он быстро отстал. В фиолетовых кустах ползали причудливые тени. С неотвязностью междугородней станции заливались встревоженные цикады.
— Ау, Василий! — крикнул Стасик, валясь на заросли орешника.
Сверху послышался макаронный хруст и шум удалявшегося воркутинского поезда. Стасик закрыл глаза.
Сапфиров закатил глаза и потянулся к чучелу, будто играл с ним в жмурки.
— Откуда ты, орел лесов таежных? — заокал он. — Как ты впарил в мою мечту: мечту прекрасную, как я — ее носитель…
Сергунин шаркнул взглядом по «орлу» и начал нервно раздеваться.
— Это же бред замерзающего, Сергунин, — продолжал с закрытыми глазами Сапфиров. — Понимаете, сонный бред…
— Это-то я как раз отлично понимаю, — нехорошо согласился Сергунин. Он окончательно разделся, зашел по колено в море и, по-женски приседая, стал шумливо плескаться.
— Что вы делаете! — закричал Сапфиров. — Вы на работе или на курорте?
— Я в тайге, — сказал Сергунин, отфыркиваясь, и показал мокрым пальцем на цесарку. — И не кричите на меня. Я вам не верблюд двужильный. Дайте мне дублера.
— Он саботажник, — внятно сказала Маньяковская, налепливая на нос свежую бумажку.
— Прекратить! — Тимур Артурович треснул клюкой по песку, но ни сильного звука, ни испуга от этого не получилось.
Маньяковская лениво повернулась на другой бок, а Сергунин продолжал как ни в чем не бывало плескаться.
— Товарищ режиссер! — крикнул Стасик, протискиваясь к канату. — Разрешите в порядке исключения. У меня к вам срочное дело…
Сапфиров посмотрел из-под ладошки на толпу.
— Сейчас облает, — пообещала оператору Бржевскому Маньяковская.
Но Тимур Артурович лаяться не стал.
— Пройдите на площадку! — приказал он Бурчалкину.
Стасик проворно перелез канат, и приблизился к режиссеру.
— Что же, рост у вас подходящий, — сказал Сапфиров, не отвечая на вежливое «здрасте». — Умеете ездить верхом? А плавать? Ну и прекрасно. А не хотели бы вы послужить высокому искусству? Разве есть на земле должность краше?
Тут Тимур Артурович окунулся в окающую речь с обильным пользованием слов «массовое искусство».
Стасик рыл ногами песок, но не перебивал, стараясь произвести на Сапфирова приятное впечатление. Отсеяв «массовое искусство», Бурчалкин уяснил, что ему предлагают стать дублером Сергунина и нисколько, разумеется, не загорелся. Тем не менее он благодарно положил руку на солнечное сплетение:
— Извольте, я готов хоть завтра. Но у меня к вам…
— Шесть рублей в день, — опередил Сапфиров.
— Речь о другом: мой дядя хронический алкоголик…
— Ну и что? — вскинул брови режиссер.
— По болезни он продал вам еще в Ивано-Федоровске мою любимую картину.
— И что вы хотите?
— Выкупить… И я тут же к вашим услугам.
— Гурий! — позвал Тимур Артурович.
Из-под тента вылез человек в панаме и коротких шортах, обнажавших гладкие, без признаков коленок ноги. Перекатываясь как на ластах, пухленький Гурий Михайлович подбежал к Сапфирову и замер над его тропическим шлемом.
— Товарищ спрашивает картину, — сказал режиссер властно.
— Да-да, знаете ли, с «Голубым козликом», — нетерпеливо уточнил Бурчалкин.
Белявский фальшиво изумился и, воровато оглянувшись на притихших Лаптева и Клавдина, разбитным голосом отрапортовал:
— Козлика я аннулировал, Тимур Артурович. Вы же сами давали указание, вот я и выполнил.
— Как, то есть, «аннулировал»?! — падающим голосом переспросил Стасик.
— Сжег, — весело пояснил Гурий Михайлович.
У Стасика заглохло сердце, а лицо перекосилось, как при двойном переломе челюсти. Понимая, что сейчас произойдет нечто страшное, Гурий Михайлович попятился и быстро залопотал:
— Если хотите, если желаете, могу показать акт…
— Повесьте его себе на стену, — хрипло выдавил Бурчалкин.
Он повернулся и на ватных ногах попер прямо на зевак. У него мутило в глазах, и лица за канатом казались плоскими дынями.
— Минуточку! — закричал вдогонку Сапфиров. — Разве есть на свете должность краше актера…
Бурчалкин молча удалялся, чуть ли не наступая ногами на бесчувственных пластунов. Мысли в его голове путались и разбегались, как бильярдные шары после удара городошника.
Еще вчера жизнь была прекрасна и удивительна. Он обещал Карине упоительную поездку на теплоходе «Адмирал Ушаков» с высадкой в залитом ресторанными огнями Сочи и обезьяньем Сухуми. Наворотил, нагородил с три короба про столичный вернисаж, где его голубой шедевр уже оценен приемной комиссией (председатель Ян Пшеничнер) в сто тысяч старыми деньгами. И Карина отнеслась к сообщению чутко, с пониманием, так что возвращаться на Госпитальную было теперь просто стыдно.
— Никакой личной жизни! — проговорил Бурчалкин, осуждая пространство.
А пляж смеялся, не зная никаких забот. Бубном гремел волейбольный мяч. Пищали разноголосые транзисторы. Молодые люди интересовались у незнакомок температурой воды. В разгулявшихся волнах рьяно барахтался катерок «Неугасимый», и над ним, словно пух над подушкой, кружились истеричные чайки.
«Это все не для меня, — решил Бурчалкин скептически. — Когда нет денег, к жизни надо подходить философски».
Стасик подошел к киоску «Краснодарвино», выпил стакан приторной «Улыбки» и нашел ее отвратительной. Пережитое все еще теснило грудь, ворочалось внутри беспокойной матрацной пружиной. Стасик смочил пружину стаканчиком «Акстафы», после чего незаметно, но уверенно пустился в траурный загул.
В мрачной шашлычной на проспекте Айвазовского он познакомился с каким-то Василием из Воркуты и очутился в горном ресторанчике «Адра», который, по словам Василия, содержал на паях с государством грузин Гриша.
Ресторанчик и впрямь делился на две части. Надземная у подножья Нипетри — представляла обычную забегаловку с голыми столами на алюминиевых ножках. Зато вторая располагалась прямо в горном ущелье, перекрытом камышовой крышей. Туда вели крутые замковые ступени. В подземном зале бежал минеральный ручеек, светились разноцветные огни, а вместо стульев стояли гладкие дубовые колоды, драться которыми не смогли бы моряки ни одной флотилии. Ручеек струился возле самой эстрады, откуда, мощно отталкиваясь от скалистых стен, гукали звуки «Калипсо».
Стасик был уже на взводе, и электрическое ущелье привело его в шумный восторг. Василий же, как видно, тут дневал и ночевал. За столом они побратались с земляками Василия, геологами из Воркуты, и напились окончательно.
Под занавес Бурчалкин прокричал: «Не в деньгах счастье! Это доказано научно», — но сам же себе не поверил и разбил с расстройства два фужера о порожистый берег ручейка.
Василию затея понравилась. Он со звоном последовал примеру друга, после чего их грубо выставили наверх.
— Не в деньгах счастье, — бормотал Василий, хватая вышибалу за талию. — Внимание дороже! Ты меня уважаешь?
— Хамье! — бушевал Бурчалкин, спотыкаясь о каменные ступени. — Видно, сервис у вас тоже «на паях»!
Наверху друзья облапились и, кляня почем свет неустроенность планеты, полезли в гору — навстречу звездам.
— «Вот мчится скорый — „Воркута — Ленинград“», — надрывался Василий, продираясь сквозь ежовые лапы держи-дерева.
— «Никто тебя не любит так, как я», — вторил Бурчалкин, обнимая шершавый ствол дикого кизила.
Измочаленный бессонной ночью, он быстро отстал. В фиолетовых кустах ползали причудливые тени. С неотвязностью междугородней станции заливались встревоженные цикады.
— Ау, Василий! — крикнул Стасик, валясь на заросли орешника.
Сверху послышался макаронный хруст и шум удалявшегося воркутинского поезда. Стасик закрыл глаза.
Глава XIII Демарш
Из трубы ресторана «Адра» с гуком выметнулась провонявшая чесноком сова и на ощупь ринулась в горы, унося в когтях перечницу треста крымских столовых. Сова запаздывала с ночного пира и разбудила Бурчалкина шумом тяжелых, заляпанных соусом крыльев. Рассветало. Из расщелины, цепляясь за штанину Бурчалкина, выползал тощий утренний туман. Стасик мгновенно протрезвел; он сообразил, что ночь после попойки с Василием могла оказаться в его жизни последней, и с тревогой заглянул в бездонную пропасть, отыскивая останки поезда «Воркута — Ленинград». Останков не наблюдалось. «Так будет с каждым, — мелькнуло у Стасика. — Может, счастье и впрямь не в деньгах? Так вот в погоне разлетишься где-нибудь в порошок, похоронят тебя в ящике из-под мыла и напишут: Festina Lente[3]. Но с другой стороны — я человек, и ничто человеческое… Так что надо спешить. Спешить! Меня ждет Карина». Поспешать было не так-то просто. Спуск с горы оказался сопряженным с альпинизмом, к которому на трезвую голову он был не готов. На Госпитальной улице он появился часам к одиннадцати и сразу же получил от квартирной хозяйки злорадную информацию: — Явился, не запылился! (Хотя Бурчалкин запылился как раз более чем достаточно.) Такие крали, милок, сватам в ноги не кланяются. К ней жених приехал собственноручно. Не пофартило тебе, парень, ой, не пофартило. — Бросьте, мамаша! Фортуны нет, остались одни рогоносцы. Что он хоть из себя представляет? — Да в летах уже, обстоятельный, надбавку за полярность имеет — стало быть, с деньгой. — Полярник?.. А, так это «Робин Гуд»! — осенило памятливого Стасика. — Ну, держитесь, мамаша, — он у вас всех мух перебьет… — Вздор говоришь! Что я — Робингутов не видела? Не похож он вовсе… — Где она? — перебил нетерпеливо Бурчалкин. — В горы уехала за «Черными глазами». Ну, вино такое, разве не знаешь? А жених ее нынче в Сочи повезет на «Ушакове». «Никакой личной жизни, — подумал Стасик. — Откуда этот тип свалился?» В ночь, когда пьяный Бурчалкин сражался на горе Нипетри с держи-деревом, тип, он же Робин Гуд, он же Герасим Федотович, нежнейшим образом подкапывал в Кривом Роге край могильной плиты с надписью: «Подожди немного, отдохнешь и ты». С сектой «Голубого козла» было покончено, но такая форма отдыха Герасима Федотовича не устраивала. Обжигая пальцы спичками, он извлек из тайника прозрачные камушки, поклонился усопшим родителям и ночным поездом отбыл в Янтарные Пески. Герасим Федотович торопился. Впереди его ждал, можно сказать, подвиг. Когда минет тридцать пять, женитьба рисуется чем-то вроде ловли ежа: и хочется, и колется, и кто знает, сумеешь ли удержать вруках. Даже если холостяк крепок настолько, что может прокрутить на турнике «солнышко» и запомнить три цифры телефона любимой, он все равно бродит вокруг да около. В больших городах они до седых волос ходят на танцверанды, стоят бобылями вдоль стены и благоухают одеколоном «Шипр», а в маленьких прогуливаются на станции и украшают собою железнодорожные платформы, отчего пахнут уже не одеколоном, а шпалами. С возрастом привыкаешь мыслить на два хода вперед. Однако с холостяками происходит нечто обратное. Постоянные колебания «жениться или не жениться» настолько расшатывают мозжечок, что приводят к тихому отупению. Тупение необратимо. С каждым годом холостяк становится все нерешительней и требовательнее. В конце концов время берет свое, и он незаметно начинает собирать спичечные коробки, петь в хоре Дома славяноведения или пополняет скудный, но грозный отряд хронофобов. Так природа мстит за нарушение ею установленных законов. Герасим был крепок, полнозуб, настоян на деревенском воздухе и не лишен смекалки. Однако долгая автономия давала себя знать. В Янтарные Пески он прибыл поутру и, не решаясь будить любимую, битый час прождал во дворе. Когда Карина с пляжной корзинкой и зонтиком выпорхнула из дверей, он не столько обрадовался, сколько растерялся. — А вот и я! — вскрикнул он как молодой коверный на манеже. — Вот и приехал… — Где же вы пропадали? — сказала Карина капризно и обвинительно, как бы перекладывая на жениха вину за все с нею случившееся. — Дрейфовал, Кариночка… Ночи полярные, ночи холодные, — завилял Герасим Федотович. — Пока домой заехал, пока собрался… — Вам телеграмма. — Карина порылась в сумочке и достала помятый бланк, который тут же и был распечатан: «ЖЕНЕЧКА РАЗОШЛАСЬ ЧЕМОДАН ОТПРАВЛЕН БЕГИ ПЕСКОВ ВРАГА». Герасим Федотович прочитал слова дважды, но кроме чувства неопределенной боязни, ничего из них для себя не вынес. «Женьшень» разошелся по покупателям. Это хорошо. Но что значило остальное? Понятным было только «беги». Но от кого? Что за враг? Мотыгин — паршивец! — уложился в 39 копеек. И получилась сущая ахинея, от которой у Герасима Федотовича засосало под ложечкой и сложилась тревога, мутная, неопределенная, сродни похмельной, когда страх гуляет где-то в животе, отчего за спиною мнится преследователь и боязнь движущихся предметов, особенно трамваев и грузовиков, становится непоборимой. — Как вам тут отдыхается, Кариночка? — сказал Герасим Федотович, оглядываясь для чего-то назад. — Не надоело на одном месте? Может, желаете в Сочи, а там в Адлер — и на самолетик… — В Сочи? — Карина вспомнила посулы наглого, лживого — «Все они, подлецы, одинаковы!» — возмутительно дерзкого Стасика и сказала с некоторой злобинкой: — Сочи — это прекрасно. Хочу! И на Рицу — обязательно! — после чего потрепала Герасима Федотовича за ухо и добавила: — Вы у меня молодец, настоящий мужчина. Настоящий мужчина был польщен. — С вами хоть на край света. Я мигом. Черное море, белый пароход, — тараторил он с придыхом. — Одна нога тут, другая там. Я за билетами. — Сначала на пляж, — сказала Карина, думая про себя: «Может, он, негодяй, там про одинокого медведя поет и „который час“ спрашивает?» Ее мучила ревность и возбуждало то жгучее больное любопытство, из-за которого распечатывают чужие письма и заглядывают в пробой замка. — Пляж, оно, конечно, дело хорошее, — замялся Герасим Федотович: он никак не хотел оставлять без призора брюки с камушками голубой воды и пятью сберкнижками на предъявителя. — Я, признаться, несколько простужен. Вы искупайтесь, Кариночка, а я пока за билетиками. Пока Герасим Федотович бегал на морвокзал, Карина дважды прогулялась вдоль виноградной беседки. Бурчалкина там не наблюдалось. Тогда Карина зашла к хозяйке и завела с ней несколько туманный, но вполне понятный обеим разговор. — Красивая у вас беседка, — сказала она, поглядывая в окно. — Кто же его знает, — сказала хозяйка. — Он ведь сегодня не ночевал. — В Сочи веселее, но плохой пляж, — сказала Карина раздраженно. — Может, еще и вернется, — сказала хозяйка. — Но компания там замечательная. И потом гора Ахун… — Да, он парень видный, — согласилась хозяйка. — Если будете в Москве, заходите, — сказала Карина. — Обязательно. Вот телефон и адрес. — Хорошо, я ему передам, — сказала хозяйка и сложила записку вчетверо. Поговоривши таким образом, собеседницы потерлись щеками и разошлись. «Адмирал Ушаков» отплывал в Сочи поздно ночью. Времени оставалось достаточно и, закупив билеты на теплоход, Герасим Федотович предложил Карине прогулку по горам с заездом в Адру. Вернулись они на заходе солнца, когда основная масса граждан переместилась с пляжа в Приморский парк.В парке было темновато и прохладно. С пустой еще танц-веранды доносились пробные всхлипы саксофона, и настойчивый голос спрашивал: «А кто темп задает? Жмурик?» В асфальтированном круге, где выдавали днем напрокат детские на педалях автомобильчики, замерял пространство шагами подобревший Агап Павлович. Он прикидывал площадку для установки памятника Отдыхающему труженику. Покончив с расчетами, он сказал вслух: «Дураки», — и весьма довольный, направился к киоску «Массандра». Едва он ушел, в полукруге показались, измененные до частичной неузнаваемости Максим Клавдии и Геракл Лаптев. Клавдии был в женской кофте с нашейной брошью и нацепил в прическу, как гребень, скелет скумбрии; Лаптев был нарочно небрит и топал босиком, подвернув штанины на разную высоту. Напарники волновались и потому шли разбитной походкой, подмигивая друг другу неуверенно, но залихватски. В руках у них были плоские, обмотанные газетой предметы. Остановившись у кассовой будки, они распаковались и приставили к стенке «Упреки подозрения» и «Голубого козла», не замедлившего сразу радостно сверкнуть погаными бельмами. — Ну, давай, тебе начинать, — сказал босой осипшим от напряжения голосом. Клавдии одернул коротковатую для него кофту и с нарастанием запричитал:
Глава XIV Предъявите документы
— Бросьте врать, передвижнички! — рычал Стасик, мечась в запертой каморке штаба дружины. — Где вы сперли «Голубого козла»? Заладили свое: «Наш, наш»… Что он — птица Феникс, или вы его своими трудовыми из костра вытащили? — Никто ничего не тащил, — отозвался Лаптев. — «Козлик» наш, потому что нам заплатили этой картиной за участие в киносъемках… Что ты на меня так смотришь? Перевели на деньги из расчета три рубля в день. — Кто заплатил? — Консультант по быту и реквизиту Белявский. — Это какой? Кругленький, ластоногий? Ну, попадись он мне еще раз! Сволочь… Не густо же он вас одарил. Мне так по шесть рублей предлагали, и то отказался. — Мы не из-за денег, — обиделся Лаптев. — Мы, собственно, на общественных началах. — Ну, а на каких началах вы с «Козлом» в парк потащились? Босиком, в кофточке… Что за маскарад и кто из вас, простите, Арбенин?.. — А тебе-то какое дело? — вспылил на слове «Арбенин» Клавдии. — А такое, что я влетел с вами без дела, как молочница в понятые. По чьей милости я тут нахожусь? — Это ты «парусине» объясняй, а не нам, — сказал Клавдии спесиво. — Мы им приглашения не посылали. — Обидно и возмутительно, — зябко пожал плечами Лаптев. — Ошиблись — так подскажите… А то сразу: «Вот они!» — и в коляску. — Я уверен, ими руководит чья-то злая воля, — заклокотал в надежде Клавдии. — Неспроста они так раскомандовались. — При чем тут воля, — сказал Бурчалкин. — Страсть командовать заложена в человеке с детства. Административный рефлекс! С детства хочется скакать на палочке впереди пеших рядовых и быть главным «казаком» или «разбойником». Между прочим, вам эта страсть не чужда, разбойнички? Клавдии сконфузился, но наглость не потерял: — А тебе, конечно, хочется пешкодралом! — сказал он тоном, отрицающим всякую возможность такого хотения. — Ну и топай! Наши пути расходятся. Заявление Клавдина было тут же опровергнуто: в дверях заскрежетал ключ, и появились дружинники во главе с чубастым.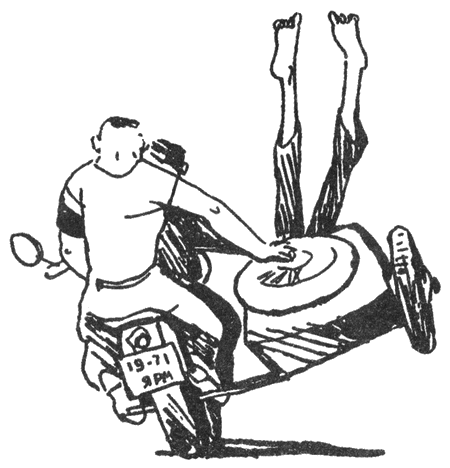 — Ну, что скажете хорошенького? — сказал он, валясь синими от наколотых якорей руками на стол. — Оправдываться будем или как?
— А в чем, собственно, оправдываться? — сдавленно произнес Клавдии. — Мы же не из хулиганства, а в интересах творчества…
Парусиновые скептически переглянулись, а чубастый склонился над столом и выставил нижнюю губу уступом.
— Мы же без задней мысли, товарищи! — заволновался Лаптев. — Не дрались, и вреда, собственно, никому не принесли.
— Ну, а ты что скажешь? — Чубастый перевел обостренный взгляд на Бурчалкина; короткий в печень все еще давал себя знать, и разговор предстоял особый.
— Не имею к ним никакого отношения, — отделился Бурчалкин. — Я просто так, случайно подошел.
— Ишь ты, «не имеет»! — вожак обернулся к сподвижникам, и те понимающе захехекали. — Случайно только кошки с крыши падают. «Случайно»… Смотри какой грамотный! Думаешь, умнее других?
— Не думаю, а знаю.
— А мы тебе пятнадцать суток! — радостно пообещал чубастый.
— Это на каком же основании?
— A-а, не любишь! — переглянулись дружинники. — А не ерепенься. Не сопротивляйся… Иди куда ведут…
— Иди за большинством! — крикнул откуда-то с запяток коротконогий дружинник. — Попал в милицию — держись сиротой…
— Ладно, нечего тут кисели разводить, — поднялся чубастый. — К Демьян Парфенычу их. Оформим — и под метлу.
— А меня за что? — взмолился Лаптев. — Товарищи, я же первый осознал, — дополнил он, заметив, что Клавдии проворно скидывает кофтенку. — Честное слово, осознал. Поверьте!
— Подметешь набережную, тогда и осознаешь, — отклонил петицию чубастый. — Пройдемте в отделение. Милости просим.
В милиции состоялась короткая и неожиданная для Бурчалкина встреча. За дубовым барьером дежурной комнаты, где сидел в этот раз сам Демьян Парфенович, отводил душу живой и невредимый Василий. Приладонивая то распахнутую грудь, то весьма нетвердые колени, он напевно скороговорил:
— «Томск — Омск — Ачинск, Чимкент — Чита — Челябинск», — причем этот странный маршрут сопровождался чечеткой и заканчивался опять же рефреном: — Вот мчится скорый — «Воркута — Ленинград».
— Друг! — заорал он, различив Стасика в лицо. — Вот так встреча! Не в деньгах счастье, братишка… Где же ты был с утра?
Эх……… тебя……… Что бы………! (Остальные слова были плохие.)
— К батарее его, мерзавца! — отозвался на плохое Демьян Парфенович. — Только подальше от крана, не как в прошлый раз.
Плясуна повели в соседний отсек.
— Вы напрасно его сейчас, Демьян Парфеныч, — заступился чубастый. — Он нам многое мог бы рассказать, как свидетель по ихнему делу, — и показал пальцем на Лаптева, который раскуксился у барьера окончательно и крикливо сваливал всю вину на Клавдина:
— Это он, он меня толкнул… Я бы сам первый не полез: у меня и так хвост по сопромату!
— Подрались, что ли? — спросил Демьян Парфенович, совершенно оглушенный воплями Лаптева.
— Если бы! — подал письменный рапорт вожак. — Тут дело посерьезнее… Вызов против нашей общественности, можно сказать.
— Понятно, — сказал Демьян Парфенович, хотя и не понял ровным счетом ничего. — Идите, разберемся.
Дружинники ушли, а Демьян Парфенович надел железные с потемневшими дужками очки и, поморщившись, углубился в рапорт.
Надо сказать, он не любил чубастого, доставлявшего ему пустые хлопоты. Чубастый и его сотоварищи вечно приводили то «неправильно танцующих на веранде», то целующихся в парке после двенадцати и отказывающихся тем не менее предъявить документы.
Дочитав рапорт, Демьян Парфенович скинул очки и сказал:
— Который из вас по стихам-то, а?
Лаптев вероломно покосился на Клавдина, а тот в отместку наступил ему на босую ногу.
— Прочитал бы чего-нибудь, а? — попросил Демьян Парфенович. — Да ты не бойся, я не для протокола.
Голос Демьяна Парфеновича звучал неофициально, по-домашнему. Клавдии высморкался и, глядя для чего-то в угол, забубнил:
— Ну, что скажете хорошенького? — сказал он, валясь синими от наколотых якорей руками на стол. — Оправдываться будем или как?
— А в чем, собственно, оправдываться? — сдавленно произнес Клавдии. — Мы же не из хулиганства, а в интересах творчества…
Парусиновые скептически переглянулись, а чубастый склонился над столом и выставил нижнюю губу уступом.
— Мы же без задней мысли, товарищи! — заволновался Лаптев. — Не дрались, и вреда, собственно, никому не принесли.
— Ну, а ты что скажешь? — Чубастый перевел обостренный взгляд на Бурчалкина; короткий в печень все еще давал себя знать, и разговор предстоял особый.
— Не имею к ним никакого отношения, — отделился Бурчалкин. — Я просто так, случайно подошел.
— Ишь ты, «не имеет»! — вожак обернулся к сподвижникам, и те понимающе захехекали. — Случайно только кошки с крыши падают. «Случайно»… Смотри какой грамотный! Думаешь, умнее других?
— Не думаю, а знаю.
— А мы тебе пятнадцать суток! — радостно пообещал чубастый.
— Это на каком же основании?
— A-а, не любишь! — переглянулись дружинники. — А не ерепенься. Не сопротивляйся… Иди куда ведут…
— Иди за большинством! — крикнул откуда-то с запяток коротконогий дружинник. — Попал в милицию — держись сиротой…
— Ладно, нечего тут кисели разводить, — поднялся чубастый. — К Демьян Парфенычу их. Оформим — и под метлу.
— А меня за что? — взмолился Лаптев. — Товарищи, я же первый осознал, — дополнил он, заметив, что Клавдии проворно скидывает кофтенку. — Честное слово, осознал. Поверьте!
— Подметешь набережную, тогда и осознаешь, — отклонил петицию чубастый. — Пройдемте в отделение. Милости просим.
В милиции состоялась короткая и неожиданная для Бурчалкина встреча. За дубовым барьером дежурной комнаты, где сидел в этот раз сам Демьян Парфенович, отводил душу живой и невредимый Василий. Приладонивая то распахнутую грудь, то весьма нетвердые колени, он напевно скороговорил:
— «Томск — Омск — Ачинск, Чимкент — Чита — Челябинск», — причем этот странный маршрут сопровождался чечеткой и заканчивался опять же рефреном: — Вот мчится скорый — «Воркута — Ленинград».
— Друг! — заорал он, различив Стасика в лицо. — Вот так встреча! Не в деньгах счастье, братишка… Где же ты был с утра?
Эх……… тебя……… Что бы………! (Остальные слова были плохие.)
— К батарее его, мерзавца! — отозвался на плохое Демьян Парфенович. — Только подальше от крана, не как в прошлый раз.
Плясуна повели в соседний отсек.
— Вы напрасно его сейчас, Демьян Парфеныч, — заступился чубастый. — Он нам многое мог бы рассказать, как свидетель по ихнему делу, — и показал пальцем на Лаптева, который раскуксился у барьера окончательно и крикливо сваливал всю вину на Клавдина:
— Это он, он меня толкнул… Я бы сам первый не полез: у меня и так хвост по сопромату!
— Подрались, что ли? — спросил Демьян Парфенович, совершенно оглушенный воплями Лаптева.
— Если бы! — подал письменный рапорт вожак. — Тут дело посерьезнее… Вызов против нашей общественности, можно сказать.
— Понятно, — сказал Демьян Парфенович, хотя и не понял ровным счетом ничего. — Идите, разберемся.
Дружинники ушли, а Демьян Парфенович надел железные с потемневшими дужками очки и, поморщившись, углубился в рапорт.
Надо сказать, он не любил чубастого, доставлявшего ему пустые хлопоты. Чубастый и его сотоварищи вечно приводили то «неправильно танцующих на веранде», то целующихся в парке после двенадцати и отказывающихся тем не менее предъявить документы.
Дочитав рапорт, Демьян Парфенович скинул очки и сказал:
— Который из вас по стихам-то, а?
Лаптев вероломно покосился на Клавдина, а тот в отместку наступил ему на босую ногу.
— Прочитал бы чего-нибудь, а? — попросил Демьян Парфенович. — Да ты не бойся, я не для протокола.
Голос Демьяна Парфеновича звучал неофициально, по-домашнему. Клавдии высморкался и, глядя для чего-то в угол, забубнил:
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Ряженые

Глава XV Комплекс Кытина
— Где Белявский? Вы не видели Белявского? Автор незабвенного фельетона про «„Аль-Капонэ“ из Сыромятного переулка» Виктор Кытин, большелицый и приземистый, шел по редакции, заложив руки за спину и сгорбатившись, будто передвигался на беговых коньках. Это означало, что дела у него плохи и Белявский нужен ему позарез. Кытина всегда одолевали либо звонкая фонтанирующая радость, либо мировая скорбь. Если его командировали куда-нибудь в Куеду, он носился по редакции козлом и намекал, что поездка — знак особого к нему, Кытину, расположения редактора и признание его, кытинских, заслуг перед газетой. Но стоило ему прослышать, что где-то в журнале «Антрацит» сокращают штаты, как он сразу становился на коньки и, мешая работать, нудел: — Что же это, братцы, делается? А у нас кто на очереди, а? Ведь все, что у меня есть, — это Омар Хайям, любимая работа и комплекс неполноценности… Голос Кытина слабел и падал до шепота. О комплексе он вызнал из медицинского ежегодника «Мепталидад бруталь» и теперь крепко за него держался. Комплексом Кытина в редакции, как это бывает, не злоупотребляли; Виктора даже где-то жалели, но жалели ущербно и снисходительно, как некрасивую разведенную женщину, претендующую на лавры Клеопатры. Такое жестокое сочувствие только тяжелило неполноценное сердце, и Кытин готовил в душе мстительный реванш. Автор сорока семи непринятых и тридцати отвергнутых рассказов, Кытин отчаянно метил в литераторы. — Ничего, Виктор, Бальзака не печатали до пенсионного возраста, — мягко успокаивали в газете. Виктор слушал и мрачнел. До пенсии было далеко.
Скорописью он быстро превзошел Дюма и опостылил в редакции своими сочинениями. Сотрудники «Художественных промыслов» стали его избегать. Тогда он начал зачитывать рассказы пришлым активистам, рабкорам и пойманным в отделе писем жалобщикам. Жалобщикам рассказы нравились. Кытин их где-то понимал. И все равно радовался.
— Приветик! — сказал он Роману Бурчалкину, появившись в отделе культуры и быта. — Ты, старик, не видел случайно Белявского?
— Да где-то тут болтался, — сказал Роман. — Загорел бродяга, как лодочник, и врет еще больше прежнего. Просто уши вянут.
— Зачем ты говоришь «врет»? — заволновался о чем-то своем Виктор. — Просто у него не все сразу получается. А ты с ходу «уши вянут». Ты, Бурчалкин, стал такой въедливый, что тебе пора просто «Роман Бур» подписываться. Честное слово! Кстати, оно эффектней, короче и ко времени… А то, не дай бог, спутают: слыхал, как Сипун разделал твоего однофамильца из Янтарных Песков?
— Еще бы! — сказал Роман. — Такой шум вокруг этого, что до сих пор в ушах звенит.
А звон был поднят действительно большой.
Когда Агап Павлович Сипун лично выловил в Янтарных Песках «гладиаторов XX века» и представил их как злостных символистов на страницах «Южной здравницы», на эстрадной бирже начался бум. Подобной ажиотации тут не было давненько. Конферансье Лесипедов и его подельник Нешуйский продали с молотка пьесу «Накипь», три музыкально-эксцентрических обозрения и девять клоунад. В субботу вечером они уже торговали репризами и подписями под моментальными карикатурами.
Собратья по оружию от них не отставали. Разбойный эстрадный цех содрогался от грохота молотков и веселящих сердце криков: «Раззудись, плечо — куй, пока горячо!»
С понедельника цеховой товар потоком хлынул на потребителя. «Гладиаторов» бичевали в семь хвостов. Их грызла изголодавшаяся по свежатинке эстрада, клеймила вечерняя газета, поносила радиопередача «Смейся, дружок».
Последним подключился заподозренный в безыдейности цирк шапито. Это было ужасно. На манеж выкатились босые коверные в абстрактных панталонах и, взрывая опилки бледными ногами, стали лаять на воздушную гимнастку. Гимнастка парила под самым куполом в белом кальсонном трико и олицетворяла собой, как говорилось в программке, «высокое искусство».
Кампания набирала силы. Ставший во главе очистительного похода Сипун побывал у министра художественных промыслов и наскальной живописи, после чего записал в «гладиаторы» всех своих врагов, в том числе Потанина, а заодно и соседа по даче, не желавшего чинить на паях забор.
Вскрикивая «чур меня, чур!», сосед побежал за тесом.
— Тут разве глухой не услышит, — повторил Кытину Роман. — А Стасик Бурчалкин как-никак мой младший брат.
— Иди ты?! — Кытин ухнул, будто свалился в прорубь, и всплеснул руками. — Брат?!. Вот это номер! Ха-ха! Но молчу, молчу, как Аскольдова могила, — он приложил для убедительности палец к губам. — Кытин выше этого. Кытин за товарища на рельсы ляжет.
С этими словами он убежал, но через секунду его лохматая голова снова показалась в дверях:
— На любые рельсы, ты понял?
Все еще гордясь только что найденным образом, Кытин проскочил лестничную клетку, но вдруг застопорил и втянул голову в плечи… Навстречу ему шел завхоз Сысоев с гвоздем в зубах. Гвоздь торчал, как сигара, и яснее ясного говорил о перемещениях в области культуры или печати. Дело в том, что по указанию зам. главного редактора Яремова в редакции были вывешены портреты выдающихся деятелей в области искусства и художественного слова. Согласно диалектике, руководящие культурой деятели менялись. И Сысоев узнавал об этом почему-то в первую очередь. На глазах шептавшихся сотрудников он с нарочитой важностью снимал со стены погашенный волей жребия портрет и вешал на его место новый. Откуда брались точные знания, по какому каналу Сысоеву все это сообщалось — было тайной из тайн. Нервный Кытин на пари обшарил стол завхоза в надежде открыть потайной телефон, но нашел лишь обмылок семейного мыла и кусочек дырчатой пемзы. Сысоев остался неразгаданным, и его фигура вызывала у Кытина нехорошее предчувствие. Вот и теперь он глядел на гвоздь, и шальная мысль, что всякое перемещение пробуждает деятельность, а деятельность неизбежно связана с сокращением штатов, — эта мысль опустила неполноценное сердце к желудку: «Что же это делается? А?!»
Кытин сник и заковылял по отделам, жалуясь на жестокость века вообще и свою беззащитность в частности. При этом он совершенно непроизвольно сообщал, что Роман Бурчалкин брат того самого «гладиатора» из Янтарных Песков.
Впопыхах он и сам не заметил, как оказался в кабинете зам. главного редактора Яремова, где взгрустнул особенно остро и про Бурчалкина доложил особенно нехорошо.
Кирилл Иванович слушал Виктора и кривился.
Когда-то он так же мыкался со своими рассказами.
Печатать его, правда, печатали. Но делали это редко, неохотно и уж как-то очень невесело. А писал он в общем-то правильно. Если была труба, то из нее непременно валил дым, ружье стреляло, заяц убегал, добро торжествовало. Но читая его рассказы, издатели кривились, будто перекусывали зубами проволоку. Служебное повышение благотворно сказалось на творческом процессе. Трубный дым перестал раздражать редакторов. Они встречали Кирилла с угрюмой вежливостью, и он обучился садиться в издательствах на стул, не дожидаясь на то приглашения. Кирилл Иванович расцвел, округлился и стал таким гладким, что хотелось его погладить. Но позволить себе эдакое уже никто не мог, и он смело ходил животом вперед, мурлыкая: «Мой час настал, ти-ри-ра-рам, и вот я у-мира-ю».
Он был чтим. Он был признан. Но хныкающее сгорбленное прошлое являлось к нему в образе Кытина, не давая забыть, что он, Кирилл Иванович, как не крути — печатающийся Кытин. Мысль была неотвязной. Но человек непоследователен. Не любя всей душою Кытина, Кирилл Иванович не переставал уважать себя.
Выслушавши сообщение о Бурчалкине, Кирилл Иванович посмотрел на портрет министра художественных промыслов, висевший против окна. Потом вздохнул и выругался вслух. Он позволял себе эдакое для контакта с массой. Но процветание изменило и его ругань. Теперь она напоминала выдохшуюся водку: на вкус противно, а крепости никакой.
Кытина ругательство напугало, и он снова забубнил о своем комплексе.
— М-да? Ну ладно, — сказал Кирилл Иванович. — Идите, Кытин. Идите и работайте.
— Работать? С удовольствием! — пятясь к дверям, затараторил Кытин. — Ведь все, что у меня есть, это Омар Хайям…
Но Кирилл Иванович не слушал. Он с неудовольствием прикидывал, что главный редактор пробудет в Польше еще целую неделю и решать вопрос о Бурчалкине ему снова придется самому.
А решать Кирилл Иванович страсть как не любил, ибо вечно колебался, и колебания эти зависели от дуновений вовсе даже неприметных. Вот и сейчас была нужда поговорить с ответственным секретарем Астаховым, а он не знал, как к этому приступиться. Пойти к Астахову он не мог, потому как был главнее по должности, а вызвать Астахова по телефону не решался, поскольку считал себя демократом. В конце концов он снял трубку и не лишенным приятности голосом проговорил:
— Саша? Надо бы посоветоваться. Как это сделать практически?.. Ага, значит, зайдешь? Ну и прекрасно…
Астахов явился с гранками свежего набора.
— О чем совет? — сказал он.
— Видишь ли, как бы это выразиться поточнее, — Кирилл Иванович запыхтел губами, будто играл с Астаховым в паровозик. — Тебе известно, что наш Бурчалкин в некотором родстве с «гладиаторщиной» и «козлизмом»?
— Нет, не известно. Я его босиком в редакции не видел.
— Этого еще не хватало. Достаточно, что он брат того самого бузотера из Янтарных Песков. Младший Бурчалкин совершил безобразный поступок. И где? На месте будущего памятника Отдыхающему труженику, задуманного самим Сипуном! Представляешь, как все это может быть увязано?
— Нет, не представляю.
— А я не хочу ставить под удар реноме газеты. Ты учти, кампания в самом разгаре. К тому же, сам знаешь, Агап Павлович Сипун шутить не любит.
— Сегодня он силен, а завтра нет.
— Типун тебе на язык! — воскликнул Кирилл Иванович и спросил настороженно: — Ты что-нибудь знаешь? А?
— Я знаю, что брат за брата не отвечает, — уклонился Астахов.
— А я что говорю! — заспешил Яремов. — Никто так вопрос и не ставит. Но Роман Бурчалкин должен занять свою позицию.
Астахов заложил руки в карманы и стал молча покачиваться то вправо, то влево.
— Может, я ошибаюсь, а? Может, у тебя, Саша, другие соображения?
Астахов молчал и делал это нарочно, чтобы довести колебания Кирилла Ивановича до предела и обезоружить его на решение по существу. Убедившись, что Яремов «дозрел», Астахов вынул руки из карманов и сказал так:
— Хорошо, позиция будет.
Он ушел и вернулся с Бурчалкиным.
— Садитесь, пожалуйста, — пригласил Кирилл Иванович и вздохнул, будто уступал Роману место в электричке.
Роман сел. Кирилл Иванович пожевал губами, внимательно изучил пятнышко на столе, подышал на него, потер пальцем и тогда уже сказал:
— У меня к вам несколько странный вопрос. Вы не рисуете?
— Нет, не дано, — сказал Роман.
— М-да, ну ладно. А брат у вас, если не ошибаюсь, художник?
— Художник.
— Ну и как вы к нему относитесь?
— По-братски, — нахмурился Роман, догадываясь, в чем дело.
— Но надеюсь, вы не разделяете его взглядов? Символистических, разумеется… Именно это я имею в виду.
— Как я могу разделять то, чего нет?
Кирилл Иванович уставился на Бурчалкина, как на телевизор, в котором непонятно что чинить.
Разглядывание было долгим, но не бесполезным. Колебания кончились. Кириллу Ивановичу вдруг пришла идея, как переложить решение на заинтересованное, очень даже заинтересованное и влиятельное лицо!
— Не разделяете? — сказал он воодушевленно. — И прекрасно. Отправляйтесь к товарищу Сипуну и возьмите интервью для газеты. Заодно и объясните ему свою непримиримость к «гладиаторщине» и «козлизму» всех мастей. Это важно, так что желаю вам удачи.
Выходя из кабинета, Роман повстречался с Кытиным. Тот тащился, заложив руки за спину, и что-то невнятное бормотал.
Роман вспомнил обещание Виктора лечь на рельсы и покосился на него с нескрываемой злостью.
— Старик! — засуетился Кытин. — Ты только не подумай! Я выше этого… Но ты меня прости, старик! Ты меня извини, старик. У меня законченный комплекс неполноценности…
Виктор слушал и мрачнел. До пенсии было далеко.
Скорописью он быстро превзошел Дюма и опостылил в редакции своими сочинениями. Сотрудники «Художественных промыслов» стали его избегать. Тогда он начал зачитывать рассказы пришлым активистам, рабкорам и пойманным в отделе писем жалобщикам. Жалобщикам рассказы нравились. Кытин их где-то понимал. И все равно радовался.
— Приветик! — сказал он Роману Бурчалкину, появившись в отделе культуры и быта. — Ты, старик, не видел случайно Белявского?
— Да где-то тут болтался, — сказал Роман. — Загорел бродяга, как лодочник, и врет еще больше прежнего. Просто уши вянут.
— Зачем ты говоришь «врет»? — заволновался о чем-то своем Виктор. — Просто у него не все сразу получается. А ты с ходу «уши вянут». Ты, Бурчалкин, стал такой въедливый, что тебе пора просто «Роман Бур» подписываться. Честное слово! Кстати, оно эффектней, короче и ко времени… А то, не дай бог, спутают: слыхал, как Сипун разделал твоего однофамильца из Янтарных Песков?
— Еще бы! — сказал Роман. — Такой шум вокруг этого, что до сих пор в ушах звенит.
А звон был поднят действительно большой.
Когда Агап Павлович Сипун лично выловил в Янтарных Песках «гладиаторов XX века» и представил их как злостных символистов на страницах «Южной здравницы», на эстрадной бирже начался бум. Подобной ажиотации тут не было давненько. Конферансье Лесипедов и его подельник Нешуйский продали с молотка пьесу «Накипь», три музыкально-эксцентрических обозрения и девять клоунад. В субботу вечером они уже торговали репризами и подписями под моментальными карикатурами.
Собратья по оружию от них не отставали. Разбойный эстрадный цех содрогался от грохота молотков и веселящих сердце криков: «Раззудись, плечо — куй, пока горячо!»
С понедельника цеховой товар потоком хлынул на потребителя. «Гладиаторов» бичевали в семь хвостов. Их грызла изголодавшаяся по свежатинке эстрада, клеймила вечерняя газета, поносила радиопередача «Смейся, дружок».
Последним подключился заподозренный в безыдейности цирк шапито. Это было ужасно. На манеж выкатились босые коверные в абстрактных панталонах и, взрывая опилки бледными ногами, стали лаять на воздушную гимнастку. Гимнастка парила под самым куполом в белом кальсонном трико и олицетворяла собой, как говорилось в программке, «высокое искусство».
Кампания набирала силы. Ставший во главе очистительного похода Сипун побывал у министра художественных промыслов и наскальной живописи, после чего записал в «гладиаторы» всех своих врагов, в том числе Потанина, а заодно и соседа по даче, не желавшего чинить на паях забор.
Вскрикивая «чур меня, чур!», сосед побежал за тесом.
— Тут разве глухой не услышит, — повторил Кытину Роман. — А Стасик Бурчалкин как-никак мой младший брат.
— Иди ты?! — Кытин ухнул, будто свалился в прорубь, и всплеснул руками. — Брат?!. Вот это номер! Ха-ха! Но молчу, молчу, как Аскольдова могила, — он приложил для убедительности палец к губам. — Кытин выше этого. Кытин за товарища на рельсы ляжет.
С этими словами он убежал, но через секунду его лохматая голова снова показалась в дверях:
— На любые рельсы, ты понял?
Все еще гордясь только что найденным образом, Кытин проскочил лестничную клетку, но вдруг застопорил и втянул голову в плечи… Навстречу ему шел завхоз Сысоев с гвоздем в зубах. Гвоздь торчал, как сигара, и яснее ясного говорил о перемещениях в области культуры или печати. Дело в том, что по указанию зам. главного редактора Яремова в редакции были вывешены портреты выдающихся деятелей в области искусства и художественного слова. Согласно диалектике, руководящие культурой деятели менялись. И Сысоев узнавал об этом почему-то в первую очередь. На глазах шептавшихся сотрудников он с нарочитой важностью снимал со стены погашенный волей жребия портрет и вешал на его место новый. Откуда брались точные знания, по какому каналу Сысоеву все это сообщалось — было тайной из тайн. Нервный Кытин на пари обшарил стол завхоза в надежде открыть потайной телефон, но нашел лишь обмылок семейного мыла и кусочек дырчатой пемзы. Сысоев остался неразгаданным, и его фигура вызывала у Кытина нехорошее предчувствие. Вот и теперь он глядел на гвоздь, и шальная мысль, что всякое перемещение пробуждает деятельность, а деятельность неизбежно связана с сокращением штатов, — эта мысль опустила неполноценное сердце к желудку: «Что же это делается? А?!»
Кытин сник и заковылял по отделам, жалуясь на жестокость века вообще и свою беззащитность в частности. При этом он совершенно непроизвольно сообщал, что Роман Бурчалкин брат того самого «гладиатора» из Янтарных Песков.
Впопыхах он и сам не заметил, как оказался в кабинете зам. главного редактора Яремова, где взгрустнул особенно остро и про Бурчалкина доложил особенно нехорошо.
Кирилл Иванович слушал Виктора и кривился.
Когда-то он так же мыкался со своими рассказами.
Печатать его, правда, печатали. Но делали это редко, неохотно и уж как-то очень невесело. А писал он в общем-то правильно. Если была труба, то из нее непременно валил дым, ружье стреляло, заяц убегал, добро торжествовало. Но читая его рассказы, издатели кривились, будто перекусывали зубами проволоку. Служебное повышение благотворно сказалось на творческом процессе. Трубный дым перестал раздражать редакторов. Они встречали Кирилла с угрюмой вежливостью, и он обучился садиться в издательствах на стул, не дожидаясь на то приглашения. Кирилл Иванович расцвел, округлился и стал таким гладким, что хотелось его погладить. Но позволить себе эдакое уже никто не мог, и он смело ходил животом вперед, мурлыкая: «Мой час настал, ти-ри-ра-рам, и вот я у-мира-ю».
Он был чтим. Он был признан. Но хныкающее сгорбленное прошлое являлось к нему в образе Кытина, не давая забыть, что он, Кирилл Иванович, как не крути — печатающийся Кытин. Мысль была неотвязной. Но человек непоследователен. Не любя всей душою Кытина, Кирилл Иванович не переставал уважать себя.
Выслушавши сообщение о Бурчалкине, Кирилл Иванович посмотрел на портрет министра художественных промыслов, висевший против окна. Потом вздохнул и выругался вслух. Он позволял себе эдакое для контакта с массой. Но процветание изменило и его ругань. Теперь она напоминала выдохшуюся водку: на вкус противно, а крепости никакой.
Кытина ругательство напугало, и он снова забубнил о своем комплексе.
— М-да? Ну ладно, — сказал Кирилл Иванович. — Идите, Кытин. Идите и работайте.
— Работать? С удовольствием! — пятясь к дверям, затараторил Кытин. — Ведь все, что у меня есть, это Омар Хайям…
Но Кирилл Иванович не слушал. Он с неудовольствием прикидывал, что главный редактор пробудет в Польше еще целую неделю и решать вопрос о Бурчалкине ему снова придется самому.
А решать Кирилл Иванович страсть как не любил, ибо вечно колебался, и колебания эти зависели от дуновений вовсе даже неприметных. Вот и сейчас была нужда поговорить с ответственным секретарем Астаховым, а он не знал, как к этому приступиться. Пойти к Астахову он не мог, потому как был главнее по должности, а вызвать Астахова по телефону не решался, поскольку считал себя демократом. В конце концов он снял трубку и не лишенным приятности голосом проговорил:
— Саша? Надо бы посоветоваться. Как это сделать практически?.. Ага, значит, зайдешь? Ну и прекрасно…
Астахов явился с гранками свежего набора.
— О чем совет? — сказал он.
— Видишь ли, как бы это выразиться поточнее, — Кирилл Иванович запыхтел губами, будто играл с Астаховым в паровозик. — Тебе известно, что наш Бурчалкин в некотором родстве с «гладиаторщиной» и «козлизмом»?
— Нет, не известно. Я его босиком в редакции не видел.
— Этого еще не хватало. Достаточно, что он брат того самого бузотера из Янтарных Песков. Младший Бурчалкин совершил безобразный поступок. И где? На месте будущего памятника Отдыхающему труженику, задуманного самим Сипуном! Представляешь, как все это может быть увязано?
— Нет, не представляю.
— А я не хочу ставить под удар реноме газеты. Ты учти, кампания в самом разгаре. К тому же, сам знаешь, Агап Павлович Сипун шутить не любит.
— Сегодня он силен, а завтра нет.
— Типун тебе на язык! — воскликнул Кирилл Иванович и спросил настороженно: — Ты что-нибудь знаешь? А?
— Я знаю, что брат за брата не отвечает, — уклонился Астахов.
— А я что говорю! — заспешил Яремов. — Никто так вопрос и не ставит. Но Роман Бурчалкин должен занять свою позицию.
Астахов заложил руки в карманы и стал молча покачиваться то вправо, то влево.
— Может, я ошибаюсь, а? Может, у тебя, Саша, другие соображения?
Астахов молчал и делал это нарочно, чтобы довести колебания Кирилла Ивановича до предела и обезоружить его на решение по существу. Убедившись, что Яремов «дозрел», Астахов вынул руки из карманов и сказал так:
— Хорошо, позиция будет.
Он ушел и вернулся с Бурчалкиным.
— Садитесь, пожалуйста, — пригласил Кирилл Иванович и вздохнул, будто уступал Роману место в электричке.
Роман сел. Кирилл Иванович пожевал губами, внимательно изучил пятнышко на столе, подышал на него, потер пальцем и тогда уже сказал:
— У меня к вам несколько странный вопрос. Вы не рисуете?
— Нет, не дано, — сказал Роман.
— М-да, ну ладно. А брат у вас, если не ошибаюсь, художник?
— Художник.
— Ну и как вы к нему относитесь?
— По-братски, — нахмурился Роман, догадываясь, в чем дело.
— Но надеюсь, вы не разделяете его взглядов? Символистических, разумеется… Именно это я имею в виду.
— Как я могу разделять то, чего нет?
Кирилл Иванович уставился на Бурчалкина, как на телевизор, в котором непонятно что чинить.
Разглядывание было долгим, но не бесполезным. Колебания кончились. Кириллу Ивановичу вдруг пришла идея, как переложить решение на заинтересованное, очень даже заинтересованное и влиятельное лицо!
— Не разделяете? — сказал он воодушевленно. — И прекрасно. Отправляйтесь к товарищу Сипуну и возьмите интервью для газеты. Заодно и объясните ему свою непримиримость к «гладиаторщине» и «козлизму» всех мастей. Это важно, так что желаю вам удачи.
Выходя из кабинета, Роман повстречался с Кытиным. Тот тащился, заложив руки за спину, и что-то невнятное бормотал.
Роман вспомнил обещание Виктора лечь на рельсы и покосился на него с нескрываемой злостью.
— Старик! — засуетился Кытин. — Ты только не подумай! Я выше этого… Но ты меня прости, старик! Ты меня извини, старик. У меня законченный комплекс неполноценности…
Глава XVI Важная чепуха
…Наконец-то он был дома. В тамбурной комнате царил кавардак. На полу валялись ссохшиеся кисти, жеваные тюбики, клочки бумаги. С потолка драной авоськой свешивалась желтая паутина. Стасик прикрыл за собою дверь и в тусклом свете карманного фонаря начал мусолить пачку денег. Пальцы не слушались. Стасик спешил и сбивался со счета. Он знал, что должно быть двенадцать тысяч. А получалось то девять, то тринадцать… — Продал?.. — окликнул его глухой, как бы застенный голос. Стасик вздрогнул и обернулся. В дверях, закрывая их почти полностью, стоял вздувшийся Оракул все в том же пальтишке с обглоданными пуговицами. — Поймал-таки? — Аркадий Иванович изобразил пальцами рожки. — Выходит, твои бега надежнее. Только что мы теперь дальше делать будем? — Почему это «мы»? Вам бы козлика в жизни не поймать! — В том-то и дело, — Аркадий Иванович усмехнулся, запахнул пальто и сложил руки на осколках пуговиц. — Я шел бы за ним всю жизнь, надеялся и был счастлив… Отпусти козлика. Отпусти, и мы снова будем его ловить. — Идите спать. Вы совсем рехнулись, — сказал Стасик. — Отпусти, и нам станет хорошо, — пообещал Оракул. — Мы всегда будем желать и надеяться. В этом весь смысл. Желание постоянно, а удовлетворенность не имеет продолжения. Понимаешь? Надо все время чего-то хотеть. — Хотите пятьсот рублей? — сказал Стасик. — Только раз и навсегда отстаньте. — Убью я тебя, пожалуй, — сказал Оракул безразличным тоном, — так будет лучше. Аркадий Иванович посинел лицом, выпустил из головы кривые замызганные какой-то дрянью рожки и, вращая ими, будто сверлами, стал припирать Стасика к стене. Бурчалкин рывком отпрянул назад и ударился затылком о стену… Аркадий Иванович тотчас испарился. Стасик открыл глаза и убедился, что он действительно у себя дома… — Что же, будем считать, что сон в руку, — сказал он, поднимаясь. — Пачка у меня в руках была впечатляющая. Впрочем, и насчет «желаний» Оракул, кажется, дело сказал, но не совсем точно. «Я желал бы иметь желания» — вот как надо ставить вопрос при его пессимизме. У меня же пока запросы значительно опережают предложения, так что надо что-то срочно предпринимать… Шансы еще не исчерпаны. Бурчалкин подвинул к себе телефон, нашарил в кармане, куртки сложенную вчетверо записку и набрал шесть цифр. — Алло, если нетрудно, Карину. — Я у телефона. — Кариночка, рад слышать!.. С чувством невероятной теплоты тебя приветствует крымский знакомый… Не узнаешь? — Не узнаю… У меня много знакомых. — Это Стасик. Станислав Бурчалкин… Помнишь? — Кажется, припоминаю, — вымученно соврала Карина. — Это о вас, кажется, говорили в передаче «Смейся, дружок»… — Не придавай этому значения, — заторопился Бурчалкин. — Нам нужно встретиться… Непременно. Да, да, прямо сейчас. — Хорошо, — уступила после тягучей паузы Карина. — В Парке культуры… В одиннадцать у главного входа. — Лечу, — крикнул в трубку Стасик. — Лечу со скоростью звука. В парке было немноголюдно. Взяв Карину под руку, Стасик повел ее по влажным кирпичным аллеям. На скамейках грелись под солнцем индифферентные дневные парочки. Час поцелуев еще не наступил, и те решительно не понимали, чем заняться. Карина и Стасик прошлись к летней эстраде, где мужчина в черном скучно грозил колонизаторам. Перед лектором сидела группа пенсионеров и сражалась в шашки. Когда тот повышал голос, они вскидывали головы и смотрели на мужчину с недоумением. Павильоны парка пустовали. В роскошном и душном читальном зале одинокий посетитель сверял по газетной подшивке лотерейные билеты. Прохожие косились на книгочея с уважением, но сами спешили к чертову колесу. Там же находились тир, качели и силомер. — Прекрасный парк, — сказал Бурчалкин. — Но я опоздал сюда лет на пятнадцать… Я, конечно, не против колеса, но оно навевает мне мысли о Галилее. — Тут должны быть кафе «Медвежонок» и Пильзенский бар, — сказала Карина. Возле «Пильзеня» не было аттракционов, но тут собралось девять десятых посетителей парка. Швейцар в белой пароходной курточке стоял у дверей и, раскинув руки шлагбаумом, регулировал очередь. Ему что-то горячо доказывал уже покончивший с колонизаторами лектор. Но швейцар его заслуг не признавал. Очередь продвигалась на манер газетной. Минут через двадцать Стасик и Карина заняли столик на солнечной стороне. Расторопный официант мигом принес пенистые кружки, влашский салат и соломенное блюдо рогаликов. — Помнишь «Прибой»? — сказал Стасик. Карина кивнула утвердительно. — Твой отъезд был для меня не лучшим событием, — упрекнул Стасик. — Я очень жалел, очень… — Но ты сам исчез! — сказала Карина. — Не исчез, а вынужденно отлучился. Меня лично режиссер упросил. Ночная съемка на горе Нипетри. Понимаешь? — Ты снимался в кино?! — Ну да! Над дикой пропастью под крик совы… — Интересно, но, наверное, страшно? — Самое страшное было потом: пока я лазил по горам, у меня картину украли. Помнишь, я ее к вернисажу готовил… — Какую? Ту, из-за которой ты в парке дрался?.. Ну, еще в газете писали, что вы «гладиаторы»… — Чепуха! Не придавай этому значения. Мало ли что пишут. — Это для тебя «чепуха», потому что ты привык, а мы за вас так переживаем, так болеем… — Прости, кто «мы»? Нельзя ли пояснее? — Ну, все мои знакомые, кто ценит передовое искусство. И вообще мы за тех, кого зажимают и хода не дают… Кстати, вечером у меня собирается компания, и ты не представляешь, как тебе будут рады: Золотарь бочку вина выставит, а Инга от зависти помрет. — Хорошо, только похороны Инги не за мой счет, — сказал Стасик. — А бочка, Кариночка, это самарское пижонство. — Ну зачем скромничать? — сказала Карина с укором. — Тогда позволь один нескромный вопрос: что ты нашла в своем полярном Робин Гуде? Может, стрельба по мухам тебя подкупила? — Ты ошибаешься! — вспыхнула Карина. — Дядя Гера, то есть Герасим Федотович, мне просто друг… Да, друг… Добрый, хороший, отзывчивый… И вообще я не знаю, чего он ко мне привязался. Завтра же скажу, чтобы больше не звонил. — Так он тут, в городе?! — Да, но это еще ничего не значит. Он совсем по другому делу приехал: ему кооператив Гурий Михайлович обещал… Ну, этот, специалист по быту, что мне нерпу грозился достать. Да ты его в парке видел, когда тебя дружинники… Помнишь? — А, так это и есть консультант Белявский? Кругленький, ластоногий? Прекрасно!! — Ты напрасно так говоришь «прекрасно»! У меня с ним и вовсе деловые отношения, то есть совершенно дружеские. — Хорошие у тебя друзья. Пока меня крутили-вязали, кто-то из них увел мою любимую картину… Кто именно, хотелось бы знать! — Дядя Ге… то есть Герасим Федотович… Но он сказал, что это его собственность. — А больше он ничего не сказал?! — с плохо сдерживаемой радостью воскликнул Стасик, но тут же поправился: — Это же просто неслыханная наглость! Я… я настаиваю на очной ставке… — Зачем? Я тебе и так, Стасик, верю, — пробовала успокоить Карина. — Нет, нет, я тебя очень прошу, — не захотел успокаиваться Бурчалкин. — Мне дорога эта картина… и еще дороже твое мнение обо мне. Я прошу, я настаиваю… — Ну хорошо. Только без сцен и глупостей, — сказала Карина, подумавши. — Человек он для нашей компании не подходящий и в искусстве ни бум-бум, но если ты так настаиваешь, я его, так и быть, приглашу.Глава XVII Беседы у рояля
Получив внезапное приглашение от Карины, Герасим Федотович истолковал эту приятность по-своему и, разнежившись, поехал в гости с большим, как сноп, букетомцветов. Намерения у него были самые решительные и, не полагаясь на декоративную часть, он захватил еще и плетеную корзинку с праздничным набором: вино, консервы, фрукты. В дороге он продумал, как начнет: «Я человек серьезный», — и закончит: «У ваших ног прошу руки». Отпустив такси, Герасим машинально перекрестился и поднялся на второй этаж. Его сердце трепыхалось так, будто он одолел девятый. Он дал себе успокоиться, распушил букет и нажал кнопку звонка. В прихожей послышался цокот каблуков и возглас: «Это он!» Дверь отворила Карина. По лицу любимой было видно, что возглас предназначался не Герасиму Федотовичу. Тем не менее она подставила щечку и велела отнести корзину на кухню. К огорчению Герасима Федотовича, из комнаты уже доносились приглушенные голоса. — Собралась чудесная компания, — порадовала Карина. — Ты вовремя. У нас такой интересный разговор!.. Разговор был настолько интересным, что Карина не стала отвлекать гостей. Она тихонько провела Герасима Федотовича в угол комнаты и посадила возле пианино. Герасим отвык от домашних компаний и чувствовал себя неуютно, тем более что гости, сгрудившиеся под сенью тусклого торшера, говорили чудно и конспиративно. — Я понимаю Хемингуэя! — вздохнула гладкая крупнотелая гостья, с трудом кутаясь в коротковатый мохеровый плед. — Это праздник, который всегда со мной… даже когда я стираю. — М-да, Хемингуэй — это вещь, — согласился борцовского вида мужчина с приплюснутыми ушами. Шея у него практически отсутствовала, и он был настолько квадратен, что глаза невольно искали на нем черную рюмочку и надпись: «Не кантовать!» — И я его понимаю. Да и меня бы он тоже понял. Такой уж он человек. — Извините, но я вся во власти Кафки, — интимно доложила женщина в кожаном сарафане и, с опаской поглядывая на чулок, обвила ножку стула. — Кафка — это превосходно! — сказал квадратный, косясь на блюдо с бужениной. — Да, он близок формалистам, — молвил бородатый гость в сильно мятых брезентовых штанах, — но мне лично гораздо ближе экзисиз… э… эксисенц… о черт, натощак не выговоришь!.. экзюстанц… Словом, вы сами понимаете, о чем я. — Экзюсти — летчик и выпить не дурак! — самодовольно выпалил квадратный. — Это я и без завтрака вам скажу. — Экзюпери! — предложил квадратному позавтракать сарафан. — А я о чем?! — вспыхнул сплюснутыми ушами квадратный. — «Принц и нищий» — моя настольная книга! — и обидчиво пфыкнул. — Экзистенциализм… вот! — прорвало, как нарыв, брезентового. Он приосанился и горделиво посмотрел на Герасима Федотовича. Тот натянуто улыбнулся. Имена иностранных летчиков наводили на него тоску, и он проникся боязливым уважением к собеседникам, из которых никто не был ему знаком. — А знаете, как я читаю Киплинга? — спертым голосом оповестил сарафан. — Киплинг — это вещь! — солидно вставил квадратный.
— Я включаю красный свет… — продолжал сарафан, делая шкиперскую затяжку сигаретой, — …и ставлю пластинку Баха…
— Себастьяныч — тоже вещь! — вскрикнул человек без шеи. — Я вчера был на концерте и чуть не заплакал. Верите ли, ну просто душило!..
Квадратный схватился за грудь, изобразив, как именно его душило.
Герасим Федотович не выдержал и закашлялся.
— Вы не согласны? — с укором сказала женщина в пледе. Брезентовый заложил в зубы трубку и уставился на Герасима Федотовича в упор.
— Да нет, я ничего… — стушевался Герасим Федотович.
— Нет уж, позвольте! — заобижался плед. — Бах — это вещь или не вещь?
— Вещь, — согласился на всякий случай Герасим Федотович.
Плед успокоился.
— Ну, а кто ваш любимый писатель? — не унимался брезентовый.
Герасиму стало не по себе. Из книг ему помнились лишь «Проказы горничной» — сочинение графа Герштинга. Сочинение зачитали в духовной семинарии до дыр, отчего граф на портрете выглядел одноглазым.
— Ну кто именно? Скажите! — настаивал нещадно дымивший сарафан.
— М-м… Герштинг, — промямлил Герасим Федотович, не зная, прилично ли в этом сознаваться.
Гости притихли. Брезентовый покраснел, а сарафан совершенно исчез в дыму.
— Гершвип — это вещь! — спас положение квадратный.
— Конечно, его сочная патология чем-то роднит его с ранним Набоковым, — подхватил вожжи сарафан. — Он знает женщину.
— О, этот праздник тоже всегда со мной, — загорелся Гершвином плед. — Молодой, ранний… и такое понимание вопроса!..
«Вот те раз! „Молодой“? — озадачился Герасим Федотович, вспоминая бывалую морду графа с обвислыми моржевыми щеками. — Ему теперь за сто. Определенно!..»
Провинциальный, закоснелый Герасим не знал, что пижон хочет быть красивым…
Когда Карина вернулась из кухни, разговор перекинулся на художников-символистов. Гости горячились и время от времени донимали хозяйку: ну где? Где же он?
— С минуты на минуту, — успокаивала Карина.
— Я прямо уж и не надеюсь! — восклицал на это плед, колыхая большой и взволнованной грудью.
Около девяти смотреть на готовый стол было уже невмоготу.
«Какой там к черту Экзюпери, когда одних салатов пять штук на выбор!» — мучился человек-контейнер. Накурившийся до тошноты сарафан не спускал глаз с живительной «Тетры».
Разговор совсем было сошел на нет, когда в передней заверещал звонок.
— Он! Он! Наверняка он! — закричал голодный контейнер.
Сарафан поправил прическу. Брезентовый выронил трубку и загадил пеплом брюки. Полыхая телесным жаром, темпераментный плед побежал за Кариной в переднюю.
Через минуту в комнату был введен молодой человек с осетинской талией и уверенными снайперскими глазами.
— Знакомьтесь, Станислав Бурчалкин, — представила Карина.
Гости окружили молодого человека и поочередно стали называть себя.
— Инга Драгунская, — томно представился сарафан.
Человек-контейнер долго и уважительно баюкал протянутую ему руку и четырежды повторил:
— Лесипедов. Не слыхали? Нижний акробат Лесипедов… На мне раньше целая труппа держалась. И в результате повышенное давление, гипертония. Так что мы теперь с верхним партнером на эстраде конферируем. Ему тоже, знаете, не повезло: с перша упал… и на эстраду.
Последним протиснулся брезентовый и назвал себя драматургом Иваном Золотарем. На удивление Герасима Федотовича, именитый гость подошел к нему сам и улыбнулся, как бы готовя для него нечто сюрпризное и праздничное.
— Не узнаете? — спросил он. — Хотя мы виделись в довольно бурной обстановке. Но мы еще с вами поговорим…
Звонкое, как гривенник, «к столу!» помешало дальнейшим объяснениям. Гости задвигали стульями. Герасим Федотович сделал попытку подсесть к Карине; но был вежливо оттеснен на другой конец стола. Взявши на себя роль тамады, конферансье-акробат ловко наполнил рюмки и проникновенно сказал:
— Первый тост — да не обидится хозяйка дома — за символизм! — квадратный сделал эстрадный реверанс в сторону Бурчалкина. — За символизм и его отважного носителя, нашего дорогого Станислава Бурчалкина.
Гости зааплодировали.
Герасим Федотович обозлился и засопел. Он был не против символизма, но ему не нравилось, что носитель этого течения присоседился к его любимой и оказывает ей повышенные знаки внимания.
К счастью, после второй рюмки разговоры о символизме как-то сразу отошли на задний план. Разомлевшая поклонница Хемингуэя сбросила плед и, пожирая Стасика глазами, рассказала банный анекдот. Суматошная Инга потребовала песен и танцев.
Гости переместились к пианино. Лесипедов повесил пиджак на стул и заиграл «Я встретил вас, и все былое». Компания подхватила мощно и разбродисто.
Герасим Федотович не пел с детства и оказался в неловком положении. Он затравленно молчал и через силу улыбался. Но улыбка получалась фальшивой, оскорбительной для поющих, и ему подавали сердитые знаки, приглашая немедленно присоединиться.
Сконфуженный Герасим Федотович вышел незаметно на кухню и вытер запотевший лоб вафельным полотенцем. Через минуту на кухню забежала Карина. В руках у нее был никелированный кофейник. Герасим Федотович ожил: медлить было нельзя.
— Карина, вы меня совсем забыли, — начал он, ухватившись за кофейник.
— Ну, ну! Будьте умником и ступайте в комнату.
— Карина! У ваших ног прошу руки, — быстро пробормотал Герасим Федотович, припадая на левое колено.
— Вы с ума сошли! У меня такие гости, а вы, как деревня, на колени! Встаньте, а то кто-нибудь увидит.
— Я человек серьезный, — заупрямился Герасим Федотович.
— Вот и хорошо. Давайте будем друзьями. Только поднимитесь, пожалуйста.
— Я не хочу быть другом. За что? За что вы меня так! Я на руках носить хочу…
— У вас есть спички? — перебила Карина.
Не вставая с колен, Герасим Федотович нащупал в пиджаке коробок.
Карина зажгла газ, налила кофейник водой и поставила на плиту. В коридоре раздался скрип половиц. Герасим Федотович вскочил и живо отряхнул колени.
В кухню заглянул Бурчалкин. Он неторопливо размял пальцами сигарету, прикурил от газовой плиты и только тогда спросил:
— Простите, я не помешал?
— Нет, нисколько, — вспыхнула Карина и, ошпарив Герасима Федотовича глазами, заторопилась в комнату.
— Ах, как вы некстати! — сказал в сердцах Герасим Федотович.
— Это вам так кажется, — уверил Стасик, пуская к потолку гибкое кольцо. — Поговорим-ка лучше как на духу.
— О чем нам разговаривать? — фыркнул Герасим Федотович.
— Ну, хотя бы о трясунах, о непорочном зачатии… Кстати, вам сыночек портрет прислал, — Стасик полез в карман и показал фотокарточку Потапки. — Шалуном растет, но отца помнит.
Герасим Федотович изобразил губами букву «о» и окаменел настолько, что его можно было раздеть, унести и поставить вместо статуи в районном парке.
— Спокойно, — сказал Стасик. — Я интеллигентный человек, а не грубиян Растопырин.
— А-а-а! — простонал Герасим, все еще не в силах опомниться от удара. — Кто?.. Кто вы?
— Я же сказал — интеллигент. И, кроме того, коллекционер старых малоценных картин.
Герасим Федотович слушал с напряжением и молчал.
— К тому же я не болтлив. Прошлое — это ваше личное дело. Вы любите Карину? Прекрасно! Подарите мне «Голубого козла», и я уйду, как третий лишний.
В ответ раздалось гневное шипение. Кофейная гуща хлынула через край и погасила конфорку. Стасик повернул ручку и замолчал.
Из комнаты в переднюю распахнулась дверь, и оттуда послышался бодрый голос конферансье-акробата: «Нет-нет, мне без сахара… Люблю, знаете, торт „Отелло“: ты его вечером ешь, а ночью он тебя душит… А-аха-ха!»
Герасим Федотович взялся за воротничок и расстегнул верхнюю пуговичку.
— Хорошо, — выдавил он из себя осевшим голосом. — Но мне надо кое-куда позвонить… Дайте мне хоть день сроку.
— Киплинг — это вещь! — солидно вставил квадратный.
— Я включаю красный свет… — продолжал сарафан, делая шкиперскую затяжку сигаретой, — …и ставлю пластинку Баха…
— Себастьяныч — тоже вещь! — вскрикнул человек без шеи. — Я вчера был на концерте и чуть не заплакал. Верите ли, ну просто душило!..
Квадратный схватился за грудь, изобразив, как именно его душило.
Герасим Федотович не выдержал и закашлялся.
— Вы не согласны? — с укором сказала женщина в пледе. Брезентовый заложил в зубы трубку и уставился на Герасима Федотовича в упор.
— Да нет, я ничего… — стушевался Герасим Федотович.
— Нет уж, позвольте! — заобижался плед. — Бах — это вещь или не вещь?
— Вещь, — согласился на всякий случай Герасим Федотович.
Плед успокоился.
— Ну, а кто ваш любимый писатель? — не унимался брезентовый.
Герасиму стало не по себе. Из книг ему помнились лишь «Проказы горничной» — сочинение графа Герштинга. Сочинение зачитали в духовной семинарии до дыр, отчего граф на портрете выглядел одноглазым.
— Ну кто именно? Скажите! — настаивал нещадно дымивший сарафан.
— М-м… Герштинг, — промямлил Герасим Федотович, не зная, прилично ли в этом сознаваться.
Гости притихли. Брезентовый покраснел, а сарафан совершенно исчез в дыму.
— Гершвип — это вещь! — спас положение квадратный.
— Конечно, его сочная патология чем-то роднит его с ранним Набоковым, — подхватил вожжи сарафан. — Он знает женщину.
— О, этот праздник тоже всегда со мной, — загорелся Гершвином плед. — Молодой, ранний… и такое понимание вопроса!..
«Вот те раз! „Молодой“? — озадачился Герасим Федотович, вспоминая бывалую морду графа с обвислыми моржевыми щеками. — Ему теперь за сто. Определенно!..»
Провинциальный, закоснелый Герасим не знал, что пижон хочет быть красивым…
Когда Карина вернулась из кухни, разговор перекинулся на художников-символистов. Гости горячились и время от времени донимали хозяйку: ну где? Где же он?
— С минуты на минуту, — успокаивала Карина.
— Я прямо уж и не надеюсь! — восклицал на это плед, колыхая большой и взволнованной грудью.
Около девяти смотреть на готовый стол было уже невмоготу.
«Какой там к черту Экзюпери, когда одних салатов пять штук на выбор!» — мучился человек-контейнер. Накурившийся до тошноты сарафан не спускал глаз с живительной «Тетры».
Разговор совсем было сошел на нет, когда в передней заверещал звонок.
— Он! Он! Наверняка он! — закричал голодный контейнер.
Сарафан поправил прическу. Брезентовый выронил трубку и загадил пеплом брюки. Полыхая телесным жаром, темпераментный плед побежал за Кариной в переднюю.
Через минуту в комнату был введен молодой человек с осетинской талией и уверенными снайперскими глазами.
— Знакомьтесь, Станислав Бурчалкин, — представила Карина.
Гости окружили молодого человека и поочередно стали называть себя.
— Инга Драгунская, — томно представился сарафан.
Человек-контейнер долго и уважительно баюкал протянутую ему руку и четырежды повторил:
— Лесипедов. Не слыхали? Нижний акробат Лесипедов… На мне раньше целая труппа держалась. И в результате повышенное давление, гипертония. Так что мы теперь с верхним партнером на эстраде конферируем. Ему тоже, знаете, не повезло: с перша упал… и на эстраду.
Последним протиснулся брезентовый и назвал себя драматургом Иваном Золотарем. На удивление Герасима Федотовича, именитый гость подошел к нему сам и улыбнулся, как бы готовя для него нечто сюрпризное и праздничное.
— Не узнаете? — спросил он. — Хотя мы виделись в довольно бурной обстановке. Но мы еще с вами поговорим…
Звонкое, как гривенник, «к столу!» помешало дальнейшим объяснениям. Гости задвигали стульями. Герасим Федотович сделал попытку подсесть к Карине; но был вежливо оттеснен на другой конец стола. Взявши на себя роль тамады, конферансье-акробат ловко наполнил рюмки и проникновенно сказал:
— Первый тост — да не обидится хозяйка дома — за символизм! — квадратный сделал эстрадный реверанс в сторону Бурчалкина. — За символизм и его отважного носителя, нашего дорогого Станислава Бурчалкина.
Гости зааплодировали.
Герасим Федотович обозлился и засопел. Он был не против символизма, но ему не нравилось, что носитель этого течения присоседился к его любимой и оказывает ей повышенные знаки внимания.
К счастью, после второй рюмки разговоры о символизме как-то сразу отошли на задний план. Разомлевшая поклонница Хемингуэя сбросила плед и, пожирая Стасика глазами, рассказала банный анекдот. Суматошная Инга потребовала песен и танцев.
Гости переместились к пианино. Лесипедов повесил пиджак на стул и заиграл «Я встретил вас, и все былое». Компания подхватила мощно и разбродисто.
Герасим Федотович не пел с детства и оказался в неловком положении. Он затравленно молчал и через силу улыбался. Но улыбка получалась фальшивой, оскорбительной для поющих, и ему подавали сердитые знаки, приглашая немедленно присоединиться.
Сконфуженный Герасим Федотович вышел незаметно на кухню и вытер запотевший лоб вафельным полотенцем. Через минуту на кухню забежала Карина. В руках у нее был никелированный кофейник. Герасим Федотович ожил: медлить было нельзя.
— Карина, вы меня совсем забыли, — начал он, ухватившись за кофейник.
— Ну, ну! Будьте умником и ступайте в комнату.
— Карина! У ваших ног прошу руки, — быстро пробормотал Герасим Федотович, припадая на левое колено.
— Вы с ума сошли! У меня такие гости, а вы, как деревня, на колени! Встаньте, а то кто-нибудь увидит.
— Я человек серьезный, — заупрямился Герасим Федотович.
— Вот и хорошо. Давайте будем друзьями. Только поднимитесь, пожалуйста.
— Я не хочу быть другом. За что? За что вы меня так! Я на руках носить хочу…
— У вас есть спички? — перебила Карина.
Не вставая с колен, Герасим Федотович нащупал в пиджаке коробок.
Карина зажгла газ, налила кофейник водой и поставила на плиту. В коридоре раздался скрип половиц. Герасим Федотович вскочил и живо отряхнул колени.
В кухню заглянул Бурчалкин. Он неторопливо размял пальцами сигарету, прикурил от газовой плиты и только тогда спросил:
— Простите, я не помешал?
— Нет, нисколько, — вспыхнула Карина и, ошпарив Герасима Федотовича глазами, заторопилась в комнату.
— Ах, как вы некстати! — сказал в сердцах Герасим Федотович.
— Это вам так кажется, — уверил Стасик, пуская к потолку гибкое кольцо. — Поговорим-ка лучше как на духу.
— О чем нам разговаривать? — фыркнул Герасим Федотович.
— Ну, хотя бы о трясунах, о непорочном зачатии… Кстати, вам сыночек портрет прислал, — Стасик полез в карман и показал фотокарточку Потапки. — Шалуном растет, но отца помнит.
Герасим Федотович изобразил губами букву «о» и окаменел настолько, что его можно было раздеть, унести и поставить вместо статуи в районном парке.
— Спокойно, — сказал Стасик. — Я интеллигентный человек, а не грубиян Растопырин.
— А-а-а! — простонал Герасим, все еще не в силах опомниться от удара. — Кто?.. Кто вы?
— Я же сказал — интеллигент. И, кроме того, коллекционер старых малоценных картин.
Герасим Федотович слушал с напряжением и молчал.
— К тому же я не болтлив. Прошлое — это ваше личное дело. Вы любите Карину? Прекрасно! Подарите мне «Голубого козла», и я уйду, как третий лишний.
В ответ раздалось гневное шипение. Кофейная гуща хлынула через край и погасила конфорку. Стасик повернул ручку и замолчал.
Из комнаты в переднюю распахнулась дверь, и оттуда послышался бодрый голос конферансье-акробата: «Нет-нет, мне без сахара… Люблю, знаете, торт „Отелло“: ты его вечером ешь, а ночью он тебя душит… А-аха-ха!»
Герасим Федотович взялся за воротничок и расстегнул верхнюю пуговичку.
— Хорошо, — выдавил он из себя осевшим голосом. — Но мне надо кое-куда позвонить… Дайте мне хоть день сроку.
Глава XVIII На красный свет
Герасим Федотович попросил отсрочку не без причины. Когда «сожженный» «Голубой козел» всплыл негаданно в Приморском парке да еще оказался в руках Лаптева и Клавдина, обозленный Сипун закатил Сапфирову целый скандал. Тот в свою очередь дал трескучий нагоняй Белявскому, предложив консультанту по реквизиту сдать документы и освободить в двадцать четыре минуты номер полулюкс. Денег на обратную дорогу Гурию Михайловичу не дали. — Получите, когда вернете «Козла», — с ядом в голосе пообещал режиссер. — Вы ведь лицо не только подлое, но и подотчетное… Ясно? Гурий Михайлович молча собрал чемоданчик, кинулся на морвокзал и мигом разыскал там своих новых знакомых Карину и Герасима Федотовича. До отхода теплохода оставались считанные минуты. И если раньше Белявский только туманно сулил Герасиму прописку в культурном центре, то теперь к этому обещанию прибавилось обязательство: «Устрою в кооператив при Доме композиторов». После этого Гурий Михайлович нежно, без нажима вынул из Герасима Федотовича сто рублей — «до пятницы» — и составил ему компанию на «Адмирале Ушакове». По дороге в Сочи была сильная боковая волна, и Гурия Михайловича до того укачало, что он с мутных глаз предложил сделать Герасима Федотовича по блату почетным железнодорожником. Герасим Федотович насторожился и даже пожалел, что дал Белявскому взаймы. Но Карина сказала: «Не волнуйся, он все может». Все так все. И когда, сославшись на «день ангела», Гурий Михайлович попросил, как он сказал «в подарунок», «Голубого козла», Герасим Федотович тоже не отказал. Когда же под нажимом Стасика дядя Гера позвонил и срочно потребовал у Гурия свою картину обратно, он согласился отдать ее с такой же легкостью, с какой прежде ее выпросил. — Вы уж, пожалуйста, не забудьте, — поднажал Герасим Федотович. — Это так для меня необходимо. — О чем речь! Жду вас ровно в десять, и ни минутой позже… Так сказал сам Белявский. Назавтра в 9.00 сам Белявский сел в «Москвич»… и со спокойной совестью укатил в город пробивать договор с издательством «Сила». С этой целью он торопился с утра пораньше на москательную базу «Восход». Как и всегда, рабочий день начался для него с вранья. Стеснительному директору «Восхода» была обещана статья, воспевающая его административный талант. Директор зарделся. Гурий Михайлович поддержал робкого москательщика за локотки, заглянул в глаза и сказал: «Нет уж, позвольте… И обязательно с фото», — после чего быстро-быстро загрузил багажник дефицитным паркетным лаком «Зебра».
С базы его путь лежал в Лужники. Возле касс стадиона бушевали поклонники бразильской системы. Им хотелось увидеть живого Пеле. Но для этого надо было пробиться сквозь железные ворота и кордон цепких контролеров. Гурий Михайлович презирал футбол. Но не будучи знаком с системой бразильской, он прекрасно усвоил свою собственную. Порывшись под сиденьем; он выставил на ветровое стекло замызганную картонку «Проезд всюду», набрал скорость и распечатал ворота проворней всякого Пеле. В кассы Гурий Михайлович проник с глубокого тыла. Отыскав потайную дверцу, он просунул туда дюжину банок с лаком, получил столько же сиреневых билетов и, распихивая радиатором поклонников Пеле, помчался в ГАИ. — Здоровеньки булы! — закричал он, заходя в комнату, увешанную семафорными плакатами и фотографиями автомашин всмятку. — Категорически приветствую вас, товарищ Кандыба! — А, явился, «писатель», — неуважительно откликнулся капитан Кандыба. — Ну где же статья «Кандыба зорок»? Где книга «На красный свет»? — Ай, ай! — покачал головой Гурий Михайлович. — Совсем издергали человека аварии. Ну разве так можно? И железные нервы отдыха требуют… Сходили бы вечерком на футбол, посмотрели бразильцев, а? — Бразильцев? — сказал Кандыба, собирая воедино всю накопленную на дорогах иронию. — Неужто и это можешь? Трепач ты, Гурий Михайлович! И кто тебя только за язык тянет? Гурий Михайлович тяжело задышал носом и отступил на шаг, чтобы лучше было видно, как он обижен. Закончив сцену, он молча положил на стол два сиреневых билета и потащился к выходу. При этом он еще нервно дергал плечами, как бы силясь встряхнуть незаслуженно взваленные на него упреки. — Погоди, Гурий Михайлович, — засмущался Кандыба. — Деньги-то за билеты получи. — Отношения дороже денег! — сдавленно и в то же время возвышенно сказал Белявский. — Я к вам всей душой, а вы?.. Кандыбе сделалось стыдно. — А я что? Без души, что ли? Белявский проворно вернулся и лег животом на капитанский стол. — Знаете, что говорит моя жена? — сказал он, лучась печалью. — Ты умрешь, говорит, Гурий, в чужой приемной по чужому делу. — Ну вот… «умру». Скажешь же такое!.. — И скажу. Прямо. По-мужски. Верните, товарищ Кандыба, права автолюбителям Лесипедову и Эльдовичу. Кандыба опешил. — Я пишу о них в книге «На красный свет», — поспешно добавил Белявский. — И потом они оба рабкоры, друзья газеты. — Да, но реакция Рапопорта показа… — Это все в прошлом, — нежно перебил Белявский. — Они оба на антабусе. Крепко лечатся наши газетные друзья. К слову, вам не нужна путевка в Кисловодск?.. Через сорок минут Гурий Михайлович прибыл на бумажный склад. — В ножки кланяйтесь Белявскому! — закричал он, размахивая автоправами. — Без меня, Эльдович, вы имели бы только право на труд да на отдых! С этими словами он запрятал права в карман и отдал их не раньше, чем издательству «Сила» отгрузили три тонны бумаги. Теперь можно было заключать договор. Изголодавшаяся по бумаге «Сила» устоять не могла. С трудом нацарапав свою фамилию и получив аванс, Гурий Михайлович Белявский, именуемый впредь автором, поехал на улицу Карпеля. Во дворе семиэтажного дома он нырнул в темный, пропахший сыром «Рокфор» подвал, пошарил по карманам, но спичек не нашел и ощупью, пачкаясь о стены, стал пробираться вглубь. Наконец он нащупал в темноте ручку, потянул дверь на себя и оказался в сыром подземелье. Комната была мрачная, узкая, с холодными панцирными стенами и террариумными окнами, выходившими во двор. Сдавалось, здесь держат не мастерскую художника, а питона. Посреди комнаты нагишом по пояс сидел рыжий всклокоченный художник Тарабукин. Его тело, казалось, было опутано медной проволокой, а из-под мышек били огненные вулканчики. Художник макал булку в банку со шпротами и бормотал что-то про себя. В своем подвале он одичал окончательно.
 — Честь праце! — сказал Белявский развязно.
— Чего, чего?! — сказал Тарабукин, смахивая с бороды шпротные хвосты.
— Куй железо, не отходя от кассы, — вольно перевел Белявский. — Ну, как заказец?
— Вон в углу, — кивнул Тарабукин. — А подлинник возле батарей.
Белявский перенес оба холста поближе к окошку, поставил рядом и, полюбовавшись, сказал:
— Вот это вещь! Ни в жизнь не отличишь… Да, Федя, твой талант заслуживает. Будет тебе мастерская, клянусь! Не хуже чем у Сипуна, поверь мне.
— Смотри, Гурий, — пригрозил Тарабукин. — У меня терпение на исходе. Больше ждать не буду.
— И не надо! — поддержал Белявский. — Я с утра звонил Антону Пахомовичу. Все в поряде — он уже подписал.
Федя смягчился, надел рубашку и, проводив гостя до машины, помог ему погрузить картины. Белявский поехал в комиссионный магазин, а оттуда уже на свою внештатную службу в газету «Художественные промыслы».
Едва он показался в коридоре редакции, как на него посыпались просьбы и пожелания. Гурий внимал и обещал прямо на ходу. Он спешил в комнату № 8, где закомплексованный Кытин писал ему книгу «На красный свет». За это Кытину была обещана квартира в историческом центре города с видом на тихий сквер.
— Ну как? Закончил? — поинтересовался Белявский.
— Вчера ночью, — сказал Кытин. Он с усилием распрямил затекшую спину и поднял на Гурия Михайловича бледное измученное лицо.
— Молодцом! — повалил Белявский и поставил на стол банку с лаком. — Вот, держи к новоселью.
Кытин, однако, на банку не взглянул, а рукопись прижал локтями.
— Не дам, — сказал он патефонным голосом.
— Но, но, Витюня! Что за шутки?
— Это не шутки! Полгода вы меня кормите «завтрами». Я позеленел от вашего «Красного света». А что толку? Все, что пока у меня есть, это Омар Хайям и комплекс…
— Но, Витюня, имей же терпение! Пойми, чудак, я могу тебе сделать хоть завтра. Но только в панельном доме…
— Ничего, я согласен в панельном.
— Да там же потолки! — Гурий Михайлович положил себе ладонь на голову и пригнулся. — Повеситься по-человечески нельзя.
— Вот и прекрасно! Я жить хочу, — заупрямился Кытин.
— Ну смотри! Ловлю на слове.
Гурий Михайлович потеснил Кытина от телефона и, сделавшись озабоченным, набрал пять цифр наугад.
— Катюша, — сказал он интимно. — Это Гурий Михайлович. Что, Антон Пахомыч закончил совещание?.. Тогда соедини…
Кытин заелозил локтями по столу и приподнялся. Антон Пахомыч был таким большим человеком, что одно присутствие при телефонном разговоре уже носило как бы официальный характер.
— Антоша? Это Гурий, — пророкотал в трубку Белявский. — Ну что, старый бюрократ, все песочишь министров?..
Кытин поперхнулся нервным кашлем.
— …Как мама, спрашиваешь? Спасибо… А твоя? Ну и прекрасно… Слушай, помнишь, была договоренность насчет Кытина? Так он согласен в панельном… Да, да, только окна на юг…
Кытин зажал рот рукою, а другой отчаянно замахал, как бы говоря: «Пусть хоть на север!» Но Гурий Михайлович не унимался:
— Но паркет, Антоша, непременно!.. Лифт и телефон?.. Само собой!! Ну, будь… Вечером навещу.
Гурий Михайлович положил трубку и смерил онемевшего Кытина с ног до головы.
По лицу литературного издольщика плавала конфузливая улыбка. Он был счастлив и морально убит.
— Честь праце! — сказал Белявский развязно.
— Чего, чего?! — сказал Тарабукин, смахивая с бороды шпротные хвосты.
— Куй железо, не отходя от кассы, — вольно перевел Белявский. — Ну, как заказец?
— Вон в углу, — кивнул Тарабукин. — А подлинник возле батарей.
Белявский перенес оба холста поближе к окошку, поставил рядом и, полюбовавшись, сказал:
— Вот это вещь! Ни в жизнь не отличишь… Да, Федя, твой талант заслуживает. Будет тебе мастерская, клянусь! Не хуже чем у Сипуна, поверь мне.
— Смотри, Гурий, — пригрозил Тарабукин. — У меня терпение на исходе. Больше ждать не буду.
— И не надо! — поддержал Белявский. — Я с утра звонил Антону Пахомовичу. Все в поряде — он уже подписал.
Федя смягчился, надел рубашку и, проводив гостя до машины, помог ему погрузить картины. Белявский поехал в комиссионный магазин, а оттуда уже на свою внештатную службу в газету «Художественные промыслы».
Едва он показался в коридоре редакции, как на него посыпались просьбы и пожелания. Гурий внимал и обещал прямо на ходу. Он спешил в комнату № 8, где закомплексованный Кытин писал ему книгу «На красный свет». За это Кытину была обещана квартира в историческом центре города с видом на тихий сквер.
— Ну как? Закончил? — поинтересовался Белявский.
— Вчера ночью, — сказал Кытин. Он с усилием распрямил затекшую спину и поднял на Гурия Михайловича бледное измученное лицо.
— Молодцом! — повалил Белявский и поставил на стол банку с лаком. — Вот, держи к новоселью.
Кытин, однако, на банку не взглянул, а рукопись прижал локтями.
— Не дам, — сказал он патефонным голосом.
— Но, но, Витюня! Что за шутки?
— Это не шутки! Полгода вы меня кормите «завтрами». Я позеленел от вашего «Красного света». А что толку? Все, что пока у меня есть, это Омар Хайям и комплекс…
— Но, Витюня, имей же терпение! Пойми, чудак, я могу тебе сделать хоть завтра. Но только в панельном доме…
— Ничего, я согласен в панельном.
— Да там же потолки! — Гурий Михайлович положил себе ладонь на голову и пригнулся. — Повеситься по-человечески нельзя.
— Вот и прекрасно! Я жить хочу, — заупрямился Кытин.
— Ну смотри! Ловлю на слове.
Гурий Михайлович потеснил Кытина от телефона и, сделавшись озабоченным, набрал пять цифр наугад.
— Катюша, — сказал он интимно. — Это Гурий Михайлович. Что, Антон Пахомыч закончил совещание?.. Тогда соедини…
Кытин заелозил локтями по столу и приподнялся. Антон Пахомыч был таким большим человеком, что одно присутствие при телефонном разговоре уже носило как бы официальный характер.
— Антоша? Это Гурий, — пророкотал в трубку Белявский. — Ну что, старый бюрократ, все песочишь министров?..
Кытин поперхнулся нервным кашлем.
— …Как мама, спрашиваешь? Спасибо… А твоя? Ну и прекрасно… Слушай, помнишь, была договоренность насчет Кытина? Так он согласен в панельном… Да, да, только окна на юг…
Кытин зажал рот рукою, а другой отчаянно замахал, как бы говоря: «Пусть хоть на север!» Но Гурий Михайлович не унимался:
— Но паркет, Антоша, непременно!.. Лифт и телефон?.. Само собой!! Ну, будь… Вечером навещу.
Гурий Михайлович положил трубку и смерил онемевшего Кытина с ног до головы.
По лицу литературного издольщика плавала конфузливая улыбка. Он был счастлив и морально убит.
* * *
По дороге домой автор сорока семи непринятых рассказов задиристо подмигивал прохожим и вальсировал в самых неподходящих местах. В голове Кытина плавал розовый туман. А Гурий Михаилович тем временем мчался на своем «Москвиче» за грузовиком и, обгоняя его, кричал из окошка шоферу: — Сева, потише! Эти дрова могут в порошок стереться… Это он вез драматургу Золотарю мебель стиля «павловский ампир». Настроение у Белявского было еще лучше, чем у Кытина: «ампир» был отказан Гурию Михайловичу задарма (ради христа, только машина и грузчики — ваши) благородной и бескорыстной вдовой Стейльмах, отъезжавшей к родне в Острогорск. Когда грузовик подкатил к дому Золотаря, во двор выбежал сам Иван Сысоевич и его жена Анюта в байковом халате типа «бывший мулла» и тапочках на босу ногу. — Батюшки мои! За что же такое наказание?! — закричала она. — У мамы мебель и то лучше… Ты посмотри, Иван! Иван Сысоевич влез одной ногой на колесо и посуровел лицом. Мебель была настолько древней, что древесные жучки считали ее, наверно, исконной родиной и за ее пределы не выбирались.
— Как это прикажете все понимать? — зло осведомился Иван Сысоевич, не слезая с колеса. — Я о чем собственно, Иван Сысоич, думал, — заспешил Белявский, — чтобы, значит, и мебель, и собака, и прочее были у вас исключительно благородных кровей. А как же! Я и деньги уже в управление погранвойск внес… — Да вы что, мебель-то из-под обстрела вывезли, что ли? — встряла в разговор непонятливая Анюта. — Вон она вся в дырках! — Это ничего… это бывает, — засуетился Белявский. — Где лачком пройдемся, где морилкой… А как вы думали? Это же чистой воды ампир! Редкость!.. Иван Сысоевич колебался и смотрел на вдовий «ампир» подозрительно. «А, была не была! — решился Гурий Михайлович! — Не то деньги еще потребует обратно». — Я еще о чем думал, — сказал он, — чтобы мебель по своей редкости соответствовала картине. Чтобы была, значит, полная гармония… — Какой картине? — вскинул голову Золотарь. — Не понимаю. — Здрасьте! Если уж вы мне поручили взять на себя благоустройство — будьте спокойны! Руководить — это значит предвидеть… С этими словами Белявский извлек из «Москвича» «Голубого козла» и представил Золотарю: — Вот, извольте взглянуть. А как же! Для кого я старался? Сколько шуму-грому из-за нее сейчас… Эта та самая картина… прямо из Янтарных Песочков. Ивана Сысоевича бросило в озноб. Козел смотрел на него ну совсем по-человечески, будто был близким, но потерянным волей случая другом. — Тот самый?! Из Песков? — переспросил он, сглотнув слюну. — Это замечательно! Заносите мебель в квартиру. — Он самый. Чистых кровей! — подлил масла в огонь Белявский, подавая знак грузчикам. — Пока я этого «Козлика» вез, у меня его чуть с руками не оторвали… Только тут он вспомнил, что обещал вернуть сегодня картину, но подумал об этом вскользь и безрезультатно.
Куда крепче помнил уговор Герасим Федотович. Без четверти десять он прибыл к Белявскому на Калужскую и до двенадцати безуспешно утоплял кнопку звонка. Герасим Федотович ждал до вечера, обтесал башмаками всю лестницу, но явился к Бурчалкину в гостиницу ни с чем. — Как, вы с пустыми руками? — встретил его Стасик. — Ну, знаете ли, Герасим, я вам не Муму! Где картина? Герасим пояснил. Соперники сели в такси и вместе поехали на Калужскую. Гурий Михаилович все еще не появлялся. У дверей царапал дерматин и громыхал кулаком беспардонно обманутый Кытин: на страницах вечерней газеты он дважды — с одного раза не поверилось — собственными глазами прочел, что всесильный Антон Пахомович еще позавчера прибыл во главе делегации строителей на Кубу. Трудящиеся Гаваны тепло встретили Антона Пахомовича.
Глава XIX Не по Гегелю
Гурий Михайлович дома не ночевал и безуспешные розыски привели Стасика в редакцию «Художественных промыслов». Бегать по отделам ему не пришлось. На лестничной клетке между вторым и третьим этажами нервно прохаживался литиз-дольщик Кытин. В его глазах мерцала грубая решимость. Пиджак Кытина оттопыривался, будто он держал за пазухой котенка. Но судя по обстановке, там было нечто более твердое и неодушевленное. «Пресс-папье, — подумал Стасик. — А Гурий Михайлович, видать, не появлялся». — Не приходил? — спросил он на всякий случай. Кытин заложил руки за спину и покачал головой. — Придется снова на Калужскую, — сказал Стасик. — Бесполезно, он отключил звонок и не открывает, — буркнул Кытин. — Ждите лучше тут. Сегодня выплатной день. Стасик облокотился на перила и закурил. Мимо проносились воодушевленные получкой сотрудники. Вскидывая ноги в неизвестном танце, проскакал гогочущий фотокор по отделу спорта Пионов. Деньги он держал в кулаке и, пробегая, показал их зачем-то Стасику. Следом показалась мрачная деловая группа: плотный конвой кредиторов вел в бухгалтерию невозвратчика денег, а по-местному «нумизмата», Мадамского. У Мадамского скреблись на душе кошки. Он тяжело отшучивался и старался выглядеть молодцом. Перед самым обедом, отряхивая на ходу синие галифе с выпоротым кантом, в кассу проследовал завхоз Сысоев. Зарплату он каждый раз получал последним, стараясь тем подчеркнуть, что служит бескорыстно. В третьем часу на лестничной клетке показался Роман Бурчалкин. — Наконец-то! — закричал Стасик, прыгая через ступеньку навстречу. — Вот кто мне найдет Белявского. Здравствуй, Роман! — С приездом, — сказал Роман. — Ну, как успехи? Нашел свою картину, или вопрос стоит опять в той же плоскости: «Брат я тебе или не брат?» — Помоги мне найти Белявского, и больше мне ничего от тебя не нужно. Понимаешь, картина была у меня почти в руках… — Еще бы не понимать! Мне приходится сейчас за тебя отдуваться. — Да ты что! С каких дел? — Это тебя лучше спросить, — сказал Роман. — Тоже мне «гладиатор» выискался! — Да какой, к черту, гладиатор! У меня и так забот хватает. Стасик увел Романа на другой конец площадки, откуда до Кытина доносились одни обрывки фраз: …«Козел»… «ласточка»… «стоит в подстаканнике он, все видя — как будто с вершины». Разговор длился довольно долго. — А ты не врешь? — сказал под конец Роман. — Извини, я спешу на задание. Не проводишь? — С радостью, но боюсь упустить Белявского, — сказал Стасик. — Тогда приходи вечером. Держи, на всякий случай, ключи. Роман вышел на улицу, отыскал редакционную машину и поехал в мастерскую к Агапу Павловичу Сипуну. Мастерская ваятеля располагалась в мрачноватом старинном доме, ворота которого некогда охраняли два беспробудно спящих льва. Одного из них раскололи хмельные грузчики, когда заносили в дом концертный рояль, и на освободившемся месте Агап Павлович установил исполинского пионера с трубой, отвергнутого после долгой борьбы всеми закупочными организациями. Пощаженный грузчиками одинокий лев выглядел, по сравнению с горнистом, кошкой. И теперь прохожим казалось, что лев вовсе не спит, а стыдливо прячет голову в лапах. Ворота Роману открыл перепачканный глиной подсобник. Глянув на удостоверение, он провел корреспондента в рабочие покои. В центре зала на помостках высилась незаконченная мужская голова, по размерам годная разве что для оперы «Руслан и Людмила». Украшали ее вспаханные крупным ломтем брови и воинственный римский нос. Подбородок торчал трамплином и свидетельствовал о нечеловеческой воле. Перед изваянием, сложив руки на животе, стоял сам Агап Павлович в пижамных брюках и кожаных тапочках. — Здравствуйте, — сказал Роман, приблизившись к ваятелю. — Кирилл Иванович договорился с вами на… — Ах, да… М-да, м-да… Кажется припоминаю, — Агап Павлович сложил пальцы рюмочкой и с усилием приставил к темени. — М-да, припоминаю. Пройдемте, голубчик, в кабинет. Там нам будет удобнее. Сипун указал на боковую дверь, но повел гостя не прямо, а вдоль стены, где висели фото: Агап Павлович в объятьях пионеров, Агап Павлович прикуривает у народного артиста, одобряет озимые (улыбка), порицает водопад Игуасу (насупленность), встречает, наставляет, ловит хариуса. В центре фотообозрения, в рамочке под стеклом, помещалось пожухлое свидетельство рабфака. Возле него Агап Павлович остановился, подышал на стекло, протер платочком и сказал: — Мы диалектику учили не по Гегелю… М-да, не по Гегелю, — повторил он уже в кабинете. — Ну, так в чем у газеты нужда? — Кирилл Иванович просил взять у вас интервью относительно «гладиаторщины» и символистического искусства. — В таких случаях надо добавлять «так называемого» или говорить: «Искусства в кавычках», — поправил ваятель. Он усадил Романа в свое рабочее кресло, а сам расположился напротив, рядом с мраморным бюстом министра художественных промыслов. — Записывайте, — сказал он, роясь пальцем в волосах и тем самым сосредоточиваясь. — Растет ли на болоте злак? Нет, никогда! А что же растет? Дурман! Но вспаханное трезубцем Потанина болото… Тут он вынырнул лицом из пригоршни и приподнялся, изображая ладонью работу плуга. — Да вы, я вижу, совсем не записываете? — не столько обиделся, сколько удивился он. — Видите ли, если помните, я еще в Арбузове сказал, что трезубец, как символ трех морей, мне нравится. — А разве это имеет значение? — нахмурился Сипун. — Мне, например, нравится бой быков. Ну и что? Не культивировать же его в Хохломе! У нашего быка совсем иные задачи!.. Агап Павлович досадливо крякнул и уже криком добавил: — Вы пишите! Пишите, что вам говорят… Потанин выражает свои личные, никому не нужные да еще навеянные греками ощущения. Его «Трезубец» погряз в болоте. — Но почему именно в болоте? Вы уж объясните, а то читателю будет непонятно. Сипун опешил: он давно уже привык к тому, что его слова принимают на веру, давно никому ничего не объяснял и даже забыл, как это делается. — А где же ему еще быть, как не в болоте?! Только там дурман и гнездится! А народ, как известно, болот не любит и обходит их стороной. Труженик не возьмет трезубец на вооружение. Он его не примет. — Но почему не примет? — Это уже становится занятным! Да потому что потому!.. Труженик любит только родниковое, солнечное, монументальное. Моего «Ивана Федорова» видели? Ну, так вот — это он и любит. А потанинские «трезубцы» разбалтывают людей, и в результате — «козлизм», в итоге — «гладиаторщина». Разве мало нам Янтарных Песков? Это же была открытая вылазка! — Да шутовство это, Агап Павлович, а не вылазка, — сказал Роман. — Стоит ли стрелять из пушек по одуванчикам? Они и так облетят. — Шутовство? — переспросил, как бы не веря ушам, Сипун. — Одуванчики?.. Может, вы потрудитесь мне объяснить, что такое одуванчики? — Одуванчики — лучший корм для черепах, — сказал Роман сердито. — Только они на них и набрасываются. Щеки Агапа Павловича опустились, а подбородок выставился трамплином, точь-в-точь как у «чудо-головы». — Та-а-ак… Выходит, вы не образумились? Поздравляю вас. И редакцию поздравляю. Плохой из вас, молодой человек, ботаник! Не имею времени больше вас задерживать. Ступайте. Жизнь покажет… — Извините за напрасное беспокойство, — сдержанно сказал Роман. Он поднялся и вышел. В творческом депо ваятеля царил полумрак. На макушке чудо-головы, словно жуки на яблоке, копошились подсобники. Ничего солнечного и родникового в этой картине Роман не углядел. Дома его ждал притомившийся брат. — Наконец-то мы явились! — сказал он, глянув на часы. — Едем в одно место, я покажу тебе то, за чем я гонялся. Не отказывайся. Мне, может, понадобится твоя помощь. — Как бы мне самому скоро помощь не потребовалась. Роман рассказал о задании Кирилла Ивановича и разговоре с Сипуном. — Словом, коса на камень, — заключил он свой рассказ. — И камень, кажется, здоровый. — Ерунда! — сказал Стасик. — Все еще поправимо. Только не упрямься, веди себя как все люди. Болото — так болото, дурман — так дурман. Сказали «надо», отвечай «есть»! — и правую руку под козырек. — Значит, делать дело одной левой? — Это все теории, — сказал Стасик. — А на практике двумя руками только бочки перекатывают. Недостатки лучше использовать, чем их критиковать. Кстати, практика подсказывает, что новоселы угощают гостей не только «Голубыми козлами», но и живыми натюрмортами. Пойдем, братище! Уж что-что, а неприятности лучше откладывать на завтра.Глава XX Дурнушка с родинкой
— Анюта! Ты приготовила мне брюки? Ответа не последовало. Золотарь в лиловых кальсонах прошелся петухом по комнате и еще раз прокричал: — Анюта! Ты что, оглохла? На этот раз из прихожей донеслось шлепанье босых ног, и в дверях показалась женщина в застегнутом не на ту пуговицу халате. Волосы у нее были накручены, и оттуда торчали драные бумажные хвосты. Дожевав пирог, она вытерла рот ладошкой и тогда уже сказала: — Некогда было мне, я в баню ходила. — В баню! — застонал Золотарь, воздевая руки к рожковой люстре. — Нет, вы только послушайте… Жена драматурга!.. Автора всенародной пьесы!!! Ходит в баню!!! — Ну и что? — сказала Анюта, надкусивши еще кусок. Золотарь скрестил руки на груди и отвесил жене арабский поклон: «Спасибо!.. Большое тебе человеческое спасибо». — Не за что, — выдавила сквозь пирог Анюта. — Я же мыться туда ходила, а не стирать. Золотарь рухнул на диван и закрылся ладонями. Насчет пьесы он почти не врал. «Дурнушка с родинкой» шла кое-где в провинции с успехом, потому что любовная судьба ее волновала девушек захолустья гораздо крепче и непосредственнее, чем участь материально обеспеченной Офелии. «Быть или не быть?» — сдавалось им слишком праздным. Вот в чем вопрос. Свадьба дурнушки решала наболевшее. Зритель в танкетках покидал зал с красными от счастья глазами, и пьеса шла, принося своему создателю хоть маленькую, но славу. Золотарь заважничал, построил шубу на хорьковом меху и перебрался в культурный центр. Тут ему пришлось обтесываться заново. Хорьковая шуба, в которой он счастливо хаживал по родному Белужинску, оказалась в центре признаком ревматической деревенщины. Новые знакомые взялись ему помочь. На вечеринке у Драгунской квадратный Лесипедов вывел гостей в переднюю и под аплодисменты оборвал с шубы грубые хорьковые хвосты. После этого Золотарю велели завести джинсы, бороду, трубку и собаку. Переделка на городской лад шла мучительно.
Трубка раскуривалась с титаническим усилием, и спичек на нее уходило больше, чем табаку. Зато расчадившись, она сочилась полынью и жгла, как кипяток. Грубые джинсы кривили ноги до такой степени, что Ивану Сысоевичу порой казалось, что он смог бы ездить на лошади без седла. Мять их приходилось ежедневно. Еще хуже было с бородой. Кожа под шеей зудела и чесалась. Сдавалось, там растут не волосы, а комары. — А Хемингуэю, думаете, было легче? — взбадривала драматурга Инга Драгунская. — Да, это был мужественный человек, — соглашался Иван Сысоевич и, морщась, запихивал себе трубку в рот, как удила. Пока Иван Сысоевич окуривал трубку и чесал бороду, Гурий Михайлович начинял и благоустраивал его квартиру. Стены комнат были покрашены в разный цвет, а кухня расписана под «голландский», как ему втолковали, кирпич. Трубка у Ивана Сысоевича тоже была голландской, и такой унисон ему понравился. Наконец свершилось и главное: Гурий Михайлович привез вдовий «ампир» — резной, «несгораемый», как выразился Белявский, дубовый шкаф, пузатенькое, как самовар, бюро, альковные кровати и ломберный столик для пасьянса. Последним штрихом, облагородившим квартиру драматурга, был замечательный «Голубой козел». Теперь у Золотаря было «все, как у классиков» (не хватало, правда, еще собаки, но Гурий Михайлович обещал привезти ее прямо с погранзаставы), и только жена, старомодная сдобная жена, отравляла ему полноту счастья. Она приводила Ивана Сысоевича в тихую ярость. И не только бумажными хвостами на голове и байковым халатом. Она его совершенно не понимала. Пьесы давались Ивану Сысоевичу в муках. Иной раз он часами сидел на кухне и не мог придумать ни слова. Чуткая и начитанная Инга Драгунская посоветовала ему обратиться к примеру классиков. Шоу, по ее словам, вдохновлялся в тяжких случаях порчеными яблоками, а Мольер увлажнял голову жидким миндалем. Ивану Сысоевичу это понравилось. Но только он увлажнился и разложил перед собой червивую падалицу, как пришла Анюта, смахнула бесценную гниль в совок и, принюхавшись к миндалю, выразилась так: — Слава богу! Наконец-то перхотью занялся! Золотарь стиснул зубы и засосал носом кубометр воздуха разом. Нет, он решительно не любил жену. Но она была, и с этим приходилось считаться. — Анюта! — снова позвал он сладким голосом. Жена не отзывалась. Иван Сысоевич поднялся и пошел обговаривать вечерний стол. Гостей ожидалось немного, но принять их следовало по-писательски. Анюта жевала на кухне пирог и задумчиво вчитывалась в промасленное местами письмо. — В Ивано-Федоровске был пожар! — сообщила она главную новость. — У мамы занялся забор, но все обошлось, затушили. — Ты смотри, что не год, то пожар, — сказал Золотарь, лениво сокрушаясь. — А театр?! — спохватился он. — Театр уцелел? — Кто же его знает. Мама не пишет. — О черт! — воскликнул Золотарь раздраженно. — Меня не интересуют заборы! Когда вы к этому наконец привыкнете?..
Глава XXI Товарищи европейцы
Первым на новоселье к Золотарям заявился Белявский и привел с собой лохматого молодого человека. Перед этим у них состоялось бурное объяснение насчет квартиры и «Красного света». Но Белявский вывернулся, истолковав дело так: «Витюня, этот панельный дом записан, оказывается, за Союзом писателей! Так что я тебя прежде должен в союз протолкнуть… Как? Это уж мое дело». Кытину донельзя хотелось в союз, и он поверил, тем более что Белявский вызвался немедленно отвести его к «человеку, который все решит». Этим человеком был Иван Сысоевич Золотарь. — Прошу любить и жаловать, — сказал Гурий Михаилович, подталкивая незнакомца к хозяину. — Виктор Кытин… Молодой талант. Без пяти минут Кафка. Талант таким словам нимало не смутился, не оробел и руку Золотарю подал замедленно, как это делают, ловя мух или передавая через весь стол полную рюмку водки. — Ну как, будем оформлять в союз наше дарование? — продолжал Белявский, подмигивая Ивану Сысоевичу из-за спины Кытина. — А как же! — весело поддержал драматург, вовсе не понимая, что Кытин принимает разговор всерьез. Гости поздоровались с Анютой и проследовали в комнаты. — Ну, что я тебе говорил! — шепнул по дороге Белявский. — Дело верное! Кытин обхватил руку Гурия Михайловича выше локтя и пожал ее в благодарном порыве. Он понял, что не зря писал за Белявского книжку «На красный свет». Игра стоила свеч! Следом за Белявским прибыли Карина и Герасим Федотович. Дядя Гера был взмылен и нагружен, как мул, покупками. Карина была в новом платье и белых туфлях с серебряными бантиками. Вторую пару в кремовой коробке «Фарро» она держала в руках и тут же убежала в ванную, чтобы примерить еще раз. Она любила вещи как моль и никогда ими не насыщалась. Заслышав в передней голоса гостей, Гурий Михайлович покосился на «Голубого козла» и выбежал навстречу, чтобы упредить нежелательные вопросы и недоуменные восклицания. — С кооперативом полный порядок, — доложил он Герасиму Федотовичу секретным голосом. Он потоптался на месте и так же секретно добавил: — Только прошу вас: о картине ни слова. В интересах нашего с вами дела пусть повисит тут до утра. Не омрачайте, ради бога, новоселье. Поверьте слову, я завтра же вам ее верну. Ровно в одиннадцать. — Но позвольте! — сказал Герасим Федотович. — Я гоняюсь за вами второй день. — Вы «гонялись», — с горечью повторил Гурий Михайлович. — А как я мотался эти дни насчет Дома композиторов… Так вот и умрешь в чужой приемной по чужому делу. — Здравствуйте, Гурий, — сказала Карина, появившись из ванной уже в кремовых туфельках. — От чего вы собираетесь умирать? — О, какое платье! — закричал Белявский и отпрянул в сторону, как бы ослепленный фарами. — Глядя на вас, Кариночка, я всякий раз умираю. Золотарь по-городскому, стараясь не обслюнявить, приложился к руке Карины и, показавши на комнаты, проговорил: — Прошу в наш шалашик. Гурий Михаилович забежал вперед хозяина и взял на себя роль экскурсовода. — Мебель стиля Павловский ампир, — пояснил Гурий Михайлович. — Вы на ножки, на ножки гляньте! Он присел на корточки, предлагая последовать его примеру. — Это вам не Кузьмы-топорника работа, а настоящий«Чиппиндейл». — Чиппиндейл — это вещь, — сказала Карина. — Ну просто замечательно. — А этот каков красавец! — погладил он любовно буфет. — Одной меди на пушку хватит! А стекла… Тут экскурсия была прервана диким сопением. Белявский обернулся. В дальнем углу вздымал грудью красный от возмущения Кытин. Впопыхах его не представили гостям. Русский Кафка совершенно окоченел от такого хамства, а теперь задышал, как прострелянный баян… — Ах, да! — воскликнул Белявский. — Я не познакомил вас с нашим писателем. Кытин нежно ощерился и заговорил, перемежая речь покровительственной ухмылкой. В незнакомой компании его комплекс проявлялся однообразно и сводился к нечаянной демаскировке собственных достоинств. — Как странно устроен мир, — излагал он, поглощая Карину взглядом. — Казалось бы, чего желать нашему Кириллу? Богат, знатен, а мучается хуже Кочубея… «Завидую, говорит, завидую тебе, Виктор, всеми фибрами». — «Глупо и напрасно, — это я уже говорю. — Чего с горы не дано, в аптеке не купишь». В передней нетерпеливо заверещал звонок, Анюта пошла открывать двери, и в гостиную ворвалась Инга Драгунская. Нижняя губа у нее была недокрашена, а лицо пылало, как маяк. — Товарищи! — закричала она с порога. — Вы даже не представляете, как вам повезло! Мне прислали стихи Максима Клавдина. Да, да, прямо из Янтарных Песков! Инга порылась в сумочке, вытряхнула на стол бигуди, крем «Идеал» и достала со дна захватанный машинописный листочек. — Вот послушайте! Она сложила кулачок пистолетом и стала читать, грозя им в пространство на манер «похитителя балерин» поэта Моторина-Соловейчика:
Стасик на мгновение окаменел. Под ребрами у него что-то поднялось, а в горле стало жарко и сухо. — Стоп! — сказал он сиплым голосом. — Отбой! Поздравления отменяются. Гости попритихли. Герасим Федотович подавал Стасику отчаянные знаки, но тот на это никак не реагировал. — Это почему отменяются? — с мстительным вызовом проговорила Карина. — Потому что этот «полярник», — Стасик почти уперся пальцем в Герасима Федотовича, — дрейфует в секте! Он поп! Его дело венчать, а не венчаться. Бывший полярник ухватился за невесту, будто ее угоняли на чужбину. Наступила церковная тишина. — А-а-а! — нарушил тягостное молчание Кытин. — Главное, самоанализ. Слова Кытина были приняты с облегчением. Никто толком не знал, модна ли в Европе религия. Молодой талант внес ясность. — А приход у вас большой? — как ни в чем не бывало осведомился практичный Белявский. — Ой, какая прелесть! — заверещала Драгунская. — Служитель культа читает Герштинга?! — Между прочим, я крещеный, — пьяно признался Золотарь. — Не слушайте его! — перебил Герасим Федотович. — Не верьте ему, Кариночка. Он аферист, а я… я порвал с религией… — Значит, вас по телевизору покажут, — убежденно сказала Анюта. — В Белужинске три дня показывали. — Да что там покажут! Квартиру дадут, — предположила Драгунская. — Получше, чем в Доме композиторов. Стасик потерялся. Он хватил полной грудью воздух, намереваясь выложить насчет Ванятки и Потапа, но вместо этого махнул рукой и, сказав вроде Кытина: «А-а-а!» — устремился на выход. — Во-во, — забубнил ему вдогонку Кытин. — Главное постичь себя. Это надежно, выгодно и бескорыстно…
Глава XXII Вчерашнее «Я»
«С добрым утром!» — поздравил Стасика женский голос. Потом послышались обрывки музыки и задушевный нутряной смешок. Стасик натянул одеяло на голову (после вчерашней вечеринки он заночевал у брата), но спать уже больше не хотелось. Он поворочался с боку на бок и приподнялся на локтях. …«Все опешили! Все думали, он не умеет ездить на велосипеде, а он… Он оказался доктором наук, филуменистом, да еще мастером по современному пятиборью!» — празднично доложило радио. Дикторша выдержала паузу и уже обыденным голосом добавила: — Вы слушали воскресный рассказ Юрия Нешуйского «Вот так не умеет!». Стасик потянулся всем телом и выдернул штепсель. Репродуктор затих. Фыркая и обмахиваясь на ходу полотенцем, из ванной показался Роман. — Вставай, жених, — сказал он, — свадьбу проспишь. — Иди к лешему! У меня к ней чувство. Понимаешь? Большое и теплое, как Гольфстрим. — Ладно, не буду, — сказал Роман. — Но в компанию ты меня завел отменную. Один сторож при собственной машине чего стоит! Не человек, а недостающее звено Дарвина… — Да, похоже, он сбежал из сухумского питомника, — согласился брат. — Отломил по дороге хвост, обменял его на пиджак и — с добрым утром, товарищи! Нет, это не гомо сапиенс, и уж тем более не Ньютон. Эволюция его не коснулась и не коснется. — Не скажи. На его голову тоже падают яблоки, но он их тут же съедает или продает. Хватательный инстинкт, братец. Вчера вечером я видел это собственными глазами. Честно говоря, ты меня просто насмешил. — Ничего, я люблю смеяться последним! — Стасик покраснел, что случалось с ним только по большим праздникам. — Наш Герасим ни с чем пойдет в монастырь. Да, да, «Голубой козел», считай, у меня в кармане… А это, Роман Ильич, худо-бедно, двадцать тысяч!.. — Какие двадцать тысяч?! Не надо так напиваться, братец! — Обыкновенные: десять за ножки, десять за рожки, итого — двадцать прописью… — Так вот отчего ты «села обходил с медведем»? Но зачем тогда отделять себя от «Лесипедика»? Какая разница?.. — Огромная. Да, да, пижон всегда хочет быть красивым. И тут Агап Павлович мне прямой помощник. То — «нельзя», этому — «сейчас не время»… Так что по милости Сипуна на запрещенный плод неурожая не бывает. Он сажает и поливает искусственные плоды. Так почему же мне этим не воспользоваться? Агап Павлович сам наточил мне ножницы и подвел барашка, в смысле Козлика. Что же мне остается делать, как не стричь?! — Жаль, не слышит тебя Агап Павлович, — сказал Бурчалкин-старший. — Он бы тебе, пожалуй, покурить оставил: от полноты чувств, от признательности. Ему только и нужно, чтобы каждый стриг своего барашка, никуда не лез, ни о чем не спрашивал. Без этого ему труба. — Труба? Это Агапу Павловичу-то? Как говорится: «Не сорите оптимизмом, его должно хватить вам на всю жизнь». — На мой век хватит, — заверил Роман. — Буду рад у тебя одолжить, — буркнул Стасик и, сказав: «Охо-хо!» — удалился в ванную. В передней раздался звонок. Роман открыл двери. На пороге стоял Виктор Кытин. — Здравствуй, старик, — сказал он, задыхаясь не то от бега, не то от волнения. — Ф-фу, еле нашел твой адрес в справочной: сам понимаешь, воскресенье… — А что стряслось? Да ты проходи. Кытин как-то бочком протиснулся в комнату. — Ты, старичок, должен меня великодушно извинить, — доложил он, переступая ногами и побито сутулясь. — А за что, собственно? — За вчерашнее. — Ну, вот еще глупости. — Глупости. Именно глупости, — засокрушался Кытин. — Вы же понимаете, вчерашний «я» был вовсе не «я». Он отгородился от вчерашнего «я» ладонями и ладонями же его отпихнул: — Ничего общего! — Бывает, бывает, — утешил Роман. — Нет-нет! Со мной этого не бывает, — воскликнул Кытин. — Я стараюсь. Надеюсь, тебя лично я не оскорбил? — Нисколько. — Это замечательно! — воспрянул Кытин. — Значит, я могу надеяться, что мое вчерашнее «я», — Виктор опять отгородился, — не дойдет до Кирилла Ивановича? — Вот еще! С какой стати? — смутился Роман, хотя смущаться надо было Кытину. — Ну, спасибо! Огромное спасибо! А то жена… — Кытин побежал к окну, отвесил на улицу поклон и сделал пальчиками рожки, — жена очень волнуется, — пояснил он. — Она внизу и тоже тебя благодарит… — Да не за что. — Нет-нет не говори! Ведь все, что у меня есть — это жена, Омар Хайям… — И любимая работа? — Ну конечно! А тут еще такой удар… такое открытие… Я искал по справочнику писателей телефон Золотаря, а его там и в помине нет. Представляешь? Он, оказывается, и не член союза! — Ну и что?! — Ох, Роман, если бы ты знал! Этот Белявский… Ну да ладно, я с ним сам… Бегу! Мне еще надо извиниться перед Драгунской и Лесипедовым, черт бы его на столб занес! А тебе спасибо. Кытин сердечно пожал Роману руку, пообещал, если нужно, лечь за него на рельсы, и уже облегченно сбежал на улицу. Роман посмотрел на часы и распахнул окно. В комнату ворвался городской шум. Внизу возле универсального магазина сновали ранние покупатели. Улица жила деловой жизнью. На противоположной от окна стороне показалась чета Кытиных. Жена шла с сердито задранной головой и шагала крупно, размашисто, а морально побитый Кытин мелко семенил сзади. Казалось, они идут по рельсам: она шагала через шпалу, а он — ступал на каждую. Кытин объяснительно прикладывал руку к сердцу и забегал то с одной стороны, то с другой, успевая при этом оглядываться на ножки девушек. «Рожки да ножки: комплекс второго „я“, — подумал Роман. — А разговора с Кириллом Иванычем о Сипуне завтра все-таки не избежать…»Глава XXIII Неловленый «мизер»
Всякий раз, собираясь к Сипуну на преферанс, Кирилл Иванович тщательно завязывал галстук и напевал «Мой час настал», но напевал уже не так, как в редакции, а с грустью настоящего Каварадосси. Кирилл Иванович был величав, но боязлив. Ему все время мнились служебные неприятности, и, любя всем сердцем почитание, он понужден был ходить в гости к влиятельному хаму, претерпевать унижения в свой единственный выходной день. Надо ли объяснять, каково ему было! Ко всему прочему, в компании подчиненных и других почитателей Кирилл Иванович обычно не платил за выпивку, объясняя это нежеланием выпячивать свой материальный достаток. Да и приглашая их на дом, походя говорил: «Прихватите что-нибудь к лимону». На Сипуна же приходилось тратиться самому и всякий раз по-разному… В этот раз служебные горизонты грезились более или менее безоблачными и он решил отделаться «тремя звездочками». Бесконечно стыдясь самого себя, Кирилл Иванович пробил в кассу четыре рубля двенадцать копеек, но подумал, вернулся и доплатил еще за одну «звезду». Однако по дороге он стал терзаться, что смалодушничал и доплатил все-таки беспричинно. Но выход из положения нашелся: отказавшись от такси, Кирилл Иванович отправился к Сипуну пешком. «Заодно и прогуляюсь, — соврал он сам себе, — а то живот скоро руками не обхватишь». Он перекинул на руку пиджак и, обливаясь потом, перешел на теневую сторону. Агап Павлович ждал партнеров и сердился. Последнее время он стал каким-то сумрачным, раздражительным: льстивую улыбку в свой адрес часто принимал за ироническую, в словах «мастер своего дела» подозревал намек и даже в пустяшном опоздании Кирилла Ивановича усматривал некое скрытое неуважение к своей персоне. — Ты что, на волах добирался? — встретил он партнера. — Воскресенье, Агап Павлович, — оправдался Кирилл Иванович, утирая со лба соленые ручейки. — В магазинах не протолкнешься. Повышенная покупательная способность. — И Тимур задерживается, — все еще подозревая что-то, проговорил Сипун. — Не ценим мы чужое время. Тимур Артурович запоздал минут на сорок. — Тысяча и одно извинение! — закричал он с порога. — День-то какой, товарищи!.. Так и хочется жить и работать. Работать и жить! — и выложил на столик марочный коньяк «Камю». «Эге, — подумал Кирилл Иванович, разглядывая французскую этикетку, — видать, дела у Тимура совсем плохи». — А вот вам от меня маленький сюпризик, — добавил Сапфиров и протянул Сипуну коричневый пузырек. — Что это? — поглядел пузырек на свет Агап Павлович. — «Крохоборский женьшень», удивительное народное средство… Так вот и я говорю, чувствую прилив сил, эдакое творческое горение, — он изобразил руками горение. — Пламенный энтузиазм, я бы даже сказал. А у меня, кхм… У меня картину зарезали, — закончил он совершенно неожиданно. — Не может быть! — сказал Кирилл Иванович. «Ага, значит, я угадал. То-то ты на „Камю“ размахнулся!» — Я и сам не верю! — воскликнул Сапфиров. — «Ваши герои, — говорят, — на ходулях ходят. А газировщица так прямо Сенека». А что же ей Локустой прикажете быть? — спрашиваю. Слава богу, не в Риме живем! Все с заочным образованием… — Неужели они этого не понимают! — возмутился Кирилл Иванович. — «Ну и глупость сморозил Тимур». — В нашу труженицу не верят! — закипел Сапфиров. — Я прошу вас, Агап Павлович, заступиться. Тем более, на картину затрачены деньги. Большие народные деньги! — Поразительно! Как мы еще не бережливы. Как швыряем деньги на ветер! — патетично проговорил Кирилл Иванович. — «Завтра же возьму в издательстве аванс, а то чем черт не шутит!» — Это еще что! Они и в силу слова не верят, — разошелся Сапфиров. — «При чем тут, — говорят, — Ян Грустман и Иван Сусанин?…Это, говорят, мистика! И с какой стати „Иван Федоров“? Мы с этим сейчас боремся. Это вредный символизм!» — Да нет же, — поморщился Агап Павлович. — Что они, с ума посходили? Это наш положительный симво… то есть метод поэтических ассоциаций. — Вот именно! И я прошу вас, Агап Павлович, вмешаться. А то наш симво… то есть поэтический метод им не по нутру. — Я подскажу кому следует, — сказал Сипун, оборачиваясь как бы невзначай к бюсту министра художественных промыслов. — Не знаю, как вас и благодарить, — залебезил Тимур Артурович. — Вы всегда нас поддерживаете. — Что там нас! Агап Павлович саму идею поддерживает, — невзначай уточнил мудрый Кирилл Иванович. — Я все поддерживаю, — согласился Сипун. — А вы? — он значительно посмотрел на Кирилла Ивановича. — Ну, кого вы мне тут прислали? Символисты для него «божьи одуванчики»! — Не может быть! — перепугался Кирилл Иванович. — Впрочем, может быть, он не совсем все понимает. — Так зачем же ему поручать? — Острое перо, знаете ли, — пробормотал Кирилл Иванович. — Перо ценится не острием, а наклоном, — жестко проговорил Агап Павлович. — «Одуванчики»! Вы приглядитесь, куда «семена» летят! Агап Павлович извлек из ящика письменного стола сложенный вчетверо листочек, будто в нем и были те самые «семена», и, развернув его, зачитал:
После долгой, изобилующей отточенными промахами игры партнерам удалось обеспечить Агапу Павловичу минимальный перевес. И тут его дернуло объявить «мизер»… Кирилл Иванович и Тимур Артурович похолодели. — Ну чего, уснули? — сказал Сипун. — Молчите? Тогда я беру! Не дожидаясь согласия, Агап Павлович обнародовал прикуп и посерел… К бланковой десятке червей он прикупил грудастую даму и румяного валета той же масти. Валет нагло ухмылялся. Агап Павлович «садился». И садился, как минимум, на пять взяток. Поддавки могли пойти прахом, и Сапфиров растерялся настолько, что потянулся за сигаретами. — При «посадке» не курят, — сказал Кирилл Иванович. Это чтобы вменить Агапу Павловичу, что игра пойдет «по всем правилам»… — Виноват, товарищи, склероз! — сказал Сапфиров, извиняясь, Агап Павлович вздрогнул. Ему отчетливо вспомнились голоса пса и лисы, так же рассуждавших насчет курева в полете. Агап Павлович присоединил прикуп к своим картам и посмотрел на них, как смотрят на свои руки после помойного ведра. Потом шаркнул взглядом в сторону партнеров и сделал снос. — Ну ловите! Посмотрим, что у вас получится, — сказал он так, будто посылал их в речку за раками. Партнеры нехотя разложили карты. Десятка, конечно же, ловилась. Агапу Павловичу грозил верный проигрыш. — Что же это, однако, получается? — пробормотал Сапфиров, переходя со страху на волжский говорок. — С чего ходить? — А зачем ходить, когда не ловится, — с лисьей осторожностью сказал Кирилл Иванович. — Ну да! А я-то, куриная слепота, все пыжусь! — облаял сам себя Сапфиров. — Вот уж правда, подсвешника на меня нет! Партнеры обменялись ласковыми взглядами и, цепляясь в спешке пальцами, перемешали карты в кучу.
Глава XXIV Как в шелку
В редакции Кирилл Иванович появился, как всегда, в двенадцать. Мурлыча под нос привычную мелодию и передвигаясь в ритме отечественного танго, он подступился было к лестнице, как услышал наверху бранный гул. Кирилл Иванович насторожился и замер с поднятой ногой. Прямо на него прыгал через ступеньку озиравшийся назад Гурий Михайлович. Он был красен и тяжело дышал. Следом грохочущим обвалом несся Виктор Кытин и голосил: «Верните мне „Красный свет“! Он даже не член союза!» Заметив Кирилла Ивановича, Белявский чуть замедлил и, не переставая работать ногами, прокричал: — Как же, как же!.. Племянницу. По классу фортепьяно… Сделаем. Кытин тоже остановился, продышался и сказал: — Доброе утро, Кирилл Иванович. Белявский тем временем прошмыгнул в уличную дверь. — Что за побегульки в рабочее время? — строго сказал Кирилл Иванович, снимая с плеча прилипшее перышко. — Вы мне нужны, Кытин. Но найдите сначала и пришлите ко мне Бурчалкина. Вы меня поняли? У Кытина екнуло сердце и скатилось в желудок: «Это Гурий! Это он проболтался, мерзавец, про аптеку и Кочубея. Ужас… Тихий ужас». И, заложив руки за спину, заскользил «на коньках» по отделам, приговаривая: — Виктора оговорили… Виктора просватали… А ведь все, что у него есть, — это жена и комплекс… Кытин обошел всю редакцию, пожаловался буфетчице Ольге и тогда уже отважился на визит к Яремову. — Домыслы, Кирилл Иванович, злые домыслы, — забормотал он, заложив руки, за спину и понурясь. — Вы же знаете Кытина. В личной жизни его быт не только скромен, но и богат лишениями. Не верьте Белявскому, он меня оклеветал и обманул. Низко! Жестоко! Я подам заявление на имя редколлегии… Мой быт… — Где Бурчалкин? — перебил Яремов. — Его нету, Кирилл Иванович, Астахов отправил его в Янтарные Пески. А меня в Торжок командируют. Вот видите, каково Кытину? Только в Торжок… — Никакого Торжка! — сказал Кирилл Иванович, и в голосе его угадывалось раздражение. — Есть поручение, — добавил он, оглядывая с ног до головы скорбную, вымогающую прощения фигуру. — Причем весьма ответственное… Не успело еще отзвучать слово «ответственное», как Виктор преобразился прямо на глазах: высвободил из-за спины руки, подбоченился и отставил ногу на притоп, словно заслышал издалека гармонь. Кирилл Иванович снял трубку, набрал номер и сказал: — Александр Николаевич? С какой стати ты пылишь деньгами? Зачем ты послал Бурчалкина в Пески? У нас газета, а не курортторг! Что! Нечего там выяснять… Итак все ясно. Словом, я был против этой командировки и прошу это запомнить… Кирилл Иванович повесил трубку и посмотрел на Кытина. — Итак, еще раз повторяю, задание более чем ответственное, — он неторопливо поместил пиджак в шкаф с потайным зеркальцем внутри, провел себя, по щекам, вгляделся в изображение и, найдя всплытия под глазами после «Камю» умеренными, сказал так: — Возьмите машину и немедля в мастерскую Сипуна. У Кытина зазвенело в ушах, а сердце заработало как насосная станция. — Материал срочный. В номер, — дополнил Кирилл Иванович. Кытин зашуршал ногами по полу, имитируя скорохода, и закивал лохматой головой. Через минуту он запихнул отвергнутые рассказы в портфель и забегал по редакции, тыкая всем разрешение на машину под нос: — Что за безобразие!.. Посылают на такое ответственное задание, а пишут, как курица лапой! Вы не разберете, какой тут номер машины? Сотрудники косились на четкие цифры «79–63» и усмехались. Оповестив половину редакции, что он едет на машине, Кы-тип угомонился, подхватил портфель с рассказами и убежал. Уже подъезжая к особняку ваятеля, Виктор ощутил под ложечкой праздничный холодок. Кытин затрепетал. Ему вдруг безумно захотелось приобщиться к чарующему быту. Виктор попросил шофера остановиться у самых ворот. Потом вылез, облокотился на машину, как на собственную, и лениво, как бы в ожидании подзадержавшейся в особняке жены, закурил. Получилось не так уж плохо. Кытин погладил железные ворота и решил писать отныне не пять рассказов в неделю, а десять. Агап Павлович встретил Кытина тем же манером, что и Бурчалкнна. Он кружил возле фотовыставки. Но это было, пожалуй, лишним. Кытин и без того глядел Сипуну в рот, будто хотел поставить ему пломбу, и записывал за ним дословно, стараясь подчеркнуть, что мысли ваятеля глубоко разделяет. — Это же моль! — говорил Агап Павлович, косясь на корреспондента. — На добром шевиоте общества! — живо дополнял Кытин.
— Мы и так у народа в долгу, — говорил ваятель.
— Как в шелку! Как в шелку! — подхватывал Кытин.
Агапу Павловичу это понравилось.
«Бойкий юноша, — подумал он. — Далеко пойдет».
Заметив к себе такое расположение, Кытин изловчился ввернул следующие слова:
— К чувству общественного негодования, Агап Павлович, у меня примешивается и личная боль!.. Меня, видите ли, не печатают.
«Я не ошибся, — подумал Сипун. — Ничего святого!»
— И придирки подозрительны, — низким голосом продолжал Кытин. — «Вы, — говорят, — как акын: описываете все подряд, без разбору». Но «как акын» — это же реалистично!
Кытин поднял вспученный рукописями портфель и подержал его на весу.
— Восемь раз свой сборник предлагал. И всякий раз — «не то». А что же «то»? Я ведь не символист! Все, что у меня есть, это… э… Лев Толстой, любимая работа и тяга к родниковому, солнечному.
— Хорошо, хорошо, — сказал Сипун. — Оставьте сборник.
В кабинет заглянул измазанный глиной человек:
— Вам, Агап Павлович, письмо. Возьмите, пожалуйста. И еще мне хотелось спросить, могу я быть сегодня свободен?
— Да, можете. Проводите заодно молодого человека.
За железные ворота Кытин выскочил, как в угаре, и полквартала пробежал пешком. Только тут он сообразил, что приехал на машине, хлопнул себя по бедрам и степенным шагом вернулся назад.
— На Селянку! — сказал он шоферу, стараясь, чтобы голос его звучал по-яремовски.
По дороге домой он все более проникался важностью и перед самой Селянкой неожиданно для самого себя загундосил: «Мой час настал…»
Дома он отверг гороховый суп, надменно обозвал жену кухаркой и получил пощечину, но не остыл, а еще больше напыжился и, бормоча: «История нас рассудит», — удалился злыми шажками на кухню. Там он постелил на стол газетку и погрузился в работу.
Щека горела, как в огне, и тонизировала его в работе. «Нет! — писал он самозабвенно, тесня грудью стол. — Неспроста окрестил их Сипун „молью“».
Кытин подумал и заменил «Сипун» на «народ». Потом вздохнул и поставил: «люди доброй воли».
— На добром шевиоте общества! — живо дополнял Кытин.
— Мы и так у народа в долгу, — говорил ваятель.
— Как в шелку! Как в шелку! — подхватывал Кытин.
Агапу Павловичу это понравилось.
«Бойкий юноша, — подумал он. — Далеко пойдет».
Заметив к себе такое расположение, Кытин изловчился ввернул следующие слова:
— К чувству общественного негодования, Агап Павлович, у меня примешивается и личная боль!.. Меня, видите ли, не печатают.
«Я не ошибся, — подумал Сипун. — Ничего святого!»
— И придирки подозрительны, — низким голосом продолжал Кытин. — «Вы, — говорят, — как акын: описываете все подряд, без разбору». Но «как акын» — это же реалистично!
Кытин поднял вспученный рукописями портфель и подержал его на весу.
— Восемь раз свой сборник предлагал. И всякий раз — «не то». А что же «то»? Я ведь не символист! Все, что у меня есть, это… э… Лев Толстой, любимая работа и тяга к родниковому, солнечному.
— Хорошо, хорошо, — сказал Сипун. — Оставьте сборник.
В кабинет заглянул измазанный глиной человек:
— Вам, Агап Павлович, письмо. Возьмите, пожалуйста. И еще мне хотелось спросить, могу я быть сегодня свободен?
— Да, можете. Проводите заодно молодого человека.
За железные ворота Кытин выскочил, как в угаре, и полквартала пробежал пешком. Только тут он сообразил, что приехал на машине, хлопнул себя по бедрам и степенным шагом вернулся назад.
— На Селянку! — сказал он шоферу, стараясь, чтобы голос его звучал по-яремовски.
По дороге домой он все более проникался важностью и перед самой Селянкой неожиданно для самого себя загундосил: «Мой час настал…»
Дома он отверг гороховый суп, надменно обозвал жену кухаркой и получил пощечину, но не остыл, а еще больше напыжился и, бормоча: «История нас рассудит», — удалился злыми шажками на кухню. Там он постелил на стол газетку и погрузился в работу.
Щека горела, как в огне, и тонизировала его в работе. «Нет! — писал он самозабвенно, тесня грудью стол. — Неспроста окрестил их Сипун „молью“».
Кытин подумал и заменил «Сипун» на «народ». Потом вздохнул и поставил: «люди доброй воли».
Глава XXV Второй сон Агапа Павловича
Выпроводив Кытина, Агап Павлович почувствовал себя устало и скверно. Ни удовольствия, ни успокоения этот «визит вежливости» ему не принес и, хуже того, оставил неприятный осадок. Агап Павлович достал из шкафчика «крохоборский женьшень» и решил испытать на себе народное средство. Он налил в рюмочку двадцать капель, подозрительно принюхался и подозрительно же лекарство проглотил. После этого он распечатал письмо и погрузился в чтение: «Дорогой ты наш земляк, Агап Павлович! Нет возможности скрыть своего волнения, которое не оставляет меня вот уже больше двух недель. Очень я одушевлен вашим „Иваном Федоровым“, от которого беру силу для работы и утешение в беде…» Агапу Павловичу как-то сразу полегчало, будто пришло второе дыхание. «…Глядя на ваш памятник, мне иной раз хочется маненько полетать, а другой раз будто в горле что встрянет, вроде рыбного позвонка, так что слеза прошибает…» У Агапа Павловича запершило в горле и у самого навернулась слеза. «…А теперь о главном. Помогите мне стать пихмеем. Пихмей это такой особенный карлик, которому от государства положено одеждой и деньгами. Росту во мне без сапог 156 сантиме…» Дальше Агап Павлович и читать не стал, а проклюнувшаяся слеза высохла сама собой. «Ничего святого! — думал он раздраженно. — И приятное-то тебе делают гадко, не по-людски. Все попрошайки. Все „пихмеи“! И этот сгорбленный Кытин, и Тимур, и Кирилл. У всех проглядывает в глазах не почтительность, а нахальная нищенская печаль. Как с такими не потерять веру, спрашивается? А прогнать, вычеркнуть к чертовой бабушке — нельзя: надо биться с недругами, надо держаться косяком». Агап Павлович влился всей спиной в кресло и развесил руки на подлокотниках, жмурясь на свет медленно и безучастно, как цирковой лев на обруч: и давит зевота, и тошно прыгать, да надо, надо показать пломбированные зубы — дескать, я зверь вольного пошиба, хотя на воле тебе давно не жизнь и ты боишься ее большепистолета, заряженного не то перцем, не то пиретрумом. Что же, извольте, он сиганет в дырку и зарычит для испужения публики, но зато потом дадут кусок мяса, и будет теплый вольер, где так уютно пахнет осликами и бывшей дикой собакой динго, обученной считать до четырех. Агапа Павловича бросило неожиданно в жар: это начал действовать «женьшень», и действие его, надо сказать, было странным. Мягкая дремота запеленала Агапа Павловича, он потеплел, и голова его скатилась на грудь. — Добрый вечер!.. Не ждали? — пролаял пес, вытирая лапы о ковер, и, принося извинения, добавил: — С этим свинским паровым отоплением вся оригинальность визита теряется — лезешь в двери, как почтальон. — Х-хи, расскажи, как ты в бойлерную трубу по невежеству влетел, — сказала лиса. Она стояла у зеркала и водила кончиком хвоста себя по носу: вы, мол, не волнуйтесь, Агап Павлович, я пудрюсь, так что все правильно. И невинным голосом, на правах близкой приятельницы, полюбопытствовала: — Ну, как прошлый раз домой добрались? Благополучно? Первым и справедливым поползновением Агапа Павловича было немедля набрать по телефону «02» и запереть окна-двери, с тем чтобы по прибытию милиции обыскать подлую компанию и выяснить их действительную личность. Однако такой план требовал дымовой завесы, чтобы не вспугнуть врага, а потом уже расторопности и наскока. И потому, прикинувшись радушным, хозяин сказал: — Благополучно, друзья мои, только несколько продуло меня дорогой… — Зато сегодня ночка — только кур воровать! — поспешила замести прошлое лиса. — Ни ветерка!! — подхватил пес. — Так и хочется работать и жить! — и выставил на стол бутылку с прозрачной жидкостью. — Что это?! — округлил глаза не ожидавший такой прыти Агап Павлович. «Лагримас де кристо», — тявкнул пес, видимо, по-испански. Агапа Павловича это, разумеется, не удовлетворило. — Старый добрый «опорто» типа «Агдам», — замазала нависавший вопрос лиса. — Увольте беспокойство. Оно ни к чему. Уж на что я, слабая женщина, и то чувствую эдакий прилив сил, творческое, можно сказать, горение, — она изобразила хвостом пламенное горение. — Не перекинуться ли по такому случаю в картишки? Как и в прошлый раз Агап Павлович заподозрил нутром неладное и в игривом «картишки» ощутил скрытый подвох, но вида не подал, а наоборот — пошел зверью навстречу: — Отчего же? Каждый имеет право на отдых… А во что вы обычно играете? — В подкидного «Иванушку», — оскорбительно ухмыльнулась рыжая. — Да и в «козелка» перекинуться не против, — сказал пес, усаживаясь по-домашнему и снимая с шеи, как галстук, медаль «За спасение утопающих». — Это я ныряльщиков из реки Леты таскал, — смутился он, припекаемый жгучим, чересчур пристальным взглядом хозяина. — Не дал людям кануть: прямо со дна за волосы доставал, аж упарился! Зато сам теперь вроде бессмертный, — и погладил медальку лапой. — Брось заливать, ты и плавать-то не горазд, — осрамила бессмертного лиса. — Он, Агап Павлович, — полюбуйтесь на пасть! — горлом взял. Пес, должно быть, покраснел (за шерстью не разберешь), но еще больше смутился Агап Павлович. — При чем тут горло?! — сказал он негромко, но заносчиво. — Я ангиной третий сезон болею… И вообще, что за манеры! Вот уж действительно «посади лису за стол…» — Простим женщину, — заспешил установить мир пес. — Они в тонкость наших делов войти не могут, потому что и постирушки, и сковородки на них, и награды за то — никакой. Вот они за разговором душу и отводят! Чепуховость песьих слов была очевидна, но обыденная житейская формулировка все же утешила Агапа Павловича, и он сказал псу, как мужчина мужчине: — Дуня в тележке, хе! — Вот именно! — подхватил, словно кость, пес. — Я-то отлично понимаю, что в «Иванушку» вам не позволяет положение, но в «козла» с шаманкой — это же разлюбезное дело!.. Пригласим четвертым «Голубого козлика» и примилехонь-ко проведем время. Он ведь и так, кажется, ваш партнер в «игре»? «За один стол нас посадить хотят! — мелькнуло у Агапа Павловича. — Хотят склонить к примиренчеству… Т-а-ак, опрокину сейчас на них стол, притисну в угол и — к телефону…» — Минуточку! — остановила лиса. — Это он вам бред собачий изволил сказать. Не будет четвертого. «Голубой» нынче занят. С него сейчас портрет пишут… для истории. Так что давайте-ка тихо-мирно в преферанс. — И потянулась к колоде. — Ну что же, сдавайте, — хрипло проговорил Агап Павлович: с него никто еще не писал полотен для истории, и сообщение лисы его крайне ущемило. — Сдавайте, а я пока двери прикрою от сквозняка… Насморк, знаете ли… — Вам, наверное, позвонить хочется? — нагло предположила лиса. — С чего вы взяли?! — замялся Агап Павлович, а сам подумал: «Вот гады! По глазам читают!» — и, потупившись для сокрытия мыслей, оправдался: — Здоровье не купишь! — Если бы только здоровье, — сказала лиса и затрещала картами, как кастаньетами. — А разговор по душам теперь разве купишь? — Наловчились куда там! — прокашлял пес. — Говорят «будьте здоровы!», а читай «чтоб ты провалился!». — Это и есть «одиночество на людях», — въедливо подкрепила лиса. — Не одиночество, а творческая уединенность, — обиделся за себя Агап Павлович. — Избирательное общение, я бы сказал, разумный выбор. — Во дает! — с кашлем захохотал пес. — То-то ты Тимура Артуровича да Кирилл Ивановича выбрал… «Откуда он их по отчеству знает?!» — удивился Агап Павлович и, заалевшись, сказал: — Это так… просто гости. — Все мы на этой земле гости, — проговорила лиса, сдавая карты. — Так зачем, спрашивается, лишним барахлом обрастать?.. Берите карты, Агап Павлович, берите — там ваши козыри. Агап Павлович взял, расправил карты и расплылся в мстительной улыбке: три туза и длинная масть бубен обещали ему верную игру. — Семь бубен! — объявил он без торга. — Молчите? Ну тогда я беру. — И потянулся за прикупом. — Нет, нет, — придержала его лиса. — У нас прикуп после игры вскрывается. — Это еще что за новости? Почему? — Потому что каждая карта у нас со значением, — сказала лиса. — Десятка бубей — денежный интерес, девятка пик — крупные неприятности. Сделаешь игру — вскроешь прикуп: и тогда станет ясненько, что тебя впереди поджидает. — Глупости! — сказал Агап Павлович сварливо. — Если играть, так по-человечески, — и, сгорая от любопытства, прикуп перевернул. Ему открылись туз и валет трефей. — Ну, и что же это по-вашему означает? — осведомился он как бы невзначай, но в то же время настороженно. — Валет — пустые хлопоты, а туз треф — сами знаете… «Казенный дом?!» — вспомнил Агап Павлович, но крест на тузе был почему-то не простой, а восьмиконечный… У Агапа Павловича отнялись ноги. — Что это? Я вас спрашиваю! Лиса ничего не сказала, а наглый пес принялся крапить Агапа Павловича из бутылки с «добрым опорто», распевая леденящее душу, как удары заступа, небезызвестное ти-ра-ри-ра, та-ра-ра-ра… бам-бам-бам-бам!.. У Агапа Павловича потемнело в глазах. Ощупью, натыкаясь на мебель, он пробрался в кабинет и набрал «02». Внутри аппарата что-то щелкнуло, будто туда провалился двушник, и откликнулось: — Дежурный слушает! — Слушайте меня и не перебивайте!.. Ко мне пробрались два хвостатых бандита — пес и лиса… Оба говорящие. У пса бутылка… Алло? Алло?! Почему вы молчите? — Ваш адрес? — послышалось после паузы в трубке, Агап Павлович назвал. — Ждите. К вам приедут. — Только поскорее! Я их пока задержу… Кстати, у пса… Только сейчас Агап Павлович вспомнил про медаль. «Отнять! Не медля отнять ее у пса, и тогда я стану бессмертным». Агап Павлович вихрем ворвался в гостиную, но ни зверья, ни карт, ни бутылки на месте не было. В довершение всего с подноса исчез стакан?!. — А-а-а! — вскрикнул он, но тотчас вспомнил про звериное коварство и сам пошел на хитрость: вместо двери тихо вывалился в окно и на цыпочках начал красться вдоль стены к соседнему дому. «С бутылкой они далеко уйти не могли, — рассуждал он. — Им непременно захочется отметить свой успех. Но где? A-а, ну да, разумеется, в парадном!..» Он тихонечко, без малейшего скрипа открыл дверь и — так и есть! В парадном стояли он и она, замаскированные под людей. Он для лучшей неузнаваемости прятал ее лицо в своих ладонях и частично прятался в них сам. «Хитро, да не умно! — подумал Агап Павлович. — Хорошо, что я в тапочках». Он неслышно подкрался к человекопсу и постучал ему согнутым пальцем в спину: — Вас можно, любезный, на минуточку? Тот так и подпрыгнул: — А? Вам чего? — Так, ничего особенного, — сказал Агап Павлович и рывком полез замаскированному за шиворот: — Где медаль? Куда девал медаль?!. — Караул! На помощь! — прошептал стиснутый воротником пес, а лиса завизжала, будто у нее отнимали хвост: «А-а-а-а!» Это «а-а-а!» каким-то чудодейственным образом перешло в вой сирены и скрип тормозов. И вот уже чьи-то теплые руки оторвали Агапа Павловича от пса и стали усаживать в чудную машину с дверью в хвосте и трефовым крестом на боку. — Не мешайте! — пробовал было отвергнуть теплое обращение Агап Павлович. — Мне нужна медаль. Слышите, медаль! — Будет и медаль, все будет, — сказал пахнувший почему-то аптекой человек. — У нас там полный комплект. — И приказал другому, пахнувшему бензином: — На улицу Веснина! — На какую такую Веснина? — строго спросил Агап Павлович. — Там монетный двор, — сказал аптечный солидно. — Ну и прекрасно, — сказал Сипун. — А пса и лису — под арест! — Слушаюсь! — сказал аптечный. — Давно бы так, — покровительственно сказал Сипун. — Поехали, товарищи. Не задерживайтесь, поехали…Глава XXVI Вятичи
Янтарные Пески встретили Романа отличной погодой. По проспекту Айвазовского бежала публика с прозрачными кульками, набитыми вперемешку резиновыми шапочками, игральными картами, гребенками и мелкой зеленой грушей. Публика посолидней сворачивала в «Блинную». Пластуны торопились к пляжу натощак: день обещал быть жарким, и калории солнца мыслились им полезнее. Каморка штаба дружины располагалась на другом конце проспекта в белоснежном станционном здании, откуда навстречу Роману шагали разведчики из селения Круча, тащившие чемоданы курортников к своим орлиным гнездам. Чубастый командир дружины сидел в одиночестве, изучая в зеркальце ссадину на подбородке. Роман представился. Чубастый был очень польщен и то и дело повторял слово «пресса», произнося его через «э», но с одним «с». — Обращаю внимание прэсы на плохую сознательность отдыхающих, — говорил он, поглаживая синие якоря. — Их как следует надо прижучить. Каленым пером. Два часа, понимаешь, «гладиаторы» им козлиную морду показывали и стихи босиком читали. И ничего!.. Ноль внимания! Мы-то как напали на след, сразу же и словили. А начальник, Демьян Парфанович, их отпустил!.. Да разве на то милиция, чтобы отпускать? И теперь такая буза поднялась… Словом, невозможно стало работать. Нянчатся, понимаешь! Нам второй мотоцикл не дают, а Максимке-гладиатору мотороллер «Вятка» обещали, если утихнет. Между нами, сам Остожьев обещал… Тут уж я прошу прэсу вмешаться. — Вмешаемся, — сказал Роман, прощаясь. — Про дружинников моих написать не забудьте. — Ни в коем случае, и вас не забуду… — Я-то что, — заскромничал чубастый, — главное рядовой состав отметить. Простых исполнителей, — добавил он, и в голосе его угадывалась надежда. Бурчалкин понимающе кивнул головой и отправился в милицию. Там разговор проистекал уже в других тонах. — Напрасно вы это дело ворошите, — сказал Демьян Парфенович, глядя на корреспондента сквозь легированные очки. — Им и без того голову вскружили. А напишете, так и сладу с ним и не будет. — Вы их, кажется, сразу отпустили? — осторожно поинтересовался Роман.
— А чего держать? Они ребята смирные, понятливые… Были, по крайней мере…
— Смирные, говорите? — переспросил Роман. — А вы не слышали насчет «Тулы» или там «Вятки»?
— Эхо-хо-хо, — сказал Демьян Парфенович. — Считай, что не слышал…
— Я вас понял, — сказал Роман и, поблагодарив еще раз, заторопился в горсовет.
Председатель исполкома Остожьев встретил корреспондента восторженно. Он так обрадовался, что не знал, на какой стул его посадить, и беседовать пришлось стоя.
— Вовремя! Очень кстати, — проговорил он, тиская Романа за плечи. — И ждет вас, дорогой товарищ, сюрприз! Сегодня у нас закладка памятника Отдыхающему труженику! И где, думаете? На месте недавнего безобразия — в полукруге Приморского парка… А кто будет закладывать?..
Бурчалкин затруднился.
— Ну, ну? — подзадорил Остожьев. — Думаете я? Не-а… Наши бывшие «гладиаторы». Лично, своими руками! Каково?.. Мы, конечно, провели работу. И люди осознали! Вечером, значит, закладывают, а днем они в агитпоходе по городу. А как же! Мы на критику реаги…
Председатель не закончил. С улицы донеслось обрывистое газолиновое чихание.
— Да вот же они! — обрадовался Остожьев и потащил Романа к окну.
По проспекту Айвазовского передвигалась зеленая «Вятка» с коляской, из которой торчал камень пудов на пять. За рулем, напрягшись, будто он тащил к столу самовар, возвышался посерьезневший Максим Клавдин. Второй «вятич» — Лаптев — обнимал Максима, чтобы не упасть, за талию, а свободной рукой вскидывал над головой маленький, вроде «Цветы не рвать», трансиарантик:
— Вы их, кажется, сразу отпустили? — осторожно поинтересовался Роман.
— А чего держать? Они ребята смирные, понятливые… Были, по крайней мере…
— Смирные, говорите? — переспросил Роман. — А вы не слышали насчет «Тулы» или там «Вятки»?
— Эхо-хо-хо, — сказал Демьян Парфенович. — Считай, что не слышал…
— Я вас понял, — сказал Роман и, поблагодарив еще раз, заторопился в горсовет.
Председатель исполкома Остожьев встретил корреспондента восторженно. Он так обрадовался, что не знал, на какой стул его посадить, и беседовать пришлось стоя.
— Вовремя! Очень кстати, — проговорил он, тиская Романа за плечи. — И ждет вас, дорогой товарищ, сюрприз! Сегодня у нас закладка памятника Отдыхающему труженику! И где, думаете? На месте недавнего безобразия — в полукруге Приморского парка… А кто будет закладывать?..
Бурчалкин затруднился.
— Ну, ну? — подзадорил Остожьев. — Думаете я? Не-а… Наши бывшие «гладиаторы». Лично, своими руками! Каково?.. Мы, конечно, провели работу. И люди осознали! Вечером, значит, закладывают, а днем они в агитпоходе по городу. А как же! Мы на критику реаги…
Председатель не закончил. С улицы донеслось обрывистое газолиновое чихание.
— Да вот же они! — обрадовался Остожьев и потащил Романа к окну.
По проспекту Айвазовского передвигалась зеленая «Вятка» с коляской, из которой торчал камень пудов на пять. За рулем, напрягшись, будто он тащил к столу самовар, возвышался посерьезневший Максим Клавдин. Второй «вятич» — Лаптев — обнимал Максима, чтобы не упасть, за талию, а свободной рукой вскидывал над головой маленький, вроде «Цветы не рвать», трансиарантик:
На Москве-реке тоже бывают белые ночи. На исходе июня ее гранитные берега светятся молочным светом. Белоснежные рубашки. Подвенечные платья. Они мелькают от Чугунного моста до Каменного, и под их гулкими сводами прыгает, пляшет эхо молодых голосов. Это празднуют те, кому было вчера «еще семнадцать», а сегодня «уже семнадцать». Нескончаемым белым водопадом они стекаются на Красную площадь. Площади сегодня не уснуть. Это их день. Их прощание. Больше им не подпирать коленками парту. Сегодня они стали взрослыми. И может быть, уже завтра романтик в кедах по-мужски ринется к берегам Иртыша. В глазах решимость Ермака. С плеча свисает, как колчан, гитара. Он едет заново покорять Сибирь. Где-то на скрещении Малого и Большого Югана он вобьет заявочный столб и, отмахиваясь от свирепого комарья, навесит фанерную табличку «Юногорск». Фанерку, понятно, тут же обдерут безграмотные, не по уму ревнивые медведи и, оставив на месте расправы клочья жесткой диванной шерсти, самодовольные залягут в теплую берлогу. Но столб останется. Столб завязнет. И вокруг него заурчат бульдозеры. Вздыбятся башенные краны. Запыхтит паровой молот. И когда по весне медведь выберется наружу, то предметно сообразит, что проспал все на свете и незаметно стал горожанином. Ошалело почешет он высосанной лапой за ухом и, так и не выходя из этого ошаления, не заметит, как попадет в руки Филатову и через полгода, ничего слаще муравьев не видавший, полетит трансатлантическим рейсом в Канаду, чтобы показать там профессиональный медвежий хоккей. Белые московские ночи. Светятся голубым туманом ели у Мавзолея. Бьют вековые куранты. Площадь полна весенним яблоневым кипением. «Главное, ребята, сердцем не стареть!» И звонкие, рвущиеся от избыточности силы голоса на лету подхватывают: «…до конца допеть!» Белые ночи юности. Вторая московская весна. Время надежд. Время тревог. Время дорог. Такая весна не повторяется дважды. Когда Роман добрался до дому, на часах было половина второго. Стасик не спал. Сидя на корточках, он осторожно стряхивал пепел с окурка на размалеванный холст, лежавший прямо на полу. — С приездом, Роман Ильич, — сказал он, распрямляясь тяжко, словно после прополки или радикулита. — Тебе тут все провода оборвали. Завтра редколлегия. В двенадцать. Кстати, мною тоже усиленно интересовались, так что, судя по барометру, вас собираются драть… — Рано ты меня отпеваешь, — отодвинул худшее Роман. — Поживем — увидим. Над чем это ты колдуешь в такой час? — Обтачиваем философский камень, Роман Ильич, идем, так сказать, навстречу пожеланиям трудящихся. Знаешь объявление: «Меняю комнату в мансарде на двухмоторный самолет»? Так вот, товарищ Золотарь откликнулся. Он отдает «Козла» в обмен на произведение всеми проклятого, в том числе и цирком, художника. — «Гладиатор» тебя опередил, — сказал Роман. — Он уже обменял «карамболь» на мотороллер. Один к одному! — Иди ты?! А как Лапоть? Все так же босиком шлепает? — Нет, остепенился. Босиком на «Вятке» не солидно: железо, сам понимаешь, пятки жжет. — Ну дела! Значит, вниз ногами поставили… Скажи пожалуйста, как растут люди?! Нет, надо определенно спешить. К слову, как ты находишь мой обменный фонд? По-моему, он где-то отражает духовный мир нашего драматурга? Роман посмотрел на картину. В нижнем углу торчала загаженная пеплом трубка, из которой валил затейливый дым. В дыму мелькали косо посаженные глаза без ресниц, украшавшие собою не лицо, а какой-то слиток буженины, над которым порхали медные застежки шкафа и парила стрекоза с лавровыми крыльями. И дым, и глаза, и медные бабочки — все было смазано и летело в тартарары без руля и без ветрил. — Не хочу спорить, отражает, — сказал Роман. — Как ты все это назвал? — А никак. У тебя что, есть соображения? — Назови «Бытие опережает сознание». — А что? Пожалуй! — сказал Стасик и написал в уголке: «Бытие опережает сознание». — Ну, а теперь спать! — предложил он. — Раньше ляжешь, — меньше проиграешь, как говорят картежники. Завтра не задерживайся. Даю банкет на три персоны. Форма одежды — летняя. В петлице — лотерейный билет.
Глава XXVII Отроги молнии
К двенадцати часам к кабинету Кирилла Ивановича стали подтягиваться члены редколлегии. У дверей уже покуривали редакторы отделов Голодубов и Плетнев. Не сговариваясь, они приходили на совещания пораньше, молча дымили у дверей впрок, вздыхали, старательно гасили окурки, одергивали пиджаки и за пять минут до начала занимали свои места. В них Кирилл Иванович никогда не сомневался. — Присаживайтесь, — предложил он Голодубову и Плетневу. И в это время в кабинет зашел незваный завхоз Сысоев. Он погладил стенку, пересчитал взглядом лампочки в люстре (не надо ли заменить?). Ни единого звука он при этом не проронил, но вся поза его — выставленная вперед нога и независимое выражение на лице — Кирилла Ивановича насторожила: — Вам что, собственно, нужно? — спросил он. Сысоев попробовал пальцем выключатель и сказал: — Согласно инструкции, — и, еще раз взглянув на портрет, удалился. «Какая еще инструкция?» — подумал Кирилл Иванович. Он нажал кнопку на столе и, когда на звонок появилась секретарша Милочка, попросил: — Людмила Иванна, соедините меня с Агапом Палычем Сипуном. Следом за Голодубовым и Плетневым появился международник Еланский — задумчивый красавец с настороженными глазами и ласковыми движениями. Рассчитывать на него Кириллу Ивановичу было трудно. Еланский обожал выступать, упивался образностью речи и говорил чаще всего не то, что надо. Высказавшись, он уже ни на что не реагировал. Усмиряя стук распрыгавшегося сердца, он исправлял мысленно свою речь, заменяя в уме «что» на «который» и «адекватный» на «идентичный». Повторного слова он, однако, не брал. За Еланским подошли Астахов, Роман Бурчалкин и Кытин. Последним прибежал шумный, как лошадь с водопоя, Шашков. Со стороны казалось, он носит башмаки сорок пятого размера и ломает с одного удара силомер. На деле же он был обыкновенной силы и роста. Но когда он смеялся, в графинах дрожала вода, а курьерша Полина хваталась за сердце и просилась обратно в деревню. На Шашкова Кирилл Иванович покосился с опаской. Тот никогда не говорил «я против». Но зато упирался и шумел: «Я не понимаю!» Так бывало частенько, и в редколлегии родилась новая формулировка: «Восемь человек „за“ и один „не понял“». — Товарищи! — сказал Кирилл Иванович тепло, но так, чтоб перед словом угадывалось «младшие». — Товарищи, сегодня мы обсуждаем поступок нашего сотрудника Бурчалкина. Впечатлительные Голодубов и Плетнев посмотрели на Романа с неодобрением. Кирилл Иванович помолчал, высморкался и продолжал так: — Вьюга. Мороз. Кинжальный огонь. Зима сорок третьего. — Какая зима? — запротестовал Шашков. — Ничего не понимаю! — Зима сорок третьего, — жестко повторил Кирилл Иванович, отметая рукою непонимание. — И я, молодой курсант, послан в разведку на безымянную высоту… Вьюга! Зима! Кинжальный огонь! И ракеты, товарищи, осветительные ракеты… — Да, да, ракеты! — подхватили Голодубов и Плетнев. — И я пошел, — обратился Кирилл Иванович к Роману. — И я дошел. Я вернулся, — он коснулся груди, дабы удостоверить правдивость факта. Голодубов и Плетнев восторженно переглянулись и уважительно сложили губы трубочкой. — А теперь представим себе обратное, — задумчиво сказал Кирилл Иванович. — Я пошел. Но… не дошел. А вернувшись, доложил: «Наступать не обязательно и вообще я поехал в Крым, в ботанический сад. Там теплее!» Голодубов и Плетнев задвигали стульями. Шашков побагровел, готовясь к взрыву непонимания. Глаза Еланского наполнились радостной отрешенностью. Он придумал эффектное начало к речи и старался его не забыть. — Сейчас мирное время, — продолжал Кирилл Иванович. — Но мы единым косяком… э… то есть единым фронтом берем другие, я не боюсь этого слова, «высоты». В этом свете я и прошу оценить поступок Бурчалкина… Он пошел, но не дошел, оказавшись в плену — я не боюсь этого слова, в плену у «гладиаторов», среди которых, к нашему прискорбию не последнюю скрипку играет его брат — «козлист» Бурчалкин Станислав. При слове «плен» на лице Плетнева нарисовался бабий ужас, а Кытин непричастно пожал плечами, как бы говоря: «Все, что у меня есть — это комплекс». — Ничего не понимаю! — опрокидывая стул, взвился Шашков. — Какая пурга? Кого взяли в плен? На задании был? Был! Материал привез? Привез… Ничего не понимаю! Он поднял стул, попробовал его на прочность и уселся злой и симпатичный… — Вьюга смешала слово с делом, — содрогаясь от удовольствия, начал Еланский. Он говорил долго, красиво и неубедительно. С одной стороны он был против того, чтобы братья и сестры сотрудников редакции состояли в «гладиаторах» — это нехорошо! — но с другой стороны он напоминал собравшимся, что «братство бывает разным» и что Авель, в отличие от брата, был вполне порядочным человеком, которого «вряд ли стоило, товарищи, эдак, знаете ли, убивать…» — В нашей работе, товарищ Еланский, библейские параллели неуместны, — сказал Кирилл Иванович. — Товарищи, думаю, меня поддержат. Последние слова он отнес непосредственно к Астахову, но тот продолжал гнуть свою нехорошую линию: непроницаемо молчал и покуривал, сбрасывая пепел в бумажный кораблик. «Да что они с Сысоевым „сговорились“ в молчанку играть?» — подумал в сердцах Яремов и, сердясь уже не на шутку, сказал: — Может, товарищ Астахов поделится своим мнением? — Успеется, — сказал тот, гоняя кораблик между ладонями. — Дайте слово Бурчалкину. — Разумеется! Прошу, — пригласил Кирилл Иванович. — Только одно пожелание: вкратце и по существу. Роман поднялся. Астахов жестом показал ему «спокойно!», а Голодубов и Плетнев таинственно перемигнулись, будто приставили к двери щетку и теперь ждали, на кого придется удар. — По существу так по существу, — выдохнул из себя Роман. Он заметно волновался. — Не на ту высоту, Кирилл Иванович, вы меня послали. — Кхм-кхы, — кашлянул Кирилл Иванович и заворочал шеей, будто собирался бодаться. — Я понимаю, — продолжал Бурчалкин. — Агап Павлович признанный ваятель, и ему хочется быть первым пожизненно. — Вкратце и по существу! — напомнил Кирилл Иванович, а сам подумал: «Спятил он, что ли?! Откуда такая смелость? И Астахов молчит, черт бы его побрал!.. И Сысоев давеча примерялся…» — В этом и есть существо, — сказал Роман. — Из-за чего, собственно, загорелся сыр-бор? Да из-за «Трезубца» Потанина. Я сам тому свидетель. Потанин стал поперек дороги, и одолеть его в равной борьбе ой как трудно. Но ведь чтобы стать первым, не обязательно обгонять вторых или там третьих. Куда проще не допустить их к «состязаниям». Так оно надежнее… Агап Павлович и замыслил: напугал честной народ крымскими «гладиаторами» и, немедля, кивок на Потанина — «Вот он, их прародитель! Доигрались?!» — Вы отдаете себе отчет?! — с хрипотцой в голосе поинтересовался Яремов. А сам подумал: «Откуда такая безответственность… И спроста ли Сысоев к лампочкам примерялся?» — Отдаю, иначе не стал бы говорить. Глянуть бы вам на этих «гладиаторов»?! Это же голубая мечта цирк шапито. По сравнению с ними Бим и Бом — это мрачные самураи. Не посчитайте за оскорбление заслушать несколько строк из нового сочинения Максима Клавдина:Глава XXVIII Похищение
Это было странно. Дико. Но Белявский не врал. Он действительно был укушен. С утра пораньше он повез Золотарю давно обещанную собаку. Звали ее Шарик, но свою кличку она игнорировала. Пес был огромен, ушаст и, судя по прозеленелой медали, умен. Тем не менее он обошелся Гурию Михайловичу даром, за одно обещание: передать в хорошие руки. На этом прежний владелец особенно настаивал, но отдал пса с нескрываемой радостью и прибавил от себя на дорогу батон колбасы. На прощание Шарик обнажил в зевоте моржовые клыки, щелкнул ими, как затвором, и без уговоров полез в машину. По дороге к Золотарю Шарик мрачно жевал колбасу, вытирал морду о заднее сиденье и дышал на Белявского чесночным духом. Управлять машиной становилось с каждым метром все труднее. Уповая на капитана Кандыбу, Гурий Михайлович въехал под «кирпич», вывешенный прямо у самого подъезда, и затормозил: — Ну, Шарик, вылезай! Пойдем прописываться, — развязно сказал он, подбадривая самого себя. Шарик оглядел незнакомый двор, поднял замшевый нос на «кирпич» и, приняв его сдуру за луну, оглушительно завыл. — Вот, скотина! — выругался Белявский. — Ну чего пасть разинул? Ведь не к скорняку веду. Он схватился за поводок и дернул. Пес уперся. Белявский поднатужился и потащил Шарика по асфальту, как санки. «Ну и кобель! — подумал он, обливаясь потом. — Жрать горазд, наверно…» На верхней площадке пес ощетинился и обещающе зарычал. — Шарик! — крикнул Белявский, пританцовывая с ноги на ногу. — Фу! Для тебя же, дурака, стараюсь. Там… там колбаса, я тебе обещаю, — добавил он, тыча пальцем в дверь. Пес не верил. Тогда Гурий Михайлович привязал его к перилам, а сам позвонил. Дверь открыл Золотарь. Он был в пижаме и с зубной щеткой в руках. — Ну, Иван Сысоевич, считай себя Мольером! — обрадовал Гурий Михайлович. — Привел я тебе собачку. А как же! Чистый домбер-баскервиль. Медалист, умник, отличник дрессировки… А как же! Прямо с границы, оттуда, «где тучи ходят хмуро». — Анюта! — взбудоражился Золотарь. — Ты слышишь, Анюта! — Тс-с, пусть будет сюрприз, — сказал Белявский. Изнемогая от усилий, он подтащил упиравшегося Шарика к дверям и на последнем дыхании пинком перевалил его за порог. Пес проскочил, но, извернувшись, цапнул Гурия Михайловича за ногу. Белявский ахнул, добавил ушастому пинка дверью и лег на нее грудью. Из квартиры донесся глухой грохот, злобный лай и крики: «Помогите!» Белявский с ужасом уставился на драную штанину и на одной ноге поскакал вниз. — Дворник! — крикнул он уже из машины. — Зайди к жильцу из пятнадцатой. Он просил… — От дворника слышу! — огрызнулся дачник-огородник, погрозивши вслед машине саженцами. Но Белявский пропустил это мимо ушей. Наезжая на красный свет и сигналя, как скорая помощь, он летел в поликлинику. Пока доктор осматривал ногу, перепуганный видом крови Белявский обещал ему квартиру, путевки и устройство родственников в ученики к профессору Нейгаузу. Так он надеялся заручиться надежным лечением. Доктор слушал и мрачнел. — А пес-то здоров? — спросил он озабоченно. — Еще бы! Еле ноги унес, — заверил Белявский. — Вы меня не поняли. Я хочу знать, что за собака?
— А черт ее знает! Чуть меньше теленка и, что характерно, с медалью… — С медалью? — переспросил ординатор и посмотрел как-то особенно Белявскому в зрачки. — Это точно? — И обращаясь уже к доктору пониженным голосом, сказал: — Мирон Лукьянович, опять собака и медаль… Может, то же, что и на улице Веснина?.. — Не исключено, — промычал Мирон Лукьянович. — Для начала сорок уколов. Белявский посинел. По его телу забегали гусиные мурашки. — Доктор, голубчик, хотите на бразильцев? — запаниковал он. — Или, может, квартиру, а? Окно на юг, в историческом центре… — Вот видите? — ординатор отложил шприц и заговорил на тарабарском языке, из которого Белявский понял только «Сипун» и «улица Веснина». — Не надо! Вы не вправе так ставить вопрос! — истошно заголосил Белявский. — Я автор книг!.. У меня Антон Пахомович… Капитан Кандыба… — В палату, — тихо скомандовал доктор. Дюжие санитары с материнской строгостью усадили Белявского в откидное кресло и повезли по кафельным коридорам. Кресло было на резиновых шинах, и несвязные бормотания насчет «связей в ГАИ» воспринимались санитарами как логический бред.
В квартире Золотаря события развивались еще кошмарнее. Двери там были обиты лишь с внешней стороны, и пинок получился на славу. Взбеленившись, пес загнал хозяев в ванную и теперь изгалялся в комнатах, вымещая зло на чем попало. Иван Сысоевич приложил ухо к дверям и затравленно молчал. Анюта всхлипывала на краешке ванной. Из гостиной доносились плотничий шум, хруст керамики и сухой треск раздираемого полотна. Месть была страшной. — Ты сам… сам во всем виноват, — корила сквозь слезы Анюта. — Жила бы себе у мамы в Белужинске. А то трубка, чертовы штаны… Ты… ты сгубил мою молодость! — Анюта, опомнись! — воскликнул Иван Сысоевич. — В такой час и личные счеты?.. — И приятели хороши, — не унималась Анюта. — Погоди, они льва тебе привезут японского… — Но почему японского?! — возмутился Золотарь. — Там тигры, дура… Ну никакого духовного роста! Иван Сысоевич опустил бороду в раковину и напился из-под крана. — Конечно, дура, — звенящим голосом сказала Анюта. — Вышла замуж, чтобы в ванной куковать!.. Золотарь подавился водой и зафыркал. В таких случаях он уходил обычно в другую комнату или уезжал к умной Инге. Но сейчас это было неосуществимо. — Да ты понимаешь, что такое настоящая жизнь? — затрясся он, роняя с бороды мелкие капли. В комнате послышался сочный хряст и надрывный кашель. «Трубку перекусил! — подумал Золотарь. — А там никотину… Может, сдохнет?» Пес, однако, помирать не собирался и доказывал это активным бесчинством. Зудение Анюты становилось нестерпимым. — Ну вот что, — сказал Иван Сысоевич, прислушиваясь к шастанью пса в прихожей, — наша совместная жизнь становится невыносимой. Я не желаю иметь с тобой ничего общего! С этими словами Иван Сысоевич скинул тапочки, перелез через бортик ванной и задернулся хлорвиниловой занавеской. Анюта помолчала, а потом громко прыснула в кулак. — Вот дура! — сдавленно шепнул Золотарь и, скрестив руки, погрузился в размышления о невежестве толпы. «Гений — звание посмертное», — горевал он, шевеля босой пяткой затычку. Мысли Анюты были приземленней. Она хотела есть и думала о пироге, оставленном на кухонном столе под салфеткой. Стасик между тем поднимался по лестнице, напевая:

Ничего этого Золотарь не слышал. Распря в ванной не затихала, и утомленный междоусобицей драматург включил душ. Проливной теплый дождь заглушал посторонние звуки. Выскочив на улицу, Стасик забегал вдоль тротуара, подавая знаки встречным машинам. Картину он решил сбыть немедленно. Втиснув «Голубого козла» на заднее сиденье, он велел таксисту ехать в комиссионный магазин «Антиквар». У входа в комиссионный толпились ленивые дневные зеваки. Образовав в дверях затор, два грузчика-садиста пропихивали в магазин парус-полотно с римско-греческим сюжетом. Зеваки восхищались размерами полотна, гадая, сколько оно может стоить и пропустит ли его дверь. Полотно протиснулось, разочарованные зеваки разошлись, и Стасик проследовал через выставочный зал в узкий аппендикс, где сидел Ян Пшеничнер и оценивал приносимый товар. В руках у него была большая микробная лупа, через которую он смотрел одним глазом на картины, а другим изучающе косил на клиента. Назвав сумму, он прятал лупу в карман халата и откидывался всем телом назад, как бы избегая пощечины. «Янчик — наш человек! — сказал сам себе Стасик. — Надо подождать, пока лишние удалятся и — к делу!» Он незаметно пристроился за углом и, чувствуя приятное томление под ложечкой, стал продумывать программу вечера. Регламент вырисовывался довольно четко. Парадный ужин в «Савое» возле рыбного фонтана. Он, Роман и Карина. Крахмальные пирамиды ресторанных салфеток. Серебряное ведерко с колотым льдом. Непринужденный обмен золотыми кольцами. Поздравительная открытка отцу Герасиму. «Открытку лучше послать с видом Новодевичьего монастыря, —подумал Стасик. — Туда ему и дорога». Янчик тем временем освободился. Последний посетитель ушел от него, бормоча неясные угрозы куда-то жаловаться. — Ну вот и свершилось! — сказал Стасик, появляясь в аппендиксе с торжественностью адмирала, поднимающегося на палубу, что бы принять парад. — Свершилось, Янчик! Можешь меня поздравить… — С чем, Стася? Тебе прибавили жалование или наградили часами? «Ну, выдержка! — мелькнуло у Стасика. — Нет, нет, так ты не собьешь цену. Но силен, надо отдать ему справедливость». — С твоим хладнокровием, Янчик, только капканы на песца расставлять, — похвалил он. — Но на меня это как-то не действует. Меньше пятнадцати тысяч можешь мне и не предлагать. Итак… Але оп-па! — и повернул «Голубого козла» лицом к Пшеничнеру.

Янчик вынул из кармана лупу и, поигрывая ею, как кастетом, едким голосом сказал: — Пятнадцать тысяч!.. Вы всегда так смеетесь, Стася? У меня все-таки трое детей и… — … И все едят, как инспектор на именинах? Знаю. — Вы все знаете, Стася. Но, во-первых, тут не клуб шоферов: копий мы на стенку не вешаем. А во-вторых, вы знаете, что такое отвар от куриных яиц? Так вот, этот бульон я наварил на подлиннике… Головную боль я имел с «Голубого козла» и только: взял за пятьсот и отдал за пятьсот. Голубое теперь в Париже не модно, а у меня по-прежнему трое детей и Русланчик ходит в музыкальную школу… Что вы улыбаетесь? Очень, я вам скажу, музыкальный мальчик. — У меня тоже неплохой слух. Но я так и не разобрал, что ты там пролепетал про «копию». Вот подлинник! Живой. Нецелованный… — Ну так можете его поцеловать: подлинник — гори он огнем! — прошел через меня в пятницу. — Послушай, Янчик, — прищурился Стасик. — Ты даже не представляешь, как я люблю сказки Андерсена. Но двух подлинников в природе не бывает. — Вот именно! Вы же умный человек, Стася. Зачем же вы делаете из меня идиота? — Да, я умный. Очень умный! — сказал Стасик, сатанея. — И если ты, Янчик, врешь, тебя не найдут даже в эту лупу. У кого ты купил «подлинник»? Когда? Янчик посмотрел на Стасика и понял, что тот выполнит обещание насчет лупы, невзирая на музыкальность Русланчика. — Зачем такое лицо, Стася! Не смотри на меня так, пожалуйста… Одну минуту… Разве я могу врать? — забормотал он, роясь в картонном ящичке с квитанциями. — Вот, пожалуйста… приобретено у товарища Белявского Г.М… двадцать восьмого июня. У Стасика словно оборвалось что-то внутри. Все еще отказываясь поверить, он взял негнущимися пальцами бумажку и прочитал: «Белявский Г.М. 28 июня». На улицу Стасик вышел, вое еще прижимая картину локтем. В голове было сонное затишье. Улица казалась ему лесной просекой. Прохожих он не замечал. Ноги несли его автоматически. Опомнился он на набережной. Дул ветер. К реке сбегали ровные, как пастила, ребристые ступени. Стасик спустился к воде и присел, обхватив руками колени. Повеяло сырой прохладой. На воде приплясывали солнечные блики. Стасик зажмурился. Он сидел долго. Перед глазами, словно мухи, проносились видения суматошной погони… Мельтешил над чучелом Тимур Артурович, бился в пьяной чечетке Василий, вскидывал босыми ногами Лаптев, убегал от расплаты Белявский, мчался с ведрами Мотыгин, задыхался в табачном дыму Золотарь. «Бега», — подумал Стасик. Волны с чавканьем бились о гранит. Тишину над рекой распорола гармошка. Показался катер с массовкой. Стасик поднял «Голубого козла» и с размаху швырнул в воду. — Что же, одолжите мне вашу улыбку, — сказал он. — Я сделал все, чтобы жизнь была прекрасна… Но пока она только удивительна. Катер приближался. Смех и топот на палубе усиливались. Волны шли своим чередом.

Последние комментарии
1 час 49 минут назад
1 час 52 минут назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 15 часов назад