Конец Кикапу. Агатовый Ага [Тихон Васильевич Чурилин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Тихон Васильевич Чурилин Конец Кикапу. Агатовый Ага

Конец Кикапу
Полная повесть Тихона Чурилина
 Марка, заставка и Буквы из пролога XV века работы Корвин-Каменской
Марка, заставка и Буквы из пролога XV века работы Корвин-Каменской
Брониславе Корвин-Каменской
Зовет ли ад, но из ада выходит лишь вечная невозможность смерти.Агриппа д'Обинье.
Кикапу по своему очень хорошо устраиваются.Э. По. Несколько слов о комнатной обстановке.

 ак кончился Кикапу: – просто прекратили протянувшееся: – ослепительнобелая бритва – и невыразимонежная яркая голубая глубь: – блеснула блесной бритва – и продолжала быть неподвижнонежной голубая глубь; где, как, когда – осталось и останется тьмой, – тайной.
Но невемое надвинулось напослед – в гулком глухом и мертвом совершенно городе, некогда крепости караимской, приготовили тело, отеплили, (а может быть и отодвинули, еще) тайну текущую невидно немо – и все таки знаемую всеми (почти).
Кто был при последнем: – старик священник хранитель кенасы и города – один –; Еелленна, Ра, и Denisli ### триптих тронный его, ежесущный навсегда, навек; странный старичишка Корчагин; Геертаа, – Дзое-Сан, жены последняго диптиха; Ронка – Полонии пламя, – и никого из мужчин, даже палачей – последних – даже их: – никого.
Впрочем были составлены слуги: тюркский цирульник, еще один (Одн-Инд) и немного музыкантов, орфеев оркестра тюркскаго, тюкавшаго тренькающаго и текущаго грустно, страннозаунывно и медленно вниз звуками зурн урнных от назади оставшагося, от Омеги, навсегда дорогого древа Смерти.
Музыканты молчали, когда коронно поднялись три тронных первых по тернистокаменной тропе к воротам; – они знали, что это не туристы, о нет! – потом пара (– диптиха –) прошла – молчали; потом поднялась Полонии пэри – Ронка – коронно; музыканты молчали – и только когда подковылял припадая, и падая будто, подымаясь в расщелинах скал и камней Корчагин, – залепетал темные, томные и грустные грузом, темно, звуки оркестр тюркский: – тюкали в бубны, толкали; тренькали словно стременами (струнами), зудели зурной, – но отмахнулся отчаянно Корчагин – и замолчали навек (так будто бы), окончили сладостногрустный сбивчивый сказ.
Священник ждал у ворот, строгий, ничемунеудивляющийся (затаивший, может быть, плевок последнему преступлению).
И там, в темнице, у щели над пропастью приготовили бритие – брение сделали древнее: пену из пемзы, кила и воды; – и острослепительная бритва опять блеснула блесной, – но для порядка, для убора в урну, – для последнего туалета.
Так готовились короновать Кикапу – воздвигнуть телу трон (тлену плен); готовились мыть, брить, брать; – и ждали жутко его белые (бледные) близкие, ждал странный старичишка Корчагин, ждал священник, ждали музыканты, – и никто не знал: как – знали: что – и все думали о разном золотом дне – об урожае из урны, о свете из смерти, о воскресении из весны после – после – после странной и страшной смерти – Светлааннаа!!!..
Легче лани летели лучи луны (там, в темноте тайнонезримой) – а пока зрел золотой и медный полдень – было грозно тихо, было знойно и глухо, немо и мертво – во имя полдня – Теемницааа!!!..
Таз там в темнице у щели над пропастию глухо медноурчал – чистил Одн-Инд широкий ларец сей, светлейше, пемзой, килом и водой для того, чтобы кровь от брития и омовения не обрызгала б показуемой туристам руины – тюрьмы давнейшепрошедшей.
Но вот глухо прозвенел в золотомедном зное звук – ток, – точно телеграфная медленно ахнула струна, невидная, грозная, Герцова, – насторожился священник – и гортанноглухой, караимский, татарский ли, тюркский ли словозвук издал – приказание – и оставил покой Онд Инд, с ним и цирюльник тюркский и вдвоем вошли в парадные аппартаменты, где черный чулан хранил странные останки Кикапу.
А воздух возливал благовоние – бальзамический белый белопрозрачный этер. И небо наверху нежило навечным навесом – ярколазурный яровой (весенний) навес. Мертвый, в бане татарской (тюркской) таял в зное каменный город и вниз вилась белым путем горная тропа. С верху – вниз, с низу – вверх, фейерверком белоослепительно окаменевшим. Окаянным и Каину дорожка державная, проржавевшая золотом солнечным. Кончено: Кикапу! – По ней поднимется последняя смерть, смерть без весны – воспоминания, воскресшей имитации.
По ней спустятся спутники: три, – двое, – одна; – странный старик. По ней отойдут Одн Инд, и цирюльник, и музыканты.
И в воротах возстанет священник старик. Затворит ворота, запрет и останется один – со упокоенным недавнопогребенным (как!!!) Кикапу.
Потом потянется прежнее – приедет семья священника, станут туристы. Станет… среди смерти жизнь, а пока – показ продолжается, сейчас, сейчас.
Гул прогудел дальний (дольний) еще раз; еще раз ахнула глухо-медленно – телеграфная невидная, где-то, струна, внятно, всем, – и, строго-слушая все-время, оборотился к слугам старый священник – и дал знак, мановение, немедленно передавшееся им. Строгопослушные, покорные давним прошедшим рабов, плюсквамперфектумом предревним своим, вошли Одн Инд и цирюльник тюркский в чулан. И стали собираться разом роковые Разы, встречные Судьбы, придворные Двора: три первыя – две – одна – Корчагин, – все, все до дна – и днесь приближенные, приближенные к ранней – страшной – смерти его, к ранней – страшной – славе его – собираться в темницу, к щели над пропастью, – смотреть и стоять действо давноприуготовленное последнего туалета.
Первой пошла, идет, Еелленна – первая любовь, лед и лен, Матери лик почтиповторенный (Сольвейг??!!!) – темные волосы венком веют мягким, платье простое синяго шелка шорох сладостный держит около, а очи серыя свет лучат материн – (Его Матери!) – и образ таят тот-же, Ея, святой, – и рот, расцветший, распустившийся немногобольше правильных мер, но милый, но чудеснообещающий розовобледный рот – и тростниковое тело, и девичьи груди негрузныя, чуть черночермно набухшия под платьем – все повторяет первый сон светлый – [(студенческий сон!..)] – первый ток тот животворный любовь, любовь льнянольдяную, святую Сольвейгину вёсну…
Вторая, – вот, вышла вышне, (идет) – Ра, древний драгоценнодар, Рок и Род, оотца ценная цельнотемная венная великая кровь – кровь Исаака, Иакова, древо Давида, роза Салима, – Ра, Рахиль, Роза; – чернотемныя волосы венцом возлегли жарким, жадным (жоостким!); платье чернаго крепа крепко короновало тяжко-темнозолотой стан и статное тело; лик великодревен и молод, древней девушки молодостью; библейской неЛейи, – Рахили, Ра, прекрасен и летен лик; – и очи очистили тело, и очи державят дух, темнокария, темнозолотыя знойно, темнонебесными арками отгражены – бровями; и зубы древнебелы, и уста устремляют утому и пыль, – красны, – и прекрасно обледнены дорогой ценой, тенью мучений дорогого, друга, жениха неневестнаго, Мертваго Пиерро, Кикапу кромешнаго в новообразе ныне – все сие светлый и грозный лик любови роковой второй, встречи предъужаса, площадки последней пред бездной – любови, любови, любови лельеноснолетней, смертельной, странной, – Лиллитина лета.
И теперь третьяго трона тень, синеголубая, небеснолазурная, зеленоослепительносверкающая стройнорастекающимся волнообразно – волнами – валами – теплым телом, топким, томным но упругим неустанно – ста цветов, ста волн, ста стай дельфинов дерзкоскользящих – на дитя, деву державную стройную смелую палестр похожую странно станом и телом, а главой с золотобледными мягкими кольцами кудрей и глазами яхонтовешними на ребенка – стоит Денисли, сливаясь главой с яркоголубым горящим нежным небом, а ногами наступая, ступая, исходя из покойной полосы сереющаго голубо и грозносокрыто елевиднаго майскаго моря, виднаго с верху, возлегшаго близко на горизонте к подножию неба, к горнилу горы – Денисли, Майя, Марта алозлая врагиня.
Веют вольные, вольнонеобузданные вешне ветры, вьют венки для кудрей, возливают вино власам, вливают в вены Венуса волю, – в жилы живыя (в алоартерии!) – бешеный бег краснорыжих кровных коней! И поют: наша, алая мати, Астарта, Венус – воль, веди весну в луга краснорыжие лета!!..
Это – Лжемать, Лжедева, Лжедитя, – это моря Майя, Морская, Денисли – это третий срыв в серебристоголубой Март – яяяркая любовь, любовь, любовь к Лжелиственному Древу, к Морской Простори, к Бездонной Бездне – к Жжженщщине Жжосткой!!.
Так три первых первыми вышли, идут обратив разно лики, в разныя стороны, несмотря, ненежа, невидя как бы друг друга. Только тихий ветр, вешнедыханьем вздыхая, составил невидное соединение, соединил как бы двух первых, Еелленну и Ра. Невидно, немо, незримотайно.
Одна Денисли – одна; не коснулся ея ветр, не соединил с теми, соподругами странными троннаго триптиха, идет, державно держа путь: пусть. Дерзкая Денисли: плаценда ея с морем – Март, масса масти червоной карт. Аррьергард ея – мена мест. Авангард ея – лета-ложь, зной-зло.
Вослед ей идет теперь две остальных – диптиха пара – Светзаара!!!..
Тихо такт ломая правой своей ногой нежной, аритмируя хруст хрупкой стопы своей наступающей, идет зорко Дзое-Сан. Ангел Таити ликом ленным и Япония овечка, овечка, внешнетонким телом, в прозрачном свете лица лелеет она Омегу, Смерть, конец.
И ветер веет над ней северный, строгий, зимний (Смеерть!), но глаз алмазы ярчайшие – южные – темные – сверкают иным: и мы в огонь за Арго, Аргонавты нежнейшие!
За ней, нежно-невидносоединенной тенью белых февральских дней, снегов горних, – шествует вторая Пары, диптиха, – Геертаа. Глядите: лед и лен тоже, как и первая триптиха. Глядите: горний образ около ней – пастушка, пасущая дела добрыя друга. Глядите: лик свеж, румян; ярок красками радостногрубой жизни лик любезный ея – но глаза: лед и лен горний, чистый, далекий, святой. Свят, свят, свят – гррреми Геертаа, сил свивай свивальник охраняющий, ему – Жениху – Силу давай, небо на земле, Сольвейг странная, Северкелин[1] светлая – любовь, любовь, любовь льда и льна для Чертога Жестокаго, Участи Урнной – Ббббурной!!!..
А за ней змейкой зло золотое невинное (доброе!) невидновьется – от Дзое-Сан связанной с ней, мысль-зависть девочки бедной больной, беееленькой бури – в урночке лазурнокошмарной кораллик нерадостный: мысль мести (кому?)
(И к Денисли добирается змейка-зависть – злоице доброе Дзоеньки-Сан, только иноцветная: сердолик восковой желтый цветом).
Три тронных триптиха Перваго протекли, идя, шествуя вперед, властновлекомыя волею Вышнею (нижнею); Пара прошла, видите, диптиха, – Вторыя; теперь пэри Полонии к лону Омеги медленно вышла шествуя в шорохах гор, в белизне колыбельных камней, в высоте всевеселаго вешняго яркаго неба.
Море под нею: не надо ей моря; горы у главы – входят в онь; камни пещер, камни дорог подножием стоп ея – и сверкание, свет сомнамбулический – недвижный: льда; вод, огня агоническаго остывшаго днесь – в зрачках, в нимбе над головой, в очертаниях дивовой – Данта – главы.
Всесильна связь с лесом в теле, темна и тайна. О ней ни слова, серебрянаго-ль, златого, меднаго. Парча покрыла, тяжелая, тело: в ней стройна она, будто, тяжелая, – вид впереди. Дальше довольно: тайна. Тааайна!
И это любовь – любовь леса к лесу, камня к камню, пещер пор к порам пещер; небо над нею, горы гордятся, жестоко жар жаровни желанной объял грудь, тронул тело, огрозил глаза. Гроза – роза, любовь – ледник, наслажденье – наступ туда.
О, любовь, любовь эта, Полонии пламя льдяное, смерть впереди, лето и море и мирт текущий цветущий целостнолетне столетьям!!!
И за Придворными первыми – тремя, – двумя, – одной, желанными женами Двора – резкий, появляется первый и единственный из мужчин, спутник, старик странный Корчагин. В корчах застывших камней, впадая и выступая из них, припадая и падая, колышась, шатаясь, шелестя шагами гулко в узконеправильных колеях камней, идет истовый спутник, дополнение, мелочь каждой и каждаго, обыденнотронная их жизнь.
Приказный, писец что-ль, сморщенным ликом своим; водянистоголубые бельмовые глаза елей льют хитрый истовый мелочной жизни; морщины – моря, острова, реки – карта прожитых путей, пыльных и полных дорог, мира жизни отжившей и сколь нужной всем! Смех сверкнет разлитый и размытый по всем границам лица – все темницы его, все щели, омыл смех странный проникающий всюду – смех коронной комедии, которая грядет и ждется миром. Комедиант, писец, приказный, шут штоль нужный несомненно, вот идет он, глядите – грядет, грознопроказя сокрытым словом своим – теперь молча, иной, тайный, тайнонужный.
Путь их к путам последним, к пещере, к темнице, где щель; там уж ждет Одн-Инд возвратившийся вспять из чулана; цирульник тюркский остался стражем в тайнике темном; священник стоит неподвижно встречая кортеж коронных гостей – сбор полон, воздух пеной нежноголубой горней поит всех собравшихся, собратьев собора, – тихим питием предвечной весны.
И вот, вдругоряд, раздался гул поднебесный, звук-знак, звон воли немотайной, непреклонной, клонящейся к концу. Сторожа все время великий тот знак, зов, – неподвижный все время для всех, – сам дает знак священник; – Одн-Инду и цирульнику, (возвратившемуся вновь), – рукой, мановением медленно-тяжелым – и те, рабы изстари, уходят сейчас-же парой послушной, один за другим, Одн-Инд и тюркский цирульник, туда к чулану черному окончательно за коронными останками Кикапу.
А тут ждут урнно, молча, мертво, без страстей, – страсть последнюю, вид дорогого, кромешь кроткопритаившуюся напослед. Грозна группа: Трех – Пары – Одной – старика; – груз ждут роковой, гром замерший, замерзший – рун и саг Страстей своих, дел державных Дебрей – каких? но коронных несомненно. Вид!.. веселитесь……
Веселитесь: выходят двое слуг из дверей аппартаментов парадных; на раменах их меднокрасная темноблестит парча; белым неясным облаком осевшим с гор (с неба?) видны на покрове покоящияся странные и страшные останки Кикапу.
Веселитесь: идут, ближе, белея верхом, блистая темно парчей, неясные сами, слуги, стражи, кустоды… А оркестр безпокойно сбирается вместе, рождаются страннонестройные стоны и срывы лада будущих песен – последняго лада мертвому мертваго марша.
Вот! – вид! – видьте: приблизилось облако, прежде буйный буран, гром погасший, умолкший; в чем молочнобелом облекли ледяное, яркое (темное!) тело?; нет короны, нет венца – только воздух веет что-то (чернь), только море льнет дальним сероголубым льном (ложь!) – только горы грозы готовят великия, мир кончают великий видный миру (месть! бой!..) И лик виден всем вкупе – собору: желтый, первый цвет спектра его – кожа лица; волосы черные (цвет второй спектра) – каймой черносинею окаймляют линии твердыя верха лица; веки великозапали – запад пал на лицо; восток всезатаил тайну будущей бури и покоев Покоя – Единственнаго Воскресшаго Величия.
А пока кажет тлен – страшно брашно телеснаго тлена, синезеленобледная зима зияет на желтой земле постояннаго лика – и дух Урны, увы, слышен сладкотяжелой струей, своей воней. Веселитесь. – Знак; немо проход открыл собор; пропустили тело влекомое слугами к щели; принесли, ждут.
Прямообращаясь знаком, приглашает священник войти, всех, в темницу; вошли все. И устремленные, прикованные неудержимо к нему, взоры страннорадостно блещут – это солнце последних лучей – фиал алой всеединой любви, фокус финальный великосоединенных лучистых любовей в одно – в Омегу окончательную, в – Смерти твердь.
Персть почтиоконченная (почти!!..), чем бы закрыть резкое твое лицо, черные твои чугунные волосы – не выдержат жаровни жар жадные твои близкие.
Все равно – нож вот он, вес, всецел: вид лица, ожидание даруемаго действа. Заблестит сейчас час смертельносветло – ждут люди, – и ждет небо, ждут горы, лес, камни, – и тихо притаившись вдали, ожидает марное маркое море.
Сейчас – острая, вкось блеснет блесной бритва – как молнией – морю. Как гроза – горам. Как зарница нежному небу. Как луна – лесу и камням как яркий яросеребрянный ящер.
А людям – льдом проникнувшим до сердец ольдит, уколет, осмолит мертвым морозом. Роза грозная, блесна, бритва ослепительноострая – блесни!
Сейчас – опустили тело по знаку; сейчас – прислонено к стене строгонесогбенной спиной; – и цирульник тюркский таз подставил страшный с брением – кипит пена как грозовогорькое небо, кипит истово, и Одн-Инд взял голову грузную в руки – держать при мытье. Кончается житие…
Страшно… Тихо руками тонкими закрылась Еелленна и персты без перстней дрожат, как тростник перед грозой. Страшно! бледною стала, еще больше, древняя Ра – пора! – и очи, открывшись широкосильно пред тем – теперь опустили завесы, спустились ниц под тяжелыми веками, веря великому страху. Только третья Триптиха, троннолживая Денисли, лик свой неизменнорозовый держит открыто – статуя, дева палестр, дитя (ложь, море!).
Бледная, тоже спокойно, поиному, – прекрасна – сильно – стала, глядит Геертаа. Очи – Божьи образа яркогорят сильным светом; только левой десницей докоснулась до края платья пары своей – в помощь ей.
Чтож – камень вся, белый, пара ея; гордо стоит; яркоосвещая призрачно лицо, тень смерти крин кромешнокошмарный крыльями дикояркими своими осенила – и не пускает к пути нынешнему, к страху страшному сему, – к страданьям послесмертным супруга и жениха. Только тик и так – такт сердца – странногулко гудит изнутри, – из нутра небывало-худой погибающей плоти.
Да, девочка – ярка, овечка, – пострашней сие урночки сверхпереполненной нежитями жуткой доли долинной твоей!
Чтож, последняя, пэри, Полонии пламя, Ронка, в роскошнотяжелой парче, – что, как она глядит, как стоит стояние сие страстное? А вот, видьте все: слезы каменныя каменным градом остыли очно, стоят в очах отверзающих он: – мука там, урна там страшнокаменная – лик весь жениха и супруга (друга!) отобразился, как в зеркале зимнем.
Полна парча телом темнокаменным – знаменье, знаменным, говорю, словом – мно-о-го силы в теле том, нездоровом гармонией монной – мира и неба.
И еще один, останный, глядит, сверлит зраком, зраками своими бельмоголубыми. Те-те-те, – на кресте, некрестясь, распялся, пяля глаза старичок: молчок смеху коронному. Урона, урна тебе, смеху сему твоему – крест, от, – смех твой сейчас – на нем положился. Гляди, не бледней, ей, ей! Смелей, смеюн, – не юн, а стар ты в арках смеха, в красноярких арках, коронной комедии шут грядущий.
И пуще страх всех объимет: подымут сейчас грознее главу, глава грузнее, гордясь, лик окажет – смажет кистью, в брении белой, цирульник тюркский ланиты льдяныя, лицо кольцовое: браду брить будет брадобрей – в последний раз!
В последний раз! Глаз скривился левый, лунный, бурумнобедовый, Кикапу, – кривится, кривится – мыться тяжко тебе, трон тронов трех – чернец, червнец, крот коронный, – в последний раз кривишься ты – ишь, свело лик твой темнотяжелый в какое мурло! (Тяжело.)
Ах, воют, воют скрежеща камни гор, пещер, камни каменных троп – гоп! воют – о-о-о, – моют мертвое тело томя, лик леденя ледяной водой дождевой, – моют, моют в последний-от-раз, о, горе, – предсмертные, инертные истово (что-о!?) странные останки Кикапу.
Неподвижно тело; глава, качаясь вамо и семо, омытая брения пеной, водой, – и власы – потемнели грозово; – слово, смотрите, возсядет средь уст – и спадет (вот?!!) – на воскрыльях слетит – и сорвется: вввниз или ввверх!
Чччерноуст (златосереброуст, медноуст, жлезноуст!!) – жив ты жадно, во аде или рае, – сгорают, сгорают все люди Двора твоего – встань, пора.
Нет, игра то – сгорают; полают, повоют природы отродья – угодья: каменья пещер, гор и троп. Гоп, гоп, гоп – поспокойней; – достойней держите кольцо, круг сей урнный.
Сейчас: мытие прекратилось. бритие начнется, началось – к началу подступают стража, кустоды – два, – раз, два!..
Мылят щеки, мылят лицо, – в кольцо сероснежное пена, пенясь, обратила лик Кикапу; – вссс. пу… – губы, кривясь, крадутся, кренятся, звук воспроизвести великий – сопротивления – но в брении, в бездне брения тихи, покорны, мертвы. Терпенье!
О!.. дрогнули веки под пеной – переменой лик оживил темь и топь мертвых теней – гей! криво, кривится, змеится лик – губы грознее сдвиг, видно, свершают теперь – кривы! – кривей… ге-е-ей… бледней, бледнейте все на кресте положенные лики – кривится.
Да не боится никто: в последний раз смеется – смех; – смехом старым и новым прощает коронно Кикапу всех и вся. Всем и всему! Во тьму. Со-о-олнцу!
Но смех в сторону – света-ли, тьмы, – для того-ль вы собралися, браться собора, – ora, orate: молитесь – блеснет сейчас острослепительно, бритва блесной своей безпощадной навеки.
Человеки, молитесь: бритие началось.
Держит Онд-Инд истово голову; олово взгляда впилось в ось сверкающей бритвы; час битвы бедовой настал – ал запад, бел восток – сток крови суровоначнется, начался.
Держит цирульник тюркский бедовую бритву; сверкает, сверкает сталь нестерпимо в злате заката, в пурпуре урнном лучей – ключей конца; се-й-чаа-ас!.. брить молодца!
О-о – сверкнула бураннобело бритва; о-о-о – касается конец ея щек – моолнией льдистосверкнувшей ожгла лак зеленый небритой брады – вооды! еще. щелк!
И шелк настает тало, мало-по-малу, – тает синь и темь черносиней жосткой брады – и оливковоатласный лак настает на ланитах обритых быстро неистовой бритвой – и кровь, кро-о-овь, в правую бровь накатила, и с мылом – с килом и пемзой – смесившись, синеалыми каплями капает в таз. раз. два. пять. пять. – вопият капли алочерносиния. росы смертнаго инея.
Таз наполняется кровию; суровочерные волосы плавают там же в тазу – небо в грозу, грозящую бритвой и бедами, таз этот медноурчавший еще недавно, теперь приявший останки: волосы и кровь Кикапу.
И еще раз кривится глаз, буровеет бедово левая бровь – о, суров лик великий, кривляющийся ныне кромешно – в раз последний последне смеется, смеется, смеется коронно и тронно, с трона в урну ухнувший Кикапу.
В последний раз. Воон таз! Берите, кровавый, – вон! кровь и власы… – настежь миру и граду адски-открытыя двери. Берите-же вон, прячьте, звери!
Где звери? Содеянный страшно злом зверь, затравленный ранее, благороднобледный зверь-блед, над бездной у щели, в кельи-темнице, вымыт истово, выбрит, коронный, до крови, что наполняет таз страшный – один ныне, нынеотпущаеши, здесь, – а подлинноподлые, подлиннозлые, несодеянные – но сотворенные так Тайной Вечной – тех нет, те сокрыты, ушли от участи урнной – короннокарающей казни.
Зверь?! Поверьте, что сему, жуткоживому и в смерти, сейчас – скве-е-ерно: – «лучше псу смердящему, чем мертвому льву» – воспомните, многие, сии слова Соломоновой саги.
Ах, овраги жизни жаркой, жуткой твоей, – лжезверь, лжеутенок серый (лебедь, ленный, белый, всегда, – холубь в хаосе, голубой,); ах реки, рокововзжурчавшие напослед буйнобуранный бред; – о, море, марою Майской и Марта марою лестнообольстившее жаркую твою жажду (М-а-а-ать! Со-о-оль-ве-й-г…); – небо, нависшее столь злозвездно – бездна ныне все тебе, судьбе твоей, – и этер воздохнешь ты ужасно – жадно – в удушьи дыхая, – а вверху над тобой холмик сравненный почти с почвою нижней, с землей, – неподвижен в песочке – и потонешь ты, клик, слабая голоса лава, в грохоте дальнепроехавшей мерзостной бочки.
Это там, скоро когда то, – а ныне там-тама тоны звучат, – зурна уныло зурну восчуяв зуд золотой посылает, – бубен, бедный, бубнит, серебром скорбным цветя, разсыпаясь, – скрипки скорбят и флейта финифть финально лиет – свист свой серебряногулкий воздушный вия и свивая, стеная тонами – о, с нами и с ними оркестр весь орфейский и тюркский баюкает белое облако дымов – печалей ли легкоплывущих, туч-ли тяжелобуранных, самума ли силу таящего в себе – а может быть белоблаговонных ладана дымов державнонависших над зданием, виденном только что нами, навеки.
Свершилось! Сокрыто навек, уходит от нас тайна последних смехов Кикапу.
Свершилось – сгустилось общее облако дымов, в одно – не дно, а край мрачной тайны, ледяный, лишь лезет вверх, вид свой кажет, жёлтый и жосткий вид. Так когда-то яростномрачно, жесткий, торчал клочек черных волос.
А музыка утло из урны слышна, оклубленной облаком дымов – всё тише, всё тише… как мыши скребутся урнные звуки в слух… все реже исплаканный такт – ближе последний из алотаинственных актов – мрачнейший акт.
Ааааах. оборвалось – образовалась дыра в дымах – облако отверзлось – глядите:
В покрове грозный грезится гроб – тени роб, платьев придворных Двора его дам, окружают дом сей последний – бледныя тени, страннокривой статуй старика, священник и слуги – прощайтесь, подруги – черную честь отдайте, другие, концу Кикапу.
Во тьму – имени Твоему, нуу!!
Спускается сверху небесная тьма, обнимает, объяла; и алозажегшийся свет – алоблед; – и чуть возсияла, налево, где утренняя звезда, – новая группа светил: треугольник (– сбылось, слово, сказ, сага: страшная ранняя слава и страшная ранняя смерть) – комета конца Кикапу.
И се, в раз последний, последний грядет караван (карнавал): – три впереди, потом две, – – – – потом старик страннокривой, двое слуг, музыканты…
Идут, спуск свершая из врат, вниз, – террасой светлольющейся и остывшей каменный катится путь – вниз, вниз истово идите, дивы Двора, странный старик кривой. Пой им ночь, свети свет звезд – разъезд (расход) начался – тебе, восход зачинающийся, ещеневидный. Грядите из гридни грозной, темноносной вовеки, человеки.
А внизу, как сад во грозу, как град под градовой тучей – дивная видится долина. Белыя, белыя, – легкия как видения видятся в ней тени – древ, статуй, урнных фигур?…
Все есть очно там – каменныя надолго остыли фигуры и урны подлинныя беломраморныя траур подъемлют – и дремлют деревья разных пород; Род грозный мертвецов – отцов и детей – окунулся в струи Летей; ждут жадно, кротко, троннаго подъема из недр zетных земли. Ол-лллли, ляаааа, аа-ааа – лли – ляаааа-а. шепчут певуче древнедержав-ныя недра – цедра ценнейшая огромнаго я-яркаго плода огневого – огня внутренняго – утреннеурн-наго Огня – ляааа.а..
И лена лед и лен зеленозолотобледный лиет на видение – и облаком каждения какого-то, облаками остыли в тылу фигуры: урн и камней – ангелов окаменевших пред предстанием из мертвых – возле Воскресения. Долина льнянольдяная, зеленозо-лотобледная, спит в дыхании елеслышном пышных древ, остывших в тылу сем предвоскресном чудесно-живо.
Две ивы истовоскорбныя и Одна (древо) – со дна моря лукаваго, тайна алозлая его – и две Лозы легкия, прильнувшия Диптихом к Другу – – – – – – – – – – и нето дуб-корчага, нето инодрево единственное мужское, – группой роковой вошли в тень, в сень, в сад Иосафатов. Стоят облитые льдом-льном луны, окрытые облаками призрачных камней – каждения древнеостывшаго какого то – вот сольются со всем, споются в хор общий, ждущия жарко под арками Иосафатовой долины Единаго – не как все – Воскресения.
Единое Воскресение! Се ждет кого? Его ли, оставшагося ненадолго в недре темницы, у щели, бледной теперь во льду и льну луны. Или иного, созданную персть от бреда, бури восторга оргийнаго самоуничтожения, грозной гибели Икса. Все равно. Давно было – будет еще: пришествие, восшествие, воскресение Весны после Смерти.
Черти червонные, черви чернокраснорыжие извечно – век ваш адский кончен начисто, чен-чин-чик!!!
Се: слились с долиной, мглинной, белой, жемчужной от жара льдяного луны. Се: спелись, спелые, в хорале алом ожиданья очноединаго. И поглотила долина льдиннозлатобледная Иосафатова их, родичей Моих, придворных Двора (пора!) – воззрите ныне – сейчас – теперь на дверь отверстую – там таз, дымящийся мертвою кровию в луне, там гроб – роба временная бремени, беды, бурана – и осанна! там град новый радостный, там тень во елее луны, во льду и льну месяца мертваго – зеленозлатобледнаго лета.
Нет никого – отперт чертог – бог ли, бес, во гробу, един, – слуги слетели прочь – но чья дочь стройная в робу белопрозрачную одета, дева-дитя, двенадцатилетний Лель лунновешний, светлой тенью стоит у дверей отверстых настежь – для всех.
Лик – розовобледный, лебединый лик; тело – стройнорастекающийся вешний этер; но, Господи, – черты знакомы воочию – что??? ведь это дочь, дщерь той, что исчезла из пар, в арки долины ушедших, – те же, возобновившиеся вешне, черты – ты была камень от камней гор, от пор пещер, сколком скал, древом деревьев леса – завеса тайны упала, о алое тело, о стройный стан, – где парча, каменное неровное дисгармоничное нищее облекавшая тело – белое, стройное, светлое ныне видение?….
…. – – – Я была двенадцатилетней
ак кончился Кикапу: – просто прекратили протянувшееся: – ослепительнобелая бритва – и невыразимонежная яркая голубая глубь: – блеснула блесной бритва – и продолжала быть неподвижнонежной голубая глубь; где, как, когда – осталось и останется тьмой, – тайной.
Но невемое надвинулось напослед – в гулком глухом и мертвом совершенно городе, некогда крепости караимской, приготовили тело, отеплили, (а может быть и отодвинули, еще) тайну текущую невидно немо – и все таки знаемую всеми (почти).
Кто был при последнем: – старик священник хранитель кенасы и города – один –; Еелленна, Ра, и Denisli ### триптих тронный его, ежесущный навсегда, навек; странный старичишка Корчагин; Геертаа, – Дзое-Сан, жены последняго диптиха; Ронка – Полонии пламя, – и никого из мужчин, даже палачей – последних – даже их: – никого.
Впрочем были составлены слуги: тюркский цирульник, еще один (Одн-Инд) и немного музыкантов, орфеев оркестра тюркскаго, тюкавшаго тренькающаго и текущаго грустно, страннозаунывно и медленно вниз звуками зурн урнных от назади оставшагося, от Омеги, навсегда дорогого древа Смерти.
Музыканты молчали, когда коронно поднялись три тронных первых по тернистокаменной тропе к воротам; – они знали, что это не туристы, о нет! – потом пара (– диптиха –) прошла – молчали; потом поднялась Полонии пэри – Ронка – коронно; музыканты молчали – и только когда подковылял припадая, и падая будто, подымаясь в расщелинах скал и камней Корчагин, – залепетал темные, томные и грустные грузом, темно, звуки оркестр тюркский: – тюкали в бубны, толкали; тренькали словно стременами (струнами), зудели зурной, – но отмахнулся отчаянно Корчагин – и замолчали навек (так будто бы), окончили сладостногрустный сбивчивый сказ.
Священник ждал у ворот, строгий, ничемунеудивляющийся (затаивший, может быть, плевок последнему преступлению).
И там, в темнице, у щели над пропастью приготовили бритие – брение сделали древнее: пену из пемзы, кила и воды; – и острослепительная бритва опять блеснула блесной, – но для порядка, для убора в урну, – для последнего туалета.
Так готовились короновать Кикапу – воздвигнуть телу трон (тлену плен); готовились мыть, брить, брать; – и ждали жутко его белые (бледные) близкие, ждал странный старичишка Корчагин, ждал священник, ждали музыканты, – и никто не знал: как – знали: что – и все думали о разном золотом дне – об урожае из урны, о свете из смерти, о воскресении из весны после – после – после странной и страшной смерти – Светлааннаа!!!..
Легче лани летели лучи луны (там, в темноте тайнонезримой) – а пока зрел золотой и медный полдень – было грозно тихо, было знойно и глухо, немо и мертво – во имя полдня – Теемницааа!!!..
Таз там в темнице у щели над пропастию глухо медноурчал – чистил Одн-Инд широкий ларец сей, светлейше, пемзой, килом и водой для того, чтобы кровь от брития и омовения не обрызгала б показуемой туристам руины – тюрьмы давнейшепрошедшей.
Но вот глухо прозвенел в золотомедном зное звук – ток, – точно телеграфная медленно ахнула струна, невидная, грозная, Герцова, – насторожился священник – и гортанноглухой, караимский, татарский ли, тюркский ли словозвук издал – приказание – и оставил покой Онд Инд, с ним и цирюльник тюркский и вдвоем вошли в парадные аппартаменты, где черный чулан хранил странные останки Кикапу.
А воздух возливал благовоние – бальзамический белый белопрозрачный этер. И небо наверху нежило навечным навесом – ярколазурный яровой (весенний) навес. Мертвый, в бане татарской (тюркской) таял в зное каменный город и вниз вилась белым путем горная тропа. С верху – вниз, с низу – вверх, фейерверком белоослепительно окаменевшим. Окаянным и Каину дорожка державная, проржавевшая золотом солнечным. Кончено: Кикапу! – По ней поднимется последняя смерть, смерть без весны – воспоминания, воскресшей имитации.
По ней спустятся спутники: три, – двое, – одна; – странный старик. По ней отойдут Одн Инд, и цирюльник, и музыканты.
И в воротах возстанет священник старик. Затворит ворота, запрет и останется один – со упокоенным недавнопогребенным (как!!!) Кикапу.
Потом потянется прежнее – приедет семья священника, станут туристы. Станет… среди смерти жизнь, а пока – показ продолжается, сейчас, сейчас.
Гул прогудел дальний (дольний) еще раз; еще раз ахнула глухо-медленно – телеграфная невидная, где-то, струна, внятно, всем, – и, строго-слушая все-время, оборотился к слугам старый священник – и дал знак, мановение, немедленно передавшееся им. Строгопослушные, покорные давним прошедшим рабов, плюсквамперфектумом предревним своим, вошли Одн Инд и цирюльник тюркский в чулан. И стали собираться разом роковые Разы, встречные Судьбы, придворные Двора: три первыя – две – одна – Корчагин, – все, все до дна – и днесь приближенные, приближенные к ранней – страшной – смерти его, к ранней – страшной – славе его – собираться в темницу, к щели над пропастью, – смотреть и стоять действо давноприуготовленное последнего туалета.
Первой пошла, идет, Еелленна – первая любовь, лед и лен, Матери лик почтиповторенный (Сольвейг??!!!) – темные волосы венком веют мягким, платье простое синяго шелка шорох сладостный держит около, а очи серыя свет лучат материн – (Его Матери!) – и образ таят тот-же, Ея, святой, – и рот, расцветший, распустившийся немногобольше правильных мер, но милый, но чудеснообещающий розовобледный рот – и тростниковое тело, и девичьи груди негрузныя, чуть черночермно набухшия под платьем – все повторяет первый сон светлый – [(студенческий сон!..)] – первый ток тот животворный любовь, любовь льнянольдяную, святую Сольвейгину вёсну…
Вторая, – вот, вышла вышне, (идет) – Ра, древний драгоценнодар, Рок и Род, оотца ценная цельнотемная венная великая кровь – кровь Исаака, Иакова, древо Давида, роза Салима, – Ра, Рахиль, Роза; – чернотемныя волосы венцом возлегли жарким, жадным (жоостким!); платье чернаго крепа крепко короновало тяжко-темнозолотой стан и статное тело; лик великодревен и молод, древней девушки молодостью; библейской неЛейи, – Рахили, Ра, прекрасен и летен лик; – и очи очистили тело, и очи державят дух, темнокария, темнозолотыя знойно, темнонебесными арками отгражены – бровями; и зубы древнебелы, и уста устремляют утому и пыль, – красны, – и прекрасно обледнены дорогой ценой, тенью мучений дорогого, друга, жениха неневестнаго, Мертваго Пиерро, Кикапу кромешнаго в новообразе ныне – все сие светлый и грозный лик любови роковой второй, встречи предъужаса, площадки последней пред бездной – любови, любови, любови лельеноснолетней, смертельной, странной, – Лиллитина лета.
И теперь третьяго трона тень, синеголубая, небеснолазурная, зеленоослепительносверкающая стройнорастекающимся волнообразно – волнами – валами – теплым телом, топким, томным но упругим неустанно – ста цветов, ста волн, ста стай дельфинов дерзкоскользящих – на дитя, деву державную стройную смелую палестр похожую странно станом и телом, а главой с золотобледными мягкими кольцами кудрей и глазами яхонтовешними на ребенка – стоит Денисли, сливаясь главой с яркоголубым горящим нежным небом, а ногами наступая, ступая, исходя из покойной полосы сереющаго голубо и грозносокрыто елевиднаго майскаго моря, виднаго с верху, возлегшаго близко на горизонте к подножию неба, к горнилу горы – Денисли, Майя, Марта алозлая врагиня.
Веют вольные, вольнонеобузданные вешне ветры, вьют венки для кудрей, возливают вино власам, вливают в вены Венуса волю, – в жилы живыя (в алоартерии!) – бешеный бег краснорыжих кровных коней! И поют: наша, алая мати, Астарта, Венус – воль, веди весну в луга краснорыжие лета!!..
Это – Лжемать, Лжедева, Лжедитя, – это моря Майя, Морская, Денисли – это третий срыв в серебристоголубой Март – яяяркая любовь, любовь, любовь к Лжелиственному Древу, к Морской Простори, к Бездонной Бездне – к Жжженщщине Жжосткой!!.
Так три первых первыми вышли, идут обратив разно лики, в разныя стороны, несмотря, ненежа, невидя как бы друг друга. Только тихий ветр, вешнедыханьем вздыхая, составил невидное соединение, соединил как бы двух первых, Еелленну и Ра. Невидно, немо, незримотайно.
Одна Денисли – одна; не коснулся ея ветр, не соединил с теми, соподругами странными троннаго триптиха, идет, державно держа путь: пусть. Дерзкая Денисли: плаценда ея с морем – Март, масса масти червоной карт. Аррьергард ея – мена мест. Авангард ея – лета-ложь, зной-зло.
Вослед ей идет теперь две остальных – диптиха пара – Светзаара!!!..
Тихо такт ломая правой своей ногой нежной, аритмируя хруст хрупкой стопы своей наступающей, идет зорко Дзое-Сан. Ангел Таити ликом ленным и Япония овечка, овечка, внешнетонким телом, в прозрачном свете лица лелеет она Омегу, Смерть, конец.
И ветер веет над ней северный, строгий, зимний (Смеерть!), но глаз алмазы ярчайшие – южные – темные – сверкают иным: и мы в огонь за Арго, Аргонавты нежнейшие!
За ней, нежно-невидносоединенной тенью белых февральских дней, снегов горних, – шествует вторая Пары, диптиха, – Геертаа. Глядите: лед и лен тоже, как и первая триптиха. Глядите: горний образ около ней – пастушка, пасущая дела добрыя друга. Глядите: лик свеж, румян; ярок красками радостногрубой жизни лик любезный ея – но глаза: лед и лен горний, чистый, далекий, святой. Свят, свят, свят – гррреми Геертаа, сил свивай свивальник охраняющий, ему – Жениху – Силу давай, небо на земле, Сольвейг странная, Северкелин[1] светлая – любовь, любовь, любовь льда и льна для Чертога Жестокаго, Участи Урнной – Ббббурной!!!..
А за ней змейкой зло золотое невинное (доброе!) невидновьется – от Дзое-Сан связанной с ней, мысль-зависть девочки бедной больной, беееленькой бури – в урночке лазурнокошмарной кораллик нерадостный: мысль мести (кому?)
(И к Денисли добирается змейка-зависть – злоице доброе Дзоеньки-Сан, только иноцветная: сердолик восковой желтый цветом).
Три тронных триптиха Перваго протекли, идя, шествуя вперед, властновлекомыя волею Вышнею (нижнею); Пара прошла, видите, диптиха, – Вторыя; теперь пэри Полонии к лону Омеги медленно вышла шествуя в шорохах гор, в белизне колыбельных камней, в высоте всевеселаго вешняго яркаго неба.
Море под нею: не надо ей моря; горы у главы – входят в онь; камни пещер, камни дорог подножием стоп ея – и сверкание, свет сомнамбулический – недвижный: льда; вод, огня агоническаго остывшаго днесь – в зрачках, в нимбе над головой, в очертаниях дивовой – Данта – главы.
Всесильна связь с лесом в теле, темна и тайна. О ней ни слова, серебрянаго-ль, златого, меднаго. Парча покрыла, тяжелая, тело: в ней стройна она, будто, тяжелая, – вид впереди. Дальше довольно: тайна. Тааайна!
И это любовь – любовь леса к лесу, камня к камню, пещер пор к порам пещер; небо над нею, горы гордятся, жестоко жар жаровни желанной объял грудь, тронул тело, огрозил глаза. Гроза – роза, любовь – ледник, наслажденье – наступ туда.
О, любовь, любовь эта, Полонии пламя льдяное, смерть впереди, лето и море и мирт текущий цветущий целостнолетне столетьям!!!
И за Придворными первыми – тремя, – двумя, – одной, желанными женами Двора – резкий, появляется первый и единственный из мужчин, спутник, старик странный Корчагин. В корчах застывших камней, впадая и выступая из них, припадая и падая, колышась, шатаясь, шелестя шагами гулко в узконеправильных колеях камней, идет истовый спутник, дополнение, мелочь каждой и каждаго, обыденнотронная их жизнь.
Приказный, писец что-ль, сморщенным ликом своим; водянистоголубые бельмовые глаза елей льют хитрый истовый мелочной жизни; морщины – моря, острова, реки – карта прожитых путей, пыльных и полных дорог, мира жизни отжившей и сколь нужной всем! Смех сверкнет разлитый и размытый по всем границам лица – все темницы его, все щели, омыл смех странный проникающий всюду – смех коронной комедии, которая грядет и ждется миром. Комедиант, писец, приказный, шут штоль нужный несомненно, вот идет он, глядите – грядет, грознопроказя сокрытым словом своим – теперь молча, иной, тайный, тайнонужный.
Путь их к путам последним, к пещере, к темнице, где щель; там уж ждет Одн-Инд возвратившийся вспять из чулана; цирульник тюркский остался стражем в тайнике темном; священник стоит неподвижно встречая кортеж коронных гостей – сбор полон, воздух пеной нежноголубой горней поит всех собравшихся, собратьев собора, – тихим питием предвечной весны.
И вот, вдругоряд, раздался гул поднебесный, звук-знак, звон воли немотайной, непреклонной, клонящейся к концу. Сторожа все время великий тот знак, зов, – неподвижный все время для всех, – сам дает знак священник; – Одн-Инду и цирульнику, (возвратившемуся вновь), – рукой, мановением медленно-тяжелым – и те, рабы изстари, уходят сейчас-же парой послушной, один за другим, Одн-Инд и тюркский цирульник, туда к чулану черному окончательно за коронными останками Кикапу.
А тут ждут урнно, молча, мертво, без страстей, – страсть последнюю, вид дорогого, кромешь кроткопритаившуюся напослед. Грозна группа: Трех – Пары – Одной – старика; – груз ждут роковой, гром замерший, замерзший – рун и саг Страстей своих, дел державных Дебрей – каких? но коронных несомненно. Вид!.. веселитесь……
Веселитесь: выходят двое слуг из дверей аппартаментов парадных; на раменах их меднокрасная темноблестит парча; белым неясным облаком осевшим с гор (с неба?) видны на покрове покоящияся странные и страшные останки Кикапу.
Веселитесь: идут, ближе, белея верхом, блистая темно парчей, неясные сами, слуги, стражи, кустоды… А оркестр безпокойно сбирается вместе, рождаются страннонестройные стоны и срывы лада будущих песен – последняго лада мертвому мертваго марша.
Вот! – вид! – видьте: приблизилось облако, прежде буйный буран, гром погасший, умолкший; в чем молочнобелом облекли ледяное, яркое (темное!) тело?; нет короны, нет венца – только воздух веет что-то (чернь), только море льнет дальним сероголубым льном (ложь!) – только горы грозы готовят великия, мир кончают великий видный миру (месть! бой!..) И лик виден всем вкупе – собору: желтый, первый цвет спектра его – кожа лица; волосы черные (цвет второй спектра) – каймой черносинею окаймляют линии твердыя верха лица; веки великозапали – запад пал на лицо; восток всезатаил тайну будущей бури и покоев Покоя – Единственнаго Воскресшаго Величия.
А пока кажет тлен – страшно брашно телеснаго тлена, синезеленобледная зима зияет на желтой земле постояннаго лика – и дух Урны, увы, слышен сладкотяжелой струей, своей воней. Веселитесь. – Знак; немо проход открыл собор; пропустили тело влекомое слугами к щели; принесли, ждут.
Прямообращаясь знаком, приглашает священник войти, всех, в темницу; вошли все. И устремленные, прикованные неудержимо к нему, взоры страннорадостно блещут – это солнце последних лучей – фиал алой всеединой любви, фокус финальный великосоединенных лучистых любовей в одно – в Омегу окончательную, в – Смерти твердь.
Персть почтиоконченная (почти!!..), чем бы закрыть резкое твое лицо, черные твои чугунные волосы – не выдержат жаровни жар жадные твои близкие.
Все равно – нож вот он, вес, всецел: вид лица, ожидание даруемаго действа. Заблестит сейчас час смертельносветло – ждут люди, – и ждет небо, ждут горы, лес, камни, – и тихо притаившись вдали, ожидает марное маркое море.
Сейчас – острая, вкось блеснет блесной бритва – как молнией – морю. Как гроза – горам. Как зарница нежному небу. Как луна – лесу и камням как яркий яросеребрянный ящер.
А людям – льдом проникнувшим до сердец ольдит, уколет, осмолит мертвым морозом. Роза грозная, блесна, бритва ослепительноострая – блесни!
Сейчас – опустили тело по знаку; сейчас – прислонено к стене строгонесогбенной спиной; – и цирульник тюркский таз подставил страшный с брением – кипит пена как грозовогорькое небо, кипит истово, и Одн-Инд взял голову грузную в руки – держать при мытье. Кончается житие…
Страшно… Тихо руками тонкими закрылась Еелленна и персты без перстней дрожат, как тростник перед грозой. Страшно! бледною стала, еще больше, древняя Ра – пора! – и очи, открывшись широкосильно пред тем – теперь опустили завесы, спустились ниц под тяжелыми веками, веря великому страху. Только третья Триптиха, троннолживая Денисли, лик свой неизменнорозовый держит открыто – статуя, дева палестр, дитя (ложь, море!).
Бледная, тоже спокойно, поиному, – прекрасна – сильно – стала, глядит Геертаа. Очи – Божьи образа яркогорят сильным светом; только левой десницей докоснулась до края платья пары своей – в помощь ей.
Чтож – камень вся, белый, пара ея; гордо стоит; яркоосвещая призрачно лицо, тень смерти крин кромешнокошмарный крыльями дикояркими своими осенила – и не пускает к пути нынешнему, к страху страшному сему, – к страданьям послесмертным супруга и жениха. Только тик и так – такт сердца – странногулко гудит изнутри, – из нутра небывало-худой погибающей плоти.
Да, девочка – ярка, овечка, – пострашней сие урночки сверхпереполненной нежитями жуткой доли долинной твоей!
Чтож, последняя, пэри, Полонии пламя, Ронка, в роскошнотяжелой парче, – что, как она глядит, как стоит стояние сие страстное? А вот, видьте все: слезы каменныя каменным градом остыли очно, стоят в очах отверзающих он: – мука там, урна там страшнокаменная – лик весь жениха и супруга (друга!) отобразился, как в зеркале зимнем.
Полна парча телом темнокаменным – знаменье, знаменным, говорю, словом – мно-о-го силы в теле том, нездоровом гармонией монной – мира и неба.
И еще один, останный, глядит, сверлит зраком, зраками своими бельмоголубыми. Те-те-те, – на кресте, некрестясь, распялся, пяля глаза старичок: молчок смеху коронному. Урона, урна тебе, смеху сему твоему – крест, от, – смех твой сейчас – на нем положился. Гляди, не бледней, ей, ей! Смелей, смеюн, – не юн, а стар ты в арках смеха, в красноярких арках, коронной комедии шут грядущий.
И пуще страх всех объимет: подымут сейчас грознее главу, глава грузнее, гордясь, лик окажет – смажет кистью, в брении белой, цирульник тюркский ланиты льдяныя, лицо кольцовое: браду брить будет брадобрей – в последний раз!
В последний раз! Глаз скривился левый, лунный, бурумнобедовый, Кикапу, – кривится, кривится – мыться тяжко тебе, трон тронов трех – чернец, червнец, крот коронный, – в последний раз кривишься ты – ишь, свело лик твой темнотяжелый в какое мурло! (Тяжело.)
Ах, воют, воют скрежеща камни гор, пещер, камни каменных троп – гоп! воют – о-о-о, – моют мертвое тело томя, лик леденя ледяной водой дождевой, – моют, моют в последний-от-раз, о, горе, – предсмертные, инертные истово (что-о!?) странные останки Кикапу.
Неподвижно тело; глава, качаясь вамо и семо, омытая брения пеной, водой, – и власы – потемнели грозово; – слово, смотрите, возсядет средь уст – и спадет (вот?!!) – на воскрыльях слетит – и сорвется: вввниз или ввверх!
Чччерноуст (златосереброуст, медноуст, жлезноуст!!) – жив ты жадно, во аде или рае, – сгорают, сгорают все люди Двора твоего – встань, пора.
Нет, игра то – сгорают; полают, повоют природы отродья – угодья: каменья пещер, гор и троп. Гоп, гоп, гоп – поспокойней; – достойней держите кольцо, круг сей урнный.
Сейчас: мытие прекратилось. бритие начнется, началось – к началу подступают стража, кустоды – два, – раз, два!..
Мылят щеки, мылят лицо, – в кольцо сероснежное пена, пенясь, обратила лик Кикапу; – вссс. пу… – губы, кривясь, крадутся, кренятся, звук воспроизвести великий – сопротивления – но в брении, в бездне брения тихи, покорны, мертвы. Терпенье!
О!.. дрогнули веки под пеной – переменой лик оживил темь и топь мертвых теней – гей! криво, кривится, змеится лик – губы грознее сдвиг, видно, свершают теперь – кривы! – кривей… ге-е-ей… бледней, бледнейте все на кресте положенные лики – кривится.
Да не боится никто: в последний раз смеется – смех; – смехом старым и новым прощает коронно Кикапу всех и вся. Всем и всему! Во тьму. Со-о-олнцу!
Но смех в сторону – света-ли, тьмы, – для того-ль вы собралися, браться собора, – ora, orate: молитесь – блеснет сейчас острослепительно, бритва блесной своей безпощадной навеки.
Человеки, молитесь: бритие началось.
Держит Онд-Инд истово голову; олово взгляда впилось в ось сверкающей бритвы; час битвы бедовой настал – ал запад, бел восток – сток крови суровоначнется, начался.
Держит цирульник тюркский бедовую бритву; сверкает, сверкает сталь нестерпимо в злате заката, в пурпуре урнном лучей – ключей конца; се-й-чаа-ас!.. брить молодца!
О-о – сверкнула бураннобело бритва; о-о-о – касается конец ея щек – моолнией льдистосверкнувшей ожгла лак зеленый небритой брады – вооды! еще. щелк!
И шелк настает тало, мало-по-малу, – тает синь и темь черносиней жосткой брады – и оливковоатласный лак настает на ланитах обритых быстро неистовой бритвой – и кровь, кро-о-овь, в правую бровь накатила, и с мылом – с килом и пемзой – смесившись, синеалыми каплями капает в таз. раз. два. пять. пять. – вопият капли алочерносиния. росы смертнаго инея.
Таз наполняется кровию; суровочерные волосы плавают там же в тазу – небо в грозу, грозящую бритвой и бедами, таз этот медноурчавший еще недавно, теперь приявший останки: волосы и кровь Кикапу.
И еще раз кривится глаз, буровеет бедово левая бровь – о, суров лик великий, кривляющийся ныне кромешно – в раз последний последне смеется, смеется, смеется коронно и тронно, с трона в урну ухнувший Кикапу.
В последний раз. Воон таз! Берите, кровавый, – вон! кровь и власы… – настежь миру и граду адски-открытыя двери. Берите-же вон, прячьте, звери!
Где звери? Содеянный страшно злом зверь, затравленный ранее, благороднобледный зверь-блед, над бездной у щели, в кельи-темнице, вымыт истово, выбрит, коронный, до крови, что наполняет таз страшный – один ныне, нынеотпущаеши, здесь, – а подлинноподлые, подлиннозлые, несодеянные – но сотворенные так Тайной Вечной – тех нет, те сокрыты, ушли от участи урнной – короннокарающей казни.
Зверь?! Поверьте, что сему, жуткоживому и в смерти, сейчас – скве-е-ерно: – «лучше псу смердящему, чем мертвому льву» – воспомните, многие, сии слова Соломоновой саги.
Ах, овраги жизни жаркой, жуткой твоей, – лжезверь, лжеутенок серый (лебедь, ленный, белый, всегда, – холубь в хаосе, голубой,); ах реки, рокововзжурчавшие напослед буйнобуранный бред; – о, море, марою Майской и Марта марою лестнообольстившее жаркую твою жажду (М-а-а-ать! Со-о-оль-ве-й-г…); – небо, нависшее столь злозвездно – бездна ныне все тебе, судьбе твоей, – и этер воздохнешь ты ужасно – жадно – в удушьи дыхая, – а вверху над тобой холмик сравненный почти с почвою нижней, с землей, – неподвижен в песочке – и потонешь ты, клик, слабая голоса лава, в грохоте дальнепроехавшей мерзостной бочки.
Это там, скоро когда то, – а ныне там-тама тоны звучат, – зурна уныло зурну восчуяв зуд золотой посылает, – бубен, бедный, бубнит, серебром скорбным цветя, разсыпаясь, – скрипки скорбят и флейта финифть финально лиет – свист свой серебряногулкий воздушный вия и свивая, стеная тонами – о, с нами и с ними оркестр весь орфейский и тюркский баюкает белое облако дымов – печалей ли легкоплывущих, туч-ли тяжелобуранных, самума ли силу таящего в себе – а может быть белоблаговонных ладана дымов державнонависших над зданием, виденном только что нами, навеки.
Свершилось! Сокрыто навек, уходит от нас тайна последних смехов Кикапу.
Свершилось – сгустилось общее облако дымов, в одно – не дно, а край мрачной тайны, ледяный, лишь лезет вверх, вид свой кажет, жёлтый и жосткий вид. Так когда-то яростномрачно, жесткий, торчал клочек черных волос.
А музыка утло из урны слышна, оклубленной облаком дымов – всё тише, всё тише… как мыши скребутся урнные звуки в слух… все реже исплаканный такт – ближе последний из алотаинственных актов – мрачнейший акт.
Ааааах. оборвалось – образовалась дыра в дымах – облако отверзлось – глядите:
В покрове грозный грезится гроб – тени роб, платьев придворных Двора его дам, окружают дом сей последний – бледныя тени, страннокривой статуй старика, священник и слуги – прощайтесь, подруги – черную честь отдайте, другие, концу Кикапу.
Во тьму – имени Твоему, нуу!!
Спускается сверху небесная тьма, обнимает, объяла; и алозажегшийся свет – алоблед; – и чуть возсияла, налево, где утренняя звезда, – новая группа светил: треугольник (– сбылось, слово, сказ, сага: страшная ранняя слава и страшная ранняя смерть) – комета конца Кикапу.
И се, в раз последний, последний грядет караван (карнавал): – три впереди, потом две, – – – – потом старик страннокривой, двое слуг, музыканты…
Идут, спуск свершая из врат, вниз, – террасой светлольющейся и остывшей каменный катится путь – вниз, вниз истово идите, дивы Двора, странный старик кривой. Пой им ночь, свети свет звезд – разъезд (расход) начался – тебе, восход зачинающийся, ещеневидный. Грядите из гридни грозной, темноносной вовеки, человеки.
А внизу, как сад во грозу, как град под градовой тучей – дивная видится долина. Белыя, белыя, – легкия как видения видятся в ней тени – древ, статуй, урнных фигур?…
Все есть очно там – каменныя надолго остыли фигуры и урны подлинныя беломраморныя траур подъемлют – и дремлют деревья разных пород; Род грозный мертвецов – отцов и детей – окунулся в струи Летей; ждут жадно, кротко, троннаго подъема из недр zетных земли. Ол-лллли, ляаааа, аа-ааа – лли – ляаааа-а. шепчут певуче древнедержав-ныя недра – цедра ценнейшая огромнаго я-яркаго плода огневого – огня внутренняго – утреннеурн-наго Огня – ляааа.а..
И лена лед и лен зеленозолотобледный лиет на видение – и облаком каждения какого-то, облаками остыли в тылу фигуры: урн и камней – ангелов окаменевших пред предстанием из мертвых – возле Воскресения. Долина льнянольдяная, зеленозо-лотобледная, спит в дыхании елеслышном пышных древ, остывших в тылу сем предвоскресном чудесно-живо.
Две ивы истовоскорбныя и Одна (древо) – со дна моря лукаваго, тайна алозлая его – и две Лозы легкия, прильнувшия Диптихом к Другу – – – – – – – – – – и нето дуб-корчага, нето инодрево единственное мужское, – группой роковой вошли в тень, в сень, в сад Иосафатов. Стоят облитые льдом-льном луны, окрытые облаками призрачных камней – каждения древнеостывшаго какого то – вот сольются со всем, споются в хор общий, ждущия жарко под арками Иосафатовой долины Единаго – не как все – Воскресения.
Единое Воскресение! Се ждет кого? Его ли, оставшагося ненадолго в недре темницы, у щели, бледной теперь во льду и льну луны. Или иного, созданную персть от бреда, бури восторга оргийнаго самоуничтожения, грозной гибели Икса. Все равно. Давно было – будет еще: пришествие, восшествие, воскресение Весны после Смерти.
Черти червонные, черви чернокраснорыжие извечно – век ваш адский кончен начисто, чен-чин-чик!!!
Се: слились с долиной, мглинной, белой, жемчужной от жара льдяного луны. Се: спелись, спелые, в хорале алом ожиданья очноединаго. И поглотила долина льдиннозлатобледная Иосафатова их, родичей Моих, придворных Двора (пора!) – воззрите ныне – сейчас – теперь на дверь отверстую – там таз, дымящийся мертвою кровию в луне, там гроб – роба временная бремени, беды, бурана – и осанна! там град новый радостный, там тень во елее луны, во льду и льну месяца мертваго – зеленозлатобледнаго лета.
Нет никого – отперт чертог – бог ли, бес, во гробу, един, – слуги слетели прочь – но чья дочь стройная в робу белопрозрачную одета, дева-дитя, двенадцатилетний Лель лунновешний, светлой тенью стоит у дверей отверстых настежь – для всех.
Лик – розовобледный, лебединый лик; тело – стройнорастекающийся вешний этер; но, Господи, – черты знакомы воочию – что??? ведь это дочь, дщерь той, что исчезла из пар, в арки долины ушедших, – те же, возобновившиеся вешне, черты – ты была камень от камней гор, от пор пещер, сколком скал, древом деревьев леса – завеса тайны упала, о алое тело, о стройный стан, – где парча, каменное неровное дисгармоничное нищее облекавшая тело – белое, стройное, светлое ныне видение?….
…. – – – Я была двенадцатилетней
 ЕВОчкой где-то там, аложивя! Стройный стан мой! Гордость розовых рек-человек я, вечновидение ныне. Гром и пламя Полонии ударили в Род мой и Рок возгремел велико – стан стал крив и тени ив истово холодом окаменили дивие мое тело. Каменья стала, быв мрамором; радость во мрак, тело в холод; голод лона и сердца настал – фиал жолтый закипел, поднялся яроразливом; ивы вдуб; душегуб урнный Велиар впился в губы; поцелуй решил все – цыгааанкой грозноискривленной одревленной, окамененной стала я, человек, цвет розовых рек. Так жила, жадно истребляя жизнь; так камнем падала на грудь удов, на груди роскошно-розовых комов – баб белейших телами. Лани летели ко мне; уды, урча кровию, жаднонадувшись поднимались ко мне – к стене каменнокривой; вдовой вела я круг урнно-грозный жизни; цыгааанкой цыкала на людей – а там тихо спала, тихо спала девочка двенадцатилетняя бледная, без солнца, белая в долгом сне, в темном окне – сердце моем, дом мой храня, раннеувядшую тайну мою: я сплю.
И в лето грознонелепое тридцатьшестое шествия сего моего – стройный день настал. Таял полдень, оледеваясь нелетней прохладой; ладом ладана – вечерни – чернь чермная дня одеваясь возстановляла нежную предночь – и вдруг Рок – Род спасения, супруг, Урна Радости, возстал нежданно и жарко. Арка Марта настала, Осанна! И тихо, тронно, стройно шевельнулась во мне та, Тайна моя, жизнь, воскресенье мое, – ожила я, Давид древний восплясал, ал закат мой, (восхода год, день, час!) настал: вот, встал!
Черносиние волосы, длинные как у пророка: желтобронзовый загоревший лик – как велик он, казался, ненапрасно, – и стлался путь; воздохнуть, воздохнуть пылалось!.. и горело пламя Полонии жизнетворно, тронно, – Ронка, Ронка! – да, я, жизнь и надежда моя!
И ночью нега настала; на горе – взор, мой горе – сидела, стройнело тело – и лилась речь темнобуйной рекой – Его! – князь! мой! и луна молодая возстала над мертвопокойною столицею ханов Хаосских теперь – и дверь распахнулась в недра и та шевелилась, рождаясь во мне – горе стене! рухнем в урну! возстала я, девочка стройная двенадцати сладостных лет.
Все приняла я – последние дни; лебедь любовный, Леда, – пела я песни, баюкала дни слабых и гордых невзгод его; вынесла сор, вымела пыль, мыла и скребла грязь – будь чист, будь червлен, убелен ленный мой царь, принц мой и князь – грозна грязь, пламя – пыль, капли каменных скал, гор, – страшный тот сор.
Всех созвала я, приняла как своих: трех – двух – старика; дух любви, стройнаго строя реял и лил на меня вольную воду, живую влагу и силу безстрашья. Радуйтесь ныне, радуйся тело, – свободное, стройное ныне – княгиня, пэриня, цыганка – нет! девочка стройная, рой этера я, – двенадцать державных мне лет.
Мы пришли вместе – вместить; вы – ушли, – лллли, эллли, ллля. ляяааа. пою сладостно с недрами – нет, нежно тело мое, стройно, стойко жду воскресения, венца, весны, – спайтесь, сны; одна, единая, дивностою, охраняя сон, роняя жемчуг, лепет, шопот слов: в последний раз.
Таз – солнце! Бритва – рока молния! Темница – только несколько темных десятков годов! Ты готов; жди. А я, бывое диво – я ныне новая Сольвейг; я возле, я очно – очнешься, я тут, девочка двенадцати лет.
Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти.
И объимешь ты стройное тело мое тогда – да, а ныне я возле, ллллии, эллля, ляяяааа.
ЕВОчкой где-то там, аложивя! Стройный стан мой! Гордость розовых рек-человек я, вечновидение ныне. Гром и пламя Полонии ударили в Род мой и Рок возгремел велико – стан стал крив и тени ив истово холодом окаменили дивие мое тело. Каменья стала, быв мрамором; радость во мрак, тело в холод; голод лона и сердца настал – фиал жолтый закипел, поднялся яроразливом; ивы вдуб; душегуб урнный Велиар впился в губы; поцелуй решил все – цыгааанкой грозноискривленной одревленной, окамененной стала я, человек, цвет розовых рек. Так жила, жадно истребляя жизнь; так камнем падала на грудь удов, на груди роскошно-розовых комов – баб белейших телами. Лани летели ко мне; уды, урча кровию, жаднонадувшись поднимались ко мне – к стене каменнокривой; вдовой вела я круг урнно-грозный жизни; цыгааанкой цыкала на людей – а там тихо спала, тихо спала девочка двенадцатилетняя бледная, без солнца, белая в долгом сне, в темном окне – сердце моем, дом мой храня, раннеувядшую тайну мою: я сплю.
И в лето грознонелепое тридцатьшестое шествия сего моего – стройный день настал. Таял полдень, оледеваясь нелетней прохладой; ладом ладана – вечерни – чернь чермная дня одеваясь возстановляла нежную предночь – и вдруг Рок – Род спасения, супруг, Урна Радости, возстал нежданно и жарко. Арка Марта настала, Осанна! И тихо, тронно, стройно шевельнулась во мне та, Тайна моя, жизнь, воскресенье мое, – ожила я, Давид древний восплясал, ал закат мой, (восхода год, день, час!) настал: вот, встал!
Черносиние волосы, длинные как у пророка: желтобронзовый загоревший лик – как велик он, казался, ненапрасно, – и стлался путь; воздохнуть, воздохнуть пылалось!.. и горело пламя Полонии жизнетворно, тронно, – Ронка, Ронка! – да, я, жизнь и надежда моя!
И ночью нега настала; на горе – взор, мой горе – сидела, стройнело тело – и лилась речь темнобуйной рекой – Его! – князь! мой! и луна молодая возстала над мертвопокойною столицею ханов Хаосских теперь – и дверь распахнулась в недра и та шевелилась, рождаясь во мне – горе стене! рухнем в урну! возстала я, девочка стройная двенадцати сладостных лет.
Все приняла я – последние дни; лебедь любовный, Леда, – пела я песни, баюкала дни слабых и гордых невзгод его; вынесла сор, вымела пыль, мыла и скребла грязь – будь чист, будь червлен, убелен ленный мой царь, принц мой и князь – грозна грязь, пламя – пыль, капли каменных скал, гор, – страшный тот сор.
Всех созвала я, приняла как своих: трех – двух – старика; дух любви, стройнаго строя реял и лил на меня вольную воду, живую влагу и силу безстрашья. Радуйтесь ныне, радуйся тело, – свободное, стройное ныне – княгиня, пэриня, цыганка – нет! девочка стройная, рой этера я, – двенадцать державных мне лет.
Мы пришли вместе – вместить; вы – ушли, – лллли, эллли, ллля. ляяааа. пою сладостно с недрами – нет, нежно тело мое, стройно, стойко жду воскресения, венца, весны, – спайтесь, сны; одна, единая, дивностою, охраняя сон, роняя жемчуг, лепет, шопот слов: в последний раз.
Таз – солнце! Бритва – рока молния! Темница – только несколько темных десятков годов! Ты готов; жди. А я, бывое диво – я ныне новая Сольвейг; я возле, я очно – очнешься, я тут, девочка двенадцати лет.
Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти.
И объимешь ты стройное тело мое тогда – да, а ныне я возле, ллллии, эллля, ляяяааа.
КОНЕЦ
Бахчисарай. Июль – Сентябрь 1916.
Агатовый Ага
Прямо пред дворцом держит кущу свою Мустафа усладительный. Чудоуслада – черный кофе его; куща – кромешна: словно обожжена, обуглена в углах; ладный балкон почернел тоже, темный и тихий – но томно и нежно нежиться нежитям жадным до тутошных утех в зное золотом полдня, в урне уроннопрекрасной позднего вечера, в лике лунной зеленозолотобледной неживой ночи. Прямо перед дворцом и пред кущей – в средине ближе к дворцу, держится диво – словно странный агатовый сфинкс. Узкия уши торчком, черная низкая шерсть – и в глазах залегла мра-а-ачная гордая ночь, впрочем и ко всей той агатовой груде видная вовсе не тайно – а явно, ярчайше, несмотря на ея тронную тьму – видная всем. Лежит и лежит, льнет льдом своим черным и гордым к земле – глаза же в кущу упорно устремлены – ночь посылают в полдне, в вечере, в лунной тихоликующей ночи. Прямо перед кущей усладительной Мустафы, как слышали Вы, – дворец, древних Ханов Хаосских ныне, также Куща и Сень, руинная днесь в наших днях. Ныне пингвины истововозлюбили бывать там, мести мраморнокаменную пыль перьями хвостов и тел, нести быль пингвинную свою в сень и тень редких Руин. И площадь прежняя пустая, невольников торг – ныне сад, где тени и призраки ив, где плесканье фонтанов – тихоневнятная сага, серебристый сказ про рай и эдем древне дивных дней. Прямо против мечети, Меча Божьей веры в единого, устремленной минаретом вверх, – скамья в саду светится белым длинным телом своим. Светится в солнце – жарко, в полдень и день; марко, марой зеленой отливает белизну свою в лике луны, вечер и ночь. И еще агатом обрадуется глаз: на скамье той в теневой стороне стены Меча, – Божьей Мечети – яснооблеченная в солнце, тихая, яркотемная, видна дева. Древняя риза – одежда: черная; бледно-агатовые глаза – огромны: златоагат; и бледный лик испепелён солнцем: от него то, окрываясь тенью, сторонится странная дева – Нигродеа. Прямо идя по единой большой дороге, единой улице большой Града Садов, свернется сам путно путь белокаменный влево. Вверх, вверх до вершинки гористой, каменными пупками покрытой предивно; там направо, вперёд – и стоп: дверь двуполовинная краснобурая есть, ждет. Вот. Когда со звонкоголосым звоном звукнет ключ, обернувшись в щели своей раз – отворится дверь – и вот дворик облитый солнцем – днем, улитый луной – в ночь. Низкий сам, еще ниже ступени – лесенка лезет еще ниже – и вверх ведет, на крышу, коронно, – другая – и так и не знаешь куда потечет путь: вверх ли, вниз… Влево белой прямоугольной палаткой ласковый явится взору домик. Дверь – белая, прямая, простая; в окне белорамном радостно завиднеются беловесёлыя стены, веселая весенняя снеговая пустота. Это – днем – утром, в полдень и дальше – в зрелый наставший день. Вечер – иное: зимнеснежный, сияет в зеленозолотобледной луне, мертвый дом. Снежнобелыя стены пустыя впустят в окно взор – и прильнет он, навеки погрузившись в снега – пустота и хлад, мертвость, тишь – и тени еле дрожат видейно, как белыя мыши в мертвом море луны. В пустоте белой стен, во весенневёсёлом сияньи денном снегов, в ночном неживом лунном свету, снегах странных светлейшого полнолуния – ясно и ярко чернеет третий агат, черный бархат женской единственной шубки. Ни диванов по стенам, упругих, цветных, ценнотюркских; ни персидских прекрасностаринных платков; ни вещей – только черный агат гаснет в дивносредней светотени сумерок – утра и ночи; только черная ясно и ярко чеканит чернь свою в светлопылающем дне, в светлобледных снегах лунной ночи, – единственно – узкая шубка. Три трона, агатовых строго: собака, дева и шубка. Три роком поставленных трона-агата – Агату, черноогненному где то Аге. Ах, Ага, агатобледный еще, – говорят о тебе понемногу везде: в куще Мустафы Усладительного, в придворном саду, на базаре и в банях, Ханских когда то…. В короннокараимской (теперь бедной) белой семье возрастала велико средь сестер Эстер. Черной богиней была средь семьи – мила матери, не по росту сестрицам – велика и строга –; вся в черном, чуть в белом (глава, иногда). И в главе главным кладом – чистым чудом, дивом, – древние были глаза. Древнезлатоагат, бледный. Не летний, но ленный прескорбным пленением – ожиданием ада. Ад есть смерть без надейного ожидания. Ад есть смерть без весны после смерти. И недовольна именем истоводревним своим. Древняя все таки и теперь, оставалась Эстер. Невольно никла к имени иному, дальнему мило, немертво, воскрешено – Нинекен-джан… джаным… ханум султан. улещал слух шопот шелковый именно этого имени. И вслух уши других принимали плеск имени этого: подруги, сестры, мать:… как понимать. Внимайте, милыя, милому прошлому, прежде – прекрасно. Ведь весна после смерти есть рай – так взыграй же сааз – аз есмь жизнь, Возкрешение, – все то же, немного – нежноиначе поныне. Град Садов порядком своим подчинен не Гирею – гиря другая – понизу – повисла теперь: полицмейстер попросту. У него и то диво, агатовый сфинкс предворцовый, – примечательный пес, совершенно необыкновенный слуга, странная черная чудособака. Стаутеобразен, суров был Боган полицмейстерский – никому не погладить, стороннему, пса: страшо-о-н, строг, горд он; и только Эстер клала ласково длань на жосткочерную шерсть – да другая, хозяйка агатовой шубки узкой, оставшейся средь стен стенно-белых на странном дворе – художница, исчезнувший в вечер всесильно весенний – навечно. Ныне осень опять пятой темной – дождем – давнула долго – днями дождь длинный падал – как из ада зноем, запахло сыростью и хладом хаосским из дверей дворца – и с крыльца дворика странного стариннотурецкого до дверей калитки, словно улитки серыя ползли, текли и прятались капли: цапли белесоватые – марные минареты – прятались в бест бедовый, в небо остывшее – осени осенившей голубую глубь лета. Поэты, воспевшие миф истовый Нинекенджан жаркой, Сулеймана алого приготовтесь! принесите саазы Ваши к дверям дворца, к дворика двери, к белому входу крыльца – и колокольцами и переливами и бубнами струн руну и сагу скажите снова – да напомнит! Осени осы – дождей лучи – жужжит тихогулко в улочках узких – как струны Саза алого единого длиннопрямого – Бога Сааза единого дивного; – летописец письма лиет под пение Ваше – сова же, – солнце осени – слепо смотрит сверху серотемным оком своим в день – в Вашу тень погружайтесь, поэты – и я, летописец на меди и крови, суровей, странней погружусь, поспущусь в Вашу тень – день ледянолетний Эстер растворю в иной – знойной действительнолетней прелестной теми. Вот в осени окна, открытыя предфинальным фаем темносерым, темноседым, – днесь дивное вновь кажется лето. Лиет лучи солнце жаркое, желтозолотое; полдень полон вновь кейфом, неколышащимся, непоколебимым нисколько, – и в куще услодительной Мустафы вновь важныя видятся в углах темныя фигуры – а на ладном балконе кон кейфовый держат другие, двое: полицмейстер и поп. В углах глаз угли глаз матовые, тонкие тел тополя и темныя, уютныя в кейфе грузы фигур. И молчание, мед и щербет небесный покоя, покоит их зноем. На ладном балконе бай ленивоболтливый властителей новой поры – а дары то всеобщи и полдень один – и кейф окрывает великоедино всех, всех: убаюкает бая слова – и замолкнут медово новее люди – лета лень захолонет и вас, в добрый час. Лениво болтают, властители, тихо – пожалуй их аложирные лики экраны пока попустому: ничто и кой как. Но среди середин никчемушных нет-нет да и мельком мелькнет и толкнет их замерзшее сердце слово о том, что пока еще наибезвреднейший бред, азиатская алая финть, финтифлюшка, фантазия-ха-ха-ха – фффиить!! Это толк об Аге, (агатово-бледном еще) – это ток постепенный, точащий точащий давно уж сребристопростыя сердца (азиатов, арийцы!) – это бледная тьма растекается ныне, откуда притекшая, что – и куда? Поговаривают в варе исходного лета, лепо льнут к сладким краям чашечек кейфного кофе, а слух колыхнула волна – крик резко появившийся, взлетевший вблизи и упавший вдаль, вновь – о-о-ооо!.. Не мигнули ни уголья глаз по углам матовеющих немо, также тихи и тёмны тел тополя по углам, ладен балкон – да и кон кейфный кофе на нем попивающих власти держателей двух – не встревожен в покое: (эка случай случился! Теллалка сегодняшний вести орёт) – мед тепла и покоя попрежнему сладкообъявши силён и отраден: осанна…. Но странно: в притоке воздушном вновь крик пятерится. слова протекают слышны и сильны. да, теллал. чтож такого в сем странного ныне?.. И ныне и присно странное есть, было, будет. Страны странного есть, будут, были. Были серебристопенныя – страны странного – и слова восклицающей груди, гортани теллаловой – странны. Осияны страною странного, былью серебристопенною – но в них бледная, бледноагатовая пока – тьма. Слушайте, люди, льните, внимая, – теки, теллал. …– а-а-а… э-эджене-е… бир… эфенди… лди… ски-ии!!! Ээ… ади-и-ир… эйле-еее!!. ееее… И уже уже уголья матовые глаз; тоньше тень тополей – тел: странное есть. И жарко розовый жир истовый ныне и присно лицам властей – стеннобел– мел: побледнел – странное тут. Кейф качнулся, утлый уже, зыбью гиблою, рыбой резко встревожась в водах полдня покойного (бывше покойного, ныне); оазис всхолонут, – холод. И сильнее слова, сильнее слышны, все до дна. Быль пришла, стран странного быль. И лунная пыль – бледноагатовая – покрывает вар лета последней поры: всех, вся. Слушайте полно, полно чуждаться, – да, есть странное – тут: Эдженебир – бир – эфенди – гелди – эски; – вэ-надир-шейлэр-вэ-кара-таш – сацын!!!. Сарацын страшный? – нет; сын Гирея реет ныне в пустыне сей, светлой пока? – нет; ни-ни-ни – дни другие, драгие, дрожат ало, сребристопенно, местоименно: ОН. – Господин иностранный (чтож странного? Сие здесь – посегдашне)… ПОКУПАЕТ СТАРИННЫЯ ВЕЩИ / чтож странного? рыщут, ищут везде иностранцы старья/ – и черные камни……… Ах, Ага агатовобледный пока, – неужели желанные слухи – слуги твои – воплотились во плоть? и милоть черноогненную скоро порфирой (о, пир!) возложишь на лоно своё, на ложе любви возведешь, изберешь драгоценную деву (Ниградэу!) – и кровь в черноогненный кров твой – в тело твое, бледное ныне – сберешь изо всех; в снег все тела твои обратишь – в бледнозлатоагат омертвевший, побледневшийсмертельно?… Свирельно струитесь слова: голова показалась странного стран, что и поныне чудес летопись – быт и бледная бытова быль – брр-рысь!!! И се: будто обыкновенна венная кровь в крове людском – в теле (на деле – бледнее: сердцу виднее сей страх). Будто обыкновенная собака, полицмейстерский пес придворцовый (он новый – бледнее весьма: сердцу собаки виднее сей страх). И в быте, в били пыльнопингвинной будто бы обыкновенна дева одетая в древне одежду: черную ризу, с очами – златоагатом (поята, почата и дева – довлеет цвет белый днева: бледней, снежней и она – сердцу воочию чуем сей страх). И третий трон, – вот он, невидимый всем: се, и в солнце, во дню, – в ночи, при луне – бледнеет в домике белом черный бархат бедной единственной женственноузкой шубки. Началось! чело побледнело, избранников, радостнотающих (и возлетающих!): – девы, животного, вещи. Свечи, агатовогасните медленно – кровь в кров твой теки – теллал прокричал! – О, скандал вандальский! – мало-мальски последить, идолы, эфиопы холопские, чертовы жир-жецы неспособны, негодны: заболел зло Боган, га, побледнел, – мел белый у бедного сквозь волос жосткий, сквозь жир истовопенный постепенно, как пена, как пепел, стал объявляться, проклятье!.. Лязгает зубом бурно о зуб в беде полицмейстер, хозяин; зябко от гнева спине, зябко и зимне; – и гимна не слушает он, в граммофоне с шиком и шипом машинногремящого слабую славу (играет, играет.) – и се, умирает покой повседневный, безгневный послеобеденный. а бедный Боган, га, бледноагат светит вечеру чёрному осени страшным мелом: меною цвета, агата, всегдашнего дара природы своей, свойств присущих лишь ей. Дней наступающих павшая бледность не быстро беги; дней приближающих смертная бледность – лёд лунный Ага – черную кровь береги; в ней тихотающих тайная верность – участь и урна троих. – В руках Твоих! Их милость – мед и щербет небесный – чудес Десницы Твоей, Властитель, сладостно ждём – охрани раннюю реку, кровь девы дщеры Твоей – ей, молю: лиется новое горе – паче снега нежная кожа ея – но и волосы новы – бледнее. бледнеем и мы с ней, о горе – гаснет глаз агат золотой – Тору прибьём, принесём, светлосеребрянную рдяно, Тебе, – помоги сей страшной странной бледной судьбе!!!. Бег бед – бегл: молитва сия, крик ринувшийся сильно – об Эстер – тернии семье: семь дней тает агат дивный девы: глаз, ласковой кожи, волос. Словно мороз, иней дивий пал на сад златоагатовый – тело и главу девы. И одежды бледнеют совместно (чудесно!) – словно солнце черное (Нигер Ра!) собирает мрачный свой свет изо всей из нея – с каждого дня медленновластную дань. В Иордане, в Иордане, да, в купель медленно погружайся жаркая Ниградэа. Где, где, где воскреснешь белоослепительно пирно? Мир крови роскошной, златоагату гаснущему ныне для нового черного солнца: в кров его кровь твоя. Бег бед – бегл: день блед, час, миг – для троих. Их, им. Мир жертвенной жатвы – без клятвы тихо-тающих тайная верность. Безмерность мест – не медь, не сталь, ни злато и сребь – редкая роскошь, черный цвет: гаснет гордый общеагат… – Аге, господину, дивному где то ныне не бледному Солнцу. – Ключ – тю, – тю! – а моль подлая подлинно портит ласковый бархат барской художницы. Дошлые тоже! – на год откупили, купцы, помещенье – ключ тю-тю, взять – нельзя – пропадает товар – утешенье!.. В оконце при солнце видно обиду хозяйскому глазу: бело – проказа на бархате черном, единой средь стен яркобелых – узкой агатовой шубки. Весь, весь, весь усеян светлосеребрянной мертвенной пылью агатовый бархат. А в луне узкая шубка – иная: иней иной покрывает сладостночерный агат. Гаснет, гаснет, гаснет сладостно медленно черное узкое поле – о, бледней днем, белоиней – ней в светлоликующей лунной ночи. О, чьи черные силы сильно копят свой кон, черноогненный ныне? Чья кровь во кров прибывает полнее (бледнее, бледнее бывые-дивы-агаты) и когда повстречаемся с нею… сольемся ли в кон, соберемся ли в хор? и мы побледнеем инейно? ино? во власть господина, черноогненного где то Аги. Как золото утренней зги светят льдом лона три бывшие трона-агата: блед-пес, блед-дево, блед-риза. Все ниже, всё ниже их тьма – тихо гаснет сама – и Новая Тронная Тьма едино, дивно, сверкнет черно-огненным солнцем своим – да погаснут агаты навеки: вещь, человек и собака; да погаснут все черные камни – все в кровный кров соберется собором и хором: в черноогненнокровный тот кон. Суров, странен случился иностранец, прибывший в сень Града Садов (– о новом сем госте гортань так громко кричала, теллалова, вспомните повесть) – никуда и не кажет себя, взаперти тих и нем, – таен неласковый гость, горд чтоль, дик, – дивно и то: ночью несут к нему черные камни, какие случились начисто, – ночью и смотрит их; потом раннеутром в узкий ящик кладет он точную плату, у двери, – и верьте: число принесенное камней канет в Лету – так необычно, не быльно; – и Крезовски кроет каприз свой: все черные камни купить, иностранец, странно-сокрытый, и гордый чтоль, гость. А молва волны свои, тихогулкия, узкия ныне в пустыне, катит и катит – не хватит и сердца слушать их молньеносную молвь. Гол уж слух – вбирается в уши и в очи, короче слова: голова показалась странного стран, все боле и боле и боле черноогненно солнечен круг – Утро странного, страшного, славного дивова древлепоследнего дня. Вот оно очное – Солнце: в оконце горницы, где гость поселился, видели дивное диво хитрыя ивы – женщины жаднолюбопытныя оком и сердцем своим, женственноузким нерусским, а тюркотатарским, понятно. Внятно ли всем. И еще не заглянувшим в устье сей горницы гордой, видение утро-агата, внятного навек преддня? – Горой рой бывшечёрных камней в ней как снег прекрасно блистает, но снег посеревший жемчужный, – ненужный еще, страстной снег. У всех, се, имевших отобраное тронночерные камни, добром, добровольно; невольно – но волею вышнею (нижнею!) – все сюда снесены они, черные старые камни, – се, из них черная кровь истекла – вид серожемчужный стекла; – слава свершенному сну – возвращается счастливо кровь черная в кров немногобледный еще, в лоно своё; – слава свершенному сну-руну рун урнных, саг страшных – Руну Черного Солнца, сверкнувшего Урной уже, почти всем. Но хозяина (зябкого, видно, пока не свершится вершина в горнице нет – тихоблистающий темный жемчужный утренний свет показал и сказал: нет никого – камни в Кане, небрачной пока, Галилейской – одни; о, страстные сильные дни!.. Но дни – днями, а часы земли золотой, восторг и веселье, – краткие, кроткие, беглые, буйные – стройно текут; так же свадьб алыя воды стройно бурлят, струнно текут; так же свадьб алыя воды стройно бурлят, струнно текут; медленно мёд источая, лучи золотые – солнца – текут; медленно бледную медь источая, лучи золотые – луны – переплавляются в редкую сребрь; вечный вепрь – жаркожелание – в алых лесах, ах, дремучих! мучает страстное сердце свое, – и вдвоём соединяя, себя и подругу, – царственным цугом вселяется в мир; колеблется мир: мйро мира – и тихогремящая ярколазурная лира, и буйногремящая яркая желтая лира поет и гремит миру и граду, в награду и муку, навеки – червонные, желтые, белые, смуглые люди, смертные ввек человеки! Навеки, навеки, на вехи твои, о век золотой, взгляд простой полагаю: ты мудрость, ты чудо покоя, ты тронно тяжелая (о невеселая!..) желтозеленая вся неспиленная Хвоя – Восток и Восход, тюрков уют, царство татар, медленносладостный голого полдня солнечный златопожар, сладостноалый твой жар! Хор твой! с гор ликующий звон? стон ли серебряночистый лиющийся флейт, бубна бой, дудок гуд – к худу ль? – волнующий, мечущий медь, сеть тонкую звонкостелющий звуков своих, срывов, боев, гиков – великий, волнующий грустный и хмельновеселый, голый как полдень, чудесночервонный твой чал! Чал! Чудо! Чудь – чернь и чермнь! о, орфестр сей, Орфейский, индейский ль, персидский ль (старинно-татарский и тюркский, конечно) – и хмельный всехаос, наверно навечный, в сердцах и душах бушующий днесь – хлесь, хлесссь, хлессссь!!! – по телу и сердцу – душе хорошей!!! Наверху ли гора – и под ней низкий, узкий, таинственно-маленький двор – заговор там таится – и снится всехаос и – груди вздымайтесь, сжимайтесь сердца – до конца, до венца: – грянет, гикнет, гокнет, зальется – и в бездну бесовски сорвется чудесный червоннопечальный и все началящий чал! Чал алый, червонный! – вопль твой, весенневесёлый и диковеликий что ль вой, – ой да и плясок лязг под тебя, под звук золотой, медный, серебреннорьянный, пеннопьяный гордых хоров твоих, – помним их, стук ног под яростнодружный всех вздох – воздрогло и ропщет роем видений, радений нездешнее сердце – и чертят персты знаки плясок – се, ты: стуки ног, метры ветров, дыханий хайл медных труб, фиалов флейт, дуда дудок, визговерховьев тончайших, мельчайших, в тым-тыме взвивающих сладостномелкий струй-струн. О, яростноюн се, плясун, – тополем стройным; топают сладостнолегкия ноги – и хитры дороги, чаще все чала дремучая чаща; – в ней снежные вихри, – град роз несмотря на мороз; – о будто босы и белы смелыя страстночастящия ноги – о будто ужас до смерти буйных минут гонит знойно, вертит вихрь, венчает счастьем частящего алого чала: – то сама непонятная, яркая жизнеприятная сладкая лань-хай-тарма!!! Сладко! – но, ах, там палки взлетели наверх, над головами, руки недвижные сами, вцепляются в тонкие над головами нависшие трости – новые гроздья (ох, тронностаринные козни!) – золоты как мед, в полудне как медь – над нами, о сон – это он, пьяный полем средь коз, буен, беден и бос, дикодержавен и рьян, черный нагорный чабан. А стан старой песни – стон ее, звон и воня грусти негрузной, тонкой, топкой… Холопкой перед ней – незвучней – нескорбней, – новая песнь, – лесть ей пингвинов сосущих сущие вина – но инок теперь, легши легче под стопудовую дверь – таится и длится и мнится там тихотаинственной, драгоединственной истово, старая царственно песнь. Не болезнь – лепая грусть в устье, в лоне голоса, – в утре звука. Мука ли утро сребристое? Быстроречистое в хоре в хоре с гор птиц, в лепете лельном эльфовых лиц, в клекоте утреннеславословящем слов гордых горных орлов. И не грузна и не грязна – светлогрозна в гроздьях виноградных радостнослово, – устная, в устье звука прелестная песнь. Темный лик, томный великий восток, глядится в льдистоединую воду – охом да эхом, эх, разливается ладан ливанский – и ручьи радостновоскресшие, врезавшись в реку журчат чаще, слаще, кращще, – и и льются и льются и буйно быстро-текут в водах и волнах полных звуком и словом, прелестного грустнонебесного сладконестройного хора… В соборе серебрянном редкостно слиты две разныя реки, русская грустная песнь, тюрко-татарский скорбноцарственный бай. Алый ааай (край райски-спокойный!), – и оооой, да ой, вздох дошлый по березе, по морозу грозному кручинночервонная, звонами званная песнь. Весть веснь, – в осень; озимь – о земь, все в степь ледяно-лунную, многострунную в звуках своих, что обоим им – лоно; лунь – лёд – сладостноскорбный им мёд; медь месяца – кровь над кровом суровым и тоска и грусть и печать – чала ль, угарно бойких ли в бае гармоник, буйно-струйный ль лай балалаек – опора им в древнем извечном, тяжкотечном нечеловеческом горе. Собор: се – бор древний, дремучий, скрыпучепротяжный, темнолюбезнейших песен на крылосе храмова крина, монахов церковного клира. Собор: се – хор горный, рей на минарета вершине в вечерней остывшей пустыне – дикий, великий, простой – пой подымающих песен – чудесней невесней во мгле – вверх, выше гор, голоса горный сей взор, дивный воззыв ко Алле!!!. Теплей и теплей, любей, голубей, – голубой день достигает к оконцу темно суконному ночи – и очи свои открывает в крыше алой широкой новое солнце – и слава Аллаху – день яркий, пятница-приятносян, в яслях своих голубых рано; с утра; – здравствуй радостно алое А, здравствуй радостнопразднично брак твой со днем, светлоогнем яркое Ра! К порядку, пора, – и на небе с Ор спали слезы – и блестки блестят их на травах черножелтоогненных осени; бросила спать на земле, из нор темных (светлых во двор) сор полетел; бел и чист узкий как уж тротуар – и пар благостный благостных вод – к чаю и кофе – высоко над кофейнями реет; добрее язык, клокочет охотней гортань; длань ласковей жмется к лицу, к узким глазам: Сезам отворился истово-ясного дня (Иордань дня началась)… а-а-а-а… ля… муэдзин зык свой очно и ясно подъял: да, день долгожданный настал. О да и ал встал малый в часе своем, в доме своем сем, ранний день: солнце – как в лете щедро и лепо горит; риза дня, голубая – жарка; весел верх, нежно небо – на земле же щедра дань насущного хлеба – леп день, лепо лето; – ликуй же урной своей золотой – солнца – земля, радуйся всякая тля; длят для дня стекла острые осени ныне блещущий редкий и светлый свой свет – и ликуй и ликуй (может быть напослед!) весело, счастливо, ясно, – нижний и низкий сей свет – – – – – – – – – –1917 г.
Иллюстрации
Н. Гончарова. Сюита автолитографий к книге Т. Чурилина Весна после смерти






Авантитул книги Т. Чурилина Весна после смерти с дарственной надписью автора: «Памяти моей матери…и сущим во гробе – живот дарова! Повторением чудесным, наследием нежнейшим передается живой, живущей Матери, Любови и Другу Марине Цветаевой невозможностью больше (дать). Аминь. Март 1916, 9. Весна. Тихон Чурилин». Ниже инскрипт М. Цветаевой: «- Евгению Львовичу Ланну – для передачи в руки не менее дорогие (его – мне!) Марина Цветаева. Москва, 24-го русск<ого> ноября 1920 г.»
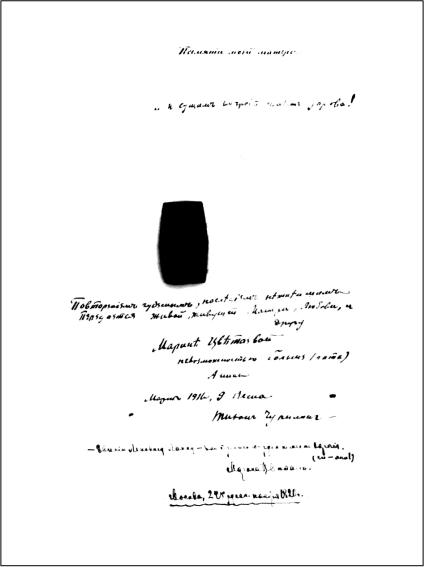
Б. Корвин-Каменская. Макет каталога выставки (1921)




Приложения
Анастасия Цветаева. О Тихоне Чурилине
Однажды, переступив порог Марининой комнаты, – жила она тогда в Борисоглебском переулке, – я увидела в первый раз поэта Тихона Чурилина. Он встал навстречу, долго держал мою руку, близко глядел в глаза – восхищенно и просто, в явной обнаженности радости, проникания, понимания, – человек в убогом пиджачке, в заношенной рубашке, черноволосый и – не смуглый, нет – сожженный. Его глаза в кольце темных воспаленных век казались черными, как ночь, а были зелено-серые. Марина о тех глазах:Марина Цветаева. Из очерка «Наталья Гончарова»
В первый раз я о Наталье Гончаровой – живой – услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, Вокзал и, особенно мною любимое – не все помню, но что помню – свято:Татьяна Лещенко-Сухомлина. Письмо о Тихоне Чурилине
24 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА. Дорогая, милая Софья Юлиевна. Я не сразу ответила Вам про Тихона Васильевича Чурилина потому, что мне хотелось сделать это по-серьезному – ведь он и его жена Бронислава Иосифовна были нашими близкими друзьями-Цаплина и моим. Тихон умер летом 1944 года в больнице для душевнобольных, но как потом оказалось, он тяжело болел туберкулезом! Бронислава Иосифовна умерла несколькими месяцами раньше – шла война, она откуда-то вернулась усталая, легла, уснула. Тихон три дня никому не позволял ее будить. Когда он понял, что она мертва – он перерезал себе вены. Его спасли и отвезли к Ганушкину, куда я ринулась, узнав об этом… Я тогда только что вернулась из эвакуации – из Сибири… С юных лет я часто твердила стихи про Кикапу: «Помыли Кикапу в последний раз» и т. д. Вы, наверное, их знаете… И вот в 38 году в Доме Писателей, где мы с Цаплиным были на каком-то вечере, нас познакомили с автором этого странного стихотворения! Тихон Васильевич был некрасив, но очень интересное лицо – смуглый как цыган, с иссиня-черны-ми волосами, а Бронислава Иосифовна была горбатенькая, хрупкая с прекрасным тонким лицом, мудрая и тихая. Тихон Васильевич был образованнейшим человеком, необыкновенный рассказчик и, по-моему, талантливейший поэт. Мы четверо подружились – даже Цаплин, которому так редко, так скупо кто нравился, и тот пленился Чурилиным и Брониславой Иосифовной. Она была единственной женщиной. которую Цаплин называл «La majeste» и целовал ей руку, да, да, этот русский мужик Цаплин. Впрочем, он был аристократичнее, ох, многих, многих, но о Цаплине как-нибудь в другой раз. Это ТАЛАНТИЩЕ! Итак. Тихон стал писать мне стихи. Мы часто виделись. Они порой сильно нуждались – работала ведь одна она, художница и мастер на все руки, а Тихон не мог, не умел и действительно не мог зарабатывать, тогда они переезжали к нам «гостить», чему мы всегда рады были и ужасно весело и уютно слушали вечерами рассказы Тихона Васильевича – Цаплин делал его портрет из камня – замечательно! (Я, как кончу письмо. посмотрю у себя в коробке и если есть переснятая фот-<огра>фия, то пошлю Вам). Потом началась война… А еще за год до того мы, друзья Чурилина и почитатели его таланта, хлопотали, чтобы вышел сборник его стихов, и собрали сборник, но вышел лишь сигнальный экземпляр… Очень опечален был Тихон и все мы. Началась война. Перед тем, как мы уехали в эвакуацию, Тихон принес мне свою автобиографическую повесть «Тьму – Катань» – (название города) – интереснейшая! Его 3 стихотворения. мне посвященные, и эта повесть, и письмо его, и книжки, мне им подаренные с его надписями – все сейчас в архиве Сухомлиных в Рукописном Отделе Ленинградской библиотеки, так же, как и моя о нем запись. Да, кстати, мне на днях звонили из Энциклопедии Писателей и Поэтов (Литературная Энциклопедия) и спрашивали о Вас!!! Наверное, не одну меня. Я подняла подругу до небес дифирамбами, – словом, Вы там тоже будете фигурировать. Они как раз дошли до буквы «П». Бедный друг наш, милый, умнейший Тихон Васильевич тоже будет вписан. Боже мой, как щемит сердце, как вспомню его в больнице… Он не хотел больше жить без Бронки. И скоро умер. Вот его стихотворение о Хлебникове, которое я очень люблю: они ведь были близкими друзьями.Песнь о Велемире.
Будто КАК МАДРИГАЛ
Москва 1938 г.
Татьяне Ивановне Карениной
[Приписано на полях с левой стороны на первой странице письма]: «Очень жаль мне, что не повидала Нат. Вл. Кодрянскую. Передайте ей привет и очень привет Ирине. Знала ли она Дельмас? Я очень полюбила Дельмас».
[На полях с левой стороны на второй странице]: «Написала бы еще много, да слишком толстое письмо получится. Ответьте сразу же – очень, особенно, прошу! Татьяна».
[На полях с левой стороны на четвертой странице]: «Увы, фотография Тихона у меня осталась лишь одна!»
Комментарии
В настоящем издании публикуются две повести, написанные Т. Чурилиным (1885–1946) в Крыму в 1916-17 гг. Как и первая поэтическая книга Чурилина «Весна после смерти» (1915), они демонстрируют существенное влияние достижений символистов и в первую очередь А. Белого (подмеченное у Чурилина еще авторами первых критических отзывов – Н. Гумилевым, Б. Садовским, В. Ходасевичем) наряду с отголосками футуризма в диапазоне от «эго» до «кубо» (в этом плане крайне важен был для Чурилина словотворческий опыт В. Хлебникова). В воспоминаниях Чурилин открыто пишет о периоде ученичества у символистов, выделяя «своеобразие синтаксиса» И. Коневского и А. Белого как «властителя дум», привлекшего его «ритмикой и интонационностью»: «Его поэзия и проза были трамплином, с которого меня отбросило потом – вперед и выше <?>! <…> Вот отсюда вышла „Весна после смерти“, первая книга, введшая меня в русскую поэзию 20 века» (Встречи: 473). Чурилин замечает далее, что книга его оказалась в межеумочном положении: «символисты поспешили назвать ее и футуристической или кубофутуристической, ибо они чуяли во мне – их же свергателя, их же разрушителя», тогда как футуристы «к ребенку повернулись сами задом: символяка-де» (там же: 474). Эта ретроспективная авторская оценка во многом справедлива и приложима и к прозе Чурилина. Склонный внутренне к импрессионизму и мифопоэтике символистского толка, Чурилин в то же время обращается к символизму в его наиболее «футуристических» проявлениях, стремясь докопаться до «первоначальной дикости и новизны» слова (Гумилев, Письма о русской поэзии). В текстах Чурилина «цепочки слов, выстроенные по принципу поэтической этимологии и паронимической аттракции, как бы воссоздают процесс движения мысли, процесс обретения словом своего значения» (Крамарь 2001); «сюжеты развиваются в каламбурных столкновениях, в палиндромной игре» и «весь текст, скрепленный многочисленными паронимическими гнездами, уходит в заумь» (Яковлева 2013: 295). Ритмизованная и порой рифмованная проза Чурилина и впрямь доводит до заумной кульминации идею звукописи, аллитерации «чуждых чарам черных челнов», паронимические и словотворческие приемы. Все в ней словно подчинено единой задаче максимальной – музыкальной – экспрессии, нивелирующей структуры и смыслы (Чурилин обладал абсолютным музыкальным слухом). Однако поэт, как мы увидим ниже на примере «Конца Кикапу», нередко ставил перед собой задачи иные и куда более насущные. Среди использованных в комментариях работ хотелось бы отметить основополагающий труд Н. Яковлевой (Встречи), которой мы обязаны целостным описанием биографии Чурилина и основных мотивов его творчества, а также двухтомное собрание стихотворений и поэм (СП), подготовленное А. Мирзаевым и Д. Безносовым и вышедшее в 2012 г. в московском издательстве «Гилея». К ним мы и отсылаем читателя, желающего получить дополнительные сведения о жизни и творчестве Тихона Чурилина.Конец Кикапу Впервые – Конец Кикапу: Полная повесть Тихона Чурилина. М.: Лирень, 1918. Тираж 150 нумер. экз. Переизд.: Конец Кикапу: Полная повесть Тихона Чурилина. М.: Умляут, 2012 (к сожалению, мы не смогли ознакомиться с данной публикацией). Повесть публикуется по первому изданию 1918 г. с заменой или пропуском устаревших ъ, ѣ, i; в остальном сохранена авторская орфография и пунктуация. «Конец Кикапу», датированный июлем-сентябрем 1916 г., написан под знаком краткого романа Т. Чурилина с М. Цветаевой (март 1916 г.) и последовавшего затем болезненного разрыва, инициированного быстро охладевшей к поэту Цветаевой. В мае 1916 г. Чурилин уезжает из Москвы в Крым, где и происходит встреча с его будущей спутницей жизни, Б. Корвин-Каменской. Ей посвящена повесть, и она, «Ронка» повести, становится главной действующей и одухотворяющей силой текста. Повесть развивает темы и мотивы одноименного стихотворения 1914 г., в котором изображен ритуал, предшествующий погребению alter ego автора, Кикапу, и «отсылающий к биографической драме пребывания Чурилина в лечебнице для душевнобольных» в 1910–1912 гг. (Встречи: 427):
Брониславе Корвин-Каменской – Б. И. Корвин-Каменская (?-1945) – жена Т. Чурилина, художница, книжный оформитель и иллюстратор, ученица К. Коровина. В конце 1910-х гг. участница (совместно с Т. Чурилиным и Л. Арен-сом) футуристического содружества «Молодых окраинных мозгопашцев». Зовет ли ад… – Парафраз цитаты из Кн. VII («Суд») «Трагических поэм» (1616) Теодора Агриппы д'Обинье (1552–1630): «…de l'enfer il ne sort / Que l'eternelle soif de l'impossible mort». Ср. в повести «Агатовый Ага»: «Ад есть смерть без надейного ожидания. Ад есть смерть без весны после смерти». Кикапу по своему… – Эпиграф заимствован из «The Philosophy of Furniture» (1840) Э. А. По (1809–1849). В пер. К. Бальмонта («Философия обстановки»): «Готтентоты и кикапу устраиваются по-своему надлежащим образом»; Чурилин воспользовался двухтомным собранием сочинений Э. По (СПб, 1913), где название рассказа и было переведено как «Несколько слов о комнатной обстановке» (Встречи: 428). Видимо, Чурилину был также знаком рассказ Э. По «Человек, которого изрубили на куски. Рассказ о последней экспедиции против племен бугабу и кикапу» (1845; русский пер. М. Энгельгардта опубл. в 1896). Кикапу(kickapoo) – племя американских индейцев, искусных охотников и воинов, некогда насчитывавшее ок. 4000 чел. и населявшее земли у Великих озер. Под натиском белых свободолюбивые кикапу в XIX в. вынуждены были отступать все дальше (Миссури, Оклахома, Канзас, Техас, сев. Мексика). При этом кикапу сопротивлялись «окультуриванию»; процент чистокровных индейцев у кикапу – до сих пор один из наиболее высоких среди племен Сев. Америки. В настоящее время кикапу живут в Канзасе, Оклахоме, Техасе и Мексике. Кикапу… – Центральный автобиографический и метабиографический персонаж в прозе и поэзии Чурилина 1910-х гг. и далее. В драме «Последний визит» и тематически примыкающих к ней повестях «Кикапу» – домашнее прозвище автобиографического героя Тимона (Безносов 2012: 208). Кикапу, указывает Н. Яковлева, связывается в различных текстах Чурилина с «бессвязным старческо-детским лепетом», «„заумным“ смертоносным „кликом“» и выступает как «пародийный синоним смерти»; Кикапу – также «отсылающая к чурилинским мифам о детстве кличка „зеленобледного“ попугая, привезенного аптекарем в медной клетке и задохнувшегося в „бешеном пиру“ чурилинского трактира» в романе «Тяпкатань»: «Побрила Кикапу в последний раз матушка смерть <…> и в одну ночь слетел с жердочки на пол клетки – и задрал ножки кверху: помер попугай» (Встречи: 428). Однако исследовательница решительно утверждает, что имя главного героя повести Чурилин почерпнул у Э. По, лишь мельком упоминая в примечании о популярном в предреволюционные годы «медленном[sic]танце». Нам представляется, напротив, что имя «Кикапу» было навеяно именно сверхмодным танцем «ки-ка-пу», вызвавшим многочисленные литературные отклики. Очевидно, впоследствии Чурилин, отождествлявший себя с Кикапу, в свойственной ему (и, что немаловажно, А. Белому) манере ретроспективного анализа и «редактуры» собственной биографии и построения биографических мифов распространил удачно найденное имя и на детские впечатления. Поскольку сведения об охватившей Россию в конце 1900 – начале 1910-х гг. эпидемии ки-ка-пу не слишком доступны современному читателю, приведем некоторые подробности. В беллетристике эпохи ки-ка-пу танцуют пансионерки (Л. Чарская. Генеральская дочка, 1915) и дачники (В. Гофман. Летний вечер, 1909–1911). Танец получает такое распространение, что мелодию его «тренькают» на балалайках мещанки и «жарят», насвистывая, не пошлейшие даже, прилизанные телеграфисты – братья телеграфистов (Н. Агнивцев. Студенческая обитель), а журнальный пародист избирает псевдоним «Влас Ки-ка-пу» (С. Черный. Элегическая сатира в прозе, 1913). Танцуют ки-ка-пу и в оперетте, и на цирковых аренах: «Если номер воздушных гимнастов на трапеции или на бамбуке зрители принимали холодно, тогда артисты, спустившись на арену, исполняли наурскую лезгинку или танец ки-ка-пу. Обычно раздавались бурные аплодисменты…» (Кох 1963). Мелодии ки-ка-пу сочиняли Элькс, М. Мишин, Г. фон Тильцер (М. Тил-цер) и пр.; их записывали на грампластинках фирмы Пате, «Гном Рекорд», «Лирофон». Тысячами расходились нотные записи; чрезвычайным успехом пользовалось «объяснение» танца сочинения Н. Яковлева, издававшееся в сопровождении нот петербургским издателем Н. Давингофом (известны экземпляры по меньшей мере из 11-й тысячи). Согласно объяснениям артиста Императорских театров, «новый салонный американский танец» ки-ка-пу состоял из 16 тактов, а танцевать его К. и Д. - кавалеру и даме – надлежало следующим образом:
I. ФИГУРА К. и Д. становятся рядом. К. берет правой рукой у дамы правую руку и держит ее над головой, левую руку Д. держит левой рукой обыкновенно. Начинают К. левой а Д. правой ногой шаг вперед, а которая нога остается, сзади выбрасывается вперед, таким образом делают четыре раза, затем разнимают руки. К. налево делает одно из польки, затем налево опять берутся за руки, как сначала и повторяют в таком же порядке первую фигуру. II. ФИГУРА К. и Д. становятся vis-a-vis и делают 4 русские па направо, затем одно балансе вперед и одно назад, затем К. прихлопывает в ладоши, Д. подходит к К. русским па и танцуют вместе 2 раза Polka – затем весь танец сначала. P. S.Русское па направо, т. е. правой ногой наступить крепко и левой ногой назад, касаясь пальцами пола.

В 1919 г. «музыка революции» претворилась у А. Блока в «печальный кикапу» (Бы жизнь по-прежнему нисколько…); любопытно, что в эмиграции ки-ка-пу и фокстрот связывал с «днями Интернационала» атаман П. Н. Краснов, противопоставляя «поганым танцам» в своей реакционно-монархической утопии национальный казачок (За чертополохом, 1922–1928). Вспоминали ки-ка-пу в эмиграции также А. Аверченко (Благородная девушка) и С. Черный:
Стиховна («Весна после смерти»)
Красная мышь
Бо мнения («Весна после смерти»)
 При наложении на эту фигуру опрокинутого треугольника Дзое-Сан-Геертаа-Денисли (см. прим. к с. 16) возникает гексаграмма – так называемый «щит Давида», известный защитный талисман (об эволюции символа «щита Давида» см. Scholem 1949). Появление этого символа диктуется первейшей задачей всего единства женских фигур – защитой умершего, ср.: «Сил свивай свивальник охраняющий» (с. 16).
Подобная интерпретация может показаться чересчур вольной – однако не составит труда заметить, что автор настойчиво подчеркивает иерархию образов в повести и графическую символику их расположения, особо выделяет в тексте разбивкой слово треугольник (с. 25) и т. д. Тем не менее, Чурилин, как и в случае Ра, использует мифологические или эзотерические фигуры и символы в их наиболее распространенных значениях, и потому дальнейшие мифопоэтические или эзотерические толкования едва ли оправданы.
...кустоды – Кустод (также кустодий, устар.) – страж, хранитель, часовой, стражник.
Лик. волосы черные. запад пал на лицо; восток – Кикапу сохраняет портретное сходство с автором. Как указывалось выше, в его мертвом лике «восток» совмещается с «западом»; в сочетании с «диптихом» Геертаа-Дзое-Сан (север-юг) возникает знак креста и в мистерии оказываются задействованы все стороны света, что придает ей космический характер. Этот крест, пока только угадываемый, появляется в тексте чуть ниже: на него издевательски взбирается хихикающий Демиург-Корчагин.
...на кресте, некрестясь, распялся. старичок. смелей, смеюн – Злове-вещий шут-Демиург пародирует крестный путь Кикапу и распятие Христа. Смеюн – неологизм заимствован из программного стихотворения В. Хлебникова «Заклятие смехом» (1908–1909), ср. «смеюнчики».
С. 22…в последний раз смеется – смех; – смехом старым и новъм прощает коронно Кикапу всех и вся – Кощунственный смех Демиурга противопоставлен всепрощающему, предсмертному смеху Кикапу в ипостаси паяца; ср. со знаменитой арией Пьеро-Канио «Смейся, паяц…» из оперы Р. Леонкавалло (1857–1919) «Паяцы» (1892), написанной композитором на собственное либретто: «Ты шуткой должен скрыть рыданья и слезы, / а под гримасой смешной муки ада».
…ora, orate – Молитесь, молитесь (лат.).
…кровь… в правую бровь – В уже цитировавшемся стих. 1914 г. «Красная мышь» Чурилин разрабатывает еще один автобиографический миф: мать его, будучи беременной, увидела в комнате окрашенную закатом в кроваво-красный цвет мышь и, испугавшись, ударила себя кулаком по брови; ребенок родился с отметиной: «Ччччерный, чернннный яррркий ягггненок. / И на брови у него, на правой – красный знак. / <.> / Это красная, красная, красная мышь – / В красном доме какая тишь / – Умри ж!» Таким образом, поэт-Кикапу рождается с т. наз. «печатью Каина». Ср.: «Окаянным и Каину дорожка державная, проржавевшая золотом солнечным. Кончено: Кикапу!» (с. 12); «всё тише. как мыши» (с. 24). Отметим в указанном стихотворении столь характерную для Чури-лина связку мотивов крови, Солнца-Ра, родового проклятия, жертвенности (ягненок) и черноты (см. комментарии к повести «Агатовый Ага»).
...содеянный страшно злом зверь. зверь-блед – Здесь и далее концентрация апокалиптической лексики; ср.: «И видѣхъ, и се, конь блѣдъ, и сѣдяй на немъ, имя ему смерть: и адъ идяше вслѣдъ его» (Откр. 6:8).
…«лучше псу смердящему, чем мертвому льву» – «И псу живому лучше, нежели мертвому льву» (Еккл. 9:4).
…лжеутенок серый (лебедь, ленный. холубь в хаосе.) – Кикапу сравнивается с утенком, превращающимся в лебедя в сказке Г. Х. Андерсена (18051875) «Гадкий утенок» (1843). «Лебедем» (по аналогии с Лебедянью) и «голубем» именовала Чурилина М. Цветаева (см. Крамарь 2001).
Спускается сверху небесная тьма. треугольник. комета конца Кикапу – Природные знамения, сопровождающие погребальный ритуал – «гул поднебесный, звук-знак» (с. 18), скрежещущий вой камней, гор, пещер (с. 19), облака и дымы (с. 24) – достигают кульминации: «облако оверзлось» (с. 24, ср.: «Вот, дверь отверста на небе», Откр. 4:1). Затем «спускается небесная тьма» – и смерть Кикапу окончательно уподобляется распятию Христа, ср.: «Тьма была по всей земле» (Мф. 27:45), «настала тьма по всей земле» (Лк. 15:33) и т. д.
Небеса являют знамение, параллельное звезде-комете, возвестившей рождение Кикапу-Антихриста (Стиховна, «Весна после смерти»). Эта новая комета смерти вписана в треугольник, который визуально повторяет представленный в повести треугольник женских образов. Небесный треугольник с точкой кометы посередине образует графический символ Божественного ока (треугольник с точкой или глазом). Далее утренняя звезда, рядом с которой сияет небесное знамение, обыгрывается и в значении Люцифера («антихристов» аспект Кика-пу), и как взор Венеры, возвещающей новое утро и дарующей любовь.
…дивная видится долина. урны подлинныя беломраморныя. Род грозный мертвецов. ждут. Воскресения. Иосафатовой долины – Источником вдохновения для этих образов послужила Иосафатова долина близ Чуфут-Ка-ле, где расположено древнее караимское кладбище Балта-Тиймез («Топор не коснется»). Крымская долина названа по библейской Иосафатовой долине, месту Божьего суда: «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд» (Иоил. 3:1; древнеевр. Yehoshafat – букв. «Господь судит»); обычно долина Иосафата отождествляется с Кедронской долиной, которая пересекает Восточный Иерусалим и проходит вдоль восточной стены Старого города.
…дверь отверстую. там гроб. и осанна! там град новый радостный – Воспроизведен библейский рассказ о воскресении Иисуса: жены-мироносицы застают открытую пещеру и пустой гроб (Мф. 28:1–7; Мк. 16:1–7). Град новый – реминисценция Откр. 21:1–2: «И увидел я новое небо и новую землю <.> святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».
…Я была двенадцатилетней девочкой – Финал повести представляет собой непрерывный внутренний монолог Ронки; весьма любопытно, что схожий прием мы встречаем в финале «Улисса» (1914–1921) Д. Джойса (1882–1941), т. е. в прославленной главе «Пенелопа» с внутренним монологом-потоком сознания Молли Блюм. Но этим совпадения не ограничиваются: поток сознания Ронки, как и Молли Блюм, содержит откровенные сцены (включая однополую любовь: «камнем падала на грудь удов, на груди <.> баб белейших телами <.> уды, урча кровию, жаднонадувшись поднимались ко мне», с. 27) и завершается мыслью о единении с возлюбленным.
…Велиар – Библейский Велиал / Белиал, демонический соблазнитель и разрушитель; в европейской демонологии один из старших демонов.
И в лето грознонелепое тридцатъшестое… – Подразумевается встреча Б. Корвин-Каменской с Т. Чурилиным (1916). Отсюда можно заключить, что год ее рождения – 1880.
…шевельнулась во мне та, Тайна моя, жизнь, воскресенье мое. возстала я, девочка стройная двенадцати сладостных лет. лебедъ любовный, Леда. – Последняя тайна наконец раскрывается: Ронка предстает как непорочная Дева и Мать, «тяжелая» самой собой в образе девочки (Дитя), олицетворяющей любовь. Достойно внимания и то, что при первом появлении в тексте (с. 27) слово «девочкой» графически выделяется буквицей Д и заглавными буквами – ЕВОчкой; оно ясно читается и как Евочкой (Евой), создавая коннотации «новой Евы и нового Адама». С рождением-возвращением этой новой Евы возникает триединая фигура Матери-Девы-Дитя, долгожданный синтез отцовской и материнской крови и эманаций матери и отца. Леда – персонаж древнегреческой мифологии, царская дочь, которой овладел Зевс в образе лебедя; подобно Леде, Ронка-Дитя встречает любимого-лебедя, т. е. Кикапу-Чурилина (см. прим. к с. 23).
Всех созвала я, приняла как своих: трех – двух – старика. Мы пришли вместе – вместить; вы – ушли, – ллли, эллли, ллля – Ронка вмещает и объединяет в себе все женские фигуры низших уровней «триптиха» и «диптиха» вплоть до их полного растворения в едином целом. В ее песнопениях звучит слово Эль (древнеевр. «Бог»). Становясь эквивалентна мирозданию, она обретает всю полноту атрибутов триединой божественной Матери (Мать-Дева-Дитя) и растворяет в себе Демиурга, даруя мертвому надежду на спасение.
Новая Сольвейг. Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти – Подобно Сольвейг в ибсеновской драме (см. прим. к с. 13) и Пенелопе, Ронка символизирует всепрощение и верность; она терпеливо ждет возвращения (воскресения) возлюбленного. Все покровы сняты, открывается высшее предназначение божественной Матери – защита умершего от повторения жизни-смерти «во гробе». Триединая Мать-Дева-Дитя – залог спасения, освобождения от тягостного плена низшего мира с круговоротом жизни и смерти, лишенным искупления; только ее любовь становится залогом истинного воскресения.
При наложении на эту фигуру опрокинутого треугольника Дзое-Сан-Геертаа-Денисли (см. прим. к с. 16) возникает гексаграмма – так называемый «щит Давида», известный защитный талисман (об эволюции символа «щита Давида» см. Scholem 1949). Появление этого символа диктуется первейшей задачей всего единства женских фигур – защитой умершего, ср.: «Сил свивай свивальник охраняющий» (с. 16).
Подобная интерпретация может показаться чересчур вольной – однако не составит труда заметить, что автор настойчиво подчеркивает иерархию образов в повести и графическую символику их расположения, особо выделяет в тексте разбивкой слово треугольник (с. 25) и т. д. Тем не менее, Чурилин, как и в случае Ра, использует мифологические или эзотерические фигуры и символы в их наиболее распространенных значениях, и потому дальнейшие мифопоэтические или эзотерические толкования едва ли оправданы.
...кустоды – Кустод (также кустодий, устар.) – страж, хранитель, часовой, стражник.
Лик. волосы черные. запад пал на лицо; восток – Кикапу сохраняет портретное сходство с автором. Как указывалось выше, в его мертвом лике «восток» совмещается с «западом»; в сочетании с «диптихом» Геертаа-Дзое-Сан (север-юг) возникает знак креста и в мистерии оказываются задействованы все стороны света, что придает ей космический характер. Этот крест, пока только угадываемый, появляется в тексте чуть ниже: на него издевательски взбирается хихикающий Демиург-Корчагин.
...на кресте, некрестясь, распялся. старичок. смелей, смеюн – Злове-вещий шут-Демиург пародирует крестный путь Кикапу и распятие Христа. Смеюн – неологизм заимствован из программного стихотворения В. Хлебникова «Заклятие смехом» (1908–1909), ср. «смеюнчики».
С. 22…в последний раз смеется – смех; – смехом старым и новъм прощает коронно Кикапу всех и вся – Кощунственный смех Демиурга противопоставлен всепрощающему, предсмертному смеху Кикапу в ипостаси паяца; ср. со знаменитой арией Пьеро-Канио «Смейся, паяц…» из оперы Р. Леонкавалло (1857–1919) «Паяцы» (1892), написанной композитором на собственное либретто: «Ты шуткой должен скрыть рыданья и слезы, / а под гримасой смешной муки ада».
…ora, orate – Молитесь, молитесь (лат.).
…кровь… в правую бровь – В уже цитировавшемся стих. 1914 г. «Красная мышь» Чурилин разрабатывает еще один автобиографический миф: мать его, будучи беременной, увидела в комнате окрашенную закатом в кроваво-красный цвет мышь и, испугавшись, ударила себя кулаком по брови; ребенок родился с отметиной: «Ччччерный, чернннный яррркий ягггненок. / И на брови у него, на правой – красный знак. / <.> / Это красная, красная, красная мышь – / В красном доме какая тишь / – Умри ж!» Таким образом, поэт-Кикапу рождается с т. наз. «печатью Каина». Ср.: «Окаянным и Каину дорожка державная, проржавевшая золотом солнечным. Кончено: Кикапу!» (с. 12); «всё тише. как мыши» (с. 24). Отметим в указанном стихотворении столь характерную для Чури-лина связку мотивов крови, Солнца-Ра, родового проклятия, жертвенности (ягненок) и черноты (см. комментарии к повести «Агатовый Ага»).
...содеянный страшно злом зверь. зверь-блед – Здесь и далее концентрация апокалиптической лексики; ср.: «И видѣхъ, и се, конь блѣдъ, и сѣдяй на немъ, имя ему смерть: и адъ идяше вслѣдъ его» (Откр. 6:8).
…«лучше псу смердящему, чем мертвому льву» – «И псу живому лучше, нежели мертвому льву» (Еккл. 9:4).
…лжеутенок серый (лебедь, ленный. холубь в хаосе.) – Кикапу сравнивается с утенком, превращающимся в лебедя в сказке Г. Х. Андерсена (18051875) «Гадкий утенок» (1843). «Лебедем» (по аналогии с Лебедянью) и «голубем» именовала Чурилина М. Цветаева (см. Крамарь 2001).
Спускается сверху небесная тьма. треугольник. комета конца Кикапу – Природные знамения, сопровождающие погребальный ритуал – «гул поднебесный, звук-знак» (с. 18), скрежещущий вой камней, гор, пещер (с. 19), облака и дымы (с. 24) – достигают кульминации: «облако оверзлось» (с. 24, ср.: «Вот, дверь отверста на небе», Откр. 4:1). Затем «спускается небесная тьма» – и смерть Кикапу окончательно уподобляется распятию Христа, ср.: «Тьма была по всей земле» (Мф. 27:45), «настала тьма по всей земле» (Лк. 15:33) и т. д.
Небеса являют знамение, параллельное звезде-комете, возвестившей рождение Кикапу-Антихриста (Стиховна, «Весна после смерти»). Эта новая комета смерти вписана в треугольник, который визуально повторяет представленный в повести треугольник женских образов. Небесный треугольник с точкой кометы посередине образует графический символ Божественного ока (треугольник с точкой или глазом). Далее утренняя звезда, рядом с которой сияет небесное знамение, обыгрывается и в значении Люцифера («антихристов» аспект Кика-пу), и как взор Венеры, возвещающей новое утро и дарующей любовь.
…дивная видится долина. урны подлинныя беломраморныя. Род грозный мертвецов. ждут. Воскресения. Иосафатовой долины – Источником вдохновения для этих образов послужила Иосафатова долина близ Чуфут-Ка-ле, где расположено древнее караимское кладбище Балта-Тиймез («Топор не коснется»). Крымская долина названа по библейской Иосафатовой долине, месту Божьего суда: «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд» (Иоил. 3:1; древнеевр. Yehoshafat – букв. «Господь судит»); обычно долина Иосафата отождествляется с Кедронской долиной, которая пересекает Восточный Иерусалим и проходит вдоль восточной стены Старого города.
…дверь отверстую. там гроб. и осанна! там град новый радостный – Воспроизведен библейский рассказ о воскресении Иисуса: жены-мироносицы застают открытую пещеру и пустой гроб (Мф. 28:1–7; Мк. 16:1–7). Град новый – реминисценция Откр. 21:1–2: «И увидел я новое небо и новую землю <.> святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».
…Я была двенадцатилетней девочкой – Финал повести представляет собой непрерывный внутренний монолог Ронки; весьма любопытно, что схожий прием мы встречаем в финале «Улисса» (1914–1921) Д. Джойса (1882–1941), т. е. в прославленной главе «Пенелопа» с внутренним монологом-потоком сознания Молли Блюм. Но этим совпадения не ограничиваются: поток сознания Ронки, как и Молли Блюм, содержит откровенные сцены (включая однополую любовь: «камнем падала на грудь удов, на груди <.> баб белейших телами <.> уды, урча кровию, жаднонадувшись поднимались ко мне», с. 27) и завершается мыслью о единении с возлюбленным.
…Велиар – Библейский Велиал / Белиал, демонический соблазнитель и разрушитель; в европейской демонологии один из старших демонов.
И в лето грознонелепое тридцатъшестое… – Подразумевается встреча Б. Корвин-Каменской с Т. Чурилиным (1916). Отсюда можно заключить, что год ее рождения – 1880.
…шевельнулась во мне та, Тайна моя, жизнь, воскресенье мое. возстала я, девочка стройная двенадцати сладостных лет. лебедъ любовный, Леда. – Последняя тайна наконец раскрывается: Ронка предстает как непорочная Дева и Мать, «тяжелая» самой собой в образе девочки (Дитя), олицетворяющей любовь. Достойно внимания и то, что при первом появлении в тексте (с. 27) слово «девочкой» графически выделяется буквицей Д и заглавными буквами – ЕВОчкой; оно ясно читается и как Евочкой (Евой), создавая коннотации «новой Евы и нового Адама». С рождением-возвращением этой новой Евы возникает триединая фигура Матери-Девы-Дитя, долгожданный синтез отцовской и материнской крови и эманаций матери и отца. Леда – персонаж древнегреческой мифологии, царская дочь, которой овладел Зевс в образе лебедя; подобно Леде, Ронка-Дитя встречает любимого-лебедя, т. е. Кикапу-Чурилина (см. прим. к с. 23).
Всех созвала я, приняла как своих: трех – двух – старика. Мы пришли вместе – вместить; вы – ушли, – ллли, эллли, ллля – Ронка вмещает и объединяет в себе все женские фигуры низших уровней «триптиха» и «диптиха» вплоть до их полного растворения в едином целом. В ее песнопениях звучит слово Эль (древнеевр. «Бог»). Становясь эквивалентна мирозданию, она обретает всю полноту атрибутов триединой божественной Матери (Мать-Дева-Дитя) и растворяет в себе Демиурга, даруя мертвому надежду на спасение.
Новая Сольвейг. Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти – Подобно Сольвейг в ибсеновской драме (см. прим. к с. 13) и Пенелопе, Ронка символизирует всепрощение и верность; она терпеливо ждет возвращения (воскресения) возлюбленного. Все покровы сняты, открывается высшее предназначение божественной Матери – защита умершего от повторения жизни-смерти «во гробе». Триединая Мать-Дева-Дитя – залог спасения, освобождения от тягостного плена низшего мира с круговоротом жизни и смерти, лишенным искупления; только ее любовь становится залогом истинного воскресения.
Агатовый Ага Впервые в составе публикации: Тихон Чурилин. Стихи и проза 1912–1920 [Публ., вступ. статья и прим. А. Мирзаева] // Другое полушарие: Журнал литературного и художественного авангарда. 2009. № 9. С. 60–73. Печатается по этой публикации. Фрагмент из повести с примечаниями автора, приведенными ниже, был опубликован в альманахе Помощь (Симферополь, 1922) под названием «Агатовый Ага (Отрывок о чале)». В сравнении с «Концом Кикапу», который можно назвать повестью a clef или дажеs ans clef (ибо без биографического «ключа» смысл ее можно уяснить только в самых общих чертах), «Агатовый Ага»- прозрачная этнографическая зарисовка, включающая некоторые фольклорные элементы. В повести царит чувство возвращения к жизни, выраженное в образе татарского оркестра – чала, изображенного виртуозной и экстатической звукописью. «Если в „Конце Кикапу“ „оркестр“ является только эмблемой экзотического (тюркского) мира и почти не участвует в действии, то в „Агатовом Ага“ его звуки символизируют „выздоровление“ и освобождение героя от смерти, что имеет отчетливый автобиографический подтекст и, вероятно, свидетельствует о преодолении в эти годы последствий больничного потрясения» – замечает Н. Яковлева (Встречи: 431). Интерес к тюркско-татарской культуре и обычаям Чурилин разделяет в это время с женой: в макете каталога выставки Б. Корвин-Каменской (см. с 56) значатся такие акварели 1917–1918 гг., как «Татарки», «Чал», «Бахчисарай». Однако повесть не сводится к экзотическим описаниям. Знатный иностранец, Ага – в почетном титуле ясно прочитывается маг – скупает волшебные черные камни, и шубку, собаку, девушку, уподобляемую «Черной богине», затягивает смертный белый иней. Их кровь «прибывает во кров», они попадают «во власть господина, черноогненного где то Аги». В этой сказке-аллегории присутствуют такие постоянные у поэта мотивы, как «чернота» и жертвенность, а задействовано в ней не что иное, как черная, белая и красная стадии алхимического процесса: nigredo (почернение), albedo (побеление) и rubedo (покраснение). Зловещее делание, совершаемое над миром, разрешается исчезновением морока и счастливым возвращением крови в свое лоно; жертва принесена, и заветный философский камень мир обретает в ликующем экстазе оркестра. К повести тесно примыкают два стихотворения 1917 г. – «Печальный чал» (напечатанное в альманахе «Помощь», 1922) и «Честный чал». Приводим их по публикации Стих. 2002:
Печальный чал
Честный чал
Брониславе…агатовый сфинкс – С первых строк в повесть вводится тема агата – камня, которому издавна и по сей день приписываются магические качества. Как считалось, агат обладал целебными свойствами, защищал от опасностей, помогал в борьбе со стихиями, способствовал успеху в любовных делах и награждал носителя камня храбрым сердцем. Черный агат, иногда называемый сегодня «магическим», защищал от злых сил и т. д. О легендарных свойствах агата см. также Kunz 1913: 51–54. …дворец, древних Ханов – Ханский дворец в Бахчисарае, главная резиденция крымских ханов, постройка которой началась в XVI в. Дворец потерпел значительный ущерб во время пожара, устроенного русским фельдмаршалом К. Минихом после взятия Бахчисарая в 1736 г. и впоследствии неоднократно реконструировался и перестраивался. …дева – Нигродёа – Черная богиня (от лат. nigro Dea). Возможно, этот образ соотносится с иконографической традицией т. наз. «Черных Мадонн» и культом Черной Девы в ряде стран Западной Европы. Вместе с тем, мотив «черноты» роднит Эстер-Нигродеа (подобно собаке и шубке повести) с автором. О «черноте» Чурилина писали мемуаристы: «черноволосый и – не смуглый, нет, сожженный» (А. Цветаева, см. с. 59); «лицо темно» – пишет он о себе (Портрет, 1939). С восточной, иудейской чернотой сопрягается жертвенность – автобиографический герой уподобляется «яркому» и черному жертвенному ягненку: «Ччччерный, чернннный яррркий ягггненок» (Красная мышь, 1914); Кикапу, воплощение автора, уподобляется Христу (см. комментарии к повести «Конец Ки-капу») и т. д. Ниже мы увидим, как соединяются эти мотивы в образе Эстер-Нигродеа. …Града Садов – Более точный перевод названия Бахчисарая с крымскотатарского – «дворец-сад». …Аге – Ага – в Османской империи военный и придворный титул, в тюркских языках «господин», почтительное обращение к старшим. …недовольна именем истоводревним своим. Эстер – Имеется в виду героиня ветхозаветной книги Эсфирь (Есфирь, в ориг. Эстер), жена персидского царя Артаксеркса, отображенная в многочисленных произведениях живописи, трагедии Ж. Расина (1639–1699), оратории Г. Ф. Генделя (1685–1759) и т. д. Согласно библейскому повествованию, Эстер, подвергаясь смертельной опасности, сумела спасти отца и весь народ от преследований злобного царедворца Амана, задумавшего истребить иудеев (это событие отмечается во время еврейского праздника Пурим). …Нинекен-джан… ханум султан – Также Ненекеджан-Ханым, Нанкеджан-Ханым, Джанике, дочь хана Золотой Орды Тохтамыша (? - 1406), умершая в 1437 г. Ее восьмиугольный мавзолей сохранился у северного обрыва Чуфут-Кале. Имя Ненекеджан окружено многочисленными фольклорными и литературными легендами. По одной из них, она возглавляла оборону Чуфут-Кале и была убита во время осады неприятельским всадником; по другой, бросилась в пропасть, когда разгневанный хан застал ее в объятиях любимого. Романтические истории о Ненекеджан были хорошо знакомы читающей публике: см., например, контаминацию вышеперечисленных легенд в середине XIX в. (Сементовский 1847: 125–148). Известна также поэма Л. Защук Ненекеджан: Бахчисарайское предание в стихах (СПб., 1903); в ней Ненекеджан бежит с любимым ею джигитом Саладином в караимскую крепость; когда войско Тохтамыша проникает в крепость, Ненекеджан «движеньем легким и прекрасным» бросается с обрыва, а ее возлюбленный гибнет под пытками. В контексте повести наиболее интересна легенда, которая роднит Ненекеджан с Эсфирью в качестве народной заступницы. Она гласит, что Тохтамыш купил Джанеке в Бахчисарае и сделал ее гаремной наложницей. Однажды крепость хана осадили враги; запасы воды подходили к концу, защитники умирали, но правитель, страшась за свои сокровища, продолжал гнать людей на стены. Как-то к Ненекеджан пробрался пастушок Али и принялся умолять ее помочь народу. Ненекеджан знала, что ей нельзя находиться рядом с мальчиком, что она будет опозорена и погибнет – и все же пошла с ним; всю ночь они носили в крепость бурдюки с водой, а наутро слабая здоровьем Ненекеджан упала замертво (см. Филатова 2006: 87–90). Прозвище Ненекеджан происходит от тюрк. джан – душа, жизнь (часто употребляется при обращении к любимому человеку). Ханум султан (тюрк.) – дочь султана, принцесса. …Сааз – Также саза, саз, инструмент типа лютни с длинным грифом, распространенный в Турции, Азербайджане, Армении, на Балканах и в других регионах. …Вест – В Персии (Иране) неприкосновенное место, где может спрятаться преследуемый властями (мечети, гробницы, посольства). Ср. в стих. «Бездомный» из «Весны после смерти»: «Скорей, пора в бест!» …сребристопростыя сердца (азиатов, арийцы!) – «Евразийский» хлебниковский мотив, ср. со стих. «Песня о Велемире»: «Юго – плыл, / Наверно, / Не ариец – / Азиец, / Знать». . Теллалка… – От турецк. tellal, глашатай. …Тору – Тора – Пятикнижие (древнеевр. «закон, учение»); здесь имеется в виду сам свиток Торы. …В Иордане, в Иордане. где воскреснешь – Ср. тропарь Крещения Господня: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи <…> Явлейся Христе Боже // и мир просвещей, слава Тебе». …блед-пес, блед-дево, блед-риза – «Вещь, человек и собака» переходят в царство смерти: «И се, конь блѣдъ, и сѣдяй на немъ, имя ему смерть» (Откр. 6:8). …возвращается счастливо кровь черная в кров немногобледный еще, в лоно своё. Руну Черного Солнца, сверкнувшего Урной уже, почти всем – Морок развеивается, грозившая «почти всем» смерть отступает, и кровь счастливо возвращается в свое лоно. О судьбе «вещи, человека и собаки» автор словно забывает: так опущены обстоятельства гибели Кикапу в стихотворении и повести «Конец Кикапу». Вполне очевидно, что Эстер-Нигродеа приносит себя в жертву ради спасения ближних и всего народа: она отождествляет себя с заступницей-жертвой Ненекеджан, а выше в тексте упоминается «жертвенная жатва» (с. 38). Жертвенную участь разделяют с Эстер черная шубка-риза и черный пес; тем самым эксплицируются такие постоянные и взаимосвязанные у Чурилина мотивы, как «чернота» и жертвенность (см. прим. к с. 32). Вплетаются и нередкие у поэта «собачьи» темы и мотивы – которые следует рассматривать, среди прочего, как часть весьма разветвленного «собачьего текста» русской литературы первой четверти XX в. В письмах к жене, как указывает Н. Яковлева, Чурилин использовал маски «собаки» и «пса» (Встречи: 436–438). …Кане, небрачной пока, Галилейской – На брачном пиру в Кане Галилейской Христос совершил первое чудо, превратив воду в вино (Ин. 2:1-11). Навеки, навеки, на вехи твои. – Отсюда и до слов «черный нагорный чабан» включительно (с. 42) следует отрывок, опубликованный в альманахе «Помощь» (1922). Автор снабдил его следующими примечаниями: «Ага – господин, знатное чиновное лицо. Чал – татарский оркестр из своеобразнейших инструментов: зурна, даул, кавал; скрипок, флейт и кларнетов. Чалом также называется самое действо, музыка, игра. Игроки чала – цыгане-татары. Лучший чал был в Бахчисарае под управлением дирижера и композитора скрипача Аши-ра (ныне умершего от голода). Ашир был всероссийски известен и записан на граммофонных пластинках. Тым-тым – написано для скрипки. Автор поразительнейшего и своеобразнейшего тым-тым'а – Ашир. Хайтарма – татарск. танец. Чабан-авасы – танец горного пастуха с палкой». Вероятно, именно этот отрывок наряду со стихотворением «Конец Кикапу» лег в основу скрытой пародии Д. Хармса, датированной 1 янв. 1926 г.:
Полька затылки (срыв)
Анастасия Цветаева. О Тихоне Чурилине Публикуется по изд.: Цветаева А. И. Неисчерпаемое. М., 1992. Данный вариант очерка, видимо, предназначался для советской печати, чем можно объяснить отсутствие всяких упоминаний о психической болезни Чурилина и благостный финал («нашел свою среду и признание»), никак не соответствующий действительным обстоятельствам жизни поэта. Более откровенная, но и более краткая версия (без фрагмента о 1920-1930-х гг.) содержится в «Воспоминаниях» (Цветаева 2008). Соответствующие дополнения даны в примечаниях.
А глаза, глаза на лице твоем. – Цитируется стихотворение М. Цветаевой «Не сегодня-завтра растает снег.» (1916). Ах, в одной из стычек. – Цитируется (с некоторыми разночтениями) стихотворение Т. Чурилина «Смерть принца». Как указывает Ст. Айдидян, А. Цветаева пользовалась текстами стихов, списанными ею у друга Чурилина, поэта Г. Петникова, в Старом Крыму 18 окт. 1969 г. (Цветаева 2008: 741). Как-то отступила дружба Марины с Соней Парнок… – С. Я. Парнок (1885–1933) – поэтесса, переводчица, критик. При жизни издала в 1916–1928 годах пять сборников стихов. Известна сафическим романом с М. Цветаевой (1914-начало 1916); адресат любовного цикла последней «Подруга». Еще не бывал у нее тогда Осип Мандельштам. – «Аберрация памяти», как признается автор (Цветаева 2008: 458). Он читал свои стихи. – В «Воспоминаниях»: «Он читал свои стихи одержимым голосом, брал нас за руки, глядел в глаза близко, непередаваемым взглядом, от него веяло смертью сумасшедшего дома, он все понимал, любил Марину, Колю, меня, говорил, что я – розовый мрамор, рассказывал колдовскими рассказами о своем детстве, отце-трактирщике в Лебедяни, о первом пробуждении стыда в мальчике, о матери, которую любил страстно, страдальчески.» (Цветаева 2008: 451–452). …ухаживали за ним – Далее в «Воспоминаниях»: «Нет, я вспоминаю: Тихон читал нам повесть о своем детстве – жгучую повесть, где были разверсты бездны касания ребенка к тайне плотской любви. От страниц кружилась голова. Все в ней было непереносимо, как непереносима сама жизнь. У истоков стояли мы, в те дни брошенные друг к другу, и было все совершенно голо и просто в своей безысходности, и то, что религия, которая была нам далека, зовет грех – было нам чистотою и неизбежностью в отношении к любимому. Иное – в нашем состоянии тогда, показалось бы трусостью и мещанством» (Цветаева 2008: 452). Речь идет о повести Чурилина «Из детства далечайшего», фрагмент которой с посвящением М. Цветаевой был опубликован во 2-м выпуске альманаха «Гюлистан» (М., 1916). Помню книгу стихов его. – В «Воспоминаниях»: «Чурилин недавно вышел из сумасшедшего дома и издал книгу стихов „Весна после смерти“. Ее большой формат, рисунки Натальи Гончаровой, пейзажи „с того света“ – сумасшедшее и талантливое – все слилось в одно с ее автором, взявшим нас троих в плен» (Цветаева 2008: 451).
Марина Цветаева. Из очерка «Наталья Гончарова» Очерк М. Цветаевой «Наталья Гончарова: Жизнь и творчество», датированный мартом 1929 г., был впервые напечатан в 1929 г. в №№ 5–6 журнала Воля России (Прага).
Как в одной из стычек под Нешавой. – Цветаева по памяти и с искажениями цитирует стихотворение Т. Чурилина «Смерть принца». Wie ich es sehe. – Как я это вижу (нем.). …nachdichten – Букв. «свободно переводить, вольно перелагать» (нем.). Быть может умру. – Эти строки взяты из поэмы «Кроткий катарсис», не входившей в «Весну после смерти»; она была напечатана в «Альманахе муз» (Пг., 1916). …На пригорке монастырь – Цитата из стихотворения М. Цветаевой «Полнолунье, и мех медвежий.» Здесь случай ретроактивной «переадресации», т. к. стихотворение датировано 27 ноября 1915 г.
Татьяна Лещенко-Сухомлина. Письмо о Тихоне Чурилине Впервые в кн.: Очеретянский А., Янечек Д., Крейд. В. Забытый авангард: Россия. Первая треть ХХ столетия. Сборник справочных и теоретических материалов. Н.-Й.-СПб., 1993. C. 271–275 [Публ. и прим. В. Крейда]. Печатается по этой публикации. Автор письма – Т. И. Лещенко-Сухомлина (1903–1998) – певица, актриса, переводчик. В 1924 г. уехала с мужем-американцем в США. После развода вышла замуж за скульптора Д. Цаплина, в 1930-х гг. вернулась в СССР, занималась литературными переводами. В 1947 г. была репрессирована, до 1954 г. находилась в заключении. В 1956 г. вышла замуж за журналиста В. Сухомли-на. В последние годы жизни приобрела известность как исполнительница старинных песен и романсов. О Т. Чурилине см. также в ее мемуарной книге (Лещенко-Сухомлина 1991). Адресат – С. Ю. Прегель (1897, по др. данным 1903 или 1904–1972), поэтесса, издатель. В августе 1920 г. участвовала в крымском «Вечере стихов Т. Чурилина». С начала 1920-х гг. жила в Париже, в период Второй Мировой войны обосновалась в США, в 1948 г. вернулась в Европу. В Нью-Йорке и Париже издавала литературный журнал «Новоселье» (1942–1950), возглавляла издательство «Рифма» (Париж).
…Цаплина – Д. Ф. Цаплин (1890–1967) – скульптор, в описываемый в письме период муж Т. Лещенко. В 1927–1935 гг. находился в творческой командировке за границей, жил в Испании, Англии, Франции, затем вернулся в СССР. Зарабатывал на жизнь созданием агитационных монументов; в то же время получил широкое, но неофициальное признание как видный скульптор-анималист. Тихон умер летом 1944 года. – Ошибка автора: Т. Чурилин умер 28 февраля 1946 г. Бронислава Иосифовна умерла несколькими месяцами раньше. – Б. Корвин-Каменская умерла в октябре 1945 г. La majeste – Здесь: «ваше величество» (франц.). …Цаплин делал его портрет из камня – Местонахождение этой скульптуры неизвестно. …вышел лишь сигнальный экземпляр – С 1932 г. издание сборника Чурилина дважды останавливал Главлит. Печать сборника «Стихи Тихона Чурилина», планировавшегося к выходу в издательстве «Советский писатель» в 1940 г., была приостановлена на стадии сигнальных экземпляров. Надежды Чурилина и его друзей на издание книги окончательно рухнули после появления в журнале «Ленинград» (№ 1, 1941) разгромной статьи критика А. Дымшица, фактически обвинившего поэта и издательство в распространении «тлетворного дыхания декадентства»; творчество Чурилина, по мнению критика, представляло собой «графоманство» и «юродствующее пасквилянтство» (см. также Встречи: 452). Считанные экземпляры книги 1940 г. сохранились в некоторых библиотеках и частных собраниях. …автобиографическую повесть «Тьму-Катань» – Речь идет о романе Чурилина «Тяпкатань» (Тяпкин – легендарный лебедянский разбойник), над которым автор работал в 1930-е гг. В 2010–2012 гг. роман был опубликован О. Крамарь в елецком журнале «Филоlogos», однако все еще дожидается книжного издания. …Литературная энциклопедия. Вы там тоже будете фигурировать. Тихон Васильевич тоже будет вписан – В «Краткую литературную энциклопедию» (М., 1962–1978) были включены небольшие статьи о С. Прегель и Т. Чурилине; последняя была написана Л. Чертковым. Песнь о Велемире. – Стихотворение приведено с некоторыми разночтениями. Осип Эмилич, Николай Степаныч – соответственно, О. Мандельштам и Н. Гумилев. Мария Синякова – художница, сестра Оксаны.. – М. Синякова-Уречина (1890 или 1898–1984) – художница-авангардистка, оформитель футуристических и детских изданий. Семья сестер Синяковых известна связями с русским авангардным движением; В. Хлебников посвятил им поэму «Синие оковы» (1922). Упоминаемая в письме Оксана (Ксения) Синякова (1893–1985) была женой Н. Асеева. …о камне в кольце ее. Михаил Фаб. Гнесин. положил их на музыку – Имеется в виду стихотворение Т. Чурилина «О нежном лице ея.», опубликованное в «Весне после смерти» под названием «Песня (Из повести: Последнее посещение)». Ноты романса М. Ф. Гнесина (1883–1957) на это стихотворение (в пер. на иврит Ш. Черниховского под названием «Еврейская песня») были изданы в 1923 г. в Берлине; немецкий пер. Л. Эсбер, также под названием «Еврейская песня», был положен на музыку композитором Ю. Энгелем (18681927). Канал открылся водяной. – Видимо, речь идет об открытии канала Москва-Волга (совр. канал им. Москвы) в 1937 г.; в таком случае знакомство автора письма с Чурилиным состоялось не в 1938, а в 1937 г. …расские шушпаны – Так в тексте; видимо, должно быть «русские». …«La dame a la licosne». музея Cluny- «La dame a la 1icosne»(«Дама с единорогом», фр.) – условное название шести знаменитых аллегорических шпалерX V в., изображающих даму в окружении единорога и льва. Хранятся во французском Национальном музее Средневековья (бывш. музей Клюни). Нат. Вл. Кодрянскую. Дельмас – Н. В. Кодрянская (урожд. Гернгросс, 1901–1983) – писательница, мемуаристка. С 1919 г. в эмиграции; жила в Швейцарии, Франции, США. Автор сказок, книг об А. Ремизове, которого считала своим учителем в литературе. Дельмас – возможно, певица Л. Андреева-Дель-мас (1884–1969), известная романом с А. Блоком.
Литература Безносов 2012 – Безносов Д. Д. Неизвестная пьеса Тихона Чурилина: (По материалам РГАЛИ) // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. № 3 (118). С. 208–212. Власова 1995 – Власова М. Новая абевега русских суеверий: Иллюстрированный словарь. СПб., 1995. Встречи – Чурилин Т. Встречи на моей дороге (Вступ. статья, публ. и комм. Н. А. Яковлевой) // Лица: Биографический альманах. 10. СПб, 2004. C. 408–494. Кох 1963 – Кох З. Вся жизнь в цирке. М., 1963. Крамарь 2001 – Крамарь О. К. Марина Цветаева и Тихон Чурилин // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9-13 октября 2000 года). М., 2001. С. 128–143. Крусаное 2010 – Крусанов А. В. Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор). Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. Крючков 1914 – Крючков Д. Памяти Ивана Васильевича Игнатьева // Очарованный странник: Альманах интуитивной критики и поэзии. СПб., 1914. Вып. 3. Лесман 1989 – Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Аннотированный каталог. Публикации. М., 1989. Лещенко-Сухомлина 1991: Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее: Дневник-воспоминание. М., 1991. Новичкова 1995 – Новичкова Т. А. Русский демонологический словарь. СПб., 1995. Панова 2006 – Панова Л. Русский Египет: Александрийская поэтика Михаила Куз-мина. М, 2006. Сементовский 1847 – Сементовский Н. Путешественник: (Южный берег Крыма). СПб., 1847. Стих. 2002 – Чурилин Т. Стихотворения (Вступ. статья, подг. текста, публ. и прим. А. М. Мирзаева) // Футурум АРТ. 2002. № 4. С. 118–124. СП – Чурилин Т. Стихотворения и поэмы. Сост., подг. текста и комм. Д. Безносова и А. Мирзаева. Тт. 1–2. М., 2012. Филатова 2006 – Филатова М. С. Легенды Крыма. Симферополь, 2006. Хлебников 1986 – Хлебников В. Творения. Общ. ред. и вступ. статья М. Я. Поляковой. Сост., подг. текста и комм. В. П. Григорьева и А. Я Парниса. М., 1986. Цветаева 2000-1 – Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. Подг. текста, предисловие и прим. Е. Б. Коркиной и М. Г. Крутиковой. М., 2001–2001. Т. II: 1919–1939. Цветаева 2008 – Цветаева А. И. Воспоминания: В 2 т. Т. 2: 1911–1922 годы. Подг. текста, предисл. и прим. Ст. Айдидяна. М., 2008. Эфрон 1989 – Эфрон А. С. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. М., 1989. Яковлева 2013 – Яковлева Н. Открывая Чурилина: По поводу собрания «Стихотворений и поэм» Тихона Чурилина.// Toronto Slavic Quarterly. № 43. Winter 2013. C. 292–305. Frazer 1919 – Frazer J. G. Folk-Lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law. London, 1919. Vol. III. Kunz 1913 – Kunz G. F. The Curious Lore of Precious Stones. N. Y., 1913. Lucas 2009 – http://lucas-v-leyden.livejournal.com/100484.html (13.08.2009, проверено 05.2013). Scholem 1949 – Scholem G. The Curious History of the Six-Pointed Star // Commentary. 1949. № 8. С. 243–251.
Коммент. С. Шаргородского
Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.
Последние комментарии
4 часов 15 минут назад
4 часов 17 минут назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 18 часов назад