Всего одна жизнь [Артем Ильич Гай] (fb2) читать онлайн
- Всего одна жизнь 1.25 Мб, 253с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Артем Ильич Гай
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Артем Гай Повести
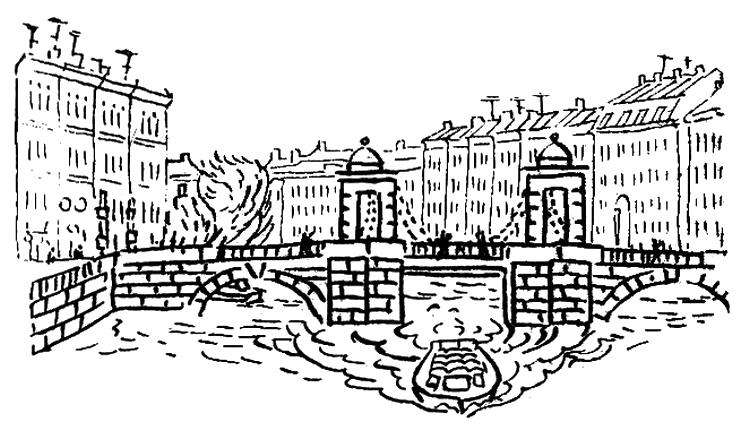
Трудные дежурства

Часть первая. «В полях, под снегом и дождем…»
1
Двадцатое ноября. День моего первого самостоятельного дежурства. Я готовился к нему долго — и в институте, и уже четыре месяца здесь, в этой очень далекой от Ленинграда больнице. Хирургия — океан страданий, кого вынесешь ты на свой берег в мой первый судный день? Справлюсь ли?.. На отделении, как всегда, невпроворот работы. Все заняты. Я с середины дня не выхожу из приемного покоя. А Петр Васильевич, наш заведующий, пробурчав утром: «Ну вот, в бой брошены свежие силы», заперся в своем кабинете, готовится к какому-то отчету или докладу. Подозреваю, что сделал он это не без умысла. В три часа дня поступают один за другим двое больных с острым аппендицитом. Для верности прошу Мусю посмотреть их. Муся — самый опытный ординатор, правая рука Петра Васильевича. Симпатичная, неторопливая женщина лет двадцати восьми, с мягкой улыбкой. Она всегда помогает и советы дает незаметно, кажется — сам додумался. Работать с нею одно удовольствие. К тому же я с первого дня оказался Мусиным соседом по квартире. Наверное, не соседом даже, а гостем. Иду оперировать. В пять Петр Васильевич заходит в операционную, несколько минут молча стоит за моей спиной, потом говорит: — Ну, ладно. Работай. Я дома, — и уходит. В шесть я остаюсь один на один со своим дежурством. Волнение прошло, но где-то в сознании плавает неуправляемая мыслишка: дай бог, чтобы было тихо. Не для молодого хирурга мыслишка. Пугающая… До восьми часов действительно тихо. А в двадцать десять меня срочно вызывают в приемный покой. Там полным-полно народу. Милиция. На носилках девушка, девчушка даже. Ну, вот оно, начало… Пульс и давление не определяются. Сбила машина. Шок. Отчего?.. Противошоковые жидкости, кровь, грелки… — Что с нею, доктор? — У парня лицо загорелое, и потому не бледное, а какое-то синее. Так отчего шок?.. Мне кажется, что я и все вокруг страшно медлительны. — Поживее, Ниночка! — сдавленно шепчу я операционной сестре. — Что с нею, доктор? — дышит мне в затылок парень. С трудом попадаю в вену. «Петр попал бы моментально…» — Вызовите Петра Васильевича, пожалуйста. — Доктор, что с нею?.. Девушку зовут Таней. Ей семнадцать лет. Нет, я еще не могу нести сам этот груз… В двадцать три часа я все еще на коленях у ее постели. Иглу нужно все время придерживать, чтобы она не вышла из вены. Попасть снова будет очень трудно. Мне кажется, что колени мои — лезвия ножей. Стоит чуть сдвинуться — и равновесие потеряно, я полечу на пол с иглой в руках. Петр Васильевич сидит рядом на краю кровати. — Что со мной было? — шепчет Таня. — Небольшая неприятность, Танюша, — говорит Петр Васильевич. Она засыпает. — Нужно хорошенько следить за нею, и она наша. Понял? Мне кажется, я все понял, но вот ноги… — Интересно, похож я на первохристианина? — Чего не видел, того не видел, — насмешливо бурчит Петр Васильевич. — А вот иглу, чтобы не держать всю ночь, попробуй подшить к коже. В двадцать четыре Петр Васильевич оставляет меня одного. Он будет спать на диване у себя в кабинете. В полутьме ночной палаты, мне кажется, я слышу, как возвращается жизнь в это девичье тело, и мне хочется орать от радости. Я широко раскрываю рот, но, конечно, молчу. Никаких мыслей в этот миг, одно ощущение. Ничего, что я битый час стоял на коленях, вместо того чтобы сразу подшить иглу. Мне еще лучше оттого, что ноют ноги. Я смотрю на живое Танино лицо, на двигающиеся во сне порозовевшие губы, на тугую блестящую кожу ее руки, в которую впилась толстая и жестокая спасительная игла. Я думаю: «Петр, наверное, специально заставил меня час простоять на коленях». И беззвучно смеюсь: «Ах, стервец!» Для совершенства, в моем представлении, он слишком толст и замкнут. Хорошо, что сейчас он спит тут же, в больнице. Это дает мне уверенность, что с Таней будет все в порядке. И все же я боюсь отойти от нее. Сижу, как влюбленный дурак, и держу ее за руку. Какие-нибудь четыре часа назад я даже не знал о существовании этой Тани. А сейчас мне кажется, что я знаю ее лучше всех на свете. Все дело, вероятно, в том, что я оказался как бы соучастником ее второго рождения. Я с нежностью щупаю ее пульс и улыбаюсь. Что бы сказала об этом Оля? Я хочу представить ее здесь, рядом с собою, и не могу. Я никогда не мог себе представить, что скажет или сделает Оля в той или иной ситуации. Иногда она бывала мягкой, ласковой; я говорил ей в такие минуты, что глаза ее зеленеют, как александриты. А иногда, особенно часто почему-то, когда мы выходили из кинотеатра, я вдруг замечал, что у нее чужие глаза, и взгляд чужой, не видящий. «Ты что?» — спрашивал я. «А что? Ничего», — спокойно отвечала она. И мы шли молча рядом, как едва знакомые люди. Иногда это неожиданное отчуждение длилось несколько дней. Я злился, хотел проучить ее — старался не замечать, но надолго меня не хватало. Последний наш вечер в Ленинграде, когда я провожал ее домой после «отвальной», запомнился мне со всеми подробностями. Было тепло, даже душно. Листва в Летнем саду загадочно шуршала в темноте. На мосту блестел отполированный шинами диабаз. Набережная была совсем пуста. Мы всегда любили ее такой. «Нам надо подождать, проверить себя», — повторяла Оля. Постепенно выветривался хмель и принесенная им легкость, которую я испытал в этот вечер впервые за последние недели — с того дня, как мне стало ясно, что Оля не поедет со мной. Во всяком случае — пока… Мы остановились у спуска к воде. Причальное тяжелое кольцо чуть шевелилось под маслянистой водой. «Ты не согласен?» — спрашивала Оля. Брошенная в воду спичка погасла не сразу и прочертила в воздухе короткую желтую полосу. Мы оба следили за нею. Начал накрапывать дождь. Я прикрыл Олю обоим пиджаком: «Помнишь, как у Бернса?..В полях, под снегом
и дождем,
Мой милый друг,
Мой бедный друг,
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг…
Утро ясное и звонкое. Свежий снег оседлал все, что можно оседлать, даже провода. Лишь одна из вечерних туч не смогла уйти из котловины, зацепилась за вершину стоящей над городом горы. Вершина издевается над тучей, жалкой и ничтожной на фоне сверкающего голубого неба. Я стою посредине заваленного снегом больничного двора. Глотаю еще один большой кусок морозного, пахнущего снегом и горами воздуха и иду на обход. Петра Васильевича сегодня нет. Муся, с синевой под глазами после беспокойной ночи, к часу заканчивает все дела и уходит. Николай бродит по отделению, как большая сонная муха. После обхода и перевязок пристраивается на диване, накрывает голову подушкой: «Посплю часок». Он сегодня дежурит. Таня совсем молодцом. Просит перевести ее в общую палату — одной скучно. Старый нытик из пятой палаты, поступивший шесть дней назад с острым аппендицитом, изводит меня двадцатилетней историей своего склероза. Четыре месяца назад я бы просидел с ним полдня. Сейчас, посмотрев все, что меня интересовало, с блаженством думая, как я выпишу его через несколько дней, учтиво прерываю его бурные воспоминания и иду перевязывать своих больных. — Вы сегодня опять дежурили? — воркует наша операционная сестра, помогая мне на перевязках. — Вас так надолго не хватит. — Лет на двадцать, Ниночка. Достаточно? Она смеется. Она часто смеется, потому что это ей идет. И белый халат, и шапочка ей очень идут. Темные волосы и светлые глаза! Черт знает что! Каждая третья женщина кажется мне совершенством. Но это ничего не меняет… В три часа звонит Лора и просит срочно прийти домой. Небольшая неприятность — кажется, нас обокрали. Дома выясняем, что утащили два чемодана — мой и полупустой Ванин, кое-какую мелочь из стенного шкафа. Дверь заперта, окна тоже. Ясно. У нас не хватает всем ключей, и один ключ мы вешаем в коридоре у соседей. Там живет много народу, и среди них одна сомнительная личность. Лора вызывает милицию. Я заваливаюсь на Ванину кровать. Приятной усталостью гудит тело и голова. Перед тем как заснуть, я сознаю, что утрата почти всех моих вещей волнует меня не больше, чем потеря подметки. Через несколько секунд меня будит Лора. — Сейчас придет милиция. Они не поверят, что ты пострадавший. — Ты считаешь, я пострадавший? Лора садится рядом. — Ты прелесть, Вовочка, — говорит она, наклоняется и целует меня. Я чувствую, как чуть вздрагивают ее губы. Сон легким туманом висит в комнате. — Вот и полная компенсация, — переводя дух, говорю я. Звонок. Милиция. — Черт бы их драл! Когда не надо, они торопятся. Лора смеется: — А вещи? — Какое они имеют значение, когда можно спасти жизнь человеку! Или целовать прекрасную Лору… В длинном повторном звонке чувствуется беспокойство милиции о наших жизнях. Вечером в «ничьей комнате» за старым массивным столом, невесть как попавшим сюда, собираются все жители «Птичьей горы». Сегодня особый случай — все дома. Начинается детальное обсуждение случившегося. Высказываются различные версии и пути поисков. В конечном счете все сходятся на том, что милиция ничего не найдет, и мы с Ваней бросаем жребий, кому где спать. В «мужской» стоит Ванина кровать со сравнительно целой сеткой и узкий диванчик. На диванчике можно лежать только на спине: выбоина в центре так глубока, что в ней сидишь, как в детской ванночке. В городе плохо с мебелью. С жильем налаживается — целый строительный трест занимается этим, а с мебелью плохо. Две недели назад на «Птичьей горе» состоялся «мебельный симпозиум». Все началось, как всегда, с Ваниного замечания. «Нам иногда не хватает частного предпринимателя», — оказал Ваня. «Не хватает расторопности у руководителей горторга», — отрезала Лора. «Уколи их в попу, — посоветовал я. — Тебе и перо в руки». После этого разговора в течение двух недель отдел «Культура и быт» городской газеты, а которой сотрудничает Лора, теребил бумаги в горторге. Каждый вечер на «Птичьей горе» ломались перья. Все, кто был свободен от дежурств, знакомились с материалами, предлагали острые абзацы или административные меры. Периодически Лора гонялась за мной или Ваней и колотила нас маленькими крепкими кулачками… Подвал о работе горторга читали вслух. «Нужно организовать запись очереди в мебельный магазин», — серьезно сказал Ваня. «Это настоящая бомба!» — восхитился я. «Надо знать автора!.. Пороху хоть отбавляй, — согласился Ваня. — И чем она поражает? Словами. Удивительно!» Лора впервые по-настоящему обиделась и ушла в «женскую». Ваня скрылся вслед за нею и полвечера убеждал ее, что шутка — движущая сила в человеческом настроении. Что за шуткой всегда кроется интерес и вера. Что не шутят только над непоправимым. Что не шутят только очень серьезные люди, чаще самые ненадежные, так как они не могут отличить главного от второстепенного. Лора не злопамятна. Она заставила нас вынести помойные ведра и немедленно подмести в «мужской». Однако статья возымела свое действие. Лоре позвонили из горторга и сообщили, что прибывает несколько чешских гарнитуров. Она сказала, что поставит об этом в известность ОБХСС. Я ругаю, укладываясь на дырявый диванчик, неподкупность прессы, спящей на превосходной кровати. Ваня долго ходит по комнате в трусах, сверкая очками, разыскивает папиросы и газеты, а затем удаляется. За окном снежная ночь. Четыре месяца новой жизни. И вот прошел еще один день. Похожие дни, но каждый из них несет что-то новое. Иногда неожиданное, как сегодняшний поцелуй Лоры. Все, что занимало меня прежде, оттесняется и медленно, но неуклонно исчезает. А Оля? За ровными строчками все более редких ее писем я не улавливаю главного. Да и мои письма — чего греха таить? — не отличаются любовным пылом. Но ведь она знает, что я никогда не умел говорить о главном!.. Надо спать. Завтра опять дежурство, теперь на скорой помощи. Врачей не хватает, и все один-два раза в месяц дежурят на скорой. Но дело не только в завтрашнем дежурстве. Четыре месяца я живу бешеной жизнью золотоискателя, вскрывшего жилу. Я наконец-то попал в общежитие (кале еще назовешь «Птичью гору»?). Хрупкая мечта моих студенческих лет осуществилась. И вот уставший, как ездовая собака, в общем-то счастливый, я тороплюсь заснуть, боясь растревожить богатые залежи прожитого дня. Боюсь, потому что сейчас, ночью, мы будем это делать вдвоем с Олей. Я ей расскажу даже о нашей операционной сестре Нине, о таких милых косых ее взглядах, и о Лоре расскажу… Оля смеется. Блестят ее влажные прохладные губы. Я целую их… и просыпаюсь. Конечно, форточка открыта настежь. Так легко заснул! Я зол на Ваню. У каждого могут быть странности, но нечего забывать, что ложишься последним и должен прикрыть форточку. Он отправляется в туалет, когда гаснет последней огонь в квартире, сидит там долго и читает газеты. Я стараюсь изменить положение в «ванночке» и едва не ломаю себе ребро. Озлобляюсь еще больше. Вскакиваю, тихо пробираюсь по темному коридору к туалету. Из-за двери доносится бормотание Вани. Читает вслух, стервец! Очень осторожно закрываю дверь на задвижку и возвращаюсь в постель. Жду. Текут минуты. Слышу, как все настойчивее дергается дверь. — Открой! — доносится приглушенный Ванин голос. Тишина. Все спят. — Откро-ойте! — орет Ваня. — Спать хочу! Из «женской» раздается встревоженный голос Муси: — Что случилось?.. — Муся, неужели ты?.. Был уверен, что это проделки Володьки, — удивляется запертый Ваня. — Черт вас возьми! — появляется Лорин голос. — Нашли время для бузы. — Что там? — Володька запер его в туалете, — смеется Лора. — Между прочим, я делаю твою работу, — включаюсь я. — Ты ведь ответственная съемщица, а этот гад до двух ночи жжет электричество. — Я всех прощаю. Откройте, — миролюбиво говорит Ваня. — Ты же хотел спать. Спи! — говорю я. В «женской» хихикают. — Откройте! — воет Ваня. — Здесь неуютно. Щелкает задвижка. — Спасибо, хозяюшка. Я тебе этого благородства не забуду. А вы… Я добрый. Скрипит кровать. — В другой раз закрывай форточку, — говорю я. — Хорошо. Спокойной ночи! — рявкает Ваня. — За истекшие сутки на земном шаре существенных перемен не произошло!
Дежурства на станции скорой помощи интересны и трудны. После каждого дежурства я долго листаю толстые тома медицинских учебников. Лихорадящие, упавшие в погреб и избитые у ресторана «Бухтарма», рожающие и непонятно чем больные. Непонятно… Когда же это слово исчезнет из моих мятущихся мыслей! — Что вы делаете, когда не можете разобраться? — спрашиваю я у Дарьи Петровны, плотной краснощекой женщины, «фельдшера первого класса», по выражению шофера скорой помощи Виктора. — Отвожу в больницу, — говорит она. «Отвожу в больницу!» Но я врач, я не могу поступать таким же образом! Я вновь и вновь осматриваю больного. На вызов у меня уходит в среднем в два раза больше времени, чем у Дарьи Петровны. С нею любят ездить шоферы, со мной, по-моему, нет. Ну и черт с ними! Однако отношения на станции добрые. Смены небольшие: два фельдшера, работающие самостоятельно, врач, санитарка и три шофера. Народ дружный. Полчаса нет вызовов. Читаю «Резекцию желудка» Маянца. Задание Петра Васильевича. Раечка, совсем молодая фельдшерица, быстроглазая девушка с красивыми руками, листает «Справочник врача». Она неразлучна с ним. Она хочет стать врачом. Звонок. Раечка слушает, записывает адрес. — Сейчас машина выйдет, — кладет трубку. — Там какой-то припадок. Женщина без сознания… — немного испуганно говорит она. «Припадок… Без сознания…» В груди появляется неприятный холодок. Дарья Петровна вопрошающе смотрит на меня. Я считаюсь ответственным. — Съездить? — спокойно говорит она. — Я съезжу, — говорю я, закрываю книгу и поднимаюсь. В комнате человек пятнадцать обступили лежащую на полу женщину. Пропускают меня. Женщина выгибается дугой, потом с силой ударяется спиной, бьет руками по полу. Глаза закрыты. Щупаю пульс. Отличный. Язык не прикушен, на губах слюна. «Истерия — великая симулянтка», — проплывает в мозгу фраза какого-то психиатра. Но никак не могу припомнить, что делать. Прошу всех освободить помещение. Женщина продолжает биться в припадке, ее пытаются держать. — Товарищи, прошу вас выйти! — Это все ты, ты довел ее! — визгливо кричит пожилая худощавая женщина бледному перепуганному мужчине. В комнате наступает тишина, нарушаемая ударами тела об пол. Что же все-таки делать? Вероятно, не трогать. Кажется, нужно не обращать внимания. Я сажусь на край стула и нервно ищу папиросы. Припадок продолжается. Без особой цели глянув в окно, замечаю несколько прильнувших к стеклу лиц. Ощущение такое, будто меня сунули в кипяток. Неловко соскальзываю со стула и наклоняюсь над женщиной, опять щупаю пульс. «Сердечные не нужны…» — судорожно пробегает в голове, словно я хочу перед кем-то оправдаться. От моих прикосновений судороги усиливаются. Я слышу, как за моей спиной осторожно приоткрывается дверь. Заглядывают… С замерзшими мыслями иду к двери, распахиваю ее и кричу Виктору: — Занеси, пожалуйста, носилки! — В больницу?! — с ужасом говорит худощавая женщина и снова набрасывается на перепуганного мужчину. Припадок продолжается. Я сижу в машине рядом с носилками и стараюсь сообразить, куда мне ее везти. Когда машина въезжает на больничный двор, припадок прекращается. С ума можно сойти! С чем, интересно, я привезу ее в приемный покой? Более дурацкого положения не придумаешь. Невероятный позор! Потащил в больницу женщину с истерическим припадком. Курам на смех! Меня охватывает трудно преодолимое желание спрятать куда-нибудь эту женщину. — Где я? — слабым голосом верещит женщина на носилках. — Куда меня везут? Вот именно — куда? — Понаблюдаем за вами четверть часа в приемном покое, — как можно спокойнее говорю я, — и пойдете домой. Когда же он придет — опыт?!
2
Утром едва продираю глаза. Удастся когда-нибудь выспаться?! Лора брызгает мне на пятки холодной водой. — Убью, подлая!.. Лора исчезает. Развеваются полы ее цветастого халата. Ваня громко поет на кухне. Впечатление такое, будто собаке прижали хвост и ей никак не вырваться. Она уже и не пытается. Просто воет, издыхая в беспросветной тоске. Слов не слышно, но мне очень жаль собаку, Ваню, себя… Когда Ваня проходит в «ничью комнату», я разбираю слова: «Хороши-и весно-ой в са-ду-у цветочки-и…» Вой гаснет в шуме включенного приемника: Лора, одеваясь в «женской», ищет «последние известия». Прежде чем она находит их, я убеждаюсь, что весь мир уже проснулся, кроме меня. Смотрю на часы, в ужасе вскакиваю и бегу на кухню мыться. Муся жарит на огромной сковороде яичницу. Она неизменно и с удовольствием занимается кормлением «Птичьей горы». Через пять минут мы с фантастической быстротой разделываемся с яичницей. Все. Бежим на работу. Этот утренний час для меня неизменно полон радости. Дома я всегда прикидывал: какая лекция идет первой. Норовил поспать лишний час. В это время я редко испытывал желание куда-нибудь идти или что-нибудь делать. Его нужно было пережить, этот час, как тяжкую необходимость. «Отец прав: я лентяй», — говорил я себе, клюя носом в трамвае… Я бы хотел, чтобы он увидел меня сейчас! Пятиминутка уже началась. Все часы мы ставим по Мусиным. Хронометр надул нас на добрых три минуты. Дежурная сестра докладывает, что у Ганзина в пять утра была рвота «кофейной гущей». Опять! До семи ему перелили двести пятьдесят кубиков крови… Ганзин поступил неделю назад с желудочным кровотечением. Нам удалось остановить кровотечение. Я уже был спокоен за него. Оперироваться ему опасно — плохое сердце. Еще в день поступления он удивил меня своим спокойствием. Мы ходили вокруг него целый день, переливали кровь, смотрели, щупали, а он улыбался и говорил: «Ничего. Все будет в порядке. Я живучий». И вот опять… — Вероятно, придется оперировать, — говорит Петр Васильевич. — А как же?.. — Ничего не поделаешь. Иначе помрет от кровотечения. Петр неподвижно сидит, положив на расставленные колени руки, словноохватывая свой громадный живот. Только папироса чуть шевелится в углу рта. Молчим. — Пригласи Ваню. Посоветуемся. Ваня приходит через десять минут. Терапевтическое отделение занимает другую половину нашего длинного деревянного здания, в котором сорок лет назад размещалось концессионное управление рудника. Все идем к Ганзину. Мне кажется, он осунулся за ночь. На худом лице беспокойная улыбка. — Что, все же придется оперировать? — Возможно, Юрий Иванович, — говорит Петр Васильевич. — Ненадежный у меня мотор, — смущенно говорит Ганзин, прикрывая ладонью сердце. — То-то и оно… Каково Ганзину от этого «то-то и оно»! Но Петр Васильевич никогда не кривит с больными. Или молчит, или говорит правду. И как бы эта правда ни была тяжела, в конце концов она всегда получается успокаивающей! Потому что больной понимает: решение, которое мы принимаем, — единственно верное. Ваня тщательно обследует Ганзина. В коридоре разводит руками: — Тяжелый порок сердца. Появилась мерцательная аритмия… Операция, конечно, очень рискованна. — Может быть, подождать еще? — предлагает Муся. Я соглашаюсь с нею. — Хорошо, — говорит Петр Васильевич. — Рвота была около пяти часов назад. Понаблюдаем несколько часов. Володя, перелей ему медленно еще пол-литра крови. Полдня мы ходим вокруг Ганзина. Ваня возится с переносным электрокардиографом, который мы недавно получили. В приемном покое молча ожидает с утра жена Ганзина. Юрий Иванович рассказывал мне, как они познакомились на фронте, — штабной писарь и дивизионная телефонистка… Мы сказали ей, что мужу, возможно, необходима будет операция, крайне опасная для него. О чем все эти часы думает Ганзина?.. Танечка молодец. Скоро мы разрешим ей ходить. На отделении все полюбили ее за жизнерадостность, которая ни разу в течение месяца не покинули ее. Но сегодня она выглядит скучной. — Ты чем-то расстроена? — говорю я. — Да, Владимир Михайлович. Ему совсем плохо. — И слезы блестят на ее глазах. Я сажусь рядом с нею. — Ну, вот что: рассказывай все по порядку и не вздумай реветь. Я действительно боюсь ее слез. Таня говорит мне, что сердечные приступы у деда участились и нитроглицерин не помогает. За три последних дня дважды вызывали скорую помощь. И участковый доктор сомневается, удастся ли что-либо сделать. Вчера ей рассказал все это Игорь. — Кто участковый врач? — Анна Андреевна. — Я поговорю с ней, уточню все и расскажу тебе. А ты не впадай в панику. — Я не впадаю… Я его очень люблю… — И губы ее дрожат. — А твоему Игорю за все эти разговоры… — Нет, нет! Я вас очень прошу!.. У нас с ним давнишний договор не врать друг другу, — тихо добавляет Таня. Вот так. Попробуй что-нибудь сказать. В ординаторской Ванина буйная шевелюра, очки и большой нос едва различимы за ворохам электрокардиограмм Юрия Ивановича. Петр Васильевич курит в своей неизменной позе. — Ну, что, кровотечения, кажется, нет, — говорит мне Ваня. — Как будто… Плохие кардиограммы? — Плохое у него сердце, Володя. Не для резекции желудка. Я смотрю на Петра. — Что вы думаете, Петр Васильевич? Он вынимает изо рта папиросу и раздавливает окурок в пепельнице. — Если кровотечение повторится, он умрет. Не будешь же сидеть сложа руки, когда человек помирает! — А может, не повторится, — с надеждой говорю я. Петр Васильевич идет к двери: — Подумай, Ваня, как поддержать сердце. Я принимаюсь за истории болезни, но не могу написать и двух строк. Вспоминаю об обещании, данном Тане, и иду разыскивать Анну Андреевну. Половина третьего. Она должна быть в поликлинике. — Вереснев… Кирилл Вереснев… — вспоминает Анна Андреевна. — У меня, дорогой мой, сейчас два участка. Сразу и не припомню… С Анной Андреевной у нас взаимная неприязнь. Ей не более сорока лет, но держит она себя с молодыми врачами так, словно мы жалкие выскочки, занявшиеся медициной без всякого на то морального права. На отношении ее ко мне сказывается еще, вероятно, и наша дружба с Ваней. Она считает, что как врач с более продолжительным стажем имеет больше оснований для заведования отделением. — А-а, белый старик… Собственно, старики — они преимущественно все белые… А что вы хотите? Едва удерживаясь от резкости, рассказываю ей о Тане и сегодняшнем разговоре с нею. — М-да… Что сделаешь? — говорит Анна Андреевна. — Старый человек со склерозом. В Америке каждые пять минут умирает больной стенокардией. — Меня пока не интересует, как умирают и Америке! Я просил вас как коллегу, — зло подчеркиваю я, — сказать мне, в каком состоянии находится интересующий меня больной. — Ему делается все, что в таких случаях положено, — в голосе ее прибывает холоду. Погоди же! — А блокады вы ему пробовали? — Вы в них верите? Ну-ну… — «Ну-ну» допустимо, только если пробовали. Она бросает на меня испепеляющий взгляд. — Извините, с трех у меня ВТЭК. Я смотрю ей вслед и испытываю едва преодолимое желание запустить в нее стулом. Ну, ладно!.. Решение является сразу. Иду к главному врачу. Он смотрит на меня выжидающе. Не торопит. Я даю ему возможность передохнуть от ругани с нашим бестолковым завхозом, ерзающим на табуретке у двери. — Вы говорили как-то, что хорошо бы помочь на участке. У Анны Андреевны два участка. Я бы взял один, с Речными улицами. «Теперь наверняка не высыпаться», — с тоской думаю я, пока главный врач с некоторым удивлением разглядывает меня. Вопрос решается без малейшей проволочки. Дельный парень главный. Я как-то сразу успокаиваюсь и возвращаюсь на отделение. — Поздравьте меня с новым назначением, — говорю я Николаю и Мусе. Николай выражает мнение, что я свалял страшного дурака, — совместительство лучше брать дежурствами, чем месить грязь на Речных. — Ты знаешь, какая там весной-осенью грязь? — Нет, заодно узнаю. В четыре часа у Юрия Ивановича повторно возникает кровавая рвота. Давление падает. — Мусенька, дашь наркоз. Володя, позвони Ване. Я поговорю с Ганзиной. Торопитесь. — Петр Васильевич выходит. Я чувствую неприятную дрожь в груди. Помогаю осторожно переложить Юрия Ивановича на каталку. — Да, без операции мне не обойтись, — грустно говорит он, когда мы едем по коридору в операционную. — В войну чего только не ел… И ничего… А сразу после войны — язва. Его успокаивает собственная неторопливая речь. — Так и бывает, — говорю я, не задумываясь о своих словах. Я никогда не обращал внимания на тишину в вечерней операционной. Вероятно, и в институте ночью на дежурствах, когда нет студентов, стояла такая же тишина. Тогда я был поглощен операциями. Сейчас я поглощен этим человеком на столе. Гнетущая тишина! Как перед вынесением приговора в зале суда. — Можно начинать, — тихо говорит Муся и смотрит на Ваню. Он сидит у откинутой руки Юрия Ивановича, следит за пульсом и давлением. Ваня кивает: — Можно. Петр Васильевич работает, как всегда, спокойно и быстро. Раскрыта брюшная полость. Кишечные петли — бурые от просвечивающей через стенки крови. Да, он бы погиб от продолжающегося кровотечения… — Вот язва, — говорит Петр, и я нащупываю плотное бугристое образование на задней стенке желудка. — Как дела? — не отрываясь, спрашивает Петр Васильевич. — Ничего… — мычит Ваня. — Хорошо бы побыстрее… — Сейчас, Ваня… Скоро… Вот и мобилизован желудок… — Петр говорит, чтобы успокоить Мусю, Ваню, себя. На его лбу крупные бисерины пота. Муся вытирает их салфеткой. В таз летит удаленный желудок. — Кончаем… Как там?.. — Пульс… плохой, — отрывисто говорит Ваня. — Хуже?.. — Петр ни на секунду не отрывается от работы. — Хуже. — Мы кончаем, слышите? Мне хочется ухватить зубами эту невидимую нить — жизнь Ганзина — и до последней возможности, до изнеможения держать ее, пока Петр Васильевич не окончит операцию, пока не проснется Юрий Иванович, не откроет глаза, нет скажет: «Ну, вот… А вы боялись…» Я закусываю маску… Последние швы анастомоза. Фантастическая скорость! — Подождите, Петр Васильевич! — Голос у Вани сдавленный, напряженный. Затем, как в кошмаре, падают слова, рассыпаются торопливые шаги, шорохи, стуки… Время теряет измерение. Тишина. Гудящая в голове тишина. Все. Все кончено! Ганзин мертв. Мы зашиваем живот мертвого человека. В ординаторской тяжелое молчание. Невозможно определить, сколько времени мы сидим так. — Идемте домой, — говорит Ваня. Муся встает. — Идите, я приду позже, — говорю я. Петр Васильевич, не выпуская изо рта дымящейся папиросы, диктует операцию. Я еще раз прохожу этим кругом… И вдруг ощущаю, что ничего не хочу сейчас, только спать. Лечь сию же минуту и заснуть. Я кладу голову на руки. — Нельзя умирать с каждым больным, — говорит Петр Васильевич. — Идем-ка домой. Синий снег скрипит под ногами. Мороз крепкий. Из магазина вываливается шумная компания со свертками, задерживается у ярко освещенной витрины. На «Птичьей горе» тихо. Все уже лежат. Смотрю на часы. Одиннадцать. Прохожу в «ничью комнату», зажигаю свет и сажусь к столу. Я хирург пять месяцев. И вот мой первый умерший больной. Я вслушиваюсь в эту фразу и холодею. Первый!.. Но, черт возьми, именно так и есть. Я врач. Что я наделал, чем занялся? Мне ведь не уйти от смерти. Она будет преследовать меня всю жизнь! Я знал этого человека, Юрия Ивановича. Учитель истории. Сорока лет. Мирный человек, воевавший много лет. Он собирал материал для книги об истории нашего края. Я читал эти заметки и удивлялся, сколько вдохновения может быть вложено в, казалось бы, сухие строчки цифр и фактов. Передо мною вставали картины из недавней истории — партизанские бои, шумные собрания первых коммун, горящие хутора, неожиданный лязг вновь запущенных шахтных лебедок, молчавших много лет… И еще между строк записок я видел страстную душу тихого учителя истории, для которого романтика и горести далеких лет были близкими, как свои собственные. Долгие годы этот учитель терпеливо шел к счастью, каким представлял его себе. И к концу… Порок сердца и язвенное кровотечение. Он лежал у меня в палате неделю. Вначале все шло хорошо. А потом… И вот не выдержало сердце. Этого-то мы и боялись с самого начала. А что толку, что мы «боялись с самого начала»?! «Нельзя умирать с каждым больным…» Как мало в свои двадцать четыре года я знаю о смерти. Помню, как мы с Сергеем, школьным, а потом и институтским другом, бродили по Смоленскому кладбищу, что на Васильевском острове. Кладбище, как город. Улицы: Петроградская, Шуховская, Первая, Вторая… Словно линии Васильевского острова. Большой безмолвный город мертвых, буйно цветущий густой и древней зеленью. Тысячи и тысячи могил. Под каждой плитой или крестом — человек. Со своими надеждами, привязанностями, недостатками. Вымерший старый, древний Петроград и Петербург. «Двадцати двух лет от роду… прожила в замужестве пять месяцев восемнадцать дней…» «Блаженны усопшие. О, господи!..» Профессор. На мраморном барельефе красивый и гордый старик. «Водружен Петербургской ассоциацией…» Большие кленовые листья качаются вокруг белой головы… Все ушло с ними — и их надежды, и их любовь. Только дела остались. И надгробные надписи. Величественные или смешные. Делами восхищаются или возмущаются. Они отделяются от человека и начинают жить своей жизнью, для других людей. А вот этот последний момент человеческой жизни, смерть, — он еще неотделим от живого человека. В нем звучат еще чувства, стремления, муки, живые дела человека. Не бьется сердце, не пульсирует кровь, безжизнен мозг, но человек еще жив в нашем сознании. Ужасное противоречие! Живущий не может смириться со смертью! Разве возможны философские размышления у остывающего человеческого тела, подобные гамлетовским — над черепом? Неужели врач, человек, может привыкнуть к смерти? «Нельзя умирать с каждым больным…» Привычка? Петр Васильевич сутками не уходит от тяжелого больного. А его молчание, горы окурков?.. Просто, вероятно, теряется со временем острота этого страшного ощущения — диссонанса между смертью и нашим сознанием… Я отворяю окно, подставляю морозному ветру горящее лицо. Дома нахохлились над синими сугробами. Над городом висит мирная тишина. И вдруг в одни миг я будто охватываю человеческую жизнь, каждый год, каждый час этой бесценной жизни и века в жизни миллионов… воедино. Острота чувств, диссонанс… Слова! А газовые камеры? А Бабий Яр? Бомбы, расстрелы… Чего же она стоит, человеческая жизнь?.. Голова раскалывается на куски, кажется, каждый кусок я ощущаю отдельно. Вероятно, и не смогу уснуть. Закрываю окно. Рама выскальзывает из рук, и в дом врывается грохот. Чертыхаюсь. Появляется Ваня в трусах и майке, щурится близорукими глазами. — Тоже что-то не спится, — говорит он. — Не пойти ли работать на скорую? — Вот и мне бы шофером такси, — говорю я. — Едешь себе, говоришь с разными людьми. Разные улицы мелькают. Давно хотел быть шофером… — Не раскисай, — неожиданно злится Ваня и закуривает. Потом он выходит и возвращается в своей клетчатой рубашке, любимой «ковбойке», краем ее протирает стекла очков. — Пойдем поедим чего-нибудь. Есть Ваня может круглосуточно. Но не толстеет. Лора считает — не в коня корм. Мы отправляемся на кухню. — За пять лет я нагляделся здесь на многих начинающих врачей, — говорит Ваня, отправляя в рот полкоробки крабов. — Некоторым через два месяца или через два года надоедало. Таким хоть и на такси… — Согласись все же — на такси хорошо. — Кому что… Поешь, поешь. Очень успокаивает. — Он пододвигает ко мне крабов и, дернув носом, продолжает: — В древние времена настоящий врач обязательно был философом. И в этом большой смысл. — А ты представляешь, что сейчас в доме Ганзина? — А что в доме Тани, которая скоро вернется домой? — спрашивает Ваня. Он прав, нужно, наверное, быть философом, иного выхода у врача нет… Однако не так просто стать философом, проще — таксером. — И у Тани плохо, — говорю я. — Отец погиб в шахте, у матери своя жизнь. Воспитали ее дед и бабка, дед тяжело болен… — Она нравится тебе? — Таня? — удивляюсь я. — Просто она чудесная девушка. — А мы скоро поженимся с Мусей, — спокойно так произносит Ваня и улыбается. Меня словно обухом стукнули по голове. Вот тебе и на! Собственно, какие-то полунамеки давно уже бродят на «Птичьей горе». Но я и в институте никогда ничего такого не замечал, все для меня было неожиданностью. — Удивлен? — говорит Ваня. — Рад! Мы еще долго сидим с ним. Я рассказываю ему об Оле. Впервые за пять месяцев я вслух говорю об этом, и мне становится легче. Необычная она, неуловимая… Часто непонятная. Но я не могу без нее. Ваня задумчиво вертит в руках вилку. Кажется, он хочет что-то сказать, но не говорит. Дни мои заполнены до отказа. После больницы — участок. Вечерами, свободными от дежурств, развлекаемся на «Птичьей горе» — спорим, играем в шахматы, принимаем гостей, ходим в кино или делаем вечерние лыжные вылазки. Бывает, что заваливаешься спать, накрывшись подушкой, под стук домино или звон стаканов. В январе-феврале мне обещают дать комнату. Жаль… Больница до окон засыпана снегом. На крыше толстая белая шапка. Каждое бревно стены украшено сверху снеговой полосой. На наличниках окон — густые белые брови. Чего только не видел старый дом на своем долгом веку! А сейчас он смотрит на меня долговязого пижона из Ленинграда в осеннем пальто и громадных валенках. «Ничего, дедуся!» — подмигиваю я ему. Свою больницу мы называем «Хижиной дяди Шмары». Этим прозвищем она обязана главному врачу, энергичному ленинградцу. Часто в компании он поет песню, каждая строфа которой заканчивается непонятной фразой: «И-шмары, и-шмары…» Песня идет на бис. Я машу Тане, глядящей на меня в окно, и иду на свой участок. Зима прочно взяла бразды правления в, белые пушистые рукавицы. Снежные вьюги унеслись в горы, отшуршали тихие снегопады, и голубое небо заблестело в щедрых снегах. Здешний дед-мороз — не то что ленинградский. Он настоящий. По пояс в снегу, с красным от минус сорока носом. Мы почти отрезаны от Большой земли. В двух местах сползла лавина на железнодорожное полотно, автостраду замело. Расчищают. А аэродром… Я иду вдоль последнего ряда домов. Это конец моего участка и города. Здесь граница аэродрома, единственного куска ровной земли, ограниченного с трех сторон горами, а с четвертой — городом на холмах. Сейчас это белая сверкающая равнина, взбегающая на белые горы. Садится солнце. Снег трещит под ногами. Мороз обжигает лицо, хватает за колени и бедра. Иду по малохоженой тропе и смотрю в Белое Безмолвие. Мне кажется, что я Мэйлмюд Кид. Клондайк. На ногах теплые мокасины. Плюю, и плевок падает и снег сосулькой. Я один в Белой Пустыне. Я хозяин мира! Солнечное ликование захлестывает меня… Проваливаюсь по пояс в снег, с трудом выбираюсь на тропу и вытаскиваю коченеющими пальцами снег из-за голенищ. Во дворе за моей спиной брешет собака. Я не Мэйлмюд Кид. Но все равно здорово! Я участковый врач Владимир Михайлович, абсолютно здоровый парень двадцати четырех лет, и мне ничего не страшно. За моей спиной добрый город, близкий мне, почти как Ленинград. Кид, дружище, ты можешь позавидовать мне! Я решительно отворяю калитку и успеваю сделать не более четырех шагов, как мой валенок оказывается прокушенным клыками здоровенного черного пса. Громадными прыжками я удираю за ограду и не переводя дух захлопываю калитку. Черт бы их драл! Для чего они держат таких собак! Для защиты от участкового врача? Андреевы не знают, как извиниться. Я не успеваю и слова вставить, как старик стаскивает с меня валенок. Нога цела и невредима. У Клондайкской истории благополучный конец. — Псов держим по старинке. Раньше-то здесь неспокойно было, лет тридцать назад. Как питерцы коммуну организовали, так и пошли дела… Я знаю, что в восемнадцатом году по призыву Ленина здесь, как и по всей Сибири, питерские рабочие организовывали коммуны. Мне рассказывал об этом покойный Юрий Иванович. Он же говорил, что одним из руководителей коммуны был Кирилл Савельевич, Танин дед. Меня часто подмывало поговорить с Кириллом Савельевичем о тех временах, но я боялся волновать его. А вот старик Андреев не внушает мне желания вести подобные разговоры. Он всякий раз не прочь поболтать со мной, но я не люблю этот неуютный дом, заискивающих стариков. Возможно, от предубеждения к баптистам?.. Сын Андреева, худой и серо-желтый, лежит в соседней комнате. Дни его сочтены. Рак. Я слышу, как в первой комнате старик шипит на невестку, подкрашенную женщину лет тридцати. — Подожди хотя, покуда доктор уйдет. — Собрание у нас, понимаете? — шепчет она. Я представляю ее лицо с подкрашенными губами и бровями, усталые глаза. — Знаю я твои собрания… Кожа на животе Андреева-младшего тонкая и дряблая. Лицо безразличное. — Скоро я помру, доктор? — тихо спрашивает он. Старики Андреевы пьют чай. Чинно, обстоятельно. Приглашают меня. Теплый запах крепкого чая льется в мое озябшее тело… Отказываюсь. — Ну, как? — не глядя, задает вопрос Андреев-старший. — Недолго ему осталось. Андреева всхлипывает над блюдцем с чаем, крестится. Крестится и старик. — Все от бога, — говорит он. — Всех к себе приберет. — И снова крестится. Солнце село за гору. Быстро темнеет. Крепчает мороз. Андреев держит пса за ошейник до тех пор, пока я не выхожу за калитку. Не сладко пришлось, наверное, в этом доме молодой женщине. И ведь она, пожалуй, рада будет смерти мужа. Уйдет оттуда. Вырвется!.. Как же это? Что же это такое — жизнь и люди? Можно ли рассудить их, можно ли говорить о людях: прав или не прав, оставляя жизнь со всеми ее дурацкими штучками вне нареканий?.. Какой же он был, Андреев-младший, чем жил? «Божий был человек», — ныла старуха, когда я пришел к ним впервые. «Какой из него работник, — говорил старик. — Болезненный. Шахта его сгубила». «Сколько же он работал в шахте?» — спросил я. «Два года». «А кем?» «Да он, правда, на поверхности больше…» Потом сторож, продавец… А если бы не было у него рака? Жил бы, как его отец. Продавал бы ягоды да грибы на базаре, ковырялся в своем огороде. И ни «сгубила бы его шахта». Ходил бы в свой молельный дом. «Всех к себе приберет…» Стоит ли жить для того? А сколько таких без молельного дома? Безо всякого бога! Бедные люди, они не понимают, как это мало — всего одна жизнь!.. Улица завалена снегом, освещена призрачным лунным светом. Дома тоже зарылись в снег, эгоистично прячут тепло за желтыми прямоугольниками окон. Тоска. Завидуй мне, Мэйлмюд Кид!.. Я со злостью хватаю горсть снега, сдавливаю его и бросаю в луну. Оглядываюсь. Слава богу никого. Половина восьмого. Невский залит светом фонарей, витрин, рекламы… Шуршат занавесы ленинградских театров… Мама заваривает наш вечерний чай. Отец читает в кресле… Как далеко все это! Горячего бы чаю! Колочу руками по бокам, растираю лицо. Под сорок градусов, не меньше. Сейчас у Прокофьевны попрошу чаю. Вот и их дом. Два дня назад я сделал Кириллу Савельевичу кожную блокаду. Сутки у него не было сильных болей. Как прошли вторые? Кирилл Савельевич сидит в кровати у придвинутого стола. На носу большие железные очки. Читает. — Поздно вы в гости ходите, однако, — широко улыбается он. — А я к больному, — говорю я. — Какой я больной!.. — Что, хорошо? — Отлично, Владимир Михалыч! Милый вы мой! — Ни одного приступа? — с радостью и надеждой допрашиваю я. — Расхвастался… — бурчит Прокофьевна. — А днем помирал. — Да что там… Один был. И не чета «машинным». На лад пошло дело! «Машинными» Кирилл Савельевич называет приступы, на которые вызывают скорую помощь. — Вы лучше про Танюшу расскажите. Как она там? — Э-э, — смеюсь я. — Это уже разговор, как в гостях. Тогда чай давайте. — Ох ты господи, — засуетилась Прокофьевна, — как же это я… С морозу ведь… Щей поедите? — Наливай, не спрашивай, — говорит Кирилл Савельевич. От щей отказываюсь. Рассказываю о Тане подробно, правда почти то же самое, что каждый день. Эти хорошие вести они могут слушать без устали. Потом говорим об Андреевых. — Кулачишко был мелкий, — смеется Кирилл Савельевич. — Никто его не трогал. Жизнь просидел, как сурок в норе. Лицо мое горит в тепле дома после хлесткого морозного ветра. С удовольствием пью душистый чай. Кирилл Савельевич рассказывает о своей жизни. Партизанские отряды в лесах по Хамиру, отступление к Белкам, в Ойротию. Эшелоны атамана Анненкова, колчаковцы, белоказачьи дружины… Жестокие бои в диких алтайских лесах, на глухих хуторах, переправы через ледяные горные реки… Первый Алтайский горных орлов полк и последние белые банды у монгольской границы… Прокофьевна сидит у стола, подперев рукою голову. Это их прошлое, их жизнь. — Ох, и рубка была в Богатыреве!.. Вы знаете его, Владимир Михалыч. Дикий был хутор, захолустный… — Им-то что, — усмехается Прокофьевна, — в отряде. А у нас дома жгут. Разбой. А я в положении была… Чаю еще хотите? Заговорим мы Владимира Михалыча. — Спасибо. Еще выпью. Я рассказываю Кириллу Савельевичу о незавершенной работе Ганзина. У меня давно появилась идея приобщить к ней Кирилла Савельевича, да вот как осуществить эту идею, я не знал. Кирилл Савельевич сам помогает мне. — Знаю я о его работе, — говорит он. — Мы с ним часто встречались. Горячей души был человек. И дело нужное затеял. — То-то и оно! — говорю я. — Жалко. Пропадает. — Да… — задумчиво говорит Кирилл Савельевич. — А вы не могли бы достать его записки? — Попробую, — говорю я, не скрывая радости. Ухожу поздно. Морозная ветреная ночь летит мимо меня. С окраинного пригорка, где живет Кирилл Савельевич, виден весь усыпанный бусинками электрических огней город. Только террикон рудника с ползающими под ним огненными муравьями-фарами стоит вровень. Вон на той горе, где переливается огнями многоэтажное здание обогатительной фабрики, темной ночью девятнадцатого года анненковец Арапов после пыток расстрелял тридцать шесть большевиков. Из года в год парень — мужчина — больной старик смотрел со своего пригорка на свой город. Собственный город. И вдруг я почему-то вспомнил одного старика на трибуне. Он медленно махал нам кепкой на майской демонстрации и плакал. Мы были тогда на третьем или четвертом курсе. Кто-то из ребят усмехнулся: «Посмотрите на этого склеротика. Слезы радости…» Сколько нужно прожить человеку, чтобы научиться понимать жизнь? Да еще чтобы был свой город в конце… На «Птичьей горе» тихо. Лора, обволакиваясь клубами папиросного дыма и взбивая испачканной чернилами рукой свои пышные волосы, строчит очерк о бригадире проходчиков Митькине. Славный парень. У него своя «Волга», на которой мы с Николаем однажды ездили на охоту. Лора давно собирает материал для этого очерка. Чтобы не мешать ей, мы усаживаемся с Ваней в «мужской» за очередную шахматную партию. Лора перетаскивает нас в «ничью комнату». — Скучно, — говорит она. — И так весь день одна сижу. — Творчество требует одиночества, — говорит Ваня. Партия у него явно не клеится. — Похоже, что «Спартак» сегодня не в форме, — замечаю я. — Меня раздражает эта лошадь, — ворчит Ваня. Довольно избитый прием. Речь идет о художественной литографии гнедой лошади. Это Лорина вещь. На «Птичьей горе» не так уж много личных вещей. Но лошадь — Лорина. Ваня, проигрывая, обычно ворчит: «Невозможно сосредоточиться, когда на тебя тупо уставилась лошадь». Но сегодня он идет дальше. — Остановим часы. Нужно наконец покончить с этим, иначе я проиграю матч… Зачем тебе эта лошадь? — приступает он к Лоре. — Она поддерживает тебя на трудной стезе журналиста? Да, конечно, какой пример трудолюбия! «Все мы немножко лошади…» — Ветвь, которую мы случайно опередили, — смеется Лора. — А тебя не смущает такая лошадиная челюсть? — бьет Ваня по женским струнам. Предстоит хорошая разрядка. — Я всегда хотел посмотреть на обратную сторону портрета, — говорю я и намереваюсь снять его со стены. — Не трогай! Лора возражает, но мы настаиваем. Две руки держат ее, а две снимают литографию. — Сейчас мы увидим лошадиный автограф! — торжественно говорю я. Однако на обороте лишь штамп «Изоартели». Мы разочарованы. — В чем дело? — недоумеваю я, обращаясь к Лоре, спеленатой в Ваниных объятиях. — Дорога как память, — вызывающе говорит Лора. — Ага. Поклонник из «Изоартели», — догадывается Ваня и орет: — С молотка! — С молотка, — поддерживаю я. Дама довольна. Поклонники ревнуют. Она не может себе представить, во что это сейчас выльется. Я вскакиваю на стул, и торги начинаются. — Испортишь стул! — взывает Лора. Ах, стул! Стул тоже идет с молотка! Затем, под дикий хохот, с комментариями, с молотка пускается мебель неверной дамы. Мщение за прошлое в духе двадцатого века. Ваня неумолим и неутомим. Снимается даже абажур. Посредине комнаты вырастает гора мебели… Нет хозяюшки Муси, она дежурит, и потому бедлам остается победителем в «ничьей комнате». Мы перебираемся к Лоре. При свете ночника Ваня полтора часа читает стихи. Багрицкий, Уткин, Сельвинский, Мартынов. Некоторые стихи ни мне, ни Лоре не знакомы. Иногда мы интересуемся — чьи это? Но Ваня хитрит: — «Я слишком слаб, чтоб латы боевые иль медный шлем надеть!» Готов поклясться, что он пишет стихи. И, наверное, это хорошие стихи, не то, что у «любвеобильного» Мурзабека. На следующий день узнаю, что 31 декабря я дежурю на скорой помощи. Здесь так заведено: под Новый год дежурят все новенькие. — Ничего, — успокаивает Ваня, — тридцать первого дежурства обычно спокойные. Кровь начинается первого. Обидно, конечно, дежурить под Новый год. В диспетчерской — единственной комнате на нашей станции скорой помощи — оживленно. Уже около часа нет вызовов. Все три машины «дома». Весь дежурный персонал — Раечка, Дарья Петровна, я, три шофера и «синитарочка Надя» (так она представляется по телефону) — в сборе. Двадцать три часа. Через час покатится Новый год. По этому поводу мы выпьем немного вина. Как ответственный дежурный, я разрешаю. Торжественность этой минуты не компенсировать никаким отгулом. Никто не опьянеет от рюмки-другой. Подготовка идет полным ходом. Витя, толстый добродушный парень, отчаянный шофер скорой, мастерит из двух табуретов и доски скамью. «Синитарочка Надя», очень вежливая и трудолюбивая женщина лет сорока пяти, варит картошку. Раечка накрывает стол. Ей помогает Дарья Петровна. Остальные расчищают выезд. Станция скорой помощи размещается на территории строящегося больничного городка на окраине. Кажется, что весь снег со склонов несется на нас. Я открываю бутылку вина и водружаю ее в центре стола, когда резкий телефонный звонок пригвождает всех к месту. Двадцать три часа двадцать минут. — Скорая-а! — поет «синитарочка Надя» и слушает. — Вот я сейчас… Она передает трубку Раечке. Та слушает, смотрит на меня грустными глазами, записывает. — Встречайте, машина сейчас выходит. — Что там? — Кровотечение. Лермонтова, двадцать шесть. — Туда не проехать, — спокойно говорит Виктор. — Будем «вытаскивать», — усмехаюсь я. — Поехали. — Вас встретят… Вот жалко… — Раечка расстроена. — Мы вас подождем. — Не выдумывай! Ну, товарищи, всего вам наилучшего в Новом году!.. Прощаемся и уходим в ночь, в пургу. Наш «пазик» представляется мне антарктическим вездеходом. Ничего не вижу ни впереди, ни вокруг, пялю глаза на лобовое стекло, на Виктора, на белое месиво, несущееся рядом с нами. Нас действительно встречают. Какой-то мужчина машет нам руками. Проваливаясь по пояс в снег, мы добрых пятнадцать минут пробираемся сквозь мечущиеся сугробы. Движение усложняют носилки — захватили на всякий случай, чтобы при надобности не пришлось возвращаться за ними. Предусмотрительность весьма уместная. У женщины с большими темными глазами, резко выделяющимися на бледном лице, внутреннее кровотечение. Ясно: наша расторопность — ее жизнь. И вот мы вновь продираемся через мечущиеся сугробы. Острые, как битое стекло, снежинки (неужели это нежные звездчатые снежинки?) секут лицо, тяжело дышащий рот. Снег покрывает нас с головой. Где же машина? Мы идем, наверное, час. Как там, на носилках, женщина? Нет, останавливаться нельзя. Наше время — ее жизнь… Рук я больше не чувствую. Наконец-то светятся два глаза: Виктор зажег фары. Оказывается, это недалеко, всего в нескольких метрах от нас. Вот напасть! Машина буксует. Разворачиваясь, Виктор увяз в снегу. Мы бешено копаем, толкаем, засовываем под колеса доски от ближайшего забора, и наш «пазик», ревя мотором, трогается в путь. Мы — двое здоровых мужчин в кузове — совершенно измочалены. Смотрим друг другу в мокрые, словно из-под дождя, лица. И мужчина говорит хрипло: — Ну и работа у вас, доктор… Когда я доставляю больную в приемный покой гинекологического отделения, круглые электрочасы показывают один час двадцать минут. Где же я встретил этот необычный Новый год? Вероятно, в ногах носилок на улице Лермонтова. «В полях, под снегом и дождем. Мой милый друг…» Что ждет меня в этом году? Где сейчас Оля, что делает, с кем она? Мне хотелось около двенадцати подумать об этом, вспомнить всех близких мне людей и в двенадцать ноль две; выпить «за тех, кого нет с нами». Первую часть плана я выполняю с опозданием на полтора часа в машине, а вторую еще через пятнадцать минут уже на станции. К двум часам ночи в диспетчерской восстанавливается статус-кво — все в сборе. Вызовов нет. Начинает сказываться усталость. — До шести можно поспать, — говорит умудренная опытом Дарья Петровна. Я звоню на «Птичью гору», поздравляю всех с Новым годом. Моя мембрана дребезжит от музыки на том конце провода и от лезущих друг на друга голосов. Праздник в разгаре. — Заезжай на полчаса!.. — Поцелуемся и уедешь… — Вина уже нет! Не бойся… — Врет, но все равно не бойся… Это «те, кто с нами». Неудержимая улыбка растягивает рот. Как же это получилось, что за полгода «тех, кто с нами» стало больше, чем «тех, кого нет с нами»? Вероятно, интенсивность жизни, ее накал — тот посредник, благодаря которому объединяются люди. Утром звоню в гинекологическое отделение. С женщиной, с которой мы в новогодние минуты продирались сквозь пургу по улице Лермонтова, все в порядке. Я вытягиваюсь во весь рост, просовывая ноги между прутьями кровати. Тело приятно ноет. В доме тишина — все спят. Ваня почему-то распростерся на полу, на тюфяке, который мы держим для гостей. Прикрываю глаза. На громадных счетах моей жизни в сторону актива, кажется, полетела еще одна костяшка.3
По календарю весна, но у нас на Алтае зима еще прочно удерживает рубежи. За два с небольшим месяца после Нового года произошло много событий. Поженились Ваня и Муся. На «Птичьей горе» два дня дым стоял коромыслом. Затем меня переселили в «ничью комнату». А неделю назад я получил наконец «свою» комнату. И с новой силой затосковал об Оле. От нее давно нет писем. Новогодние поздравительные телеграммы — последнее, чем связала нас почта. Поток писем иссяк, превратившись в слабый ручеек. Но мне все чаще хочется не медля лететь к ней, к маленькой Оле, забрать ее в охапку, крепко прижать к себе, сказать: «Оля, хватит испытывать!..» И все. Но я не делаю этого и знаю, что не сделаю никогда. Я все тверже убеждаюсь в том, что совершенно не понимаю мою Олю. Мою?.. Да, мою! Скоро отпуск. Март, апрель, май… Через три месяца все решится. Страшно долго! Я здесь семь с половиной месяцев — это же целая жизнь! За эту жизнь я не забыл Олю. Просто она заняла то место, которое ей положено рядом с работой и другими людьми. Это очень большое место. Если бы я мог рассказать ей об этом… Вскоре после переселения меня постигает неудача. Все началось с лыжного кросса медиков нашего города. По поручению комсомольского бюро я занимаюсь этим делом. Выбираю минуту, чтобы заехать в роддом, захожу в диспансеры, бегаю по кабинетам поликлиники. — Нас интересует, — серьезно говорю я, — достаточно ли вы съели медвежатины, чтобы жить в этом суровом краю. Дело оказывается нелегким. Некоторым явно не хватает медвежатины. — Будем ставить вопрос на горкоме союза, — смеюсь я. Воскресенье — день кросса. Солнце в три обхвата. Мороз небольшой — градусов пятнадцать. Трасса получилась довольно трудная, с подъемами метров по двести. Зато и спуски — летишь, как на крыльях, Точно Домбайские склоны! Вперед выходит Николай. Его громадная фигура в ярко-зеленом свитере поднимается вверх по склону так же легко, как идет по равнине («Я вас всех приделаю!»). Хороший мотор, восхищаюсь я. Ну, постой же, я возьму тебя на спуске. На гребне сильно отталкиваюсь палками и приседаю. Ветер надевает на лицо резиновую маску. Радостное ощущение полога, блеск снега, солнце и небо сливаются в гудящее, словно жадное пламя, чувство. В щели прикрытых век мне видятся стройные громады Кавказских гор. Старое серебро вершин Белала-Каи, опушенные снегом леса на Джугах… На вираже меня выбрасывает с лыжни, и я останавливаюсь, зарывшись по колена в снег. Николай тем временем, расставив ноги и приседая, вовсю улепетывает от меня. Ах ты черт! Выбираюсь на лыжню и вновь бросаюсь за ним. Куда там! Он уже, как заведенный, лезет на следующий склон. Жарко. Снимаю шапку и засовываю ее в карман. После кросса собираемся в столовой и пьем пиво. Занимаем почти все столы. — Все наши медики пришли! — радостно кричит молоденькая официантка Люба в окно раздачи. — Сейчас выкатят бочку, — уверенно говорю я. — Товарищи, готовьтесь к интервью, — гремит Ванин бас, и нас озаряет лучезарная улыбка Лоры. — «В нынешнее воскресенье медицинские работники нашего города устроили маленькое… нет!.. грандиозное спортивное соревнование…» — импровизирует Ваня. Лора не обижается. — Вы молодцы, и про вас я обязательно напишу, как бы там ни злопыхательствовал Ваня, — говорит она и садится за наш столик. К нам же подсаживается Николай. Непокрытая грива рыжих волос, грубый свитер, громадные лыжные ботинки, пенящаяся кружка пива — бог гор. — Ну, как я вас, альпинистов-горнолыжников? — смеется он. — Твои горы, — развожу я руками. — Ничего, Коленька, скоро я их освою. Вечером у серебряного призера медицинского кросса начинает болеть горло. Ангина была у меня один раз, в детстве. Я вспоминаю ее, как несколько приятно проведенных дома дней, когда давали пить теплое молоко с малиновым вареньем и читали вслух «Таинственный остров». С этими приятными воспоминаниями засыпаю. На следующий день на работе ползаю сонной мухой. В столовой бифштекс буквально не лезет в горло. Температура тридцать восемь. Бреду домой в легком тумане. Провожу весь комплекс приличествующих случаю лечебных мероприятий и заваливаюсь в постель. К вечеру мне становится совсем худо. В голове гудит, словно в трансформаторной будке. Снег бьет в окна, а мне кажется, что это лезут, лезут на стекла серые кошки с зелеными, синими, красными блестящими глазами. Кошки остаются за окном, а их светящиеся глаза плавают в темноте комнаты. За звукопроницаемой шлакоблочной стенкой разыгрывается очередная маленькая трагедия — хмельной сосед Паша пытается убежать от террора жены. Я слышу, как он мечется по комнате, опрокидывая стулья и выкрикивая: «Валя! Стой!.. Валя!..» Она ругает его сквозь слезы и чем-то гулко бьет. Странные люди мои соседи. А кошачьи глаза то уменьшаются до едва заметных звездочек, то увеличиваются, наплывают на меня громадными пульсирующими кругами. Я выхожу в коридор, качаясь от стенки к стенке, а потом чувствую, что весь я ватный и пустой, и медленно перегибаюсь вдвое, потом вчетверо… Очнувшись, с трудом добираюсь до кровати. Меня охватывает едкое, щемящее чувство одиночества. «Вот так когда-нибудь и помрешь», — проносится в голове. И ни единого близкого человека рядом. Мама, Оля!.. Плохо, плохо, плохо… Хочется скулить. Где-то, как зуммер, гудит звонок. Потом вдруг вспыхивает яркий свет, и я вижу на пороге Лору, запорошенную снегом. — Что с тобой? — Она подходит и трогает мой лоб. — У тебя температурища! — Вероятно, — соглашаюсь я. Лора снимает пальто. — Никогда не можешь позвонить. — А сегодня, как никогда. Лора ищет градусник и, естественно, не находит его. Она уходит к соседям, там уже тихо, и приносит градусник. — Что, сегодня опять воспитывали Пашу? Валя заплаканная… — говорит Лора. — Наверное. Лора долго разглядывает градусник и ужасается: — Сорок! Нужно вызвать скорую помощь. — Я же сам скорая, — хриплю я. — Тогда прими еще стрептоцид. Сейчас сделаю тебе содовое полоскание, — распоряжается она. — Ладно, — соглашаюсь я. — Хорошо, что по пути из магазина домой мне взбрело в голову зайти к тебе. — Даже очень хорошо. Лора потрошит свою сумку. Славная она, Лора! — Сейчас вскипячу молоко. — С малиновым вареньем? — спрашиваю я. — На тебя не действуют даже сорок градусов. Она подходит с бутылкой в руках и садится на край моей кровати. Мы смотрим друг на друга, и Лорино лицо моментами расплывается, становится похожим на чье-то другое, знакомое и милое… Лора наклоняется и тихо целует меня в губы. Бутылка стукается об пол. — Заразишься… — Что-то дрожит у меня внутри и сильнее начинает гудеть в трансформаторной будке. — Так и жениться недолго. — Я хочу улыбнуться, но вряд ли из этого что-нибудь получается. — А у меня ведь невеста… — Нелепо. Лора смеется и выходит на кухню. Через час после ее ухода (свет я попросил не гасить) слышу в коридоре Ванин голос. Вместе с раскрасневшимися с мороза Ваней и Мусей в мою душную комнату врывается прохлада. Ваня чисто врачебным жестом потирает руки. — Что с тобой — ангина? Ложка у тебя есть? — Была, если не съели на новоселье. — Он шутит, значит, будет жить, — говорит Ваня, вооружаясь ложкой. — Меня уже лечили, — пытаюсь я защищаться. — Открой рот. — Имей в виду, у меня повышен рвотный рефлекс. — Я его подержу за руки, — предлагает Муся. Ложка со скрипом лезет глубоко в рот. — О! Лакунарная. Поедем к нам. — Попробую отлежаться… — Поколем пенициллин. — Нет, полечусь до завтра без вашего пенициллина, — решаю я. — Я слишком слаб для уколов. — Не валяй дурака. Снова звонок и возня в коридоре. Те же и Лора. — Ты еще не одет? — с порога спрашивает она. — Он еще жив, — холодно отвечает Ваня. — Порядок? Лора кивает. — Девочки, отвернитесь, пожалуйста. — Ваня решителен и энергичен. В его фигуре нет и тени сомнения. — Такси ждет, а до зарплаты полмесяца. — Какое такси?! — вздыхаю я. — Разве ты не знаешь, что у нас в городе уже есть такси? — Он бросает мне брюки и свитер. — И куда? — упавшим голосом спрашиваю я. — Домой. На «Птичью гору». Без нее тебе смерть! Попробуй не рассмеяться! — Не дадут отдохнуть в одиночестве, — бормочу я, натягивая штаны. — Долго ты будешь ковыряться? — нетерпеливо говорит Лора. — Конечно, он думает, что это твоя собственная машина, — подпевает Ваня. Вместо спокойной смерти меня ожидает на «Птичьей горе» Содом и Гоморра. Лора приготовила мне картофельный компресс на горло. Впервые о таком слышу, но подчиняюсь: во-первых, у меня нет сил сопротивляться; во-вторых, мне не хочется обижать ее. Все отворачиваются, и я залезаю в приготовленную в «ничьей комнате» на диванчике постель. Мне хочется тишины и покоя, но я счастлив. Неугомонная компания разыгрывает «морским счетом», кто будет колоть меня пенициллином. Потом, как отзывчивые пираты рядом с раненым товарищем, садятся играть в домино на толстой скатерти, повесив на абажур с моей стороны полотенце. Играют тихо, и я засыпаю. Я чувствую себя почти хорошо. Через три часа будят для экзекуции… На следующий день меня навещает Таня. Она часто заходит в больницу до или после занятий. Зашла сегодня и узнала, что я болен. — Я не пойду в школу и приготовлю вам обед, — говорит она, и милое лицо ее преисполняется решимости.Таня снимает свое старенькое пальто и спрашивает, где моя кухонная утварь. Я смеюсь, благодарю ее и говорю, что обед мне принесут из столовой. — А пропусков у тебя и без того достаточно. Мы выписали Таню в январе. Она учится на первом курсе фельдшерско-акушерской школы, пропустила около двух месяцев, и теперь ей, понятно, приходится туго. Она неохотно поднимается, тоненькая, стройная, чуть заметно потягивается и с сожалением говорит: — Ладно тогда… Не скучайте. — И улыбается. Мне тоже не хочется, чтобы она уходила. Через два дня я на ногах. Пятница. Еще плещется в теле усталость, но к понедельнику все будет в порядке, решаем мы, — и на работу. — За конем ходят не для того, чтобы в стойле держать, — заключает Ваня.На следующей неделе меня ожидает еще одна неприятность — у Кирилла Савельевича возобновляются приступы стенокардии. Они возникают многократно в течение суток — в покое, за едой, во сне. Кирилл Савельевич осунулся, не встает, даже не садится в постели. Не помогают ему всевозможные комбинаций лекарств, кожные блокады. У Прокофьевны красные от слез глаза. Таню я не могу узнать. Она стала тихая и грустная, подолгу молча сидит у постели деда. Иногда я застаю ее плачущей на кухне. Стенокардия, «грудная жаба», становится для меня постоянно мучающей проблемой. Я хожу из дома в дом ко всем городским врачам, роюсь в их библиотеках. Выписываю книги. Несколько раз мы ходили к Кириллу Савельевичу с Ваней. Возили туда наш переносный электрокардиограф. Ваня советует попробовать какой-нибудь вариант загрудинной новокаиновой блокады. Ночью мне снится, что я сам заболеваю стенокардией… У меня сейчас должно быть много работы в прозекторской и дома — мне нужно готовиться к своей первой операции на желудке. Николай говорит с удивлением, но без зависти: — Надо же. Года не прошло, а Петр дает тебе резекцию! Ты попал в струю! Я сам понимаю, что необходимо сделать все, чтобы оправдать это большое доверие. Но делать ничего не могу. В прозекторской, вместо того чтобы отрабатывать технику операций на желудке, я разглядываю человеческое сердце, препарирую тонкие, как проводочки, артерии. Никчемная, совершенно бесполезная работа. — Есть же такие паршивые болезни, — говорит мне Кирилл Савельевич, когда мы остаемся одни в комнате. — Никогда не думал, что животный страх не преодолеть человеку. Беляки к стенке ставили… А тут… Ночью особенно. Лучше бы рак… Заброшенные записки Юрия Ивановича на этажерке — история жизни этого человека. Еще одна незаконченная человеческая работа? Медицина! Могучая моя медицина! Что же ты молчишь?.. Последние несколько дней я разучиваю на трупах параортальные блокады. Сначала мне кажется это страшным: проколом у края грудины ввести новокаин к дуге аорты. Вслепую пройти иглой в святая святых человеческого организма. Другого выхода нет. Никакую операцию Кирилл Савельевич не выдержит. Неужели невозможно помочь этому человеку?.. Я со злостью сбрасываю со стола все свои книги, одеваюсь и иду к Петру Васильевичу. Темнеет поздно. И у нас наконец весна. Днем мчатся по улице отчаянные рыжие потоки, снег оседает, как на горячей плите. За зиму его навалило метра полтора. К ночи ударяет морозец. Земля становится полированным шаром. У Петра Васильевича половина так называемого «финского» дома с верандой. Во дворе он разбил небольшой сад. Петр возится на веранде с семенами и удобрениями. Широченные полотняные брюки на необъятном его животе испачканы землей. — Заходи, Володя. В холодильнике хороший абрикосовый компот. Я сейчас… В двух небольших комнатах пустовато. Столы и подоконники завалены книгами, журналами, газетами. На ковре у дивана лежит старый большой пес, дворняга. Несколько лет назад он забрел к Петру Васильевичу, да так и остался здесь. Пес нехотя подымает голову. Я достаю из холодильника банку компота, разыскиваю два стакана. Я прошу Петра положить Кирилла Савельевича на отделение для блокады. — Решился? — говорит Петр Васильевич, разливая компот. — Манипуляция несложная. — Вы делали? — Нет. Но я прочел об этих блокадах. — Тогда вместе? Петр Васильевич улыбается. — Ладно. Давай поедим что нибудь, это главное для хирурга. — Петр посмеивается надо мной, и мне становится легче. Я сижу у него допоздна. Мы говорим о нерешенных вопросах в хирургии. Их так много! Всего полгода назад мне было этого не представить. И оказывается, кое-что можно попытаться сделать даже в наших условиях. В подвале поликлиники можно организовать экспериментальную лабораторию — собачник. Инструменты и собаки — не проблема… Я загораюсь идеей и долго не могу заснуть в эту ночь. На следующий день Кирилла Савельевича привозят к нам на отделение, и я делаю ему блокаду. Столько было колебаний, страхов, а манипуляция действительно оказалась простой.
Весна мчится в наш заваленный снегом край на всех парах. В бездонном голубом небе неутомимо сверкает солнце. От обнажившейся распаренной земли идет густой пьянящий запах. Если закинуть голову и долго смотреть в небо, кажется, что где-то рядом плещется теплое море. Зеленеют холмы, окружающие город. Хочется взвалить рюкзак на плечи и двинуться в эту зеленеющую даль, по малохоженым тропам, к безымянным веселым ручьям, к скалистым причудливым гребням. В воскресенье мы взбираемся на гору Орел, стоящую над городом. В одну сторону — вид на наш городок, похожий сверху на большое пестрое стадо, пасущееся на холмах, в три другие стороны — необозримый зеленый горный край, в котором хозяйничает весна, и только на вершинах еще зима. Разводим большой костер, варим картошку и чай. Быстро темнеет. Я стою у края стенки, падающей вниз метров на двадцать. Отсюда кажется, что до города, начинающего расцвечиваться электрическими огнями, можно добраться, сделав один громадный шаг. В груди даже холодеет от желания сделать этот шаг. За спиной трещит костер — неповторимый аккомпанемент альпинистской песни:
Помнишь, товарищ, белые снега,
стройный лес Баксана, блиндажи врага?
Помнишь гранату и записку в ней
а скалистом гребне для грядущих дней?..
…в костре трещали ветки,
в котелке дымился крепкий чай.
Ты пришел усталый из разведки,
много пил и столько же молчал…
Очередную резекцию желудка Петр Васильевич мне не дает. Я недостаточно готов к ней. Но это меня не огорчает. Вторую неделю у Кирилла Савельевича нет приступов! Теперь можно будет взяться за желудки. Но взяться как следует мне не удается. После больницы, как всегда, — участок. Потом наступает время собачника и экспериментальной операционной. Нужно установить будки для собак, сделать из старой «переноски» операционную лампу, разбитый перевязочный стол приспособить под «собачий операционный». Для прозекторской дня явно не хватает. Мне хочется до отпуска опробовать виварий, «потрогать руками» одну идейку по хирургическому лечению стенокардии. Незаменимыми помощниками становятся Танины друзья из фельдшерской школы. Когда мы откроем виварий (название очень громкое, конечно, но нам нравится), они будут ассистентами, наркотизаторами, операционными сестрами. Понятно, что они ждут начала операций не менее страстно, чем я. Каждый день, отправляясь на участок, я заглядываю к Кириллу Савельевичу. Мы с Ваней еще не разрешаем ему ходить. Он сидит у придвинутого к кровати стола в своих больших железных очках и разбирается в записках Юрия Ивановича. Вспоминаю, как жена Ганзина предлагала свою помощь: «Почерк у Юры неразборчивый…» Кирилла Савельевича смущает литературная сторона работы. Но здесь нам помогут ребята из городской газеты. Лора договорилась. — Вот уж чем никогда не думал заниматься, — смеется Кирилл Савельевич. — Как ни крути, Владимир Михалыч, а это литература. Прокофьевна возится у печи, улыбается и бурчит: — Разохотится, я его знаю. Еще эти… как их там?.. начнет. — Мемуары? — догадываюсь я и смеюсь. Таня провожает меня к автобусу. Дне недели по моему участку ходит автобус. Я с удовольствием езжу на нем. Подвозит он меня недалеко, всего четыре остановки, зато я имею возможность прочувствовать, как растет наш город. До остановки мы, не торопясь, идем по зло чавкающей грязи. Мне нравится ходить в высоких резиновых сапогах. Здесь это обязательная обувь. Незаменимая. Идешь себе, не глядя под ноги и не обращая внимания на грязь. Мы говорим о виварии, о весне, о Таниных экзаменах и моем отпуске. Не доходя до остановки, Таня прощается со мною и уходит в магазин. И тут меня нагоняет высокий загорелый парень. Очень знакомое лицо… Конечно, это же Игорь. Танин сосед и приятель. — Я хотел бы поговорить с вами, — говорит он мне не здороваясь и продолжает без паузы, глядя в сторону: — Вы ей жизнь спасли, деда лечите… Но имейте в виду! Я за нее биться буду до последнего!.. — Он обращает на меня сверкающий взгляд. — Ни перед чем не остановлюсь! — Так уж и ни перед чем? — усмехаюсь я. И вдруг чувствую себя большим и сильным рядом с этим терзающимся мальчиком. — У меня невеста в Ленинграде, — говорю я. — Так что успокойся. — Правда?! — глухо и радостно говорит Игорь. Правда? Я сам не знаю наверное. Но скоро узнаю. Остались считанные недели. И летят они, эти последние недели, как узоры в детском калейдоскопе…
И вот — последнее дежурство на станции скорой помощи. В кармане билет на самолет. До отпуска пятнадцать часов. И этот вызов на далекий полевой стан — один из последних до отпуска. Рядом с облупившимся домиком нетерпеливо дрожит трактор. Тракторист с выпученными глазами выскакивает на меня из сеней и испуганно рявкает: — Доктор?! В низкой полупустой горнице бледная роженица и молодой фельдшер, в два раза бледнее ее. Фельдшер смотрит на меня красными, как у кролика, глазами и бездарно живописует картину родовой слабости. Рьяно принимаюсь за дело по всем правилам преподанного мне искусства. Через час мы, все трое рожающих, мокры и бледны от тщетных усилий. Положение становится катастрофическим. Необходимо принимать срочные меры. Мало того, что мои акушерские возможности невелики. Эта хата на краю света!.. Я отхожу на минуту к окну. Безоблачное голубое небо висит над черной землей, над дрожащим трактором, над непрерывно курящим трактористом и успокаивающим его шофером скорой Виктором. На секунду перед глазами появляется туман, сердце перепуганно замирает. Мне кажется в эту секунду, что я — человек без определенных занятий… и я должен спасти жизнь двух людей — матери и ребенка! От этого в следующую секунду хочется крикнуть на весь мир, что произошла ужасная ошибка, что меня принимают не за того человека! Но где-то в моем докторском нутре созревает решение. Оно не относится к категории классических. Это ясно. Я решаюсь предпринять манипуляцию, за которую наш ассистент прогнал бы меня сквозь строй глубоко аргументированного красноречия. Родовспоможение по Кристеллеру… Но, черт дери! Здесь не родильный дом Видемана, а железная койка в горах рядом с богом. Руки посинели от напряжения. Отпускаю подоконник — толчок к действию. Дальше все идет удивительно спокойно и решительно, будто я наблюдаю в клинике рождение очередного гражданина… На крыльце на меня набрасывается отец со стажем в несколько минут. — Малый?! Сын?! Ну, доктор!.. Жалобно потрескивают кои ребра. Буйная весна, большое человеческое счастье!.. Вечереет. Теплый пар висит над полями в долинах. Земля как парное молоко. Мне кажется, я способен взлететь сейчас на нашем «пазике» в безоблачное небо. — Дай порулить, — говорю я Виктору, и он без разговоров меняется со мной местами. Я жму изо всех сил на педаль акселератора, крепко вцепившись в баранку. Машина скачет по разбитому проселку, как норовистый конь, пытающийся сбросить неугодного седока. Далеко в стороны шарахаются испуганные лужи…
«В полях, под снегом и дождем!..»
4
Я стою на влажной от росы траве аэродрома в ожидании моего самолета. На аэродроме, находящемся на моем участке. В моем городе. Маленький город, маленький аэродром, маленький самолет. Но все мое. Я в отпуске. Незнакомое, веселящее, как вино, чувство — первый трудовой отпуск. Вот ведь чертовщина! Не какие-нибудь каникулы. Владимир Михайлович в трудовом отпуске. С новым чемоданом и кучей денег летит самолетом в трудовой отпуск. Мне хочется покататься по траве вон с тем криволапым щенком. Я наклоняюсь над ним. Он вскакивает, мягко хватает меня за палец и, упираясь изо всех сил, тянет за угол аэровокзала — небольшого деревянного дома с башней. — Владимир Михалыч! — Из окна радиорубки в башне меня окликает начальник аэропорта. Меня здесь знают. Зимой я частенько забегал сюда погреться. — К телефону. — Не улетел? — голос Лоры. — Тебя небось никто не провожает? Благодари бога, что кроме вечно занятых врачей и инженеров у тебя есть я. Сейчас приду проводить. В трубке щелкает. Я не сказал ни слова. Через двадцать минут Лора быстро идет по полю аэродрома, срывая на ходу нехитрые белые цветочки. Улыбаясь, вручает мне букет. — Летишь жениться? — А разве я не большой? — Еще какой! А мне тоже предложили руку и сердце, не хвастай. — Кто из них? — Мурзабек Каримов! Сегодня по телефону. — Все же мне придется его убить. — И мы начинаем хохотать, вспомнив, как в конце разгрома, который мы с Ваней учинили когда-то на «Птичьей горе» стихам Мурзабека, он сказал мне: «А ты, Владимир, просто врожденный Дантес». Я успокоил его тогда: времена-де не те, дуэли не будет, да и славы она мне, даже дурной, не принесла бы. Поближе к аэровокзалу по травяному полю подкатывают десятиместный «АН-5». Задержались на пятнадцать минут — начальник аэропорта и радист Вася гонялись за коровой. Она прорвалась на летное поле и ни за что не желала уходить от сочной травы. Наконец корова изгнана, и монополия авиации восстановлена. Начальник победоносно возглавляет кучку пассажиров и провожает их к самолету. — А ведь ты меня уже не застанешь, когда вернешься, — как можно беспечней говорит Лора. Я останавливаюсь от неожиданности. — Уезжаю на Таймыр. Там организуется комсомольская газета. — Когда? — Через две-три недели. Мы стоим молча. — Вот так. И, возможно, не встретимся больше. Странно, правда? — В красивых Лориных глазах грусть. — Владимир Михалыч! Пешком догонять придется, — кричит начальник аэропорта. Все уже сели. — Лорочка… — неожиданно сдавленным голосом говорю я. — Желаю тебе… всего наилучшего… Напишешь? Лора кивает. Я бегу к самолету, оборачиваюсь и машу ей. Внизу ползет рельефная карта. Солнце подцвечивает молодую зелень гор светом и тенью. Нежный бархат на ребрах Земли. Бурые пролысины снежников на северных склонах. Слюдяные ниточки речушек. Что за дивный край! Несет ее куда-то на север!.. «Жениться летишь?» Вот еще один хороший, душевный человек ушел. Грустно.В Ленинграде недавно прошел дождь. Летное поле, площадь перед аэропортом, стоящие на ней машины отражают солнечный блеск. Я с жадностью смотрю в окно автобуса на проносящиеся мимо знакомые с детства места. Вскоре после блокады мы ездили по этому шоссе на велосипедах в Пулково. Тогда это была грязная разбитая дорога с ржавеющими останками боевой техники на обочинах. Потом, уже в институте, ездили на экскурсию на Пулковские высоты. Кстати, было это тоже в мае. Теплый ветер качал вдали мирные городские дымы. Экскурсовод показывал нам, где проходили позиции, откуда наступали немцы… «Теплично-парниковый комбинат», — читаю я. Вот и мой город. Московский проспект. Здесь мы семь лет назад закладывали Парк Победы. Сейчас он шуршит листвой. «Электросила». В сорок втором здесь при артобстреле погиб мой брат. Технологический институт. У подъезда толпятся студенты. Фонтанка. Вниз по набережной, миллион раз исхоженной набережной, на углу улицы Ломоносова живет Оля. Осталось каких-нибудь полчаса до того момента, когда я сниму трубку телефона и наберу знакомый номер. Дома знают, что я приеду в мае, но не больше. Сегодняшнее мое появление — сюрприз. Именно так я и хотел приехать. Отец еще на работе. — Я чувствовала, что ты приедешь сегодня, — говорит мама, и голос ее дрожит. Она изменилась, или я отвык от нее? Я вдруг увидел, что ей около шестидесяти. Мне кажется, что я не был в этом доме, в этом городе много лет. Уехал мальчишкой и вот, много лет спустя, вернулся взрослым мужчиной. Я целую маму так, как не целовал никогда. Старенькую мою маму. Она волнуется, суетится, накрывая стол. Уверена, что я умираю от голода. Меня принимают. Достаточно было года самостоятельной жизни, чтобы я вошел в свой дом, как гость. Мой дом — и я в нем гость. И когда мама приедет ко мне на Восток, она будет… дорогой гостьей. В этом великий смысл жизни. Люди, как семена одного могучего растения. Созрев, эти семена уносятся ветром Времени, прорастают на новых местах, крепнут, а их семена вновь летят… Как я ни отговаривал ее, мама все же позвонила отцу. Он появился в комнате так быстро, будто шел из дома напротив. Мой милый длиннющий старик улыбается во весь рот. Стоим, покачиваясь на носках, осматриваем друг друга: старая привычка! Потом хохочем — все втроем. Мама к тому же плачет. — Да ты стал совсем мужчиной, — говорит отец. — Верно. — Покоритель медицинской целины! Уже вставая из-за стола, вспоминаю, что не звонил Оле. Набираю номер и с замиранием сердца слушаю протяжные гудки. Мама убирает со стола, отец вдруг начинает помогать ей, и они выходят на кухню. — Да? — Голос женский, но не Олин. Узнаю ее мать. — Здравствуйте. Можно Олю к телефону? — Ее нет. — А когда будет? После паузы голос Олиной мамы говорит: — Не скоро. С кем я разговариваю? — Это я, Мария Ивановна. — А… Володя… Здравствуйте. Я вас не узнала, — говорит снова после небольшой паузы Олина мама без особого воодушевления. (В Олином доме мои акции всегда стояли очень низко.) — Давно приехали? — Да. Несколько часов назад. А что, Оля не приезжала еще в отпуск? — Приезжала и уехала. — Как?.. Уже?.. Совсем?.. — Нет, она уехала к Сашиным родным. — Куда? Секунду мне кажется, что я позвонил по другому телефону. — К родным ее мужа. Понять что-либо я не в состоянии. — Извините… Кладу трубку и несколько раз бью себя кулаком по лбу. Скорее всего мне хочется убедиться, что все это сон. Из кухни выходят отец и мать. Они курят и смеются. — Двумя голосами мы решили уже курить сегодня по всей квартире, — говорит мама. У нас две небольшие комнаты и три злостных курильщика. Потому мы курим обычно только на кухне. Звонил ли я? Вновь набираю номер. Протяжные гудки. — Да? Кладу трубку. — Закуривай, Володя. Такое у нас не часто бывает. — Отец протягивает мне папиросы. — Или, может быть, ты бросил? Я пытаюсь сунуть папиросу в рот и попадаю не сразу. — Что случилось? На тебе лица нет, — откуда-то издали доносится голос отца. — Лицо — это мелочи, — выдавливаю я, с трудом прикуривая от спички. Потом мы садимся — я, отец и мама — и молча курим. — Оля вышла замуж. Отец растерянно смотрит на меня. На мамином лице я замечаю страдание — как зеркало, вероятно, отражающее выражение моего лица. — Как же это… — тихо говорит она. Утром иду на Фонтанку к Олиному дому. Зачем? Непонятно. Поворачиваю назад, сажусь в автобус и еду к Сергею. С седьмого класса мы были с ним вместе. Вместе играли в футбол и ездили в альпинистские лагеря. Вместе готовились к экзаменам. Вместе переживали Сережину первую любовь. Летом после десятого класса мечтали, как будем жить под одной крышей у черта на рогах и яростная пурга будет кидаться на наш бревенчатый дом. И, помогая друг другу, мы будем в нашей жалкой операционной на краю земли делать фантастические операции во славу Человека, Науки, Медицины. Ничего мы не знали, ни человека, ни медицины. Появилась Оля. Серега занялся терапией, я стал хирургом. Школа умчалась в прошлое, как родной полустанок, на котором не останавливается наш скорый. «Такой уж путь. На счастье ль, на беду, но, выехав за первый дачный пояс, не выскочишь, раздумав, на ходу…» Сережина мама встречает меня радостно. Сына ждут со дня на день. Сереги еще нет! — Не опасно лететь на ТУ-104? Ты же знаешь, Володя, это так далеко — Камчатка! Я успокаиваю ее: — Это так же безопасно, как ехать автобусом от Невского до вас. Даже безопаснее. Она смеется. — Я так рада снова видеть тебя. Проходи. Но я извиняюсь и ухожу. У нее сейчас такое же настроение, какое было у моей мамы за несколько часов до моего приезда, — предчувствие и ожидание. На улицах удивительно многолюдно. Будто в Ленинграде никто днем не работает. Меня несколько успокаивает и вместе с тем раздражает эта толчея. Что же делать? Так невозможно. Нужно что-то делать! Нескончаемая вереница незнакомых, ненужных мне женских лиц! Громадный город… Кто такой Саша? И вообще, что я здесь делаю? Сесть на самолет и — один плюс восемнадцать плюс один — через двадцать летных часов я дома. Ваня, Муся… Лора не успела еще уехать… Таня, виварий… Туманные очертания гор по утрам… И с каждым днем «Хижина дяди Шмары» все глубже будет погружаться в зелень самых старых в городе деревьев, окружающих ее. Я останавливаю такси. — Агентство «Аэрофлота». Около улицы Марата небольшой затор. Я зачем-то нервно смотрю на часы. — Торопитесь? — Очень, — говорю я и вспоминаю лицо и смех Сережиной мамы. Я не могу лететь. Это жестоко. У агентства расплачиваюсь с шофером и отправляюсь в объезд по всем своим друзьям. Оказывается, я хочу узнать подробности об Оле. Кое-что мне удается узнать: со своим будущим мужем она уехала в Мурманск, к его родным. Будущим!.. Вероятно, порой природа человеческая неподвластна сознанию. Я вдруг, как на трудном восхождении, приобретаю второе дыхание. Всегда будущее наше! Я покупаю на Московском вокзале билет до Мурманска. Потом не без труда узнаю у одной из Олиных подруг ее мурманский адрес. Домой прихожу поздно вечером. Меня ждут. Садимся за наш неизменный вечерний чай. Отец рассказывает о своей работе, об общих знакомых. Я говорю, что завтра уезжаю в Мурманск. — Во сколько? — деловито спрашивает отец. — В четыре, — отвечаю я.
В одном купе со мною едет русый парень с женой и девочкой лет восьми. У парня простое курносое лицо и обходительные манеры. Жена у него некрасивая, но очень симпатичная женщина. Девочка тихая и серьезная. Она или читает, или, напевая под нос, играет со старой куклой. Я сосредоточенно смотрю в окно на мокрые майские ландшафты Севера или так же сосредоточенно курю в тамбуре, тупо уставившись в пыльное стекло. Во мне нет ни единой мысли. И с каждым часом, отдаляющим меня от принятого решения и приближающим к встрече с Олей, все больше меркнет надежда и все меньше смысла вижу я в этой поездке. «Надо поставить точку над „и“, — говорю я себе в который уже раз. — Надо сделать нечто решительное, последнее, прежде чем Оля уйдет от меня навсегда». Это и есть мое решение. Это та единственная мысль, которая, зародившись в мой первый страшный отпускной день в Ленинграде, втолкнула меня в экспресс, мчащийся на Мурманск. — Из отпуска? — сочувственно говорит мой сосед по купе. — Не совсем, — уклончиво отвечаю я. Меньше всего мне хочется сейчас разговаривать. — Ага, — понимающе кивает парень, словно проникнув разом в тайники моих переживаний, вытаскивает из сумки бутылку вина и молча разливает в два стакана. — Андрей… — укоризненно говорит жена и виновато улыбается мне. — Видишь, товарищ расстроен, — строго говорит Андрей и подмигивает мне. — Все образуется! Он чокается с моим стаканом и ждет. Андрей рассказывает, как хорошо было у Черного моря, как ворчала на него жена за каждую бутылку вина… — Слушайте его! …Как хорошо у них в Мончегорске и какая у них хорошая квартира. Я узнаю, что девочка — не его дочь, а ребенок жены от первого брака, что только полгода назад он вышел из больницы после тяжелой травмы. — Знаете, думали, что он не сможет ходить, — с тенью еще неизжитого страха говорит жена. И вдруг я представляю себе, какая непростая жизнь у этого парня, сколько было в ней путаницы и просто физической боли… Как хотел бы я, чтобы у меня было такое же открытое лицо и такая же улыбка! Мы допиваем с Андреем вино и идем курить в тамбур. На душе светлеет, будто свежий ветер выдул оттуда позавчерашний тяжелый туман. Просторный Мурманский вокзал без неизменных транзитных пассажиров, восседающих на своих мешках и чемоданах у каждой незанятой буфетом стены, приятно поражает меня. Чистота и спокойствие, царящие здесь, вселяют почему-то веру в успех моего дикого предприятия. Я останавливаюсь у родственников Андрея в старом бревенчатом доме на проспекте Ленина. Холодный, совсем не весенний ветер скачет по обмерзлым лужам, по замшелым кочкам, напоминающим прибитых холодом лягушек. Я брожу и брожу по городу, представляю свой завтрашний разговор с Олей. Сумрачные холодные окраины северного города успокаивают. Я даже расстегиваю пальто, впуская под него промозглый сырой норд. В дом на проспекте Ленина мне не хочется возвращаться. Там светло и тепло в небольших заставленных комнатах. Там симпатичные чужие люди будут стараться, чтобы мне было хорошо. Там нужно будет разговаривать… Необходим план на завтра. С утра я занимаю пост у кинотеатра на Ленинградской улице, напротив дома, где остановилась Оля. «Не Оля, а он с Олей», — раздраженно говорит кто-то внутри. Плевать! Никого еще не существует. Они у его родных, еще не женаты… Мне вдруг хочется завыть от стыда и боли, бежать отсюда и скрыть эту поездку от самых близких мне людей. Но все тот же пронизывающий ветер с сурового моря спасает меня. Я застегиваю пальто, поднимаю воротник… На следующий день, едва успев занять свой пост у кинотеатра, я замечаю Олю. Она быстро идет по противоположному тротуару. Я перебегаю дорогу и иду ей навстречу. — Володя?! Что ты здесь делаешь? — чуть слышно говорит она. — Здравствуй, Оля. Я за тобой… Уедем отсюда… — Я совершенно ничего не соображаю. Не помню. Не знаю. Передо мною вроде бы та же Оля, но совсем другая. Красивая чужая женщина. — Куда уедем?.. Володя, извини… Видишь, меня ждут… — Оля, как всегда, первой приходит в себя. Как всегда… Как раньше, после поцелуев на набережных, в парке, в подъезде на Фонтанке… — Кто ждет? — глупо бормочу я. — Давай встретимся в вестибюле кинотеатра в… пять. Хорошо? — быстро говорит она. Я не успеваю ответить, не успеваю сообразить, а она кивает мне и уходит. Я вижу, как она подходит к какому-то офицеру и они идут дальше вместе. Офицер оборачивается, смотрит в мою сторону. («Старый знакомый», — наверное, говорит ему Оля…) Они скрываются за углом на площади. Из кинотеатра доносится музыка. До пяти часов я окунаюсь в какой-то океан мути. Бешеная злость сменяется усталостью и безразличием, а затем приходит решение плюнуть на все и уехать. «Встретимся в пять…» В ее голосе была растерянность и нерешительность. «Встретимся, — решаю я. Иначе на черта было ехать…» Сразу же после четырех я выхожу из дому, хотя идти до кинотеатра не более пятнадцати-двадцати минут. «Пойду медленно, сосредоточусь», — думаю я. И не успеваю я принять это очередное решение, как на моих глазах в переднюю дверцу «Москвича», делающего левый поворот, врезается на большой скорости такси. Как при замедленной съемке, среди скрежета и лязга мнущегося металла, «Москвич» поднимается боком вверх, затем, словно раздумав переворачиваться, медленно опускается на капот такси. Тихий звон или стон висит в воздухе. Толпа вырастает мгновенно. Шофер такси бледен, но жив. Баранкой ему придавило грудь. Он с трудом выбирается из машины и синими губами шепчет многоэтажный мат. Водитель «Москвича» невредим. Велюровая шляпа съехала у него набок, и непонятно, на чем она держится. На переднем сиденье в неудобной позе лежит мужчина и страшно дергается, будто хочет выпрыгнуть головой вперед через левую дверцу. Я оказываюсь одним из первых у столкнувшихся автомобилей. Наиболее пострадавшим должен быть тот, который сидел у правой дверцы. Тот, который лежит на сиденье. — Помогите, — говорю я, протаскивая его мимо баранки. Он крутит головой, и мне кажется, что он хочет укусить меня. На заднем сиденье я мельком замечаю корзину с бутылками и свертками. Я приказываю уложить его тут же, рядом с машиной, на дороге, и быстро осматриваю. Правая штанина в крови, и кровавое пятно ползет с брюк на асфальт. Чьи-то руки помогают разорвать одежду. Вместо коленного сустава и нижней трети бедра месиво из кожи, мышц и костей. Я сдираю с раненого ремень и накладываю жгут на бедро. Кровь больше не течет, и мужчина уже не дергается. Лишь изредка судорожно сглатывает. Взгляд, холодный и отчужденный, направлен мимо меня. Я видел такой страшный взгляд! Вдруг вспоминаю про корзину и, стукаясь локтями и головой, лезу в машину. Среди свертков и вина нахожу бутылку «столичной». — У него шок, — хрипло говорю я, срываю зубами пробку и засовываю горлышко ему в рот. — Пей, пей… Потом я помогаю переложить его на носилки и внести в машину скорой помощи. От него разит водкой, — я влил в него чуть не полбутылки. Вылезая из машины, слышу за собой нечто вроде «ч-черта»… Меня заводят в магазин, из которого выскочили все продавцы, не говоря уже о покупателях, и дают возможность вымыть руки и немного почиститься. — У него, наверное, день рождения, — звонко говорит высокая женщина. Выхожу из магазина. Грузовик оттаскивает машины к обочине. «А может быть, вечером свадьба», — думаю я и вспоминаю, как он хотел укусить меня. Часы над гастрономом показывают половину шестого. На ночной поезд до Ленинграда остались места в мягкий вагон. Половину пути сплю на своей мягкой полке беспробудным сном спасенного после кораблекрушения. В Ленинград приезжаю вечером. Мелкий дождь. Тепло. Невский сверкает огнями, удвоенными отражением на мокром асфальте, по нему мчатся потоки блестящих машин. Домой попадаю к вечернему чаю. Разговор не клеится, несмотря на все старания отца и мамы. Изредка ловлю на себе их тревожные взгляды. Но вопросов нет. Я говорю, разряжая атмосферу: — Все в порядке. Точки над «и» поставлены. — Ну, и отлично, — говорит отец и пускается в воспоминания военных лет, связанные с Мурманском, с Северным фронтом: он воевал там до первого ранения. Утром следующего дня, когда я лежу еще в постели, приходит Сергей. Наконец-то! У меня появляется такое ощущение, будто в моей жизни произошло что-то большое и радостное, чего я ждал целый год. Мы шумно завтракаем, как прежде перед экзаменами, когда оставались ночевать друг у друга. Потом идем бродить по Питеру. Солнце, сияющее над городом, не съело еще свежести от ночного дождя. Молодая яркая зелень в скверах блестит радостно и звонко. Легкими гордыми стрелами пронзают небо шпили. Я вдруг вспоминаю, как любовались мы всем этим с Олей. С моей Олей… — Знаешь, Оля вышла замуж, — говорю я. Сергей останавливается: — Да ну?! — Я только вчера приехал из Мурманска. Такая красивая дама. Я иду, и Сергей движется следом за мною. — Муж — офицер. Знакомое лицо. По-моему, из Медицинской академии. Сергей молчит, и я чувствую его растерянность. — Там одному малому дверцей машины раздробило бедро и порвало подколенную артерию. В день свадьбы, — неожиданно для самого себя говорю я. — Первый раз в жизни видел автомобильную катастрофу. Вечером заседаем с Серегой в «Астории». Был такой договор. Допоздна говорим о наших «восточных странах». Я рассказываю о больнице, о ребятах, о Тане и Кирилле Савельевиче, о ребристом бархате наших гор, о стремительных коричневых речках и вьючных тропах, напоминающих наш альпинистский Кавказ… Сергей говорит мне о Северной Камчатке, о долине гейзеров и скачке оленей по снежной равнине, о восхождении на Авачинскую сопку, о Петропавловске, висящем над бухтой, и строящемся там стадионе… И опять о новых друзьях, романтиках дальних краев, любящих, пьющих вино и мечтающих в разных концах громадной страны. Перед уходом я говорю Сергею: — Ты мне так и не сказал, что думаешь о всей этой истории с Олей. Он медленно тушит папиросу, раздавливая ее в пепельнице, и говорит: — Считаю, тебе повезло. Тихая весенняя ночь над Ленинградом, белая ночь, остро напоминающая такие же ночи, в которые мы с Олей бродили по гулким, пустынным улицам. Мне вдруг нестерпимо хочется назад, к работе, к деятельным огонькам самосвалов, всю ночь снующих у террикона над городом, к деловитому свету бестеневой лампы в знакомой до мелочей операционной. Мне хочется домой.
Часть вторая. Запах тайги
1
После замужества Ольги, этого неожиданного замужества четыре года назад, отъезд Вани был самой большой моей потерей. На засыпанной крупным шлаком платформе маленькой станции, у старых деревянных вагонов, Николай угощал всех коньяком, перелитым зачем-то из бутылок в яркий полуторалитровый термос. «На посошок…» Его огромная фигура, увенчанная рыжей шевелюрой, молча двигалась в шумной толпе, и протянутая рука, не дрогнув, тыкала вам в нос наполненную термосную крышку. Кто-то давал закусить сыром. Кто-то плакал. Ваня растроганно дергал носом. Кто-то напутствовал. Кто-то что-то кричал ободряющее. Но я видел только Ваню: за стеклами очков — растерянные глаза, большой нос, черный чуб, вздрагивающие губы. Отчаянно, как соловей-разбойник, засвистел дежурный, вагон качнулся, заскрипел. И я вдруг решил проводить Ваню до областного. Сейчас вся эта орава обвалится, и мы спокойно посидим, поговорим, простимся как люди… Николай хватал меня за брюки. Что-то кричала мне Лена, запрокинув голову и придерживая тугой узел волос на затылке. Поезд набирал ход. Мы стояли обнявшись с Ваней и Мусей в вагонном тамбуре. Мы уезжали вместо. Еще десять часов мы будем вместе, потом я посажу их в дальний экспресс на Москву, и только потом… Муся плакала, и свежий ветер с гор размазывал слезы по ее лицу. Ваня молча дергал носом, крепко прижимая к своему плечу мое. Быстро темнело. Мы смотрели на стеклянное весеннее небо над голыми горами, на густую синеву, плававшую в ущельях, и на белый дым, тянувшийся от натужно пыхтевшего паровоза. Потом Муся вспомнила о следующем дне, об обычном для меня трудовом вторнике, и о том, что я в этот вторник дежурю. Потом мы решили, что мне нужно сойти у Старого Рудника. Поезд делает там остановку на несколько минут, первую после отправления со станции. До Старого Рудника километров десять, но наш «курьерский» тратит на них почти полчаса. Добраться так поздно вечером из Рудника до города будет, конечно, сложно. Но что уж теперь… На Старом Руднике мы снова прощались с Ваней на засыпанной шлакам платформе, а Муся стояла над нами в проеме вагонной двери и продолжала, наверное, плакать в темноте. — Поверь, если бы не аспирантура… — расстроенно говорил Ваня. — Конечно, — кивал я. — И не думай. Все правильно. Только мне очень тяжело… Я бы никогда не говорил так трезвый. Это ведь — выставить свой эгоизм голеньким. То, что мы всегда так тщательно прячем. — Нет, нет, все правильно. Еще пару лет, и тебя не сдвинешь. Я же знаю тебя… — горячо убеждал я. — А у тебя ведь башка для больших дел. Давай! — Я обхватил его обоими длинными руками, и мы поцеловались. — Вовка, — сказал Ваня, и глаза его в полумраке были большими и жуткими, — помни, что у тебя есть брат…. Вагон дернулся и пополз. — Володя! Будь здоров! — крикнула Муся. — Вовка… — сказал Ваня. — И ты помни, что у тебя есть брат… — перебил я его. — Садитесь, садитесь, — торопила Ваню проводница. Ваня шел рядом с вагоном, держась одной рукой за поручень, а другой — за мою руку. Поезд убыстрял ход. — Садись, — сказал я и помог Ване взобраться на первую ступеньку. — Муська! Я целую тебя! Всего вам хорошего!.. — крикнул я в темноту. Паровоз пыхтел уже изо всех сил, обдавая все вокруг дымом, от которого у меня слезились глаза. Я долго и бесцельно бродил по пустой темной платформе, засыпанной шлаком. Здесь все платформы засыпают шлаком, без него полгода стояла бы на них такая же, как вокруг, непролазная грязь. Потом, обогнув деревянный сарай, заменявший вокзал, я подался к поселковой столовой, у которой при большой удаче можно поймать попутную машину в город. Последний автобус отсюда ушел в восемь. Наверное, теперь придется топать двенадцать километров до города по грязнющей дороге. Я был в своем единственном парадном костюме и туфлях, а не в резиновых сапогах, которые не снимаю почти весь май. И когда ко мне идут в гости, даже в июне, после дождя, надевают сапоги: иначе не пройдешь пятьдесят метров от асфальтированной дороги до парадного. Разве только босиком… За последние три года горисполком несколько раз пытался нас благоустроить, но несовершенная техника застревала в весенней и осенней грязи, а летом никому не приходило в голову заниматься этим делом. Сапоги я оставил у Лены, когда собирался на проводы. Плакали мой костюм и мои туфли. Но мне было наплевать. Мне на все было наплевать. Решительно на все. Я чувствовал себя совершенно одиноким. Я вдруг понял, что кроме отца с матерью, которые убийственно далеко, у меня и был-то один настоящий друг — Ваня. Даже Сергей постепенно отдалился, ушел в прошлое, стал юношеским воспоминанием. И виделись-то мы с ним в последний раз четыре года назад — когда от меня ушла Оля. Я шлепал, не разбирая дороги, к столовой, и думал о своем одиночестве, о том, что в свои двадцать восемь лет ничем не могу похвалиться — одни потери, и мне было так жаль себя, так щемяще жаль… И одновременно я понимал, как это противно, когда здоровый дядя, этакая дубина, жалеет себя. Противно! У столовой, на просторной площади, а вернее — на широкой поляне меж холмов, неожиданно оказалось много машин. Тащиться в город пешком, по всей вероятности, не придется. Я стоял на тускло освещенной несколькими фонарями площади и оглядывал заляпанные грязью до бровей «Волги», «Победы», «Москвичи». Ни в одной из машин не было никаких признаков жизни. Я вошел в столовую. В столовой — длинном одноэтажном доме, укрепленном изнутри немудреными четырехугольными колоннами, выкрашенными, как и стены, в зеленоватую краску, было многолюдно, шумно и так дымно, что, переступив порог, ты словно попадал в какую-то синюю сказку, где все было призрачным и расплывчатым, как под водой. Я поплыл к стойке, у которой пара подводных принцев в стеганках любезничала с принцессой в кружевном кокошнике. — Ну так что, Фень? Согласная? — говорил один из принцев. Другой нетрезво и сочувственно ухмылялся. Я полез в карман за мелочью. — Вы что? — резко бросила мне принцесса, недовольная моим появлением. — Пиво подают официантки. — А я не хочу садиться, — сказал я настырно. — Гражданин, я же вам сказала… — Ну давай, давай, малый, — сказал первый принц. Второй угрожающе хмыкнул. Черт бы вас драл с вашей любовью в рабочее время, брюзжал я про себя, направляясь к ближайшему свободному месту. Но и тут ждала неудача. — Уже-не-обслуживаем-не-видите-который-час?.. — выстрелила в меня официантка, проносясь с двумя графинами к соседнему столику. На Старом Руднике сегодня торговали пивом. По таким торжественным дням столовые закрывались на полчаса позже обычного, а это значит, что до разъезда еще около часа. Пиво здесь подавали в больших толстостенных графинах, украшенных крупным стеклянным виноградом. А может быть, сливами. Или земляными орехами. Но дело не в этом — мне очень хотелось пива. У нас это большая редкость. Добиралось оно сюда уже не янтарное, а откровенно желтое, мутное, кисловатое. Но мы привыкли уже к этому пиву, а из-за своей редкости оно стало нам милее какого-нибудь двойного золотого. Я решительно встал, полный намерения добиться своего графина. И в этот момент меня окликнули: — Доктор! — перекрывая тугой гул, орал из-за соседнего стола детина в таком же ватнике, как у принцев, и махал мне рукой. — Доктор! Прошу к нам! Вот из-за этою я не люблю ходить вечером в столовую. Обязательно найдется какой-нибудь знакомый, от которого не отвяжешься. Конечно, и в этой столовой разыщется сейчас не один мой пациент, в котором я успел уже поковыряться за те без малого пять лет, что живу здесь. Вот и этот детина очень знаком мне, но что я с ним делал — не вспомнить. Даже не пытаюсь. И какое это имеет значение? Наверное, кроме боли, я принес ему излечение, раз он не забыл. Хотя боль-то, вероятно, запоминается дольше… Сегодня я не испытываю обычной в таких ситуациях жгучей неловкости и спокойно принимаю приглашение. И даже рад, что посижу часок в компании шумных подвыпивших ребят. — Удачно ты у меня аппендицит вырезал! Два года в шахте, и ни один шов не лопнул, — говорил мне детина радостно, так, словно по нескольку этих самых швов должны лопаться ежегодно. Мы просидели до закрытия, и к концу я уже туго соображал, что творится вокруг. В «Победу» шахтера, которому я два года назад «удачно вырезал аппендицит», набилось человек семь. Меня он посадил рядом с собой, включил фары и лихо развернулся, мазнув ярким снопом по забурлившей площади и уложив всех пятерых на заднем сиденье. — Живы будем? — нетвердо спросил я. — Завтра дежурю… — Тогда едем медленно… ребя-ата!.. — крикнул нам шофер, словно, кроме «вырезанного» аппендикса и моего дежурства, терять нам всем былонечего. И мне это понравилось. Потом мы спели пару песен. Хорошо спели, громко и дружно. И приехали. — Куда тебе? — спросил водитель, притормозив у универмага, в самом центре. Несколько человек с заднего сиденья вылезли. — Спасибо… Я тут… — Не-ет, милый. Я своей честью дорожу!.. — гордо сказал шахтер без аппендикса. — К самому дому подкачу. Только так! Я посидел, пошевелил губами и носом, чтобы легче было шевелиться мозгам, и вдруг вспомнил про оставленные у Лены сапоги.Лена была в простеньком домашнем халатике в синих цветочках. На голове — чалма из махрового полотенца. Наверное, только что из ванной. — С легким паром, — сказал я неуверенно. — Извини, что поздно… — Проходи, проходи. Не так уж и поздно. У соседки раздавался мужской смех. Я снял туфли у двери, плащ и прошел к Лене в комнату. Будильник на столе показывал половину одиннадцатого. Действительно, не очень поздно. У меня же было такое ощущение, что вот-вот должен уже наступить рассвет. — Протрезвляешься водой? — сказал я, садясь у стола. — Черт знает что… Только сейчас немного прихожу в себя, — рассмеялась Лена. — Куда это ты поехал? Я хмыкнул. — Провожать. — И куда доехал? — До пивной на Старом Руднике. — Вовочка, а ведь ты совершенно пьян. — Лена положила мне на плечо руку и заглянула в глаза. — Прилично. Но не совершенно. — Хочешь есть? — Она всегда угощает. Любит угощать. Вроде Муси. — Чаю бы… — Сейчас. — Продолжая смеяться, она вышла. — Тоже трезвенькая, будь здоров, — сказал я ей вслед. Потом я медленно и без всякого удовольствия пил чай, поглядывая на Лену. — Мне надо расчесать волосы, потом я с ними не справлюсь. Не возражаешь? — сказала Лена. — Валяй, — разрешил я. Она села на край дивана-кровати (новинка, вызывавшая нашу всеобщую зависть) и, подняв полные белые руки, сняла чалму, сбросила на колени черные густые волосы. Стала расчесывать их большим гребнем. Я не представлял себе, что такие у нее пышные волосы. Обычно она гладко зачесывается, собирая на затылке тугой блестящий узел. Это ей тоже очень идет, но так… Лена сидела на краю дивана, скрестив длинные белые ноги. Ох, и симпатичная же девка! Высокая, крепкотелая. Серые глаза задумчивые, раскосые, как у японки. Нос крупный, чуть-чуть «уточкой», но в самый раз, чтобы не нарушать гармонии ее милого и загадочного лица. Конфетка, а не девчонка! — А ты красивая, Лена, — сказал я, разглядывая ее. — Только заметил? Если подумать, так никого, кроме нее, у меня здесь не осталось. Последние полгода мы почти всегда были вместе — Ваня, Муся, Лена и я. Она приехала прошлой осенью — молодой специалист, пополнение постоянно редеющих наших рядов. Работала терапевтом у Вани на отделении и как-то очень быстро сдружилась с ним и особенно с Мусей. Ваня был в восторге от нее — умница! И Муся была в восторге — прелесть, что за девчонка! И я знал, что каждый из них готов лопнуть от усердия, распинаясь в моем присутствии о Ленке. И она, по-моему, об этом догадывалась. Или они и перед ней распинались обо мне?.. По крайней мере, оба мы снисходительно усмехались Ваниным и Мусиным стараниям, но это не мешало нашим самым дружеским отношениям. Я даже ухаживал за Леной немного, танцевал с нею на всех вечерах больше, чем с кем бы то ни было, иногда целовал в щечку. Мы, конечно, нравились друг другу. А сейчас вот — остались совсем одни… — Осиротели мы с тобой, Лена, — пожаловался я. — Что-то они там сейчас делают? А?.. Лена собрала волосы на одном плече, быстро и ловко стала заплетать их в толстую косу. Посмотрела на меня долгим взглядом. Я кивнул ей и положил в стакан еще несколько кружков лимона. В это время в коридоре дважды звякнул звонок. Два раза — к Лене. — Кто бы это? — удивилась она и пошла отпирать. Дверь осталась приоткрытой. Я разглядывал комнату. Диван-кровать, стол под отутюженной желтой скатертью с выпуклыми цветами, вишневая вазочка, будильник, этажерка с книгами и патефоном, японская миниатюра на стене — розовая Фудзияма и серебристая женщина в широкополой шляпе на черном фоне. Золотистые с коричневыми листьями шторы на окне и балконной двери. Разглядывал все это и словно впервые видел. Ведь комната поменьше моей, и мебель почти такая же (за исключением, конечно, диван-кровати), а как тут славно, уютно. Дом. Не то что моя казарма… Вот оно что, вон куда потянуло!.. Не рановато ли?.. Я отхлебнул чаю, кислого, как чистый лимонный сок, встал и пошел к Фудзияме. За приоткрытой дверью, в коридоре, слышался Колин голос. Ах ты чертов Кол! Так он в самом деле приударяет за Ленкой! Я остановился, удивленный тем, что меня это неприятно задело. От соседки по-прежнему доносился мужской смех. Хохотунчик какой-то… — Нет, Коля, спасибо. Не могу. Видишь, волосы еще мокрые, — говорила Лена. — Да и поздно уже. Никак приглашает куда-то на ночь глядя? — Спать пора. И тебе тоже, Коленька… Будь здоров. Я поглядел на будильник. Одиннадцать. Да, пора. Я шагнул к Фудзияме и стал рассматривать серебристые черточки, заменявшие женщине глаза и делавшие ее какой-то очень нежной и томной. Маленькая томная женщина у громадной горы. Вошла Лена. Я повернулся к ней. Она улыбнулась. — Пора идти, — сказал я. Она не ответила, прошла к столу, взяла мой стакан. — Еще чаю? — Нет, спасибо. — Может быть, составишь все же компанию? — Ну разве что за компанию… Она не хотела, чтобы я уходил. И не сказала Николаю, что я здесь. Меня вдруг залило радостью. Но почему, собственно, она должна была ему обо мне говорить? Мы с ней старые друзья, а Колька так — сбоку припека… Лена вернулась. — Сейчас подогреется, — сказала она. Я взял ее за теплую руку. — Давай потанцуем? Мы часто танцевали у Лены. Под патефон. У нее куча отличных пластинок. Она вскинула на меня обрадованные глаза: — Давай! Стащив патефон с этажерки, она поставила его на край стола. Я даже не успел помочь. Рассыпала рядом, на столе и стуле, пластинки. Искала что-то. Я тоже стал вяло перебирать пластинки. — Нужно иметь много друзей. Обязательно! И чем больше, тем лучше. В этом смысл жизни. Старею, наверное. Как выпью немного, так начинаю философствовать. Прежде выпил — пошел дурака валять, куролесить, а теперь — философствовать. Лена поставила танго, которое мы все любили. Чешский вокальный квартет. Мы пошли. — Наверное, если иметь очень много друзей, не будет ни одного близкого, — сказала она, не глядя на меня. Я усомнился. — Собственно, это, может быть, чисто по-женски, — заметила она и подняла ко мне лицо. Какие теплые, глубокие раскосые глаза! От чая и тепла комнаты совсем раскис. — Чего уж там… — сказал я. — Одна ты у меня осталась… — И крепко прижал ее к себе. И почувствовал, как она прижимается ко мне тоже. Почувствовал, что меня отделяет от нее только тонкая ткань халата. От мягкой, такой домашней… Не отрываясь, я смотрел ей в глаза, потом она закрыла их и вдруг стала похожа на женщину у Фудзиямы. Голова у меня кружилась. Я обнимал Лену, целовал, она растерянно и неумело отвечала. Не было в моей жизни женщины, более желанной, чем Лена! Это было счастье… Какое-то сумасшествие. Настоящее сумасшествие!.. — Леночка! У вас чайник выкипает! Я даже вздрогнул, словно меня грубо толкнули во сне. Патефон бессмысленно шипел на столе. Лена, качаясь и не глядя на меня, пошла на кухню. Я же снял с пластинки мембрану и сел на диван, привалившись к мягкой спинке. Иногда мы говорили Лене: «Зайдем к тебе, хочется посидеть на настоящем диване…» Хмель бродил, конечно, в башке, но я как-то сразу почти протрезвел. И пытался что-то вспомнить. Но что? Да, конечно… Конечно! Я всегда, постоянно помнил Ольгу. Даже когда после хорошей выпивки с друзьями поздно ночью шел к Эллочке, которую Ваня называл «твоя официанточка» (он один только знал о ней). Даже у Эллочки я думал об Ольге. Однолюб несуразный, таких вот и бросают! Но как я ни старался забыть о ней — не мог. И вот сейчас, словно почувствовав, что чего-то во мне не хватает, я понял, что забыл об Ольге. И глупо рассмеялся. Я не заметил даже, как вошла Лена. Она стояла в дверях с чайником и удивленно смотрела на меня. Коса была свернута на макушке, и от этого шея и лицо казались длиннее, строже, а разрез глаз — еще более косым. Я быстро поднялся, забрал у нее чайник. — Вспомнил свою трагическую любовь, — сказал я, — и вот рассмеялся. Ты хороший доктор, Лена. — Спасибо за комплимент. — Она улыбнулась, и мы сели пить чай. И неожиданно я рассказал ей всю историю с Ольгой. О том, как, простившись на Фонтанке, мы разъехались, как ждал я первого отпуска, а потом вдруг узнал, что Оля вышла замуж. Я говорил, говорил, и мне становилось очень легко, словно я избавлялся от тяжелого груза. Лена чертила чайной ложкой узоры на скатерти, улыбалась, качала головой, удивленно вскидывала на меня глаза. Потом мы молча сидели и слушали, как орут лягушки на болоте, в которое веской превращался будущий городской парк. Болото начиналось сразу за домом и тянулось в низинке почти до самой горы Орел. Большой когда-нибудь будет парк… Я вертел в руках будильник, и он неожиданно крякнул, будто собирался зазвонить в виде протеста. Я глянул на Лену, и мы засмеялись. Неловкость исчезла. — Выпроваживает он меня, — сказал я и поднялся. Было начало первого. — Пойдешь? — И в голосе ее я уловил столько противоречивых чувств и мыслей, что ответил без колебаний: — Пойду, завтра дежурить… А наши уже спят в вагоне… — Им, наверное, тяжелее, чем нам. — Да… — Мне хотелось поцеловать ее, но что-то удерживало. Я вышел в коридор, надел сапоги и плащ. Мои туфли стояли тут же, очищенные от грязи. Когда это она успела? Ах, Ленка, Ленка!.. Я кое-как завернул их в газету. — Ну?.. Она вдруг приподнялась на носки и быстро поцеловала меня в угол рта. — Спокойной ночи, — почти прошептала.
Луна забивала ярким светом редкие фонари. Громко шлепали по асфальту мои сапоги. И не было вокруг никаких других звуков. Над двухэтажными домами спящего городка, над неподвижными молодыми деревцами серебристой массой висела гора Орел. И я представил себя одиноким космонавтом, бредущим по незнакомой необитаемой планете. Прозрачные ткани в витрине: дотронься до них — рассыплются. Что же случилось с этим миром?.. Почему я не остался с Леной?.. Сегодня это была покинутая планета. В другой раз — необитаемый остров в южных морях или затерянная земля, вроде Земли Санникова. Правда, в последние годы эти фантазии приходят ко мне все реже. Жаль. Но почему — реже? Потому что устаю, как черт? Или с каждым годом становлюсь все злее и раздражительнее? Фантазии, наверное, не любят злых. Ваня как-то выписал кривую человеческого характера таким образом: до двадцати пяти — восторженный подъем, открытие прелестей мира, затем до шестидесяти — спуск к несообразностям его, а после шестидесяти, в зависимости от характера склероза, или возврат к щенячьему восторгу или прогрессирование злобной замкнутости. Согласно этой Ваниной версии, сейчас я, наверное, стремительно качусь по наклонной второго периода. В коридоре было темно и тихо. Соседи, конечно, видели уже вторые сны — час ночи. Я вылез из сапог, прошел в свою комнату и зажег свет. О боже! Привалившись к батарее под окном, раскидав ноги и руки, в позе истомленной Венеры спал раскрасневшийся Паша, мой сосед. Переступив через Пашины конечности, я пробрался к окну и открыл форточку. Соседи мои — славные ребята. И Паша, и его жена Валя. Но, как и в каждой семье, у них есть свои проблемы. Паша выпивает, и всякий раз Валя очень расстраивается и лупит его чем попало. Валя здоровая баба, работает в шахте. Ей уже за тридцать, а детей нет. Она очень хочет детей. Сама мне говорила. Кто-то сказал ей, что виновата Пашина пьянка, вот она и лютует. А так — славная женщина. Не бывает такого, чтобы в день, когда она печет пироги, я не нашел вечером у себя на столе полную тарелку под бумажной салфеткой. В последнее время Паша нашел способ, как избавляться от семейных скандалов. Поздно ночью, когда уставшая за день Валя уже спит без задних ног, он возвращается домой, пробирается ко мне в комнату и устраивается у батареи. Я помалкиваю, покрываю его. Это моя маленькая мужская услуга Паше. Конечно, мы должны помогать друг другу в нашей борьбе с женщинами. Иначе они нас быстро истребят. Паша мне как-то признался с грустью: — Была у меня женщина до Вали, так она беременела… Нет, они оба славные ребята. И любят друг друга.
2
На отделении все были под впечатлением вчерашних проводов. Спрашивали у меня, куда это я укатил. Я отшучивался: — До ближайшей забегаловки. От вас разве далеко уйдешь… И верно. Так, кажется, и умчался бы куда-нибудь. А за то, чтобы пройтись по набережной Фонтанки, например, от цирка до Летнего сада или по нашей заросшей липами улице Льва Толстого, отдал бы, наверное, год жизни. Но вчера вот, провожая Ваню и Мусю, поглядел, как им тяжело, представил, что это я сам уезжаю, и внутри защемило, заворочалось что-то неудобно, хоть плачь. Что ни говори, а прикипают люди к месту, где становятся людьми. Мы стали здесь. Это ведь одно из проявлений осмысленного человеческого счастья. И как бы трудно, даже трагично, ни было это становление, человек вспоминает его всю жизнь. У нас же здесь и трудностей, собственно, никаких не было. Работы — досыта. Заведующий — хирург высшего класса. Учись — не хочу. И народ подобрался что надо. Далеко? Неустроенно? Если вдуматься, все это совершеннейшая ерунда в сравнении с тем, что мы здесь — хозяева, в своем деле хозяева. Это очень важно для человека. Посмотрел я в Москве, когда был на специализации, какие они жалкие, эти больничные ординаторы. Мальчики и девочки на побегушках. Даже самые толковые — как-то не уверены в себе. У одних только руководителей кафедр волевой блеск в глазах. Или мне это показалось? Нет, конечно. И еще — наш собачник в подвале поликлиники. А заботы, связанные с лечением коронарной недостаточности? Тут одной практической работы невпроворот: со всей области едут к нам теперь больные. Занимаясь четыре года назад Кириллом Савельевичем, я и не предполагал, что так крепко засядет во мне «грудная жаба». Все это корни. От всего этого трудно оторваться. И теперь вот еще Лена. Как-то сложатся наши отношения? «Спокойной ночи», — вспомнил я ее шепот. Мне снова стало не по себе. Я ощутил в мыслях о вчерашнем вечере будничность, и меня это покоробило. После того как я впервые робко поцеловал Олю… Ну, что сравнивать! Тогда я был мальчишкой. — Коля! Что ты там все пишешь? Хоть поговорил бы с человеком. С тоски с тобой подохнешь! — Ха! Тебе что, ты дежуришь, — не отрываясь от историй болезней, сказал Николай, — а у меня еще-е… И уже час. Дневники он записывает громадными буквами, соответствующими его размерам, но все равно понять его записи невозможно. Меня всегда это удивляло. Обычно мелкий почерк неразборчив. Собственно, если посмотреть такой под лупой, и получатся, наверное, гигантские Колины каракули. — Ну так иди, делай что нужно. Зачем время тратишь? Все равно твою писанину не разобрать, не отставал я. Дежурство пока шло тихо, и нужно было набираться сил. Чаще все начинается со второй половины дня. Почему, интересно?.. — Ха! — Коля продолжал рисовать не отрываясь. — Будто ты не знаешь, что истории болезни ведутся для прокурора. — Раз ты так боишься прокурора, лучше бы пил аккуратнее. — Слу-ушай. — Тут уж Коля оторвался от писанины и, упершись ручищами в стол, уставился на меня своими шальными глазами. — Косой я был вчера ужа-асно. А что было? — Косо-ой, — передразнил я. — Смотри, кто-нибудь тебя так и подстрелит, приняв за зайца. — Какой-нибудь газой — косого, да?.. — расхохотался Николай, довольный своим каламбуром, бросил ручку, поставив на одну из историй очередную кляксу, и перешел ко мне на диван. — Нет, верно, я чего-нибудь натворил? — Да откуда я знаю. Я же в область уехал. — Ври больше! — Ну, вот… Утром прилетел первым рейсом. — Колю приятно разыгрывать. Он сразу клюет. — Точно? Ну ты дае-ешь!.. Однако тут зашла Ксюша, сестра приемного покоя, и сказала, что меня ждет «взвод больных». Когда она так говорит, это значит, что больные плановые — с грыжами разными, с геморроями, и их не меньше двух. Два — это у Ксюши уже «взвод». Ксюша — старая сестра, фронтовая, на первый взгляд грубоватая. Но с ней хорошо дежурить — она толковая, расторопная и не надоедливая. И больные ее любят, потому что грубоватость у нее простой и доброй сострадательной бабы. В приемный только стоит войти. За двумя плановыми больными появились еще двое. Потом еще один. Потом привезли девушку из геолого-разведочной партии с острым аппендицитом. Морщится при обследовании вовсю, но храбрится. Вижу, что боится операции. А сам я боялся бы, если б привелось? Наверное. Я улыбаюсь, шучу; пытаюсь успокоить ее: — Отжил ваш аппендикс свой век. Теперь, кроме вреда, от него никакой пользы. Ксения Петровна, позвоните, пожалуйста, в операционную. Не кончили там они? — И принимаюсь записывать. Петр Васильевич сегодня оперирует со «сменой». Так у нас издавна окрестили хирургов по первому году. Их сейчас двое, из алма-атинского медицинского: Антонина Владимировна и Валерий Кемалович. Антонина раздражает меня до зубной боли. Такая размазня — нет сил. И говорит, словно под водой: ва-а, ва-а… Вот-вот пузыри станет пускать. И какого черта такие люди идут в хирургию? Скажем, в авиацию бы не приняли — реакция не та, а в хирургию — пожалуйста. Как будто здесь ничего и не требуется, кроме желания, выношенного в романтических девчоночьих мозгах! Петр на такие рассуждения ухмыляется: «Хирургия — большая страна. В ней для равновесия разные люди нужны». Философ доморощенный! Для какого равновесия? Сейчас, когда один хирург у нас выбыл, так снова дежурства через три дня. А летом, в период отпусков… И тысяча операций в год. Равновесие. Ему бы не брать ее, а он — «нельзя человека лишать мечты». Как будто человек всю жизнь может прожить одной только мечтой! «Смена», правда, уже дежурит, но разве усидишь дома, когда знаешь, что на отделении осталась одна Антонина. Валерий Кемалыч — другое дело. Этот хирург. Сноровка, реакция, глаз — все на месте. К тому же Кемалыч скромный, славный парень. Ксюша звонит в операционную, а потом говорит мне: — Еще оперируют. — История тебе больше не нужна? — Нет. — Забираю. Больную после обработки — на каталке… Поднимаюсь наверх, в операционную. Уже два года, как мы перебрались из старой деревянной больницы в этот двухэтажный корпус. Теперь у нас отделение — в Ленинграде позавидуют. На сто коек. А это значит, что сто тридцать влезает свободно. Теперь в коридорах кроватей не увидишь. Две операционные. Оснастились прилично. Сейчас уже нашей «смене» трудно представить, что такое больница в настоящей глубинке, какой была деревянная «хижина дяди Шмары». А вот все же и ее жаль, скрипучую, домашнюю. Все потому же — «там мы были так счастливы!..» Петр Васильевич со «сменой» кончают оперировать вентральную грыжу. Большущая была грыжа. Это уже вторая операция сегодня, первой шло удаление грудной железы. Я надеваю маску и подхожу к столу. Смотрю, как Валерий Кемалыч шьет кожу, а Антонина вяжет. Ме-едленно так вяжет, как во сне. Валера ждет ее с иглодержателем в руке. И Петр Васильевич стоит рядом, словно Будда, сложив толстые руки в перчатках на стерильном животе, как на специально для этого приспособленной горке. — Надо потренироваться дома в вязании, Антонина Владимировна, — без выражения говорит он, наверное, в его первый раз. — Я тренируюсь… — мямлит Антонина. — Там острый аппендицит прибыл. Надо оперировать. Может, мне не мыться? — включаюсь я в этот минорный разговор. — Аппендицит? — оживляется Кемалыч. — Это хлеб Валерия Кемалыча, — подтверждает Петр. — Мы его сейчас отпустим… А ты всех посмотрел? — Всех, — отвечаю я, а про себя добавляю: на часы бы взглянули — уже около двух! — и иду из операционной. Равновесие… Один быстр, другой медлителен, все толкутся целый день на двух операциях. Раньше мы распределялись: я с Валерой, а Муся с Антониной («тебе все равно скоро уезжать…»). Теперь со всеми буду я. Эх, Муська, милая моя! Где вы там сейчас мчитесь с Ваней? Все еще через казахстанские просторы небось? Стоите у окна в коридоре и думаете о нас. И Ваня расстроенно дергает носом… Все! Не увижу я больше его настороженных серьезных глаз в дверях операционной, когда мы работаем. Он всегда готов был помочь нам… Мне становится страшно тоскливо. Это просто счастье, что я сегодня дежурю. А завтра буду отсыпаться. Первые дни разлуки — самые трудные. В предоперационной заканчиваю оформление истории болезни девушки из геологоразведки. Потом спускаюсь в ординаторскую и усаживаюсь за писанину. С утра и до начала первого я делал обход и перевязки всем больным, кроме Колиных, — часа три. А теперь писанины часа на два. Раскладочка… Проклятая писанина! Разговоры о ней в зубах навязли. Но от этого ее не становится меньше. Тень прокурора витает над врачебными столами. Но весь анекдот в том, что большинство записей в наших историях и прокурору ни к чему. Даже если они ему и понадобятся. Они никому не нужны. Никомушеньки! Тонны макулатуры. Громадная корова, лениво жующая государственные деньги. Я всегда злюсь от бессмысленной работы. Но эти необременительные и привычные мысли ползут в моем сознании, не мешая руке бойко строчить привычное и одинаковое в двух дневниках из трех. У Николая — два дня, страница исписана. Месяц больной пролежал — готов том. И при этом никто (с полной ответственностью — решительно никто!) в этом томе ничего не поймет. Его можно толковать, как Библию, но не понять. Ну, на кой черт он прокурору? Я представляю себе, как строгий мужчина в золотых очках — прокурор — с недоумением, но очень внимательно рассматривает страницу за страницей толстый фолиант, испещренный живописными каракулями и кляксами. Человек в золотых очках потеет, пересиживает рабочее время, но… толку ни на грош. Ах ты чертов Кол, задашь ты им всем когда-нибудь работенку! Откинувшись на спинку стула, я начинаю смеяться. И тут входит Николай. Он оглядывает мой стол, ординаторскую, и ничего не может понять. Но на всякий случай улыбается. Компанейский он парень. — Ты что, тю-тю? — Он вертит пальцем у виска. — Я просто представил себе, как мучается прокурор над твоими историями. — Какими историями? — Да любой! — При чем здесь прокурор? — Так ты же для него пишешь истории болезни… — А-а… — И Николай тоже начинает хохотать. Он вполне самокритичен. А ведь там, у постели больного, у операционного стола, он неизменно внимателен, скрупулезно педантичен. Он словно вмиг перерождается, когда начинает заниматься настоящим делом. И громадные руки становятся такими осторожными, бережливыми, твердыми. Руки умельца. Хорошего мастера. Настоящие хирургические руки. И книжку свою «Урология» Николай дочитал, съездил на специализацию, и теперь — уролог, пожалуй лучший в области. Петр Васильевич появляется в самый разгар веселья, но чуть насмешливое лицо его остается невозмутимым. Он садится на диван с неизменной своей папиросой в углу рта, кладет, как обычно, на расставленные колени руки и замирает, уставившись на нас. Николай еще булькает, словно вскипевшая вода, под которой только что убрали огонь, а я серьезно говорю Петру Васильевичу: — Почему до того, как что-то случается, врачу доверяют множество человеческих жизней, а после того, как это что-то уже случилось, ему не доверяют даже просто по-человечески? Он молчит, обволакиваясь папиросным дымом. На лбу капли пота, халат влажен на плечах. Петр всегда после операции принимает душ. — Не значит ли это, что люди ему в принципе не совсем доверяют? Петр Васильевич, серьезно, меня это волнует. — А почему врачу должны верить безоговорочно? — бурчит он. — А потому что нет другого выхода. Или — или. Это специфика профессии. Потому что существует только «до», а «после» — это уже поздно. — Пожалуй, — соглашается он. — Но то, что ты называешь «после», — это общественная мораль. Без этого нет общества. — Общество держится на человеческой порядочности, — убежденно говорю я. Петр Васильевич вскидывает брови, они замирают косо, углом к середине лба, и его круглое лицо становится похожим на маску паяца. — И все? Очень мило. Давай сыграем в «локотки», и я пойду домой. Устал что-то… — Он не настроен сегодня на дискуссию. Он редко бывает на это настроен. А жаль. Я часто провоцирую его, но очень редко достигаю цели. Зато уж, если удастся, успевай только шевелить мозгами! Он усаживается у угла стола и ставит на него локоть правой руки. Широкий локоть массивной, круглой, волосатой руки. Ладонь у него чуть влажная, толстая и мягкая. Петр любит это единоборство. Кто кого? Минута напряжения, концентрация силы и воли, и чья-то рука побеждена. Он называет это «локотками» и любит, наверное, потому, что здесь, в борьбе с нами — молодыми ребятами, может ощутить свою силу, просто физически как-то утвердиться среди нас. Для него, одинокого человека, это, вероятно, очень важно. И мы безотказно играем в «локотки». Бывает, что он побеждает даже Николая. Я, правда, думаю, что наш добродушный верзила из чувства горячей любви к Петру просто поддается ему. Но я проигрываю по всем правилам. Моя костистая длиннопалая рука задавлена его подушкой. — Ты сегодня не в форме, — бросает Петр Васильевич. — Конечно. Старшие товарищи не дают ответа на сжигающие меня вопросы, и я нервничаю. В это время входит Антонина. — Ну что, записали? — говорит ей Петр Васильевич. — Да… Ее довольно миловидное приплюснутое лицо озаряет радостная улыбка. Какое счастье! Она переписала в операционный журнал две сегодняшние операции. За это время Петр успел принять душ и сыграть со мной в «локотки». Обычно мы записываем операцию в «четыре руки» — оперировавший в «историю», ассистент в журнал. Но Антонина не поспевает и занимается этим отдельно. Медленно, старательно, круглым красивым почерком прилежной семиклассницы. Бр-р… Вот кому-то жена достанется! — Ну, пойдемте, — говорит Петр Васильевич и поднимается. У нас так заведено: оперировавшие с дежурным и заведующим обходят в конце рабочего дня послеоперационных больных. Николай остается выводить незабываемые строки на больших листах историй болезни, а мы отправляемся наверх, в палаты. Я убегаю на минуту от Петра Васильевича и Антонины в операционную. Валерий Кемалыч уже начал аппендэктомию. Эти операции мы обычно делаем на пару с сестрой. Сестры у нас ассистируют не хуже иных врачей. Нина, мы сегодня с нею дежурим, смотрит на меня поверх маски большими серыми глазами и кивает: мол, все в порядке. Длинное смуглое лицо Кемалыча, наполовину закрытое, сосредоточенно и спокойно. Петра Васильевича и Антонину я догоняю уже в первой послеоперационной палате. Там женщина, которой сегодня удалили грудную железу. Рак. Молодая, полная, симпатичная женщина. Бледновата. Она смотрит на нас без улыбки, как-то отрешенно. Я отхожу к изголовью, а Петр Васильевич садится на стул рядом с кроватью и проверяет пульс. Я не могу смотреть на нее, смотрю на Петра. Мне нестерпимо жаль этих женщин, особенно молодых. Больно сознавать, какой ценой мы добываем для них жизнь. Черт с ними — с желудком, с почкой, с селезенкой, со щитовидной железой!.. Нет, тот не поймет, кто не видел этих женщин через год, три, пять лет после операции. Они веселы, счастливы, как и мы, хирурги, что они живут, любят, воспитывают детей. Но… — Ну что же, Симочка, пока все идет нормально, — мягко говорит Петр Васильевич. — А? — Спасибо вам, — тихо отвечает Сима. И все же главное — жизнь! Жизнь! Вот это голубое весеннее небо за окном.Петр Васильевич уходит из больницы в четыре, остальные — около пяти. — Так я вам позвоню часов в восемь, — говорит мне Валерий Кемалыч; он и Антонина обращаются ко мне на «вы» — для них я уже маститый хирург, правая рука Петра. — Попридержите… — Это он насчет своего «хлеба» — аппендицитов. Неуемен до операций. Совсем недавно и я был таким. Кто-то из старых умных хирургов говорил, что в первые пять лет работы молодой хирург смотрит, кого бы прооперировать, в последующие пять — как бы лучше прооперировать, а через десять лет — а нельзя ли тут не оперировать?.. Я прошел только первый этап, но начинаю, кажется, постигать мудрость третьего. Может быть, потому, что хирургов здесь не хватает и приходится много работать. В опустевшей ординаторской я снова с отвращением усаживаюсь за истории болезни. Пять часов. Тихо. С утра поступило всего человек десять. Ни одного тяжелого или сложного случая. Спокойное дежурство. В окно видны горы. Коричнево-зеленые, а дальние, которые в дымке, держат еще на своих вершинах серо-белые, как куски старого серебра, снежники. Из-за гор ползут на городок упругие, словно щеки Гаргантюа, отливающие синевой тучи. Ночью, наверное, будет дождь. Может быть, Лена зайдет? Прежде она заходила ко мне на дежурства. Как и я к ней. Просто так. Поболтаешь, если есть время. Когда-то мы все любили здесь ходить друг к другу на дежурства. Когда и поможешь чем. А если нет работы, вроде быстрее время летит. Каждый из нас знает, как тянется время на спокойном дежурстве. Правда, в последние годы я ходил редко, собачник съедал мои вечера вчистую. Да и другие ходили теперь тоже редко. И вообще в нашей жизни многое переменилось. Выветрился постепенно дух коммуны. Вероятно, потому, что маленький наш городок, где все знали друг друга, где новый человек быстро становился «своим», рос словно на дрожжах, и за пять лет на моих глазах превратился в довольно большой город. Я теперь даже в лицо не знаю всех городских врачей. На центральной площади, недавно обстроенной пятиэтажными домами, и прилегающих к ней улицах гуляют вечерами по-столичному одетые молодые люди, сидят на скамьях у ярких цветочных клумб, едят мороженое в почти шикарном местном «Севере» (кафе называется «Алтай»). От нашей «Птичьей горы» оставались до вчерашнего дня только Ваня с Мусей да я. Все разъехались: кто в область или в Алма-Ату на повышение, кто учиться на курсах или в аспирантуру, кто возвратился в родные пенаты. В первый год после отъезда Лоры переписка с нею велась бойко. Мы знали, что жизнь ее там похожа на первые наши годы здесь: небольшой бурно растущий городок, стройки, трудности, грандиозные планы, неунывающий молодой народец… Через два года мы поздравили ее с замужеством, потом с дочерью. Теперь обмениваемся поздравительными открытками и телеграммами. Всё никак не найдем возможности встретиться. И Таня вышла замуж за ревнивого своего Игоря, уехала фельдшером в район, где муж работает на шахте. А милые, ставшие мне близкими старики Кирилл Савельевич и Прокофьевна — умерли прошлой осенью; вначале он, а через три дня она. Почти как у Грина: всю жизнь они прожили дружно, в любви, и умерли в один день… Но самое горькое, может быть, то, что не дождался Кирилл Савельевич своей с Ганзиным книги. Она вышла через два месяца после его смерти. Прекрасная получилась книга! Может быть, она так волнует меня оттого, что я знаю людей, которые писали ее и даже были ее героями? Я отправил книгу Лоре и всем «птичьегорцам», которые не знали ни Ганзина, ни Кирилла Савельевича, и для всех она оказалась близкой. Книга о прошлом нашего городка, о прошлом навсегда теперь нашего, где бы мы ни оказались, края. От грустных мыслей тоска становится почти физически ощутимой, и я радуюсь резкому телефонному звонку, взорвавшему тишину ординаторской. — Дежурный хирург слушает. Нет, похоже, что спокойное дежурство не состоится. — Хорошо, мы будем готовы. Иду в приемный покой: — Готовьтесь, Ксения Петровна, на шахте несчастный случай. Звонила фельдшер из здравпункта. — Все готово, Владимир Михайлович. А что нужно? Я смеюсь: — «Все готово, а что нужно?..» — Ну, а как же! Солдат всегда готов! — Тогда собирайте все подразделение. Позвоните Нине. Пусть тут посидит. — А что там, не сказали? — Как будто открытый перелом бедра и шок. — Фью-ить! — свистнула Ксюша. — Я — в ординаторской. Пострадавшего уже подняли на поверхность. Так что минут через двадцать он будет здесь. Вот так часто бывает на дежурствах: оттягиваешь, оттягиваешь писанину — впереди вроде бы много времени, а потом корпишь над нею всю ночь. Я сажусь за стол и поспешно начинаю записывать дневники. Что же там за перелом? И велик ли шок? Пишу и прислушиваюсь к шумам за окном. Вот вроде сюда идет машина. Нет, это грузовик. И эта мимо. А вот эта перегазовывает у наших ворот. Точно. Въехала во двор. У парня двадцати шести лет со странной фамилией Хруст действительно открытый перелом. Большой перелом и здорово открытый. Когда его доставили в приемный покой, брезентовая штанина, и брючина, и трусы справа были разорваны. Я осторожно разрезал окровавленный бинт и увидел кусок кости в ране на передней поверхности бедра. Еще в шахте, часа полтора назад, ему сделали морфий и наложили металлическую шину. Артериальное давление было низковатым, пульс частил. Фельдшер права — был здесь и небольшой шок. Я велел на тех же носилках, на которых его доставили к нам, чтобы лишний раз не перекладывать, отнести Хруста на операционный стол. И вызвать рентген-техника. — Мыться? — спросила Нина тихо. — Что будем делать? — Подожди, — так же тихо ответил я. — Сам еще не знаю. В приемном было полно народу: и поднимавшие, вероятно, Хруста из шахты рабочие из таких же, как и он, брезентовых робах, и шофер комбинатовской скорой, и фельдшер. Потом, почти сразу же за тем, как внесли носилки, появились еще какие-то люди, наверное из управления. Я не разглядел их. — Налаживай-ка сразу капельницу. Кровь и противошоковый коктейль. Нина немедленно исчезла. Я отказался говорить с кем бы то ни было и пошел вслед за носилками. Помог переложить раздетого Хруста на операционный стол. Не люблю при необработанных переломах доверять перекладывание больных даже самым опытным сестрам. Очень это деликатная и опасная процедура. Сломанную конечность должны держать руки, которые понимают что к чему. Еще раз осмотрел рану. Большого кровотечения не было, свежая повязка, наложенная в приемном покое, только слегка промокла. Нога удобно лежит на шине. А вот лицо Хруста бледновато. — Не очень больно? — спросил я. — Не-ет, — он усмехнулся растерянно. — Только жутко как-то. — Ставить? — Нина со штативом и капельницей подошла к его откинутой на подставку руке. — Да, да… Жутко, говоришь? — Ага. — Нас, что ли, испугался, белых привидений? Он заулыбался: — Да нет… Черт его знает… — Небось черт и попутал? Как это произошло? — Верно, черт, — согласился Хруст. — Сам виноват. — И рассказал о случившемся. — Значит, ты упал на породу, и в этот момент сверху тебя еще ударило балкой? — уточнил я. Это совсем немаловажно — уяснить механизм травмы. — Да, наверное так… — Как же могла упасть балка? — А наверное, кто-то из ребят хотел задержать меня, толкнул кучу, они и покатились… — Кучу? — удивился я. За пять лет работы здесь я знал, что за такое полагается — за «кучу» крепежных балок в выработке! Хруст смутился: — Вы это только нигде не пишите… Это мы для скорости крепежа запасаем. Так всегда делают… — Эх, братец Хруст! Что там «не пишите»! Не было бы этой балки, может, и перелома бы не было, — вздохнул я. — Уж не такой бы был, это точно. — Оперировать будете? — Да. Но немного позже. Решение уже пришло. Всегда так: вначале, когда увидишь окровавленного, страдающего человека, немного теряешься. Нужно дать себе несколько спокойных минут, иногда достаточно одной-двух. Собраться, как в игре в «локотки», и постараться представить себе четко, что сейчас самое главное. — Немного позже, — повторил я. Он кивнул, но я видел в его глазах вопрос. — Сейчас сделаем снимок и подкрепим тебя, — пояснил я. — Вон ты какой бледный. Наверное, не всегда такой? — Бледный, да? — он улыбнулся. — Нет, я краснощекий! Он мне нравился все больше, этот рыжеватый, спокойный парень. — Ну, ладно, краснощекий. Сейчас главное, чтобы ты снова им стал. И старайся лежать спокойно. А то ведь стол наш, небось, уже полки, с которой ты свалился? И мы оба рассмеялись. Перелом был поперечный. Как у палки, которую одним сильным движением, ломаешь на колене. Небольшой узкий обломок кости, тот, что виднелся в ране, торчал на снимке впереди, словно щепка. Хрусту ввели в вену «коктейль» и стали переливать кровь. Давление поднялось, пульс стал лучше, постепенно стал появляться обещанный хрустовский румянец. Я спустился в ординаторскую, чтобы выкурить сигарету, и нос к носу столкнулся с Мурзабеком Каримовым. Он теперь в комбинате инженер по технике безопасности. Да, верно, среди приехавших вслед за скорой был, кажется, и он. Тогда я просто отключился от всего окружающего и не среагировал на него. — Здравствуйте, — официально сказал Мурзабек и наклонил свою большую голову с прекрасной черной шевелюрой, обильно смоченной духами. (От него всегда пахло, как от только что откупоренного флакона.) — Я хотел бы узнать у вас о состоянии товарища Хруста. — Говорил он, как всегда, быстро и напористо, и мне всякий раз казалось, что ему с трудом удается захлопнуть клапан где-то там, в глубине рта. — Прошу, — так же официально сказал я, открывая дверь в ординаторскую и пропуская его вперед. В последние годы встречались мы очень редко. В общественных местах иногда даже здоровались. «Любвеобильный Мурзабек» не мог простить мне непочтения к своему творчеству. А может быть, считал меня виновником своего поражения у Лоры. — Состояние товарища Хруста очень тяжелое? — спросил Мурзабек, входя в ординаторскую. — Сейчас уже не очень. — Опасности для жизни нет? — Нет. — Вы не могли бы нам выдать справку?.. — напирал Мурзабек. — Вы же знаете, что дежурный врач справок не выдает, — придерживаясь принятого официального тона, ответил я. По поводу каждого несчастного случая в шахте они отчитываются перед министерством, а об особо тяжелых должны немедленно телеграфировать. — Значит, опасности для жизни нет? — переспросил Мурзабек, поняв, что справки от меня не получить. — Думаю, что нет. — Значит, это не тяжелое телесное повреждение? Наивный болван! Что он, запутать меня хочет? — Нет, Мурзабек, тяжелое. Очень тяжелое. И представляло опасность для жизни. У тебя все? — Да… Минутку. Будет операция? — Да, будет. — Неопасная? — Об операции этого никогда не скажешь наверняка. — Ага… Вы будете оперировать? — Я. До свидания. «Любвеобильный Мурзабек» ушел, а я сел на диван, чтобы докурить свою сигарету. И тут позвонила Лена. Знакомый, чуть хрипловатый голос, ровный и обыденный. — Я тебе звонила дважды, но никто не отвечал. Кого-нибудь привезли? — Да, тяжелого малого, из шахты, с переломом бедра. — У тебя нет времени? — Есть немного, — улыбаюсь я. — Очень тяжелый? (Стоит, наверно, в коридоре, прислонившись к стене и заложив одну ногу за другую. Я знаю эту ее позу.) — Сейчас уже ничего. Выведу его, как следует, и буду оперировать. — Остеосинтез? — Точно. В ординаторскую заглядывает Ксюша. — Владимир Михайлович, звонит Валерий Кемалович. — А что, уже восемь? — Смотрю на часы: начало девятого. — Что ты говоришь? — не понимает Лена. — Извини, Леночка, зовут, я должен идти. — Иди, иди… Ну, спокойной ночи! — К черту! — отвечаю я, как перед экзаменом, и вешаю трубку. — Сейчас, Ксюша, я с ним переговорю… Не нужно будет вызывать машину со станции скорой помощи. Я прошу Кемалыча прийти в больницу и захватить по дороге Антонину, на наркоз. Потом отправляюсь в операционную — проведать Хруста и подобрать гвоздь, который буду проводить через его бедренную кость. Это вторая такая операция после моего возвращения со специализации. Дело нехитрое, но требует тщательности. Полый металлический гвоздь, вбиваемый из места перелома, проводится по костномозговому каналу вверх, а потом из разреза кожи у тазобедренного сустава часть его вбивается назад, в нижний отломок бедра почти до самого колена. И бедренная кость, насаженная таким образом на металлический стержень, восстановлена на всем протяжении. Концы перелома совершенно точно совпадают друг с другом, тут уж невозможны разные «галифе» и укорочения ноги. А потом, примерно через год, гвоздь выдергивается за конец, торчащий под кожей у тазобедренного сустава. Через десять дней после операции такой крепкий парень, как Хруст, будет уже ходить вовсю с костыльком. А через пару месяцев — трудоспособен. Это не то что пролежать на вытяжении или в гипсе от пальцев до пупка полтора месяца! Но гвоздь должен быть подобран точно, и по длине, и по толщине. Тут уж семь раз отмерь. Хруст лежал на операционном столе и смотрел в бестеневую лампу, новую нашу отличную лампу, в которую можно было смотреться, как в зеркало в комнате смеха. Но он не смеялся. Скучал. Докапывала ампула крови. Лицо Хруста было уже даже не розовое, а просто красное. Наверное, поднялась температура, как часто бывает после массивной травмы. Тянуть больше не стоило. Я поглядел на часы. В десять начнем, значит, примерно через пять часов после случившегося. Можно бы и пораньше, но я не хотел торопиться — все же тут был небольшой шок. — Ну, что, доктор, скоро? — со вздохом спросил Хруст. Славно он ждал не операции, а поезда. — Устал? — Надоело лежать. И жарко. — Сейчас начнем. Не боишься? — А чего бояться? — Он улыбнулся. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать. — Сказывалось, конечно, и действие наркотиков. До прихода Кемалыча и Антонины я успел заполнить историю болезни Хруста, а потом пошел мыться. Нина, приготовив все для операции и наркоза, уже в стерильном халате, стояла в дверях операционной, сложив перед собой маленькие руки в перчатках, и смотрела, как я бултыхаюсь в растворе нашатыря. — Поужинали вы хоть? — подозрительно прищуривая глазки, спросила она. — Нет, наверное. Нина кокетничает со мной с первых дней, как я здесьпоявился. Уже пять лет. За это время она здорово сдала — на лбу появились морщинки, в черных волосах — проседь. Только светлые глаза все еще юны. Да, нелегкая это для женщины работа — операционная сестра. — Поужинал, Ниночка. Пришли Кемалыч и Антонина. — Начинайте наркоз, Антонина Владимировна. Мойся, Валера. Наркоз и операция прошли нормально. — Вроде все так и было, — с удовлетворением сказал я, смазывая йодом зашитую рану на бедре. Это очень приятное чувство — ощущение удачно завершенного дела. Очень приятное. Часы в операционной показывали полночь, но я не чувствовал усталости. — Владимир Михайлович, — тихо за моей спиной сказала Матильда Ивановна, санитарка операционного блока. Она всегда говорит тихо. И очень учтиво. И мягко. Славная такая пожилая немка. Она говорит: «Михайлёвич». — Ну что, Матильда Ивановна? Из приемного? — Да. Осьтрий аппендицит. Уже польчаса. — Вот и отлично. Не будем размываться. Передайте, что скоро придет Антонина Владимировна… Хруст уже, кажется, просыпается? — Да-а… — протянула Антонина. И все же наркоз она дает хорошо. Правда, если все идет хорошо. А если бы нет? Ох, с нею всегда чувствуешь себя, как на острие ножа. Но не тащить же было ночью Николая! Он все же завтра дежурит. — Сходите, пожалуйста, в приемный. — Хорошо… Хруст, просыпаясь, улыбался, морщился, бормотал что-то. Я отметил у него небольшую одышку. После наркоза, наверное. — Работенка-то прямо слесарная, — сказал Кемалыч, когда мы сбрасывали с себя, не снимая перчаток, окровавленные халаты. Он впервые видел такую операцию. — Только, в отличие от слесарной, главное тут, не сама работа, — усмехнулся я. — Так что нам бы должны платить самое малое вдвое. Вернулась Антонина и сообщила, что у больной в приемном «настоящий аппендицит, наверное даже гнойный». — Вы сказали, чтобы ее подавали в операционную? — Не-ет. — А ей самой сказали, что нужно оперироваться? — Не-ет… — Так пойдите, пожалуйста, и скажите. И успокойте. И распорядитесь… — Боже! Сил никаких нет с этой растяпой! «Не-ет…» Блеет, как овца. Не снимая перчаток, чтобы не расстерилизовывать руки, садимся записывать с Кемалычем операцию. Пока подают больную с острым аппендицитом. Потом меняем халаты и перчатки — и готовы на второй заход. Появляется Антонина. — Сейчас подадут… — Глаза ввалились, личико бледное. Горе-хирург… Прошу Матильду Ивановну вызвать машину для Антонины Владимировны. Пусть едет домой. Для быстроты будем оперировать вдвоем с Кемалычем. Часы в операционной показывают начало второго. Как на грех, женщина, которую мы оперируем, толстая и боязливая. Все время напрягается, дуется. Кишки лезут в рану, мешают сориентироваться. Кемалыч никак не может найти червеобразный отросток. Время идет, женщина начинает стонать, вскрикивать. Отвратительное дело оперировать «под крикаином». Терпеть не могу, когда в операционной раздаются крики. У меня все как-то застывает внутри, напрягается каждый нервик. — Спокойней, — тихо говорю я Кемалычу. — Давай добавим еще новокаина. — Я уже много дал, — расстроенно отвечает он. Не злится. Это очень хорошо. Некоторые злятся, когда больной мешает работать. А Кемалыч словно чувствует себя виноватым. Славный парень. Я иногда тоже стал злиться в последнее время. А он — нет, молодец… — О-ой!.. Ой-ой!.. — все громче. На лбу у Кемалыча крупные градины пота. Да и я не сух. — Перейдете?.. — полувопросительно говорит он. Мы молча меняемся местами, и операцию продолжаю я. В половине третьего выходим из операционной. Того подъема, который я испытывал после операции Хруста, нет и в помине. Давит тяжелая усталость. Голова словно из кирпича. Заходим к Хрусту. Он спит. Дышит тяжеловато. — Высокая температура, — тихо говорит мне постовая сестра. — Сколько? — Около сорока. — Пенициллин, сердечные делаете? — Да. Пульс частит, но упругий, полный. Давление хорошее. Даже выше нормы. В общем — ничего особенного. Заглядываем в женскую послеоперационную палату. Только что прооперированную уже привезли. Возвышается горой на кровати. — Ну, как? — Ничего. Сейчас полегче, — шепотом говорит она, чтобы не разбудить остальных в палате. — Ну, молодец. Немного было больно. Бывает иногда… — Да-а… Спасибо, доктор. За что спасибо? За боль? Или за доброе слово? Вот две величины — боль и доброе слово. И слово побеждает. Какие все же замечательные существа — люди! Сима, которой сегодня днем удалили грудную железу, не спит. — Почему не спите? — Укол сейчас делали… — А-а… Что-нибудь беспокоит? — Не очень… Только бы все это было не напрасно! — Ну что вы! Выбросьте это из головы! У вас все вовремя! Малозначительные слова, но они необходимы. Я убежден, что они необходимы. Кемалыч отправляется спать в кабинет шефа. Ехать домой ему не имеет смысла. Уже четвертый час. Я спускаюсь в ординаторскую, снимаю халат и колпак, выключаю свет, ложусь на диван поверх постели. И моментально проваливаюсь…
Разбудила меня постовая сестра сверху. — Что? За окном уже было светло. — Скорее, Владимир Михайлович! С Хрустом очень плохо… — А что? — Не знаю… Вдруг… Я схватил халат и бросился к двери, не дослушав ее. Когда я вбежал в палату, Хруст был уже мертв.
3
Он лежал на оцинкованном прозекторском столе, восковой, желтый, с неплотно прикрытым левым глазом, словно подсматривая за нами, и мне казалось, что я сплю, что все это во сне. И вся прошедшая половина дня промелькнула, как во сне. Может быть, оттого, что мое пробуждение было еще неполным, когда я увидел смерть. Я чувствовал себя совершенно разбитым и очень хотел спать.Вернувшись тогда из палаты в ординаторскую, я сел в угол дивана и просидел до самой пятиминутки — не меньше двух часов — в невероятной мешанине мыслей и воспоминаний, более густой, чем дым от сигарет, которых я выкурил полпачки. Мне представлялось лицо Хруста, его улыбка: «Двум смертям не бывать, одной не миновать…» Обычно больные словно предчувствуют. Волнуются, нервничают. Я замечал… Потом я снова и снова анализировал все, что делалось ему с момента поступления. Все вроде бы правильно. Но главное не это. Вернее, главное — понять причину смерти, тогда станет совсем ясно, где мы ошиблись и ошибались ли. Почему «мы»? Я. Только я. Без меня никто ему ничего не делал. Я ответствен за все. Первая мысль была об эмболии — скоропостижная смерть! Чем больше я думал, тем больше укреплялся в этом предположении. Конечно! И повышение температуры и одышка были симптомами жировой эмболии. Я вспоминал читанное совсем недавно, осенью прошлого года, на специализации в Москве. Все совпадало. И сроки подходят: смерть через двенадцать часов после травмы. Но там была смерть на тонких белых страницах четкими буковками. Совсем не страшная, обыденная. А тут — Хруст. «Скоро, доктор?.. Надоело лежать… Я краснощекий!..» И еще: «Работенка-то слесарная!» «Главное, не сама работа…» Нет, нет, совсем не работа! Я был очень доволен операцией, я вспоминал удовлетворение, охватившее меня после ее завершения, подъем… А теперь эти громадные, во весь глаз, застывшие зрачки. Чего же я не учел? Что не сделал? Или сделал лишнее?.. Нет, фактор операции в возникновении смертельной жировой эмболии незначителен. Так пишут, об этом говорили нам профессора. Причина — травма. Падение, балка, перелом, кусок кости, вспоровшей бедро. И все же, может быть, я тоже хоть чуть, да подтолкнул? Может быть, может быть… «Незначителен», — значит, все же существует этот фактор?! Какая ерунда! Мало ли что существует, чего мы вообще еще не знаем. «Не больно. Жутко что-то…» Вот! Было, значит, все же жутко… Петр Васильевич и ребята почти не расспрашивали меня. Вероятно, у меня был слишком угрюмый вид. Потом Петр сказал мне: — Иди к старшей сестре, запрись там и как следует напиши эпикриз. Звонили из управления комбината. Торопят с вскрытием. Потом меня вызвали к Петру Васильевичу в кабинет. Там сидели Мурзабек Каримов и еще какой-то тщедушненький тип, сутулый, почти горбатый. Мне его представили как инженера с рудника, на котором работал Хруст. — Мы будем на вас подавать заявление прокурору, — зло сказал Мурзабек. Я так вымотался за последние часы, что на меня это заявление почти не произвело впечатления. Я только зачем-то пожал плечами. — Вероятно, это бессмысленно, — сказал Петр Васильевич. — Смерть наступила не от операции, а от травмы. — Но перед операцией доктор заверил меня, что опасности для жизни уже нет. Было так? — Да. Я так думал. — Как же так? — напирал Мурзабек. — Больной уже в безопасности, потом его оперируют, он умирает через каких-нибудь пять часов после операции, и оказывается, что причина — не в операции? Нелогично… Всем понятно, чего он так распинается. Травма, как травма. За это его поругают, объявят выговор. А смерть — от доктора. Он-то и пусть идет под суд… Но разве в этом сейчас дело? А в чем же дело, идиот?.. — Логика жизни иной раз значительно сложнее наших построений, — слышу я глухой, недовольный голос Петра Васильевича. — К сожалению. — Какие построения? Молодой хирург делает поспешно операцию, от которой больной погибает. Но больной этот — наш шахтер! И мы не останемся в стороне!.. Меня словно выдергивают из сна. — Послушай, — прерываю я его, едва сдерживаясь, — ты мне надоел. Вот тут вас двое защитников одного шахтера, а там… Ты лучше полезай-ка в шахту и погляди, чтобы ребята не наваливали балки кучей. Понял? Объясни им. И еще объясни, и еще раз… Иначе завтра все может повториться!.. Наступает неловкая пауза. — Какие балки? При чем тут балки? Что это за тон? Тщедушный впервые поднял лицо от своих рук и посмотрел на меня, словно прикидывая, что я знаю. — Не обращайте внимания, — мягко и вкрадчиво сказал Петр Васильевич. — Доктор очень устал. Я видел, что он удивлен и доволен. А Мурзабек стал покрываться красными пятнами. — Я пойду, Петр Васильевич. Надеюсь, меня еще вызовут к прокурору. Не сунут ведь так сразу за решетку. Вот у него и поговорим… — И вышел. А потом я в одиночестве сидел в ординаторской — жизнь неслась на отделении своим ходом, — курил и ждал звонка из прозекторской, погружаясь периодически в густой, как белый туман, полусон.
И вот я стою у оцинкованного стола и смотрю на знакомое, удивительно не изменившееся, только пожелтевшее лицо, на аккуратный и такой незначительный сейчас шов на бедре, который совсем недавно я с чувством полного удовлетворения смазывал йодом. Вскрытие окончено. — Ничего, как и следовало ожидать, — подводит итог патологоанатом. — При жировой эмболии все покажет исследование препаратов. Я, конечно, и сам посмотрю, но считаю нужным в складывающейся ситуации… отправить кусочки всех органов в областную судебно-медицинскую экспертизу. Петр Васильевич соглашается. Наш патологоанатом (по совместительству он и судебно-медицинский эксперт) славный дядька. Нередко врачи этой специальности несут в себе задатки непогрешимых оракулов. Это вырабатывается у них, наверное, спецификой работы. Человек, ставящий диагноз по трупу и по данным его исследования, редко ошибается. По крайней мере, опровергнуть его некому. И уж, конечно, этот человек ничем не рискует. Очень соблазнительное и опасное положение. Положение высшего судьи. Однако наш патологоанатом совсем не такой. По бетонированной дорожке идем к хирургическому корпусу. Накрапывает дождь. Шуршит и качается молодая трава у дорожки, дрожат тонкие нежно-зеленые листки на деревьях. — Иди-ка домой, говорит Петр Васильевич. — Ты на ходу спишь. — Это только так кажется. — Что?.. — Кажется, говорю. — А-а… И не думай. Твоей вины нет. Я захожу все же в отделение. Во-первых, за сигаретами, которые оставил на столе, а во-вторых, мне вдруг очень хочется глотнуть неразведенного спирта, чтобы прекратилась эта спячка или, наоборот, чтобы сразу свалиться и мертвецки заснуть. Я поднимаюсь в операционную со стаканом и говорю сменившей Нину сестре, совсем еще молоденькой, беленькой и пухленькой, как взбитый крем: — Налей-ка немного из государственного фонда для обмороженных. — Откуда? — растерянно переспрашивает кремовая сестра, и глаза у нее округляются. Она в операционной всего месяца три. — Вон из той банки. Она колеблется, но все же не решается отказать. Когда я выхожу из отделения, дождь лупит вовсю. Теплый, очень теплый. Трава и листочки блаженно подставляют ему свои обнаженные тела. И я подставляю лицо. Спирт остервенело бросается внутри во все стороны. Я вспоминаю, что сутки ничего не ел. Соврал я Нине — не ужинал, не успел. А ведь спирт — он такой, ему только этого и нужно… И неожиданно мне в голову приходит, что если бы не эта дурацкая случайность, если бы Хруст не поскользнулся, если бы не покатились балки, он шел бы сейчас, выспавшись после ночной смены, и подставлял бы свое румяное лицо теплому дождю, как я, как эти травы и деревья. Есть ли у него здесь родственники, жена? Что-то никого я не видел. Возможно, Петр Васильевич беседовал с ними? Или никого здесь у Хруста не было, жил в общежитии? А может быть, сирота? Хорошо бы… А что хорошего? Значит, умер человек, так и не начав еще толком жить. А о жене я у него все же не спросил. И о наследственности тоже. Попадет история к прокурору, а там не анамнез, а, как говорит мой сосед Паша, «голимое стыдовище». Паша очень любит это местное слово «голимое» — голое, одно-единственное. О своей поездке в Крым он, например, говорит так: «А что там хорошего? Голимое море…» Спирт здорово меня взбодрил. Сон как рукой сняло. Времени — начало четвертого. Иду в собачник. Давно я там не был. Четыре дня. За последние полтора года такого не случалось. После же разговора с московским профессором, видным специалистам по сердечно-сосудистым заболеваниям, после его немного недоверчивого взгляда и слов: «Это очень перспективное дело, попробуйте…» — я вообще осатанел. Так меня все это увлекло. И идеи, и их практическое осуществление. За последние полтора года, с вычетом трех с половиной месяцев на специализацию в Москве и заезд к своим старикам в Питер, не бывало такого, чтобы я больше двух-трех дней кряду не появлялся в собачнике. Если не оперировал сам, то ассистировал кому-нибудь или просто читал в одной из подвальных комнатушек, где оборудовал себе нечто вроде кабинета: стол, стул, старый стеллаж из архива. Туда же я стащил все свои медицинские книги и журналы. Там же написал свою первую и пока единственную статью. Там мне работается лучше, чем дома, в неуютной моей комнате. Мне нравится вслушиваться в звуки собачника: лай, стук больших лап по асфальту, звон карабинов. В одно и то же время вечером слышится ласковый голос «синитарочки Нади», приходящей кормить собак. Мы из своего кармана платим ей за кто десять рублей в месяц. Можно бы и больше, потому что Надя не только исправно два раза в день в любую погоду кормит собак больничными остатками, но и выгуливает, ласкает, балует сахаром. Надо сказать, что собаки, лучше людей чувствующие истинно доброе отношение, любили ее больше всех. Особенно они любили, когда Надя по одной — по две уводила их далеко за ограду в горы. Это для наших собак — в недалеком прошлом свободных бродяг — было, наверное, самой большой радостью в их нелегкой жизни. Я ходил между будок, поставленных в самом углу больничного двора, за поликлиникой, подальше от лечебных корпусов. Собаки приветливо махали мне хвостами, иные боязливо поджимали их, другие угрожающе рычали, а сверху лило уже, как из ведра, сплошным потоком. Я отвязал Полкана и пошел с ним к собачнику. Он покорно топал рядом, изредка взглядывая на меня, словно спрашивая: «Опять?» Я наклонился и погладил его. — Нет, нет, все. Просто посидим. Припас для тебя несколько конфет… Милый мой страдалец Полкан! Первой операцией я ухудшил ему кровоснабжение сердца. Он стал скучным, малоподвижным, испуганным. Совсем как тяжело больной человек. Потом я его снова оперировал, полгода назад, чтобы улучшить это самое кровоснабжение. И он повеселел, добродушный большой пес, среди дальних предков которого были, вероятно, и восточноевропейские и среднеазиатские овчарки. Он молод, а морда поседела за этот год. И в этом повинен, конечно, я. Ну ничего, он мне простил уже свои страдания, необходимые нам, людям. Что же сделаешь, если мы — венец природы? Таков наш путь самозащиты. Мы с ним ныряем под навес у лестницы в подвал. Я сажусь на ступеньку, а Полкан устраивается у моих ног и заглядывает в лицо. Морда у него крупная, как у среднеазиатской овчарки, а уши сторожко торчат, как у немецкой. И слепка двигаются брови над мягкими карими глазами. Ждет. Я достаю конфеты, разворачиваю одну и бросаю ему. Он весело и резко хватает, но не глотает сразу, как другие собаки, а жует или переваливает ее во рту. Жмурится. Наслаждается. — Славный ты парень, — говорю я и даю ему вторую конфету. Полкана нужно было усыпить месяц назад, по плану опыта. Но я не сделал этого и не сделаю никогда. Практически опыт сорван. Если я не дождусь, понятно, естественной смерти пса. Так сказать, отдаленные результаты, наблюдение через десять лет после операции. Мне вообще трудно усыплять собак, выживших после операций. Подкоркой, инстинктами я ощущаю, что это не по правилам игры. Наука требует жертв, а я не всегда могу их приносить. Такой человек, конечно, не способен на большие свершения. Но я и не претендую на них. Слава богу, что я это осознаю, и, скрепя сердце, могу убедить себя в этом. Для больших свершений нужна, наверное, жесткость. Есть такое отличное, емкое понятие в физике. Жесткость. По-моему, все великие в разных областях человеческой деятельности должны были обладать этим качествам. И уж во всяком случае — все стремящиеся стать великими… — Ну, вот, последняя конфета. На… Полкан с удовольствием съедает и последнюю, а потом забавно наклоняет голову набок, только не говорит: «Неужели все?» — Нету больше. — Я показываю ему пустые руки, как ребенку. Он склоняет голову на другой бок, потом заглядывает мне в глаза, потом его отвлекает что-то на дворе. — Отпущу-ка я тебя, Полкаша, — решаю я. — Почему это всякое сволочье будет гулять на свободе, а мы с тобой должны страдать: я в тюрьме, а ты на цепи?.. — Отстегиваю поводок, а ошейник с биркой оставляю. Чтобы не схватили его наши городские собаколовы. Но Полкан, вильнув хвостом, остается сидеть передо мной. Привык. Привязался. Сам уже привязался. Тоже очень похоже на человека… Я начинаю думать о сегодняшнем разговоре в кабинете Петра. Отвратительно, когда люди боятся ответственности. Это, по-моему, унизительней обычной трусости, проявленной в какой-нибудь сложной, опасной ситуации, скажем — в бою. Здесь трусость является вдруг, она часто неожиданна даже для самого труса. Потом он может бороться сам с собой и перебороть. Об этом немало написано. Но боящийся ответственности, уходящий от нее, намеренно уходящий — убежденный трус. Сволочь. Вся жизнь его соткана из мелких подлостей. И если он не совершил большой, пусть живущие с ним рядом считают, что им просто повезло. Мне не повезло. И возможно, Мурзабеку удастся подвести меня под суд… Все это ерунда! И не в этом дело… Дождь прекратился сразу, как оборвало. Полкан встал, словно приглашая меня идти. И я встал и пошел. А он трусил рядом, будто поводок не остался лежать на ступеньке. С гор прибежал ветер, стало сыро, зябко, и я почувствовал, что зверски хочу есть. И решил, что съем сейчас два обеда. Два вторых — это уж точно. Выйдя за ограду, я не обнаружил рядом с собой пса. Сначала подумал, что он убежал уже, но оглянувшись, увидел, что он стоит в воротах и смотрит мне вслед. Он, наверное, каждый день видит от своей будки, как уходят из больницы знакомые ему люди. Я шел и оглядывался. Полкан постоял еще немного, глядя мне вслед, и потрусил во двор, наверное к своей будке. Ему не нужна была эта мнимая свобода, где не было доброй Нади и других привычных ему людей. И где нужно было самому думать о своем пропитании. Он ведь был только пес…
В столовой-ресторане почти пусто. Обеденное время прошло, а время для вечернего застолья не подоспело. Рано, пяти еще нет. Обычно мы идем обедать (если идем) вместе, всем отделением, кроме Петра Васильевича. И не сюда, а в столовую при управлении геолого-разведочной партии. Здесь же я давно уже не был. Наверное, с тех пор, как перебрались из старой больницы в новую. Года два. Из трех официанток, обслуживающих обычно посетителей, две новые, незнакомые. Эллочка, видно, сегодня не работает. Сажусь в углу за свободный столик. Со своего места через окно вижу кусок одной из центральных улиц, по которой торопливо шагают прохожие. Снова пошел дождь. Густой и ровный, словно натянули между землей и небом суровые нитки. Официантки не торопятся. Исчезли все три и болтают где-нибудь. Я рассеянно верчу в руках вилку, и вдруг за мой столик кто-то садится. — Здравствуйте, доктор. Эллочка. Пшеничные волосы взбиты, прикрыты прозрачным платочком — писк моды. На Эллочке болонья, тоже, наверное, одна из дюжины на всю область. Шикарная женщина Эллочка. Не отстающая от столичной моды. — Привет, — говорю я. — Ты что, не можешь дня прожить без своего ресторана? — Может, и без ресторана не могу, — вызывающе улыбается она. И в глазах неизменный огонь желания. Большие такие серые глаза, даже холодные наверное, но излучают огонь. У кого крылышки — тому конец, вмиг обгорит. — Что-то вас давно видно не было. Выпивать перестали? — Это она намекает на то, что я к ней всегда заваливался, только выпив. Несколько лет назад мои крылышки тоже пообгорели… — Представь себе, Эллочка. — Лидочка… — Я знаю, что говорю. Эллочка! Она смеется, и на белой чистой левой щеке появляется ямочка. — Ну, что ты меня перекрестил? — Ничуть. Ты людоедка, Эллочка. Она продолжает смеяться, так как не знает, что ответить, и не понимает, почему людоедка — обязательно Эллочка. — Любовь моя, расшевели там своих подружек. Я помираю от голода. — А потом куда?.. — К тебе. Если не возражаешь. — Трезвый? — удивляется она и снова смеется. Она знает про свою ямочку. И постоянно помнит о ней. — Я уже старый и не меняю привычек. Приносят мне обед действительно молниеносно. Лидочки-Эллочки не видно, чешет, вероятно, языком в кулуарах своего ресторана. Но когда я расплачиваюсь, она появляется и, проходя мимо, бросает: — Я жду. Дождь прекратился, и кое-где выглядывают между туч кусочки синего неба. Эллочка болтает о чем-то, но я ее плохо слушаю. — Может быть, пойдем в кино? — спрашивает она у самого своего дома. Это что-то новенькое. Правда, я не видел ее несколько месяцев — срок вполне достаточный для перемен. — Нет, не пойдем, — говорю я. — Боишься свою косоглазенькую? — озорно улыбается Эллочка. Бог мой! Как все всем известно в этом городишке! Даже больше, чем все. Я усмехаюсь. — Нет, Эллочка, еще не боюсь. Просто не хочу. — Ну, тогда другое дело! — И снова смеется. Мы поднимаемся по лестнице в двухкомнатную Эллочкину квартиру, где она живет со старухой матерью и сынишкой лет пяти-шести. Поднимаемся, а я как-то судорожно думаю о Лене, обо всей этой невероятно дурацкой ситуации. Почему я здесь? Ну, какого черта? Здесь, а не там? Потому что здесь проще, здесь — все ясно?.. Если бы был Ваня! Сидел бы сейчас, конечно, у него, и все было бы нормально. И были бы мы с Леной просто друзья-приятели, как прежде… Я лежу и курю. За окном совсем темно. И в комнате темно. Только вспыхивает моя сигарета. Тихо бубнит радио. А кровать очень мягкая. И все мне вдруг начинает казаться здесь нереальным: и комната, и эта кровать, и Эллочка, лежащая рядом, и сам я. И неожиданно ко мне прорывается радио: «Дуэт… Аккомпанирует на клавесине…» На клавесине! Какой же нынче год? Я даже вздрагиваю. Сажусь на кровати. — Надо идти мне, Эллочка, — говорю я тихо, а во мне все орет: «Зачем ты здесь?! Что это за чушь?!» — Ты разве не останешься? — обиженно говорит Эллочка.
На моем столе — тарелка с пончиками. Пробую, колочу в стену, как всегда, кричу: — Вкусно-о! — по привычке, по инерции. Соседка появляется в дверях моей комнаты почти моментально. Даже пиджак не успел снять. — К тебе два раза приходила Леночка. Только недавно ушла. — Что-нибудь просила передать? — Нет. — Спасибо… А пончики у тебя нынче — сила! Свинья. Сволочь! Какая же я свинья и сволочь!..
4
Сразу после пятиминутки мы должны были с Валерием Кемалычем идти на операцию — резекцию желудка. Больной Кемалыча, но оператором записан я, а он — ассистентом. И операция-то должна быть несложная — полип желудка. — Я себя отвратительно чувствую, Петр Васильич… Был бы вам очень признателен… — И рассматриваю свои ногти. С самого утра меня мучила мысль: как отказаться? А в том, что мне необходимо отказаться, я был уверен. Меня передергивало, когда я думал о скальпеле, о ране. Была бы Муся — все просто. А теперь на все операции посложнее только мы с Петром Васильевичем и остались. Но Петр молчит, разглядывая меня. — Сегодня не могу… — бубню я. — Ладно, — коротко отвечает он и уходит в операционную. Холод слышался в его коротком «ладно», недовольство. И я прекрасно понимаю: это не оттого, что ему вместо меня надо оперировать. Ему и сейчас, в его десятой седмице, несложная резекция — семечки, минут на пятьдесят. Он был недоволен мной. А сам я разве был доволен? Работа есть работа, тут не место нервным институткам. Но я себя чувствовал неспособным даже на несколько секунд вдохновения. Ни на секунду! Я еще не представляю себе, как можно идти на большую операцию с совершенно пустой душой. Во мне, оказывается, нет еще того большого профессионализма, который позволяет оперировать в любом состоянии. Я понуро пошел на обход. Потом делал перевязки. Потом позвонил Лене на терапию. Ее разыскивали по отделению. В трубке раздавались приглушенные голоса, смех, шум шагов, и совсем близко — треск от чего-то положенного на стол, громкий шорох. — Да? — Лена? — Это ты?.. — Здравствуй, Леночка. Ну, как жизнь? — Ничего… Послушай, я дважды заходила вчера к тебе… А перед тем была у вас на отделении, но ты уже ушел… — Я знаю. Пауза. — У тебя очень паршивое настроение? — Порядком. Она тяжело вздохнула: — Володя, но ведь всякое бывает. Верно? И ты ведь не виноват. Совершенно… — Видишь ли, я думаю, что не только в этом дело… — Что? — Не только, говорю, в этой смерти дело. Тут много за три эти дня накрутилось. — Что накрутилось?.. Ну, ладно, это не телефонный разговор. Приходи вечером. Придешь? — Приду. — Обязательно! — Ладно! — И не очень смурнячь, как ты сам говоришь, слышишь? Вани нет, кто теперь будет тебя успокаивать? Чуть не сказал «ты», и не смог. А она ждала, наверное. — Ну, будь… До вечера, — сказал я. Этот телефонный разговор был необходим. Без него мои отношения с Леной вообще становились какими-то фантастически несуразными. Но решиться на него я не мог до часу дня. И это вечернее посещение показалось мне сейчас не очень легким долгом. Я сел за писанину. Отобрал кучу «историй», которые ждали очередного формального дневника, и не без удовольствия занялся бездумной механической работой. Нет худа без добра. Все же это работа, от которой никуда не уйдешь, — требуемая. И никакого напряжения. И все-таки не безделье. В ординаторской никого не было. Изредка только заходила Антонина, тихо, яко тать в нощи, боясь, кажется, даже посмотреть на меня. Так переживала за ближнего… Ни Кемалыч, ни Николай, ни Петр Васильевич не появлялись, несмотря на то что операция с полчаса как окончилась. У всех дел еще невпроворот. Я и помог-то им только тем, что перевязал нескольких больных… Бессмысленный, бесполезный день! Ползу через него, как мокрица… И опять, как вчера вечером, меня охватило острое чувство отвращения к себе. Я смотрел в окно на гладкую синеву неба, на котором застыли редкие декоративные облачка, такие аккуратненькие, словно только что от парикмахера. И даже вздрогнул от неожиданно раздавшегося за моей спиной голоса: — Собирайся! — Петр Васильевич стоял в дверях, папироса дымилась в углу рта. — Не понял. — Собирайся, говорю. Полетишь на дальний лесоучасток. — Он прошел к дивану и сел в своей любимой позе — словно обхватывая руками живот. Я молча смотрел на него, он — на меня. — Не мне же лететь… — На чем лететь? — Больше всего я хотел сейчас именно этого: улететь куда-нибудь, уехать, умчаться от всего и от самого себя! — На вертолете. — На каком вертолете? Петр Васильевич вытащил папиросу изо рта и с интересом посмотрел на меня: — У тебя прорезается женский характер. Не замечаешь? — Замечаю. — Полетишь на вертолете геолого-разведочной партии. Вероятно, МИ-1. Зазвонил телефон. — Владимир Михайлович? Сколько возьмете халатов? — Нинин голос. Смотри-ка, там уже полным ходом идет снаряжение! — Сколько халатов? — повторяю я и смотрю на Петра. Он показывает два, потом три, потом четыре пальца. — Четыре, — говорю я Нине. — Хорошо. — И вешает трубку. Об инструментах ни слова. Значит, знает, на что собирать. — Четыре? — говорю я Петру Васильевичу. — Тут и МИ-2 не хватит. — Возьми Антонину, — предлагает Петр, не отвечая на мой скрытый вопрос. — Это еще зачем? — Мало ли… Она хорошо наркоз дает. — Вот и пусть остается. Может понадобится. Если вы такой добрый, дайте Валерия Кемалыча. Петр Васильевич хмыкает. — Ожил, суслик… Ладно. — Так что там все-таки случилось? — спрашиваю я и с затаенным страхом думаю: неужели опять какая-нибудь травма? — Звонили из комбината. По селектору им передали из Столбовухи, что фельдшер просила срочно прислать на лесоучасток хирурга на «острый живот». — Ясно, — с облегчением говорю я. — Вот и отлично. Поезжай. Два врача и фельдшер — справитесь. — Вертолет ждет на аэродроме? Петр Васильевич опять с интересом смотрит на меня: — Нет, в собачнике. Я начинаю смеяться. Мне как-то сразу становится легко. — Возьми немного крови, — советует Петр. — Если что-нибудь сложное, не торопись уезжать. И вообще не торопись… Что он хотел этим сказать?.. Я разыскиваю Кемалыча (он, конечно, счастлив), проверяю, как идут сборы в операционной, договариваюсь насчет машины до аэродрома, а затем снова возвращаюсь в ординаторскую. Петр Васильевич по-прежнему сидит и курит. — Через пять минут отправляемся, — докладываю я. Он кивает. — Но почему так срочно? — вдруг удивляюсь я. — И почему тогда не областная санавиация? — Но ты же рад? — Да. — А остальное от бога. Вот чертов старик! Любит потемнить. — А все же? — Поезжай. Девчонка просила как можно скорее. — Какая девчонка? — Фельдшер. Под окном останавливается наша санитарная машина. Нина и Кемалыч грузят в нее сверкающие под солнцем никелированные биксы. — Ну, я пошел, — говорю я и протягиваю Петру Васильевичу руку. Он встает: — Ни пуха… — К черту! — А о том не думай. Все будет в порядке. Я говорил с прокурорам. Делу не будет дан ход до заключения областной экспертизы. Но ты же знаешь, что там эмболия? — Он не выпускает моей руки. — Да… Петр слегка отталкивает мою руку, и я ухожу. На аэродроме вертолет совсем не ждет нас, а только разгружается. Причем очень медленно, так как занят этим один лишь пилот, молодой парень с льняными волосами. Когда позвонили из горкома, чтобы немедленно доставили хирургов с их снаряжением на дальний лесоучасток, вертолет был уже готов к взлету с грузами для группы геологов, заброшенных двумя рейсами с утра к горному кряжу. Мы с Валерой и шофер нашего «газика» подключаемся к разгрузке, а вскоре к нам присоединяются начальник аэропорта и радист Вася. Тут уж дело пошло быстро, и мы живо выкидали и стащили в коридор деревянного аэровокзала запарафинированные ящики и брезентовые мешки геологов. — Я знаю этот лесоучасток, — говорит начальник аэропорта, помогая нам загружать вертолет блестящими биксами с инструментом и стерильным материалом. — Красивейшее место! — Раньше он сам летал здесь много лет, говорят, еще на первом самолете, появившемся в этих краях. Туда с апреля до июня ни на чем не доберешься. Только разве вертолетом. Вьючные тропы, поди, тоже размыло талыми водами. — Фельдшер-то все-таки добралась из Столбовухи, — заметил Кемалыч. — Да-а… — удивленно протянул начальник аэропорта. Толя, так зовут вертолетчика, заводит свою трескучую маленькую машину. Действительно, МИ-1. Пионер нашей вертолетной техники. Толя производит впечатление очень серьезного и даже угрюмого парня, несмотря на свою совсем еще мальчишескую внешность. Но совершенно ясно, что неожиданное задание ему по душе. Конечно, это тебе не скучная переброска грузов в базовый лагерь новой экспедиции. «Спасаловка» — серьезное дело. Лопасти вертолета вертятся все быстрее, машина вздрагивает, трава вокруг испуганно жмется к земле. Мотор немилосердно трещит. И вот стремительно, как-то боком, машина взмывает в небо. Толя проверяет связь с аэропортом. Снимает ларингофон. — Не вставать! Не курить! — кричит он, не глядя на нас. Очень серьезный парень. — Ясно! — ору я в ответ. — Что? — наушники мешают ему. Громадные черные блюдца наушников на маленьком сосредоточенном лице — довольно потешно. Толя углубляется в изучение карты под слюдой планшета, развернутого на колене. Я сижу рядом, в таком же, как у пилота, кресле. Кемалыч же примостился сзади бреди наших биксов и каких-то металлических ящиков. Кабина вертолета — как стеклянный бочонок со стальным полом. В ней голубое небо и солнце, а прямо под ногами яркая зелень земли. Пестрое стадо городских построек исчезает за лесистым гребнем. Большая причудливая тень вертолета мчится по верхушкам деревьев, ныряет в долины горных речушек, стремительно спускается по склонам и так же стремительно взбирается на них. Машина идет на небольшой высоте, переплывая по невидимым воздушным волнам через невысокие горы. Можно разглядеть каждый улей на залитой солнцем пасеке, и пасечника в вылинявшей гимнастерке, смотрящего на нас, и маленькую девчушку в белом платьице. Вода в ведре бросает пронзительного солнечного зайца. Потом тень вертолета пробегает по рудничному поселку и взбирается на более высокие горы, где среди леса возвышаются кое-где мощные скальные стенки с прицепившимися к ним грязными лоскутками снегов. Толя пристраивает ларингофон к шее. — Заря, Заря, я Сокол… Столбовуху оставили слева, но речек здесь тьма… Действительно, весь район там, внизу, исчерчен горными речушками. На карте, в которую я заглядываю из-под Толиной руки, их значительно меньше. Время таяния снегов. В это время любой ручей превращается в реку. — Кто-нибудь из вас бывал на Черной речке? — бесстрастно спрашивает Толя. Ни я, ни Кемалыч там не бывали. Но, по-моему, это не имеет значения. Все речки в этом сосновом раю удивительно похожи одна на другую. И горы, как это всегда бывает с незнакомыми горами, тоже удивительно одинаковые. Но Черная речка, которой интересуется Толя, судя по карте, должна быть где-то здесь, совсем под нами. В очередной долине, на берегу очередной речушки появляется одинокий бревенчатый дом под блестящей оцинкованной крышей. Наверное, леснический. У дома аккуратный огород и несколько ульев, а на самом берегу, чуть в стороне от усадьбы, сидит рыболов в шляпе цвета летней пыли. — Сядем и разузнаем, — решает Толя. Он поворачивает ко мне лицо впервые за весь полет и кричит: — Пролетаем до вечера. Помрет больной… Я согласно киваю, хотя навряд ли это имеет дли него значение. Вертолет снижается и зависает над маленькой полянкой рядом с домом, пронзительно желтой от густо растущих на ней одуванчиков. Нелегко, наверное, посадить машину на этот пятак ровной свободной земли между огородом и речушкой. А потом ведь еще нужно взлететь!.. Тайга тесно обступила поляну, тяжело качает хвойными лапами. Словно молча предостерегает. Вертолет снова набирает высоту, лес опять становится зеленой щеткой. Поляна съеживается: игрушечный домик, рядом брошен желтый яркий платочек, в стороне — такая же игрушечная фигурка рыболова. Что за черт? Похоже, он даже не пошевелился? Я начинаю с удивлением, не отрываясь, следить за рыболовом. Нет, не чучело. Поддернув удилищем, вытащил, вероятно, снасть, поправил что-то или сменил приманку. На нас никакого внимания. Толя открывает дверцу со своей стороны и стреляет из ракетницы — определяет направление ветра. Потом идем на посадку. Все ниже, ниже, толчок… Все нормально. Винт медленно вращается, укладывая сверкающие ряды одуванчиков. Мы с Толей выпрыгиваем из кабины и, наклоняясь под лопастями, направляемся к рыболову. Кемалыч остается в машине, так как ему трудно выбираться из-за груды биксов и ящиков. — Здравствуйте! — еще издали кричит Толя. Треск на полянке стоит невероятный, но фигура не меняет позы и хранит молчание. — Глухой, что ли?.. — говорю я. Но от машины не только треск, но и ветер, который едва не сбрасывает с рыболова его старую фетровую шляпу с истершимися волнообразными полями. Он придерживает ее одной рукой. Мы подходим вплотную. — Здравствуйте! — уже хором. — Здравствуйте, — неторопливо отвечает рыболов, пожилой казах или, по крайней мере, человек со значительной примесью казахской крови и с лицом из дубленой кожи. Он едва смотрит на нас, попыхивая самодельной трубочкой. — Часто здесь, наверное, садятся вертолеты, — посмеиваясь, говорю я, чтобы скрыть смущение. — Это что? — говорит человек в фетровой шляпе и вскидывает на меня спокойный, как вечность, темный глаз. Мы открываем рты от изумления. — Где Черная речка? — первым приходит в себя Толя. Мы с Кемалычем в общем-то пока только пассажиры. Я даже как-то забыл на время, куда и зачем мы летим. А для Толи сейчас только это и существует — куда и зачем. — Вот… — отвечает фетровая шляпа. — А где лесоучасток? Фигура с удочкой показывает вверх по течению. — Далеко? — Два часа тропой. Возвращаемся к вертолету. — Ну и нервы у хозяина этого ранчо! — восхищается Толя. — Это гордость! — говорю я и начинаю хохотать. — Ах ты черт!.. В кабине при виде сосредоточенного лица Толи веселое настроение оставляет меня. — Двери заперты? Взлетаем… Желтые волны бегут по поляне. Толя медлит. Мне знакомо это напряженное замедление перед опасным действием, на которое я должен вот сейчас решиться. Рискованный, но необходимый разрез или опасное движение инструментом… Винт ревет, вертолет боком, как бесстрашный котенок-несмышленыш, стремительно прыгает по касательной на лес противоположного берега. На страшную зеленую стену. Шасси бьют по прибрежным кустам, по ветвям моментально уносящихся вниз деревьев… Все! Ровно гудит мотор, машина плавно идет над извилистой лентой речушки. Тайга снова превращается в зеленый ворсистый и мягкий ковер, покрывающий бугристую землю. Фигура на берегу стоит, запрокинув голову и придерживая фетровую шляпу руками. Толя снимает форменную фуражку и кладет ее рядом с собой на пол. Потом достает платок и вытирает лицо и шею. Похоже, что вся затея с разузнаванием «дороги» была опаснее, чем я себе это представлял. Но победителей не судят. Имел ли право Толя идти на риск, на который он решился? Он считал, что имел такое право. Он считал, что рискует ради спасения человеческой жизни. И рисковал при этом тремя жизнями… Впрочем, так ли велик был риск? Он, видимо, умелый и опытный вертолетчик, несмотря на свой возраст. Сколько ему? Двадцать два? Или двадцать три? Он верил в себя, в машину, в дело, которому служил, набив брюхо своего вертолета хирургами и их биксами. Нет, победителей не судят! За то большое, неподдающееся учету, но такое необходимое чувство, которым они заражают окружающих людей. За ту громадную ответственность, которую не боятся принять на себя. Мурзабек Каримов небось два дня летал бы над тайгой, и пусть бы там где-то вымирал хоть целый город — он бы ни за что в жизни не сел на полянку с носовой платок, чтобы узнать у вечного и мудрого, как жизнь, казаха — куда и как. Не-ет, он бы этого не сделал! Даже если бы он был смел, как все тигры земли. Или кто там считается еще более смелым? Он бы просто не взял на себя ответственности. Это ничтожное племя душевных пигмеев, рожденных для спокойной жизни, будет до последней капли крови сражаться за то, чтобы кто-то отвечал. А если кто-то будет отвечать за них, они сделают что угодно. И убьют и предадут. Я с гордостью и восхищением смотрел на красное от солнца, плохо загорающее лицо Толи, и вдруг понял, что все происшедшее сейчас было, возможно, не так уж рискованно и не так уж героично, но мне нужен был, просто необходим был именно такой Толя, вот этот — худощавый, белобрысенький, по внешнему виду не выдерживающий никакого сравнения с Мурзабеком. С тем самым Мурзабеком, который через день после смерти человека, случившейся в общем-то по его вине, нахально и возмущенно спрашивал: «Какие балки?..» Однако вот и лесоучасток. Четыре длинных добротных барака образуют три короткие улочки. Большая опушка, и улочки, и высокий берег пенящейся стремительной белой речушки покрыты светло-зелеными пятнами, словно озерцами какой-то фантастической, неземной воды. Когда вертолет садится и мы вылезаем из него, я обнаруживаю, что Озёрца — это громадные скопления светло-зеленых бабочек. Нас встречает довольно большая толпа. Наверное, почти все обитатели лесоучастка. Многие в стеганых ватниках и таких же штанах, влажных от лесной сырости: вероятно, только что вернулись с работы. Толя не глушит мотор, и вертолет медленно поводит своими лопастями. — Разгружаемся? — спрашивает Толя. — Подожди немного… Бог его знает, может больную в вертолет — да в больницу… В группе встречающих неожиданно замечаю Таню и не сразу могу сообразить, что ведь она-то и есть фельдшер из Столбовухи! Лицо у Тани округлилось, загорело. Такая была стройненькая, беленькая девочка. А теперь — молодая женщина! Какони быстро вырастают! Год назад я был в Столбовухе на дне рождения Таниной и Игоря дочери, удивлялся: сама еще девчонка, а уже годовалая дочь!.. Теперь бы не удивился. — Я не разобралась, что у нее, Владимир Михайлович, — взволнованно говорит Таня, быстро шагая рядом и глядя на меня своими большими синими глазами. — Аппендицит — не аппендицит, может быть — внематочная… — Острый живот, тебе же ясно, — успокоил я. — А дифференциальная диагностика не всегда легка. — Вот и не решилась отправлять. — Давно болеет? — Третий день. Меня сразу вызвали, но я больше суток добиралась… Хорошо, что приехали именно вы! Я так боялась… — Как добиралась-то? Говорят, тут и тропы еще непроходимы. — Проходимы, только верхом. — Она с гордостью глянула на меня. — Вчера во второй половине дня я была уже здесь, но связь со Столбовухой раз в сутки, в одиннадцать. Мы шли к баракам через высокую сочную траву. Несмотря на яркое солнце, было свежо. Где-то поблизости шумела река. — Всю ночь я сидела с нею. Как вы тогда со мной, — тихо сказала Таня. — Все вспоминала… Так страшно было… Мы подошли к поселку. В каждом бараке восемь квартир, и все с отдельным крыльцом. А над одним из них — фанерная синяя вывеска, крупными красными буквами надпись «Магазин», на двери — большой амбарный замок. В одной из квартир на железной койке лежит больная. Квартирка небольшая: кухня, наполовину занятая плитой, и маленькая комната с одним окном. Комната чисто вымыта, лишние вещи вынесены: Таня готовила ее к операции. Электричества нет. На кухне топится плита и парит ведро кипятка. От этого в комнатке температура под тридцать. Да-а, условьица… Больную зовут Клавдией. Ей двадцать четыре года. Крепкая женщина с очень загорелым лицом и следами прошлогоднего загара на теле. У такой бледности не заметишь. Голос слабый, и жалуется на слабость, на боли в животе. Я разделяю все сомнения Тани. Отправить бы Клавдию в больницу! От греха подальше. Какой-нибудь час, и спокойно прооперирую ее в хорошо оборудованной операционной. И после операции она будет в нормальных условиях. Тут ведь тоже не меньше часа пройдет, пока мы развернемся с этими столами и ведрами. Я ловлю себя на том, что мне очень не хочется оперировать ее здесь. — Ну, что, Владимир Михайлович, разгружаться? Может, сестре начать мыться? — торопит Кемалыч. — Этот стол раздвижной. Хватит. Ему тоже ясно, что операция необходима, запущенный ли там аппендицит или внематочная. Глаза его уже горят лихорадочно — скорее! У него нет сомнений. А почему они у меня? Были бы они два-три дня назад? Ведь больная нетранспортабельна, вероятно. Тем более на нашем маленьком вертолете, где ее и не положить… От духоты у меня начинает ломить в висках. — Закройте дверь на кухню. И эту… И откройте окно. Здесь очень душно, — говорю я. — Будем делать диагностическую пункцию. Кемалыч удивленно смотрит на меня. — Если не внематочная, надо думать об отправке в город, — не глядя на него, говорю я. — Но ты занимайся столом, а Таня пусть моется. Чтобы потом не терять времени. За санитара у нас муж Клавдии — начальник лесоучастка, мужчина лет сорока без левой стопы. Ловко управляется на коротком деревянном протезике. Мужа прошу организовать разгрузку вертолета. — Но пусть немного еще подождет, не улетает… И тут вспоминаем, что гинекологических зеркал у нас, конечно, нет. Весь инструмент из операционной не захватишь! Дела… Нет, я должен знать, что там у нее в животе! И не только затем, чтобы определить, где ее оперировать, но и как. — У вас есть большие столовые ложки? Ложки находятся, и мы кипятим их в алюминиевой кастрюле. Это, конечно, не зеркала, но работать можно. При пункции я обнаруживаю у Клавдии в брюшной полости кровь. Значит — внематочная. Места для сомнений не остается. Хочешь не хочешь, боишься или какие-то другие чувства захватывают тебя — все это уже не имеет значения. У тебя нет выбора. — Скажите вертолетчику, пусть летит… Я моюсь вслед за Таней в тазу на кухне. Несмотря на открытое окно, здесь невероятная жара. Вначале слышится неистовый треск вертолета. Потом он постепенно затихает. С улицы доносится шум реки и изредка — голоса рабочих лесоучастка. Всё. Теперь мы отрезаны от всего остального мира до одиннадцати часов следующего дня. До радиосвязи. Я, Кемалыч, Таня и Клавдия с животом, полным крови… Помогаю Тане развернуть на кухонном столе, перетащенном в комнату, хозяйство операционной сестры и принимаюсь за налаживание капельницы. Но капельница оказывается раздавленной. — Ай-ай… Я слышал, как что-то хрустнуло, когда мы взлетали от ранчо… — сокрушается Кемалыч. Сколько ни сокрушайся, капельница от этого не станет целее. Когда с самого начала так много неприятностей, все обычно кончается благополучно. Я вытряхиваю в угол комнаты осколки стекла. Нужно что-то придумывать. Вдруг вижу торчащие из-под простыни большие желтоватые ступни — и меня охватывает отчаяние. А может быть, это страх. Второй раз за два последних дня я вижу эти безжизненные желтые ступни… Но больной нет дела до моих переживаний! Надо что-то придумывать. Без переливания идти на такую операцию, да еще на третий день заболевания, очень рискованно. — Ну-с, Валерий Кемалович, что будем делать? — Может, из шприца сделаем? — робко предлагает он. Мы конструируем капельницу из шприцов, и я считаю, что такое приспособление следовало бы запатентовать. Когда наконец Клавдии начинает капать захваченная нами по совету Петра Васильевича кровь, а Кемалыч спрашивает с открытым флаконом эфира в руках: «Начинать?», на меня спускается совершенное спокойствие. — Давай! Это спокойствие не оставляет меня в течение всей операции, которая, несмотря на яркое закатное солнце за окном, протекает при довольно плохой освещенности операционного поля. После операции мы перекладываем Клавдию на кровать и не отходим от нее, пока она не просыпается. Этакую кровопотерю могла перенести, конечно, только женщина. И только такая вот крепкая, как Клавдия. Распределяем время дежурств до утра и, оставив у постели больной Таню, отправляемся следам за мужем Клавдии ужинать. Сегодня ужин будет. Вчера не было завтрака, позавчера ужина, а сегодня вместо обеда — треск вертолета и виды на тайгу в горах. Так недолго заработать и язву. Солнце село за деревья на горе напротив, и они стали темными и плоскими, как вырезанные из черной бумаги. От неумолчно шумящей реки потянуло прохватывающей холодной влагой. И только золотящиеся вершины громадных сосен за поляной, на которую садился наш вертолет, немного согревают этот холодный и величественный вечерний пейзаж. В окнах бараков загорелись блеклые огни керосиновых ламп. Пару раз крякнула и залилась вдали гармошка.5
Для ночлега нам с Кемалычем отвели квартиру в том же бараке, крыльцо рядом. Хозяева перебрались к кому-то из соседей. Печь была натоплена яро. Спалось плохо, я встал задолго до того часа, когда должен был сменить Кемалыча. Таня не отдыхала практически третьи сутки, и мы распределили дежурства так, чтобы до утра ее не тревожить: Кемалыч до трех, а потом до семи-восьми я. Накануне вечером нам устроили шикарный ужин, состоявший из изумительно вкусного, хотя и несколько странного блюда. На громадной сковороде (в жизни своей такую не видывал) были зажарены: сало, колбаса, лук, картошка и яйца — всё вместе. Продукты сюда завозят тракторами на прицепах. Последний поезд приходил месяца два тому назад, в магазине уже давным-давно все раскупили, а сама продавщица уходила каждый день на работу в лес. Угощали еще квасом, резким, холодным. По крайней мере, все называли это питье «квасом», хотя на то, что в Ленинграде продается из больших металлических бочек, это было совсем непохоже. Потом молодой чубатый парень лихо играл на гармошке. Наверное, на той самой. Две керосиновые лампы горели на столе, и по бревенчатым стенам двигались большие тени. Разошлись часов в девять. Клавдия спала, и Таня на стуле рядом с нею клевала носом. На дежурство заступил Кемалыч, а я отправился на покой. И вот проснулся, хотя не было еще и двух, и в моем распоряжении оставалось больше часа. Я оделся и вышел. Громадная луна висела в безоблачном черном небе, серебря влажный лес на гребнях и склонах гор. Ровно и глухо шумела река где-то внизу, в кромешной тьме затененного берега, и от этого шума тишина вокруг казалась абсолютной. Сказочный мир гор, сосен и четырех белых бараков. После жаркой комнаты здесь было просто восхитительно свежо. Дышалось легко, шаг стал невесомым, словно не идешь по земле, а плывешь по воздуху. Я побрел по высокому берегу невидимой реки к лесу. Отошел недалеко, и неожиданно белесый ночной холод стал хватать за шею, за руки, за поясницу. Струйки его вливались внутрь, вытесняя накопленное с вечера тепло, совсем недавно казавшееся таким тяжелым, давящим… В половине третьего сменяю Кемалыча. — Все в порядке, — говорит он. Клавдия спит богатырским сном, словно и не было никакой операции, а перед тем три дня не скапливалась у нее в животе кровь. Я придвигаю стул к окну. Из глубины комнаты доносится дыхание больной, сдобренное парами эфира, а из-за приоткрытого окна слышится гул реки, несущей прохладу высоких заснеженных гор. Мне становится спокойно в этой тишине между двумя ровными потоками звуков — дыханием человека и реки. Мне чудится в этом какой-то символический смысл. Но какой? Я не могу уловить его. Казалось бы, известная истина: развитие медицины — благо для человечества, но что бы там ни говорили и ни писали, а операция опасна. Опасна! И чем стремительней развивается хирургия, чем шире ее возможности, тем, естественно, чаще возникает эта опасность. Конечно, то, от чего помирали несколько десятилетий тому назад, так сказать, «по закону», сейчас — ЧП. Те операции, о которых не смели даже мечтать сто лет назад, мы делаем теперь при необходимости на обеденном столе. Но если тогда люди погибали потому, что им невозможно было помочь, то сейчас — несмотря на то, что им стараются помочь. В те времена, когда врач действовал пиявкой и примочкой, он был выше нареканий, он был сострадатель и робкий помощник. Теперь же, когда он стал борцом, вооруженным ножом и техникой, он должен быть готов нести ответственность за неудачу, он подвластен человеческому суду. Справедливо ли это? Да, наверное. В возрастании чувства ответственности — смысл морального развития человечества. В медицине, особенно в хирургии, все больше появляется места для риска, дерзания. Но и они определены чувством ответственности перед теми больными людьми, у постели которых врач по-прежнему, как и сотни лет назад, только сострадатель и робкий помощник. Пусть за смерть тысяч пока что неизлечимых почечных больных ни одному врачу не скажут ни слова упрека, а за смерть одного такого больного, которого попытались спасти, которому пересадили почку, хирург будет осужден. Пусть. Без неудач, без душевных мук и дерзаний Пирогова, Бильрота, Юдина сколько бы погибало десятков, да нет, наверное, сотен тысяч человек из тех, кого теперь хирургия ежедневно возвращает не просто к жизни, но и к их обычной деятельности! Как иной раз убого и ханжески звучат в устах современных людей великие по мысли слова Гиппократа: «Во-первых, не сделай больному хуже». Да, великие достижения человеческого гения могут быть использованы и против человечества — на службу войне. Но ведь только абсолютный идиот скажет на этом основании: «Прогресс, стоп!» Все новое начинается с того, что на одного понимающего, постигшего — тысячи непонимающих и еще сколько-то ханжей. Формула «победителя не судят» не придумана каким-то умником. Это закон жизни. Так сказать, человеческая, обиходная интерпретация биологического закона, выведенного Чарлзом Дарвином. Да, на смену доброму старому гиппократовскому лекарю-философу, лекарю-помощнику в человеческом страдании давно уже пришел врач-боец. Я усмехнулся собственным мыслям. Интересно, что бы оказал о них Ваня? Наверное, что я пытаюсь оправдаться перед самим собой. Но это не так! Ей-богу, Ваня, это не так! Я просто хочу осмыслить происшедшее. Мне необходимо найти в нем зерно истины. Чтобы не стать пуганой вороной, которая и куста боится. Где-то я читал, что человека нужно здорово встряхнуть, чтобы он оторвался от кусочка земли, который у него под ногами, и увидел мир во всей его сложности и во всех его связях. Вроде бы и не так уж сильно меня встряхнуло, но, наверное, для меня достаточно… Светало. Бараки из белых стали серыми. И луна посерела. Черное небо стало белесым, потом по нему поползли розовые отсветы. Я растворил окно и высунулся наружу. Воздух был влажен и густо напоен запахом зелени. Клавдия проснулась и молча смотрела то на меня, то на крепнущее за окном утро. — Как дела? — спросил я, прикрыв окно и подходя к ней. — Выспалась за все три дня, — тихо ответила Клавдия. — Спасибо… А поесть нельзя еще?.. В двенадцать, сделав Клавдии перевязку и оставив в опустевшем поселке Кемалыча загорать на окне ее комнаты, мы с Таней отправляемся в лес. Прогуляться. Приятно сознавать, что ты уже имеешь на это право. В лесу было мокро, но нам в резиновых сапогах и плащах все было нипочем. Сочно чавкали под ногами толстые мхи. Темная хвоя сосен и кедров чередовалась с легким еще нарядом осин и кленов, густые кустарники сквозили, покрытые бледно-зелеными маленькими листочками. Новая трава, перемешавшись с прошлогодней, высохшей, образовала плотный ковер. Вскрикивали и пели птицы. Что-то шуршало вокруг и двигалось, где-то далеко ревел медведь или, может быть, это дурачился кто-то из вальщиков… В тугом неподвижном воздухе тайги все время то возникали, то исчезали какие-то едва уловимые звуки. Дробясь в ветвях, на множество кусков распадалось солнце. Все это тянулось на сотни километров, взбегая на сопки, спускаясь в пади… И сознание этой огромности наполняло меня покоем и светом. Мои тревоги и споры с воображаемыми противниками казались уже мелкими и незначительными. Мы поднялись по крутому склону и остановились передохнуть. Прислонившись плечом к стволу пихты, глубоко вдыхаю сырой, напоенный хвоей воздух. — Раньше тайга представлялась мне почему-то темной и угрюмой, а она вон какая — прозрачная. Таня улыбается: — Да нет, тайга — это в общем-то чащоба. Но душа ее действительно в живице. — В чем? — не понял я. — В живице, — смеется Таня. — Посмотрите на свой плащ. Я оглядываю плечо и ствол пихты и замечаю на коре небольшие вздутия. Ковыряю одно из них пальцем и слегка вздрагиваю от неожиданности, когда из-под коры на ладонь мне брызжет прохладная капля. — Вот-вот. Это и есть живица. Прозрачнее ее на свете ничего нет, — говорит Таня. — А-а!.. — вспоминаю я. — Да это же, наверное, пихтовый бальзам! — Я растираю на ладони прозрачную липкую каплю. — Им склеивают линзы в тончайших оптических приборах, потому что он так же преломляет свет, как чистейшее стекло. — Может быть, — задумчиво говорит Таня. — Но говорят, это — душа тайги. На вершине небольшой горушки, на которую мы взобрались, у одинокой гранитной глыбы с северной стороны еще лежит ноздреватый, присыпанный хвоей кусок обтаивающего снега, а с южной стороны — трава, сухая и теплая. — Посидим, — предлагаю я. Расстилаю свой плащ и ложусь на спину. По голубому высокому небу быстро бегут светлые, с набрякшей сердцевиной, тучки. У горизонта они громоздятся уже непрерывной горной цепью. Там, высоко, наверное, сильный ветер. Таня садится рядом. — Как ты живешь, Танюша? — неожиданно спрашиваю я. — Хорошо. Я переворачиваюсь на живот и, разглядывая чуть колышащиеся травинки, спрашиваю снова: — Ты любишь Игоря? Вот что такое тайга и высокое небо над нею. Но о чем же здесь можно говорить, как не о самом главном? Таня срывает травинку и, покусывая ее, отвечает: — Да, очень… И все лицо ее светло и прозрачно, как и светлые ее глаза, как растрепавшиеся коротко подстриженные волосы. — А он? — глупый вопрос, но очень для меня важный. — Тоже. — И в ее голосе нет ни тени сомнения. Она сидит, поджав ноги и упершись одной рукой в землю. Я кладу свою ладонь сверху и говорю: — Ты очень славная девушка. Тебя можно сильно полюбить… Она молчит и осторожно высвобождает свою руку. А я снова переворачиваюсь на спину и смотрю в заволакиваемое тучами небо. Вспоминаю, как прибегала она ко мне, проведывать, когда я болел, как смотрела на меня ясными своими глазами. Вспоминаю Лору, теплые ее губы… Все ушло, они потеряны для меня, эти милые девушки. А Лена?.. Мне становится вдруг понятно: я хочу любви. Я открыт для нее. Старое разрушилось, как разрушается через какое-то время в организме парализующий яд кураре. Нужно только пережить это время. Я пережил. Теперь я знаю, что пережил. И знаю, что нет еще ее — новой любви. Нет, нежная и трогательная женщина у Фудзиямы! И мне становится грустно, печально, словно я вспоминаю об утерянном близком друге. — Пойдемте, скоро будет дождь. — Таня трогает меня за плечо. Небо быстро темнеет. У поселка нас настигает крупный редкий дождь. Всю вторую половину дня с короткими перерывами льет дождь. Обильный, щедрый, как всё здесь. К вечеру приходят новые тучи, низкие, тяжелые, и разражается гроза, неистовая и страшная, какая может быть только в горах. Гудит под мощными порывами ветра тайга, черная, громадная, как вздыбившаяся и вот-вот готовая рухнуть на тебя волна. На долю секунды вспыхивают вдруг дрожащие горы, словно готовые сдвинуться со своих мест. От грома дребезжат стекла. Потоки воды падают на бараки, и кажется, что погружаешься под воду. — Мы можем застрять здесь, и надолго, — угрюмо говорит Кемалыч, глядя в темное окно.Опасения Кемалыча не оправдались. Утро выдалось ясное и свежее. Влажный лес дышал густым сосновым настоем, сочностью трав, разбуженной прошлогодней прелью. Голова кружилась от этого воздуха, а тело становилось легким, неощутимым, словно оно растворилось, слилось с этой землей, лесом и небом. — Здравствуйте… у нас всё в порядке, — встретила нас Таня, вставая со стула у кровати Клавдии и не глядя мне в лицо. Наверное, она все еще чувствовала неловкость после вчерашних моих слов. Что же это она подумала, как меня поняла? Нужно ли было говорить ей в тайге те слова?.. У Клавдии действительно было все в порядке. Желтизна почти исчезла. Здоровый организм молодой женщины лихо преодолевал недуг. — А вставать нельзя? — слабым еще голосом спросила она. — Собираемся, Валерий Кемалович. Похоже, что мы здесь больше не нужны, — сказал я. — А вставать не раньше чем дня через три. Слышишь, Танюша? — Да, да, понятно. В одиннадцать, как обычно, начальник лесоучастка связался со Столбовухой и просил передать в город, чтобы прислали вертолет. Потом, стащив с помощью всех, кто не ушел в лес, биксы к поляне, мы до часу дня загорали в высокой траве, пестревшей полевыми цветами и огненно-желтыми головками одуванчиков. В час затрещал где-то над лесом вертолет. Долго трещал, а затем вдруг вынырнул, большой и неожиданный, совсем рядом, из-за зубьев громадных сосен. Завис, раскачал верхушки, стрельнул бледной ракетой, потянувшей за собой дымный след, и снова упрыгнул за сосны. И только потом, будто нерешительно, осторожно сел на поляну. Из машины выпрыгнул Толя, неторопливой походкой направился к нам. Молча пожал нам руки. Ветер, поднятый лопастями, бросил ему на лоб белые волосы. — Порядок? — спросил. — Полный! — Будет жить? — А как же!.. И Толя впервые на наших глазах улыбнулся. И сразу стало понятно, почему он обычно такой серьезный: улыбка делала его совсем мальчишкой. Я подошел к Тане, положил ей на плечо руку. — Ну, до свидания. Привет Игорю. Вы оба очень славные ребята. — Вашей крестнице скоро два года. Помните? — Конечно. И обязательно приеду. — Правда?! — Обязательно! — Мы вас ждем! — кричит Таня вслед. И снова ползет под нами мелкомасштабная карта поросшего лесом горного края, сверкают меж сосен речушки. — Что-то ранчо нашего не видно, — говорю я Толе. Он поворачивает ко мне лицо и вопросительно вскидывает брови. Я наклоняюсь к нему и кричу, перекрывая шум мотора, так что сидящий сзади Кемалыч тоже слышит и начинает скалиться. — Ранчо, говорю, не видно! Толя снова улыбается и кричит в ответ: — Теперь мы напрямую! — И делает рукой зигзаг, показывая, вероятно, как мы летели прежде. А вот уже и гора Орел появилась. И вдруг вынырнуло из сопок, из леса сбежавшееся в котловину пестрое стадо городских построек. Толя помог нам стащить биксы к аэровокзалу. Прощались мы с ним, как с хорошим давним приятелем. — С вами было приятно работать, — серьезно сказал Толя. — Вы бы мне этот… скальпелек подарили… Удобный ножик… Мы подарили ему скальпель. Он хотел оставить у себя память о спасательной медицинской экспедиций, участником которой считал себя с полным на то основанием. Мы его поняли. До отделения добираемся к половине третьего. В ординаторской одна Антонина. Старательно выводит слово за словом никому не нужные строки в дневнике. Николай, видимо, занят своими больными. Сегодня его, урологический операционный день. — Петр Васильич просил вас зайти к нему, как только приедете с аэродрома, — сообщает мне Антонина. Поднимаюсь к заведующему и коротко рассказываю о поездке. — Хорошо. Молодцы. И у нас все в порядке, — говорит Петр Васильевич, попыхивая папиросой, и, прищурившись, смотрит на меня. — У Хруста действительно эмболия. Жир в сосудах всех органов — мозга, легких, сердца… — Пришел ответ экспертизы? — Я сегодня звонил туда. Так что «дела» не будет. Помолчали. Потом я все же решил задать мучивший меня вопрос. Петр должен быть в курсе, раз он звонил в разные концы. — А что там, на шахте? — А что тебя интересует? — Как раскрутилось там происшествие? — По-моему, как несчастный случай. Ждут заключения экспертизы. Не ответа, а развернутого заключения с выводами. — Гады! — Твои недоброжелатели? Я смотрю на насмешливое лицо Петра, на влажные редкие его волосы, старательно зачесанные слева направо, чтобы прикрыть лысину. По всему видно — помогал Николаю, потом принимал душ. — Да, мои недоброжелатели. — Тогда их, наверное, очень мало, гадов. Жить вполне можно. Я пропускаю это мимо ушей. — Хруст сказал: «Мы всегда так делаем». Про балки. Ему-то я верю. Они всегда так делают. Они же работяги! Им — побыстрее, побольше сделать и получить. Это же ясно! Понимаете, Петр Васильич? Он молча курит, не отрываясь смотрит на меня. Я черчу ногтем на углу стола квадраты. — Это значит, что плохо контролируют их работу, мало бывают с ними там, в шахте, те, кто должен контролировать и быть… — Ты хочешь?.. — говорит Петр Васильевич. — Я обращусь к прокурору. Каримов и все его ребята отвечают за технику безопасности, они должны обеспечивать ее, должны знать, что делается в шахте. И пусть они несут ответственность, а не стараются переложить ее на кого-то! Я поднимаю глаза на Петра Васильевича. — Почему вы молчите? — Я согласен с тобой. Однако… — Погодите… Скажите мне, почему нужно терпеть сволочей, вроде Каримова? Он бездельник и демагог, и я не собираюсь молчать… — И не нужно. Даже напротив. А если бы дело на тебя было начато, ты бы обратился к прокурору? Ну-ка, отвечай честно! Я растерялся. А ведь действительно не обратился бы! И как я тогда мог бы обратиться? — Но, Петр Васильич… Это выглядело бы просто как какой-то ответный удар. Как мщение… Ну… как уловка, что ли… — Разве суть всей истории изменилась бы? — Нет, конечно… Хотя в моральном аспекте… — Черт бы вас побрал! — неожиданно зло сказал Петр. — Когда вас бьют, вы становитесь совсем как медузы. В воде красивые, а как только выбросило на берег — кисель… Я с удивлением смотрел на него, а он, прикрыв глаза, дымил немилосердно. — Извини. Мне больно, что порядочные люди обычно самые незащищенные. И беззубые. Иди. Я вышел из его кабинета, но довольно долго стоял у двери, думая о его словах. Ничего себе, поворот разговора! И наверное, Петр прав. Не заходя в ординаторскую, я оделся и вышел из хирургического корпуса. По двору прогуливались больные в серых халатах, шли с занятым видам, но явно не торопясь, сестры и санитарочки, врачи. Солнце склонилось к горам. Было тепло совсем по-летнему. И очень тихо — ни ветерка. Всех тянуло на улицу. У ворот меня догнал Полкан. Высунув язык, радостно вертел своим пушистым хвостом. Я похлопал его по шее, погладил иссеченную рубцами грудь. — Вот как, братец… Целую неделю бездельничал, не был у вас. Ну, с понедельника начнем… Он убрал язык и внимательно посмотрел на меня. — Нет, нет! Ты теперь больничный сотрудник. Сторож. Теперь тебе только конфеты… И он снова горячо задышал, вывалив из пасти язык. Из проходной я позвонил на терапию. Лене. Сказал, что зайду вечером. Это будет трудный разговор, я знаю. И может быть, для нее еще более трудный, чем для меня. От больничного городка улица скатывалась вниз. По генеральному плану она вся будет застроена двух- и трехэтажными каменными домами. Дома эти уже кое-где поднимались — на пустырях, на месте заброшенных огородов и развалившихся от времени сараев и домишек. И улица уже пахла битым кирпичом и раствором — запахами растущих городов. Но все же здесь еще царили деревянные бараки. Крепкие, коренастые, они пялились на белый свет рядами одинаково занавешенных окон. Люди обживали эти бараки, они обрастали сараюшками, голубятнями, баньками. От этой неплановой застройки к запаху кирпича и раствора примешивался густой дух свежевыструганных досок, сырого дерева. Привычный этот запах неожиданно вызвал во мне воспоминания о тайге. Еще свежее и острое, оно было успокаивающим, делало шаг размереннее, дыхание ровнее, а мыслям придавало неторопливость и какую-то отстраненность от мелких будничных соображений. Мне захотелось вдруг попытаться представить жизнь в целом, как это было там, в лесу, когда я пытался охватить воображением всю громадность тайги. И я стал думать о том, что люди всегда, наверное, стремятся к ясности, к возможно большей ясности во всем. Но цель эта обречена остаться вечным идеалом, так как полная ясность доступна в простом, а в сложном достичь ее трудно, может быть — невозможно. Но если это так, то человеку остается положиться на свою совесть и ждать того же от других…
Всего одна жизнь

1
Здание клинической больницы пряталось в зелени парка, высветленной уже обильной желтизной. Парк был пуст и тих в этот ранний час. Еще не раскрашенное солнцем безветренное утро не тревожило листьев на ветвях и дорожках, на кучах угля, запасаемых к длинным осенним и зимним месяцам у котельной. Могло показаться, что эта небольшая часть города у еще тихого проспекта, вздрагивавшего пока лишь от редких автомобилей, крепко спит. Но у одного из торцов больничного здания — у входа в приемный покой — стояла машина скорой помощи с работающим мотором. Сквозь заросли сирени, прижавшиеся к серым стенам, из окон первого этажа пробивался меркнувший с каждой минутой свет. И уж, наверное, не было в этот час менее сонного места в городе, чем сам приемный покой. В вестибюле на длинных скамьях ждали наспех одетые встревоженные люди. Табачный дым поднимался к плафонам высокого потолка и оттуда лениво тек к широким стеклянным дверям, в безоблачно голубеющее утро. А в большом зале, разгороженном кабинами, словно в сотах, двигались, сидели, лежали люди… В одной из операционных отделения экстренной хирургии на третьем этаже заканчивалась операция аппендицита, пятая за эту бесконечную ночь. Осталось только наложить несколько швов. Загорелый мужчина, распростертый на столе, напряженно молчал, облизывая сухие губы. — Мы сами зашьем, — тихо сказал оперировавший хирург ассистенту. — Идите отдыхайте, Герман Васильевич. Спасибо… — Чего уж теперь… — буркнул тот. Герман Васильевич, заведующий отделением плановой хирургии, был сегодня ответственным дежурным. Оперировавший молодой доктор, всего месяц-другой как пришедший из института, не очень быстро, но весьма старательно завязал последний узел. — Все! — удовлетворенно сказал молодой хирург. — Спасибо, — отозвался из-за простыни больной. — Надежда Петровна, позвоните в приемный, выясните, нет ли там чего-нибудь еще, — попросил Герман Васильевич санитарку. — Ну, уж… может быть, хватит на сегодня, Герман Васильевич, — взмолилась операционная сестра. — Да-а, бедная Валечка, — посочувствовал молодой хирург. — Шесть часов у стола!.. — Она привыкла. — Герман, сцепив у груди руки, смотрел, как хирург кладет наклейку на рану. — И вы привыкнете, Толя. Работа. Разве вы еще не заметили, как хорошеют на ней даже самые красивые операционные сестры? — Ох уж, Герман Васильевич! — не без кокетства произнесла сестра, глянув на Германа поверх маски заблестевшими глазами. — Размывайтесь, — разрешила вернувшаяся из предоперационной санитарка и стала развязывать тесемки на халате Германа. До конца дежурства оставалось немногим больше двух часов. «Теперь, вероятно, все», — подумал Герман.В широкие окна предоперационной, обращенные на юго-восток, вовсю било уже солнце. После строгого света операционной лампы этот буйный поток ослепил Германа. У стола, зажав в руке какой-то инструмент, спала вторая операционная сестра. День начинался ясный, обычный для нынешней тихой осени. Герман с удовольствием подумал о своей лодке, о длинномордой ушастой Нерте, о любимых своих снастях… Но сначала — в палату, к этому, как его, — Кухнюку. Потом можно будет выйти в парк, хоть немного освежиться. При ярком свете солнца история Кухнюка представилась нереальной: расстрел соседа по коммунальной квартире?.. Выдумка больного разума, да и только. Герман снял перчатки и стерильный халат, бросил их на табурет, закурил, пощурился на солнце и вышел в холл третьего этажа, где, как и на всех четырех этажах больницы, было много зелени в кадках и горшках. Вся зелень в здании, да и в парке, содержалась уже не в том идеальном порядке, что при прежнем главном враче, но за нею еще следили старые санитарки и дворники, хотя все чаще слышалось недовольство по поводу пыли, которая скапливается на широких листах фикусов и требует рук да рук. Герман неторопливо поднялся на четвертый этаж. Кухнюка он положил в свое отделение в палату реанимации и усиленного лечения (обычно эти палаты называли просто реанимационными). Он не хотел, чтобы кто-то другой вел оперированного им больного. Кухнюк спал или находился в забытьи, но пульс и давление были нормальными, в вену капал раствор, какой-то очередной раствор, необходимый больному, по мнению врача-анестезиолога. На вопрос Германа, где врач, анестезиологическая сестра ответила, что Лидия Антоновна вышла покурить. От разговора встрепенулся клевавший носом у окна милиционер в халате, надетом поверх форменного кителя, и в белых бахилах, небрежно завязанных поверх голенищ. Кухнюка привезли вчера вечером из следственного изолятора со жгутом на шее, наложенным по всем правилам хирургического искусства — через руку, поднятую вдоль здоровой правой половины шеи. Такое увидишь нечасто. Даже за двадцать лет в хирургии можно не увидеть. Конечно, доктор там, в следственном изоляторе, оказался молодцом. Только благодаря ему Кухнюк остался жив. Неизвестно как припрятанной бритвой он рассек правой, вероятно, рукой мышцы на левой половине шеи и сонную артерию. Его привезли около десяти вечера. Все так же, с жгутом через руку, дежурный анестезиолог начал наркоз, и Герман приступил к операции. Можно было, конечно, просто перевязать раненую артерию, но ведь это была сонная! Что будет потом с больным? Герман решил сшить артерию, но сделать это не удалось: было повреждено около сантиметра бесценной стенки сосуда, и Герман вшил между двумя концами артерии тонкую гофрированную трубку, трансплантат. Хирургия сосудов и сердца особенно интересовала Федора Родионовича, руководителя хирургической кафедры. До смерти прежнего главного врача профессор не мог развернуться — главный скептически относился к «рискованным новшествам», как он называл операции на сердце, а без его согласия никто не мог ничего начать. Прежний главный, которого сотрудники с военных лет называли Батей, строил эту больницу, в войну был начальником госпиталя, развернутого в ней, да еще исполнял обязанности ректора медицинского института. Авторитет его немыслимо было поколебать. Депутат областного Совета, Батя был действительно полновластным хозяином в больнице. Одним из первых он подключил «свои отделения» (именно так он и выражался) к легочной хирургии, организовал в больнице анестезиологическое отделение — тоже одним из первых в стране, следил за тем, чтобы оборудование было самым современным, требовал, чтобы внедряли везде методики, отвечающие духу времени и стремительному развитию медицины. Но вот то, что он не признавал… Уже через год после его смерти было открыто новое отделение, где стали с успехом заниматься сосудистой и сердечной хирургией. Одним словом, Кухнюку повезло дважды подряд — сначала с врачом в следственном изоляторе, а затем и с больницей, дежурившей по скорой помощи в день его попытки самоубийства. Собственно, судить, насколько ему повезло второй раз, было еще рано, хотя синтетический кусок артерии вел себя пока молодцом, сердце беспрепятственно гнало по нему кровь к мозгу. Герман вышел из палаты и направился в ординаторскую. За его столом у окна расположилась Лидия Антоновна, молодой анестезиолог, которую почти все в больнице звали просто Лидой. Закинув ногу на ногу, она — курила и поглядывала в зеркальце, зажатое в руке. На красивом ее лице с крупноватыми чертами и большими темными глазами невозможно было разглядеть признаков усталости, хотя она определенно не сомкнула за всю ночь глаз. Крепкие длинные ноги Лидии Антоновны были открыты выше колен. Герман чувствовал себя в ее присутствии, особенно когда им случалось оставаться наедине, стесненно, она смущала его и, вероятно, знала об этом. — Ну что, Герман Васильевич, службу можно считать завершенной? — Не торопитесь, еще целых два часа. — Герман прошел к своему столу и сел напротив Лидии Антоновны, придвинул телефон, снял трубку и набрал номер. Лида скосила на Германа темные веселые глаза: — Такая ночь, наверное, старит на целый месяц. Как вы думаете? Он неопределенно промычал. Длинные гудки шли один за другим, но трубку на противоположном конце не поднимали. Обычная история, необходимо было набраться терпения. Алексей Павлович Кирш, один из его ординаторов, отвез несколько дней тому назад жену в родильный дом, сына — к теще, и теперь нужно было по утрам настойчиво звонить ему по телефону — будильник не мог прервать его богатырский сон. — Герман Васильевич, почему вы избегаете меня? — неожиданно спросила Лида. — Ну, зачем так?.. — Герман усмехнулся. — Или вам нужно, чтобы обязательно все ухаживали за вами? Длинные гудки шли и шли без ответа. — Почему же все? — Она спрятала зеркальце в карман халата, взяла осторожно пухлыми губами сигарету, затянулась. Такие разговоры вызывали в Германе ощущение пустоты и вместе с тем тяжести и неловкости. — Почему — все? — Лида повернула к нему лицо и посмотрела открыто, кажется, даже вполне серьезно. Или это ему показалось?.. — А? — послышалось вместо очередного сигнала — Кирш наконец снял трубку. — Проснулся, Алексей Павлович? — радостно сказал Герман. — А? — вновь сонно вздохнула трубка. — Просыпайся, просыпайся! — Герман Васильевич?.. Здравствуйте… — И после паузы: — Спасибо… — Не заснешь опять? — Нет, нет, — отозвался Кирш бодро. — У тебя никаких новостей? — Пока нет. — Постарайся не опоздать. — Герман повесил трубку. — Ну что, Лидия Антоновна, идемте посмотрим послеоперационных больных? Она плавным движением погасила сигарету в пепельнице и встала, одернув халат. — Идемте, Герман Васильевич. За вами я — в огонь и в воду. Герман рассмеялся. Накопившееся за ночь утомление сразу стало как будто не таким тяжелым. Когда они закончили обход, было только восемь часов. Лида отправилась делать последние записи, а Герман спустился наконец в парк. Щурясь на солнце, он несколько раз глубоко вдохнул. Закружилась слегка голова, и стало легко и весело, как в давнишние годы, когда ему было не сорок пять, а лет на двадцать меньше, в тихом селе на Псковщине, среди цветущей пахучей жирной земли. Вот так же щурился он на утреннее солнце, глубоко вдыхал воздух — ночной настой земли, озер, зелени, свежескошенного сена… Рядом с деревянным больничным крыльцом рылись в пыли куры… И он вдруг пускался бегом к озеру, и исчезали все его заботы, неурядицы. Это теперь кажется, что тогда и забот не было — только сильный и чистый запах земли, голубое небо и прохладная озерная синь. Герман глубоко вдыхал утреннюю прохладу, наслаждаясь осенним многоцветьем, этим пиром зелени в старом, искусно разбитом больничном парке. После трудного дежурства, утром, когда ему казалось возможным даже лечь в халате на скамью и бездумно уставиться в небо, разрисованное листьями, неизменно приходило это воспоминание — псковское село, начало врачебной деятельности, легкость молодости. Но сегодня, вдруг, не подчиняясь разуму, пришло еще и воспоминание о первой любви. Так получилось (и виной тому, вероятно, была война, прихватившая юношеские годы Германа, а потом, в студенчестве, взвалившая на его плечи заботы о матери и младших сестрах), но первая любовь у него оказалась поздней. Молодой врач приехал в районную больницу и встретился с учительницей, женщиной нежной, трепетной. Женой местного агронома. Это и была его первая любовь. Неожиданная, ошеломившая их обоих. Они постоянно, с нетерпением ожидали отъезда агронома на дальний стан или на совещание в область, ждали и случайной минутной встречи, и страстной бессонной ночи… Мучились и были счастливы. Агроном, добрый, веселый здоровяк, всего на несколько лет старше Германа, потерял под Кенигсбергом руку. Он был человеком удивительно учтивым, ибо невозможно представить, чтобы он не знал того, о чем догадывалось все село. Но молчала она, и он молчал — ждал, не беспокоил. Она всякий раз говорила Герману: «Ну что же это, милый, ну почему он ничего не говорит?.. Я не могу так больше!..» Теперь, да и никогда раньше, не мог Герман ответить самому себе на вопрос: почему и он не сказал ей главного, решительного слова, почему, будто испугавшись чего-то, они разошлись? Да что там — разошлись: ведь он просто сбежал из села! Почему? Жертвовал ради этого безрукого парня? А может быть, боялся сложностей? (У нее ведь была маленькая дочь!) Или людских пересудов?.. Какая подлость! Ведь он любил ее, и, расставаясь, любил, и потом страдал многие годы. И верил, очень хотел верить, что она тоже любит его и тоже страдает, даже ничего не зная о нем, как и он — о ней. И эта уверенность делала его жизнь более полной в течение многих лет… Так что это было: жертва или подлость? Обычно какие-то защитные психологические механизмы ограничивали воспоминания общим настроением или почти физически ощутимой картиной, в которой присутствовали только он и природа, словно жил там этакий счастливый Робинзон. Но вот сегодня механизмы не сработали. И неожиданно для него не было неприятного щемящего чувства. Но все же, почему они не сработали?.. Герман незаметно прошел весь парк и оказался в самом дальнем конце его у небольшой грязной канавы, заросшей осокой и лопухами. На другом берегу канавы узкой полосой тянулся пустырь, а за ним стояли совсем новые девятиэтажные дома. Квартал не был еще завершен, кое-где меж домов виднелись строительные краны. Оттуда доносилось рычание мощных моторов — там ползали бульдозеры и громоздкие панелевозы с деталями квартир, словно выхваченными из детского «конструктора». Герману захотелось пойти туда, взглянуть на этих людей, которые строили, заселяли новые дома, уходили из коммунальных квартир, мечтали об уюте и детях. И эти здания, и двигавшиеся около них фигурки людей вселяли в Германа радость. Ему было просто необходимо сейчас постоять на этом берегу грязной канавы, поглядеть на другой, лязгающий, рычащий, застраивающийся берег. А за спиной он ощущал дремлющий парк и упрятанную в нем серую массу больницы… Кухнюк! Вот кто был виновником давно не тревожащих воспоминаний. Убийца Кухнюк. Герман не улавливал еще связи. Этот человек, его преступление и трагедия глубоко взволновали Германа. Может быть, даже не сами факты, которых он почти не знал, а то, что он додумывал сам. Действительно, что он знал об этом человеке? Приезжавший ночью следователь рассказал Герману о Кухнюке: прошел всю войну солдатом, был дважды ранен. Одно из ранений — в живот, весьма неприятное для мужчины. Но Кухнюк после демобилизации в 1949 году женился на дочери хозяйки, у которой снимал комнату, девушке не очень красивой, почти на десять лет моложе его, совсем девчонке. Через несколько лет родился у них сын. Кухнюк проработал в котельной механического завода двадцать лет, и хоть раз в году, на какой-нибудь праздник, его отмечали непременно — за трудолюбие и исполнительность. Кроме довоенной сельской семилетки, он нигде больше не учился, но за учебой сына следил строго, и тот успешно окончил десять классов, а потом ушел служить в танковые войска. Жена Кухнюка, женщина замкнутая, как и муж, работала товароведом на одной из городских баз. Как они жили в семье, толком никто не знал. Одни говорили: «Хорошо», другие усмехались: «Бог их знает, чужая жизнь — потемки. Но мужичок-то он как будто порченый. И на этой, наверное, почве — того…» А одна соседка категорично заявила: «Был у Кухнючихи мужик на стороне! И он сам про это догадывался…» Одно было несомненно: человек всю жизнь остро переживал последствия своего ранения, может быть даже сомневался, его ли это сын… Замкнутый и ревнивый, он, по чьему-то недоброму слову, сбежал с ночной смены домой для свершения своего суда. Суда без спроса и разбора. Но в этой истории, не ограничившейся одной смертью, Герман вдруг увидел так отчетливо, как никогда раньше, истинную силу, неудержимость человеческого чувства. Герман не мог отделаться от ощущения, что эта трагедия, словно магнит, притягивает его мысли. Чем? В сущности, все вздор: Кухнюк просто психически неполноценен. Физическая, реальная основа для этого есть. А он, Герман, измотан дежурством, нервы напряжены, — вот и все. Хорошо бы сейчас завалиться спать. Часа на четыре хотя бы, а потом — на катер и в лес! В золотой, тихий осенний лес… Он возвращался к зданию больницы, отвечая на приветствия больных. Их становилось в парке все больше и больше. Судя по тому, что машина, на которой развозили пищу, стояла мокрая, уже помытая, у гаража, можно было предположить, что завтрак давно прошел. Герман посмотрел на часы — без четверти девять. Он прибавил шаг. Кажется, совсем еще недавно бидоны с пищей возила с кухни старая лошадь по кличке Фуня, впряженная в оцинкованную телегу. Герман отлично помнил и лошадь и телегу. А прошло с тех пор, поди, не меньше шести-семи лет: уже при Бате несколько лет возили на машине… Герман обогнул здание и направился к главному входу. Здесь когда-то, очень давно, были поставлены по обе стороны от высокой двери с медными длинными ручками два массивных вазона под старую бронзу с затейливым рисунком. Где их достал Батя — одному богу известно, но от них центральный вход стал похожим не на больничный, а, скорее, на музейный или соборный. У Бати было явное пристрастие к величественному и масштабному, причем — в повседневном! И проявлялось это не только в тех, зачастую уникальных, вещах, которые он приобретал для больницы. Казалось, основной целью Бати было еще и еще раз доказать всем, да и себе самому, что медицина всемогуща, а беды — от людей, занимающихся ею. Любимое его выражение с небольшими вариациями звучало примерно так: «Из каждой лечебной неудачи торчат уши медиков…» На ежедневных утренних конференциях, бывало, высиживали часа по полтора. Батя считал это полезным, называл «утренней зарядкой». Теперь все стало проще, будничнее, быстрее. В громадный, заросший «бабьими сплетнями», филодендроном и алоэ кабинет Бати пришел новый главный. Иван Степанович Черемезов сменил человека, ставшего почти городской легендой. И оставил вначале все, как было прежде. Оставил филодендроны, только придвинул их поближе к стенам да через некоторое время повесил на один из них клетку с веселым щеглом. Оставил расположение кабинетов в штабе, как называли еще с военных госпитальных лет административную часть первого этажа, и сам тоже говорил — «штаб». Не менял сотрудников. Не отменил и общих утренних конференций, хотя, в соответствии с духом времени, считал это каждодневное заседание пережитком старины, своего рода анахронизмом. Сам появлялся на них очень редко. В основном в те дни, когда нужно было обсудить какую-нибудь инструкцию или приказ. Видели его редко, слышали еще реже. Это было так необычно и так приятно! Говорили: как легко стало работать! Иван Степанович в основном занимался хозяйственными делами. Он подолгу разбирался в многочисленных и сложных проектах и планах, заполнявших переплетенными томами, папками, рулонами массивный шкаф, украшенный инкрустациями, о котором Батя напыщенно говорил: «Здесь будущее нашей больницы». Со страниц проектов глядели высотные постройки, системы зданий, связанных между собой переходами, какие-то диковинные городки, состоящие из круглых, многогранных и прочих строений странной формы. Делали эти чертежи знакомые Бате архитекторы или бывшие больные, а потом, когда было получено «добро» на реконструкцию больницы, подключились и проектные мастерские. Над Батиными идеями посмеивались, но слушали с интересом, в глубине души веря в его всемогущество. Уж если что заберет себе Батя в голову, то не отступится, рано или поздно своего добьется! А вот когда узнали в больнице, что и «тихий» Иван Степанович начинает толковать о том же, идеи стали называть прожектами, а главного — «Ванечкой», имея в виду, вероятно, известного чеховского героя: «Мы с Ванечкой такую больницу отгрохаем, всю круглую, как земной шар, только поменьше…» И прочее в том же духе. Ванечка любил собирать своих заместителей вместе с представителями партийной и профсоюзной организаций и подолгу, обстоятельно, с перерывами на перекур и проветривание, проводить совещания по разным «животрепещущим», как он выражался, темам, как-то: подготовка больницы к весенне-летнему или осенне-зимнему периоду, проверка хода выполнения подготовки больницы… и так далее. Территорию больницы Иван Степанович обходил редко, а отделения — и того реже: доверял помощникам. Нельзя сказать, что он ограничил круг своих обязанностей, но так умело распределил их между своими помощниками, что на его долю, по сути, осталось лишь представительство и «общее руководство». Каждодневная работа со всеми ее неувязками отошла к начмеду. За тем, чтобы лечение больных соответствовало современному уровню, теперь следили кафедры института. Из огромного количества прекрасных проектов реконструкции больницы был выбран «единственный реальный», как выразился Ванечка, — возведение дополнительного, пятого этажа… Жизнь шла своим ходом, и больница от нее не отставала. Но Герман не мог бы сказать с уверенностью, что больница не потеряла от всех этих перемен. Действительно, более рационально использовалось время врачей — их не держали утрами по полтора часа на конференциях, работать стало спокойнее, исчезла нервотрепка — прекратились постоянные «разборы» и «обсуждения». Однако потерялся прежний, какой-то особый настрой. Исчезло ощущение строгого контроля. Молодые врачи стали вроде бы немножко самоувереннее, чем прежние молодые. И выиграло ли от всего этого дело?.. В вестибюле у гардероба и дальше, в коридоре штаба, было уже по-утреннему оживленно. Тихо гудели дверные пружины в начищенных медных цилиндрах, сопротивляясь торопливому людскому потоку.
2
Сейчас главное — успеть на троллейбус, единственный, который позволял еще не опоздать на работу. Как это получается — и разбудили ведь рано! Надо попросить Германа Васильевича, чтобы звонил пораньше… Бегом! Конечно, только бегом… Трудновато стало бегать. Черт, вроде бы и ем немного… Вот он, стервец, раньше времени прикатил. Быстрее! Кажется, двери уже закрыл… Быстрее! А если портфельчиком ему — на работу, слышь, человек опаздывает!.. Водитель в темных очках сжалился. Ждет, открыл переднюю дверь. Хороший человек. — Спасибо! — выдохнул, словно лопнул. Так, проблема номер один решена успешно. Такие пробежки для него даже полезны — за сто килограммов перевалило… Вместо уже забытых тренировок на волейбольной площадке. Ухватившись большой рукой за хромированную стойку, Кирш на полголовы возвышался над плотной троллейбусной толпой и думал уже над решением других проблем сегодняшнего дня. Где достать для Веры какой-нибудь балык или хотя бы просто хорошую копченую сельдь? Во вчерашней записке, вынесенной ему из родильного дома, была эта запретная, правда, просьба жены. Куда все подевалось? Ленятся коптить? Или большая механизация — проще все в банки закручивать?.. — Станет вот такой… и не пройдешь! — Довольно сильно двинули в бок. Алексей Павлович посмотрел вниз на продиравшуюся к выходу толстушку, но подумал о прежнем: придется после работы пройтись по ресторанам. Потом на рынок, а уж оттуда — в родильный дом. Опять попаду к теще, когда Кеша будет спать. Попробуй тут «не дать ему отвыкнуть» от себя — еще одно наставление жены. И еще одна проблема — белье. Надо бы снести в прачечную, но когда?.. Трудно без жены. Правда, Валька, Валентин Ильич, — молодой его коллега, разошедшийся недавно с женой, — говорит, что с женой еще трудней. Нет, он, Алексей, не смог бы теперь жить холостяком. И не только потому, что любит Веру. Просто такой он человек, домовитый. Алексей Павлович с неожиданной гордостью повторил про себя это неизвестно откуда пришедшее к нему вдруг слово. А Валька — ветрогон. Может быть, и с женой ему не повезло. Бывает… Зазвенело над головой железо, и троллейбус остановился посередине площади. Водитель в темных очках выскочил, стал дергать за веревки. «Если через минуту-полторы не поедем, опоздаю, — подумал Кирш. — Опять опоздаю. Нехорошо…» А водитель все не мог попасть роликом на провод. Очки бы, что ли, снял?.. Неловкий парень. Ну что, интересно, было бы, когда б хирурги, например, недотягивали узлы, которые они вяжут? Четверть человечества, наверное бы, уже тю-тю: от каждого аппендицита — в ящик… А тут, поди ж ты, полнехонький народу троллейбус стоит — и ничего. И ведь полтроллейбуса опаздывает. Какой-то нервный товарищ не выдержал, полез к двери, выпрыгнул и, зло глянув на водителя, независимо зашагал через забитую транспортом площадь. Плохо нервным в наш технический, торопливый век.Утренняя конференция несколько затянулась — история Кухнюка вызвала повышенный интерес. В коридоре штаба было уже пусто, когда покидали конференц-зал. Петр Петрович, тридцатипятилетний невысокий сухощавый мужчина в ярко начищенных туфлях и остро отутюженных брюках, нервно говорил, то поправляя модный галстук, то оттягивая пальцем плотный ворот накрахмаленной рубашки: — Аффект? Какой же это аффект! — Его смуглое, тонкое лицо выражало негодование. — Забежал с улицы и, слова не говоря, убил человека! Не чем попало, а взял ружье, зарядил, прошел к нему в комнату… — «Ревность — уж-жасная страсть», — процитировала Лидия Антоновна строку из «Прописных истин» Флобера. Серафима Ивановна, заведующая терапевтическим отделением, посмотрела на нее из-под седых бровей и сказала: — Милочка, вы очень оригинальная особа… Серафима Ивановна если и читала когда-то Флобера, то, наверное, успела забыть. Сохраняя максимум достоинства, она пошла по холлу второго этажа к себе на отделение. Лида показала ее прямой спине кончик языка, Герман не сдержал улыбки, а сосредоточенный на своей мысли Петр Петрович ничего не заметил. Они поднимались по парадной лестнице, отделанной под мрамор, с истершимися посредине ступенями. — Настало время расстреливать шептунов, вроде тех, что бегали уведомлять Кухнюка, — твердо сказала Лидия Антоновна. — На мой взгляд, провокатор отвратительнее убийцы. — Здесь я не хочу с вами спорить, — согласился Петр Петрович. — Но признайте все же, что во второй половине двадцатого века поступки, подобные кухнюковскому, — просто неправомерны! — Не заблуждайтесь, шеф. Человеческая эмоциональность неизменна. Я убеждена в этом, — изрекла Лидия Антоновна. Герман едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. — Возможно. Но ее проявления! — настаивал Петр Петрович. — А что проявления? Меня бы, наверное, приятно взволновало, если бы что-нибудь совершили ради меня. Или вы, в отличие от всех, считаете меня недостаточно современной? — Что… «совершили»? — оторопело произнес Петр Петрович, останавливаясь. Он не понимал, шутит она или говорит серьезно. — Даже… убийство? — А что? — с вызовом оказала Лида. — Ну, знаете!.. Женское начало, вероятно, забивает в вас все прочее… — Так это хорошо, шеф? Раз забивает все же «прочее»? Герман хмыкнул, а потом сказал примирительно: — Ладно, Петя, сходи-ка лучше к этому убийце и посмотри, все ли мы делаем, что нужно для его выздоровления. Они поднялись уже на четвертый этаж. Петр Петрович побежал в реанимационную плановой хирургии, и Герман с Лидой остались одни у двери в ординаторскую анестезиологов. — Зачем вы всех разыгрываете, Лидия Антоновна? — усмехаясь, спросил Герман. — Иногда со скуки, иногда оттого, что противно, когда все так чинненько и благоразумненько. Но об этой истории с Кухнюком — я серьезно. — Лида вытащила из кармана халата пачку «Стюардессы», предложила Герману. — Зайдите в гости. Покурим. У нас хорошая ординаторская, уютная. — Как-нибудь в другой раз. — Все дела, дела? Опять она смущала его, делала неловким и неприятным самому себе. — Как только вы находите время для водных прогулок? В больнице многие знали об увлечении Германа. Он усмехнулся: — Это необходимость. — Неужели? — Чему вы удивляетесь? — Мне казалось, — серьезно сказала Лида, — что развлечения не могут стать необходимостью. Это уже скорее распущенность. Теперь пришла его очередь удивляться. Собственно, он совершенно не знал ее. — Досуг — большая часть нашей жизни, — сказал Герман после паузы. Лида курила, задумчиво глядя на него. — Что ж… Наверное, вы правы. Просто мой досуг никогда не был организован какой-то идеей, что ли… — А вы попробуйте. — Для прогулок на воде у меня нет возможностей. — Выражение ее лица и тон снова стали чуть-чуть ироничными. — Разве что вы поможете мне испробовать. А? — Отчего же… — Скрывая смущение, он протянул ей руку: — Спасибо, вы сегодня здорово помогли нам. Но не успел он войти в ординаторскую, как Кирш протянул ему трубку: — Вас, Герман Васильевич. — Вы не сказали главного — где и когда искать вашу лодку, — услышал он серьезный голос Лиды и представил себе ее смеющееся лицо. Он был настолько ошарашен, что ничего не смог придумать в ответ и пробурчал: — Третий бон в парке… После шести, наверное… — Все ясно! — И гудки отбоя. Он покачал головой: чертова девчонка! И до него добралась. Надо подумать, как ее отбрить… Лида переоделась, привела в порядок волосы, примятые колпаком, подкрасила губы. Села и снова закурила. Утром после дежурства она курила особенно много. В обычные дни — меньше полпачки, на дежурстве не хватало и целой. В ординаторской никого не было, все анестезиологи разошлись по отделениям — готовиться к операциям, осматривать своих вчерашних подопечных в многочисленных реанимационных палатах. На каждом этаже была такая палата — плод неукротимой деятельности заведующего анестезиологическим отделением Петра Петровича. Лида говорила, что он, пользуясь страстью Бати к новшествам и мягкотелостью нового главврача, распихал реанимационные палаты во все углы здания, словно основная работа больницы — оживление полутрупов. И теперь здесь можно только тихо помереть, но никак не погибнуть. Она дождалась возвращения Петра Петровича, спросила у него: — Ну, что, шеф, не набедокурила я? Петр Петрович отпускал дежурных, только проверив их работу. — Вы сегодня поработали просто молодцом, Лидия Антоновна, — похвалил он. — Я очень ценю вашу похвалу, шеф, — с расстановкой оказала она, — и все же ухожу. Петр Петрович часто не мог понять, когда она говорит серьезно, а когда подтрунивает над ним. Он не мог даже допустить мысли, что над ним можно подтрунивать. Неясность нервировала его, и он недолюбливал эту красивую и своенравную бабу.
Лида медленно шла по центральной аллее к распахнутым больничным воротам, подставляя лицо солнцу, бездумно наслаждаясь теплым днем. Выглядела она очень эффектно в узеньком костюме с короткой юбкой. Плащ был небрежно переброшен через руку яркой подкладкой наружу. Широкие каблуки модных туфель уверенно отстукивали по асфальту. Лида одевалась хорошо, иногда — броско, и это тоже было одной из причин неприязненного к ней отношения некоторых больничных женщин, особенно пожилых и солидных. Другие же, напротив, находили в живости ее ума много притягательного. У Лиды было достаточно приятельниц в больнице, которые обменивались с нею новостями косметики и журналами мод, судачили, разбирали по косточкам всех знакомых. Немало осталось у нее и институтских друзей, но в последнее время они стали встречаться редко. Может быть, причиной тому было и ее замужество на последнем курсе, вернее — странные отношения ее с мужем, а возможно, и работа, отнимавшая много времени. Но как-то так получалось, что при большом количестве приятелей и приятельниц, живя вместе с матерью, мужем (обычно находившимся «в поле» — он был геологом) и пятилетним сыном, она чувствовала себя совершенно одинокой. Чувство одиночества никогда не оставляло ее, оно могло куда-то спрятаться или подкатывало к самому горлу, но она всегда ощущала его в себе. И рядом с этим чувством жило в ней другое — ожидание чего-то, какая-то надежда. Это другое было неопределенно, непонятно, но делало существование радостным, наступавший день — желанным. А в последние месяцы это радостное ощущение в ней было несомненно связано с больницей. И вот недавно она с удивлением поняла причину — Герман. Через пять лет совместной работы?.. И почему вдруг Герман?.. Но добираться до истоков было совсем не в ее характере. У самых ворот Лиду нагнала «Волга», притормозила рядом. — Садитесь, Лидия Антоновна, подвезем, — любезно предложил главврач Иван Степанович и открыл заднюю дверцу. — А вам куда? — обрадовалась Лида. — В горздрав, но мы подбросим вас, куда нужно. Время позволяет. — Иван Степанович проверил, хорошо ли она захлопнула дверцу, и улыбнулся ей. — Домой? Куда? Лида назвала адрес. Шофер лихо вел машину по перегруженному проспекту. Лида подумала, что он, пожалуй, единственный человек, пришедший в больницу с новым главным. Она вспомнила услышанную когда-то фразу: «Надежный, молчаливый шофер — самый ценный работник для начальника» — и улыбнулась. Настроение было отличное. Возбуждение, привычное для нее после напряженного дежурства, не сменилось еще депрессией и сонливостью, солнечный мир казался прекрасным. — Хорошо-то как! Катить бы и катить вот так куда-нибудь!.. — Я бы с радостью… — Ванечка повернулся к ней, светясь круглым доброжелательным лицом. — Да вот… — Ну, понятно, Иван Степанович! Разве вы можете изменить своему горздраву, — смеялась Лида. — Может быть, отложим прогулку на вечер? — неожиданно предложил Ванечка. — Как мило! Интересно, что об этом скажут завтра в больнице. — Это должно быть нашей тайной, естественно. — Ну, тогда это совсем интересно!.. Налево, пожалуйста, и у второго дома… Когда же тайная встреча? Ванечка снова повернулся к ней и посмотрел испытующе: дурачится или скрывает за шутливостью то, чего он давно и страстно желал? — А позвоните часов в пять в кабинет. — Вы будете ждать? — Чего? — Моего звонка? Ванечка был явно сбит с толку. — Ну… Если вам нужно… чтобы ждали… — Конечно! Это нужно всем женщинам. А вашей жене, думаете, не нужно? Машина стояла уже у ее парадного, тихо гудел мотор, шофер бесстрастно смотрел поверх опущенного бокового стекла куда-то на противоположный тротуар. — Честно говоря, в последнее время меня этот вопрос не занимает, — после небольшой паузы доверительно сказал Ванечка, придвигаясь к Лиде через спинку. Она рассмеялась и открыла дверцу: — Большое спасибо. Благодаря вам я после дежурства лягу спать на целых полчаса раньше. Поставить в известность профсоюз?.. Когда она была уже на тротуаре, он сказал ей, опустив стекло: — Я буду ждать вашего звонка. …Лида, усмехаясь, поднималась по лестнице. На главных врачей ей явно везло: второй в ее жизни, и тоже смотрит, как кот на сало. Ох, мужики!.. Ну, от этого увернуться будет попроще, чем от Бати. Этот теленок по сравнению со стариком — настоящим бойцовским быком. Бывало, вызовет в кабинет, начнет с задушевных разговоров о работе, о сотрудниках, потом о жизни вообще, а сам подходит все ближе, ближе, словно петлю затягивает, этак неприметно. Даже жутко становилось… Лида не стала открывать дверь своим ключом, а позвонила: она любила, когда Коленька выбегал встречать ее, подпрыгивал, цеплялся за шею и повисал, болтая ножками.
3
Врачи были на обходе. По ординаторской, уставленной канцелярскими столами, гулял сквозняк — оба окна были распахнуты. Это, конечно, работа Кирша — все ему жарко, подавай свежего воздуха толстяку! Герман притворил окна и прошел к своему столу. Нужно было составить план операционного дня на завтра. Долгие годы отрабатывал Батя со своими подчиненными «путь больного от дверей отделения до операционного стола» и предусмотрел на этом пути, кажется, все. Однако заведующим приходилось туго: им необходимо было учитывать и интересы кафедры — «учебного процесса», как именовалось это на официальном языке. От этого самого «учебного процесса», в котором помимо студентов участвуют еще ассистенты, доценты, профессор, трещали головы у несчастных заведующих. Час Герман работал без помех. Правда, несколько раз забегала Прасковья Михайловна, старший ординатор, звонила куда-то по телефону с озабоченным видом. Но это не отвлекало Германа. Все привыкли уже к ее озабоченности. Сын Прасковьи Михайловны, студент («подумайте, дураку нет еще и двадцати лет!..»), женился на восемнадцатилетней девчушке, студентке первого курса, и привел, конечно, жену в их единственную комнату. А всего год назад муж перенес ампутацию бедра, и все хлопоты, связанные с получением квартиры, легли на плечи Прасковьи Михайловны. Несколько месяцев уже обивала она разные пороги. В одном кабинете обнадеживали, в другом сомневались, в третьем обещали определенно, но просили потерпеть. Прасковья все время звонила куда-то, а сразу после работы мчалась, как говорил Валентин Ильич, молодой ординатор их отделения, в «приказы». Еще в институтские годы — а кончали они вместе с Германом двадцать лет назад — маленькая энергичная Прасковья отдала свою привязанность хирургии. И все время с тех пор не ослабевала эта ее любовь. Может быть, даже крепла. Не могли поколебать ее невзгоды и неудачи, от которых выплакивала Прасковья, по словам Германа, по килограмму слез на каждую. За последний год она заметно сдала из-за своих квартирных неурядиц. Вымоталась, устала. Герман и Кирш старались, где могли, разгрузить ее, брали за нее дежурства. Герман ходил к главному врачу, просил администрацию больницы подключиться активно к Прасковьиным ходатайствам. Ванечка сочувственно кивал, обещал сделать все возможное, а недели через две оказал Герману: «Сами понимаете, Герман Васильевич, с таким делом в горисполком так просто не пойдешь. Здесь нужно выбрать момент. Что называется, попасть в слой…» И Герману стало ясно, что вся затея — пустая. Вот уж повод вспомнить добрым словом тирана Батю: он-то не отделался бы круглой фразой! Обход продолжался уже около полутора часов. Никто из врачей не возвращался в ординаторскую. Более получаса прошло, как последний раз забегала позвонить по телефону Прасковья. Она могла, конечно, задержаться в палатах перед перевязками, но чтобы все трое сразу?.. С Валентином Ильичом этого, пожалуй, и вовсе не могло случиться. В дни самостоятельных обходов, без профессора или заведующего, как сегодня, ему хватало получаса. «Хирург должен быть деловым человеком, — убежденно говорил Валентин Ильич. — Душеспасительные беседы — психиатрам…» Герман постоянно воевал с ним. Но больные, как ни странно, любили Валентина. Подтянутый, даже немного щеголеватый, голубоглазый, в чуть кокетливо набок надетом колпаке, он всем видом своим и энергичной манерой держаться и двигаться излучал здоровье. Доза этого излучения не раздражала, а постоянная готовность к шутке — простой и грубоватой в мужских палатах и неизменно мягкой в женских — и сделала, вероятно, Валентина любимцем больных. У Валентина Ильича, два года назад окончившего институт и сразу пришедшего в большое хирургическое отделение, сложилось преждевременное убеждение, что диагностика — удел в основном техники, а будущее за кибернетикой, и, следовательно, самостоятельное место человека в медицине — только у операционного стола, где техника способна помочь человеку, но не заменить его. Значит, главное, считал он, — овладеть сложным рукоделием, хирургической сноровкой. Участвовать в операциях Валентин мог ежедневно и по многу часов, а вот побеседовать с больным, лишний раз пощупать, выстукать, просто проанализировать увиденное или услышанное у постели больного он считал напрасной тратой времени. При Бате Валентину Ильичу определенно пришлось бы туго. Герман не был уверен, что Валентин продержался бы в больнице эти два года: прежний главный очень серьезно относился к отбору врачей на свои отделения. Он считал, что вообще система отбора в медицинский институт или училище, куда, как и в торговый техникум, может поступить любой желающий, порочна. Чтобы стать летчиком или, тем более, космонавтом, говорил Батя, совсем не достаточно быть прилежным. Нужно еще иметь хороший вестибулярный аппарат, зрение, определенную нервно-рефлекторную реакцию и многое другое — ведь от этого зависит жизнь самого летчика, жизнь других людей. Но ведь от врача всегда зависит жизнь и здоровье многих, очень многих людей! По логике, здесь отбор должен быть, наверное, строже, чем в отряд космонавтов: по каким-то тестам, репрезентам, квазизадачам, энцефалограммам, бог знает еще по чему, — нужно отбирать людей, обладающих повышенным чувством ответственности (здоровье-то чужое!), истинным гуманизмом и еще десятком таких человеческих качеств, которые не воспитать за несколько лет в учебном заведении, даже самом хорошем. Проблема отбора, утверждал Батя, — одна из основных в современной медицине! И он ввел в больнице свою систему отбора, которая состояла из двух фаз. В первой на врача, обычно молодого, желательно даже сразу с институтской скамьи, давил мощный административный пресс. За каждым шагом и поступком врача Батя следил через начмеда и заведующих отделениями: как ведет себя с больными, как переживает неудачи, интересуется ли специальной литературой, не слишком ли торопится домой в конце рабочего дня. Создавались различные так называемые общественные комиссии, полностью подчиненные воле Бати. Машина работала, не останавливаясь ни на секунду. Вторая фаза отбора была наполовину добровольной: если не выдерживавший подобных испытаний или не подходивший под столь высокие мерки врач не подавал заявления об уходе сам, ему предлагали это сделать, не дожидаясь скандальных ситуаций. Метода Бати, очевидно, походила на отбор, который проводил древний учитель — Эскулап. И Батя даже гордился этим. Причисляя себя к выходцам из среды земских врачей, он оставался душою рядом с больным человеком и до последних дней своих близко к сердцу принимал все заботы практической медицины, считая, что именно для нее и городится огород. Он любил порассуждать о статуте врача, его обязанностях и облике. Когда на больничном вечере какой-нибудь врач из молодых спрашивал у Бати о тех, кого он заставил уйти из больницы, тот глухо смеялся, собирая в морщины большое, все еще красивое лицо под седой шевелюрой: «Мало ли есть институтов, мало ли нужно везде разных научных сотрудников — к микроскопам, к собакам, наконец…» Да, возможно, это было его заблуждением, но он считал, что медик, не обладающий высоким потенциалом необходимых качеств, может оказаться полезным в науке, даже на преподавательской должности, но не на практической работе, у постели больного. Он был убежден, что медицинская наука — дело большой важности, но все же вспомогательное звено, база, основа, называйте как угодно, а главное — это, конечно, практическая медицина, само врачевание. Ибо главным всегда была и будет цель, а не средство. «Помилуйте! — говорил не без артистизма Батя. — От кого больному ждать душевности в тяжкую свою минуту? Не от пламенного же фотометра, чудесного аппарата, но пламенного, к сожалению, только чисто физически…» Тут Батю было не переубедить: нарастающее неуважение к врачу, недоверие к нему считал он оправданным, так как в громадном корпусе врачей появляется все больше и больше людей случайных, попавших, что называется, явно не туда, дискредитирующих весь корпус своим отношением к делу, да нередко и просто своим образом жизни (да, да, для врача и это важно!). Верно, одна больница не изменит картины. Но почему она должна быть одна?.. И потом… ха… — ха… почему бы его больнице и не быть лучшей? В городе? Отчего же — в городе, а не в Союзе? По лучшим равняются, перенимают их опыт. Как знать, куда пойдет дальше этот опыт! Не теперь, так через десять, двадцать лет… Он был оптимистом, Батя, и жизнелюбом. Он не мог даже предположить, что он, такой большущий, такой здоровый в свои шестьдесят пять лет, умрет в одночасье от безжалостной руки, вдруг сжимающей человеческое сердце, — от инфаркта. И опыт его прервется… А врачи все не возвращались. Обеспокоенный Герман отодвинул бумаги и встал из-за стола. Едва покинув ординаторскую, он понял, что случилась беда. В дальнем конце коридора, у восьмой палаты, толпились больные. Из перевязочной туда же бежала сестра. Герман ринулся вслед за нею, быстро вспоминая больных из этой палаты. Их там всего трое: Власов… нет, вот он — возвышается надо всеми в коридоре… Старик Тузлеев и мальчишка с грыжей, который завтра идет на операцию. Мальчишка или Тузлеев? Что там могло случиться?.. И последнее, что мелькнуло, словно искра короткого замыкания, разряжая многодневную тревогу Германа, — Прасковьина палата!.. Две кровати были брошены одна на другую в угол, третья, окруженная людьми в белых халатах так плотно, что Герман даже не увидел вначале, кто на ней лежит и что там происходит, стояла посредине палаты. Герман молча прошел к изголовью. Тузлеев. Лицо с закрытыми глазами, обнаженная грудь и откинутая на табурет рука знакомого, такого отвратительного желтовато-серого цвета. Изо рта торчала наркозная трубка, и Петр Петрович ритмично сжимал «гармошку» наркозного аппарата. Анестезиологу помогал Валентин Ильич, а Алексей Павлович и Прасковья Михайловна возились у откинутой руки Тузлеева. Локтевая вена была обнажена, из свежей раны едва сочилась кровь, по капельнице торопливыми каплями бежал в вену раствор. Сестры обкладывали тело больного грелками, стояли вокруг со стерильными тазиками, в которых поблескивали шприцы и инструменты. На полу валялись куски марли, окровавленные салфетки, растерзанные биксы, темнели пятна разлитых жидкостей. В стороне, у самой стены, стояла заправленная консервированной кровью капельница. Герману достаточно было взглянуть только на эту капельницу с болтающейся у пола иглой, чтобы понять, что здесь недавно произошло. — Иногруппная? — коротко спросил он. Прасковья подняла к нему осунувшееся, старое лицо. Волосы выбились из-под колпака, растрепались. От этого она, всегда такая аккуратная, стала непохожей на себя. — Иногруппная или резусная? — переспросил Герман. Она смотрела на него молча, словно не понимала вопроса. — Иногруппная, — ответил за нее Валентин Ильич. — Тяжелый шок, — сказал Петр Петрович. — Но сейчас как будто сосудистый тонус улучшается. Герман обошел изголовье, взял у запястья лежавшую на кровати морщинистую руку Тузлеева. Тонкая нитка пульса прыгала часто и неравномерно. Ничего себе, лучше… Черт побери! Наверное, прав этот сосунок, Валентин: людям оставить в медицине только рукодейство и отбирать лишь необходимых для этого и пригодных людей, хоть пустых, хоть безголовых, только бы умелых и пунктуальных!.. Каким должно быть наказание за совершившееся здесь преступление — изгнание, суд?.. Но если Тузлеев помрет, его ведь ничем не воскресишь! Ужасная в своей глупости смерть… Неужели недостаточно в больнице смертей, случившихся вопреки всем стараниям медиков, неизбежных пока смертей — от нашей слабости: от незнания, неумения? Тоже наших смертей!.. Через два часа у Тузлеева восстановились нормальная деятельность сердца и тонус сосудов. Петр Петрович перевел его на самостоятельное дыхание. Первая, непосредственная угроза миновала — больной остался жив. Прасковья Михайловна сидела у его кровати в реанимационной палате. Петр Петрович умчался куда-то, а остальные врачи, участники отгремевшего боя, собрались в ординаторской. Молча курили. Только Валентин Ильич строчил деловито в историях. Молчание нарушил Алексей Павлович: — В том состоянии, в котором находилась последние месяцы Прасковья, можно было сделать что угодно… Валентин Ильич оторвался от историй и поочередно поглядел на Кирша и Германа. Лицо заведующего было непроницаемо, взгляд устремлен в окно. Солнце стояло уже высоко, где-то над крышей больницы, лучи его ушли из ординаторской. Редкие белые облачка неподвижно висели в голубизне над пестрыми кронами парка. — Лошадь уже несколько раз прогарцевала по отделению, — заметил Валентин. — Готовится к сабельной атаке. «Лошадью» очень давно какой-то недоброжелатель прозвал начмеда. И это прозвище за нею укрепилось. Может быть, потому, что у нее была лошадиная фамилия — Кобылянская, а возможно, оттого, что она действительно напоминала чем-то лошадь. Скорее всего походкой — ломовую лошадь. И функции, которые она выполняла при Бате, проводя, как и он, в больнице все дни от зари до зари, были похожи на работу ломовой лошади: тяжелую, неблагодарную, зачастую непонятную ей самой. Но без этой работы, вне этой работы Кобылянская не могла даже представить своей жизни. Да у нее и не было, собственно, своей отдельной от больницы жизни. Все было отдано Бате, госпиталю, больнице. Она пришла под начало Бати прямо со студенческой скамьи еще перед войной. Ее уделом были бумажки и склоки, которые именовались «нелицеприятным выяснением обстоятельств». Теперь, без Бати, начмед сильно сдала, стала тише. Она все так же дневала и ночевала в больнице, все так же неутомимо вышагивала тяжелой походкой по этажам и отделениям, пытаясь устраивать разносы за пыль на листе фикуса, за несвоевременно проставленный на титульном листе истории болезни диагноз или за «неделовой телефонный разговор в рабочее время». Но ее уже не боялись, над нею подшучивали в открытую, а Иван Степанович, выслушивая ее жалобы, добродушно расплывался, успокаивал, советовал поберечь нервы, потом вдруг, становясь серьезным и проникновенным, обещал «разобраться» и «выяснить». Ничего он, конечно, не выяснял, так как считал все это мелочами, в которых в конце концов можно легко погрязнуть, «бабскими заскоками», которые нужно выслушивать терпеливо и сострадательно, но и только. А при Бате начмеда боялись! Навряд ли прежде в такой ситуации кто-нибудь из врачей больницы произнес бы столь игривую фразу, как Валентин Ильич… Герман вдруг почувствовал усталость. Неожиданно сильно заломило в затылке. Захотелось лечь и уснуть, но уйти домой было невозможно. Он снял трубку и набрал номер телефона старшей сестры. — Клавдия Ивановна, занесите мне, пожалуйста, пару ампул кофеина. Случалось и у него за двадцать лет — и не так уж редко, — что охватывало раскаяние, даже отвращение к себе за что-то, сделанное не так, как нужно было бы, за что-то недодуманное, невыполненное, от чего страдал больной человек, но здесь была небрежность, недопустимая, непростительная небрежность… Старшая сестра принесла Герману кофеин. — Может быть, крепкого чая? — Спасибо, Клавдия Ивановна, не надо. Герман прошел к раковине, налил стакан воды, отломил тонкие запаянные концы ампул, вытряс на язык их содержимое, запил. Потом отправился в палату к Тузлееву. В реанимационной было полно народу. Лаборантка брала у больного кровь из вены. Тузлеев сонно, с трудом, поднимал веки и все время повторял: «Что со мной? Что со мной?..» Прасковья сидела рядом, уронив руки на колени. Петр Петрович и Серафима Ивановна, заведующая терапевтическим отделением со второго этажа, рассматривали у окна электрокардиограмму, вероятно, только что отснятую. Сестра возилась со шприцами у небольшого столика. И надо всеми, казалось, возвышалась начмед Кобылянская. Ее ярко накрашенные губы были так плотно сжаты, что рот стал похож на нарисованное детской рукой овальное солнце, от которого расходились во все стороны лучи морщинок. Она выглядела сейчас грозно, совсем как при Бате. — Что это у вас происходит? — тихо и возмущенно сказала она вошедшему Герману. Знакомый напряженный полушепот… Он ничего не ответил ей, подошел к Тузлееву, пощупал пульс. Вполне приличный. — Ну, как там? — опросил у Петра Петровича. — Все нормально. Пожалуй, можно трубить отбой. Герман кивнул и отошел к Кухнюку. Плотная повязка на шее выглядела высоким белым воротником. Запавшими безразличными глазами Кухнюк, не мигая, смотрел в окно. Казалось, он даже не замечает всего, происходящего вокруг него. Герман заглянул в листок на тумбочке у кровати. — Как вы себя чувствуете, Кухнюк? — Присел на край его кровати. Кухнюк медленно перевел взгляд на врача и так же неспешно отвел его в сторону. Герман повторил вопрос, его интересовало сознание больного. — Плохо, — ответил после длинной паузы Кухнюк. Герман видел краем глаза, как потянулись из палаты врачи. — А что — плохо? Широкое белое лицо Кухнюка ничего не выражало. — Напрасно все это… — наконец так же тихо произнес он. — Что напрасно? Кухнюк закрыл глаза. Герман посидел еще немного рядом с ним, глядя на неживое его лицо, потом встал. Перед тем как выйти из палаты, сказал сестре: — С Кухнюка не спускать глаз. Если вам понадобится выйти, зовите милиционера… Пойдем, Прасковья. Хватит. Новый милиционер, сменивший дежурившего ночью, сидел в коридоре, в тех же бахилах и халате, и читал книгу. За дверью в холл, сверкнув начищенными ботинками, промелькнула маленькая решительная фигура Петра Петровича. Весь день он стремительно метался из операционной в операционную, с этажа на этаж, из одной реанимационной в другую… В ординаторской Кобылянская, стоя посредине комнаты со скрещенными на высокой груди руками, внушала что-то Валентину Ильичу, а тот, согласно кивая, не переставал быстро писать. Алексей Павлович сидел на краю начальнического стола и звонил в родильный дом. — Узнайте, пожалуйста, я подожду… Девушка, милая, вы же сами понимаете — за час могла родиться уже и тройня… Герман спросил, проходя к своему столу: — Ну, что там у тебя? Алексей прикрыл большой ладонью трубку. — Похоже, все пока без перемен… — Он слез со стола, пододвинул к себе ногой ближайший стул. — Герман Васильевич, я считаю, нужно собрать ваших ординаторов и обсудить случившееся, — решительно заявила начмед. — Наверное, сейчас не время, — устало сказал Герман. — Самое время! — категорично возразила она. — О каком времени вообще может идти речь? Это же подсудное дело! — Может быть. И все же сейчас не время, — упрямо повторил Герман. — При Бате вы так не стали бы разговаривать! — возмущенно загремела Кобылянская. — Тут бы уже вся больница была на ногах! Валентин Ильич перестал писать, вскинул на нее голубые глаза. — А зачем? — искренне удивился он. — Вот! Вот, пожалуйста!.. — Кобылянская задыхалась. Алексей Павлович буркнул что-то в трубку и положил ее на рычаг. — Успокойтесь, — прервал начмеда Герман. — Не сомневаюсь, что и Батя не стал бы сегодня теребить людей. Согласитесь, что злого умысла не было, и переживания виновницы нам трудно себе даже представить… — О чем вы говорите?! Вот и ваши ординаторы… Потому и возможно это стало именно в вашем отделении… Какие тут могут быть сантименты — совершено преступление! Вы ведь едва не убили человека!.. В этот момент вошла Прасковья Михайловна. Несколько секунд в ординаторской стояла такая тишина, что слышны были через приоткрытые окна не только голоса гулявших по парку больных, но и отдаленный шум проспекта. Прасковья Михайловна молча села за свой стол. И вдруг упала на него грудью, раскинув руки, ударилась головой о столешницу. Зашлась в страшной истерике…4
Федор Родионович прикрыл глаза рукой. Если решаться, то нужно немедля. Уже через несколько дней будет, наверное, поздно… Профессор встал из-за стола и подошел к окну, распахнул его. Легкий ветерок обхватил не остывшее еще после операций худощавое тело. Обе операции прошли легко, быстро, наполнив ощущением молодости, всемогущества. Федор Родионович смотрел поверх зеленых деревьев в даль, прорезанную высотными домами и редкими церковными куполами. Ему нравился вид, открывавшийся из окна его кабинета. Отсутствие людей и машин делало мысли спокойными, вневременными. Время… Сколько его потеряно, прошло почти бесполезно — на преодоление препятствий, на пустые разговоры, на писанину, наукообразную деятельность… А что теперь? Подкатывает уже к шестидесяти, и только в такие вот часы, как сегодня, — когда успешно окончены операции и за окном солнечный, молодящий день, — только в такие часы ему начинает снова казаться, что не все еще потеряно, что можно и нужно идти вперед, к своей цели. Начинает казаться, как в молодости, что ты вечен… К какой цели, однако? Пятидесятивосьмилетний профессор делает простейшие операции на сердце, которыми успешно овладевают теперь молодые хирурги. Может быть, вся эта затея с сердечной хирургией напрасна? Но он так много лет мечтал об этом! И в первые месяцы после смерти Бати чувствовал себя помолодевшим… Нехорошо это? Еще бы! Ведь Батя был его благодетелем. И даже хвастал, что «сделал» его, профессора. И это недалеко от истины: совсем еще молодой хирург под началом Бати окончил войну главным хирургом госпиталя, а потом, пользуясь поддержкой того же Бати, защитил на военном материале госпиталя кандидатскую диссертацию. И когда у Федора Родионовича родилась вторая дочь, Батя выделил ему в первом больничном доме, отстроенном рядом, на проспекте, трехкомнатную квартиру, и Федор Родионович остался в больнице ассистентом клиники… И через восемь лет, сменив на посту заведующего кафедрой своего состарившегося предшественника, он чувствовал себя Батиным должником. Сколько идей было тогда у молодого профессора! Сделать кафедру центром по лечению заболеваний сердца и кровеносных сосудов — вот что казалось главным. Преподавание, студенты — все это важно, но клиника призвана прежде всего лечить больных. Лечить с полным знанием дела, с позиций самой современной науки! И студенты, и преподавание, и все прочее без этого будет серым, ординарным, почти бессмысленным… Теперь, через пятнадцать лет, его не волновало, что он — малоизвестный профессор, которого не знают даже многие коллеги. Главное — ничего не сделано. Решительно ничего! Вот самое главное в его жизни, страшное. Десятки его так называемых научных работ, как и работы его кафедры, все эти статьи, доклады, — все малозначительно, порой и вовсе незначительно. Жалкая возня, бумагомарание… А операции сотни практическиххирургов делают не хуже его ассистентов. Даже, наверное, лучше — у них не отнимают так много времени занятия со студентами, подготовка отчетов, сообщений, лекций, десятки других работ, которыми заняты кафедральные хирурги. Что же удивительного, если многие из них отстали в рукоделии, в практическом опыте. И сам он принес наибольшую пользу людям, наверное, не здесь, в клинике, в годы расцвета сил своих, а мальчишкой, во время войны, когда, сутками не отходя от операционного стола, спас тысячи человеческих жизней… Есть веское оправдание: нужно ведь кому-то заниматься и преподаванием. Нужно! Но ему этого всегда было мало. Он хирург, в первую очередь и прежде всего хирург. Он страстно мечтал сделать что-то важное, большое, привнести в любимую хирургию что-то свое, может быть, сделать открытие, которое служило бы людям. Не получилось. Ошибся выбором?.. Не случайно ведь тот же Герман Васильевич, настоящий — по душевному складу — хирург, отказался, защитив диссертацию, от места ассистента в его клинике. Да и что его может привлечь сюда? Его и других преданных хирургии, любящих ее врачей? Ничего! Разве только значительно большая зарплата… Клиника без идей, без большого поиска — серо и бескрыло… И виноват в этом Батя. Его цепкие руки всю жизнь прочно держали Федора Родионовича. Они были добрыми, когда засадили молодого военврача за диссертацию, приобщили его к бескорыстной науке, преданной страдающему человеку. Но эти же руки так и не дали профессору встать, выпрямиться во весь рост. Возможно, не хватило у профессора характера, не нашлось нужных сил, чтобы отстоять себя? Может быть… Странные у них были отношения. Но теперь Федор Родионович знал твердо: ненавидел он Батю, неистово и давно ненавидел, несмотря на все. Настроение быстро портилось. Померкла лазурь теплого осеннего дня, стал раздражать неустанный железный лязг проспекта, и отдаленные взвизги строительных кранов, и эти нагло лезшие со всех сторон каменные громады, все туже, все выше с каждым годом обступавшие больницу, словно бы делавшие ее все меньше и меньше. Эти наступавшие дома были олицетворением времени. Время, время! Оно давило его. Влажная после операций рубашка холодила спину. Надетый поверх халат не согревал. Противный озноб передернул тело. Федор Родионович, недовольно морщась, с силой закрыл окно, потом, сбросив халат, пошел в угол кабинета, за ширму, где была раковина, переодеваться. От теплой воды озноб сразу унялся. Федор Родионович вяло обтерся жестким от крахмала полотенцем. Надел сорочку, поднял к зеркалу взгляд, чтобы поправить галстук. И тут вздрогнул, словно неожиданно столкнувшись с посторонним человеком. В сумеречном свете за ширмой на него глянуло знакомое, но чужое серое лицо, с глубоко сидящими и оттого невидимыми глазами, — лицо с пустыми глазницами. Он взялся за край раковины, придвинулся к зеркалу так близко, что от дыхания стало мутнеть стекло… Стук был долгим и довольно сильным. Так стучат, решив уже, что за дверью никого нет. Федор Родионович сухо сглотнул и, пересиливая охватившую его немоту, сипло крикнул: — Войдите!.. Чтобы дверь не отворялась при открытом окне, он велел вчера добавить кожаных полос, от которых стала она тугой. Его услышали, но дверь некоторое время не поддавалась. И это было ему неприятно, славно заперли заживо в склепе. Он поспешно шагнул из-за ширмы, дернул за ручку. — Что это у вас с дверью? — входя, спросил Герман. Федор Родионович махнул рукой, пошел за стол к креслу, на спинке которого висел его халат. — Вы просили меня зайти? Профессор надел халат, застегнул его на все пуговицы, показал Герману рукой на стул, приглашая сесть. Отошел к окну, а потом, легонько прокашлявшись, спросил: — Я слыхал, у вас на отделении несчастье? — Да. Но как будто бы отделались только испугом. Федор Родионович кивнул, отошел от окна и сел в кресло. — Водно-солевой баланс посмотрели? — и уже в конце фразы болезненно поморщился. Сила инерции! Водно-солевой… Одна из его «тем»… Герман что-то ответил, профессор не слушал его. Бесконечное, сводящее с ума блуждание в непролазном лесу мелочей, в заболоченном осиннике!.. Он вдруг словно почувствовал даже запах болотной гнили. Федор Родионович придвинул лежавшую перед ним историю болезни. Вот! Вот спасение в этой кривоколенной, бездарно и почти бесполезно прожитой жизни! Надо оперировать, спасать безнадежно больных людей, которым в состоянии помочь, возможно, только он, глава хорошо оснащенной клиники, человек, которому предоставлены большие возможности. В этом может быть оправдание его жизни, только в этом!.. — Вы знаете, конечно, о братьях-близнецах Харитоновых, — глухо сказал Федор Родионович. — Они сейчас на терапевтическом отделении. — Он сделал паузу, глядя пристально своими глубоко сидящими томными глазами на Германа, словно стараясь понять, о чем тот думает в эту минуту. — Офицер, приехавший к больному брату, настаивает на пересадке и подвергся обследованию. — Профессор стал нервно листать историю болезни тонкими бледными пальцами. Кожа на них морщинилась не по возрасту — от герметичных перчаток, спирта, талька. — Я хочу провести операцию на вашем отделении. Вот история болезни. — Федор Родионович протянул ее через стол Герману. — Познакомьтесь. — Он встал. — Решать нужно сегодня. Итак, все же пересадка! Разговоры о ней бродят по больнице уже несколько дней. Началось. Герман с сожалением посмотрел на часы на профессорском столе. Они показывали час дня. Это значило, что опять не удастся, наверное, выбраться за город…Через полчаса они снова сидели друг против друга в кабинете профессора. Федор Родионович выжидающе смотрел на Германа. — Очень уж выражена интоксикация. — Герман неуверенно покрутил в руках историю болезни и, приподнявшись, положил ее на профессорский стол. — Да. И добавьте: искусственная почка не показана. Неделю назад это обсуждали всей лабораторией. — Федор Родионович придвинул к себе историю и стал листать. — Человек обречен в двадцать четыре года. Если спасти этого парня, можно считать спасенным и себя… Федор Родионович даже чуть вздрогнул, так испугала его эта непонятная, неизвестно откуда вывернувшаяся мысль. Он резко отодвинул историю и встал. Герман следил за ним. Профессор всегда старался быть подчеркнуто сдержанным, но Герман хорошо изучил его за долгие годы совместной работы и знал, как часто эта внешняя сдержанность скрывает, а порой и не может скрыть неуравновешенный характер. Федор Родионович прошелся по кабинету, задержался у окна, открыл его. Голоса из больничного парка, приглушенный шум проспекта потекли в кабинет. Небо опять было безоблачным, теплый воздух слоился вдали у белых коробок высотных зданий. — Вы правы, — прервал наконец паузу Федор Родионович. — Риск велик. Однако Борис, брат, настаивает на операции, и я не могу отговаривать его. — Он быстро повернулся к Герману и поднял узкую длинную ладонь, словно предостерегая от возражений. — Шансы на благополучный исход операции велики, я убежден в этом! И эти шансы станут еще больше, если ты со своими ребятами, если все мы будем верить в это и как следует подготовимся. — Он шагнул к Герману и сказал тихо и очень напряженно, перегнувшись к нему через стол: — Мы должны спасти парня! Иначе грош нам цена!.. Герман с удивлением смотрел на профессора. Не раз в последние годы он слышал от него эти страстные слова, сказанные почти шепотом или почти выкрикиваемые, но в нынешней ситуации, когда речь шла о пересадке почки у этого больного, они звучали по меньшей мере нелепо. Федор Родионович снял трубку местного телефона и набрал номер. — Терапия? Серафима Ивановна? Я просил бы вас подняться ко мне с Борисом Харитоновым, донором. Будем решать. Они сидели и молча ждали заведующую терапевтическим отделением и Бориса. — Риск… — усмехнулся вдруг Федор Родионович, быстро постукивая пальцами по столу. — Один рискует почкой, другой — жизнью. Вы бы сами рискнули для брата? — Для меня это слишком абстрактно, — сухо сказал Герман. — У меня нет братьев. — У меня тоже, — примирительно буркнул профессор я устало прикрыл ладонью глаза. Седовласая заведующая терапевтическим отделением была педантична. Водрузив на нос старые очки с лопнувшей дужкой и захватанными стеклами, она методично переворачивала анализ за анализом, страницу за страницей в истории болезни Жени Харитонова, возможного реципиента. Профессор и Герман терпеливо слушали ее доклад. И сверхосторожное заключение Серафимы Ивановны было известно им заранее. Когда она закончила, Федор Родионович спросил: — Что вы думаете об операции? — Я не имею в этом никакого опыта, — Серафима Ивановна развела руками. — В этом я вам, наверное, плохой советчик. — После небольшой паузы она все же решилась добавить: — Могу сказать, что возможности консервативной терапии исчерпаны. Прогноз плохой. Операция дает надежды? — Да. Серафима Ивановна подняла седые брови, словно говоря: «Вот видите…», но произнесла совсем другое: — Они оба очень славные ребята. Федор Родионович испытующе посмотрел на нее. — Здоровый брат, Борис, рискует почкой, — сказал он. — Да, да… — закивала она. — Что вы можете сказать о биологической совместимости? — со скрытым раздражением спросил профессор. — Я не иммунолог, Федор Родионович, но сделанные пробы — полностью идентичны: группа, резус, кожа… Ну, и — близнецы ведь! — Как вы охарактеризуете функциональное состояние реципиента? — Вы же знаете, Федор Родионович, врач по функциональной диагностике болеет, но… — И при всем при этом она ни на секунду не теряла чувства собственного достоинства. «Это же надо уметь — так обстоятельно говорить, не высказывая определенно своей точки зрения», — подумал Герман. Он усмехнулся и отвел взгляд. Ему показалось, что если он не сделает этого, то Федор Родионович не сдержится, взорвется. А доктор, занимающийся функциональной диагностикой, действительно опять болеет. Собственно, когда говорили о ней, что болеет, обычно не имели в виду какую-то конкретную болезнь. Она была молодой и в общем-то здоровой женщиной, весьма обремененной семьей. За четыре года работы в больнице два года она находилась в декретах, полгода — на специализации и еще около года, наверное, — на больничном листе по уходу за болеющими детьми. В перерывах умудрилась пару раз переболеть гриппом, и потому всякое ее отсутствие теперь определяли для краткости одним словом — «болеет»… Пригласили ждавшего за дверью Бориса. Герман с интересом рассматривал коренастого крепкого парня с волнистым темно-русым чубом. Профессор коротко, но достаточно полно и ясно обрисовал ситуацию и заключил: — Риск велик. Гарантий нет. Серафима Ивановна согласно кивала седой головой. Помолчав, Борис сказал негромко, но твердо: — Если есть хоть один шанс, надо делать. Профессор застучал тонкими пальцами. — Вы в любом случае становитесь инвалидом. Борис улыбнулся. Улыбки была неожиданно легкая, светящаяся. Гагаринская — промелькнуло у Германа. — По одной почке на брага — немало. По одному сердцу ведь хватает… И все сидевшие в кабинете улыбнулись, даже Федор Родионович, — так обаятелен был этот парень. Профессор встал и отошел к окну. Герман понял — он сильно волновался. — Вы ведь офицер? — спросил наконец Федор Родионович. — Да. Танкист. — Вы знаете, что дальше служить не сможете? — Знаю… Но согласитесь, профессор, что жизнь дороже. — Пожалуй… — Ну, вот. — Борис напряженно улыбнулся. — Танкист, значит — механик. Не пропаду! — Но вам, кажется, нужно разрешение?.. — Это улажено. — Ну, хорошо. Идите. — Федор Родионович опять отвернулся к окну. — Спасибо, Серафима Ивановна, я вас больше не задерживаю. — Благодарю вас, профессор. Когда операция? — спросил Борис. — Сейчас решим. Вам скажут. В прогретом желтоватом осеннем воздухе чуть колыхались над парком убегавшие к горизонту дома громадного города. На заднике этой солнечной панорамы они казались нарисованными прозрачной голубой краской. — Переведите братьев к себе, — глухо произнес Федор Родионович, когда они с Германом остались одни, в кабинете. — Операция послезавтра.
5
В кабинете главного врача было тихо. Из-за обитых дерматином дверей едва доносился стук пишущей машинки, царапал коготками о жердочки прыгавший в клетке щегол да постукивал тихо карандашный грифель по тонкому металлическому листу, на который Иван Степанович наносил рисунок. Чеканка была его страстью. Не решаясь заниматься этим в кабинете, он делал здесь эскиз, а чеканил уже дома. Это право он отвоевал недавно в короткой, не очень шумной, но внутренне яростной битве с женой. Прежде, до того как он стал главным врачам известной в городе больницы, о такой победе, конечно, и мечтать не приходилось. И любимым делом, в котором достиг немалого мастерства, он занимался урывками. Но теперь его авторитет дома сильно повысился. Не поступали больше заказы на рыночную картошку (раньше он заезжал за нею после работы, а теперь его привозили и отвозили на служебной машине, какая уж тут картошка!), дети сами готовили уроки, и даже требование о непременном еженедельном натирании полов стало менее категоричным. Приезжал он домой не раньше семи вечера, и тут уж всякому должно было быть ясно, какой напряженный у него день… А на работе он всякую минуту использовал для любимого занятия. В каком-то французском фильме он увидел, как директор фирмы серьезно, будто бы важные бумаги, разглядывает фотографии обнаженных красоток, помещенные в строгую папку, которую степенно закрывает при появлении в кабинете подчиненных. Удобная папка засела в памяти. Обзаведясь отдельным кабинетом, Ванечка приобрел себе похожую, с лакированной кнопкой, и держал в ней эскизы и металлические листы. Откинув обложку папки на массивный письменный прибор, состоявший из множества бронзовых медведей (давнишнее приобретение Бати), Ванечка, загородясь таким образом от двери, мог спокойно работать, а если к нему входили, он, приглашая сесть, спокойно закрывал и отодвигал от себя папку, подчеркивая тем самым, что ради беседы готов отложить самые важные дела. Так сделал он и теперь, когда в кабинет вошла, символически постучав, Кобылянская. С того момента как он возвратился из горздравотдела и узнал о несчастье с переливанием иногруппной крови, она весь день металась между отделением и кабинетом. Кобылянская буквально поняла его фразу «держите меня в курсе» и делала это так же, как при Бате, которого в подобных случаях интересовало все: не только, что происходит с больным, но и как себя ведет медицинский персонал, насколько виновник прочувствовал свою вину, что говорят по этому поводу свидетели и о чем судачат на других отделениях. Батя оценивал, по собственному выражению, «резонанс» и решал, насколько его нужно усилить, чтобы впредь подобное не могло случиться. Обычно он перегибал с «резонансом», что соответствовало его установке: в практическом медицинском деле лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Пережив несколько неприятных минут при получении первой информации о случившемся (скандал на весь горздравотдел!), Ванечка вскоре успокоился, узнав, что непосредственная опасность для больного миновала. Однако он не возражал против короткого совещания с участием начмеда и причастных к делу начальников отделений. Совещание окончательно убедило его, что скандал не состоится. И все дальнейшие метания и шум, творимые Кобылянской, были непонятны ему и неприятны. Когда она в очередной раз пришла и взволнованно сообщила, что врачи плановой хирургии настроены весьма благодушно, Ванечка заметил: — В общем-то, их можно понять: ведь все закончилось благополучно. Кобылянская вспыхнула так, словно ее оскорбили. С закипающими на глазах слезами она сказала дрожащим от переполнявшего ее возмущения голосом: — Безответственность и беспечность, как ржавчина, разрушают наш коллектив! Ванечка перепугался: — Ну, что вы, зачем так резко?.. — Это суть! — Она была, кажется, на грани истерики. — Поговорите с хирургами, и вы убедитесь… — Ну, хорошо, хорошо. — Ванечка встал с кресла. Он согласился, что надо, пожалуй, поговорить с хирургами. — Пусть придут в конце дня. Так удалось заполучить несколько спокойных часов. И вот снова начмед появилась в кабинете. — Хирурги собрались, — сухо доложила она. Ванечка отодвинул папку и вставил шариковую ручку, изображавшую ракету, в подставку (чернильницы с медведями служили теперь только украшением). Пригласил вошедших рассаживаться. Прасковья Михайловна, с поджатыми губами, не отрывая взгляда от сцепленных своих пальцев, грузный Кирш и скучающе-небрежный Валентин Ильич сели у дальней от стола стены. Кобылянская заняла место в одном из кресел у стола. — Как же это получилось? — без особого выражения начал Ванечка, обращаясь к Прасковье Михайловне. Та еще крепче сжала пальцы и молчала. Щегол запрыгал в своей клетке, застучал клювом по кормушке. — Прасковья Михайловна, конечно, поняла свои ошибки, — заговорила строго начмед, — и оценила правильно, я думаю, свой проступок. Но вот молодые врачи отделения так ведут себя, что — я убеждена! — они не поняли преступности случившегося! Здесь нет, к сожалению, Германа Васильевича, он ушел после дежурства, но ему, по-моему, много предстоит еще воспитательной работы на отделении… — При чем здесь Герман Васильевич? — пожал плечами Кирш. — И почему вы считаете, что мы не поняли чего-то? Не бегать же всем, как морские свинки в коробке! И так все ясно… — Вот! — злорадно изрекла Кобылянская, оборачиваясь к Ванечке. — Слышите? Вот и все. Ванечка поерзал в кресле. — Ну, в самом деле, при чем здесь морские свинки? — Я так просто сказал, сравнил… Бегают они в волнении… — смутился Кирш. — Побегали бы вы при Бате! — взвизгнула Кобылянская. — Места бы себе не нашли со всеми вашими безобразиями!.. Безответственные люди не имеют права находиться у постели больного! И особенно хирурги! — кричала начмед. Это были привычные слова, ежедневно произносимые некогда Батей, а в последнее время редко повторяемые, хорошо и давно всем известные и понятные. — Слова все это! — возмутился Кирш. — Кто назовет Прасковью Михайловну беспечным хирургом? Ну, случилось несчастье… С каждым ведь может… — Вот! Вот! — прервала его Кобылянская, стремительно поднимая свое тяжелое тело из кресла. — Может! Слышите?.. Не о Прасковье речь! И вы прекрасно понимаете это! О вас разговор, о вашем отношении к случившемуся!.. — Ну тогда бы нас только и вызвали сюда, — буркнул Кирш. — Вот ваш приятель сидит сейчас и улыбается, — продолжала Кобылянская. — Понимаете, улыбается в такую-то минуту!.. — А при чем тут мы? — спокойно спросил Валентин Ильич. — Я, что ли, переливал? Какие у вас конкретные ко мне претензии? Нет?.. А школьные экзерсисы оставьте. — Он безмятежно смотрел на нее ясными голубыми глазами, а она так и застыла с раскрытым от изумления ртом. Щегол радостно крикнул в паузу. Ванечка посмотрел в его сторону и заговорил: — Случай, конечно, некрасивый. Если бы больной умер — а вы хорошо понимаете, что могло и такое быть, — мы бы ославились на весь город. И тогда следствия и суда было бы не миновать… Зазвонил телефон. Ванечка поднял трубку и сказал, не слушая, быстро и тихо: — Совещание. Позвоните позже. Начмед села и, набычившись, уставилась в пол. — Нам необходимо сделать из этого случая самые серьезные выводы, чтобы впредь такое стало невозможным, — продолжал Ванечка. — Молодости нередко присуща беспечность. — Он поговорил некоторое время о молодости, потом — о долге врача, который никогда не должен забывать, что от него зависит жизнь и здоровье других людей. — Администрация еще будет, вероятно, заниматься этим случаем, — закончил он, не умея скрыть извиняющиеся нотки. — Герману Васильевичу нужно заняться своей молодежью! — зло сказала Кобылянская. — Ну, ладно, ладно, — примирительно произнес Ванечка. — Идите, товарищи, работайте. Ему неприятны были воинственные выпады начмеда, ее непрестанные упоминания Бати, словно он, новый главный врач, был здесь человеком временным, просто заместителем. Его отношение к начмеду все определеннее чувствовали в больнице. И сейчас это хорошо улавливалось в его тоне, явно контрастном тону начмеда. — Женщина с воспитательной манией, — выходя вслед за Киршем из кабинета, саркастически заметил Валентин Ильич, да так громко, что все его услышали. Кобылянская вспыхнула, вскочила, а Ванечка, словно ни в чем не бывало, спросил Прасковью Михайловну, остававшуюся сидеть на своем месте: — У вас есть что-нибудь еще ко мне? — Вы должны его вернуть! — прошипела начмед. — О чем вы? Успокойтесь ради бога. Все же они врачи, этого нельзя забывать… Опять зазвонил телефон. Ванечка приподнял и положил трубку. — Я не могу так работать дальше! Мы катимся к потоку преступлений! — Губы Кобылянской дрожали, по щекам текли слезы. — Ведь нет никакой дисциплины!.. Каждый что хочет, то и делает!.. При Бате… — Послушайте, — не выдержал Ванечка, его круглое лицо с большой, во весь лоб, залысиной покраснело. — Оставьте эту тему. И привыкните к тому, что у меня другая манера работы с людьми. — Господи, перестаньте наконец! — неожиданно воскликнула Прасковья Михайловна, подходя к столу. — Прошу вас, переведите меня из хирургии, переведите куда-нибудь!.. Или увольте… Я не сбегаю, я готова за все ответить… Я просто не могу… — Она бросила на стол бумагу, которую держала в руках, и выбежала из кабинета. Пауза получилась долгой. Тишину нарушал только щегол, приглушенно высвистывавший песню. — Ох, женщины!.. — вздохнул Ванечка. — Вот видите. Нельзя доводить людей до такого состояния. Кобылянская села, вытерла лицо. Ей было жаль Прасковью. — Никто ее не доводил. Я говорила вам — у нее была истерика… Все эти мальчишки… Им на все наплевать, они ничего не боятся! Анархисты какие-то!.. — При чем здесь они? — устало сказал Ванечка. — И вообще сомневаюсь, чтобы страх был стимулом в работе. — Напрасно! — оживилась Кобылянская. — Напрасно сомневаетесь, Иван Степанович! Для добросовестного врача страх — не помеха, а лоботряса заставляет быть добросовестным. У постели больного — не место для воспитания! Ванечка с удивлением посмотрел на нее: — Ну, а если врач не у постели больного? Администратор, скажем? Вот вы, например, можете, значит, и без страха? — Почему же? Если я плохо буду работать, меня снимут… В общем, каждый опасается оказаться недостойным того места, которое занимает. Разве не так? Вы ведь тоже не можете не думать об этом, и даже министр… Ванечка почувствовал неловкость. — Какие-то теории странные, не отвечающие духу нашей морали… Ну, ладно… Я вас больше не задерживаю. После того как начмед вышла, он некоторое время еще сидел, растерянно уставившись в лежавшую перед ним папку. Черт бы их побрал, этих баб! Надо же устроить такую возню… Он посмотрел на часы. Половина пятого. Встал, потянулся, словно сбрасывая с себя груз неприятного разговора, прошел к окну. Голубое небо проглядывал о между деревьев. Позвонит Лидия Антоновна или нет? Ванечка почувствовал, как прихлынула к голове кровь, застучала в висках. Какая женщина, какая женщина! С ума можно сойти! Он моментально восстановил в памяти ее фигуру в обтягивающем костюме, движущуюся от машины к парадной… И тут его поразила мысль: а вдруг это она звонила — во время разговора с хирургами?.. Ванечка в волнении прошелся по кабинету. Наконец рассудил: если это была действительно она, позвонит снова. Он взял со стола оставленный Прасковьей Михайловной лист, стал рассеянно читать: «Прошу уволить меня…» Сел в кресло, выдвинул ящик, сунул в него заявление. Все перемелется… И снова, откинувшись на спинку, стал думать о Лидии Антоновне. Представил, как сидят они на заднем диване мчащейся машины, близко сидят… Можно ведь катануть на дачу, подумал он, — хозяева не вернулись еще, а жена с детьми уже съехали… Конечно, там ведь никого! А ключ?.. Он торопливо потянул на себя ящик стола, начал рыться в нем. Его ключ где-то здесь… Телефонный звонок заставил вздрогнуть. Ванечка схватил трубку: — Я слушаю. — Иван Степанович? Здравствуй. Ванечка ошалело смотрел на трубку. — …Мне сказали, ты заезжал сегодня ко мне, — говорил заведующий горздравотделом. — По делу? — Здравствуйте, Иннокентий Александрович! — Ванечка пришел в себя. — С возвращением вас! — Ну, брат ты мой, с возвращением из отпуска можно и не поздравлять, — рассмеялся заведующий. — Считайте, что я себя с этим поздравляю. — Не торопись. Я еще не смотрел твой полугодовой отчет. — Иннокентий Александрович, у нас все в порядке. — Надеюсь. Не напрасно же мы тебе квартиру дали. Новоселье не зажмешь? — Что вы, что вы!.. Ванечка несколько лет работал в горздравотделе, в аппарате Иннокентия Александровича, и тот относился к нему, как к человеку надежному, способному, да и просто приятному, своему. Переводя Ванечку в больницу, сулили квартиру, и вот нынешним летом, через два года, дали трехкомнатную. — Что у тебя со строительством? — спрашивал Иннокентий Александрович. — Городу очень нужны койки. Вот только сейчас был об этом разговор в исполкоме. — Финансисты затирают, — пожаловался Ванечка. — Ты мне оставь эти разговоры! — строго сказал заведующий. — Не хочешь ни с кем ругаться. Я тебя знаю. Через неделю отчитаешься по всем этим вопросам. В конце месяца наш отдел слушают. Понял? — Понял. — Что понял? — Все будет сделано. Иннокентий Александрович снова рассмеялся. — А без моего напоминания не раскачаться никак? Чем ты там занят был? Ванечка глубоко вздохнул, подвигал папку. — Послезавтра вот почку пересаживать будем. — Что будете? — не понял заведующий. — Почку пересаживать. — Ах, почку! Это хорошо. Но нам бы так сделать, чтобы больные с гипертоническими кризами не лежали в коридорах. Вот задача. — Это верно. — То-то, что верно… А чего вы за почки принялись? Урологическая клиника уже не справляется? Ванечка замялся, болезненно поморщился: — Федор Родионович считает… Заведующий хмыкнул. — Советую тебе от практики, принятой Батей, не очень отходить. Он клиники придерживал, не давал им особенной воли. Смотри, как бы они тебя не подвели, не ославили. Больница включена в республиканский конкурс… Разговор с заведующим горздравотделом оставил у Ванечки неприятное чувство. Не потому, что через неделю предстоит докладывать о реконструкции больницы, — здесь хотя и небыстро, но дело движется, да от него практически ничего и не зависит. А вот неожиданный поворот с пересадкой почки его расстроил. Да, дело это незаурядное, тем более пересадка от здорового человека, пусть даже от брата. Незаметно не пройдет. Хорошо, если удачно, а если нет?.. Иннокентий Александрович явно не одобряет этой затеи. И, наверное, он прав. Перед конкурсом, где проверяется не только чистота, благоустройство и кипы разных бумажек, но и лечебная работа, нужно быть особенно осторожными! В ушах стоял насмешливый вопрос заведующего об урологической клинике. Ванечка позвонил в ординаторскую плановой хирургии. Было пять часов, но врачи там нередко задерживались. Долго не отвечали, и Ванечка собрался уже, вконец расстроенный, положить трубку, но в этот момент гудки прекратились. — Плановая хирургия, — услышал он усталый женский голос. — Прасковья Михайловна? — Да. — Вы разве дежурите сегодня? — Нет. Лучше бы, конечно, чтобы у телефона оказался кто-нибудь другой… — Вы не в курсе дела, братьев-близнецов перевели уже к вам? — Да, перевели. Наверное, поздно уже что-нибудь менять, подумал Ванечка. — А почему к вам, а не в урологическую клинику? — Зачем в урологическую? Они пересадками не занимаются, — так же устало ответила Прасковья Михайловна. — А вы? — Что — мы? У нас есть искусственная почка. И этим занимается Ардаров. Ванечка помолчал, подвигал по привычке папку на столе. — Да? — Да… Ведь год назад была уже одна пересадка почки, от трупа. Помните? — Ну да… А как там больной… — Ванечка едва не сказал «ваш». — После переливания? — Как будто все в порядке. Кстати, Иван Степанович, вы… — Ну вот, видите, — перебил ее Ванечка, — все в порядке. Идите домой. — И повесил трубку. Да, изменить уже ничего нельзя. Теперь — будь, что будет… Ванечка бессознательно придвинул к себе дневную почту, словно готовясь к защите. Среди ежедневной стопки писем, адресованных администрации больницы, всегда было несколько благодарственных — от прежних больных. А сколько таких же писем поступало на отделения, непосредственно врачам! Тысячи писем — тысячи выздоровевших людей! Отдельные неудачи не могут зачеркнуть этого, думал Ванечка. Вот смерть Тузлеева, пожалуй, могла бы, а пересадка… Когда бы не конкурсная комиссия… Конечно, если пересадка пройдет успешно, это будет очень кстати, но если… А Лидия Антоновна все не звонила.6
Будильник задребезжал в половине шестого. Герман проснулся тяжело, неохотно, решил спать дальше, но все же приподнялся на диване и поглядел в окно. И несмотря на то что голова его снова опустилась на подушку, прозрачная голубизна осеннего неба уже проникла в него. Конечно, трех часов на сон после полутора суток бодрствования недостаточно, но так жаль было терять чудесный ясный вечер, возможно, последний в эту осень. Он решительно встал, сделал несколько резких разминочных движений, надел шлепанцы и отправился в ванную. Нерта, спавшая на подстилке в коридоре, вскочила, радостно завиляла хвостом. — Собирайся, — сказал ей на ходу Герман. — Поплывем. И Нерта, вероятно, поняла его — встряхнулась, стуча длинными коричневыми ушами. — Ты уходишь? — донеслось из комнаты жены. — Да. Я сейчас… — Герман прошел в ванную, сбросил майку и стал мыться холодной водой. «Что-то рано сегодня», — подумал он о жене. Она была ассистентом на кафедре биохимии, где оставили ее после окончания института без всякой помощи со стороны — просто считали перспективной. И она не обманула надежд. Через три года защитила диссертацию, раньше, чем это сделал Герман, проработавший к тому времени пятнадцать лет хирургом. Теперь она успешно, по мнению ее шефа, завершала работу над докторской. Для женщины в тридцать два года это было очень даже неплохо. Но дома она обычно появлялась поздно вечером — студенческая привычка работать только в лабораториях или в библиотеке засела в ней крепко. Надев белую сорочку с колющимся от крахмала номерком у ворота и мягкий пуловер, Герман зашел к жене. — Здравствуй. — Здравствуй. — Она сидела с ногами в кресле и читала книгу. Ее высокая красивая прическа была, как всегда, в идеальном порядке. — Мы не виделись, наверное, неделю. Ты не соскучился? Они действительно виделись мало. Если Герман не дежурил или не задерживался допоздна в больнице, то у нее был или опыт, или какой-нибудь банкет после защиты, на который невозможно не пойти. Герман терпеть не мог этих скучных сборищ, отличавшихся угнетающей разношерстностью приглашенных. — Насчет недели ты преувеличиваешь, — он присел на ручку кресла, поцеловал жену в висок. — Наверное, не очень, — она подняла к нему спокойное улыбающееся лицо. — Скажи просто, что у тебя не было времени скучать. Черт бы его побрал, это время!.. Трудное было дежурство? — Как всегда. Но годы берут свое, наверное. — Он знал, что ее не интересуют больничные дела, операции, «все эти страхи». Еще в институте ей хирургия не нравилась. Это он знал хорошо: на последнем курсе ее группа проходила специализацию в их отделении. Из всей хирургии ее заинтересовал только он сам. Она потрогала болтавшуюся у ворота пуговицу. — Ох, эти прачечные! Сними рубаху, я пришью. Или ты торопишься? — Да. Хотелось бы застать на воде часть дня. Он мог сказать просто «да», и этого было бы достаточно. Считалось, что они безоговорочно доверяют друг другу: надо, так надо. У каждого из них были свои заботы и свои интересы, очень несходные. Он любил природу, ощущение упругой травы под ногами, потрескивание и веселый блеск костра; она зябла в лесу и быстро уставала даже от речных прогулок. Условность же обожаемой ею оперы, малопонятные утомляющие рассуждения о трактовках и школах нагоняли на Германа тоску и сожаление о потраченном напрасно времени. Чтобы не стеснять друг друга, они в первый же год стали проводить часть досуга врозь. Постепенно эта часть становилась все больше и больше… Вот так же в первые годы они решили подождать с ребенком: ей нужно было писать диссертацию. Но и после защиты, по прошествии четырех лет супружества, об этом уже не заговаривали. Герман понимал: напряженная, захватившая ее целиком работа требовала много сил и времени. А ребенок — это хлопоты, нескончаемые заботы, уводящие из большого мира идей, дискуссий, музыки в маленький мирок, пахнущий теплым детским тельцем, молоком, пеленками. Он, конечно, тоже войдет в него, но она будет просто поглощена им. Так имел ли он право настаивать?.. Теперь лишь изредка возвращалась к нему тоска по сыну, по тому, что некогда в его представлении было семейным очагом, что должно было полностью вытеснить из него первую любовь, воспоминания о том далеком угарном лете, словно случившемся с другим человеком. Герман быстро шагал по залитому косыми солнечными лучами тротуару, а Нерта без поводка бежала рядом, у самой его нош, вывалив из пасти язык и не обращая ни на кого внимания, поглощенная только тем, чтобы ни на шаг не отстать или не обогнать хозяина. На бонах и на моле было пустынно. Конечно, по-настоящему любящие реку не усидят в такую погоду дома! Катеров и лодок у бонов почти не было. Только в конце канала, образованного берегом и молом, у вытащенного на кильблок большого катера, как всегда, возилось несколько человек. Над катером колдовали с ранней весны. Герман знал этих ребят. Завсегдатаи нередко подходили помогать им, у оклеенной стеклотканью посудины, которую готовили к дальнему морскому переходу, любили устраивать перекуры, неторопливо обсуждая достоинства и недостатки морских дизелей, водометных движителей, старых металлических и дубовых корпусов или новых стеклопластиковых, выклеенных на матрице. Все это крепко объединяло людей на клочке побережья, именовавшемся по старинке гребной базой и примыкавшем к лесопарку. Прозрачный, прогретый солнцем воздух густел у горизонта. Герман снял пуловер, махнул возившимся у катера ребятам: — Привет, моряки! — Привет, док! Герман стал спускаться по некрутому откосу к рядам сарайчиков, которые именовали «гаражами». Его катер покачивался на едва приметной волне у бона. И тут Герман увидел женщину, сидевшую на деревянном кнехте, одном из тех, которые в незапамятные времена были врыты на моле. Герман сразу узнал густые русые волосы. Лидия Антоновна сидела на кнехте, подстелив газету, спиной к берегу, и смотрела на золотившуюся заходящим солнцем реку. — Черт возьми! — вслух удивился Герман, останавливаясь. Он был уверен, что их утренний разговор с Лидией Антоновной — одна из ее шуток… Герман прошел в «гараж», взял там канистру с бензином, собранный рюкзак и спустился на мол. Лида заметила его, поднялась навстречу. — Очень здесь здорово. Он кивнул. — А я давно вас жду. Проспали? — Да, я только в начале третьего ушел из больницы. — Что-нибудь с Кухнюком? — встревоженно спросила она. — Я звонила часа два назад, сестра сказала, что все нормально. — С Кухнюком — да. Герман перешел по сходням на бон, и Лида последовала за ним. Он подтянул лодку, бросил в нее рюкзак и канистру. — Запрыгнете? На ней были эластиковые брюки и куртка из плотной тонкой материи с металлическими пуговицами. Герман придержал лодку за борт, пока она пробиралась к скамье перед защитным козырьком. На скамью были положены поролоновые подушки, а две обитые пенопластом спинки создавали полную иллюзию двух удобных кресел. Лида с удовольствием пощупала подушки. — А я-то собиралась сесть на весла! — весело сказала она. Герман позвал Нерту. Собака, выскочив из кустов, прыгнула на свое место в корме и, только теперь заметив Лиду, удивленно склонила набок голову. Лида рассмеялась. — Что, другая женщина? — Она вообще не привыкла к женщинам на борту. — Герман завел мотор, выбрал конец и оттолкнулся от бона. Сел в свое кресло рядом с Лидой и стал выводить катер из канала. — Так уж и не привыкла? Герман вдруг подумал: зачем она здесь? Чего хочет? Морочить себе голову он не позволит. Неожиданно он разозлился. Повернулся к ней, посмотрел. Нога на ногу, улыбается, довольна. И — ничего не скажешь — красива, стерва!.. Герман отвернулся, стал огибать мол. Ему казалось, что скажи он ей сейчас что-нибудь прямо, как в разговоре с мужчиной, например: «Чего вы, собственно, хотите, Лидия Антоновна?» — она одумается и попросит высадить, пока не поздно… Он развернул катер и направил его к середине реки. Небольшая волна стала бить в борт, раскачивать. Лида рассмеялась. — Хозяин вы не из приветливых. — Простите, — смущенно буркнул Герман. — На воде я привык к одиночеству… Нерта решила познакомиться с новым членом экипажа, подошла к Лиде, стала ее обнюхивать. Лида погладила собаку по спине, та ткнулась ей в ладонь мокрым носом. — Мягкая-то ты какая! Не то что твой хозяин. Катер медленно, преодолевая течение, шел невдалеке от берега. На пляжах было малолюдно. Парочки уединялись на узких желтеющих косах, подпертых густым, еще буйным, но по-осеннему серым кустарником, кое-где играли в волейбол; небольшие компании резались в карты. Прибрежный парк тянулся долго, пресыщенный солнцем, в подпалинах, сам усталый и располагающий к молчанию и покою. Навстречу шла «Ракета», вздыбившись над водой, в бурунах белой пены. Когда она поравнялась с ними, Герман развернул к ней носом катер. Несколько крутых волн, так, что захватывало дух, подняли и опустили его; брызги полетели через козырек. — Красота! — сказала Лида. С пляжей коричневые люди побежали в воду. — Помните, летом откуда-то с этих пляжей привезли парня, которого ударили ножом, — вспомнила Лида. — Да, ему пришлось удалить легкое. — Чем вы все-таки расстроены? Герман махнул рукой. Ему почему-то не хотелось говорить ей о Тузлееве, о Прасковье, обо всей этой тягостной истории. И о пересадке почки тоже. Просто не хотелось вообще говорить об этом. Ровно гудел мотор, легкий ветер поднимал с реки теплый влажный воздух. — Проклятая у нас все же работа, — неожиданно произнес Герман после долгой паузы. — Разве вы ее не любите? — Это не то слово. Она помолчала, думая, потом сказала: — Вы любите, но усложняете. Мужчины это умеют… А я так — люблю. — Вы, анестезиологи, все же дальше от больного. Точнее — от человека. — Ветер растрепал его темные, с густой проседью, короткие волосы, закрыв часть лба. Удлиненное лицо от этого казалось еще более замкнутым. — А вот ваш Валентин тоже говорит, что любит хирургию. Даже стихи в подпитии читал насчет того, что любовь эта сильнее, чем к женщине. Сильнее — значит, похожа? Он еще молод, — угрюмо заметил Герман. В больнице сплетничали насчет Лидии Антоновны и Валентина Ильича. Упоминание о нем сейчас было почему-то неприятно Герману. Он даже не подумал об этом, а почувствовал. — Вы мне очень нравитесь, — сказала Лида серьезно. — Я просто не знаю, что с этим делать. Герман скосил на нее глаза, усмехнулся: — Интересно, до каких лет я буду нравиться студенткам, — и вспомнил жену. Все получается глупо и неестественно… — Так как же вы определите свое отношение к хирургии? — по только ей одной понятной логике разговора спросила Лида. Он ответил не сразу. — Это трудно определить. Через двадцать лет не отделишь уже ее от всего остального. Сказать же, например: «Я люблю жизнь», или: «Я не люблю жизни», — попросту манерно. — О жизни — да, согласна. — Ну, а разве можно отделить даже эту прогулку от дела? Покой, солнце, что нужно еще? Нет, говорим опять о том же! — раздраженно сказал Герман. А в сознании всплывало воспоминание: отвратительная желтизна тузлеевского тела, жалкий вид Прасковьи, а следом, как трос из воды, поднимались перевитые, тяжелые, пугающие мысли об этом крепком парне, с заразительной улыбкой, об этом молодом офицере, который послезавтра потеряет почку, станет инвалидом. Может кто-нибудь дать гарантии, что эта жертва оправдана? Ладно, бог с ней, с оправданностью! — но необходима? А послезавтра этого парня будут оперировать… Они вышли уже за черту города. По берегам тянулись перелески, кустарники, кое-где выбегали к воде поселки с пристанями, причалами. Дымила, не вписываясь в этот загородный пейзаж, труба кирпичного завода. Солнце стояло низко. На темнеющей воде взблескивали весла, белели в лодках рубахи. — Настоящая любовь должна оправдать все, — следуя своей логике, после паузы сказала Лида. — Я вот все время не могу забыть Кухнюка. Бог его знает, что он за человек, но мне почему-то хочется думать, что преступление свое он совершил, движимый любовью, из ревности. И я готова его понять. — Нет здесь на вас Пети, — усмехнулся Герман. — А у вас не бывает такого чувства, нет — неудержимого желания так любить, чтобы никаких ограничений, никаких препятствий для этой любви не существовало? Неужели не бывает? Или было? Герман молча вел катер. — Я бы за год такого чувства отдала, кажется, всю остальную жизнь. Герман снова усмехнулся: — Это возрастное. А Кухнюк просто психопат. — Он не мог признаться даже самому себе, что только сегодня утром думал почти так же, как она. Потому, наверное, и вспомнил в больничном парке то, о чем старался не вспоминать. — Вы говорите не так, как думаете, — уверенно сказала Лида. — Почему? — удивился Герман. — Вы не знаете меня. — Знаю, — тихо возразила она. — Уже знаю. — Вы, пожалуй, действительно очень самонадеянны, — улыбнулся наконец Герман. — Это вам Петр Петрович говорил? — рассмеялась Лида. — Но у меня удивительная интуиция!Вы еще убедитесь в этом. — Она достала из куртки сигареты и спички, стала прикуривать, склонившись между колен. — Вам приготовить трубку, мой повелитель? — спросила, глядя на Германа снизу вверх темными смеющимися глазами. Чувство неловкости в ее присутствии часто охватывало его. В такие минуты хотелось сказать, сделать что-нибудь резкое, чтобы разорвать путы… — Тогда уж буду требовать все, как в гареме! — Всему свое время. — Она протянула ему горящую сигарету. Нет, никак не вырваться!.. От сигареты пахло ее духами. Сгустились сумерки. Река и берега освещались теперь только розовевшим еще на западе небом. Нерта залаяла с кормы — узнала узкую песчаную отмель, по которой нередко они носились с хозяином взапуски. Отмель, за которой был довольно глубокий проход к самому берегу, к устью ручья, что пересекал «их» полянку. — Ну, иди, иди, — разрешил Герман, осторожно огибая отмель. — Заварим чай? — спросил он у Лиды. — С удовольствием! — обрадовалась она. — На костре? — Естественно. Нерта прыгнула в воду и через несколько секунд неслась уже по отмели к лесу, влекомая непреодолимым охотничьим инстинктом. — Не потеряется? — Нет. Она привыкла к этим местам. — Это спаниель? — Вы и о собаках все знаете? — У нас всегда были собаки. Только не охотничьи. — Кто же увлекается собаководством, муж? Она удивленно посмотрела на Германа. — Да нет, я имела в виду дом моих родителей. Мы с мужем своего дома не создали. — Она сказала об этом так буднично, что Германа даже покоробило. Он не рад был, что задал вопрос, которым хотел как-то защититься от нее. Получилось другое… Катер ткнулся носом в песок. Герман заглушил мотор, и сразу же упала на землю тишина. Они сидели, вслушиваясь в нее, привыкая. Уже потом ожила всплесками вода, движеньем листьев, трав, редкими голосами птиц — лес, неясными звуками — противоположный берег и дали. Герман закатал брюки, вылез из лодки в мелкую теплую воду, потащил за капроновый конец лодку к берегу. Однако до него, когда катер уже плотно сел на песок, оставалась еще метра три. Лида в нерешительности стояла у борта. Сняла босоножки. — Если позволите, я вас перенесу, — предложил Герман. По всему было видно, что это не вызывает у него восторга. — Об этом я даже не мечтала, — словно не замечая его смущения и недовольства, сказала она. Он подошел к борту и снял Лидию Антоновну. Она обхватила рукой его шею. «Вот бы увидел кто-нибудь из больничных эту картинку!» — подумал Герман, и ему стало весело. Он посмотрел на Лиду и беззвучно рассмеялся. Он неожиданно потерял себя. Сорокапятилетний немного угрюмый хирург Герман Васильевич остался где-то в прошедшем времени, а тут вдруг появился другой, стоящий по щиколотки в воде, незнакомый ему человек, который смеялся с незнакомой женщиной на руках. Она с удивлением наклонилась к нему, заглянула в лицо, тоже рассмеялась, сказала что-то… До прибрежной травы было всего несколько шагов, и он сделал их наугад… Если бы мог он сейчас оценить происходящее, то наконец уяснил бы для себя, чем так смущала его эта женщина. Но теперь он не думал… В их неожиданной близости вообще не оказалось места ни для единой мысли, но, еще не придя в себя, он вдруг произнес или только подумал: «Наконец-то… Наконец-то!»7
С сумерками пришел западный влажный ветер, стал вытаскивать из-за горизонта серые растрепанные облака. В палатах и коридорах зажгли свет. Внизу, под окнами, на аллеях больничного парка вспыхнули матовые шары. Бориса и Женю Харитоновых поместили на плановой хирургии в восьмую палату, из которой утром вывезли в реанимационную Тузлеева, а паренька с грыжей перевели в соседнюю шестиместную палату. Старожил восьмой Власов встретил братьев приветливо, помог уложить поудобнее Женю, разместить нехитрый их больничный скарб по тумбочкам, давал практические советы, как «старый хирургический зубр». Власов лежал в больнице не первый раз, по собственному его выражению — «без счету». Два года назад ему удалили здесь половину желудка с язвой, но болезнь рецидивировала, и теперь он готовился к повторной операции. Однако все эти невзгоды не лишили его бесшабашного оптимизма, а юмору придали то своеобразие, которое уже именуют юмором висельника. Длинное худое лицо Власова с большими ушами словно с рождения искривила усмешка, утянувшая вниз левый угол крупного добродушного рта. Этого высокого тощего парня все называли шутливо и официально по фамилии — Власов, возможно, потому, что больных, находившихся вместе с ним в отделении; он величал, не иначе, как сослуживцами. Власов сразу понравился Борису. Женю утомил переезд, и он лежал молчаливый, безразличный, одутловатое серое лицо казалось маской. Синие веки были сомкнуты. В палате стояла тишина, которую нарушало только глубокое дыхание Жени. Борис неподвижно сидел у постели уснувшего брата, а Власов — на своей койке, выставив квадратные худые колени. Рот его кривился обычной, но сейчас какой-то смущенной, неловкой усмешкой. Власов понимал, как давит тишина на здорового брата. О, он хорошо уже знал эту проклятую тишину, которая была во много раз хуже надоедливого шума непрерывных палатных разговоров, шарканья ног в коридорах, скрипа дверей, ибо весь этот шум был отражением истинной жизни, а тишина оживляла привидения — бледные пугающие мысли… Власов подошел к Борису, тронул его за плечо: — Пусть отдыхает. Пойдем подымим. Борис рассеянно похлопал по карману пижамы, где лежали папиросы, поднялся. — Ты, слыхал я, офицер? — говорил Власов, вышагивая рядом с Борисом и размахивая длинными руками. — Люблю офицеров… Выйдем в лес. Вот начнутся дожди, тогда надымимся еще в курилке. — Пойдем, — согласился Борис, сообразив, что речь идет о парке. Они направились к лестнице. — Честно тебе скажу, сослуживец, никотин для моей болезни — первейший яд. Злодейка с наклейкой — тоже, но ведь помирать все равно когда-нибудь придется, верно? — Власов доверительно склонился к уху Бориса. — Пока у строителя остался хоть небольшой ошметок желудка, строитель не может отказать себе в этих самых прелестях. — Значит, ты строитель? — А как же! Бригадир комплексной бригады Власов. Будем знакомы. Кавалер нескольких мирных медалей. — Ну, брат!.. А я просто Борис, старший лейтенант танковых войск. — Слушай, старлей, сейчас ребята должны принести мне посылочку, и мы отметим знакомство, обязательно! — оживился еще больше Власов. — Непьющих офицеров ведь нет? Как и строителей. А? — Пожалуй, что нет, — рассмеялся Борис. В парке было много больных и посетителей. Борис и Власов сели на ближайшую свободную скамью, закурили. Власов стал рассказывать о своей бригаде, равной которой, по его словам, не было во всем их министерстве. — Зарабатываем мы — будь здоров! Похлеще твоего генерала, — хвастал он. — И другие бригады нам, естественно, завидуют. А бездельники — так те просто ненавидят! Ведь по нам министерство нормы составляет!.. Борис смотрел на него, открыв рот: — Ну, знаешь, сам люблю повеселить, но такого вранья не слыхивал! И они стали смеяться, глядя друг на друга, как старые добрые друзья. — Не веришь? — сказал наконец Власов. — Нет. — Ну, и правильно. Но бригада у нас действительно что надо и заработки хороши. Помолчали, подымили. — А тебе не страшно почку отдавать? — неожиданно спросил Власов. — Ты-то откуда знаешь? — Да об этом вся больница уже знает. Борис махнул рукой: — Только бы все было нормально… Власов ударил его большой ладонью по коленке: — Все так и будет! Поверь уж, у меня нюх. Поступает какой-нибудь малый, вроде бы и ничего — здоровее меня, а я гляжу на него и вижу — не жилец. И точно. Через недельку повезли в дальнее отделение ногами вперед. А у вас все будет хорошо! — И я так думаю… Уверен, что проскочим. — Точно. — Власов откинулся на спинку скамьи. — Ты молодец, сослуживец. Я бы тоже отдал… Вот тебе, например, отдал бы!.. Борис улыбнулся. — Опять не веришь? — настороженно спросил Власов. — Верю. — Правильно. Это я серьезно. — И, помолчав, добавил — А знаешь почему? Человек ведь из обезьян: все перенимает. Так и идет цепочка. А вот первым звеном стать, наверное, не просто… Борис молчал и с благодарностью думал об этом человеке, так неожиданно поддержавшем его в минуту, когда, казалось, каждый стремился отговорить его. И мать, и брат, и даже профессор. — О, опять Клавдия идет! — сказал Власов. — Ну и настырная! — Кто? — не понял Борис. — Жена? — Да нет, женщина просто. Мужчинам ведь без женщин никак, и наоборот — тоже. — Невеста, значит? — улыбнулся Борис. — Мне уже двадцать восемь, сослуживец. Какие тут невесты! Но доконать она меня хочет… Работаем вместе. К ним подходила невысокая женщина с приятным, хотя и довольно сильно подкрашенным лицом, одетая модно и ярко. — Вишь как разнаряжена! На свидание! — буркнул Власов, но в голосе его не было осуждения. — Здравствуйте, — сказала женщина, подходя, мелодичным голосом. — Власов, а у меня есть для тебя радостное известие. — Садись, Клавдия, — радушно предложил Власов. — Весть — это хорошо. А как насчет четвертинки — радостная ведь, говоришь, весть-то? — Ох, беда с ним! — доверительно сказала Борису Клавдия, присаживаясь на скамью. Борис рассмеялся и встал. — Ничего, с таким и бедовать не скучно. Всего хорошего. Пойду к брату. — Ну-ну, погоди!.. Клавуня, меня язва мучает, не усугубляй. — Действительно нет. Я торопилась. — Эх ты!.. — горестно развел в стороны длинные руки Власов. — А так надо бы… Ребята придут? — Привет тебе от всех. Завтра придут. — Что же, сослуживец, отложим до завтра, — грустно сказал Власов. — Завтра, конечно, это не сегодня, но ты не расстраивайся. Завтра даже веселей будет: папашу Тузлеева прихватим. Допоздна развлекал Власов Бориса всякими разговорами да историями. Заснули около двух ночи, уставшие, как после тяжелой работы.День начинался серый, влажный. Под утро пошел дождь и нудно бил в стекла несколько часов кряду. В реанимационной палате все время горел свет и туда-сюда сновала дежурная сестра. Тузлеев проснулся часа в три и не смог с тех пор заснуть, невзирая на все полученные таблетки и уколы. Он чувствовал бы себя совсем неплохо, если бы не разбитость и бессонница. Его раздражал свет, и сестра, и дождь, и этот человек на противоположной койке с широким, плоским и белым, словно нарисованным на меловой стене, лицом. Тузлееву казалось, что тот не спит сутки напролет. Чаще всего Тузлеев видел его глаза открытыми. Они смотрели в окно, темное или залитое солнечными лучами, с неизменным выражением, а правильнее сказать — неизменно без всякого выражения. Иногда Тузлеев замечал, что этот мертвый взгляд направлен на него. Все это было невыносимо. Ворочаясь на высокой жесткой кровати, из которой торчало множество различных ручек, не придававших ей, однако, мягкости, Тузлеев с раздражением стал думать о том, что опять до воскресенья не получит свой любимый еженедельник «За рубежом». Жена приезжала к нему по средам одна, а по воскресеньям с сыном. К другим приходили чаще, к некоторым даже ежедневно. Он злился и обижался на жену, понимая между тем, что чаще она приезжать не могла, занятая работой и хлопотами по дому. Жили они далеко от больницы, в другом конце города, в районе, который еще совсем недавно был пригородом. Занимали половину небольшого дома, а в другой половине жила его сестра, с которой они поссорились вскоре после окончания войны, когда он разошелся со своей первой женой, и так до сих пор даже не разговаривали. Мимолетное воспоминание о сестре и первой жене, проползшее в нестройном ряду беспорядочных ночных мыслей, ухудшило и без того паршивое настроение. Так бывало всегда. Может быть, от того, что не хотел он, не мог признавать свою неправоту… Все его худое тело словно палками было избито. Проклятые медики! Мало им того, что бог весть какую дрянь влили в него — едва не помер, так бросили еще на эту высоченную кровать, с которой и слезть-то будет не просто! Тузлеев сел на койке, свесив с нее отечные тяжелые свои ноги. До пола оставалось с четверть метра, сверху же казалось еще больше. — Сестра! — раздраженно позвал он. Сестра, делавшая в это время укол соседу, обернулась и сказала: — Вам нельзя вставать, Тузлеев, лягте, — и опять отвернулась от него, продолжая свое дело. Чертова кукла! Какой-то убийца ей дороже… — Помогите мне слезть отсюда! — потребовал он. Сестра закончила манипуляцию и подошла к Тузлееву со шприцем и жгутом в руках. — Я же говорю вам — врач не разрешил… — Много ваши врачи понимают, — перебил он. — Вот чуть не угробили… Ну-ка… — Он протянул к ней руку, оперся на плечо и слез. — Ну, Тузлеев, — взмолилась сестра, — меня же будут ругать за вас. Скоро уже обход, тогда вам, возможно, разрешат… Он махнул рукой: — Ладно, ладно, я не дитя малое. Шаркающей походкой, чувствуя слабость в больных своих ногах, Тузлеев пошел к двери. Кухнюк следил за ним, и Тузлееву вдруг стало жутко. Ему показалось, что этот человек готов вскочить. Вот собирается, вот сделал какое-то едва приметное, начальное движение… И ведь не уйти от него!.. Тузлеев остановился: — Сестра! Она была рядом и он взял ее под руку. — Отведите меня в мою палату. — Это невозможно. — Как невозможно, что значит невозможно? — брюзжал он. — Там мои вещи, мои папиросы… — Все здесь, Тузлеев, а там уже другой больной. — Как другой? На моем месте? — Он был поражен. Какое хамство! — Сейчас ваше место здесь. И вам предписан постельный режим. Давайте я помогу вам лечь, — уговаривала сестра. Кухнюк, не моргая, смотрел на него. Без всякого выражения, но это и было самым неприятным. — Я не буду здесь! — вскрикнул Тузлеев. — Слышите, ни минуты больше не буду. В дверях появился милиционер в халате поверх кителя и с книгой в руке. Тузлеев крепко держался за сестру и подвигал ее к выходу. Больные и медицинский персонал готовились уже к очередному дню: обходу, операциям, процедурам. Поднимались сегодня неохотно, а поднявшись и приведя себя в порядок, бродили по коридорам или тоскливо стояли у окон, глядя в неприветливый мокрый парк, на ветви, качавшиеся под серым, набухшим влагой небом. В коридоре у дверей реанимационной Тузлеев и сестра столкнулись с Власовым. — О, сослуживец! — расплылся Власов. — Я тебя проведывать иду, а ты, гляжу, меня. Как живой. — Власов, — обрадовалась сестра, — проводите его пока к себе в палату. До обхода. — Можно, — согласился Власов. — Ну, цепляйся, сослуживец. Они медленно двинулись по коридору. — Ну, как на том свете, не шибко страшно? — не переставая улыбаться большими кривящимися губами, говорил Власов. — Ты что же это, сослуживец, не молодой вроде бы, а баловник… — Перестань, этим не шутят, — проворчал Тузлеев. — Ну, отец, какой же ты фронтовик? К смерти ведь привыкнуть надо. То-то, гляжу я, не Герой ты Союза… Жаль, что запоздал я родиться. Не умирать бы мне от постылой язвы, а на лафете, под кумачом, со Звездой на груди… — Балаболка. — Вот тебе крест, сослуживец. Не веришь? — Что же, каждый Звезду, по-твоему, на войне должен получить? — разозлился Тузлеев. — А как же! — удивился Власов. — Обязательно! — Дурак ты, — выругался Тузлеев. — Исправлюсь. Молодой, — рассмеялся Власов. — Ну, ладно, ладно. Знаешь ведь, что люблю заводить. Не день в одном окопе сидим, — примирительно сказал он и, наклонившись, добавил тихо: — Я ведь завидую тебе. — Дурак дураком! — усмехнулся Тузлеев. Власов снова рассмеялся: — Все у тебя, сослуживец, дураки. Видно чего-то ты сильно недопонимаешь. На широком балконе в конце длинного коридора Борис делал зарядку. Через открытые стеклянные двери видно было, как пружинисто приседает. Рядом махали руками еще несколько человек. — Очень заразительный человек наш новый сослуживец, — одобрительно заметил Власов. — Он еще и нас с тобой, отец, к зарядке пристрастит. Женя лежал на спине, вымытый, причесанный, закрыв глаза и вытянув на одеяле руки. Тузлеев поморщился. И тут серый лежит! Там белый страшный, тут серый невеселый. Черт их разберет, стоящих у самого своего края, убьют или сами помрут. И то и другое жутко. Трупы пугали Тузлеева. Он и на похороны никогда не ходил в последние годы. Отец помер еще в войну, а на панихиды по сверстникам своим — знакомым ли, родным — не ходил. Вроде бы немало смертей насмотрелся в войну, а к старости словно другой человек в нем родился. — Это кто такой? — с опаской спросил он у Власова, указав глазами на Женю. — Сослуживец, — ответил тот. — Кому же здесь еще быть? Которому брат почку отдает. — А-а, — недоверчиво протянул Тузлеев. — У стал я… — Ложись на мою родную, — предложил Власов. — Люди, сказывают, хлебом делятся. А я не хуже людей. — Он помог Тузлееву лечь. — Вот так. Потом Герман что-нибудь придумает. — Вишь, что со мной сделали, — ворчал Тузлеев. — Ну и врачи! Едва не угробили. — Так ты ж сам напросился, чтоб тебе кровь перелили. — А что? Не заслужил я, что ли? — обозлился Тузлеев. — Мало я ее пролил за этих же вот докторов! — Почему же за докторов? — удивился Власов. — Они тоже небось в войну из костей и мяса состояли. — Ну, за нынешних молодых… И за тебя тоже… — Брось, сослуживец! Негоже на земле своей родной счеты разводить, — неожиданно серьезно сказал Власов. — Плохо это. Я, может, за эти тихие клены, что под окном, хотел бы жизнь отдать. А ты — за молодых… Жить-то тогда зачем? — Зачем, затем… — буркнул Тузлеев, закрывая глаза. Ишь ты, пристыдил. Болтун. Вот так все они. Должником еще помирать будешь… Вошел Борис, с удивлением уставился на старика, лежавшего на власовской койке. — Здравствуйте. Тот открыл глаза, глянул на него и снова закрыл. — Ну, как тебе, старлей, моя напарница? — снова, по-своему, криво улыбался Власов. — Чудак ты! — рассмеялся Борис и, снята рубаху, пошел к раковине в углу. — Вот, отец, человек новой формации, — говорил Власов, рассевшись на кровати Бориса. — Пример для нас с тобой и для всего поколения. Человек, готовый все отдать ближнему. — Ну и дурак, — буркнул Тузлеев. — Оба дураки. Уговорили их врачи. Женя смотрел на деда, повернув к нему голову и не меняя позы. — Как раз наоборот, дедушка, — обтираясь, сказал Борис. — Ну да. Когда б их слушал, так, наверное, давно бы уже… Пятнадцать лет назад они мне операцию предлагали. — А может, ты бы уже пятнадцать лет инвалидом не был, сослуживец, а? Или неохота уже — не инвалидом? — Эх-х! Болтун! — Ну, а в самом деле, сослуживец, какая им корысть тебя оперировать? — В том-то и беда, что никакой, — оживился Тузлеев. — Не доверяю я этим бессребреникам. Уж тот, кто берет деньги, хоть старается. Плохо сделает — не пойдут к нему. Зубы на полку положит. А так… Вот кровь перелили. Дорогая ведь вещь, да не своя, да без старания. И вот результат: чуть бы еще — и на тот свет спровадила… Нет, я бы лучше деньги заплатил, чтоб быть уверенным. — В чем же дело? Давай мне деньги, я передам. И будь уверен! — двусмысленно предложил Власов. — Все болтать бы тебе! — зло сказал Тузлеев, и в этот момент в палату вошел Герман. — Здравствуйте. О чем ругаетесь? — Здравствуйте, Герман Васильевич. — Власов поднялся с кровати. — Да вот сослуживец считает, что развращает медицину бесплатная помощь. — Медицину?! — Я вот думаю — больных, а он считает — медиков. Герман удивленно пожал плечами и строго оказал: — Тузлеев, вам не следовало вставать без разрешения врача. — Я не могу там лежать, Герман Васильевич. Этот белый, ненормальный, притворяется. Он встать уже может. И смотрит так, того и гляди пришибет. — Ну что вы, ей-богу!.. — А то. И еще просьба к вам: передайте меня другому врачу. Я ей не доверяю. Тузлеев медленно сел на койке, свесил ноги. Герман внимательно и долго посмотрел на него, но Тузлеев-то понял, что врач растерялся и подыскивает ответ. Конечно, не на простачка какого-нибудь напали! — Прасковья Михайловна очень хороший врач, можете мне поверить, Тузлеев. А такие сильные реакции на переливание крови бывают. Тузлеев снова лег: — Почему меня из палаты моей перевели? — Так было надо. Для вашего же блага. — Ну, а теперь? — Что теперь? — Вот я и говорю — что? — После обхода что-нибудь придумаем. Может быть, дополнительную койку поставим. С местами на отделении было плохо. — Я пока полежу здесь? — Пожалуйста, если Власов не возражает. — Мне теплее! — заверил Власов. Герман подошел к Жене: — Как вы себя чувствуете, Женя? — Ничего, — вяло ответил тот. Герман кивнул ему ободряюще и вышел из палаты. — Вот видели? Как в карусели — явился и исчез, — проворчал Тузлеев. — Так это же он на тебя поглядеть забегал, сослуживец. До конференции даже. Жив ли ты после утреннего моциона. — Жив ли… Я еще к главному пойду, если не удовлетворит просьбу. — Неуемный ты, сослуживец! — рассмеялся Власов. — И обиды, похоже, старательно копил. — Накопишь, с мое поживешь, — буркнул Тузлеев. — Не-ет, сослуживец, — возразил Власов, — не годы накапливают обиды в человеке, а его душа. Есть у человека для зла закром — считай, несчастным родился. — Ну-ну. Что ты про жизнь-то знаешь? — Что она прекрасна и удивительна, сослуживец. Пока мы живы! Верно, старлей? Вот он отдает почку своему Женьке, потому что жизнь прекрасна, а почка, ноги, желудок — это мелочь, требуха! Считай, что ты отдал свои ноги кому-нибудь, чтобы он жид, и посмотри после этого на мир, сослуживец…
8
Федор Родионович прочел письмо и положил его на край стола. Словно в праздник, горели все шесть лампочек в люстре. Утро было пасмурное. — Прочел? — крикнула из кухни Татьяна. Оттуда расползался по всей квартире аромат кофе. — Да, — ответил Федор Родионович. Он мог уже представить себе разговор за завтраком. Поморщился. Говорить не хотелось вовсе. Не было желания и приниматься за подготовку к лекции, которая должна была начаться в двенадцать дня. Пасмурная погода всегда выбивала его из колеи. Все годы лишь большим усилием воли он заставлял себя в дождливые дни заниматься так же интенсивно, как обычно, превозмогая депрессию и тоску, которые охватывали его, словно животное, подвластное только силам природы. Татьяна внесла на подносе кофе, молоко, тарелку с гренками, залитыми яйцом, сыр. Все это были любимые ее кушанья, к которым она приучила постепенно и его. Она поставила поднос на стол и стала разливать кофе. Татьяна не любила есть на кухне. От этого, правда, в доме царил беспорядок, но они все привыкли к нему. — Бедная девочка очень скучает, — сокрушенно сказала Татьяна, пододвигая своей большой сильной рукой к нему чашку. — Да и мы тоже, верно ведь? Федор Родионович кивнул, пробуя кофе. Он не пил горячего. Крупная, располневшая за последние годы и сильно поседевшая, Татьяна не утратила, однако, своей энергии и темперамента. — Это несправедливо! Наконец-то находишь с детьми настоящий душевный контакт, они уже могут быть самыми близкими друзьями, становясь взрослыми, и почему-то именно тогда нормальным считается отдаление… Ему трудно было с нею не согласиться, но и согласиться он не мог, ибо не чувствовал этой душевной близости с дочерьми и не мог надеяться, что они станут настоящими друзьями. — И вместо того чтобы передавать именно своим детям жизненный опыт, мы передаем его чужим, — продолжала Татьяна. — Не в этом ли причина постепенной утраты традиционности?.. Она была доцентом кафедры акушерства и гинекологии, хорошим хирургом-гинекологом. Их старшая дочь, как и ее муж, тоже была врачом. — И все усилия государства, направленные против такой утраты, малоэффективны без усилий семьи. Ты не согласен? Она любила пофилософствовать, имея при этом всегда какую-нибудь очень конкретную цель. Федор Родионович не сомневался, что есть цель и сейчас. — Ты думаешь, все именно так просто? — вяло спросил он. — Я уверена, что в основе всякого сложного явления лежат простые истины, — категорично ответила она. — Уж нам-то, врачам, этого не нужно доказывать. Беда в том, что эти истины познаются иногда только на вскрытии… Еще гренок? Он кивнул. Посмотрел на нее внимательно, даже с любовью. Да, да, она, конечно, права. При всей присущей женщинам, даже пожилым, романтичности Татьяна всегда отличалась прямолинейным мужским умом. И это сделало ее счастливой. Она любила своих дочерей и приложила немало усилий, чтобы они «своевременно» вышли замуж. Любила своего мужа, свой дом, но сильнее всего, вероятно, любила свое дело, которому могла отдавать больше, чем кому бы то ни было. Она познавала известные истины своего ремесла практикой и не пыталась раскрывать новых. Ей и не нужно было этого. А разве он не мог идти тем же путем? Теперь это неизвестно. С самого начала он пошел иным. Он хотел искать и раскрывать истины непознанные. Он чувствовал себя способным на это. А в конечном итоге — малозначительная наукообразная деятельность, весьма напоминающая, вероятно, со стороны, из перспективы времени, беспомощное и бессмысленное барахтанье коричневого жучка в молоке… Он вытащил ложкой из молочника жучка и с отвращением бросил его в пепельницу. — Почему бы тебе не взять его к себе? — говорила между тем Татьяна. — Кого? — Федор Родионович уже несколько минут не слушал ее. — Ну, Сашу, естественно! — возмутилась она. Федор Родионович удивился. Хотя зять и был хирургом… — Но они живут в другом городе… — Вот и переехали бы сюда! Он ведь очень способный человек. И неужели тебе не хочется передать кому-то близкому все, что накопил в своем деле? Именно одному человеку — все! Продолжателю. — Оставь, Таня, это ерунда. — Отнюдь! Не случайно очень многие значительные клиники — наследственные. — Она стала собирать на поднос посуду. Сегодня, судя по всему, она не торопилась. — Спасибо. — Он поднялся из-за стола. — Тебе помочь? — Не надо, мне к десяти. — А насчет клиник, — уже от двери заметил Федор Родионович, — так значительность их в основном от той самой традиционности, а не от больших новаций. В науке, как и в искусстве, безразлично, в чью голову вкладывать. Важно, чтобы эта голова была способна и воспринимать, и думать самостоятельно. Они шли по коридору, он — в кабинет, она — на кухню. — Ты что, все еще на позициях антиморганистов? — донесся до него насмешливый ее голос из кухни. Федор Родионович усмехнулся, подвигал бумаги на столе. — Да нет! Просто мне нечего передавать. — О-о-о! — весело сказала Татьяна. — Вам, мужчинам, обязательно нужно быть великими! Баб губят навязчивые мысли о тряпках, а вас — о величии! — Она появилась в дверях кабинета. — Все твои возражения нужно считать неприятием Саши? — Нет, пожалуй… — Это меня радует. — Она поцеловала его в лоб и добавила тихо: — Я скучаю по ним, Федя… — Надо подумать, что можно сделать. — Подумай. Ты умный, додумаешься. — Она улыбнулась. — Ну, занимайся, не буду тебе мешать. Да и сама займусь. Есть еще полчаса. Федор Родионович тяжело положил руки на стол. За лекцию приниматься не хотелось. Собственно, нужно было только просмотреть прошлогодние, пришедшие из каких-то далеких уже лет, когда он впервые готовил эту лекцию, записи, внести в них изменения, дополнения, продиктованные быстрым течением науки, продумать акценты, выделить главное для дня сегодняшнего, определить тональность. Когда-то ему нравилась эта работа. Теперь он не смог, как обычно, взяться за нее накануне вечером, не мог и сейчас. «А что, если бы у меня был сын? — думал Федор Родионович. — Стал бы я делать из него доктора медицинских наук к тридцати пяти годам?» Продолжателя. Чего продолжателя только? Семейных профессорских традиций? Наверное, ничего, кроме вреда, науке это не приносит. А собственно, велик ли вред? Вот ведь он сам не «наследственный профессор», а толку-то что? Без наследственных легче пробиться талантам? Настоящий талант всегда пробьется. В медицинской науке это не может быть инертный мыслитель, отвлеченный теоретик. — От безвольных «многообещающих» здесь решительно нечего ждать… Нет, сын ничего не изменил бы в его жизни. Только сделал бы ее, возможно, еще более сложной. Нет, нет, главное — быть уверенным, что ты делаешь именно то, что должен, что лучше всего можешь… Нужно оправдать свое присутствие здесь, доказать себе самому… Что же доказать? Это очень важно: определить конечную цель. Федор Родионович нервно поднялся, подошел к окну. Вид из него был отвратительный, не то что в больничном его кабинете, — скучный высокий дом на противоположной стороне улицы. Но Федору Родионовичу просто нужно было движение. Может быть, он подбирается к спасительной истине?.. В столовой часы пробили девять. И почти тут же появилась Татьяна, уже в плаще, с зонтом в руках. — Сегодня я приду поздно: защищается одна наша девочка. Обед в холодильнике. Или ты поешь на работе? — Не знаю, Танюша. Там видно будет. — Ну, до свидания, дорогой. Не переутомляйся. Вот пример естественной и ясной жизни. Но для этого нужно быть таким, именно таким человеком, как Татьяна. Федор Родионович заставил себя, отбросив все посторонние мысли, в течение часа заняться лекцией. Посмотрев ее до конца и наметив переделки и добавления, он задумался о тех, для кого готовил все это. О своих учениках. Как громко и гордо это звучит, и как мало соответствует… Ну, какие они ученики! Пришли, ушли… Полноте, нужны ли вовсе им эти лекции, профессор? Есть хорошие книги, от которых он, Федор Родионович, в общем-то и не очень отходит, в отличие от других профессоров, считающих в гордыне, что «свой» курс будет лучше «книжного». Как будто частности способны решать проблемы!.. Главное — заразить их, студентов, учеников, любовью. Он не смог этого сделать, не смог заразить своей любовью к хирургии. Это главное. И он знает, почему так получилось: ему нечем заражать! Так пылкая страсть уродца остается безответной. Конечно, ведь все они — молодые люди — романтики. И им необходима романтика, чтобы стать преданными какому-нибудь делу. Их навряд ли способна увлечь, особенно тех, что посвятили себя естественным наукам, даже логичность, правильность. Они ищут не истин, выбитых на холодном граните, а огня, который бы зажег хранящийся в них горючий материал. Они не знают еще, как часто этот материал постепенно и бессмысленно, словно пропан из испорченного баллона, покидает их с годами, так и не воспламенясь… Главная задача учителя — дать им огонь. Только воспламенив их, он сможет сказать: это мои ученики. Но у него есть лишь старые истины, выбитые на холодном граните. Федор Родионович вдруг вспомнил школьного учителя математики, пожилого, сухого человека. Собственно, вспомнил он тягостное чувство сожаления, связанное с этим человеком, высококвалифицированным педагогом, беззаветно преданным математике. Вспомнил уроки по алгебре и геометрии, едва ли не самые скучные в школе, и единственного одержимого математикой парня, который занимался ею во Дворце пионеров. Учитель любил этого парня, часто оставался с ним после уроков, но выглядело это как навязывание себя. Все так и понимали — «пристает»… Больше сорока лет прошло с тех пор, но Федор Родионович отчетливо видел их школьный актовый зал, стол под красным сукном на сцене. Парню вручали приз за первое место в областной математической олимпиаде, и он благодарил руководителя кружка из Дворца пионеров… Совершенно незначительное для Федора Родионовича событие! Но его поразило тогда лицо их учителя: перекошенное какой-то жалкой улыбкой, словно оправдывающееся. Это скорбное, страдающее лицо врезалось в память Федора Родионовича. Не его ли это судьба? Да, да, успехи и его лично, и руководимой им клиники в воспитании влюбленных в хирургию людей ничтожны. Он должен признаться себе, что и здесь потерпел поражение. Он несет ответственность за тех, которые выходят за порог высшей медицинской школы бесстрастными, с холодными истинами в голове, не заинтересованными, не горящими ничем… И может быть, именно за них он достоин наибольшего наказания!.. Часы в столовой пробили одиннадцать. Федор Родионович собрал со стола бумаги, сунул их в портфель с монограммой, пошел переодеваться. Дождь прекратился, кое-где между тучами проглядывало голубое небо, но осенний холод, такой неожиданный после вчерашнего лета, стоял в ущельях улиц. До начала лекции оставалось еще около получаса, но когда Федор Родионович проходил мимо аудитории (в больнице называли ее конференц-залом), там было уже много студентов. Идущие ему навстречу останавливались и здоровались, стоявшие в стороне не замечали его или делали вид, что не замечают. В общем-то он был безразличен им, как и его клиника. Он не вызывал у них интереса. Сухой лектор, может быть слишком деловой, пресный, может быть слишком замкнутый и необщительный человек, для которого контакт с этой молодежью, их уважение — недоступный сезам. Федор Родионович поднимался по лестнице к себе в кабинет на четвертый этаж и с раздражением думал, что блестящие, краснобайские лекции, которыми чаруют иные профессора, — не его удел. Он хотел бы читать сжато, емко, может быть даже афористично, как это умел делать его учитель. Ведь единственной фразой можно выразить суть целого раздела, фразой, которая запомнится на всю жизнь и сделает эту суть той самой простейшей истиной, без которой невозможно понимание сложных проблем. Вот, например, фраза, раскрывающая суть гнойной хирургии, стоящая, несомненно, иных монографий: лучше маленький хирург с большим разрезом, чем большой хирург с маленьким разрезом… Но у него, к сожалению, мало подобных фраз, да и те не находят, скорее всего, отклика в слушателях. Ученики должны уважать учителя, восхищаться его делом. Лишь тогда они станут ловить подобные фразы. А добиться такого уважения можно только делами. Клиника должна решать сложные и большие проблемы. С учениками ведь тоже, как с малыми детьми: когда с ними разговаривают серьезно, по-взрослому, они понимают и слушаются… Этого нет у него и уже не будет. Поздно, время упущено. В холле третьего этажа Федору Родионовичу встретился доцент Ардаров, молодой очень серьезный черноглазый человек, которого решительно все называли только по имени-отчеству — Раилем Фуатовичем. Обменявшись несколькими фразами, они стали молча подниматься, профессор на одну ступеньку впереди. Все знали, что шеф не любит лишних разговоров. А кто определит, что он сочтет лишним?.. Федор Родионович неторопливо ступал по широким истертым ступеням, ставшим такими знакомыми за многие десятки лет. Лестницы успокаивали его, сосредоточивали, особенно знакомые. И он подумал: а может быть, не все еще потеряно? Вот — пересадка почки, спасение обреченного… Срочная трансплантация сонной артерии — уникальная операция, выполненная одним из его немногих учеников… Трансплантация нижнего отдела аорты… В течение месяца три такие победы! Их еще нет?.. Будут, должны быть!.. Частность? Но ведь вся жизнь — из частностей. Вероятно, действительно у хирурга, пусть это будет даже профессор, главное — спасение и излечение людей. А все остальное — от лукавого. Ведь он не сомневается, что студентам нужно прививать именно такое отношение к хирургии! И хотя начинающий врач и профессор стоят на разных ступенях, но лестница одна и та же. Уже в холле четвертого этажа их нагнал ассистент, который должен был помогать ему сегодня на лекции. — Здравствуйте, Федор Родионович! Все готово, — часто дыша после быстрого подъема, сказал ассистент. Добродушное круглое лицо его нравилось Федору Родионовичу. — Спасибо. У кабинета маячило несколько человек из больничных и кафедральных работников, надеявшихся решить с ним какие-то вопросы до начала лекции. Он отпер дверь своим ключом. — Как больной Трифонов? — опросил Федор Родионович у ассистента, входя в кабинет. Ардаров и ассистент последовали за ним. Ассистент занимался всеми больными, которым пересаживали сосуды, по крайней мере следил за ними. Это была тема его будущей докторской диссертации. — Трифонов? Все в порядке, Федор Родионович, все в порядке! — бойко ответил ассистент. — А Кухнюка вы взяли? — Да, Федор Родионович, обязательно! — Не исключено, что завтра при пересадке почки тоже понадобится трансплантат сосуда. — Хорошо, Федор Родионович, я подберу… Профессор надел специально приготовленный к лекции халат, висевший на плечиках за ширмой. — Пойдемте, взглянем на больных, — сказал он находившимся в кабинете. — Трифонова уже выписали, — поспешно произнес ассистент. Федор Родионович недовольно поморщился — опять без его ведома выписали больного с трансплантатом. Здесь, конечно, есть и его вина: в первую неделю после операции он ежедневно осматривает таких больных, но затем разные дела, новые больные отвлекают его… — Сколько же прошло времени после операции? — Больше месяца, Федор Родионович. — Разве? — Да, Федор Родионович, да… Ардаров бледнел и краснел за их спинами. Он-то знал, что Трифонов умер еще две недели назад, когда профессор был в отъезде. Но ассистент не любил расстраивать шефа, то ли по доброте душевной, то ли из иных соображений. И все это знали, кроме самого профессора, естественно. Ассистента иногда величали Чичиковым, ибо собирал он для своей диссертации, наряду с живыми, и мертвые души. Компанейский, добрый парень с маленькой странностью… В восьмую палату вслед за профессором вошли уже человек шесть. Федор Родионович прошел, к койке Жени Харитонова, сел на край, взял его желтовато-серую руку. Женя открыл глаза. — Здравствуйте, Женя. — Федор Родионович кивнул ему и стал считать пульс. — Готовы к бою? — Откинув одеяло, посмотрел на ноги. — Мне кажется, не надо, профессор… — Женька, перестань! — сказал Борис. Все повернулись к нему. — Не слушайте его, профессор, это он боится за меня. — Я знаю, — мягко сказал Федор Родионович. — А вы сами? — Я уверен, что все будет хорошо. — Слышите, Женя? Настройте себя так же. Ну, ну… — Федор Родионович легонько похлопал его по безжизненной руке и двинулся к выходу. — Профессор, мне перелили не ту кровь! — неожиданно сказал Тузлеев, поднимаясь ему навстречу. — Да? Я слыхал, что у вас была сильная реакция на переливание, — спокойно ответил Федор Родионович. — Как вы себя чувствуете сейчас? — Вам тоже не сказали, что другую перелили? — Товарищ уважаемый, профессор торопится на лекцию. У него ведь не обход сейчас, — энергично подключился ассистент. Федор Родионович молча шел по коридору. Так же молча свернул в реанимационную палату. Кухнюк высоко лежал на поднятом подголовнике, почти сидел. Темные, как вишни, глаза на белом лице следили за приближающимися людьми. Федор Родионович подошел к Кухнюку, поздоровался, осмотрел повязку, чуть сдвинув ее книзу пальцами правой руки, прощупал у углов нижней челюсти биение сонных артерий. — Как вы себя чувствуете? Головных болей нет? Кухнюк отрицательно качнул головой. — Вам трудно говорить? — Вы — профессор? — Да. — Скажите… — Кухнюк замолчал. — Я слушаю вас. — Можете вы взять у меня почку? В палате возникла напряженная тишина, словно ее вогнали туда одним ходом мощного насоса. — Я слыхал… Я прошу, профессор! Прошу… — Две неестественные на этих белых щеках слезы сбежали к широкому подбородку. Федор Родионович спускался по лестнице в аудиторию, все еще пораженный этой просьбой Кухнюка. Да, да, конечно! Этот несчастный именно так видел свой последний шанс опять почувствовать себя человеком! Пусть хоть перед смертью…9
В парке было сыро, за одну холодную дождливую ночь дорожки покрылись толстым лиственным покровом — деревья покорно приняли приход запоздалой осени. Однако к середине дня выглянувшее солнце быстро прогрело воздух. Ветви стряхивали с себя холодные капли, радостный шумок пробегал по кустарнику. В парке Власова поджидала Клавдия. — Клавуня, ты?.. Никак работу бросила! На пенсию, что ли, подалась? — Не болтай! Я вроде бы на обеде… — быстро заговорила она. — Вот! — И протянула к нему сжатый кулак. — Бокс вместо обеда? Она рассмеялась радостно и разжала пальцы. На ладони лежал ключ. — Видишь? На! Квартиру тебе дали, однокомнатную. — Давно пора. — Ты не рад? А я-то бежала… — Бегать полезно, так что не в проигрыше, — улыбался большущим ртом Власов. — Нет, ты просто невыносим! — А чего тогда бежала? — Действительно не рад? — А мне, по правде, и в общежитии неплохо. Даже веселее. Жениться вроде бы не собираюсь… Клавдия сунула ему в руку ключ и побежала по аллее к воротам. Власов догнал ее, взял под руку: — Клавуня, ты что? Обиделась? Ты что, не знаешь меня? — Знаю, — всхлипывала она, — и ненавижу… — Ну, вот тебе и раз… — растерянно произнес Власов. — От любви до ненависти и шага не было… — Оставь меня! — Она резко отстранилась. — Все шутишь, а сам злой!.. — и быстро зашагала прочь. Власов постоял, посмотрел ей вслед, почесал за ухом, покачал сокрушенно головой, а потом, махнув длинной рукой, зашагал к зданию больницы. — Власов, милый, где же это вы пропадаете? — встретила его в коридоре Прасковья Михайловна. — Я только что из вашей палаты. — Прогулял, выходит, обход… — Он, улыбаясь, поглядел на часы. — Что это вы сегодня так рано отоперировались? Мало было сослуживцев? Меня бы взяли. — Не торопитесь. Чем лучше подготовитесь, тем надежнее будет. — Надоело, честно говоря, лежать. А потом, я слыхал, вы в отпуск уйдете. Скоро ведь? — Ничего, другие останутся. — Э, нет! Я только вам доверяюсь. Вы мое нутро уже знаете, а я вас знаю. — Спасибо… Но я все же… наверное, не успею прооперировать вас. — Я могу и подождать! — весело тянул рот до ушей Власов. — Я человек верный… — Я знаю это. И люблю вас. И очень хочу, чтобы у вас все было хорошо… — взволнованно сказала Прасковья Михайловна и быстро пошла по коридору. Власову было жаль ее. Такая неприятная история с переливанием! Да еще квартирные неурядицы… Нувот, разве же это справедливо — ему, одинокому, дают квартиру, которая, в общем-то, ему и не очень нужна…В ординаторской царил беспорядок, обычный для операционных дней. На столах громоздились не обработанные еще истории болезней, на спинках стульев, на шпингалетах окон, на диване были развешены или просто брошены рубахи, халаты, галстуки… Герман окончил свои операции раньше. Теперь он записывал с Лидией Антоновной, взявшейся ему помогать вместо ушедшей на обход Прасковьи, протоколы операций. Лида была в их бригаде анестезиологом. Диктуя, он писал в истории, а она — в операционный журнал. — Медленнее, Герман Васильевич! Я пишу крупнее и разборчивее, и мне нужно, естественно, больше времени, — протестовала Лида, стряхивая пепел с сигареты в пепельницу. — Где вы застряли? — терпеливо спросил Герман. — Как неуважительно! Я остановилась на червеобразном отростке. Что с ним? — «…червеобразный отросток длиной десять сантиметров, спаянный…» — повторил медленно Герман. — Ну, спаянный… Дальше! Вы замечали, что диктуете страшно неритмично? Герман рассмеялся: — Вы просто невыносимы, Лидия Антоновна. — Вот это уже лучше. А если бы вы назвали меня Лидой, это было бы замечательно. Я готова уже заняться стенографией. После случившегося вчера Герман чувствовал себя наедине с нею еще более скованным и неестественным, чем обычно. — Как вы насчет стенографии? — напомнила Лида. — Это лишнее, — сказал он спокойно. — А что нужно мне предпринять, чтобы стать ближе вам? — серьезно спросила она, гася сигарету и не отрывая от него взгляда. — Наверное, это вообще не нужно, — тихо ответил он. — Нет! — Лида легко поднялась. — Не смей так говорить! Неужели ты не видишь, что мы нашли друг друга? И может быть, всю жизнь искали… — неожиданно страстно заговорила она. — Я ночь думала об этом… Пока мы идем инстинктивно, как звери, но ведь мы и не запрограммированные машины. Я знаю, что говорю… Ну, поверь мне, прошу! — Она умоляла и требовала. И вдруг улыбнулась: — Пойдем сегодня в кино… Он смотрел на нее, не узнавая. Страстная тяга к счастью сквозила во всех словах, движениях, поступках этой женщины, естественная и нередко так тщательно скрываемая людьми тяга. — Пойдем, — сказал он, и это было как во сне, который вдруг приоткрывает в тебе нечто, долгие годы скрытое и необходимое… — Ну вот, — с облегчением вздохнула она. — Все будет хорошо… В ординаторскую шумно ввалились Кирш и Валентин Ильич. Распаренные, в полотняных штанах и рубахах без ворота, они походили на поваров, только что отошедших от горячей плиты. — Ну и отросток, черт его побери! Уполз к самой печени, пришлось расширяться, — сказал Кирш, направляясь к телефону. Поставил на Германов стол широкие локти, стал набирать номер. Так приятно было после операций согнуться! Валентин Ильич взял из своего халата, висевшего на окне, сигареты, сел на диван и закурил. — Алло, девушка! Это роддом?.. Какой магазин?.. — Кирш постучал по рычажку, снова стал набирать номер. — Как хорошо оперировать, когда параллельно идет лекция! Тишина, покой… Алло! Справочная? Герман стал снова диктовать, а Лида села и застрочила в журнале, стараясь поспевать за ним. — …А давно вы получили сведения из отделений? — допытывался Кирш по телефону. — Ну, девушка, мы же договорились, что за час могла родиться уже и тройня… Да, это все я… Здравствуйте. — Он рассмеялся в трубку. — А может быть, я именно и хочу тройню!.. Узнайте, пожалуйста, я подожду… — Непонятно, — озабоченно сказал Кирш, повесив трубку. — Просто не знаю, что и делать… — Что там еще? — спросил Герман. — Все то же. Сроки-то вышли… Я чувствую, как вокруг нее крутятся там, и это неспроста. — Только без паники! Думаешь, родить так просто, — сказала Лида. — Лидочка, не впервой ведь… — Раз на раз не приходится. — Иди-ка лучше на обход, — посоветовал Герман. — Отвлекись. — О! Дайте хоть передохнуть. — Алексей Павлович грузно плюхнулся на диван, раскинув большие свои руки по его спинке. В этот момент постучали. — Разрешите? — Вошел Тузлеев и остановился у двери. — Я к вам, Герман Васильевич. — Проходите, пожалуйста. — Герман расписался под протоколом и слегка отодвинул от себя историю болезни. — Если помните, я просил сменить мне лечащего врача, — все так же от двери сказал Тузлеев. — А сейчас на обхода выясняется, что ничего не изменилось. Теперь уже все в ординаторской внимательно смотрели на него. — Видите ли, Тузлеев, — после паузы заговорил Герман, — вы, если не ошибаюсь, четвертый раз на нашем отделении… — Пятый, — сурово поправил Тузлеев. — Ну вот… И все последние годы вас лечила Прасковья Михайловна… — Именно. А что толку? — Вам много лет назад объясняли, — терпеливо продолжал Герман, — что без операции ожидать значительного улучшения нельзя… — Она меня и без операции едва не угробила! — Ну что вы, Тузлеев! Разве так можно? — возмутился Кирш. Лида закурила новую сигарету, прищурившись от дыма, разглядывала Тузлеева. — А эксперименты на больных можно устраивать? — зловеще спросил Тузлеев. Герман бросил шариковую ручку, которую все еще держал в руке. — Погодите, Тузлеев! Какие эксперименты? Вы не новичок в больнице, знаете, что даже после обычного укола случаются осложнения. А уж после операций… — Потому я и не оперировался! — буркнул Тузлеев. — Это ваше дело, — сухо сказал Герман. В короткую паузу вклинился Алексей Павлович: — Если я не доверяю портному… — Он не снимал рук со спинки дивана и не вытаскивал изо рта сигареты: казалось, он хотел подчеркнуть свое небрежение к происходящему. — Если я не доверяю портному, — повторил он, — то не только костюм у него шить не стану, но даже брюки перешивать. — Вот! — сказал Тузлеев Герману, указывая рукой на Кирша. — Видели отношение к больному? Портной… — И, повернувшись к Алексею Павловичу, зло закончил: — Портных, молодой человек, много. Я, может, тоже к частнику пойду, которому доверяю. Но медицина у нас одна, районированная. Лечащего врача я хотя бы могу себе выбрать? — У нас на отделении вам не из кого выбирать. — Кирш тяжело поднялся с дивана и раздавил свой окурок в пепельнице, стоявшей на углу стола. — Вижу, — зловеще произнес Тузлеев, медленно повернулся и удивительно легко переступил через порог приоткрытой двери в коридор. — Ну и тип, — сказала Лида. — С таким приятней всего встречаться, когда он в наркозе. — Или самим быть постоянно как в наркозе. — Кирш сел за свой стол. — Обхаживают, кладут в больницу по пять раз кряду: то хочу, этого не хочу… Все равно мало, плюет еще, а ты, знай, вытирайся… Давай, Валька, записывать операции. — Потому и плюет, что никакой цены в его глазах все это не имеет. — Валентин Ильич забрал у Лидии Антоновны журнал. — Я уже заметил: чем меньше с ними разговариваешь, тем меньше нарываешься… — Перестаньте! — Герман слегка ударил по столу ладонью. — Ведь из-за нас он действительно едва не отдал богу душу. Неужели вы не чувствуете, что он хоть понемногу, но прав во всем! — Разве ему хотели сделать хуже? Ну, Герман Васильевич, ведь всякое случается! — Алексей удивленно развел руками. — В чем же он прав? — У него жизнь всего лишь одна. И находится она в руках врачей, а не портного. Хотели — не хотели… — Всё слова!.. Жизнь-то выстраивается не по словам… — Для врача это не должно быть только словами, — тихо произнес Герман. — Разве врач из другого мяса? — неожиданно включился Валентин Ильич. — Значит, должен быть из другого. — Сверхчуткий альтруист, почти не человек… — Погоди, Валька, ты не о том, — остановил его Кирш. — Вот именно, — отрезал Герман и встал. — Хочу вас предостеречь, ребята, не только от повторения ошибок, свидетелями которых вы становитесь, но и от настроений, которые слышны здесь сейчас. В ординаторской повисла напряженная тишина. Валентин Ильич, склонив голову, стал писать, а Кирш и Лида смотрели во все глаза на Германа. Они никогда не видели его таким. А Герман, постояв несколько секунд у своего стола, вышел из ординаторской. — Герман Васильевич! — окликнула его в коридоре Прасковья Михайловна. — Был у тебя Тузлеев? — Да. — Я так и поняла. По-моему, он пошел теперь к главному врачу. Прошу тебя, передай его кому-нибудь. — У нее опять, как и вчера, был ужасно усталый вид. За многие годы совместной работы Герман не видел ее такой. Хотелось пожалеть, ободряюще положить ей на плечо руку. — Тебе нужно идти в отпуск, — мягко сказал он. — Ты здорово вымоталась за этот год. Она подняла к нему лицо и твердо произнесла: — Я решила вообще уйти из хирургии, Герман. — Перестань. Это минутная слабость. — Нет, это не минутная слабость. Мне уже действительно тяжело. Если быть объективной, то все последние годы я тянула через силу. А хирургии нужны сильные люди. Физически сильные. — Ладно, поговорим об этом после твоего отпуска. Пиши заявление и двигай к морю! Застанешь еще бархатный сезон. — Герман дружески положил руку ей на плечо. Они стояли у дверей ординаторской, в коридоре, и это движение было, вероятно, не совсем уместным, но для Германа главным сейчас была она. Прасковья усмехнулась грустно: — И к морю я ехать не могу. Нужно кончать квартирный вопрос. И с хирургией решено. Нельзя быть свиньей… Я слишком люблю хирургию… Это, наверное, вообще не женское дело. По крайней мере, женский век здесь тоже короче… Это было, конечно, объяснение не для коридора, но Герман понял, что откладывать его она не могла. Он вдруг понял, что такой тяжелый для них обоих разговор должен быть последним, и, может быть, даже хорошо, что происходит он в коридоре, на виду у посторонних людей. Это заставляет их быть суше, сдержаннее. Герман понял, что прощается с верным и честным другом, служившим ему много лет надежной опорой в сложной больничной жизни. Слова здесь были бессильны и напрасны. — И куда? — спросил он. — Хочу попроситься на функциональную диагностику. Наша докторша переходит куда-то… Мне будет трудно вообще уйти из больницы… Помолчали. К ним подходил Власов. — Извините… У меня как раз вопрос к консилиуму. — Оттопыренные ею уши просвечивались солнцем, словно сияли. — Мне показаны после операции свежий воздух и диета, так ведь? Выходит, надо ехать в деревню к папане с сестрицами. Верно? — Да, кажется, кроме отца, никто вас на диете не удержит, — улыбнулась Прасковья Михайловна. Она знала, что Власов очень уважает да и побаивается своего отца. — Ну вот, все правильно… Квартиру мне в деревню не увезти… Правда? — Власов протянул Прасковье Михайловне ключ. — Что это? — От рабочего класса любимому доктору. На время. — И рот, как приклеенный, у самых ушей. — Квартиру получил… А на кой она мне сейчас?.. Пусть там хоть ваши молодые поживут, пока вы свою получите. — Ну, что вы!.. — Я-то, строитель, знаю: квартира, как машина — от долгого неупотребления разрушается. Так машину хоть маслом смазать можно… — Он настойчиво совал ей в руки ключ. — Нет, нет, это невозможно… — Прасковья Михайловна выглядела растерянной, смущенной, яркий багрянец покрыл ее щеки и лоб. — А что здесь особенного? Все равно ведь в простое будет, и я — вроде собаки на сене. А, Герман Васильевич? Герман усмехнулся, тоже немного смущенный. — Все у вас просто, Власов… Так сразу и не сообразишь… Но, пожалуй, вы правы… Ладно, давайте ключ. Я постараюсь объяснить Прасковье Михайловне, что в жизни хороших людей все должно быть проще. — Вот! Что-то такое я и хотел сказать, да не сообразить было. Насчет хороших-то людей не всегда сообразишь сразу…
10
Во второй половине дня неистово засияло солнце. Ветер прекратился. Щедро пролившаяся за ночь влага поднялась в воздух и, прогретая, повисла между землей и небом, укутывая город в жаркое полотенце. Грустный запах присыхающей зелени, палой листвы, тлеющей древесины, проникавший через растворенные окна из больничного парка, вдруг почти полностью вытеснил царившие в этом большом здании запахи лекарств и хлорамина. Герман спускался по лестнице. Операционные сестры, обогнав его, торопились в столовую, расположенную в подвальном этаже. Он услышал обрывок разговора: — Я сейчас, кажется, быка съем. — А я — целую свинью… — Скажешь спасибо, если остались хотя бы котлеты… На лестнице пахнуло легкими духами. Герман спускался медленно, ведя рукой по широким и прохладным перилам. Вызывал его главный врач, наверное в связи с жалобой Тузлеева. Герман будет защищать Прасковью. Эта позиция соответствует его представлению о справедливости. Валентина Ильича защищать бы не стал, а Прасковью — обязан. Она совершила непростительную ошибку, но у того же Валентина Ильича не должно сложиться впечатления, что безразлично, кто совершает ошибку, что не имеет значения, как относишься ты к делу, сколько вкладываешь в него души: мол, все равно ты не отлично выверенная машина, ты ошибаешься, как все люди, иногда — даже преступно, и получаешь за свои ошибки сполна без всяких… Герману представлялось угрожающим это направление в современной медицине, пытавшееся поставить врача и больного на конвейер «технической революции». Такая же нелепость, как намерение выпускать шедевры искусства с помощью электронно-вычислительной машины или заменить радушную хозяйку железным роботом! Увлечения века. Во все времена были увлечения. Они часто приносили пользу, но нередко и вредили. Преувеличение роли технической революции — в медицине приведет, вероятно, к тому, что отношение врача к больному будет мало отличаться от отношения инженера к станку. Даже хороший инженер или рабочий, любящие свой станок, навряд ли согласятся на такое. Герман усмехнулся. Технизация медицины — необходимый процесс, но, пока нет совершенного электронного врача, медик не должен становиться придатком машин. Идеалом его еще на многие, многие годы обязан оставаться старик Гиппократ…У главного врача и начмеда были озабоченные лица. Иван Степанович стоял у рододендрона и, сложив по-наполеоновски руки, смотрел на прыгавшего в клетке щегла. Кобылянская сидела в одном из глубоких кресел у стола, прямая, подавшись тяжелой грудью вперед. — Садитесь, Герман Васильевич. — Ванечка показал на другое кресло, а сам отправился вокруг стола на свое место. Сел. Подвигал папку с лакированной кнопкой. — Очень неприятная история. Если Тузлеев исполнит свою угрозу и напишет жалобу, разбирательства, шума не избежать. Вы понимаете, что перед республиканским конкурсом, на который выдвинута наша больница, это уже скандал! Герман молча разглядывал его лицо с мягкими чертами и большими залысинами. Кобылянская сидела, поджав накрашенные губы. — Вы понимаете, — продолжал Ванечка сокрушенно, — этого нельзя допустить. Мы не имеем права ставить под удар итоги годовой работы всего коллектива. Отличной работы, дружного коллектива. — Он сделал паузу, но Герман молчал. Щегол шустро прыгал по клетке, и вываливавшиеся из нее зерна сухо щелкали по паркету. — Мне не совсем ясно, Герман Васильевич, почему вы не удовлетворили просьбу больного. Довольно понятную. Вначале этого было бы, вероятно, достаточно, чтобы замять инцидент. — Я считал, что это только усугубит его, — заметил Герман. — Вы просто пожалели Прасковью и не подумали о воем коллективе, — сухо сказала Кобылянская. — Та самая круговая порука, к которой так безжалостен был Батя… — Ни о какой поруке здесь не может быть и речи! — жестко возразил Герман. — Не хотел давать повода для ненужных разговором. Человек, даже совершивший в силу каких-то причин неожиданный проступок, не становится сразу другим человеком. — Так, так. Психология… — иронично произнесла Кобылянская. — О коллективе в целом вы, конечно, не подумали… — Коллектив — это и я, и Прасковья Михайловна… — И ваши мальчики, — вставила Кобылянская. — Именно, — подтвердил Герман, — и мальчики. И девочки. И мордовать на их глазах старого хорошего врача нельзя. — Позвольте, Герман Васильевич, — вмешался Ванечка. — А ведь могло случиться, что и под суд отдали бы! — Могло. Но это суд, а не мордование. — Но суд мог запретить ей врачебную деятельность вовсе! — воскликнула Кобылянская. — Значит, мера вины была бы другой, — упрямо ответил Герман. Щегол примирительно запел на жердочке. — На что же вы рассчитывали? — прервал молчание Ванечка. — Убедить Тузлеева. — И видишь, что из этого вышло, — со вздохом сказала Кобылянская. В неофициальных разговорах она иногда обращалась к Герману на «ты». Он пришел в больницу двадцатипятилетним молодым человеком. Грозному начмеду, простоявшему рядом с Батей всю войну, было тогда уже за тридцать пять. — Ничего не вышло, — констатировал Герман и вспомнил разговор в ординаторской. Чертовы мальчишки! Однако сдержаться действительно было нелегко. Но дело тут, очевидно, не только в том, что им недостает выдержки… — Теперь все же придется передать больного другому врачу. Я обещал ему это. А Прасковье Михайловне объявить строгий выговор. За халатность. — Ванечка развел руками. — Пеняйте теперь на себя. Случай получился запущенный… — Вы обещали Тузлееву и выговор? — удивленно спросил Герман. Ванечка замялся. — Я сказал ему, что доктор уже наказан. Инцидент необходимо купировать. И еще: нужно помочь достать ему путевку в санаторий. — И не подумаю, Иван Степанович! Тузлеев нуждается в санаторном лечении значительно меньше, чем большинство наших пациентов! Главный врач и начмед переглянулись. — Ну, хорошо, — примирительно сказал Ванечка. — Заполните санаторно-курортную карту и передайте мне. Я вас больше не задерживаю. — И задвигал папкой. Герман встал. — Да, вот еще что… — промямлил Ванечка. — Я хотел спросить ваше мнение о предстоящей операции. — Какой? — Пересадке почки. — Что именно вас интересует? — Ну… Насколько это перспективно? — Вообще? — Нет, в данном случае. — Сказать трудно. — А вы сами как считаете? — Я думаю, что шансов немного. — Зачем же тогда ввязываться? Герман повел головой, словно неловко было шее. Сможет он убедительно ответить на этот вопрос? Навряд ли, потому что и для самого себя он еще не нашел ответа. — К сожалению, вся хирургия состоит из шансов, — сказал он. — Да и вся медицина. В одних случаях их много, в других — мало. Когда мало, обычно мы лишены выбора. — Но здесь заинтересован здоровый человек, — вставил Ванечка. «Это верно, — тоскливо подумал Герман. — Верно и то, что рисковать-то приходится не собой, а другим человеком, но…» — Когда не из чего выбирать, решает сам больной или его родственники. В данном случае — брат. Он ведь все знает, — вяло сказал Герман. — Но отвечать-то придется вам, — улыбнулся Ванечка. — Даже — нам. Ах, вот он о чем! Герман поморщился. — Без этого нет хирургии, — буркнул. И добавил более открыто — Думаю, что по этому вопросу вам лучше обратиться к Федору Родионовичу. — Ну, ладно… Спасибо. — Герман, тебе необходимо обратить самое пристальное внимание на своих мальчиков. У них ветер в голове, — говорила начмед, когда они вышли от главного врача. — Согласись, что при Бате Валентин Ильич, например, долго здесь не удержался бы. Все у него как-то очень просто. — И Бате бы из года в год становилось все сложнее, — усмехнулся Герман. — Не знаю. Вот пришли вы с Прасковьей, — разглагольствовала Кобылянская. — Тоже молодые. Но сколько было серьезности! Вы были ответственными людьми, чего-то боялись. Понимали, как все сложно… — С детства у нас все было сложнее… — Герман в общем был согласен с нею. — Выходит, плохо, что с детства все хорошо? — удивилась Кобылянская. — Это звучит все же неестественно: плохо — что хорошо! Просто нужно быть жестче, требовательнее! Герман не возражал — иначе от нее не отделаться. Да и в чем-то она была права.
В ординаторской все трое врачей старательно строчили в историях — обычная картина для конца дня, особенно занятого с утра операциями. На диване тоскливо курил молодой мужчина в «посетительском» халате без воротника и с завязками на груди. При появлении Германа он поднялся. — Здравствуйте. Вы заведующий? — полувопросительно сказал мужчина, пристально глядя на Германа очень светлыми глазами. Можно было не сомневаться, что это — начинающий оперативный работник милиции. Он объяснил Герману, что желательно было бы перевести Кухнюка в следственный изолятор. — Там хорошо оснащенная больница. При необходимости можно пригласить на консультацию любого специалиста из города… «Из города…» — повторил про себя Герман. Как будто этот изолятор был вне городской черты. Собственно, так и было — там уже начинался другой мир… Герману вдруг стало жаль Кухнюка, и эта жалость его совершенно обескуражила. Но сказал он то, что должен был сказать: — Еще не прошло и двух суток. Рановато. — Когда же, по вашему мнению, будет можно? — Недели через полторы. — Это нереально! — воскликнул оперативник. — Поймите, мы должны держать здесь пост… — К сожалению, ничем не могу вам помочь. Для нас существует только один довод — состояние и интересы больного. Оперативник долго пытался убедить Германа, а потом, сказав, что обратится к главному врачу, ушел. — А может быть, он прав? — заметил Валентин Ильич, с интересом прислушивавшийся к разговору. — Сиганет в окошко, а вам отвечать. — Перед кем? — Перед законом, естественно. — Это не самое худшее. Перед собственной совестью ответить будет труднее, если он помрет от кровотечения в их больнице. — Да пусть бы он зарезался, убийца! — Он не зарезался, — спокойно сказал Герман. — Нам не дано судить людей, Валентин Ильич. Нам дано их только лечить. И настоящим врачом может быть только тот, кому нравится это. — Не судить людей? — Лечить людей. — Так ли, Герман Васильевич? — усомнился Кирш. Он покончил с историями, откинулся на спинку стула, закурил. — Это все, конечно, слова, но ведь врач — член общества. Оно формирует его, как личность. Верно? Фашистские врачи делали эксперименты на людях в интересах высшей расы, в американском обществе медики вбирают в себя особенности его «образа жизни». Наш врач ведь тоже детище общества. Значит — активный гражданин, так? Может ли он в таком случае «не судить», а только лечить? Герман усмехнулся. — Чем активнее человек, гражданин, тем он должен отчетливее понимать сложность жизненных ситуаций. Наш врач обязан быть по духу своему прежде всего диалектиком. Заметьте, Алексей Павлович, что приведенные вами примеры могут только подтвердить эту мысль. — И все же, это больше похоже не на образ врача, а на идеал, — заметил Валентин Ильич. — А идеал — это всегда нечто недостижимое. — Считайте, что это истина, к которой мы вечно стремимся. После небольшой паузы Валентин Ильич с сомнением сказал: — По-вашему, пожалуй, получается, что убийца Кухнюк достоин такого же врачебного внимания, как попавший в автомобильную катастрофу академик Ландау? — Несомненно. Это одна из моральных проб общества. Проба на его гуманность. — Наверное, Герман Васильевич прав, — в раздумье произнес Кирш. — Стоит только чуть отклониться от принципа, и остановиться на какой-то определенной грани будет, вероятно, трудно. — В абстракции это понятно… — протянул Валентин Ильич. — Но в каждом конкретном случае… Герман беззвучно рассмеялся: — Для начала, Валентин Ильич, прими Тузлеева у Прасковьи Михайловны. — Вот тоже не Ландау, — заметил Кирш. — Вам только академиков подавай! — Герман посмотрел на часы. — Завтра на пересадке потешите свое хирургическое тщеславие. — Все участвуем в операции? — поинтересовался Валентин Ильич. — Наверное. Окончательно все станет ясно сейчас, на совещании у Федора Родионовича. — Кстати… — Прасковья Михайловна перестала писать. — Я забыла тебе сказать, Герман: вчера звонил Иван Степанович. Интересовался, почему мы беремся за пересадку почки. По-моему, в негативном тоне… Герман ничего не ответил. — Вероятно, какое-нибудь начальство высказало сомнения, — констатировал Алексей Павлович, энергично отодвигая от себя подальше стопки историй болезни. Он направился к телефону, но, когда уже брался за трубку, раздался звонок. — Гонората, — представился Кирш. — Лидия Антоновна, не морочьте мне голову… А я знал, что это ты звонишь… Чутье… Дочь, конечно… Ладно, ладно… Вас, Герман Васильевич. — Он протянул через стол трубку Герману. — Да. — Герман Васильевич? — Да. — Я уже ухожу. Возьму билеты и буду ждать около семи у «Экрана». Он представил себе ее взволнованное, как нынче в ординаторской, лицо. Напряженное, ждущее и вместе с тем требовательное. — А вас не будет на совещании у Федора Родионовича? — спросил Герман. — Насчет пересадки? — Да. — Генерал рядовых не звал, но мне сказали, что я стою на реципиенте. — Ясно, — произнес Герман. Она рассмеялась. — Я-то здесь одна. — Понятно. — Ну, так не забудь, пожалуйста: жду! — И, прежде чем он успел ответить, она повесила трубку.
Федор Родионович пригласил к себе заведующих отделениями, имевших отношение к пересадке: Германа, Петра Петровича и Серафиму Ивановну. Когда они вошли в кабинет, там уже был доцент Ардаров. Раиль Фуатович занимался вопросами трансплантации почки, и около года назад они с Федором Родионовичем пересадили одному больному трупную почку, но это не спасло больного. Ардарову нельзя было отказать в энергичности. Его усилиями была организована и больнице лаборатория гемодиализа — «искусственная почка», которая успешно, хотя и не очень еще широко подключалась у тяжелых почечных больных. Доцент настойчиво пытался заинтересовать Федора Родионовича этой проблемой и, несомненно, достиг здесь многого: профессор видел уже в сочетании искусственной почки с пересадкой перспективный путь для практической медицины. Именно практической! Никакими теоретическими, даже, казалось бы, интересными вопросами Федора Родионовича в последние годы было уже не занять. Он нервно стучал бледными пальцами по столу и говорил: «Ближе к больному, ближе к больному! Мы — не научно-исследовательский институт». Старые его сотрудники удивленно пожимали плечами. Совещание оказалось коротким. Федор Родионович предложил составы операционных бригад, конспективно изложил план синхронной операции, спросил: — Кого предлагаете диспетчером? Герман предложил Кирша. — Здесь нужен очень расторопный и толковый человек, — заметил Федор Родионович. Герман кивнул. — Хорошо, — согласился профессор. — Пришлите его ко мне. — Помолчав, Федор Родионович сухо заключил — Работать спокойно и не торопясь. Еще раз продумайте все. До свидания.
11
До назначенного часа было еще много времени, но Лида уже волновалась. Почему? Может не прийти? Наверное, может. Но дело даже не в этом. После короткого разговора в ординаторской это первое свидание наполнялось особым значением и смыслом. Лида собирала Коленьку в гости. У одного из приятелей мужа сын был Коленькиным ровесником, и они неизменно бывали друг у друга на днях рождения. Чаще всего их сопровождали бабушки (вот и сегодня шла с Коленькой Лидина мать), потому что отцы летом были обычно в поле, а матери так и не подружились. Вообще в небольшую компанию мужниных друзей Лида как-то не вписалась. Один из этих друзей, тот, к сыну которого она сейчас собирала Коленьку, был чрезвычайно общительный геолог, считавший, вероятно, себя неотразимым и настойчиво, почти до неприличия ухаживавший в подпитии за Лидой. Все бы ничего, когда б не испытывала она к нему чувства неприязни. Другой приятель мужа, еще школьный, очкастый и бледный, вечный юноша-старичок, окончивший исторический факультет, не мог говорить ни о чем, кроме «текущей политики», а получалось это так скучно, что у Лиды начинало ломить скулы. И от жены его Лиде становилось тоскливо, от умного поблескивания ее круглых очков (муж шутя называл эту пару «четыре стеклышка»), от редких и очень значительных ее фраз, вставляемых в монологи мужа. Трех этих друзей объединяло страстное увлечение преферансом. В последние два года и с друзьями мужа Лида виделась только в те дни, когда играли у них дома. Вместе они почти никуда не ходили. Быстро темнело. Сизые тучи наползли на солнце. Порывистый ветер раскачивал ветви за окном, предвещал дождь. Лида зажгла настольную лампу, пыталась читать, желая скоротать время до назначенного часа, но мысли разбегались. В конце концов она закрыла книгу и начала слоняться по квартире в поисках какого-нибудь дела. Но и дела не смогла найти. Два года назад они обменяли две комнаты в коммунальной квартире, которые занимали некогда ее родные, и комнату мужа на двухкомнатную квартиру, но Лида так и не стала в ней хозяйкой. Наверное, обмен не доставил ей радости. Прежде Коленька больше жил у бабушки, и они с мужем после работы заезжали к ней, обедали, а поздно вечером ехали к себе. А так как она терпеть не могла эту аккуратненькую, какую-то не по-мужски стерильную комнату, мало изменившуюся после женитьбы, то часто сбегала к маме, в их старую квартиру, оставалась ночевать там, словно убегала в детство… Два года уже была лишена она этой возможности и потому испытывала неприязнь к новой квартире, поглотившей прошлое. Слоняясь по квартире, Лида вдруг подумала, что, вероятно, действительно нет для женщины большего счастья, чем семья, если она доставляет радость, — муж, дети, жилье — гнездо, в котором растут и из которого вылетают в большую жизнь ее птенцы. И нет в этом ничего предосудительного. Их девическое, окрепшее в студенческие годы презрение к «женщинам-наседкам» — не более как водянистый плод воинственных представлений об эмансипации…Когда Лида подходила к кинотеатру, начался дождь. За несколько секунд он превратился в ливень, бешено скачущий по тускло мерцавшему асфальту. Сразу стало темно. Она побежала по улице вместе со всеми, заскочила в первый же подъезд. Ливень шумел несколько минут, а затем стих. У касс кинотеатра было многолюдно: всех загонял сюда дождь. Длинная извивающаяся очередь тянулась к оконцу. Лида пристроилась в хвосте. Герман пришел вовремя. В дверях провел несколько раз ладонью по мокрым коротким волосам. Он не любил шляп и с ранней весны до поздней осени ходил с непокрытой головой. Друзья, шутя, объясняли этим секрет его густой, с проседью, шевелюры, дико росшей весь год под дождями и солнцем. Лида помахала ему рукой. — Кажется, дела наши плохи, — сказала она, когда он подошел. — Поговаривают, что билеты кончаются. — Она была расстроена, и Герману захотелось успокоить ее. — Говоря по правде, я не большой любитель кино. — Просто обидно. Я могла прийти и на полчаса раньше… Билетов им не досталось. — Это и к лучшему, — сказал Герман. — Зайдем в кафе. — Ты голоден? — Пожалуй. Я успел только вывести пса. Они стояли под бетонным козырьком у входа в кинотеатр среди медленно ворочающейся толпы. С вечернего неба лениво сеял дождь. Привычно, размеренно — будто вдруг пришедший и принявшийся сразу же за дело чернорабочий осени. — Что-нибудь случилось на отделении? — спросила Лида, прикидывая, отчего он так долго задержался в больнице. — Пока нет. — Пока? Откуда такой фатализм? — Ну, как насчет кафе? — не отвечая на ее вопрос, напомнил Герман. — Послушай! — оживилась Лида. — Пойдем ко мне. Я накормлю тебя своим фирменным салатом и напою отличным кофе. Ну? Он колебался. Он не вспомнил о жене, не корил себя за то, что пришел на свидание: он сразу решил идти на него, чтобы спокойно объясниться с Лидой на улице или в кино — все равно, и кончить эту неожиданную и нелепую связь. — Я успела забыть, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, — смеялась Лида. — Пойдем! Она взяла его за руку и вытащила из-под бетонного козырька на темный мокрый тротуар. И Герман думал, шагая рядом и не слушая ее, что вот сейчас бы и нужно начать этот разговор, но что-то мешало ему. Не рука же ее, крепко державшая его руку?.. Взявшись сама готовить овощи к салату, велела открывать банки с майонезом и горошком, а потом резать докторскую колбасу маленькими кубиками. И — странное дело — сейчас он не ощущал неловкости наедине с нею. Она вдруг предстала перед ним совсем иной — радушной хозяйкой, которая очень хотела, чтобы он чувствовал себя здесь непринужденно и хорошо, чтобы тепло и свет небольшой кухни сразу согрели его после сырости сумеречной осенней улицы. Они говорили о больничных делах, о предстоящей завтра операции — интересовавший обоих профессиональный разговор. Приятный дружеский ужин, и Герман не хотел задумываться над тем, что будет дальше… Лида считала решение Бориса Харитонова правильным и была согласна с мнением Федора Родионовича. Она говорила о подсознательной потребности человека в самопожертвовании, о самопожертвовании как высшем проявлении человеческого духа. И Германа уже не удивляли эти ее мысли, он только возразил почти механически: да, в самом деле, самопожертвование — взлет духа, но лишь когда оно преследует высокую цель. Она не согласилась: стремление к самопожертвованию уже доказывает духовность, в этом смысле цель безразлична. Они заговорили о Федоре Родионовиче, и Лида сказала: — Профессор сильно изменился в последние годы. После смерти Бати он оживился, а затем как-то быстро сник. Я его, кажется, понимаю. Ужасная неудовлетворенность. Надежда и разочарование… — Она заглянула в сигаретную пачку — пусто. Вышла, вскоре вернулась с новой и закончила: — То же будет и со мною, если я разочаруюсь в тебе. Это было сказано так, словно все между ними было решено. И Герман почувствовал это и не возразил. Он вдруг поймал себя на том, что весь последний час произносит вслух фразы из своих внутренних монологов. Сомнения, размышления, шутки — незначительные или очень важные для него фразы, но несомненно сокровенные, последние годы предназначенные только для личного пользования. И он славно испугался, как бы не исчезло вдруг это обвораживающее ощущение полной открытости, это юношеское чувство единства с собеседником. И замолк, глядя на оживленное, счастливое лицо Лиды, угадывая в ее больших темных глазах смятение. Лида… И он впервые назвал ее по имени: — Вот такие дела, Лида…
Дождь по-прежнему неторопливо поливал вечерние улицы. С влажным шелестом проносились автомобили. Разбрызгивая толстыми шинами лужицы на асфальте, убегали, уносили в темноту свои теплые огни троллейбусы. Громоздились в черном небе линялые квадраты окон. Герман шел, подняв воротник плаща и не замечая дождевых капель, падавших и падавших на его лицо. Этот вечер был неожиданным, явившимся из каких-то давно ушедших его лет. И вместе с тем это был, несомненно, сегодняшний вечер, может быть даже завтрашний, но никак не вчерашний… Причудливо петляющая пресловутая ниточка жизни! Куда она ведет теперь?.. Его охватило волнение, словно от предчувствия открытия, важного решения, к которому он, кажется, шел давно и настойчиво. Герман быстро, напряженно шагал по мокрому асфальту, но было только ощущение близкого открытия, а мысли путались, мельтешили… Неожиданно он стал думать о Кухнюке. И почему-то не удивился. Почти невероятно: в необычный, пожалуй даже радостный вечер, когда он чувствовал себя стоящим на пороге чего-то важного, освобождающего, в этот вечер он думал о Кухнюке! Но не с него ли все и началось? Герман вспомнил утро после дежурства, свежий солнечный парк, белые новые дома за пустырем…. Человек жив чувствами. Любовь и долг, угрызения совести, ненависть… Как часто они борются в человеке, и побеждает самое сильное! Но можем ли мы предвидеть, когда этот непрерывный вихрь, именуемый нашим миром чувств, выплеснется наружу? И как это будет выглядеть? Герман замедлил шаг. Идти домой не хотелось. Возбужденное настроение не вязалось со спокойствием их квартиры. Он подумал почему-то именно о квартире. Словно жена была просто соседкой, с которой они жили очень дружно… Герман остановился у витрины гастронома. У него не было никакой цели, просто отсюда до его дома оставалось не более пяти минут медленным шагом. За стеклом, внутри магазина, двигались в желтоватом свете размытые дождевыми струйками немногочисленные покупатели. Часть касс была уже закрыта, кассиры подсчитывали выручку. С минуты на минуту магазин закрывался. Одна из фигур там, внутри, показалась Герману знакомой. Он пригляделся и узнал Федора Родионовича. Вспомнил, что нужно бы купить сигарет, и вошел в магазин. Федор Родионович обрадовался встрече. — Моя Татьяна загуляла, видно, на банкете, — сказал он Герману, когда они вышли из гастронома. — Одна аспирантка сегодня защитила диссертацию. — Грех не загулять по такому поводу, — заметил Герман. — В такую вот отвратительную погоду не могу ничем заниматься, — после паузы пожаловался Федор Родионович. — Особенно, знаете, в последнее время… Да и, не топят еще, холодно в квартире… Герман поднял голову, посмотрел на него. Глубоко посаженные глаза Федора Родионовича в сумрачном свете улицы придавали его худощавому лицу усталое выражение. «Какой он старый-то стал!» — подумал Герман. Они медленно шли под лениво падавшим дождем, явно не торопясь домой. Жили они оба в «госпитальном» доме, только по разным лестницам. — Захотелось выпить рюмку водки, дома не оказалось… — Они подходили уже к подъезду Федора Родионовича. — Не составите компанию? — С удовольствием! — согласился Герман. Прежде, готовя диссертацию, он часто заходил к Федору Родионовичу. И нередко во время этих посещений деловые разговоры переходили в отвлеченные беседы. Острый ум Федора Родионовича совершенно неожиданно и необычно высвечивал даже известные понятия и представления. Эта разговоры стали тогда почти необходимы Герману. Да и Федор Родионович, кажется, привык к ним. Но после защиты диссертации вечерние встречи прекратились, и Герман до сих пор ощущал это как потерю. Они расположились на кухне. — Посмотрите в холодильнике и шкафу, что там есть подходящее к случаю. — Федор Родионович ушел за рюмками. В доме, как всегда, царил умеренный беспорядок. Под вешалкой в длинном коридоре были кучей свалены шлепанцы, туфли, ботинки, многие из которых, наверное, давно не использовались. В мойке громоздились тарелки, на стульях и табуретах были разбросаны передники и кухонные полотенца. На газовой плите и столах стояли яркие миски, сковородки, кастрюли, кофейники… Люди здесь все время торопились, им жаль было времени на обыденные дела. Но они не лишали себя удовольствия от крепкого кофе или свежеподжаренных гренков, душистого борща и сочного бифштекса. Остатки всех этих яств можно было увидеть на плите и на столах в большой их кухне. Герман освободил квадратный обеденный стол и поставил на него извлеченные из холодильника и шкафа остатки салата, застывшее жареное мясо, открытую банку маринованных помидоров, хлеб и томатный сок. В его собственном доме, думал Герман, тоже не любят растрачивать время на обыденные дела, но, в отличие от этого дома, там нет и попытки сотворить семейный обед или ужин… — А шпрот нет? — спросил Федор Родионович, ставя на стол рюмки. — Люблю под водку. — Он разыскал в холодильнике коробку. — За успех пересадки! — коротко предложил Федор Родионович. Закусывали молча. — Я знаю, что вы убеждены в успехе операции, — заговорил Герман, — но не правильнее было бы все же не рисковать почкой донора и пересадить трупную? Федор Родионович снова наполнил рюмки. — Только в том случае, если нас интересует сама операция, а не ее результат… Мне нужно, чтобы Женя жил. Иначе грош нам цена. — Он сказал это спокойно, словно механически повторил вслух то, что неоднократно повторял про себя. И молча выпил вторую рюмку. Потом наклонился к Герману через стол. — Мне нужны живые люди, а не операции! Понимаешь? — Конечно… Но ведь мы еще так мало можем! Федор Родионович странно поглядел на него. — Не так уж мало, особенно если бы каждый отдавал все, чем владеет. Герман не понимал его. Вспомнил слова Лиды. Что гложет этого человека? Честного и трудолюбивого, достигшего, вероятно, всего, чего хотел. Или не всего? А может быть, он просто привередничает на старости лет? Нет, на него это не похоже. Вероятно, у каждого есть своя мера дел. У одного она с наперсток, у другого — целый мир… — Неудовлетворенность — один из стимулов рода человеческого, — сказал Герман. — И никогда от нее не избавиться, чего бы мы ни достигли! — Вы романтик, Герман Васильевич! — с завистью произнес Федор Родионович. — Для романтиков неудовлетворенность, может быть, и хороша. Вы ищете впереди. Но есть и такие, что ищут в прошлом: где не сделано или не так сделано, как нужно было бы. Что называется — ковыряются, рефлексируют… — Да, таким, наверное, труднее, — согласился Герман и, немного помолчав, добавил: —Труднее почувствовать себя счастливым. — Почувствовать себя счастливым… — задумчиво повторил Федор Родионович. — Счастье — эмоция, более стойкая, чем радость, и только. Но, возможно, человек и рождается лишь для того, чтобы пережить ее… Я думаю, так оно и есть. А следовательно, счастье — это свершение. Любое — сделать открытие, вырастить сына или сад, переплыть в одиночестве океан, утвердить какое-то большое человеческое чувство, спасать безнадежно больных или умереть за Родину. — Федор Родионович встал и прошелся по кухне. — Человек ищет счастья… Не значит ли это: ищет смысла своей жизни, рождается и живет, чтобы понять его? И чтобы на последней грани сказать себе: нет ничего вечного на земле, но я не был здесь лишним, я свершил свое… — Он вышагивал по кухне, и его бледное лицо покрылось румянцем, глубоко сидящие глаза блестели больше обычного. Похоже, он обращался сейчас не столько к Герману, сколько к самому себе. — Но ведь живет человек долго… И все время что-нибудь делает, — растерянно сказал Герман. — Не может же каждодневный многолетний труд быть бессмысленным!.. Федор Родионович остановился,словно наскочив на неожиданно возникшее препятствие. Внимательно поглядел на Германа и ответил, уже спокойнее: — И да, и нет. Не лечили бы мы, лечил бы кто-нибудь другой. Весь вопрос в том, является ли это занятие смыслом моей, именно моей жизни. Или он так и остался неизвестным мне… — Но ведь вы делаете необходимое, полезное дело! Федор Родионович сел и устало сказал: — Это уже речь о добре и зле. — Он зацепил вилкой кусочек огурца из салата, стал рассеянно жевать. — Но ты задумывался над тем, достаточно ли делать добро, чтобы быть счастливым?.. К сожалению, все не так просто. Есть люди, которым этого достаточно. Наверное, это даже лучшие люди на земле…
Герман ушел от Федора Родионовича около полуночи. Все так же моросил дождь. Герман сел на скамью в небольшом сквере перед домом. Согласен ли он со всем тем, что говорил Федор Родионович? В чем-то он был, вероятно, прав. Рано или поздно задумаешься, соответствует ли твоя жизнь тому, о чем мечтал вначале. Через пору мечтаний проходят все, любая человеческая судьба начинается с этого… О чем мечтал он, Герман? И главное — согласен ли он теперь с тем, как жил?.. Поднялся ветер, дождь стал хлестким и злым. Остервенело стучал по железным навесам над парадными, по жестяным подоконникам. Герман отпер дверь своим ключом. В комнате у Жены горел свет, а на пороге лежала Нерта, упрятав морду в лапы. В ненастье она становилась грустной и сонливой. Но при появлении хозяина вскочила, радостно завиляла хвостом. Герман ласково потрепал ее мягкую шерсть, наклонился, дал лизнуть себя в нос — высшее наслаждение для Нерты. — Герман? Голос жены явился неожиданностью. Кажется, весь этот вечер ее не существовало. И там, на скамье под дождем, он не думал о ней. Что же значила для него эта милая женщина? Что связывало их, особенно в последние годы? Ее красота, стройная, тонкая даже фигура больше не волновали его. Когда-то пришла мысль: возраст… И он, не возвращаясь более к этому, с радостью ее принял. Выходит — ошибся?.. — Ты что там в темноте?.. Чтобы ответить что-нибудь, он сказал: — Здравствуй. Ты гуляла с Нертой? — Да… Чего так поздно? Он разделся, тщательно развесил мокрый плащ. — Ты не зайдешь ко мне? — Сейчас. — Он не испытывал угрызений совести, а только тягостное, незнакомое чувство неловкости. Может быть, даже жалость. Он отнес пиджак в свою комнату, зажег свет и просмотрел механически газеты, сложенные женой на столе. Нерта сидела рядом и, не отрываясь, смотрела на него, взволнованно вывалив язык. Герман еще раз потрепал ее и пошел к жене. Она читала лежа. На красивую прическу была накинута тонкая сетка. — Я ждала тебя, — сказала она просто и как-то неожиданно для него печально. — Посиди. Он сел на край широкой тахты. Когда-то они думали купить еще и ковер… Наверное, она тоже чувствует себя дома очень одиноко, вдруг подумал Герман. И потому так же редко бывает здесь. Дождь бил в темное окно. — Ты совсем забыл обо мне в последнее время, — слабо улыбнулась она. — На тебя действует погода, — усмехнулся неуверенно Герман. — Нет. Это так. — Она смотрела на него, чуть прищурившись, словно изучая. — И ты считаешь это нормальным? — Нет, конечно, ответил Герман с отвращением к разговору и к самому себе. Это отвращение с каждой секундой нарастало. Нет, нет, так дольше продолжаться не может! И он сказал, ощущая нервную внутреннюю дрожь: — Нам, наверное, лучше разойтись. Мы не испытываем друг к другу чувств, необходимых близким людям. Она удивленно вскинула брови, долго смотрела на него растерянно, потом опустила голову и стала разглядывать тонкие свои пальцы, сжатые в кулак на раскрытой книге. — А мне казалось, что мы любим друг друга… Ошибка продолжалась слишком много лет, подумал Герман. Привычка заменила собою все… Он ответил мягко, но убежденно: — Ты не знаешь просто, что такое любовь. И я, возможно, мешаю тебе найти ее…
12
Утро было пасмурное, но сухое. За ночь сильный ветер подсушил асфальт и крыши домов. Он яростно гнал тучи на запад, очищая от них небо над городом. В предоперационных к окнам испуганно жались желтые листья, а затем вдруг, оторванные от стекла очередным порывом, уносились в холодный парк. Герман стоял у окна, одетый уже в полотняные зеленые штаны и такую же рубаху без ворота, и курил. В последние годы все операционное белье сделали зеленым — от него не так устаешь, как от белого, особенно от контрастов красного с белым… Кирш у стола в предоперационной в последний раз просматривал свой план по синхронизации обеих операций. Прасковья Михайловна и Валентин Ильин уже мыли руки под высокими хромированными кранами, вытянувшимися вдоль зеркальных стен. В двух смежных операционных лежали на столах братья-близнецы, анестезиологи приспосабливали к ним датчики и электроды. В последний раз сестры проверяли, все ли на местах и в порядке. Санитарки сновали туда и сюда, подавая, убирая, пододвигая что-то, помогая всей этой небольшой зеленой армии озабоченных людей, сами тоже озабоченные и молчаливые. Лаборанты и терапевты стояли вдоль стен, одетые так же, как и все, в зеленые халаты и маски в ожидании часа, когда и они активно включатся в дело. Профессор давно был уже в больнице, но из своего кабинета еще не выходил. — Анестезиологи готовы, — сказал Герману Петр Петрович, выглядывая из операционной. — Позвони Федору Родионовичу, — ответил тот. Но в этот момент в операционной появился Ардаров в белом халате поверх зеленой операционной рубахи. — Федор Родионович уже идет, — сообщил он. — Можно начинать? — спросил Петр Петрович. — Начинайте. — Пора, наверное, мыться, — сказал Ардаров Герману, снимая халат и направляясь к раковинам. Герман кивнул, но продолжал курить у окна. Волнующиеся деревья, мчащиеся тучи отвлекали, успокаивали. Однако избавиться полностью от внутреннего напряжения Герман никак не мог. Он очень не любил идти на операцию в таком состоянии: работа превращалась в тяжелое, не доставляющее никакого удовлетворения дело. — Что так невеселы, Герман Васильевич? — поинтересовался Ардаров, до локтей укутывая руки в мыльную пену. Герман отошел от окна, погасил сигарету и неторопливо направился к сверкающему, отраженному зеркалами, ряду кранов. — Нет причин для веселья. Лето красное пропели… Врачи потянулись в операционные. — Природа отвлекает людей от забот насущных, — с осуждением констатировал Раиль Фуатович, — и служит помехой в необходимом им нынче жизненном ритме. Я за последние десять лет ни разу не был в лесу. Да и в парке, наверное… Не хочу останавливаться. Потом трудно снова набирать темп. Современный горожанин безвозвратно отходит от природы… Герман относился к доценту неплохо, отдавая должное его энергии и целеустремленности. Однако лишь настолько, насколько позволяла его обычная неприязнь к людям, чрезмерно шустрым и категоричным. А тот развивал свою концепцию: — По-моему, горожанину она уже не нужна. А то, что он выдает за стремление к ней, — атавизм, поддерживаемый сентиментальностью. Через несколько десятилетий, окончательно расставшись с этой ненужной шелухой… — У вас есть кошка? — неожиданно спросил Герман. — Кошка?! — Или чиж, или черепаха? — Ах, вон что… Упаси меня бог! Да и где взять время на уход? На уборку, кормежку… Герману был непонятен и противен этот пустой разговор, и, желая скорее закончить его, он сухо сказал: — От контакта с одними клопами, согласитесь, природы не полюбишь. Предоперационная опустела: по-видимому, начали наркоз. Кирш, пользуясь паузой, снова звонил, в родильный дом. Утром ему сказали, что жену перевели в предродовую палату, но что, вероятнее всего, родить самой ей не удастся, придется делать операцию. Предчувствие чего-то похожего давно уже беспокоило Алексея Павловича, но известие это пробудило в нем страх. Он с нетерпением ждал ответа дежурной — с минуты на минуту должен был появиться профессор. Наконец в трубке сухо щелкнуло — ею, вероятно, стукнули, поднимая, об стол, — и бесстрастный голос дежурной произнес: — Вы слушаете? — Да, да… — Ее взяли только что в операционную. Кирш ждал этого сообщения, но, услышав, растерялся. Его охватило смятение. Что делать? В первые секунды, повесив трубку, он подумал, что необходимо немедленно мчаться туда, к Вере. На проспекте сейчас можно перехватить такси… Он на секунду забыл обо всем — о пересадке почки, о профессоре, о своей роли в операции. Он даже двинулся было к выходу, но в дверях появился Федор Родионович. — Можно мыться? — спросил он тихо. — Да, — оторопело кивнул Алексей Павлович. Он сразу представил себе весь операционный блок — спящих близнецов в операционных, множество людей, показавшихся ему вдруг совершенно одинаковыми от одинаковой зеленой одежды, — увидел напряженные группы вокруг двух операционных столов, профессора, двигавшегося к раковинам, и себя, в зеркале, потерянно стоящего посередине предоперационной. Но ведь он — диспетчер, человек, который должен соединить в единое целое усилия всех этих людей, синхронизировать движения десятков рук, хирургических инструментов, работу множества аппаратов… И он понял, что уйти невозможно, что сейчас его не заменить здесь никем; сложная машина большой операции уже пущена, каждый занял свое место, и он — у пульта управления, тщательно подготовленный к своей роли… Первый раз в жизни он ощутил как тяжесть свою необходимость другим. Неожиданное, пугающее желание охватило его — раствориться в безликой массе, стать незаметным, ненужным, и тогда можно бежать, бежать незамеченным, туда, к Вере, помочь ей… — Доктор на промывание почки подготовлен? — спросил Федор Родионович Кирша, возвращая его к действительности. Доктор на промывание… Нет доктора… Почему? Полное румяное лицо Алексея Павловича стало пунцовым. Но в следующую секунду он вспомнил: — Ординатор из торакального отделения начнет мыться позже, я ему сообщу. — Смотрите — чтобы все по графику! — Так и будет, Федор Родионович… Расставив ноги в недостаточно просторных для его массивной фигуры полотняных штанах и глядя на профессора, Кирш думал, что там, в родильном доме, сейчас так же тщательно врачи обрабатывают руки, а анестезиологи дают его Вере наркоз. Ему было жутко от этих мыслей, но он уже знал, что никуда отсюда не уйдет до конца операции, и когда Федор Родионович направился в операционную, он последовал за ним.В зеленом квадрате тускло желтело йодом операционное поле. С равномерным гудением и тихим стуком работал аппарат искусственного дыхания — вдох, выдох… Борис лежал на боку, невидимый, весь прикрытый простынями. И обнаженный участок тела, неподвижный и странно выпуклый, совсем не походил на живую плоть. На часть человека, который каких-нибудь сорок минут назад, стараясь скрыть волнение, сам лег с улыбкой на каталку, отвозившую его в операционную. Но Федор Родионович не мог отрешиться от ощущения (мыслью он проник уже под эту желтую пелену кожи, и то, что испытывал сейчас, стоя у стола со скальпелем в руке, было именно непривычным ощущением), что перед ним лежит здоровый человек. Жертвующий своей почкой здоровый человек. И эту жертву принимал не только брат-близнец, но и он, Федор Родионович. Он не колебался, но секунду-другую стоял неподвижно со скальпелем, занесенным над операционным полем. Потом твердым непрерывным движением разрезал кожу. — Начали, — тихо сказал Ардаров анестезиологам и стал накладывать зажимы на кровоточащие места. Кирш двинулся в соседнюю операционную, где должны были начать параллельно. Федор Родионович работал спокойно, вроде бы даже не торопясь. Ассистенты старательно помогали ему. Несмотря на то что в операционной было более десяти человек, слышалось только глухое подвывание и постукивание дыхательного аппарата и сухой треск коагуляции. Изредка анестезиолог вполголоса отдавал распоряжения своим помощникам. Хирурги молчали. Операционная сестра подавала инструменты, не дожидаясь требования, внимательно следя со своего возвышения за тем, что происходит в ране. К почке подошли быстро, осторожно по всей окружности высвободив ее из жировой капсулы. Главное ожидало впереди. Необходимо было, не раня, выделить почечную артерию до места отхождения ее от аорты, а вену — на протяжении семи-восьми сантиметров. Потом, при пересадке, каждый этот сантиметр обернется лишним шансом к спасению больного… Однако что это? Федор Родионович болезненно поморщился под маской. Начинается… Почечная вена удвоена! Вместо одного толстого ствола, который предстоит вшить в подвздошную вену Жени, темнели два тоненьких. Они шли от почки рядом, и каждого из них в отдельности было явно недостаточно для вшивания. С недобрым, щемящим предчувствием Федор Родионович стал выделять артерию, переложив освобожденную почку в ладонь ассистента. Ардаров и Прасковья Михайловна тоже увидели две злосчастные вены, но молчали. Да и что здесь было сказать! Все так же «дышал» за Бориса аппарат, вполголоса переговаривались анестезиологи, санитарка собирала и складывала для взвешивания окровавленные салфетки, диспетчер Кирш появлялся в операционной и исчезал, мирный плеск воды доносился из предоперационной, где готовился включиться в операцию еще один хирург — на промывание почки… Но трое у стола ничего уже не видели и не слышали. Весь мир для них сузился до величины этой зияющей раны, в которой пульсировали и сокращались живые человеческие ткани, вдруг отделившиеся от конкретного человека. Рана существовала сама по себе — противоестественный, самостоятельный мир почечной области, в котором оказалась раздвоенная вена. Артерию обнажили легко, без помех, и Федор Родионович принялся за вены. Оба ствола рядышком чернели на желтовато-белесом фоне жировой клетчатки, а на расстоянии трех-четырех сантиметров от почки могло даже показаться, что это один ствол. — Черт возьми! — выругался Федор Родионович. Это были его первые слова после начала. — Аортографией не выявить удвоения вен, — словно оправдываясь, тихо и потерянно сказал Ардаров. Федор Родионович работал молча. На что он надеялся, как думал выйти из положения? Скорее всего продолжал механически, решений никаких не было. — Фу-у! — вдруг выдохнул он громко и, положив руки на края раны, выпрямился у стола. Столько радости и облегчения прозвучало в этом выдохе, что ассистенты, ничего еще не понимая, представили все же, что творилось на душе профессора с момента обнаружения этих проклятых вен. Все остальные в операционной, и вовсе ни о чем не подозревавшие, с удивлением вскинули головы. На секунду все замерло в операционной. Работал один аппарат. — Сливаются, — громко произнес Федор Родионович. И снова склонился к ране. И опять каждый занялся своим делом, словно и не было этих нескольких минут высочайшего напряжения. Позже кто-нибудь из операторов скажет, наверное: «Эти удвоенные вены доставили несколько неприятных минут…» А может быть, и этого не скажут — неизвестно, сколько еще таких же, а возможно, и еще более драматичных минут предстояло пережить до конца операции. Уже выделяя мочеточник, Федор Родионович спросил: — Как дела у Германа Васильевича? Кирш негромко доложил: — Подготовка ложа заканчивается. Для промывания почки все готово. Итак, половина дела сделана. Но опять же — главное впереди! Всегда оно впереди, а все выполненное сказывается лишь малой его частью. Герман с Валентином Ильичом заканчивали подготовку подвздошных кровеносных сосудов для подключения к ним здоровой почки. Операция Жени Харитонова началась немного позже: Лидия Антоновна была крайне осторожна, не форсировала наркоз, избегая лишних перегрузок для слабого организма. Но, несмотря на задержку, Герман не спешил — у него здесь дел было все же поменьше, чем у Федора Родионовича; должны поспеть. Внимательно разобрался в сложной анатомии, тщательно перевязал капроновыми нитями, перед тем как пересечь, все лимфатические веточки, густо оплетающие артерию. Все это будет очень важно потом, после операции… Для анестезиологов самым трудным и ответственным был наркоз Жене. Они хорошо понимали, что удача всей операции пересадки во многом зависела от них: смогут ли они обеспечить жизнедеятельность отравленного, истощенного организма в условиях тяжелого оперативного вмешательства. И они старались вовсю. Все в операционной чувствовали себя соучастниками чрезвычайного события: события, в котором одно человеческое существо — на самой грани жизни и смерти, а другое — с радостной готовностью жертвует здоровьем ради спасения первого. И не имело значения, что никто здесь не знал этих людей вне больницы, не представлял их сейчас как конкретных братьев Харитоновых — чьих-то сыновей, чьих-то возлюбленных. Снова появился Кирш. — Там уже почти готово, — сказал он Герману. — У нас тоже. Алексей Павлович наклонился к Лиде: — Профессор интересовался состоянием реципиента. Я сказал — вполне приличное. — Спасибо. Ты меня успокоил, — бросила она, не оборачиваясь. — Ну, ну, не плачься, — подбодрил Кирш и заторопился в соседнюю операционную. Медленно, но неуклонно операция двигалась к своей кульминации. — Ну, что там? — спросил Федор Родионович. — Все готово. Перевязать и пересечь артерию и вену — дело одной минуты. И вот в руках профессора, в стороне от стола и распростертого на нем тела, — почка. Ее нужно еще промыть специальным холодным раствором, чтобы снизить в ней температуру и уменьшить потребность почечной ткани в кислороде, помочь ей выжить до момента, когда кровь снова принесет ей жизнь — кровь другого человека, в другом теле. Ардаров и Прасковья Михайловна заканчивали операцию Бориса, когда Федор Родионович, перейдя в соседнюю операционную, начал вшивать артерию здоровой почки в подвздошную артерию Жени. Операция продолжалась немногим больше часа, но Федор Родионович ощущал тяжесть и усталость во всем теле, словно провел за операционным столом уже несколько часов. В последнее время он часто испытывал подобное, особенно в случаях тяжелых или необычных, когда операции предшествовали долгие мучительные раздумья, сомнения, бессонница. Однако, несмотря на усталость, Федор Родионович без колебаний принялся сшивать артерии П-образным швом, а не обвивным, более простым для исполнения, но менее надежно обеспечивающим точное сопоставление стенок обоих сосудов. Федор Родионович знал: эта сложная операция требовала от него самого верного, наилучшего исполнения каждой детали. Минуты цеплялись за минуты, текли неприметно, выстраивались в получасья. Бориса уже вывезли в реанимационную палату. Постепенно освобождавшиеся на отделениях хирурги взбирались на подставки за спинами операторов. Анестезиологи и все их помощники, красные, распаренные, едва не валились с ног от длительного напряжения и все нараставшей в операционной духоты. Она была бесконечной, эта операция! Но и Федор Родионович, и Герман понимали, что именно сшивание вен — самая ответственная ее часть. Надо, чтобы концы вен прилегали друг к другу именно внутренними, слегка вывороченными своими стенками, идеально гладкими, где не на чем образоваться кровяным сверткам. Опасность тромбоза вены, в которой скорость кровотока относительно мала, заставляла операторов шить с великой тщательностью, проверяя каждый стежок. Стоило тонкой венозной стенке прорезаться под нитью, и все приходилось начинать сначала. И они начинали, молча и упрямо. Как назло, оторвалась одна из четырех нитей-держалок, которые придавали сосуду на время сшивания форму прямоугольника. — Держать, а не тянуть! — хрипло, чужим голосом сказал профессор Валентину Ильичу, у которого в пальцах повисла ненужная теперь, такая важная нитка. — Я не тянул… — виновато промямлил тот. Кирш толкнул его сзади в спину — молчи! Федор Родионович только коротко и зло глянул на Валентина Ильича. Все швы, швы тонкими нитями, запрессованными в такие же тонкие серповидные иглы… Швы герметизирующие, фиксирующие… И вот сняты уже сосудистые зажимы. Секунда напряженного ожидания. Артерия вздрогнула, словно шевельнулась испуганная змейка, и мерно запульсировала, неся к здоровой почке отравленную кровь. Наполнилась, упруго потемнела вена. — Пробирку, — прохрипел Федор Родионович. Теперь все в операционной, замерев, смотрели на свободно болтавшийся в пробирке конец мочеточника, ждали. Все, кроме хирургов. Они продолжали работать. Осталось сделать один, теперь уже сравнительно небольшой, шаг — подготовить в мочевом пузыре ложе и внедрить туда свободный конец мочеточника. По операционной пронесся гул. Казалось, даже прохладнее стало, словно проникло сюда свежее дуновение, будто посветлело под высоким потолком: в пробирку потекла первая мутная капля. Почка работала! Честно работала почка брата, унося из Жениного тела смертельный яд.
13
Был только час дня, но в кабинете горела люстра, одна из тех больших окрашенных под бронзу люстр, которые невесть где раздобыл Батя. Скрытое темными тучами небо почти не давало света. Яркая люстра освещала бледное безразличное лицо Федора Родионовича и склоненные над столом головы Ардарова и Валентина Ильича. Профессор медленно и негромко диктовал, а они записывали — доцент в историю болезни, Валентин Ильич — в операционный журнал. Время от времени, не опуская головы и лишь переводя устало скользивший по стенам взгляд на чашку, Федор Родионович отхлебывал черный кофе. В паузах Ардаров отпивал из своей чашки, и Валентин Ильич — из своей, хотя кофе казался ему слишком крепким и недостаточно сладким. Прервав диктовку, Федор Родионович сказал: — Что-то давно не звонят из реанимационной. Узнайте, пожалуйста, Раиль Фуатович, что там. Мы допишем сами. Когда доцент уже направился к двери, Федор Родионович сказал: — Нужно будет, наверное, оставить на ночь специальную бригаду. Пусть зайдет ко мне Герман Васильевич. — Я могу остаться, — предложил Ардаров. — Но ведь у вас с утра контрольная лекция? — Да… — замялся Раиль Фуатович. — Но ее, может быть, удастся перенести? — Невозможно. Эту злосчастную лекцию переносили дважды. Ардаров вышел, а Федор Родионович продолжал диктовать. Вскоре доцент позвонил из реанимационной и сообщил, что пока состояние Жени Харитонова без особых перемен — «соответствует тяжести вмешательства. Результата последнего анализа крови еще нет. Как только будет…» — Ладно, — сказал Федор Родионович. Соответствует тяжести… Сколько их существует — в медицине, в жизни, — ненужных, пустых слов! Обволакивающих зерно истины вязкой оболочкой… Он кончил диктовать и стал подписывать протоколы операций, которые услужливо подавал ему Валентин Ильич. Подписав, откинулся на спинку кресла, потер ладонями запавшие глаза. Какая апатия, какая тяжесть! Да ведь он просто стариком стал, немощным стариком… Так бы и сидел, закрыв глаза, покойно опустив руки на колени, как те старики, которых он видел когда-то в деревне. Когда это было, и почему он вдруг вспомнил их?.. Лет пять назад они ездили с Татьяной на дачу к ее приятельнице. Тогда он чувствовал себя еще совсем молодым, бодрым. Старики неподвижно сидели на завалинке, грелись на солнышке, зажмурившись, положив руки на колени. А он с сочувствием смотрел на них и думал: вот, все в прошлом… Как приятно, наверное, сидеть неподвижно под теплыми лучами солнца, думать, слушать деревенскую тишину… Но сейчас нужно все-таки встать и идти в реанимационную палату. Пересилить себя и идти… Как быстро она подкатывает, старость! Всего пять лет прошло, а какой разрушительный эффект!.. — Ну, что ж, идемте взглянем на больных, — сказал он Валентину Ильичу. — Сама операция — это только полдела. — Но это была великолепная операция! — с искренним восхищением произнес Валентин Ильич. — Окончательные оценки операций — в их исходах. — Федор Родионович грузно поднялся с кресла. — Здесь все должно быть хорошо! — оптимистично заявил Валентин Ильич. А сам подумал, следуя за Федором Родионовичем, что день, когда он, Валентин, сделает подобную операцию, будет днем свершения его мечты. Какая цепь прекрасных, технически совершенных манипуляций: выделения, препаровка, швы, анастомозы — почти трехчасовая песня рук! Вокруг кровати, на которой лежал Женя, единственной в палате реанимации грудного отделения, хлопотало несколько человек. Наркозная трубка еще стояла, и был подключен дыхательный аппарат. Лида и Петр Петрович обсуждали что-то у изголовья постели. — Самостоятельное дыхание не восстановилось? — спросил Федор Родионович, подходя к больному. — Недостаточное. А хорошая вентиляция сейчас очень важна. — Петр Петрович сделал жест в сторону Германа и Серафимы Ивановны, склонившихся над лентой, исчерченной самописцами. Федор Родионович пощупал Женин пульс. Серафима Ивановна показала ему записи. — Очень слабый больной. Он и был слабый… — Круглые поблескивающие очки в тонкой лопнувшей оправе делали ее лицо испуганным. Это нытье он не мог больше переносить. Федор Родионович не глядел уже на движущуюся на его ладони ленту. На его худом лице вспухли желваки. — Только что получили последние данные о мочевине крови, — немного поспешнее, чем обычно, сказал Герман. — Падает на глазах! Федор Родионович вскинул голову, оживились усталые глаза. — Цифры! — На столе еще было триста миллиграмм-процентов, потом двести тридцать, сейчас — сто пятьдесят. И мочи достаточно. — Ну вот, видите! — громко и радостно сказал Федор Родионович. — Теперь, ребята, если мы его не вытащим, грош нам цена! Мочевина исчезала из крови! Быстро исчезала! Значит, почка работает вовсю, очищает кровь. А сердце… Конечно, этому отравленному, ослабленному сердцу приходится туго. Но оно должно обязательно справиться! Молодой ведь парень! И все эти собравшиеся здесь люди помогут ему. Федор Родионович детально обсудил с врачами дальнейший план боя. Они заставят отступить сердечную слабость! Он уже не мог себе даже представить, не мог предположить иного исхода. Он вдруг крепко уверовал в окончательную победу и, сразу взбодрившийся, прямой и помолодевший, пошел из реанимационной. В коридорах и в холле толпились больные. Еще когда шла операция, они, наспех пообедав, покидали столовую и, словно притягиваемые магнитом, тянулись к дверям операционного блока, где возвышавшийся надо всеми Власов сообщал последние данные, полученные им от выскакивавшей куда-нибудь санитарки или от заходившей в операционную медицинской сестры. Сюда поднимались больные со всех этажей. Больницу охватило волнение, сходное с тем, какое возникает у совершенно незнакомых людей на улицах при сообщениях о космических полетах. Здесь было чувство гордости за своих собратьев, идущих на подвиг, за могущество человеческой мысли и рук человеческих, здесь было и опасение, страх за рисковавших, искреннее желание им удачи. Возбуждение было настолько сильным, что, казалось, собственные страдания отодвинулись, стали меньше и незначительнее. Как-то неловко было стонать во время перевязки и морщиться от укола, жаловаться на вполне терпимые боли и признаваться в том, что боишься хронического аппендицита, когда совсем рядом, за несколькими стеклянными дверьми, один человек, здоровый молодой человек, отдавал другому, ради спасения его, часть самого себя — свою почку! Когда из операционной вывезли Бориса, «болельщики» сдвинулись к дверям реанимационной палаты. Туда, конечно, никого не пускали, только Власов — немедленно начавший помогать сестрам и анестезиологам: что-то подносить, поддерживать — беспрепятственно входил в палату. — Порядок, ребята! — бодро докладывал он, появляясь в очередной раз в коридоре. — Сослуживец проснулся. Прасковья Михайловна сказала ему, что пока все в порядке и там. — Неужто спасут? — с волнением выдохнул кто-то, высказав наконец тревоживший всех вопрос. — А ты сомневался, сослуживец? Вот с кем бы я в разведку не пошел, — кривил рот Власов. — Слушай, разведчик, твой обед, наверное, скис уже в тумбочке. Власов не ходил в столовую, и один из его многочисленных приятелей засунул ему в тумбочку тарелку со вторым. — Верно, нужно бросить что-нибудь моей язве, — согласился Власов и пояснил: — Она не любит переживаний… — И рысцой направился в свою палату. Тузлеев сидел на койке, свесив отечные ноги и уперев взгляд прямо перед собой в пол. Бушевавший ночью ветер утих, и снова наползли тяжелые дождевые тучи. В палате было сумеречно, пусто и неприветливо, — четвертую, дополнительную койку еще не убрали, но белье с кроватей Харитоновых унесли; полосатые матрасы придавали комнате нежилой вид. Власов поспешно достал из тумбочки тарелку, присел на край своей койки и стал торопливо есть. Тузлеев не мигая, исподлобья, глядел на него. — Ну, что там? — вдруг спросил он. — Все в порядке. Бориса вывезли, — с полным ртом ответил Власов, — вот-вот кончат пришивать почку. — Может, и обойдется все, — глухо сказал Тузлеев. — Обязательно обойдется, сослуживец, — подтвердил Власов, нажимая на картофельное пюре. Некоторое время оба молчали, потом Тузлеев сказал: — Я своего дружка из боя выволакивал, когда меня садануло. А он, оказывается, мертвым уже был… Власов оторопело, открыв рот, смотрел на Тузлеева, но тот снова недвижно уставился в пол, сгорбившийся, отрешенный от окружающего старик. О чем он думал сейчас? О том бое, о смерти своих фронтовых друзей, о бесполезной своей жертве?.. Может, и не был еще мертв тогда его друг? И последней его мыслью все же было — не оставил?.. Ныло, сжималось сердце в груди. Боль становилась все острее, катилась от живота к горлу. Привычная, но всегда пугающая боль. Тяжелая и страшная, возможно, даже не такая сильная, как от ран, но наполнявшая до краев смертельной тоской. Нитроглицерин лежал на тумбочке, Тузлеев не мог дотянуться до него, простонал, обращаясь к Власову: — Да-ай! Власов вскочил, отбросив на одеяло вилку, вытряс из стеклянного тюбика мелкие таблетки, протянул Тузлееву. Тот судорожно сунул одну под язык, закрыл глаза. Боль отпускала медленно. Тузлеев стал, не разгибая ног, стараясь не делать лишних движений, заваливаться набок. Лечь! Вот если лечь, тогда скорее отпустит. Он знал по опыту… Власов испуганно склонился над ним, громко звал: — Сослуживец, э, сослуживец!.. Папаша… Открой глаза. Ну, что ты?.. Погоди! Я сейчас врача кликну… — Не надо, — прошептал Тузлеев. Боль становилась все меньше, превратилась в тяжесть за грудиной, терпимую, даже приятную после отпустивших невыносимых тисков. — Не надо. Проходит… — Он открыл глаза и лежал неподвижно на боку, глядя прямо перед собой в стену. — Ну, как? — Власов стоял рядом. — Уже ничего. — Фу-ты, ну-ты… Перепугал ты меня. Тебе, сослуживец, волноваться никак нельзя. Злиться, ругаться… Плюнь на все. Живи себе тихо. Мы уж, помоложе, и за тебя поерепенимся… — Не удалась… — тихо сказал Тузлеев. — О чем это ты?.. — «Не свихнулся бы часом», — подумал Власов. — Жизнь не удалась, — четко произнес старик. — Злись, не злись… Все. — Ну, что ты, папаша, ей-богу! Для того чтобы такое сказать, человек, знаешь… Тузлеев не слушал сбивчивых горячих слов Власова. Он думал снова о том бое, о тяжелой, обрывающей руки плащ-палатке с неподвижным телом на ней, снова, как нередко это бывало многие последние годы, старался вспомнить во всех деталях тот страшный, пропахший гарью, утопающий в жидкой грязи день. Свой трагический день. Опору всей своей жизни.В специальную бригаду Герман с согласия Федора Родионовича включил Лиду и Кирша. Собственно, Лида сразу после того, как Женю Харитонова вывезли в реанимационную палату, сама сказала Герману: — Придется остаться с ним. Дежурному анестезиологу не разорваться… Кирш же, человек сейчас свободный, ретиво набирал бесплатные дежурства: потом, когда выйдет его Вера из родильного дома, всякий лишний отгул пригодится. В ординаторской было шумно. Возбужденные голоса оттуда разносились по всему коридору. Подходя к ординаторской, открывая ее дверь, Герман подумал, что проведенная операция все-таки еще не дает повода для столь бурной радости. Оживление явно чрезмерно. Однако, едва переступив порог, он изменил свое мнение: оказывается, у Алексея Павловича родилась дочь. По заказу! — Ты, конечно, его немедленно отпустишь, — сказала Прасковья Михайловна. — Он уже извелся, ожидая тебя. — Я сослужил ему плохую службу, — рассмеялся Герман, — включил его уже в состав спецбригады. Ну, да это можно переиграть. Поезжай, Леша, и передавай привет. Они все знали милую Веру Кирш, с которой не раз встречались на больничных и отделенческих вечерах. Алексей Павлович сейчас же умчался, а Герман сказал: — Кто-то должен заменить его в бригаде. Вы не смогли бы, Валентин Ильич? Это была, конечно, не равноценная замена, но Герман знал, что все равно сам он будет допоздна, да и Федор Родионович не уйдет рано. Задерживать Прасковью Михайловну он не хотел, а остаться на ночь, просто не мог — завтра ему снова дежурить, так уж получилось по графику, и сегодня необходимо как следует выспаться. Валентин колебался всего какую-то секунду и согласился. Ему польстило предложение заведующего, он вдруг почувствовал себя по-настоящему причастным к этой великолепной операции, и такое желанное свидание с Любашей, назначенное на восемь часов, как-то отодвинулось на второй план. Жаль, конечно. Он целых два дня добивался этого свидания! И вот, когда Любаша уже согласилась прийти к нему в гости, он не явится… Но что поделаешь, отказаться от дежурства в спецбригаде он не мог и не хотел.
В три часа Женю перевели на самостоятельное дыхание. Он проснулся, сознание возвратилось, но деятельность сердца и сосудов оставляла желать лучшего. Лида не покидала палату, да и Петр Петрович, убегая куда-то на время, неизменно возвращался сюда. Временами в операционной появлялись профессор и Серафима Ивановна, терапевт. Иногда заглядывала озабоченная Кобылянская. Валентин Ильич возился с капельницами, хотя они были обычно на попечении анестезиологов. Ему не хотелось уходить из палаты, где врачи боролись за спасение этой чудесной живой системы, созданной руками человеческими. То, что он поступился желанным свиданием, казалось Валентину Ильичу почти самопожертвованием, он не жалел больше о нем, но и не забывал ни на минуту. Правда, через час он подумал, что делать ему здесь, в сущности, нечего, и уже с тоской вспомнил Любашу. К пяти часам тонус сосудов улучшился настолько, что врачи, собравшиеся в реанимационной палате, пришли к заключению, что можно перевести дух. Пересаженная почка работала исправно, мочевина крови продолжала уменьшаться. Петр Петрович, терапевты и Прасковья Михайловна отправились домой. Немного позже ушел готовиться к лекции и Ардаров. Федор Родионович переоделся в кабинете, постоял у залитого дождевыми струями окна. Высотные здания и купола церквей вдали были едва прочерчены серыми штрихами. Унылый осенний пейзаж подействовал на него, как обычно: сквозь бодрость и возбуждение последних часов проступила и стала быстро нарастать усталость. Он прошел к столу и, опустившись в кресло, снял телефонную трубку. Германа Васильевича он разыскал в ординаторской. — Вы не собираетесь домой? — У меня еще много дел здесь, — ответил Герман уклончиво. Действительно, кое-что нужно было еще сделать в отделении, но, по правде сказать, ничего неотложного не было. Герман не мог бы объяснить, почему в начале шестого часа этого труднейшего дня он вдруг решил заняться некоторыми второстепенными своими делами, которые вполне можно было отложить. — Я буду дома, — после паузы сказал Федор Родионович. — Пусть звонят при малейших сомнениях. — Хорошо, — сказал Герман. — Устал, — признался Федор Родионович. — Вам давно пора идти домой. Не волнуйтесь, мы позвоним при первой необходимости. — Ладно, — Федор Родионович повесил трубку, а Герман все еще держал свою, вспомнив вечерний разговор, лихорадочно блестящие глаза профессора, болезненный румянец на его мучнисто-белых щеках. И Герман почему-то подумал, испытывая щемящее сожаление, что скоро, наверное, и этот слишком быстро состарившийся человек отойдет от хирургии. Утрата будет трудно восполнимой. Потому что из множества приходящих ежегодно молодых людей только единицы поднимаются в хирургии до такого гармоничного слияния профессионального и человеческого.
В шесть часов Лида, оставив в реанимационной Валентина Ильича, ушла к себе в ординаторскую. В открытую форточку ветер забрасывал дождевые капли. Влажный, пахнущий прелью, он приятно обдувал горящее лицо. Лида закурила, сняла босоножки и прилегла на диван, подняв ноги на невысокую его спинку. Стопы и голени гудели, Лида прислушивалась к этому приятному гулу, напомнившему вдруг почему-то прогретое солнцем летнее поле. И она представила себе Германа в белой рубахе с закатанными рукавами. Короткие, с проседью, густые волосы его разметаны по лбу — как тогда, на лодке… Лида прикрыла глаза. Вот они вдвоем в тихо и радостно гудящем летнем поле, лежат в теплой пахучей траве, среди цветов… Лида открыла глаза, улыбнулась. Тот, кто десять часов кряду не отстоял на операции, не побегал вокруг реанимационной койки, не может даже представить себе, как приятно лежать, задрав ноги, подумала Лида. Не может насладиться в полную меру покоем и тишиной. Разве только воевавший солдат?.. Отвоевали они Женю Харитонова? По крайней мере, с сердечной слабостью, кажется, справились. И почка работает отлично. Теперь как будто уже можно надеяться на успех. И каждый отвоеванный час — лишний шанс на полную победу. Какой он все-таки молодец, Федор Родионович!..
В четверть седьмого в ординаторской в очередной раз зазвонил телефон, и Герман, оторвавшись от отчета, взял трубку. Звонили все, непрерывно. Даже Ванечка. На этот раз звонил Кирш. — Ну, как там у вас дела? — Пока все в порядке. Ты откуда звонишь? — Из зала ожидания. Оказывается, на подоконнике тут стоит телефон, за шторой… — Что у твоих женщин? Как прошла операция? — Тоже как будто все в порядке. Вера проснулась уже несколько часов назад. — Приветы передал? — Нет. Я тут сижу так, без контактов… А почка работает? — Работает. — И с сердечной справились? — Кажется. — Здорово все-таки получилось, — после небольшой паузы сказал Алексей Павлович. — А ты, смотрю, совсем уже отошел после родов, — рассмеялся Герман. Поговорили еще минуты две, потом Герман но пути в палату к Жене Харитонову зашел к Борису. Тот спал. Сестра сидела у окна и кокетничала с милиционером. Кухнюк, уже не такой потусторонне бледный, не отводил от Бориса темных глаз. Заметив Германа, сестра поднялась ему навстречу: — Все в порядке, Герман Васильевич. Давление и пульс стабильны, повязка промокла незначительно. Герман кивнул и стал просматривать сестринские записи. В половине седьмого в палату заглянула санитарка грудного отделения и выдохнула с испугом: — Скорее! В реанимационной Лида, присев у изголовья кровати, вставляла Жене в трахею наркозную трубку. Валентин Ильич ритмично надавливал на его грудь — делал закрытый массаж сердца. — Вы еще здесь… — с облегчением сказал он, увидев Германа. — Остановка сердца. «Этого можно было ожидать. Такой слабый больной… И сердечно-сосудистая недостаточность в течение многих часов…» — пронеслось в мозгу Германа. — Торакотомический набор! Перчатки! Быстро! Грудную клетку они раскрыли за несколько минут. Рана почти не кровоточила. Теплое сердце было неподвижно. Герман начал ритмично сжимать его, забрав в ладонь… Минуту, другую, третью… Массаж оказался эффективен — на сонных артериях Лида улавливала пульсовую волну, — но сердце не запускалось. — Это конец, — прошептал Валентин Ильич. Герман зло глянул на него. От безостановочных движений немели пальцы. — Помассируй! — Герман поднял уставшую кисть. — Бессмысленно это… — сказал Валентин. — Меньше болтай! — прикрикнул Герман, снова подводя ладонь под сердце. Через восемь минут сердце Жени судорожно сжалось. Еще раз, еще… Герман распрямил пальцы. Сердце вяло, неохотно сокращалось. Это была победа, маленькая, сиюминутная, но победа. И что значит — маленькая? Может быть, минута, отвоеванная у смерти, обернется годами жизни?..
14
В палате у Жени Харитонова остались дежурные терапевт и анестезиолог, а члены спецбригады пошли в ординаторскую передохнуть. С ними была начмед. Сидели молча. Лида шмыгала носом, прикладывая время от времени пестрый платок к глазам. Она вдруг расплакалась, как только очутилась в ординаторской. Кобылянская хмуро смотрела в темное окно. — Нужно позвонить Ивану Степановичу. — Разве он еще здесь? — Ждет… Валентин Ильич посмотрел на часы: без четверти восемь. И совершенно неожиданно подумал: если поторопиться, можно успеть — минут десять Любаша, пожалуй, подождет… Кобылянская направилась к телефону, но звонок опередил ее. Герман поднял трубку. — Хорошо… Терапевта в приемный покой, — устало сказал он. — Валентин Ильич, передайте, пожалуйста. Валентин Ильич поднялся и неторопливо пошел к двери. Герман проводил его взглядом и, когда тот взялся уже за ручку, добавил: — Вы, наверное, можете идти домой. Я все равно останусь. Валентин Ильич остановился, повернул к Герману удивленное лицо, потом кивнул и вышел. Кобылянская набирала номер. — Иван Степанович? — Да, да… Ну, что там? — в тишине ординаторской голос его был слышен очень хорошо. — Пока по-прежнему. Остается очень тяжелым. Довольно долго молчали, потом главврач сказал: — Скверно. Завтра как раз приходит конкурсная комиссия. — Как завтра?.. На следующей ведь неделе! — Завтра. Снова помолчали. — Нужно, чтобы все было тщательнейшим образом записано, — заговорил опять Ванечка. — Прошу вас, проследите за оформлением истории болезни. Показания и все такое, собственноручные записи Федора Родионовича… Он там? — Нет. — Почему? — Герман Васильевич счел этолишним. — Ну что это, ей-богу! Ну, что он… Нет, нет, вызовите обязательно. — Я передам трубку?.. — Да ладно… Не надо… Но Кобылянская уже протягивала Герману трубку. — Я слушаю вас, Иван Степанович, — глухо произнес он. — Ну, почему же вы не вызвали Федора Родионовича? — Ванечка был явно расстроен. — Я не считал это необходимым. — Но ведь он ответственный хирург! А если… — Больной жив, Иван Степанович, И специальная бригада делает все необходимое, — жестко ответил Герман. — Не беспокойтесь, профессор звонит через каждые час-полтора… — И все же я прошу вас вызвать его в больницу, — с необычной настойчивостью сказал Ванечка. Телефонный звонок поднял Федора Родионовича с дивана.После многолетней неудовлетворенности и особенного, даже не совсем понятного ему самому, душевного напряжения последних дней Федор Родионович постепенно, от звонка к звонку в больницу, обретал былое, давно забытое, спокойствие. Временами он ловил себя на бездумной легкости, переполнявшей его, и улыбался. Это было словно выздоровление после длительной болезни. Он лежал на диване, время от времени звонил в больницу, чтобы в очередной раз услышать целебное «все нормально», пытался читать любимого Чехова и неторопливо думал. Из гостиной доносились звуки передаваемого по радио фортепьянного концерта. Он думал об извечных поисках человеком своего предназначения. А все так просто: не нужно мудрить, усложнять, витать в облаках. Надо своевременно справиться с тщеславием, остановиться, оглядеть людей и себя… Может быть, сесть на завалинку, как те деревенские старики, и постараться понять всю неповторимую прелесть солнечного тепла… Невероятно: так долго не уразуметь, что спасение таких вот, как Женя Харитонов, обреченных — и есть счастье и назначение твоей жизни. Все к чертя-ам! Все, кроме этого. Жаль, конечно, потерянного понапрасну времени, но потеряно не все. Он еще успеет спасти много таких, как Женя. Федор Родионович, сомкнув веки, вдруг отчетливо представил, как входит к нему в кабинет Женя и приглашает на свадьбу. Румяный, чубатый… Нет, это не Борис, а Женя, они ведь близнецы!.. На свадьбу? Почему именно на свадьбу?.. Федор Родионович улыбался, погружаясь в теплую дрему… Он вздрогнул от телефонного звонка. Федор Родионович слушал стоя, а во рту сделалось сухо, будто испарялась влага из его тела, и все оно словно усыхало, становилось меньше и легче… Герман замолк. Федор Родионович сказал коротко: — Я сейчас приду, — и повесил трубку. Он пошел на кухню, выпил залпом полстакана воды. Затем стал поспешно одеваться. Он был напряжен, но странно спокоен: его охватило знакомое с военных лет чувство, которое он испытывал много раз, когда ему докладывали, что привезли новую партию тяжелораненых.
15
После нескольких дней с небом, заволоченным грязными тучами, с нудными дождями, утром неожиданно проглянуло солнце. В парке было сыро, но пропитанный острыми запахами увядающей зелени воздух наполнял тело бодростью, вытеснял из него тяжелую сонливость. Дежурство, на счастье, выдалось удивительно нетрудное, но все же он чертовски устал за последние двое суток, что не выходил из больницы. Герман вспомнил, как когда-то, лет десять назад, Федор Родионович сказал: «Хирург должен быть двужильным». Кто знает, каким он должен быть! И что у него должно быть крепче — здоровье или дух? Возможно, хирургу противопоказаны такие чувства, как жалостливость, обостренное представление о долге и ответственности? Возможно, в конечном счете прав Валентин: надо видеть и любить в хирургии лишь смелое и умное рукодействие, страдающих же людей оставить на откуп другим врачам: у них, у хирургов, есть свое важнейшее в этом лечебном конвейере место — у операционного стола, этого достаточно… Герман, сощурясь, поднял кверху лицо, подставил его слепящим солнечным лучам. Мир был ярким, пахучим, полным звуков — пели где-то в поредевшей листве птицы, звенел и радостно громыхал рядом проспект. Герман хотел думать о реке, о стуке волны в борт, но, шагая по мягким шуршащим листьям, возвращался мыслями в палаты, видел человеческие лица. Это были лица оперированных в последние сутки больных. Вот братья Харитоновы. Их он запомнит на всю жизнь. Даже места в реанимационных палатах, на которых они сейчас лежат, запомнит, но другие лица он уже почти забыл, а что делал каждому из них — и вовсе не помнит. И все же мысли его были заняты только ими… Герман усмехнулся растерянно и радостно. В накинутом поверх халата пальто он шел по пустынному желтеющему парку. У здания кухни стояла уже больничная полуторка с оцинкованным кузовом. Скоро повезут на отделения завтрак. И, как несколько дней назад, Герман вспомнил лошадь по прозвищу Фуня, которая когда-то — казалось, совсем еще недавно — развозила завтраки, обеды, ужины. Вспомнил жесткого, неумолимого Батю, цепко державшего в своих руках всю больницу и Федора Родионовича, да и его, Германа, тоже… «Я вас от себя не отпущу, — говорил им как-то Батя на больничном вечере, обхватив своими сильными руками за плечи. — Вот защитится Герман — доцентом сделаем. Крепкая будет кафедра. А, Федя?..» До оврага, за которым начинался пустырь и новостройки, Герман не дошел. Дожди превратили дорожки в этой части парка в труднопроходимые грязевые полосы. Возвращаясь к зданию больницы, Герман заметил на скамейке, затащенной больными в кусты, две фигуры. Женщина в светлом плаще и мужчина в больничной пижаме. Мужчина пил прямо из горлышка бутылки, запрокинув голову. Конечно, Власов… На скамейке заметили врача, женщина поднялась, торопливо направилась к выходу из парка. Власов пытался ее удержать, смеясь, говорил что-то вслед. — Вы же простудитесь, а в понедельник операция, — укоризненно сказал Герман, подходя к нему. — Все будет нормально, Герман Васильевич. Они вместе двинулись к больничному зданию. — И если вы станете пить сразу после операции, то лучше ее не делать, — угрюмо заметил Герман. — Не беспокойтесь, Герман Васильевич. А сегодня — повод. Ребенок у меня будет, сын. Борька. Герман даже приостановился. Да, да, конечно, у такого вот Власова — только Борька! — Теперь я от язвы избавлюсь обязательно. Семья обязывает… — Власов развел длинными руками. — Так что в деревню втроем поедем. — Поздравляю, — сказал Герман. А сам уже думал, что тоже хочет сына, хорошо бы — Борьку… Они молча шли к тяжелому серому зданию больницы. Высокие, устремленные кверху окна последнего этажа, и фронтон, независимо возвышающийся над желтыми вершинами деревьев, напоминали Герману загадочные дворцы — память далекого детства… Герман любил этот парк, и этот дом, и его жизнь, трудную, часто непонятную и противоречивую, — маленький яркий сколок человеческой жизни.
Последние комментарии
6 часов 38 минут назад
6 часов 46 минут назад
12 часов 58 минут назад
13 часов 2 минут назад
13 часов 12 минут назад
13 часов 18 минут назад