В бесконечном лесу и другие истории о 6-м «В» [Сергей Анатольевич Иванов] (fb2) читать онлайн
- В бесконечном лесу и другие истории о 6-м «В» 2.11 Мб, 186с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Сергей Анатольевич Иванов
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сергей Анатольевич Иванов
В бесконечном лесу и другие истории о 6-м «В»

Предисловие, которое обязательно нужно прочитать

Да, обязательно, потому что без него не всё будет понятно… Утром, между восемью часами и десятью минутами девятого, открывается тридцать семь дверей и на лестничные площадки выходит тридцать семь человек. Если б всех их, как точки в пространстве, соединить невидимыми прямыми, то получившиеся расстояния были бы не очень большими. Между самыми удалёнными точками — километра полтора, а то и меньше. И по высоте точки эти находились бы примерно в одной плоскости — от первого этажа, где живу я, до шестого, где находится квартира известной спортсменки Машки Цаловой. Все эти тридцать семь — ученики одного класса, шестого «В». И сейчас пути их будут представлять собою, не строго говоря, ломаные прямые. Пересекутся все эти ломаные в одной точке: в школе, на третьем этаже (дверь примерно в середине коридора), где и располагается наш класс. Да. Наш класс… Люди соединяются в самые разные коллективы. Например, в футбольные команды, в новогодние компании… Или, скажем, в отряд разбойников под предводительством Робин Гуда. И у каждого коллектива есть своя как бы закономерность: в том смысле, зачем они соединились. В отряд Робин Гуда идут из благородства и смелости. В футбольную команду — кто играть умеет, в новогодние компании — кто с кем дружит. И так далее и тому подобное. А вот класс — это такой коллектив, который образуется, наверное, случайней всех других коллективов в мире. Просто перед началом первого в твоей жизни первого сентября родители — чаще всего мамы, да? — приходят в школу отдавать документы. И тётенька в очках (или без очков) записывает тебя, твои так называемые данные, в большую книгу, разлинованную простым карандашом или шариковой ручкой. А потом говорит маме (а мама волнуется и неудобно сидит на краешке стула), говорит эта тётенька в очках (или без очков): — Ваша дочка… ваш сын зачислены в первый «В» класс. Вот тебе и всё! И получился человеческий коллектив. Да не просто, не какой-нибудь там краткосрочный, а на десять лет — не шутка! Кажется-то: нужно с таким бы тщанием отбирать — как космонавтов для совместного полёта. А тут всё наоборот! Прямо диаметрально наоборот. Нахватали с бора по сосенке первого встречного народа, посадили в одно помещение (называется класс), и — будьте здоровы, до встречи через десять лет!.. Но странно. Почему-то ничего плохого не случается. Хотя в первые-то дни, конечно… Даже в первые недели, даже, вернее, в первую четверть — ужас: все новенькие, чужие, у всех глаза торчат. Плакать и то не плачешь — не смеешь!.. Потому что никто тебя не знает, а стало быть, и не поймёт, а стало быть, и не пожалеет. Я, помню, в уголочек забьюсь и реву, чтоб не видали… Часто даже и неизвестно из-за чего, просто так — по-взрослому говоря, от одиночества… Вот уж нареветься-то мне пришлось! Особенно за сентябрь тот, за первоклассный. Но проходит месяц, второй, третий. И потихонечку-полегонечку всё утрясается. Начинают дружить. И ты тоже с кем-нибудь сдруживаешься. Хотя бы за одной партой сидишь — вот тебе и дружба. Пусть не очень большая, а всё-таки. Или на физкультуре, когда строятся по росту, тут опять как бы друзья, потому что на всех физкультурах слева и справа у тебя всегда одни и те же люди… Ну и так далее. Например, ещё в буфете, за столом — тоже сидишь с постоянными тремя человеками. Но это всё в самом начале. А когда проходит года три или четыре, то этот человеческий коллектив, который называется класс, уже становится абсолютно неслучайным. И ты просто даже не помнишь и не представляешь такого времени, когда жил без Ольги Лаврёновой, без Мариночки, да без Бори Сахаровского, да без Нельки Жужиной, да без Димки Соколова. А уж когда ты в шестом классе, тут вообще знаешь всех как облупленных, как родных — даже некоторые поднадоели. Но всё равно они все твои! Перед любым — даже пусть серебряным-золотым — человеком, но из другого класса, ты за них заступишься — за любого, за самого неказистого, с которым никогда в жизни не подружишься! Но это у себя в классе! А перед чужими — да ты за него глаза выцарапаешь, нос разобьёшь, спорить будешь до потери пульса. В общем, смотря по личным возможностям. Вот такая странная вещь этот человеческий коллектив под названием «класс». Сперва был совсем не обязательный, а теперь стал — вроде обязательней и не бывает! И когда кто-нибудь из него уходит (например, отец у человека военный, и его перевели в другой город), то он ещё долго письма пишет, что на новом месте всё не так, что школа низкая, учителя злые, в классе какие-то шизики… А на самом деле, мне кажется, он просто никак не может расстаться с нашим шестым «В». Или наоборот: появляется новенький. Все на него почему-то начинают коситься. Хотя какого вам аллаха надо от человека? Руки-ноги на месте. Свитер, штаны — всё как у людей. Но долго ещё мы будем — даже самые добрые из нас! — долго ещё мы будем к нему приглядываться да прислушиваться. Потому что он весь какой-то из другого человеческого коллектива. Он, может, и рад бы по-нашему, да не получается. И наверное, он тоже пишет кому-то письма, что школа здесь какая-то слишком дылда, учителя ни рыба ни мясо, а в классе все до одного стукнутые пыльным мешочком и по-нормальному с ними, конечно, не законтачишь… Наш человеческий коллектив. Один раз мне даже хотелось написать в новогоднюю газету такую заметку, что мы — как бы обособленный средневековый город… Только у меня не получилось. А вообще это правильная мысль. У нас есть свой староста — «первый министр». И своя «королева» — первая красавица. И свои «богачи-отличники», и свои «бедняки-двоечники». Всё как в настоящем королевстве… И люди среднего достатка — вроде меня, — у которых то «четыре», то «три», а то и пятёрочка проскочит — вроде премии под праздник. У нас даже есть свои разбойники, и свои мещане, и свои, которые тише воды, ниже травы. У нас даже есть свой писатель!.. В общем, мы вполне могли бы оказаться на каком-нибудь необитаемом острове и жить себе, поживать, добра наживать. Вот какую хорошую заметку мне хотелось однажды написать. Но так она и не написалась. Тут надо, чтоб было с юмором, с разными остротами. А я этого совсем не умею. У меня и за сочинения-то выше четвёрки никогда не бывало. Но это, правда, в основном из-за ошибок. Ага, ну вот и кончилась моя ломаная прямая. Школьный двор, народ, вон и наши топают… Таня Полозова. — Привет, Тань. У тебя по алгебре все ответы сошлись? Сейчас надо первым делом алгеброй заняться. Меня сегодня обязательно спросят… Примечание. Мы не знаем, догадался ли читатель, что представляют собою первые несколько страниц, которые мы обозначили как «Предисловие». Если нет, то сообщаем: это были размышления ученика шестого «В» по дороге в школу. Кто он, этот человек, как его имя, пока не имеет значения. Важно, что он, этот ученик, — часть того самого человеческого коллектива, который называется шестой «В». И если читателю так уж интересно, то, мы надеемся, в конце книги он поймёт, чьи размышления читал на первых страницах. А если даже не поймёт, тоже не беда. Будем считать, что на этих страницах звучал голос шестого «В»… Книга будет о классе. Но так как класс состоит из ребят, то здесь мы собрали разные истории, случаи, которые происходили с учениками шестого «В» — то со всеми вместе, то с некоторыми по отдельности. Кроме того, сюда войдут и отрывки из писем, из дневников, из разговоров, из размышлений перед сном и во время прогулок. Здесь даже будут записки и мысли совершенно личного характера. Может быть, иной раз это выглядит не совсем, так сказать, корректно. Однако без них, как нам кажется, не получится полноты картины. К тому же мы опять скроем имена авторов всех этих записок, размышлений, дневников. Шестой «В» — он автор.
* * *
Но предисловие предисловием, примечание примечанием. А с чего же всё-таки начать? Это действительно трудный вопрос. Раз тут не будет единого и строгого сюжета, то начинать будто бы можно с чего угодно. Как мозаику можно начинать с любого камешка. А потом окажется, что это чей-то глаз, или чья-то рука, или кусочек неба, кусочек облака… Однако книга всё-таки не мозаика. Это мозаику, картину не важно, с какого угла смотреть: хочешь — с правого, а хочешь — с левого, а хочешь — сверху, а хочешь — снизу… Книгу-то всегда начинают читать с первой страницы и потихонечку подбираются к последней. Если, конечно, она не окажется слишком скучной. Что же должно быть здесь первой страницей? Может быть, история о том, как шестой «В» выбирал себе старосту? Это действительно интересное было дело. И по времени оно произошло раньше других. Тогда ещё шестой «В» был пятым «В»: это произошло в мае прошлого года. Так придумала Тамара Густавовна, их классный руководитель. Говорит: — Давайте выберем старосту для будущего нашего класса сейчас. — А зачем? — А просто для интереса… Интересно же, угадаем мы себе хорошего старосту или нет. — А если не угадаем? — Переизберём! Например, в середине будущего октября устроим собрание… И всё-таки, кажется нам, с этого случая начинать не стоит. Читатель ведь пока совершенно не представляет себе, что же такое шестой «В». А в истории с выборами участвует сразу весь класс. Поэтому очень легко оказаться в книжке «новичком» и с удивлением глядеть на незнакомых ребят. И размышлять, недоуменно усмехаясь: «А зачем этот кричит это, а тот — то. Глупо ведь!» Давайте-ка начнём с чего-то другого, лучше бы похожего на обычный рассказ, где есть главный герой, второстепенные, где есть основное событие, завязка, развязка, ну и тому подобные необходимые литературе штуки… А когда все оказываются главными героями, все одновременно орут… Нет, с этого начинать нельзя!История первая. В бесконечном лесу
Итак, начнём с простого и ясного. Главная героиня здесь будет Маринка Оленина — первая красавица класса. Это фигура всем понятная. Такие в том или ином виде есть у любого человеческого коллектива под названием «класс». Второй главный герой — новичок. Тоже, в общем, всё ясно. И ситуация ясна. Пятые, шестые, седьмые классы (то есть пионерская дружина, но без малышни) поехали в лесопитомник — копать ямки для саженцев и потом эти саженцы сажать, уж извините за нескладную фразу! Не стоит говорить о том, как это здорово в начале погожего и тёплого ещё октября проехать километров сорок на электричке, да ещё в простую среду, когда тебе положено учиться — сидеть, сжав руки под партой в ожидании, спросят или не спросят (урок-то выучен, но спросят ли!), на переменке глотать испуганными глазами какие-то страницы, какие-то формулы, потому что сейчас контрольная по физике… ну и всё тому подобное… И до чего ж хорошо вдруг нечаянно почувствовать себя совершенно счастливым, совершенно свободным! Даже не заболевшим, а просто — бывает же в жизни такая вещь, как везение. И ехать в довольно-таки потрёпанном, но оттого особенно милом вагоне — скачущем, звенящем. И потом высыпать всей толпою, с весёлой давкой, распугивая редких взрослых, — высыпать на тихую платформу, которая сразу становится громкой. И отправиться в путь по жёлтой вихрастой траве, по влажной дороге, растянувшись длинным извилистым отрядом чуть ли не на километр… Шагаешь, а над тобою солнце. Нет, буквально над всеми солнце. И песни — штук десять, все разные! — носятся поверху обрывками птичьих стай. И потом разобрать в сарае лопаты: белые, звенящие, с полированными ручками — от работы, которую они успели уже проделать за свою лопатную жизнь. Взять эти жутко рабочие лопаты и рыть… Вернее, больше, конечно, мальчишки роют. А «всем известная М. Оленина» стоит, опершись на свою лопату, и улыбается как бы со значением…Из записок к М. Олениной
«Оленина Мариночка — красивая картиночка! Марина! Если хочешь, то можно пойти сегодня к одному человеку смотреть повторение фигурного катания (по цветному телевидению)».
«Марина! Так поступать не нужно! Эту ручку я лично тебе подарил, несмотря на то что ты ко мне относишься плохо! А если не нравится, то выброси или поломай! Но Шуйскому-то зачем отдавать?»
«Оленина! Имей совесть! Зачем ты пристаёшь к Боре Сахаровскому? Он же тебе совершенно не нужен. Зачем же ты тогда: «Боря, что по алгебре?.. Боря, как задачку решить?» Ты сама прекрасно знаешь, что в классе полно народу, которые по математике сильней. К ним и надо обращаться, а не вести такую двуличную политику. Ты меня извини, если я тебя обидела чем-то. И не думай, что я в него влюблена. Просто он мой друг, и я хочу его защитить!»
* * *
…А потом вдруг говорят, что, мол, кто свободен, идите, ребята, за саженцами. И ты, конечно, идёшь. Все таскают на носилках штук по пять, по шесть. А ты несёшь свою рябинку в руках, словно детёныша, особенно аккуратно. И дело не в том, что ты, как говорится, решила пофилонить. Тебе нельзя по-другому. Ты — Маринка Оленина! И если б ты начала вдруг работать со всеми, то, пожалуй бы, даже сказали (а не сказали, то уж точно подумали бы): «Чего это она сегодня?» А некоторые девчонки: «Опять Оленина выхваляется!» Так что надо держать свою марку! Марку Маринки. (Есть такое выражение, что, мол, каждый должен нести свой крест. Его Маринка Оленина понимала очень хорошо и относила к себе полностью.) Итак, ты несёшь свою тоненькую, вздрагивающую при каждом шаге рябиночку… И если попадутся навстречу мальчишки с пустыми носилками, то можно… вернее, даже нужно сказать: «Мальчики, прокатите вон до той ямки». В носилках здорово ехать! Совсем как дочь персидского падишаха. А мальчишкам тяжело тащить, хотя она и лёгонькая… Тот, кто сзади идёт — это она видит, — весь надулся, покраснел. Но обоим неудобно друг перед другом. И тащат, улыбаются через силу. Пальцы побелели… Им даже замертво нельзя упасть — засмеют. Потому что она же лёгонькая! Да они и сами ни за что не согласятся замертво. Ведь это и для них слава: на глазах у всей дружины нести Мариночку… А вы носили? Да никогда в жизни она не согласится на ваших дурацких носилках ездить! И вот сейчас они её донесут — уже немного осталось! — опустят на землю, осмотрятся кругом… Нет, даже и осматриваться не надо — все взгляды тут как тут. Поэтому они лишь спросят самыми обычными голосами: «Хочешь ещё прокатиться, Маринчик?» И она великодушно откажется: королева — это не только то, что все замечают, но и то ещё, что ты знаешь и думаешь о себе сама!* * *
Дальше в этот день всё шло примерно так же, то есть как заведено, как можно было ожидать. Работали до полтретьего. Потом сели обедать — в складчину, по классам. Развели костры, хотя они совсем не нужны были в солнечный этот, тёплый день. А может быть, даже и вредны!.. Стоявшие рядом, уже засыпающие деревья, наверное, с ужасом смотрели на посвистывающий быстрый огонь… Но кому это объяснишь — про вредность костра? В кои-то веки, скажут, люди за город выбрались — и то костёр не дают! После обеда занялись кто чем: разрешено было оставаться здесь до шести. Ещё было светло, ещё день казался длиннее ночи… А может, и самим учителям хотелось побродить, погулять — побыть простыми людьми, а не учителями. Через убранное картофельное поле стояла кленовая роща. Это редкость в наших краях. Клёны как-то больше рассаживают по скверам. А если встретишь клён в лесу, то обычно одиночку. Редко два или три. Здесь же была целая роща! Она осыпалась жёлтыми и красноватыми крупными листьями. Тяжёлые эти листья не летели по ветру, как берёзовые или осиновые клочочки, а отвесно падали на землю. Маринка шла навстречу роще по мягкой разрытой земле, и ей самой не верилось, что может быть так красиво! Редкая минута — Маринка осталась одна. Мальчишки, занятые футболом, забыли про неё. А девчонки разбрелись кто куда или остались поболеть. Но Маринка даже рада была своему одиночеству… Вернее, не то что рада — это уж слишком: подумаешь, какой Наполеон! Просто душа её была довольна, что никто не будет мешать ей в чудесной кленовой роще. Словами и мыслями она сказать себе этого не умела. Чувствовала только, что у неё хорошее и удивительно какое-то мирное настроение… Несмотря на то что одна… Издали слышались победные клики и препирательства футболистов шестого «В». Вот примерно с этого места и начинается подлинно рассказ. Он о том, как первая красавица шестого «В», королева Маринка Оленина, заблудилась. Да, заблудилась! В бесконечном лесу. Наверное, это правильное название: заблудившемуся человеку лес кажется именно бесконечным… Причём хватились Маринку только в городе: объявлено было два поезда — восемнадцать двадцать и восемнадцать сорок пять. И хотя Маринка Оленина фигура заметная, светлячок, но одни с сожалением решили, что она уедет позже, другие — что она уехала раньше…* * *
Она шла по лесу, как ходят по картинной галерее. Она и в мыслях не держала, что может заблудиться. Где-то внутри жила уверенность, что, когда настанет время, зазвенит какой-нибудь звонок — на закрытие. И пожилая тётенька-служительница проведёт её к выходу. Или кто-то прибежит за ней: «Ну, Марина! Тебя же все ждут!» Так бывало обычно. Однако сейчас ничего этого не происходило. От мыслей своих она очнулась в незнакомом березняке. Глянула кругом — ещё почти без всякого беспокойства. Белые берёзы, словно белый туман… Посмотрела на часы — времени без десяти пять. Она остановилась. Под ногами только жёлтые берёзовые пятаки. И запах тоже — крепкий, берёзовый… А кленовых листочков ни одного! Куда идти, где та кленовая роща? На тонкой ветке отдыхала какая-то птица — она-то знала, куда лететь. Маринка передёрнула плечами. Но не холодно было ей, а тревожно. Она сразу решила не пугаться. Испугаешься — тогда конец! Она сказала себе: «А что я вообще-то? Пока ещё ничего не случилось. Я даже и не знаю точно, заблудилась я или нет… Погоди… Я пришла вон с той стороны. Туда надо и возвращаться».Из письма
Здравствуй, Ира! Ты пишешь, что я давно не писал. Но ты зря заволновалась, у меня лично и у родителей ничего не случилось. Живём хорошо, обосновались на новом месте. Отец здесь встретил двух однокашников по академии, теперь служат вместе, он доволен. Мама опять пошла работать в больницу, как и было у нас… Вернее, теперь уже можно сказать — у вас. Здесь народу (и вообще всего — машин, улиц) куда больше, чем у вас. И я пока хожу какой-то не то удивлённый, не то сонный. И думаю: неужели я здесь буду жить?! Вчера пошёл мамино пальто из химчистки забирать и заблудился. Ну это естественно — новый город, я ещё ничего не знаю. Боксёрской секции здесь нет. Здесь бы ты пригодилась со своим волейболом. В этой школе он почему-то выбран как главный спорт. По-моему, глупо. Я в волейбольную секцию идти не хочу. Да меня бы и не взяли. Ира! Я тебе должен сказать одну вещь. Всё собираюсь, а сказать всё никак не выходит. Не получается! Как будто бы я трус. Но я не трус. Ты же про это знаешь и сама говорила и даже решила со мной дружить из-за того, что я далеко не трус (как ты сказала). Ира! Мне очень неудобно тебе это говорить. Но я всё-таки тебе скажу. Я здесь, очень хочу дружить с одной девочкой. У меня пока ничего не получается. Но я своего добьюсь, ты же это знаешь! Её зовут неважно как. Я бы вообще мог тебе про это не писать. Но так было бы нечестно, правильно? Привет всем ребятам и учителям.
* * *
Березняк скоро кончился. Пошли высокие старые ели. Стало темнее и глуше. Толпа серых молчаливых деревьев казалась бесконечной. Дятел, нисколько не боясь человеческого существа, обмолачивал шишку. И снова Маринка подумала, что эта птица здесь — хозяин. А она — гостья незваная! И ещё страшно было, что дятел её нисколько не боится. Непуганый дятел. Значит, она далеко забралась куда-то… Она подумала: а что, если ей крикнуть? Какое-нибудь там самое безобидное: «Эге-гей!» Ведь далеко она забраться не могла — услышат! В самом деле, не одна же она в этом лесу… Дятел продолжал молотить шишку. — Эге-гей! Э-эй!.. Дятел соскочил с дерева и помчался прочь, быстро ударяя по воздуху крыльями, подныривая от трусливого усердия вверх-вниз, вверх-вниз… И всё. И больше ничего не пошевелилось! От крика этого Маринке сразу стало не по себе. То ещё ничего было, а как крикнула… Ох, никому мы не посоветуем кричать в пустом, вечереющем лесу! И волосы у Маринки зашевелились на голове, когда что-то прошуршало в заросли молодых тёмно-зелёных ёлок. Она прижалась к корявому стволу, понимая, что пачкает смолой юбку, но не в силах была двинуться… В следующую секунду такое облегчение свалилось на неё, такая радостная тяжесть, что она не выдержала, опустилась на корточки, проехав юбочкой по шершавой, смоляной, наверное, коре, и заплакала. И, заплакав, опять стала обретать силы. Она плакала и злилась, что не может остановить слёз. Перед нею, но всё же шагах в пяти, почтительно стоял человек по фамилии Стаин. Невысокое его социальное положение определялось уже тем, что он был новичок. Явился в класс числа десятого сентября. Из-под его форменной куртки выглядывала довольно-таки простецкая ковбойка. Дня через два на физкультуре, когда они выстроились по линии баскетбольной площадки и все сверкали шортиками или красивыми трусиками, Стаин один оказался в длинных сатиновых трусах, которые обычно называют «семейными». На ногах его красовались чёрные полуботинки на микропоре, в которых он обычно ходил. А в семейные трусы была вправлена та самая ковбойка. Физкультурник Степан Семёнович осмотрел строй. Подчёркнуто остановил взгляд на Стаине: — Вот ты, шаг вперёд. — Извиняюсь, — сказал Стаин, — позабыл, шо у вас сегодня физра. — Стань в строй, физра! — сухо бросил Степан Семёнович. — В таком виде допускаю тебя до своего предмета в последний раз! Эта позорная история, эти «извиняюсь», «шо», «физра» сильно испортили репутацию Стаина. Народ между собой стал называть его «Семьянин». В довершение этой комедии Семьянин дежурно влюбился в Маринку. Тут не было ничего, как говорится, предосудительного, наоборот — нормальная вещь. Но и влюбился-то он как-то не по-человечески. У Маринки был целый класс подданных. Да ещё из других государств на неё приходили поглазеть. И она, даже при всём своём желании, не могла выделять кого-то. Все это так или иначе понимали: королева есть королева. Семьянин же не желал понимать, что Маринка — личность музейная. «Коллекционная девочка» — как сказал один известный девятиклассник. Может, формулировка эта была пошловатой, но в то же время она отражала суть вопроса. А Семьянин всем своим видом… действительно — чуть ли не требовал, чтобы Маринка дружила только с ним одним. И без конца лез со своими разговорами, яблоками и тому подобное. Ясно, что Маринка этого и двух дней не потерпела. Потому что есть правила: всем хорошо, всем интересно. А ты если не можешь играть, так и не лезь! Тогда Семьянин избрал другую тактику. Он вообще перестал с ней разговаривать, не приближался более чем шага на три. Но куда бы Маринка ни посмотрела, она почти непременно натыкалась на его угрюмую физиономию и серые глаза, глядевшие из-под густых насупленных бровей. Постыдное это глядение тянулось уже недели три. Народ, естественно, веселился от души. И Маринка таким образом хоть и косвенно, однако тоже стала объектом для хохмочек. Это, конечно, никому бы не понравилось, а тем более ей, признанной королеве! А теперь ещё оказалось, что Семьянин посмел следить за нею даже в лесу. Коленки его мешковатых джинсов волдырились и были в земле. Значит, он за нею полз, как какой-нибудь волк за Красной Шапочкой. Маринка всё плакала, сидя на корточках, и никак не могла унять слёз. Страх прошёл, но теперь ей было ужасно обидно. До каких же пор это будет продолжаться! — Неужели ты не понимаешь, что это низко! — крикнула она. — Низко! Мало ли что я собиралась здесь делать. Семьянин стоял с опущенной головой. — Не беспокойся, — сказал он тихо. — Я никогда не подсматриваю! Маринка вскочила, опять корябнув юбочкой по стволу. — Надо же, какой благородный выискался! А ну иди отсюда на фиг! — Не пойду! — Как миленький пойдёшь! Или ты только ползать умеешь? — Она усмехнулась. Семьянин пошлёпал ладонями по своим зелёно-земляным коленям и сказал: — А зачем ты кричала тогда? Я же слышал, что ты испугалась… И поэтому я никуда без тебя не пойду! По правде говоря, Маринке понравился его ответ. Но она не позволила себе этого признать, только подумала: «Да пускай остаётся. Я же всё равно не знаю, куда идти». — Ну пошли. — Она дёрнула плечом. — Только если ты ко мне приблизишься… — Не буду я к тебе приближаться. Они постояли несколько секунд. Но в лесу, в этой серой еловой тишине, показалось обоим, что очень долго. — Ты знаешь, куда идти-то? — как можно небрежнее спросила Маринка. — Я?.. Это… — Он растерянно посмотрел налево, направо, впервые понимая то, что несколько минут назад уже поняла Маринка. — Я же всё время прятался и… это… — Ползал? — спросила Маринка ехидно. — Я вообще, понимаешь, раньше жил в степной полосе. И ваших лесов я совершенно не представляю. «В степной полосе»… Ну и текстики же он выдаёт! Как в «Географии»! Маринке стало даже весело. — Идём уж… степняк! И спокойно пошла вперёд, совершенно уверенная в своей стройности.* * *
Лес теперь не казался ей таким угрюмым, а главное, она уверена была, что вот сейчас, сейчас вся эта ерунда кончится и они… вернее, она выйдет на картофельное поле или куда-то поблизости. Или хотя бы услышит ребят… Семьянин плёлся чуть сзади и сбоку. Это её смешило. Так они шли… А лес был совсем незнаком. Он уводил куда-то в низину, сырел… Наконец Маринка просто вынуждена была остановиться, когда под ногой у неё выступила вода и булькнул, как ойкнул, подозрительный болотный пузырь. — Ну?! — спросила Маринка требовательно. Семьянин пожал плечами. Он ни капли не чувствовал себя виноватым. Он размышлял, дубина! — Делать-то что-нибудь будем? — А ты зачем сюда пошла? Я думал, ты знала… — Я-то хоть пошла, а ты вообще стоял! Семьянин покачал головой. — Что? Уже испугался? — Не собираюсь. Просто думаю. — Чего ж ты, интересно, думаешь? — Одну очень простую вещь… Как выбраться из этого леса, я, например, не знаю. Но мы ведь не в тайге, правда? — Гениальное открытие! — Прекрати, пожалуйста… Я просто говорю, что леса у вас небольшие, так? Даже перелески. И если мы будем идти всё время в одном направлении, то куда-нибудь выйдем. А там спросим… Как считаешь? Маринка была удивлена. Даже, кажется, хлопнула глазами от удивления. Ей никогда и никто ничего подобного не говорил. «Как считаешь?» Обычно всегда за неё решали, ей предлагали: «Мариночка, хочешь?.. А может, это?..» Теперь она должна была решать почти что сама. Но если бы она согласилась с его планом, то, значит, должна была признать, что они заблудились. Однако страшно почему-то от этого не было. Даже, пожалуй, проще стало: ну заблудились, так выберутся! И ещё вдруг до неё дошло: на самом деле он не требовал от неё никаких решений, он просто предлагал ей единственное, что сейчас возможно… И опять Маринка была удивлена. — Ну, — спросил он, — в какую сторону хочешь? Маринка улыбнулась: — Давай жребий бросим! Семьянин тоже улыбнулся, но покачал головой: — Может… это… по солнцу хоть? — По какому солнцу? — Ну, когда ты шла, оно куда светило? Маринка этого абсолютно не помнила. Она сказала: — Эх, ты! Земля же крутится. Теперь оно вообще в какую-нибудь другую сторону отъехало. — Не, Марин. Оно всегда с востока на запад. Это железно! Но увидел, что Маринка сердится, и уступил: — Ну, а хочешь, давай по жребию. Всё равно же выйдем. Он поднял с земли сучок, показал на короткую рогульку с одного конца: — Согласна? Это стрелка. Потом подкинул сучок, ударил по нему снизу ладонью, как при игре в чижа. Сучок завертелся, зажужжал, стукнулся о нижние сухие ветки, о ствол, рыбкой нырнул в траву… Они вместе бросились смотреть, куда показывает стрелка, столкнулись плечами. — Эй, ну ты что! — Тихо, не столкни! Теперь им ужасно важно было идти именно в том направлении. И почему ещё верилось, что сучок правду сказал, потому что он болото не выбрал, а показал налево, немножечко в горку… Семьянин хотел поднять его. — Не трогай! — быстро сказала Маринка. — А чего? Возьмём на память. — Не, — она покачала головой. — Может, здесь ещё кто-нибудь заблудится, тоже дорогу узнает. — И улыбнулась. Семьянин был почти прощён. Ну, а заблудились… Да подумаешь! Зато уж завтра разговоров будет, охов-ахов: «Маринка — всегда с ней что-нибудь такое…» И они опять пошли: сперва весело, а потом просто шагали — и всё. Лес не светлел и не темнел, он продолжал быть, какой был: еловый, не слишком частый, иногда с островами молодых колючих зарослей. Очень хотелось, чтобы уж скорее что-нибудь произошло. Но ничего не происходило. Они давно замолчали, они шли и шли. Лес был всё такой же — не то чтоб очень глухой, а какой-то безнадёжный. Бесконечный, как осенний дождь.* * *
Наконец это произошло. Событие! Значит, ура! Значит, всё-таки они спасены. А заметил, между прочим, опять Семьянин: не такой уж он глупый парень!.. Вдруг взял Маринку за руку: — Марин! Она метнула в него две молнии. — Да нет же, Марин! — Он топнул ногой: — Ты видишь? И тут Маринка поняла: он топает, чтобы ей показать — земля-то под ними твёрдая. Они на дороге стоят! — Ну куда? Направо или налево? — спросил Семьянин. Дорога, словно граница, пересекала их направление почти точно поперёк. Выходит, надо было им всё-таки взять тогда жребийную палочку. Маринка нахмурила брови — вот угадать бы! Направо — вверх, налево — под горку. Она сказала: — Налево! Семьянин кивнул. Снова перед Маринкой замелькали блистательные картины завтрашних охов и ахов… Скоро, однако, дорога разбилась на несколько тропинок. Они выбрали первую попавшуюся, пошли по ней, удивительно ненадёжной, длинной, виляющей перед каждым деревом тропе. Не было никакого смысла идти по ней. Напрямую получилось бы явно короче. Но что это была бы за прямая и куда бы она повела? А в тропинке хоть какая-то была надежда… Потом Маринке показалось, что это уже вовсе не тропинка, а просто след высохшего ручейка. — Чего-то не то, Марин. Давай вернёмся. Она готова была буквально сжечь его своим презрением. Однако ничего не сказала. Прислонилась к жёсткому стволу: идти назад было, наверно, правильно, но слишком уж далеко и в горку… Ну и лес же столпился вокруг неё! Даже ни одного пенька кругом не было, ни одной бумажки, ни одного окурочка… Словно тут отродясь людей не бывало. — Ты о чём думаешь? — спросил Семьянин. — Ни о чём я не думаю. Я отдыхаю! — На. Хочешь? — Семьянин вынул из кармана что-то завёрнутое в газету. И на вопросительный Маринкин взгляд сказал: — Хлеб, три куска. Маринка хотела зашвырнуть этот несчастный кулёк, но опять сдержалась, только презрительно отвернулась от Семьянина. — Хорошо бы сейчас зима была, — сказал Семьянин. — Это ещё зачем? — Она глядела куда-то в глубь леса. — По следам бы нашли… — Ты что, совсем?! — закричала вдруг Маринка. — Вот ещё дуб на мою голову! Зимой холодно, ты слыхал про это, житель степей?! Ей хотелось разреветься, раскричаться, убежать. Но кричать среди пустого темнеющего леса страшно, а бежать и того страшней. Потому что бежишь, бежишь, деревья мелькают… А как остановишься — вот жуть-то охватит! — Ты не отдохнула ещё? — спросил Семьянин. — Тебе какое дело?! — Пошли бы тогда. Надо… надо бы место поискать. — Какого тебе ещё места не хватает? — Это… Марин… — Он посмотрел на неё словно виновато. — Ну… в смысле для ночлега… — И тут же перебил себя: — Только ты… Нас искать только завтра начнут. По-серьёзному. Родители часов в десять забеспокоятся. Ну и вот… Пока чего… Пойдём, пожалуйста, Марин. Солнце, как и они, уже давно заблудилось в бесконечном лесу. Просвечивало к ним издали, сквозь миллионы стволов и веток. — Ну и куда мы опять пойдём? — На дорогу, — сказал Семьянин. — Зачем? — Я, знаешь, подумал: там же всё-таки что-нибудь есть. В другой стороне. — Эх ты, следопыт! Я и то поняла! По твоей дороге сто лет никто не ходил. На тот свет твоя дорога! — Это правильно, Марин. Но всё равно там чего-то должно быть. — Мне холодно! — презирая себя и почти плача, крикнула Маринка — слабое эхо мелькнуло где-то по кустам. — Холодно, да? — Семьянин осмотрел её с ног до головы: — У тебя ноги мёрзнут, Марин… Конечно: юбочка какая короткая. — У вас в степях такие не носят? — У нас же погода теплей, — машинально ответил Семьянин. А сам в это время… — Ты что, дурак! — закричала Маринка. — Да не бойся. У меня ещё трико под низом. — Какое трико?! — Сейчас увидишь. — Не смей! — Маринка отвернулась, но слышала, как продолжает позвякивать ремень. — Я тебе приказываю! — Возьми штаны, Марин… Что, думаешь, я голый? Да пожалуйста, посмотри. — И вдруг закричал: — Ай! Ай! Маринка испуганно оглянулась — Семьянин улыбался. Он был в синих тренировочных штанах. А свои линялые мешковатые джинсы держал в руке — протягивал Маринке. — Дурак ты набитый! — Не дурей тебя! — Семьянин опустил голову. — Чего ты меня дураком обзываешь? Чего я тебе плохого сделал?! — И потом как приказал: — Надевай штаны! И опять бездомное эхо выглянуло из-за деревьев. А лес всё темнел… — Отвернись хотя бы! Глотая слёзы, она влезла в Семьяниновы джинсы. Секунду подумала: юбку внутрь или сверху… Наверное, лучше внутрь. Стала затягивать ремень… Хм, ну естественно: на ремне у этого жирняги и в помине не было дырочки для её талии. — Эй! — позвала она робко и тут подумала, что даже не знает, как его зовут… Вася, что ли? Семьянин сразу понял, в чём дело. Сунул руку в карман джинсов — надетых теперь уже на Маринку, — вынул нож, проколол в ремне новую дырочку. Потом встал на колени, подвернул ей штанины. — Ну, порядок? Маринка могла только догадываться, какой ужасающий вид был у неё в этом «комбинезоне»! Он строго взял её за руку и повёл, штаны шмурыгали по траве. Она плелась сзади, не выдёргивая руки — как маленькая. Куда они опять шли и зачем, Маринка не знала. И не спрашивала: идут — значит, ещё есть какая-то надежда. Вот если остановятся… Вихлявая тропинка снова вывела их на дорогу. Это действительно была старая дорога, странная. Еловые корни накрепко скрутили её деревянными узлами. И ни следочка кругом… Маринка шла, спотыкаясь о твердокаменные эти скрюченные еловые пальцы. Уже сильно смеркалось. Ещё немного, и звёзды высыплют над лесом. Тогда уж совсем конец — ночь! И тут неожиданно они вышли на поляну. Сразу лес расступился. Они чуть ли не побежали, словно дорога резко прыгнула под горку… И остановились у самого края. Это была как бы маленькая страна пеньков. Ни одного дерева. Даже ни кустика. Только пни! Семьянин отпустил Маринкину руку, прошёл по поляне вперёд, потом влево, вправо, вернулся: — Ты чего стоишь? Садись, Марин… Вон сколько… стульев. Маринка села на пенёк. И тут же почувствовала, что приклеилась к смоле. И Семьянин это каким-то образом понял: — Да сиди-сиди, ерунда. Они старые уже, джинсы. И тоже сел. — А дальше? — спросила Маринка. — Мы пойдём? — Не, Марин. — Он старался говорить как можно аккуратнее. — Мы здесь побудем. Дорога, понимаешь, я посмотрел… а её нету — она просто сюда вела. — Как же… мы здесь побудем? — Переночуем… Только ты не бойся! Вон какой стожище, видала? Посреди поляны действительно громоздился высокий пузатый стог. — Сено, понимаешь ты, — объяснил Семьянин. — Закопаемся — и тепло. Стараясь быть деловитым, он поднялся, стал ходить по поляне, словно ничего ужасного не происходило. Зачем-то несколько раз наклонился. Маринка сидела приклеенная к пеньку, словно какая-то муха… Приклеенная ко всему этому лесу! И думала она только об одном — лишь бы не разреветься. Но знала: слёзы её совсем рядом… окружили глаза. Как тьма — настоящая, густая! — окружила эту поляну, тускло освещённую куском неба, что висел наверху. Маринка запрокинула лицо. Был у неё такой способ в детстве: чтобы не заплакать, она поднимала лицо, и слёзы оставались в глазах, никуда не вытекали… Она увидела небо, то самое пепельное небо, что кое-как освещало поляну. На нём уже проступило много звёзд. И это значило, что теперь — под звёздами, в чёрном лесу — им никак не пробраться к выходу. Маринка с силой вдавила ладонь в острый край пенька и так сидела — чтоб не очень себя жалеть. Она узнала звёзды. Это были те же самые звёзды, которые можно увидеть каждый вечер с их балкона. Наверное, на них смотрела сейчас и Маринкина мама, ожидая, когда же наконец под аркой мелькнёт знакомый свитерок… И тут Маринка уж больше не могла сдержаться, из глаз её, словно из переполненных блюдец, закапали крупные слёзы.
В обнимку с какими-то ветками, не то сучьями подошёл Семьянин и остановился перед Маринкой, не решаясь свалить поклажу на землю. Маринка сунула руку в карман, совершенно забыв, что это карман чужих штанов. Вынула платок, посморкалась. И тут сообразила, чей это платок, и заметила, что он довольно чистый — для мальчишки, конечно. Ей стало стыдно и смешно. Семьянин всё стоял, обнявши свои ветки. — Ну чего ты держишь-то их? Клади. Семьянин свалил ветки прямо у Маринкиных ног. — Сейчас костёрчик заделаем. Точно, Марин? — сказал он голосом, каким по радио обычно приглашают на зарядку. Потом достал коробок, зачем-то чиркнул спичку, поднял её над головой… Тут же оба они поняли, что это сейчас единственный огонёк на всей тёмной поляне, среди всего бесконечного леса. Спичка догорела почти до самого донышка. Семьянин быстро бросил её, наступил на то место ногой. И сразу вдруг стало так темно, так темно и тихо… — Сейчас костёр распалим… Точно, Марин? — шёпотом сказал он. — Не надо костёр! — также шёпотом отвечала Маринка. Ей представилось, как вся темнота и все страхи этого громадного леса сбегутся и станут вокруг их костра невидимым кольцом. И особенно много будет стоять их у неё за спиной. — Нам чего, без костра плохо?.. И он кивнул в ответ. Сколько-то времени они просидели молча и неподвижно: Маринка — приклеенная к своему пеньку, Семьянин — на куче хвороста. А сколько так прошло — неизвестно. В ночном бесконечном лесу время не угадаешь. Но постепенно они поняли, что и среди темноты всё-таки не так уж темно. Им смутно видна стала их поляна, бледные лысины пеньков, стены леса вокруг, которые все были обмазаны чернотой. И оказалось не так уж страшно — надо только громко не говорить… — Ты есть хочешь? — шёпотом спросил Семьянин. И вдруг Маринка сообразила, как его зовут на самом деле — Гена. — А у тебя разве чего-нибудь есть? — спросила она и вспомнила его кулёк. — У меня есть знаешь что… хлеб и вода. — Из речки, что ли? — Нет, во фляге. — В какой фляге? — В простой полиэтиленовой фляге. Маринка взяла из его рук плоскую белую бутылочку. Она была чуть тепловатой оттого, что лежала у него в куртке. Сквозь ночной мрак Маринка не могла разглядеть его лица: что же это за непонятный такой человек? — А ты… А зачем у тебя всё есть? Вторые штаны, спички, вода… Вот, например, флягу ты взял зачем? — Ну как, Марин… Видишь вот — пригодилась. — А если б не пригодилась? — Приехал бы домой да вылил. — А хлеб? — А он же всё равно с обеда пропадал. — Почему пропадал? Его птицам хотели отдать. — Он тебе оказался нужен! — Ты чего, всегда такой… осторожный? Семьянин долго молчал. — Я ж тебя не заставляю, правда?.. Не хочешь — не ешь! Теперь они оба молчали, сердитые друг на друга. Звёзды по-осеннему ярко светили над ними и перемигивались. До чего ж это было глупое для ссоры место — ночной лес! И когда Семьянин снова протянул Маринке хлеб и флягу, она взяла. Правда, всё-таки подумала: «Как в карцере!» Но тут же стала есть, отхлебнула из фляги. Вода была чистая и чуть-чуть пахла водопроводом… домом. Маринка отпила ещё, посмотрела на Семьянина. Он тоже ел хлеб. Маринка протянула ему флягу. Так они ели, передавая фляжку друг другу. И это было даже немного похоже на какую-то игру. Наконец Маринка съела свой ломоть, всё до крошки. — Будешь ещё? — спросил Семьянин. — А тебе? Он отломал немного, остальное протянул Маринке. Это была горбушка. Где-то, в какой-то книге, она читала, что горбушки особенно вкусны. Она-то лично хлеб не любила, почти не ела его. Потому что хлеб — мучное, а ей поправляться ни к чему. Сейчас она вспоминала это как бы со стороны, как бы не про себя. Хлеб был чуть присохший, но откусывался и жевался легко. И если б нашлось ещё кусочка два, Маринка бы их очень даже съела. Однако больше хлеба не было. Она протянула Семьянину флягу — там ещё плескалось что-то на донышке. — Не надо, Марин. Допивай. Словно речь шла не о воде, а о чём-то более важном. Но сейчас и вода была важна для них. Маринка помедлила секунду — Семьянин решительно замотал головой. И она допила последний, чуть-чуть пахнущий домашним глоточек. Услышала, как он пробежал вниз, в живот. И почти сразу же после этого поняла, что замёрзла. Конечно, когда холодное ешь… Она невольно сжалась, нос уткнула в коленки. — На, Марин… Да бери, пока тёпленькая! Она почти не сопротивлялась, когда он осторожно положил ей на плечи свою куртку и стал застёгивать. Куртка, конечно, оказалась ей велика. Но сейчас это было даже лучше — теплее, больше места, куда спрятаться. А в темноте всё равно не видно. Она подняла воротник, закуталась в куртку, как в шубу. Она бы сейчас и от шапки не отказалась. Но шапки не было даже у запасливого Семьянина. — Пойдём спать, Марин. Опять ей представилась вся невероятность их положения. Мама, ванна, электрический свет, утреннее какао — это всё было в пятидесяти минутах езды на электричке. А на самолёте так вообще, наверное, две секунды лететь. Как быстро, оказывается, человек ко всемупривыкает. Сейчас она будет спать в сене. Даже туристы — а она никогда не была туристкой — и то спят в палатках. А она будет в сене. Как древние, что ли?.. Или как пастухи в ночном… Нет, в ночном — это когда лошадей пасут… Они подошли к стогу, и Маринка потрогала его. Сено было и колючее и мягкое одновременно. И шуршало под рукой. Семьянин разбежался, подпрыгнул и быстро вскарабкался на стог. Сверху, почти невесомо, на Маринку упал клок сена. Она мотнула головой и улыбнулась сама себе: «Как лошадь в зоопарке!» Сено бесшумно свалилось к её ногам. Она стояла под стогом и ждала, и слушала, как он там шуршит наверху. Ей было почти совсем не страшно, а только как-то странно — стоять и ждать его. — Эй! — Сейчас, Марин! — Сразу зашуршало сильнее. — Ты теперь знаешь чего — ты разбегись, подпрыгни и руки протягивай. А я тебя поймаю, ладно? Ей стало страшновато. Но не так, как раньше, не по-настоящему, а так, когда и страшно и смешно. — Не бойся, Марин! — А если не поймаешь? — Поймаю, Марин! Она отошла немного, разбежалась, подпрыгнула у самого стога, забрыкалась, забуксовала ногами, сено клочьями летело вниз. И тут же Семьянин схватил её за руки. Ещё секунду они боролись с земным притяжением, но потом оно уступило, ослабло, и Маринка оказалась на вершине сенного холма. Сидеть здесь было пружинно и мягко. Они дышали, улыбаясь друг другу. Воздух был холодный, чистый. Всё их владение, вся поляна расстилалась перед ними. — Ложись, Марин. Я тебя закопаю. — А ты? — А я сам потом закопаюсь… Погоди. Ты под голову себе пригреби немного. Чтоб вроде подушка получилась… Глаза закрой. Он стал валить на неё сено — невесомое толстое одеяло. Колкие травинки и семена сыпались Маринке на лицо, на губы. Хорошо, что он велел ей глаза закрыть. — Эй, тихо! Ты меня так утопишь! — Не, Марин, ни за что не утоплю! — Голос у него был счастливый. — Тепло тебе?.. Знаешь, ты какая сейчас смешная! Наступила тишина. Маринка осторожно вытащила из-под одеяла руку, провела по лицу, открыла глаза. Он стоял перед ней на коленях и улыбался. — Ну чего ж ты, закапывайся. — Сейчас. — Нет, закапывайся, — сказала она неуверенно, — а то… замёрзнешь. Он смотрел на неё — хмурил брови и улыбался. Маринке так хорошо было и совсем не страшно. Она закрыла глаза. Наверное, целую долгую минуту она ничего не слышала, потом он зашуршал сеном. Но не громко, а как-то аккуратно. Наверное, ему было неудобно перед Маринкой, и это ей нравилось. Потом стало тихо. Маринка открыла глаза — она была одна, и над нею висело звёздное небо. — Ты где, Ген? — Я здесь. Его голос был совсем рядом. Их отделял друг от друга лишь барьерчик из рыхлого сена. Его можно было бы проткнуть рукой так же легко, как пустой воздух. Но, конечно, они лежали не шевелясь, даже не шелохнувшись. Будто их вообще здесь не было. Снизу, из самой глубины стога, приполз к ним слабый-слабый шорох, словно кто-то очень маленький пробирался или просто шевелился там внутри. — Это что, Ген? Это… — Не! Не бойся, Марин. Это просто мыши, и всё. — Мыши?! — Ты не бойся, Марин! — Сразу его голова вынырнула из-за барьера. — Ну и что — мыши? Вот если б крысы!.. А крысы в лес не пойдут. Им тут есть нечего. Странное это было успокоение. И никому бы, наверное, не могло прийти в голову успокаивать её таким образом. И если б кто-нибудь другой это сказал, да она бы… А Генка (впервые она про себя назвала его Генкой!)… а Генка сказал, и она не боится. «Потому что… потому что знаешь почему? Потому что он всегда — целый этот день, и вечер, и ночь — ни разу тебе не наврал. Одну только правду говорит. И как он скажет, так и получается». Внизу осторожно шуршали мыши, как видно не боясь мальчишки и девчонки, которые лежали на верху стога. Это же были полевые, лесные мыши. Они и человеческого голоса-то никогда не слыхали. И не знали, что от людей, того и гляди, получишь мышеловку, или отраву, или битые стёкла в норах… Им от роду, наверно, было не больше чем по полгода: весной родились, а теперь, к осени, стали взрослыми, опытными мышами. Хотя на самом деле никакие они были не взрослые и не опытные. Просто маленькие серые мышки, которые бегают по своим мышиным улицам и шуршат. И мальчишка с девчонкой тоже перестали бояться их. Они разговаривали в четверть голоса, не слушая никаких шорохов. — А ты когда-нибудь так ночевал? — Конечно. Сто раз. — Потом он подумал и сказал: — Ну не сто, а раз пять ночевал. Только не в лесу. У нас же там… — А у тебя почему всё было? — Не знаю… просто так. — И он замолчал, словно виноватый. — Да нет, Ген! Наоборот, хорошо! Но как-то… удивительно. Как будто ты знал, что мы заблудимся! — Хм… Если бы я знал! — сказал он мечтательно. — А ты рад, что мы заблудились? — Рад, — ответил он очень тихо. — А я тоже… рада! Она повернула лицо к висящей почти над нею Генкиной голове. И улыбнулась. И неизвестно было, видел он в темноте эту улыбку или нет. А Генка мучительно чувствовал, что должен что-то сказать ей сейчас. Но ничего, буквально ничего достойного этой минуты не приходило ему в голову. И он только смотрел, смотрел на неё, мучаясь так, как, наверное, никогда ещё не мучился в своей жизни — ни у зубного врача с застуженным зубом, ни перед отцом, когда однажды приволок тройку в четверти за поведение… Из-за своей огромной муки он почти даже не замечал, какая на самом деле удивительно красивая девочка эта Маринка! — Ты ложись, Ген. Ты чего?.. А то ещё простудишься. — Она сказала это как можно лучше, чтобы он уж обо всём догадался. — Ложись и спи… — Нет, Марин, ты сама спи! Ты спи, а я буду сидеть… Я вообще спать не буду! Маринка не знала больше, что говорить. Она последний раз посмотрела на звёзды, на Генку среди звёзд, потом уткнулась носом в его куртку, укрыла воротником ухо… Ещё немножко она слышала, как внизу шуршат мыши, а потом уснула. И наверное, это был самый хороший сон за всю её прошлую жизнь. А может, и за будущую.
Из разговора в электричке
— Только ты читай незаметно, Борь! — Ладно, давай. — Не, ты повернись, как будто дремлешь. А я тебя прикрою. — Да никто же не знает, что ты… — Мало ли… А потом будут хохмить… Ну ладно, на… Примечание. Далее мы даём текст, который стал читать один из участников этого тайного разговора (шестой «В» возвращался из питомника, а эти двое сидели в углу на отдельной лавке). Текст был хотя и на простых ученических листочках, но весь исчёрканный, переправленный, как рукопись настоящего литератора. На листках было написано следующее:СТРАННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ Роман 1 Ветреным туманным утром в последних числах сентября по улице, стараясь слиться с серыми стенами домов, шёл человек. Стрелки на часах всего мира едва только доползли до пяти. Лучи света еле пробивались сквозь тяжёлые глыбы туч, словно капли воды в глубоких подземных пещерах. Машины проносились по автострадам, стуча в тумане жёлтыми кулаками фар. Но всё напрасно! Они выскакивали из белого мрака неожиданно, как привидения. Редкие прохожие долго стояли у края тротуара, не решаясь перейти улицу. Опасное это было путешествие, чёрт подери! Но тот человек, который шёл крадучись вдоль серой ленты немых домов, наверное, хорошо знал, что делает. Он вдруг решительно шагнул к краю тротуара. Как видно, холод и ветер сильнее других донимали его. Он ведь был в тонкой суконной куртке тёмно-синего цвета. Он не остановился боязливо у края тротуара, как другие, а быстро пошёл через улицу. Человек в синей куртке открыл дверцу, сказал шофёру несколько слов. В тот же миг машина сорвалась с места и пропала в тумане. Было пять часов семнадцать минут. Ветер рвал с ветвей остатки последних листьев.
2 В городе исчез человек. Майору Громову не было даже известно его имя (зачёркнуто). Было известно только имя — Михаил Кронштайнов. Вот что мог сообщить единственный свидетель исчезновения аспирант Саша Чунин. — Я в это утро, как и всегда, — Саша гордо усмехнулся, — бегал трусцой. Если вы не делаете этого, дорогой… э-э-э, — он вопросительно посмотрел на погоны Громова, — капитан, то настоятельно вам рекомендую!.. — Майор! — поправил Громов. — Но это не важно. Прошу ближе к тому, из-за чего мы здесь встретились с вами. — Итак, на перекрёстке улиц… Громов моментально нажал клавишу записывающего устройства, бесшумно побежала лента. Она записывала каждое слово свидетеля. Потом по подземному кабелю они летели в специальную машину, которая занимала небольшой особнячок на одной из тихих пригородных улиц. Машина неслышно урчала, перемалывая несвязные речи свидетеля, расставляя его запутанную мысль в нужном порядке. Громов задавал будто незначительные вопросы. Блестящий молодой физик только посмеивался про себя. Но вопросы опытного майора незаметно извлекали сведения из самых тёмных закоулков памяти. Ведь человеческая память хранит сведения о таких происшествиях… (зачёркнуто). Ведь если бы мы только умели хорошо напрягаться… (зачёркнуто). А гигантская машина всё послушно перерабатывала. Но всё-таки сведений было мало. Вот что сумел записать Громов в досье на портативной пишущей машинке: 1) машина была легковая, серого цвета («Ловко задумали, — усмехнулся Громов, — под цвет тумана!»); 2) человек был среднего роста, волосы коричневые, глаза коричневые, нос простой, царапина на щеке; 3) последними словами жертвы было: «Дом восемь, квартира тринадцать». И после этого машина исчезла. «Хм! — усмехнулся майор Громов и закурил трубку… (зачёркнуто) новую папиросу… (зачёркнуто) сигарету с фильтром. — Но ведь всего они не могли учесть! Следы обязательно остаются!» Майор Громов сделал глубокую затяжку и вновь погрузился в размышления. На столе ярко горела лампа. За окном стояла стеной ночь.
3 Николай Карелов возвращался из командировки. Он очень устал, так как летел на самолёте. А до самолёта прошагал в высоких таёжных сапогах добрый десяток километров по болоту. И потом ещё много часов летел на самолёте, долго ждал автобуса. Наконец он у родного дома. Николай легко нёс в загорелой руке тяжёлый чемодан. Он был геологом. Вдруг Николай остановился. Его остановил необычный след протектора. Сначала была чёрная полоса в 20 метров. «Кому-то нужно было очень резко затормозить, — мгновенно подумал Николай. — Но зачем?» Он быстро осмотрел место происшествия. Движения его сразу стали решительными и уверенными. Мало кто знал, что Николай интересовался криминалистикой. Множество книг было им прочитано. Вот и сегодня он как раз собирался зайти к своему старому другу майору Громову за новыми книгами. Николай осмотрел след. «Так, ясно, — думал он, — здесь автомобиль простоял несколько минут. Вот две капли масла». Чёрными точками лежали они на асфальте… (зачёркнуто). Потом автомобиль тронулся дальше. Николай резко выхватил из кармана маленькую, но очень мощную лупу. Стал на колени прямо на дороге. Следы протектора были явно необычные. Они были со стальными шипами в покрышке. На асфальте острый глаз лупы заметил едва различимые царапины. «Видимо, это особый вездеход, — подумал Николай. — Откуда ему взяться в большом городе?!» Ноги сами собою повели молодого геолога к телефонной будке. Он быстро набрал знакомый номер: «Алло! Алло! Попросите, пожалуйста, майора Громова!»
Продолжение разговора в электричке
— Э! Борь! Уже прочёл? Понравилось тебе? — В принципе нормально… — Как это «в принципе нормально»? Не понравилось? Ты, пожалуйста, говори. Я обижаться не собираюсь… если ты честно! — А чего мне врать, Коль?.. Вообще у тебя интересно написано. Только много этой… бодяги. — Почему бодяги? — Ну в смысле неточно. — Это же литература. Я же имею право на вымысел, ты что, не слыхал? Любой учебник почитай, там это сказано. А в основу положен подлинный факт. Помнишь, у нас в том году Мишка Корнеев из дому убежал… Тоже: надел форму школьную. А у меня как раз написано: «В тёмно-синей куртке». — Так ты про Корня?! — Ну да! — Во блеск! — В том-то и дело! — Но всё равно, Коль… Понимаешь, это не бывает так… Ты постой. Я тебе прямо. Только ты не обижайся. Вот гляди, да? У тебя говорится: «Ветреным туманным утром». Если туман, ветра же нет. А если ветер, так нету тумана. Потом ты говоришь, что стрелки на часах всего мира… Какого всего мира-то? Время везде разное! Понял? Потом, какой дурак будет бегать в пять утра? — Ну это уж мог. Он же физик… шизик. — У меня отчим физик. Попробуй его подыми! — Ну это… Мало ли! — Да вообще-то конечно. Но как-то подстроено получается, чтоб специально для детектива. И фамилия какая-то ненормальная. Кронштайнов — таких и фамилий-то никто не слыхал. Потом, с этими бесшумными устройствами… Машина решающая, кабель подземный… Ерунда, Коль. Дальше, этот Карелов. Это ты, что ль? — Почему обязательно я? Просто прообраз. — Ну откуда у него лупа оказалась? — А что ж, не могла оказаться? — Да могла, Коль. Но опять всё подстроено. На соплях! Ты только не обижайся! Вообще-то интересно…История вторая. Отстающая Лаврёнова
А эта история началась ещё до того, как знаменитая Маринка Оленина заблудилась в бесконечном лесу. Но все главные события происходили уже позднее — после того как Гену и Маринку нашли (на следующий день), после того как они торжественно вошли под своды родного класса. И народ, между прочим, заметил: что-то изменилось в нашей Мариночке. «Пережитое делает человека старше и мудрее» — как выразился известный острослов Лёнька Шуйский по прозвищу Князь. Но когда он хотел ещё что-то там произнести сверхвесёлое, бывший новичок Гена Стаин оттёр его плечом и тихо сказал: — Ты не лезь к человеку, я тебе честно говорю, понял? — И добавил — может, не очень к месту, но вполне доходчиво: — Я боксом занимаюсь. Однако не о том эта история, не о Гене и Маринке. Хотя о них мы ещё узнаем кое-что важное, только в другом месте. История эта тоже о девочке, только совсем не такой везучей, как наша Мариночка. Эта девочка самая, может, несчастливая в классе, самая-самая из тех, что вечно на последних ролях. И прозвище у неё непочтительное — Лаврушка. И застаём мы её в такой момент жизни, в каком никому из нас не дай-то бог оказаться!* * *
Чёрная доска, длинный ряд ярко-белых букв и цифр: равняется… Чёткая эта запись начинает расплываться, растекаться. Ольга поспешно смаргивает. Смаргивает ещё раз: лишь бы не заплакать.
— Ну так что, Лаврёнова? — слышится ровный, буковка к буковке, голос Елены Григорьевны.
Ольга тоскливо ползёт глазами по строчке, но не находит крючка, за который можно зацепиться, который можно открыть, чтобы из примера сразу посыпались разные алгебраические значки, как мелочь из кошелька.
Вот, например, Коровина Люда так хорошо умеет находить эти крючочки. Стоит-стоит, склонив голову набок, словно вторая Елена Григорьевна, вдруг скажет:
«Сначала надо разложить множитель 3a2b2. Потом надо вычесть, раскрыть скобки, умножить и сложить».
«Верно, Люда! — скажет Елена Григорьевна весело. — Ты решай, решай!»
И Ольга, которая, естественно, никогда не успевает на лету схватывать и понимать коровинские слова, теперь следила бы, как раскрывается кошелёк, полный алгебраического серебра. Цифры сыплются на доску. Мелок Коровиной едва успевает за ними!
А Елена Григорьевна обязательно заметит Ольгин взгляд и скажет суховато:
«Ребята, ребята! Решаем самостоятельно… Лаврёнова!»
равняется… Чёткая эта запись начинает расплываться, растекаться. Ольга поспешно смаргивает. Смаргивает ещё раз: лишь бы не заплакать.
— Ну так что, Лаврёнова? — слышится ровный, буковка к буковке, голос Елены Григорьевны.
Ольга тоскливо ползёт глазами по строчке, но не находит крючка, за который можно зацепиться, который можно открыть, чтобы из примера сразу посыпались разные алгебраические значки, как мелочь из кошелька.
Вот, например, Коровина Люда так хорошо умеет находить эти крючочки. Стоит-стоит, склонив голову набок, словно вторая Елена Григорьевна, вдруг скажет:
«Сначала надо разложить множитель 3a2b2. Потом надо вычесть, раскрыть скобки, умножить и сложить».
«Верно, Люда! — скажет Елена Григорьевна весело. — Ты решай, решай!»
И Ольга, которая, естественно, никогда не успевает на лету схватывать и понимать коровинские слова, теперь следила бы, как раскрывается кошелёк, полный алгебраического серебра. Цифры сыплются на доску. Мелок Коровиной едва успевает за ними!
А Елена Григорьевна обязательно заметит Ольгин взгляд и скажет суховато:
«Ребята, ребята! Решаем самостоятельно… Лаврёнова!»
* * *
Ольга опять и опять смотрит на молчащий, запертый пример. «А ларчик просто открывался»… Вот тебе и просто! — Ну как, Лаврёнова? Будешь отвечать или будешь что? Ольга упирает глаза в пол: тёмно-коричневое море, сбоку уже успели всего за месяц учёбы вылезти живые доски — небольшой облезлый кусочек, похожий на Южную Америку. Около две бумажки, две льдины. Сейчас над классом витает такой всем известный скучающий шумок. На последней парте Полозова подзубривает физику (следующий урок физика). Петров решил и тянет руку. А Коровина сидит ровненько и глядит на Елену Григорьевну, руки не поднимает: и так известно, что она решила. Кто-то кому-то мигнёт, кто-то кому-то шепнёт словечко, там скрипнет нетерпеливо парта… Скучающий шумок… Ольга его не слышит. Она знает о нём, но не слышит. Она всё стоит с опущенной головой, перед нею коричневое, чуть поблёскивающее море, сероватая Южная Америка, две льдины. А над головою горит раскалённая строка примера. — Ну как, Лаврёнова? Будешь решать или будешь что? — Будет что! — Ольга узнаёт смеющийся голос Шуйского. — А слово боярина — закон! — тут же всовывается голос Петрова. По классу проносится шелест смеха, будто воробьи взлетели все разом с одной яблони. — Что-то ты развеселился, Петров, — говорит Елена Григорьевна слишком приветливо. — А ну-ка иди сюда и помоги нам. Снова стая воробьёв с яблони. Затем Ольга слышит, как Петров встаёт из-за парты. — А ты, Лаврёнова, садись. — Тут Елена Григорьевна как бы разводит руками. — Опять плохо! Не поднимая головы, Ольга идёт к себе на место. — И дай, пожалуйста, дневник. Кстати, я всегда прошу выходить к доске с дневниками. Ольга садится за парту, затем встаёт: — Я его дома забыла. — Вот как? — Пауза. — Хорошо. Принесёшь после шестого урока. Я сегодня в школе до трёх тридцати. Класс решает пример. Ольга сидит над пустым тетрадным листом. Только бы не заплакать. А дневник всё равно дать придётся. Она ведь не забудет, Елена. И на следующем уроке спросит, и через урок… Вдруг Ольга поднимает руку. — Что, Лаврёнова? Дневник отыскался? Это уж зря она!.. Хотя раз ты обманываешь, то можно над тобой и поехидничать. — Ну так что случилось-то, Лаврёнова? Мы ждём. — Можно выйти? Пауза. Ольга стоит, уперев взгляд в парту. — Я сейчас начну объяснять новое… Ольга молчит. — И опять ничего знать не будешь… Ольга молчит. — Ну что ж, иди!.. Наверно, хотела добавить: «Коли невтерпёж». Но промолчала. Или постеснялась. В уборную! Здесь хоть нареветься можно вдосталь… Нет, нельзя! Нос распухнет, глаза будут красные — сразу заметят. Она поплакала самую малость. Только самые горькие слёзы сверху выплакала — и всё. Глаза насухо промокнула платочком, нос высморкала. Посмотрела на любимые свои новенькие часики — до звонка пять минут. Рукой махнула и облегчённо и обречённо: не пойду уж! Внизу на спортплощадке шёл урок физкультуры. Мальчишки гоняли в баскетбол изо всех сил, стараясь побольше наиграться за оставшиеся минутки. Степан Семёнович, улыбаясь, следил за ними. А девчонки прыгали через верёвочку. Но поспокойнее, потому что думали, что мальчишки на них всё же поглядывают. Наверное, пятый или четвёртый класс… Ольга усмехнулась, покачала головой: всего только год разницы, а малыши малышами!.. Но за секундную эту, крохотную радость опять её стали грызть тоска и тревога. Ей представился сегодняшний вечер. Отец: «Ну как сегодня?» Ольга опустит голову и пожмёт плечами. Тогда отец сразу же, без спросу, откроет портфель и вынет дневник: «Так, значит. Разговелись! Слышишь, Наталья Борисовна?» Мама войдёт в комнату, глянет, сядет на стул, бессильно обронит руку, как Анна Каренина в фильме: «О господи! По какому? По геометрии опять?» «По алгебре!» — скажет папа со значением. «О господи, Оля! Ну до каких же пор…» И тут дверь приоткроется, в щели возникнет лисья мордочка Лёньки. «Сейчас же выйди!» — крикнет папа и зверски так двинет стулом по полу, что просто страшно сделается. И тогда мама тоже крикнет: «Прошу тебя, Георгий, не кричать!» «А я тебя прошу не кричать!.. Я совершенно не хочу, чтобы Леонид и Родион знали, что старшие в семье ссорятся». «И всё-таки, — опять крикнет мама, — это не повод для того, чтобы…» И они начнут ссориться. А Ольга будет стоять у окна сжавшись, сжав руками подоконник, боясь даже слезу обронить… В конце концов папа крикнет: «Ну это уж, Наташенька, я не знаю, что такое! В чём ты, собственно, меня обвиняешь?! Я работаю как вол!..» «Успокойся, — скажет мама презрительно, — никто тебя…» «К чёрту!» — И отец вылетит из комнаты, треснув дверью. И тогда мама сядет к столу, заплачет, обняв ладонями лоб. Ольге будут видны только мокрые её щёки. Потом она поглядит на Ольгу: «Вот что из-за твоих фокусов выходит, ты видишь?» И уйдёт.* * *
Однако остаток школьного дня прошёл без плохих происшествий. На истории она даже получила четвёрку. Могла и пять получить, да забыла одну совершенно ерундовую дату — просто голова не тем была занята. Тамара Густавовна колыхнулась на своём стульчике, могучая, грузная. Обычный школьный стул казался под нею игрушечным крошкой. Она колыхнулась, глянула на Ольгу огромными серыми глазами и произнесла низко, из груди, словно певица: — Молодец, Оля! Садись, давай дневник. Ольге неудобно было перед классом, и она сказала: — Я позабыла, Тамара Густавовна, дома… Хотя, наверное, никто уже ничего не помнил. А Ольга, вышло, своим враньём только себе хуже и сделала. Ведь всё равно после уроков придётся нести дневник Елене Григорьевне. Но если б Ольга не врала, то рядом с двойкой стояла бы ещё и четвёрка по истории — хотя и слабая защита, но всё же. После шестого урока она отправилась домой. Будто правда за дневником, будто за ней следил кто-то. Хотя, конечно, никто за нею следить не собирался. Ольга по привычке заглянула в холодильник. Есть совершенно не хотелось. Но когда у тебя младший брат, куда ж тут денешься! Она спросила: — Лёнь, кушал? — Не-а… Она разогрела, поставила две тарелки. Вот какое глупое положение: надо было спешить, но так спешить не хотелось! — Лёнь, уберёшь? Я в школу на полчасика. — Лана! — беспечно отозвался Лёнька. Он был весёлый и сговорчивый братишка. И учился хорошо. Если двойки и хватал, то по предметам, которые всегда можно выучить: по географии, по естествознанию… Не то что Ольга — по математикам! Беспечное согласие Лёньки, однако, мало что значило. Он такой — не со зла, а просто возьмёт и не приберётся. Скажет: забыл. И будет правда. Поэтому Ольга особым — спокойным, старшим — голосом произнесла: — Лёня, только пожалуйста. Ты понял? Лёнька поднял на неё удивлённые глаза. Откуда, мол, узнала, что хотел улизнуть? Улыбнулся: — Лана-лана, не бойся. Я ж сказал! Лёнька её слушался, и Родька её слушался. Когда гости приходили, мама даже иной раз просила: — Олёшь! Побудь с ребятами. И потом проследи, чтоб спали. А Ольга даже довольна бывает в такие вечера. Она и про Лёньку и про Родьку знает всё. Поэтому ей легко быть мягкой и требовательной, легко за ними следить. Родька, например, то, что делает в детском саду, дома ни за что не хочет. Не хочет, например, умываться. Ольга долго с этим мучилась. Наконец придумала рассказать про микробов. Родька тогда удивился страшно! Долго осматривал свои пальчики, потом говорит… Ох, не о том ей надо думать, не о том! Что она сейчас Елене-то скажет? Под мышкой завёрнутый в газету грелся дневник… А ведь когда-то и Ольга училась неплохо — в младших классах, до начала настоящих математик. А может, вернее сказать, до прихода Елены Григорьевны?* * *
В самом начале пятого класса она заболела не очень страшной болезнью — ветрянкой. Её сразу же изолировали от Родьки и Лёньки — отправили обратно на дачу. А погода стояла просто на редкость! Они жили вдвоём с тётей Машей. Так хорошо было: небо синело, тихо светило солнце, лист облетал. По утрам роса лежала густая, зернистая!.. Но проплыли двадцать дней осеннего рая. А потом как она пришла, да как всё началось… Она тогда много плакала, просто сама с собой, словно дура. Вернётся из школы, сядет, вспомнит дачу… Только и успеешь — уткнёшься в диван, чтоб Лёнька не слыхал, и плачешь, плачешь… За первую четверть её по математикам не аттестовали. Но могли бы и аттестовать — двойками. Тогда Елена удивлённо так и презрительно даже плечами пожала: «Ну, х-хорошо!..» Тамара Густавовна, огромная и добрая, восседала тут же: «Нет, вы сами подумайте, Елена Григорьевна. Я её, милая, знаю. Я классная руководительница второй год. Это способная девочка и очень чуткая. Для неё две двойки за четверть…» «А я тоже видела, как она занимается, — прозвучал чёткий голос Елены. — И я тоже составила себе мнение о её способностях». Ольга в это время стояла за дверью и всё слышала. Она тогда ещё не боялась двоек, она повернулась и пошла по коридору, решила: «Ну и пусть, подумаешь!» Но именно тогда ей и не поставили!.. Однако очень скоро она стала бояться двоек. Да так бояться, что не дай бог никому. Конечно, и самой обидно было. Но это как раз можно вытерпеть… Когда под дождём идёшь, под ливнем холодным, то сперва бежишь, стараешься укрыться хоть где-нибудь. А после рукой махнёшь и шагаешь по лужам, под проливной водой. Так же и с этими двойками… Привыкаешь. Но страшно было, что дома из-за этого начинало твориться! Ольга опять почувствовала под рукою картонный квадрат дневника. Ох, прямо ноги не идут в школу!.. И в отряде тоже, естественно, пошла всякая ерунда. Нет-нет да кто-нибудь и крикнет: «Опять из-за таких, как Лаврёнова, плетёмся!..» Открылся в школе балетный кружок. Ольга и не собиралась! Но вдруг выясняется: хоть бы и собиралась, её туда не примут из-за неуспеваемости. И вообще: в классе у них один звеньевой, другой в совете дружины, третий хотя б цветы поливает. А Ольге: «Тебе, Лаврушка, учиться надо, подтягиваться». Конечно: выберут, не выберут — не так уж и важно. Но когда совсем не выбирают и ясно, что не будут выбирать, тогда обидно, словно ты и в самом деле какая-то дурёха! Ну и Елена, конечно, придирается. Всё, наверно, не может забыть, как не аттестовала её в первой четверти пятого класса. Уж целый год прошёл, она всё помнит. Правильно Машка Цалова говорит, что двойки ставить — её любимейшее занятие! А у Ольги уже какой-то комплекс перед этими математиками. Начнёт учить — бьётся, бьётся. Эх! Всё равно же ничего не выучу… И так хуже, хуже с каждым днём запускает. Новую тему начнут — вроде она понимает. Хорошо, если тут Елена и спросить успеет. А пройдёт урок, другой, третий — кончено! Потому что всё новое в математике стоит на старом, на плечах у старого, как в пирамиде акробатов. А у Ольги никакой почти опоры нет. Чуть шаг ступила — ух в пустоту!..* * *
Тяжела ты, скрипучая школьная дверь… Тяжелы вы и круты, каменные ступени до четвёртого этажа. Сердце бьётся, как у старушки. Дверь в учительскую приоткрыта. Тамара Густавовна сидит, листает журнал, упрятав под собою стул, словно наседка цыплят. В углу у окна, за своим особым столиком, Елена Григорьевна — чёркает тетради. Другие учителя красным карандашом, а Елена — только чернилами, чтоб чётко всё было, ясно. Если б Ольга учительницей была, она бы, пожалуй, тоже так делала. Для ребят это очень важно — чёткость и чистота. Вот для Лёньки, например. Он потому, между прочим, папу плохо и слушается! Папа то кричит, то шутит. А с Лёнькой нужно говорить спокойным и ясным голосом, будто он такой же взрослый, как и ты… Но делать нечего! Стой не стой перед дверью — много не выстоишь. Ольга подняла руку, однако не постучалась, а только тихо спросила: — Можно? — Оля? — низким голосом протянула Тамара Густавовна. — Принесла? — как на машинке, отщёлкала Елена. Тамара Густавовна посмотрела на Елену Григорьевну, на Ольгу и всё поняла. — Ну давай, — сказала Елена, — давай, — и отложила ручку с красными чернилами: отметки в дневник полагается ставить синей ручкой. Ольга с тоскою смотрела на Еленины приготовления. А левой щекою чувствовала, как её греет добрый взгляд Тамары Густавовны. И тогда она сделала два шага, но так, что к Елене почти не приблизилась. А в то же время от Тамары Густавовны оказалась совсем близко. И под этой защитою своей любимой учительницы она вдруг решилась и сказала: — Елена Григорьевна, пожалуйста! Не ставьте мне двойку. Я исправлю, вот увидите. Выучу и… А то у меня дома… Елена подняла на неё пронзительные спокойные глаза: — Вряд ли это возможно, Лаврёнова… Тамара Густавовна двинула стулом и тоже стала смотреть на Елену. — Но это же абсолютно не выход! — сказала Елена. — С математикой у Лаврёновой худо, и я полагаю… — Дай мне, Оля, дневник, — мягко сказала Тамара Густавовна. — Я ведь тебе тоже четвёрку не поставила. Ольга неловко стала разворачивать газету. Она шумела и путалась, словно накрахмаленная. Наконец Ольга протянула дневник учительнице. — Ступай, — сказала Тамара Густавовна, и Ольга вышла. Она не помнила, как спустилась по ступеням, отодвинула тяжёлую дверь, прошла через школьный двор… Очнулась она только в парке. Пустой это был парк и старый. Говорят, он существовал ещё до революции. Огромные клёны чернели свободным строем по обе стороны аллеи. Под ногами шумели листья. Так хорошо было и так пусто. Целые километры свободных скамеек тянулись далеко вперёд. Сердце успокаивалось. Наступало счастье. И потому ещё, что сегодня ей ни о чём не надо было думать, ни о каких уроках: завтра с самого утра они должны были ехать в питомник, за город, сажать деревья. Она пришла домой под вечер — уже мама возвратилась с работы. Тихо открыла дверь своим ключом, и первое, что услышала, Лёнькин голос. Он распекал Родьку: — И запомни: шалить можно так, чтоб это было не обидно другим! Ольгины слова! Ею придуманные и сказанные. Так хорошо вдруг стало и весело. Она заглянула в мальчишечью комнату: — Здрасте! А что случилось? — Ура! Да здравствует! — закричал Родька. — Мама! Оля пришла! — И повис на Ольге. Из кухни выглянула мама, усталая. — Здравствуй, Оля. Поможешь?.. Где была? — Да нигде… В парке. — Случилось что-то? — Нет. А где папа? — Совещание у Козлова… А дневник покажешь? — Его нет… — Ольга замялась на секунду. — Он у Тамары Густавовны… Мама поджала губы, глянула на Ольгу: — Но ведь завтра всё выяснится, учти. Ольга спокойно пожала плечами. Такой вечер был хороший и тихий. Завтра — пускай, а сегодня — нет… И ещё была надежда на Тамару Густавовну. — Хорошо. Извини меня, — сказала мама.* * *
— Олька! Олька! Пойди сюда! Двор был полон народу, двор был полон весёлого переменочного шума. Нет, не переменочного даже, а такого, который ещё веселей. Двор был полон и осеннего солнца, последнего осеннего солнца. Может быть, самого последнего в этом году. Ольга, улыбаясь, смотрела направо и налево и не могла никак понять, кто это кричал. Лёнька, который всю дорогу до школы шёл с нею вместе, сейчас улизнул: не дай бог мальчишки из класса заметят! Ольга усмехнулась ему вслед. И тут наконец увидела: к ней, будто маленький упорный пароходик, пробивалась Машка Цалова. Щёки горят, косынка съехала набок. — Эгей! — громко сказала Ольга. — Ты чего грохочешь? Даже неизвестно, как они подружились. Ольга — человек довольно спокойный, а Машка — такой громкоговоритель. Кого хочешь и как хочешь отбреет. Ответы из неё вылетают, как из пулемёта. Её принцип: сначала сделать, потом подумать. А вот у Ольги как раз наоборот: сначала подумать, а потом… так ничего и не предпринять! Когда Ольга спросила: «Чего грохочешь?», Цалова должна была выпалить в ответ что-нибудь вроде: «Грохочу, раз хочу!» Но вместо этого она закричала на весь двор с пылающим, растерянным от волнения лицом: — Олька! Да погоди ты! Знаешь, что Лепёшка придумала?! Ольга даже вздрогнула. «Лепёшка» — так в школе кое-кто звал Тамару Густавовну. За то, что она полная. Но Машка, её подруга, никогда такого… — Ты что, с ума сошла? — Ольга тоже теперь растерянно и сердито смотрела на Машку. — Да ты слушай, умная! — А ты зачем так сказала? — Затем!.. Значит, так надо было!.. Эта твоя… — Она остановилась, но потом выкрикнула с ударением: — Лепёшка! Она знаешь… Ольга отвернулась и пошла в сторону, сама не зная куда — лишь бы от Машки. — Ну и как хочешь! — просвистел над головою снаряд. И вдруг Ольга увидела, что идёт навстречу Тамаре Густавовне. И та видит её, кивает уже головой, что, мол, иди-иди сюда, ты как раз мне и нужна. Они стояли рядом. Тамара Густавовна в длинном пальто, и Ольга в куртке и в джинсиках продувных. Учительница с сомнением оглядела этот наряд: — Ведь замёрзнешь. — Не, что вы! — Смотри… Она явно ещё что-то собиралась сказать, но, видно, подбирала слова. Она тоже из тех была, кто не спеша думает… «Лепёшка»? И вовсе нет! Она хоть и полная, но сложена очень пропорционально, высокая; Ольга, например, едва ей будет по грудь. Она когда-то, лет двадцать назад, была чемпионкой по толканию ядра. Может быть, даже и чемпионкой СССР! — С Еленой Григорьевной я договорилась. Оп-ля! Сердце Ольгино подпрыгнуло и шлёпнулось в сладость и в радость, словно весёлая лягушка. — Но я хочу тебе сказать… — Она держала Ольгу за плечо и мягко и крепко одновременно. — Я хочу тебе сказать, что это и в самом деле не выход. Ну вот обманули мы втроём твою маму… А во второй раз если это случится, а в третий?.. Тут уж ни Елена Григорьевна, ни я… да и тебе неловко будет. Разве нет?
Ольга кивнула. И, кивнув, уже не поднимала голову, а только слушала. В сердце медленно плавилась неприятность. — Елена Григорьевна предлагает взять тебя на буксир кому-нибудь из наших ребят… — Тамара Густавовна сделала как бы выжидательную паузу. — А я, знаешь ли, не согласна!.. Ольга начала быстро-быстро кивать, не поднимая головы… Почему-то не помогали ей эти дополнительные занятия и буксиры. С нею сперва Коровина занималась, потом Лёнька Шуйский — ещё в третьей четверти прошлого года. Ей говорят, объясняют, а она прямо слушать не может — горит от стыда! Шуйский как начнёт: «Ну это же элементарно! Смотри сюда, Лаврушка!.. — Потом пообъясняет, пообъясняет минут десять: — Ой, ну ты даёшь! Ты смотри сюда. Ты о чём думаешь вообще?!» На третий или на четвёртый раз вытерпеть это уже просто невозможно!.. Другие могут. И даже очень многие. А у Ольги словно какой приступ начинается: краснеет, потеет, и все объяснения, которые ей пытаются вдолбить, не то что не понимает, а кажется, даже и вообще не слышит. Только сидит, головой кивает, словно полная долбёшка… Или она правда тупая какая-нибудь?.. Страшно было об этом думать. — Ну и хорошо, что мы обе с тобой единого мнения на этот вопрос, — мягко произнесла Тамара Густавовна, спасая Ольгу от закипавших слёз. — Буксиры тебе не нужны!.. Тут она снова сделала паузу — как бы такой маленький бугорок, за которым вдруг не стало видно дальнейшей дороги разговора. Ольга подняла глаза на учительницу и встретилась с её глазами — светло-серыми, большими, под тёмными козырьками бровей. Ниже левого глаза торчала крепкая бородавка или просто какой-то нарост. Оттуда, как из маленькой клумбочки, росло три распушённых волосины. Впервые Ольга подумала, что Тамара Густавовна, наверное, не так уж и красива. Странно, про учителей почти никогда не думаешь: красивая — некрасивая, как про обычных людей, а только: добрая — злая. Мысли эти очень быстро мелькнули и тотчас пропали в темноте, потому что Тамара Густавовна опять начала говорить: — Вот я что хочу тебе предложить, Оля. Хочу тебе предложить самой стать воспитательницей… Подожди-подожди!.. Во втором классе. Знаешь такого учителя — Сергея Геннадиевича Ветрова? Завтра пойдёшь к нему. Он тебе даст ребёнка. Ольга невольно улыбнулась. Так странно прозвучала эта последняя фраза. — А что я с ним буду делать?! — С кем? С ребёнком? — Ну да. — Будешь помогать ему. По русскому или по арифметике. Ну… в чём он нуждается. — И, не дав Ольге рта раскрыть: — Всё знаю… Мы только попробуем! Когда побольше ответственности, то оно лучше! — А я согласна! — вдруг сказала Ольга.
* * *
С чем она согласна и чего она согласна — одному богу ведомо! Путаные мысли бродили в голове. Она то забывалась, то вспоминала про них вновь. «Жил на свете человек — скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке…» Ничего не поймёшь, ничего не решишь. А время летело! Солнечно-грустный осенний денёк прошёл мимо глаз, как невидимка. Только уже на обратном пути, на платформе, когда поезд, по секундам вырастая, летел навстречу станции, Ольга огляделась кругом: господи, красота какая, тишина! И даже гитарой её не разрушишь! Но потом снова за свои мысли. Всё-таки зачем она согласилась, скажите на милость! Не хватает ей забот?.. Нет, это как раз понятно. Ей вожатой хотелось попробовать. Огонёк какой-то заманчивый светил: или оттого, что с Лёнькой и Родькой хорошо получалось, или оттого, что последнее время едва ли не любой в классе мог ей приказать да указать… Когда примерно три недели тому назад назначали вожатых, о ней даже не подумали. Ольга и так и эдак пробовала. Даже сама предложила одного человека — Борю Сахаровского, чтоб потом и на неё обратили внимание. А сама она о себе не напомнила. И оказалось, хорошо! Когда уже набрали нужное количество народа (семь человек, но подумаешь: можно ведь и на одного больше!), Нелька Жужина попросила: «А можно ещё меня?» Сразу несколько голосов ей врезали: «Ты сама-то сначала учись… Класс позорить… Жужжи, жужелица, дома!» И даже Тамара Густавовна в тот раз промолчала. А ведь некоторые пошли в вожатые, можно сказать, из-под палки. Машка Цалова весело толкала её в бок и пела шёпотом: «Слава богу, слава чёрту, пронесло!» Тут как раз ничего особенно плохого нет. Не каждому же должно нравиться быть вожатым. А Машка — искренний человек. Ольга вздохнула. …Когда уже совсем подъезжали к городу, ей на колени вдруг упала сложенная вчетверо бумага. Ольга повернула голову от окна. — Тебе записка, — подчёркивая голосом свою особую холодную вежливость, произнесла Машка. — Дома прочитай… Если хочешь! И было непонятно: то ли «дома, если хочешь», то ли «прочитай, если хочешь». Но Ольга не посмела улыбнуться — так гордо и торжественно Машка удалилась на своё место. Дома Ольга развернула записку. Это оказалось целое письмо! Даже непонятно было, когда Машка сумела его накатать! Многие слова были зачёркнуты густой-густой непролазной решёткой из синих линий, будто за этой решёткой сидели не простые слова, а львы. Ольга только головой покачала. Над каждой такой решёткой с особой тщательностью было выведено новое слово. Весь текст этого большого письма для нашей истории не так важен. Машка припоминала случаи, когда она, Ольга, тоже думала, что Машка неправа, а выходило, что именно права. Разве не так?! Ольга, конечно, могла бы вспомнить сто случаев, когда Машка кипятилась, грохотала, а выходило, что всё зря. Но не в том сейчас было дело. Ольга нашла наконец главное место в письме. С него Машка, наверное, и собиралась начать, да так увлеклась доказательством своей правоты, что главное оказалось где-то в хвосте, затолканное целым полчищем надменных и ехидных слов. «А ещё, — писала Машка, — я хочу сказать тебе про твою «Тамару Густавовну» (имя учительницы Машка нарочно поставила в кавычки, но, видно, этого ей мало показалось, так она вдобавок и подчеркнула!). Твоя «Тамара Густавовна» решила на тебе проделывать эксперименты, как на подопытных кроликах. Я нечаянно слыхала (Машка неплохой и честный человек, но вот любит иной раз подслушивать), как она договаривалась с учителем из второго класса Сергеем Георгиевичем («Сергеем Геннадиевичем!» — догадалась Ольга испуганно), чтобы дать тебе отстающего ученика, чтобы ты сама от стыда подтягивалась. Она говорит: «Этот метод даёт хорошие результаты». Понятно??? А ты после этого сколько хочешь можешь её звать Тамарой Густавовной!» Ольга отложила письмо. Второй раз читать его не хотелось. Досада горчила всё внутри. Будто даже к языку доползла. Досада на Машку за её некстати подслушанный разговор. Подслушивать вообще, между прочим, низко! Но теперь уж ничего не поделаешь: разговор был подслушан. И Ольга про него знала. И поэтому у неё нет никакого иного выхода, как только прийти к Тамаре Густавовне и крикнуть, что, мол, я вам не подопытный кролик! И вот она уже крикнула… Ну пусть будто она уже крикнула. А что потом? В какие тартарары ей придётся лететь, если ещё и Тамара Густавовна удивлённо и разочарованно пожмёт плечами!.. Так страшно сделалось! Нет, ни за что! Никакой обиды она не позволит себе. Ведь и Тамара Густавовна не со зла это придумала, не для какой-нибудь диссертации… Ну, а как же записка?.. А не читала она её! Просто выбросила по дороге, да и всё. Они ведь с Машкой в ссоре. Нет, не надо, что выбросила. Лучше пусть потеряла. Ведь Машка тоже не со зла. Она ведь старалась, чтоб Ольгу никто обижать не смел.* * *
Наутро Тамара Густавовна отдала ей дневник. Там стояла только четвёрка по истории, и больше ничего. Четвёрка — такая же крупная и высокая, как Тамара Густавовна. Между прочим, отметки вообще чем-то похожи на своих полководцев — учителей. Вот и эта четвёрища тоже: не смогла она уместиться в положенной ей клетке. Жирными своими рожками она залезла за перегородку — туда, где сидела невидимка, двойка по алгебре. Ольга очень ясно представляла её себе: аккуратную, небольшую, злую, с красивым нажимом в нужных местах. Они все были как с конвейера — двойки Елены Григорьевны, двойки-близнецы. Только эта, на Ольгино счастье, оказалась невидимкой! — Я тебя прошу, Оля, заниматься каждый день. Есть математика, нету… Тебе надо подогнать! Ольга всё никак нарадоваться не могла на чистую дневниковую страничку, и поэтому, когда Тамара Густавовна произнесла неопределённое: «Ну вот, Оля…», она горячо закивала: — Конечно! Я обязательно! — Нет, погоди-погоди! Сроку у тебя две недели. — Чего? — Две недели она тебя не спросит, Елена Григорьевна. — А потом? — А потом спросит. И будет видно, каковы твои результаты. Вот какое, значит, Еленино условие: две недели и… Будто две недели до казни. Лучше уж прямо сегодня, чем терпеть. — Ты заведи отдельную тетрадочку, — спокойно продолжала Тамара Густавовна, — чтоб было наглядней. Наглядней… Такое слово учительское! Ольга очень легко представила себе, как Тамара Густавовна произносит: «Этот метод даёт хорошие результаты». И стало неприятно. Однако она сказала: — Хорошо, я буду… А когда надо туда пойти, в тот класс? — Да сразу после этого урока и шагай. Я с ним условилась, он всё знает. Запомнила? Сергей Геннадиевич Ветров. Ну «Ветров» тебе не надо. Это я просто…* * *
Он писал в журнале, сидя за учительским столом. Ольга стояла примерно в двух шагах и ждала. Конечно, она и раньше видела его. Но только не приглядывалась. Как-то однажды решила про себя: учитель физкультуры, вот и всё. Он и правда был похож на физкультурника. Пиджак в красную крапинку сидел на нём как влитой. Под пиджаком тонкий свитер с высоким горлом. У стола стоял пузатый рыжий портфель. Из него торчала какая-то странная штука. Ракетка, догадалась Ольга, теннисная ракетка! Правда, что физкультурник. Наконец он кончил писать, поднялся, и Ольга тут же потерялась рядом с его высотой и огромностью. — Погоди, — он сказал откуда-то из-под лампочки, — сейчас я её позову. — И в три шага вышел из пустого класса. Ольга дух перевела, огляделась кругом. По стенам висели разные плакатики и картинки. Странно было думать, что их рисовал громадный Ветров. Меленькие, словно съёжившиеся, парты вытянулись тремя очень ровными рядами, и их казалось больше, чем обычно. Ещё здесь стоял какой-то особый запах — более домашний, более детский. В душе у Ольги что-то шевельнулось, словно что-то припомнилось, — какие-то далёкие и тихие колокольчики. Однако она не успела дослушать этого звона. В класс вошёл Ветров. И где-то у ноги его, у громадной коричневой туфли, семенила крохотная девочка. — Вот, — сказал Ветров, — это Валя Силина. — Голос у него, кстати, был самый обычный: не басовый, не громовой, а самый-самый обычный. — Здравствуйте, — сказала Валя почти по складам, будто прочитала это слово. Видно, она здорово робела. Ольга быстро протянула ей руку: — Здравствуй! А меня зовут Оля. (Валя взялась за два её пальца, средний и указательный.) Валечка, покажи мне свою парту… Где парта твоя? Они подошли к третьей парте, ряд у окна. И Валя вдруг оказалась не очень уж крохотной, довольно уверенно тянула Ольгу за палец. Нет, она маленькая была, но всё же не такая Дюймовочка, как рядом с Ветровым. Они уселись за парту. Ольге было не очень-то удобно. Одна нога не поместилась и осталась стоять в проходе, как чужой сапог. — Ну, покажи мне свои тетрадки, — сказала Ольга очень мягко. — Покажешь? Валя сидела молча, опустив голову. Потом тихо-тихо прошептала: «Нет, не покажу!» — и заплакала. Не громко и настырно, как плачут уверенные в себе дети — Родька, например, — а тихо так и привычно. Слёзы у неё были где-то совсем близко. Слёзы надо чем-нибудь неожиданным сбивать. Ольга уже на Родьке это натренировала. Она шепнула: — Да нет, я же для крокодилов! — А?! — Валя посмотрела на неё синими круглыми глазами. Губы ещё прыгали в разные стороны. Но в то же время при случае могли бы и улыбнуться. И здесь перемена кончилась. По школьным этажам грохнул звонок. — Я приду после пятого урока. Ты где будешь? — сказала Ольга. Ветров оторвался от своего журнала: — У них продлёнка начинается. Обед, прогулка… Приходи после шестого. Ольга кивнула. Где-то ей надо убить целый час. А дома Лёнька некормленый будет! — Ну я побежала, — сказала Ольга. — Увидимся после прогулки. — А крокодилы?.. — Видно, Валя подозревала здесь какую-то игру и уже улыбалась. — Ах, крокодилы? Крокодилы… А ты как думаешь? — Не-е зна-ю! — протянула Валя и так искренне пожала плечами. Ну, дело пойдёт, подумала Ольга, пойдёт дело! Она уже была у двери, но вдруг повернулась к Вале: — Они знаешь где живут? В зоопарке и в книжке «Крокодил Гена». — И ещё в кино «Крокодил Гена», и в болоте! — закричала Валя. — «Солнце красное, солнце краденое. Крокодил, крокодил наше солнце проглотил!» — И засмеялась тоненько, как мышка.* * *
Кончились уроки. В школе было пусто. Сейчас высунься в коридор, глянь налево, направо — ни души! Ни души, наверное, на всём третьем этаже. Одни только Ольга да Валя сидят в классе шестого «В» за Ольгиной партой. Чтобы Вале было удобно, Ольга подложила ей парочку своих учебников, что потолще. Всё пока вроде хорошо. Они посмотрели Валины фантики и значки. Припомнили утренних своих крокодилов и ещё двух прибавили: того, который с Тотошей и с Кокошей по аллее проходил, и большую Крокодилу, которая в зубах держала кусочек одеяла. Потом из Валиного портфеля вылезла книжка с картинками «Финист — ясный сокол». В общем, Валя изо всех сил развлекала Ольгу — что угодно, лишь бы тетрадки не доставать. Ах ты Валька-Валька!.. Вся её крохотная хитрость была теперь как на ладони. И Ольга, может, посмеялась бы над нею, если б не чувствовала, что хитрость эту подгоняет страх. Ольга не хотела торопиться. Но когда-никогда, а ведь надо! — Ну ладно уж, давай, а? — очень мягко сказала Ольга. Как будто попросила. — А можно ещё одну-одну минуточку? — Нет уж, пожалуйста, Валя. А то у нас время скоро кончится. (Она договорилась с воспитательницей, что берёт её на час.) — Хорошо, — тихо согласилась Валя. Она открыла парту. Вдруг подняла руку, будто здесь в классе был Ветров. — Ты чего? — удивилась Ольга. — А можно выйти в туалет? — По правде хочешь? — Ой, очень хочется! — И Валя так сжалась натурально… Прошло минут пять, ещё немного. Ольга отправилась за Валей. Как-то глупо она себя чувствовала. Неуверенно сказала в раскрытую туалетную дверь: «Ва-ля!» Ни ответа, ни привета. Ах ты господи! Заглянула внутрь — никого! Не помня себя, Ольга помчалась на второй этаж… Валя преспокойно сидела за партой в своём классе, готовила чтение. — Ты зачем убежала?! — спросила Ольга тихо, но решительно. — А я… знаете, можно я… я можно сегодня здесь. А завтра уж… И так она говорила это, будто перед дверью к зубному врачу. Бровки бесцветные, испуганные, глаза большие, и под глазами синяки — плакала. — Ну хорошо, — сказала Ольга растерянно. — Идём хоть за портфелем сходим. — А вы идите, идите, — попросила Валя. — Я сама после сбегаю, после чтения. И уроки сама, у нас уроки сегодня лёгкие… Вы идите домой. Воспитательница — кажется, звали её Зоя Васильевна — занималась в это время в другом углу класса. Ольга взглянула на неё, почему-то струсила и поскорей улизнула.* * *
Итак, первый день был плохой. И не утешила её поговорка, что, мол, первый блин комом. Кого она утешит! Но всё-таки Ольга решила сама с собой, что расстраиваться очень сильно не стоит, потому что, в конце концов, ещё ничего не ясно. Может, завтра получится! Она принялась за свои собственные уроки. Но перед началом, вместо того чтобы привычной рукой открыть дневник сразу на нужной страничке, стала листать его с самого начала. Безрадостная это была картина! В какой-то книжке она читала, как полководец обходит поле боя — кажется, Кутузов или Наполеон. Уже сражение кончилось, убитые лежат неподвижно, а раненые стонут из разных концов… Так и Ольга — грустно ей было осматривать страницы дневника своего, недельные поля сражения. Там стонет тройка, там двойка — мёртвая отметка. Алгебра да геометрия!.. А из-за них иной раз и по другим не выучишь, рукой на всё махнёшь с отчаяния и… Но учителя, они буквально это чуют. Как не знаешь (может, всего один раз в неделю!) — ну-ка, голубка, марш к доске!.. А после ей долбят на совете отряда: «Ну хорошо, Лаврёнова! По математикам не соображаешь, а географию-то могла вызубрить?!» Что тут ответишь? Как им объяснишь, этим счастливчикам, которые живут без двоек?! Ведь они вроде бы и правы… Она пролистала так весь свой дневник от первого сентября до сегодня. Ещё раз поглядела на могучую, боевую четвёрку по истории и на невидимую двойку… Вдруг она подумала: «А вот меня бы — заставь кому-нибудь это показывать!.. Оля, мол, давай-ка твой дневник посмотрим. Да я бы не знаю что! Что угодно, лишь бы не это!..» Она только головою покачала, когда представила себе, какие муки бедной Вальке пришлось пережить. Небось заглянет-заглянет в тетрадку и ужаснётся: «Нет, не покажу ни за что! Ко мне старшеклассница придёт, Оля Лаврёнова из шестого класса, как же я ей двойки покажу?!» Надо к ней, к этой Вале Силиной, совсем незаметно, совсем на цыпочках подобраться. Надо, чтоб она мне поверила как-то. Чтоб она меня не стеснялась! Тут Ольга опять представила себя на её месте. Что же это должен быть за человек, чтобы Ольга ему свои отметочки «золотые» не постеснялась показать?.. Да такого и человека-то нет. На всём целом свете нет такого человека. Прямо с ужасом Ольга подумала, до чего же она одинока из-за своих двоек. Аж сердце захолонуло. И тут же в голове пронеслось: а Вальке-то бедной каково?!* * *
Но, как говорится, утро вечера мудренее. На самом-то деле не мудренее, а просто спокойнее. На математике ей ничто не угрожало. Все другие уроки выучены — вот вам и хорошее настроение. А что?.. Много ль человеку надо! Теперь, несмотря даже на дождь, ей казалось, что у неё очень много друзей. Не важно, что они как будто бы внешне не дружат. Главное, что они один отряд, одна школа. Взять хотя бы того же Лёньку Шуйского. Он совершенно ведь не злой, но дело в том, что ему всё в жизни слишком просто даётся. Хорошее настроение усилилось ещё и оттого, что она легко, можно сказать запросто, помирилась с Машкой. Сперва спокойным голосом наврала ей, что записку её потеряла (мама называет это святой ложью), потом рассказала про Ветрова, про Валю, про то, как Валька исхитрилась улизнуть. — Ой, ну надо же! — смеялась Машка. — Ну и девица! Ты с ней, Олька, гляди! Она тебя живо-два… Машка любила слушать, как Ольга рассказывает. А про обличительное то письмо, про «предательство» Тамары Густавовны уже никакого разговора не было. Может, и Машка кое-что поняла. Или… а впрочем, кто его знает. Ольга об этом старалась ей не напоминать и сама не вспоминать — ни к чему!Из переписки на уроке географии
«Здравствуй, Люда! Я знаю, кого спросят сегодня по физике! Я случайно открыл журнал, когда нёс из учительской. Там стоят против фамилий точки — Семьянин, Горелов, Жужелица и Пашка. А если точки, это верняк! Как ты думаешь, им надо сказать? Мы по успеваемости и так карабкаемся. Ты председатель, ты и решай! А я не знаю».
«Марин, хорошо, я согласен. Только давай не в три, а в полчетвёртого. Потому что я обещал маме помыть пол. А успеем мы так и так: там же начало в шестнадцать десять. Марин! Зря ты взяла жевательную резинку у этого Князя. Я же тебе сказал, что я прочитал рецепт настоящей сибирской смолки. Очень тебя прошу: ну неужели ты не можешь без жевания прожить два дня?»
«Жужа! Тебя спросят по физике. Из достоверных источников! Выучи хотя бы этот урок — перед школой стыдно! Записку порви. Если кто-нибудь узнает, вломим! Доброжелатель!»
* * *
Перед четвёртым уроком она пошла на малышовский второй этаж. Первым, кого она увидела, был, конечно, Ветров. Он стоял посреди чинно гуляющей малышни, словно Останкинская телебашня. Красная повязка на рукаве придавала ему особую торжественность — он был сегодня дежурным учителем. Ольге идти больше было некуда, кроме как к нему: такая фигура заметная! И казалось, он тоже всех видит. Вдруг длинная вереница пар поломалась, быстро натекло небольшое озерцо народа. И из середины его раздался громкий писк: — Сергей Геннадиевич! К нам Оля Лаврёнова пришла! Ветров повернул голову, улыбнулся, отыскал взглядом Валю. И вот они уже стояли — учительница и ученица — перед громадным Ветровым. — Ну что, занимались вчера? — послышался с высоты его голос. Не строгий, но всё же какой-то значительный, потому что звучал он оттуда, откуда обычно звучит радио. Ольга собралась уже пространно объяснять, как было дело. И тут почувствовала: в её руке тихо дрогнула Валина ладошка. Ольга быстро глянула на свою ученицу. Валя стояла, опустив белобрысую голову с крысиными косицами, и возила носком тапочки по паркету… Так, ясно. — Мы занимались, — с некоторой запинкой произнесла Ольга, — и… очень… в общем, хорошо позанимались. Валентина сразу начала кивать, потом, осмелев уже, подняла голову — запрокинулась на Ветрова, как на звёзды. — Занимались, значит? — переспросил Ветров. — А я вот результатов что-то не заметил. Он глядел Ольге куда-то в макушку. Ольга прямо кожей чувствовала этот взгляд. Словно кто-то поставил ей в середину головы ножку циркуля. Вот врать-то оно как выходит! Валентина сегодня опять, видно, отличилась. — После прогулки обязательно меня жди! — довольно строго говорила Ольга. Они стояли теперь у окна, уже вдали от Ветрова. — Я даже раньше пойду, руки помою и сяду! — с готовностью согласилась Валя. Она, так сказать, «ела глазами начальство». И недаром: они были окружены кольцом любопытных и явно завидующих младшеклассных рожиц. Ольге даже неловко стало: ну подумаешь, что она за царица! — Ладно, Валечка, я пойду? — сказала Ольга смущённо. — Нет, пожалуйста! — прошептала Валя. — Давайте один кружочек прогуляемся! Весь этот «кружочек» — туда и обратно по коридору в медленной веренице пар — Валька висела у неё на руке и неискренне болтала всякую чушь: уж не смешно было, а она опять принялась через силу хохотать над вчерашними их крокодилами. В общем, она «развлекала» Ольгу и ещё старалась, чтоб все это видели: вот какая у неё покровительница! И смех и грех, думала Ольга, вот уж правда и смех и грех!.. Как-то всё это было ненатурально и жалко. Совсем не того она хотела!..
А после шестого урока, когда Ольга явилась в продлёнку, Зоя Васильевна ей объявила, что «Силина давно ушла домой. У неё бабушка заболела». «Странно… странно», — подумала Ольга и спросила: — Она вам записку показала, да? — Я своим детям верю, — сухо ответила Зоя Васильевна. — А бабушка её писать не умеет. Коли ты вожатой стала, не худо бы это знать. У неё были очки, бледное лицо, тонкие, заметно накрашенные губы и завивка мелкой волной, которую уж лет сто никто не носит.
* * *
И опять у неё оказалась куча времени на собственные уроки. Она долбила математики. Решила про себя: пусть я не так уж понимаю, но можно и просто выучить. Как вон в бурсе учили, в книге «Очерки бурсы»… Правда, там математик вроде не было. Часа за три с половиной она одолела все уроки. Математические знания сверкали и торжественно плыли по воздуху, словно радужный шар. Внутри него Ольга была хозяйка: и задачку любую разберёт, и пример (неважно, что они все были на одно правило). Но вот выходить за пределы шара не разрешалось. Там было безвоздушное пространство. Как бы открытый космос. И к тому же её шарик очень хрупкий был, как ёлочный: чуть обо что-нибудь стукнется, например о чужую задачу, — и дзын-ля-ля!.. Но зато ох же торжественный он был! Всё-таки очень хорошо что-нибудь знать наверняка. Пусть даже самую кроху, а уже такое удовольствие! Всё логично, всё математично — правда, что как в космическом корабле. Чтоб окончательно укрепиться в своём торжестве, она сама себе придумала задачу и решила её! Живём! Стало быть, математика не такой уж лютый зверь. И вот надо ей было, не подумавши и секунды, перевернуть несколько страничек учебника назад, в прошлое, прочитать условие первой попавшейся задачки и… Так надеялась она проскочить на своём космическом кораблике сквозь математические эти дебри. Куда там! Углы, биссектрисы, бесконечные прямые, чёрные точки. Неживые роботы A, B, C, стерегущие голые горные вершины математики. И всё это вместе!.. И кораблик её — дзынь-блям! Полетели вниз сверкающие осколки. Ольга прямо с ужасом захлопнула учебник. Выскочила из комнаты. Мама ругала Лёньку, что он за тридцать пять минут расправился со всеми уроками: «Видишь, как Оля старается!» Ольга пошла в столовую, врубила телевизор. Вот правильно папа смеётся, что «телевизор — опиум для народа!». Его, если только слабоволие проявить, будешь смотреть целый вечер без отрыва. И вот что странно! Вот его смотришь — вроде и переживаешь за какое-нибудь там наводнение, не оторвёшься, а вроде бы и чайку попить можно. Во время телевизора все твои тревоги спят себе да спят. Только за это и у него есть одно условие: ты должна смотреть всё без разбору — мультик, новости, интервью, постановку… Пришёл папа. Ольга с ним поздоровалась, не отрываясь от экрана. — Ты замечала, Наташа, — сказал отец со значением, — если наша дочь эдак хищно смотрит телевизор, значит, у ней что-нибудь не того… — И потом тихо: — Ты дневник… — В этот момент мама, видимо, кивнула. Ольга сразу встала, выдернула вилку из розетки. — Ты что?! — чуть не крикнул папа. — Сейчас хоккей, третий период!.. Вот уж для кого телевизор действительно опиум! Хоть сам же и смеётся над этим. Ольга пошла к себе в комнату, медленно разобрала постель, сложила книжки и тетради на завтра. В голове была каша из пустоты… Ольга умылась, легла. Мысли потихоньку стали приходить в порядок. Но, так и не придя до конца, засыпали. А пускай! Если она завтра опять убежит, я пойду к ней домой, и всё. Это было последнее, что мелькнуло в голове.* * *
На геометрии она целый урок всё понимала! Все задачи могла бы решить. Но рука будто магнитом к парте примагничена! Не поднималась. Как задачу решать начнут, Ольга думает: «А вдруг я неправильно, вдруг я…» Глядит — правильно. Так обидно, что побоялась! Даже Елена заметила, говорит на свой обычный манер, то есть немного с ехидством: — Что с тобой, Лаврёнова? Ты чего вертишься?.. Кто тебе там жить не даёт? Шуйский повернулся, глянул в Ольгину тетрадь и торжественно объявил на весь класс: — Лаврушка задачу решила! Это надо отметить! Что тут смешного-то? Но класс, конечно, грохнул. Ольга покраснела. Ну что ж это такое? Хоть учись, хоть не учись, всё равно ты виновата! И вдруг Машка крикнула с места: — Почему вы ему всё разрешаете, этому любимчику?! Эх, Машка! Отчаянный ты, верный человек. А тебе бы не надо с Еленой ругаться. Ты и сама по алгебре с хлеба на квас, троечку еле натягивают. Елена брови надвинула: — Цалова, встань! После урока дашь дневник… Учить надо не меня, а математику! Машка встала, по возможности громыхнув конечностями. Для возмущения. — А ты, Шуйский, — продолжала Елена грозно, — выйди из класса! И совету отряда я бы рекомендовала… Во время всей её дальнейшей речи класс сидел притихший. Кто Шуйского жалел: всегда, мол, из-за этой Лаврушки. Кто наоборот — Машку и Ольгу: подумаешь, какой гений нашёлся — людей оскорблять! А кто просто думал: меня не касается, а там и ладно!.. Что говорить, класс у них разный: есть и принципиальные ребята вроде Бори Сахаровского, а есть такие… говорить не хочется! Вон Петров, например. И вдруг гром громыхнул среди ясного неба. Елена сказала: — Дай-ка, Лаврёнова, тетрадь. — Посмотрела классную задачу, посмотрела домашние: — А вот эти две ты зачем решала? Ольга покраснела опять и плечами пожала. — Просто… — А эта задача откуда? — Сама придумала, — тихо сказала Ольга. — Хм! Молодец. Очень интересная задача. Ну-ка давайте все решим задачу Лаврёновой. Запишите условия… — Тут она окинула класс своим спокойным и ясным взглядом: Шуйский толокся у двери в надежде не выходить, Машка краснела и бледнела, стоя у себя за партой. — Садитесь оба. Да будьте скромнее!.. К доске пошёл Дима Соколов и стал решать Ольгину задачку. Такого вроде раньше и не было никогда! Отметку Елена ей, правда, не поставила. И это жалко. Но, как Лёнька любит кричать, уговор дороже денег! Раз от двоек ты спасена, то и на четвёрки пока тоже не рассчитывай. Так рассудила Ольга, сказать по правде, очень довольная собой. А в классе, куда ни глянь, видны были одни только повядшие над тетрадками головы. Все решали её, Ольгину, задачу. Рядом, под боком, пыхтела Машка. Ольга от щедрот своих уж собралась было ей даже подсказать. И вдруг увидела, что по ряду прямо к их парте идёт Елена. — А я и тебе, Лаврёнова, советую приглядеться к задаче. Я там кое-что в условии… чтоб и тебе не скучно было. Ольга подняла глаза на доску. Всё-таки не умела Елена быть доброй до конца!.. Неприятное предчувствие кружилось над Ольгой, словно коршун. Она прочитала условие, сразу заметив, где были подложены мины. Прилежно переписала условие к себе в тетрадь. Весь класс решал! Уже слышалось победное гудение: дотумкивали потихоньку. Одна Ольга не знала. Она столько не знала в этой математике! Вон как Соколов уверенно: «Треугольники ABC и DBE подобны, так как угол BCA и угол BED…» Для Ольги те подобия промелькнули когда-то очередной неприятностью, очередным «спросят — не спросят». А Соколов знал, и все знали… Все, кроме отпетой троицы: Лаврёнова, Жужина да знаменитый Паша Осалин, сверстники которого уже, наверно, восьмой класс кончают.* * *
После пятого урока Ольга пошла в буфет. В это как раз время продлёнщики кончают обедать. «От меня она бегает, — решила Ольга, — но от обеда уж вряд ли!..» Она ещё раз повторила про себя это умозаключение, показавшееся ей остроумным и точным. И вот она стоит в дверях столовой, гремящей, как заводской цех, переполненной народом… Впрочем, каким там народом! Малышнёй! Слева у окна столы Валиной продлёнки. Детки уже допивают компот. Допьёт, ложечкой вишню выскребет и поставит стакан на поднос, чтоб дежурному проще убирать. Ольга оглядела один стол, второй, третий. За третьим вместе с детьми сидела Зоя Васильевна — сидела очень важно, с поджатыми тонкими губами. Ребятки кругом вели себя тихо. А Вали не было нигде… Может, дежурная? Ольга отыскала глазами дежурных. Опять нету! Вот, значит, как. Ольга повернулась и пошла неизвестно куда. Все тревоги и неудачи дня, которые со времени геометрии малость поприутихли, теперь снова крались за нею, словно свора тайных соглядатаев. Ольга поднялась на второй этаж, открыла уже знакомую дверь. Но и тут Вальки, конечно, нет… Лишь за столом громоздится Ветров. Он сидел над огромною стопкой детских книжек — в высоту, может, метр не метр, а сантиметров-то шестьдесят уж было! Ветров поднял голову, сразу поймал Ольгины глаза: — Что, бегают от нас ученики-то? (Ольга сумела лишь растерянно улыбнуться в ответ.) А ведь это плохо, что бегают, а? И опять Ольга промолчала. Уже готова была ответить этому Ветрову, но промолчала почему-то. — Да, плохо! — продолжал Ветров жёстко. — Девочка тебя не слушается. А то и побаивается: вдвойне плохо! — Она не меня, — сказала Ольга и покраснела. — Не меня, а двоек своих побаивается. И даже боится!.. Что я над ней смеяться стану! — Ну, правильно. А почему, собственно, такой тон обличительный? «Потому и обличительный, — сказала Ольга, но не вслух, а про себя, — потому и обличительный, что Валю в классе так воспитали. А класс — ваш!..» Однако ничего этого вслух она не произнесла. И Ветров тоже молчал. Видно, непроизнесённые Ольгины слова всё же каким-то образом дошли до него. Наконец он сказал: — Тебе надо тщательнее продумывать свои поступки… Если ты хочешь, конечно, этим заниматься. Если тебе это надо! — Он машинально перелистнул несколько страниц в книжке, которая лежала перед ним. — Слушай, а у вас там, случайно, мальчишки не нашлось бы? — Какого мальчишки? — улыбнулась Ольга. — Чтобы вот тоже вожатым не возражал. — А зачем вам? Я могу девочек… — Я говорю — парня! Педагогика и так вся «девочками» забита. Что ни школа, то всё женщины, женщины, женщины… А в педагогику парни нужны! Срочно. — Ну, если б нужны были, — пожала плечами Ольга, — так и были бы!.. Значит, не очень по ним педагогика умирает. — Тэк-с. И это всё говорит мне человек, который во многих вопросах, как я понимаю, не вырос из трёхколёсного велосипеда… Не всё так просто, дорогая моя, как представляется по твоей схеме… Ладно! Скажи-ка мне лучше, что ты собираешься делать с Валей Силиной? — Я к ней домой хотела… — Так, — одобрительно кивнул Ветров. — Много любопытного повидаешь. Ладно. А там что? Как себя поведёшь? — Не знаю! — честно призналась Ольга. — Приду, так увижу… Но Ветрову такой ответ не понравился. — Плохо, — сказал он жёстко. — Плохо, что не знаешь. (Сердце Ольгино заныло.) Просто так туда не ходи. Только испортишь! Придумай что-нибудь… к завтрашнему дню, скажем… И я подумаю. Тогда и пойдёшь! Поняла? Ольга только дёрнула плечом в ответ. Ветрову это опять не понравилось. — Нет, погоди, дорогая моя, — сказал он. — Тамара Густавовна, конечно, Тамарой Густавовной, но запомни: мне абы какие помощники не нужны!* * *
Она вышла из школы недовольная Ветровым, недовольная собой и вся сжатая этим недовольством, напряжённая. Только портфель сзади хлопался у неё по ногам. На дворе были шум, сутолока. Малышовские продлёнки возвращались с гулянья, кое-как строились у дверей школы. В толкучке этой, как ледоколы, двигались старшеклассники — кончился шестой урок. Ольга и сама была одним из таких ледоколов. Вдруг она заметила Зою Васильевну: в берете, газовом шарфе и синем пыльнике — теперь такое увидишь, пожалуй, только в старом кино! Вокруг Зои Васильевны толпилась Валина продлёнка. И Ольга вдруг быстро пошла к этой кучке галдящих и смеющихся цыплят. Она кивнула Зое Васильевне. Та довольно благосклонно улыбнулась ей в ответ тонкими своими губами. Это приободрило Ольгу. — Ребятки! — громко сказала она. — Кто знает, где Валя Силина живёт? Малышня сразу приутихла — то ли от незнакомого голоса, то ли оттого, что Ольга им крикнула необычное слово «ребятки». Ольга и сама удивилась, как оно выскочило на свободу. Странно: этим словом она называла Лёньку и Родьку… — Да я знаю! — бойко крикнул мальчик с чёрными быстрыми глазами и с таким чубчиком, с одного бока стоячим, про который говорят: телёнок зализал. — Я знаю! Она в нашем дворе живёт, только в третьем подъезде. А этаж вроде второй. Там у них написано, на табличке железненькой. Он остановился перевести дух, глянул на Ольгу. Один глаз у него косил, незаметно убегал куда-то под веко. Ольга наклонилась над этим мальчишкой. — Только ты дом мне позабыл сказать и улицу. — Она вдруг самым сердцем ощутила, какая она старшая рядом с ним!* * *
Улица Зелёная была хорошо Ольге знакома: это здесь совсем недалеко — минут семь ходу. Она шла и думала о Ветрове. О Ветрове, который ей запретил идти к Вале. О Ветрове!.. Что ни школа, то, видите ли, всё женщины да женщины… Ну и что? Вон медсёстры почему-то тоже всё женщины да женщины. И никого от этого в жар не бросает. А футболисты всё мужчины да мужчины… Жаль, что тогда ей это в голову не пришло. А теперь уж — толкуй не толкуй сама с собою… И она довольно мстительно припомнила Ветрову, что, мол, когда ребёнок отметок своих боится — это от учителя зависит. От вас, Сергей Геннадиевич! Но тут же довольно некстати пошла на справедливость, сама с собой заспорила: от учителя? Разве? Уж какая у них Тамара Густавовна хорошая, а Ольга всё равно боится! Хоть она и не ребёнок уж давно. Вдруг Ольга прямо споткнулась на ровном месте. Встала поражённая. Она боится и Валя боится — одинаково! Значит, нужно, значит… ах ты господи!.. чтобы Валя хотя б её не боялась, и я знаю, что надо… Она чуть ли не бегом припустилась к Валиному дому. А дом был, между прочим, самый обычный: белый, в пять этажей, блочный, с одинаковыми окнами, со строем тоненьких инкубаторских липок. Теперь листья с них совсем облетели. И они торчали, похожие на метёлки, которые по старости отдают снеговикам. От Валиного дома до следующего такого же тянулся строительный пустырь, просторный и запущенный. Через многие-многие субботники и воскресники он должен был превратиться в сквер. А пока были бугры да нечёсаный бурьян под ветром. Старая труба, как старая пушка, торчала из не зажившей после стройки земли… Только посредине пустыря, но всё-таки ближе к этому дому, стояла в бурьяновых волнах деревянная беседка, словно маленький кораблик. И в этой беседке… Ольга увидела Валю! Она стояла, крепко держась за деревянные перила, и боялась, что Ольга её заметит, и никак не могла отвести взгляд. Задевая чулками колючую траву, с бугра на бугор, Ольга пошла к беседке. Будто цепкой ниткой они были связаны взглядом — Валя и она. Хорошо, что во дворе никого не было (старшие уроки делали, а младшие сидели по продлёнкам или по детсадам), потому что бывают на свете такие минуты, когда любой, даже самый хороший, человек может помешать. Ольга подошла уже совсем близко, так близко, что можно было услышать шелест листьев или человеческий шёпот. — Я больше не буду! — прошептала Валя. Она боялась. Ольга покачала головой. На деревянной лавке в беседке сидела маленькая кукла, лежал фантик с ярким цветком, стёклышко, железка, удобная для копания… Она же секрет хочет делать!.. Мигом Ольга вспомнила давно забытое, волнующее. Как крадёшься, чтоб никто не видел, в тайный угол двора. И копаешь ямку, и укладываешь фантик, и остекляешь аккуратно… Вот и теперь, оказывается, это делают! — Пойдём, — сказала Ольга, — пойдём! Где ты хотела его устроить? Они взяли с лавки все принадлежности. А куклу и Ольгин портфель оставили. Валя раз-другой недоверчиво глянула на Ольгу. Но, видно, что-то было в Ольгиных глазах особенное, и Валя поверила, что Ольга не врёт, что ей правда интересно. Они обошли беседку и присели на корточки. Теперь из ближнего, Валиного дома их совсем не было видно. А дальний стоял далеко и совершенно безопасно, как на другом берегу широкого озера. И тут Валя расчистила одно стёклышко, второе, третье — прежние секреты. В двух были фантики, а в третьем цветок георгин. Уже какой-то привядший, погибший… Подумалось: вот такие в могиле бывают. И сердце на секунду остановилось. Она быстро вынула из плаща брошку — подарок Машки Цаловой: чёрный пластмассовый овал, а на нём пластмассовый женский профиль (как будто древнегреческий или древнеримский) с развевающимся пучком курчавых волос на затылке. Брошку эту носить, конечно, было нельзя — неудобно. Она лежала в кармане плаща и больно колола пальцы, как забудешься, за чем-нибудь полезешь неосторожно. Теперь Ольга без спросу разорила секрет, выкинула цветок, положила брошку, аккуратно примяла пальцами бока ямки, закрыла опять стеклом. Чуть-чуть (таинственно, но чтоб и видно оставалось) припорошила стекло землёю… — Ой-я! — прошептала Валя. — А как же она здесь? — Да не бойся, — тоже шёпотом ответила Ольга. — Пусть остаётся. Ничего! Валя смущённо и неловко стала рыть новую ямку. — Никому про это не будем говорить, да?.. И тут Ольга сказала себе: «Ну, пора! Не трусь!..» — Погоди! — Она быстро обошла беседку, вынула свой дневник, вернулась на место. Положила дневник на землю перед Валей: — Хочешь покажу? Валя сперва ничего не поняла. Она медленно читала имя и фамилию на обложке. Потом посмотрела на Ольгу: мол, зачем это? Ольга открыла первую страницу… За месяц с небольшим много двоек не нахватаешь. Теперь Ольга даже испугалась, как бы их не оказалось слишком мало. Поэтому старалась помедленней переворачивать каждую страничку. Она уже будто забыла, что это ведь стыдно — показывать двойки. Но почему-то не было стыдно! Даже вообще она не думала об этом. Только одного она хотела: чтоб Валя ей поверила! Вот кончились в дневнике все прожитые недели. Но Ольга всё-таки ещё раз перевернула страницу, как бы на всякий случай — а вдруг… Теперь на них обеих глядела белая неизвестность будущих дней. — Никому не скажешь про это? — тихо спросила Ольга. (Валя быстро-быстро замотала головой.) — А будешь со мной… — Она не знала, как сказать: «заниматься» или «дружить»? Но Валя, не дождавшись конца, закивала головой — опять быстро-быстро.Из дневника
Я сегодня припомнил одну историю, которую почти что забыл. Я подумал: зачем я вообще стал писать дневник? И всё вспомнил. У нас, по-моему, многие пишут. Это было давно, ещё до Тамары Густавовны, когда у нас была одна учительница на все предметы — Ирина Родионовна. Конечно, никакого отношения к Пушкину она не имела. Но всё равно у неё было прозвище «Няня». Она старая была. Как нас отдала в старшие классы, так сразу ушла на пенсию. Один раз Няня нам дала задание — вести дневники. Говорит: «Ведите дневники в течение одного месяца, а потом мне покажите». Кто-то спросил: «А как вести?» Она говорит: «Так же, как пишете письмо своему товарищу или подруге. Только без обращения. Описывайте, что с вами произошло за день. Вот и вся премудрость». Я, конечно, про дневники слыхал и до неё. Но сам не вёл. Только в позапрошлом году писать научился — как же его вести. И вот я представил Горелова Кольку, как будто его в классе не было, и стал ему писать. У меня как-то сразу дело пошло. Я быстро понял, что это всё же не письма получаются, а другое. Теперь-то я знаю: дневник получался. А тогда не знал и думал: «Ого! Молодец я какой!» Сердце так и захватывало. И вот прошёл месяц. Даже больше, потому что время выпало как раз на весенние каникулы. И под конец я стал волноваться: как же я дневник покажу?! Я хоть и маленький тогда был, но всё равно у меня дневник получился настоящий, а не для показа. С дневниками всегда так! Если для показа, то получается дрянь. А если по-настоящему, то показать никому невозможно! Но я тогда переживал ужасно: я ведь этого не знал ничего. Жалко всё же, что у меня тот дневничок не сохранился. Наверно, нём больше всего было написано из всех моих дневников за все годы. А может, это уж теперь так кажется. В общем, после каникул Няня спрашивает: «Ну, кто вёл дневник, поднимите руки». Я тогда, помню, в парту глазами впился: пусть, думаю, лучше двойка, ни за что не скажу! Стыдно было, чтоб кто-то мой дневник прочитал. И вдруг слышу, Няня говорит: «Что ж, значит, никто не вёл?» Она так добро говорить умела! Я тогда поднял глаза. И мы словно переглянулись всем классом. Как заговорщики. Но я даже Кольке про дневник не сказал! А Няня нам вдруг говорит: «Сейчас будем писать сочинение «Как я провёл каникулы». Словно про дневник вообще речи не было. Я прямо с радостью, помню, кинулся писать! Подумал: ну, с дневниками пронесло, забыла Няня. Глупый ещё был. А через несколько деньков Няня нам объявляет отметки. Я не помню, сколько тогда мне поставили… А потом и говорит: «А дневники-то вы всё-таки писали! Молодцы. Дима Соколов свои мысли совсем выражать не умел. А теперь ну прямо рассказ написал!..» И так она почти что всех похвалила: и меня, и Кольку — в общем, всех почти что. А потом сказала: «Вот что, дети! (Она, когда волновалась, называла нас «дети».) Дневник вести хорошо и полезно. Запомните это. Вы научитесь лучше говорить и писать. Научитесь думать. Научитесь говорить себе правду. А вот показывать дневник никому не надо. Он только для себя. И я очень рада, что вы, все до единого, смолчали в прошлый раз. Значит, я вас правильно воспитываю. И вы без всяких слов, а просто сердцем сами понимаете эти простые, но важные вещи!» Уже звонок прозвенел на переменку, а мы всё сидели и слушали ее…* * *
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Лялям-пам-пам, тарам-барам-барам,
Тарам-парам, какие-то там крылья
И вместо сердца пламенный мотор!

Она задумала вещь рискованную, но, может быть, единственно спасительную. Она быстро делала с Валей математику, которая была задана на сегодня… А как быстро сделаешь? На полуподсказке, как же ещё! Но Ольга специально шла на это. Зато выкраивалось время на прошлое. Они шагали из глубины, взяв даже учебник первого класса, нагоняли сегодняшний день из прошлого. Так Ольга сама для себя делала. Взяла прошлогодний дневник и с марта месяца поехала заново делать уроки! Оказывается, она по частям-то кое-что знала. Математика валялась в её голове бессмысленной грудой кирпича, балок, блоков. И нужно было это всё сложить — выстроить дом. Прошло уже девять дней из того вольготного срока. Класс вроде бы и не замечал, спрашивают её, нет… Только раз-другой кто-то отпустил замечаньице, что, мол, везёт Лаврушке. Даже Машка ничего. У неё началось её драгоценное фигурное катание. Значит, опять она будет учиться лишь бы — лишь бы, позёвывать на уроках и греметь в парте коньками, такими тяжёлыми на вес и такими лёгкими, когда Машка бегает в них по льду. Ольга ей раньше завидовала. А теперь… что фигурное — прыгай да прыгай. Сама Зоя Васильевна её хвалит! И сам Ветров, огромный, как Маяковский, нет-нет да и заглянет в продлёнку: «Недурно, — говорит, — недурно! Хоть и надула меня в прошлый раз. Да победителей не судят!»
* * *
Она жила теперь, не замечая дней. Чуть не каждая секунда у неё была заприходована и с инвентарной бирочкой. Только и есть спокойное, точно отмеренное время — пять по сорок пять (или шесть по сорок пять) — учебный день. А потом всё срывается с места, как сумасшедший вихрь: Лёньке обед на скорую руку, дальше Валя (сперва уроки, а потом… просто от неё ведь уйти невозможно!), уроки свои, дальше повторение старой математики… Не то чтобы она уж всегда так бешено торопилась. Но остановиться, дух перевести буквально было некогда. Всё время что-нибудь надо, надо, надо!.. Оглянешься, а уж на улице темным-темно, уж девять часов. Голова сама падает на стол, как мяч баскетбольный. Родьку она вообще не видит, Лёньку практически только во время обеда их скоростного. Родителей?.. По пути в ванную посидит с ними у телевизора минут десять. А глаза уж не видят, говорить не о чем… И чувствовала Ольга, что-то здесь не так делается. Но остановиться не могла. Что же всё-таки не так? Сперва решила: мотаюсь, кручусь — вот из-за этого и в душе червяк. Просто от усталости… Но нет, не в том дело! Однажды она проснулась под утро. Было ещё совсем темно. До вставания в школу почти полтора часа. Такого с ней вроде и не случалось раньше. Нет, было один раз. В классе, кажется, четвёртом, когда зуб болел. Спала ещё, но уже чуяла, что болит он… Спала — уж и не спала, а вроде как притворялась сама перед собой: страшно было. И сейчас так же. Ей приснился сон. А может, это уже не сон был. Просто вдруг вспомнилось то, что будто пролетело мимо ушей, но, оказывается, не пролетело, застряло в душе… В памяти! Лёнька Родьку обижал. Что там было у них, в точности она не знала: сидела, уткнувшись в учебник, и дверь в её комнату была закрыта. Родька орал: «Ну не лезь! Отдай! Сейчас Оле как скажу! Тогда узнаешь, что она водиться с тобой не будет». Потом долгое молчание. Потом Лёнька: «Она и так с нами не водится. Сидит в своей комнате, как сторож… Оля твоя… Да возьми ты свою железку!» И всё. Родька не плакал. А Лёнька, видно, ушёл к себе, потому что обидно бухнула дверь. Да, бухнула, теперь Ольга точно припомнила. Когда же это произошло? Вчера, что ли? А может, позавчера?.. Хорошо бы, вчера. Тогда ещё ничего. Тогда ещё можно как ни в чём не бывало с Родькой повозиться, Лёньке спокойным голосом что-нибудь объяснить… Она лежала, по-утреннему закинув руки за голову, но не по-утреннему нахмурившись. Вдруг подумала: «Хорошо, что ещё хоть обижаются. А вот когда уж обижаться перестанут — значит, конец, рукой на тебя махнули! Надо, надо, обязательно надо с ними заняться. Стыд какой: двенадцать дней живу для одной себя. И родители тоже небось косятся!.. Да чего они там косятся, ни капельки они не косятся! Разве мама будет коситься! Да мама для меня, для нас всех… Нет! Опять я не то. Не в том дело — косятся или не косятся. Я же сама должна. Кто ж, кроме меня, маме поможет? Родька, что ли?» Подумав так, она немного успокоилась. Лежала в светлой своей от проснувшегося солнца комнате, глядя в знакомый до последней трещинки потолок… «Я обязательно что-нибудь сделаю!» Но тут опять тревога беспощадно подступила к ней. Утренняя тревога, самая опасная из всех тревог, потому что если сразу не сумеешь избавиться от неё, то целый день она будет с тобой, куда б ни пошёл ты и что бы ни делал. И даже ночью она останется — сидеть у твоей кровати чёрной сиделкой. «Какая ты быстрая! — шептала ей утренняя тревога. — Раз, два — и решила… Сделаю, помогу… А когда?» А правда, когда? День забит, как рюкзак перед походом. И чтоб туда что-то ещё втиснуть, надо, значит, что-то и выкинуть. А выкидывать ничего не возможно! Математику? Повторение? Вальку-синецветика? Их разговоры и медленные провожания после того, как чтение, математика и русский готовы? Даже любимейшей Машке Цаловой она отводит всего только переменки, да и то когда не надо подзубрить для страховочки какой-нибудь там параграф. Так что же тут выкинешь из этого рюкзака? Бомс! — пробили часы. Чинные, древние часы, оставшиеся ещё от бабушки, почти уже не помнимой Ольгой, потому что умерла она, когда Ольга была ещё детсадовкой вроде Родьки, то есть очень давно… А часы вот всё ходят… Мама их, между прочим, не особенно жалует из-за того, что тикают громко и что бьют. Мама даже говорит: «Я от них просыпаюсь!» И тогда их повесили к Ольге. Тоже уж давно, наверное со второго или с третьего класса. «Ну хоть вы что-нибудь мне подскажите». Часы в ответ качали тяжёлым бронзовым маятником. И тут до неё дошло (всё-таки подсказали часики!): да это же простая детская вещь — утро! Во-первых, не спать до последнего; во-вторых, может, и зарядку побоку. Она же не спортсменка, не Машка! Вставать рано! Родьку в садик ей можно и самой собирать. И завтрак — тоже! Что она, не умеет завтрак приготовить? Пусть даже на пересменку — когда мама, а когда и она. И то уже хорошо! Ольга вскочила — столько сил у неё сразу прибавилось! Сунула ноги в тапки, побежала в ванную. Улыбаясь и глядя в зеркало на свою вымазанную зубной пастой физиономию, она думала, что, конечно, лучше бы с ними вечером. Но вечером когда ж? Нет, она уж постарается утром. В конце концов, это не важно когда. Главное, чтоб каждый приносил в семью что-нибудь хорошее, тогда и будет настоящая семья. А что это — хорошее? А то, что Родька у них, например, такой маленький и милый. Лёнька — забияка и весёлый, вроде папы. А она, Ольга, заботится. Она с удовольствием натёрла закоченевшие щёки полотенцем и вошла в комнату к мальчишкам. Оба ещё спали. — Мяу, — сказала Ольга, — мяу! — Потом: — Киса-киса-киса… Родька сейчас же открыл глаза. Поискал взглядом кошку, которой у них в доме никогда в жизни не водилось. На лице его было удивление. Наверное, он думал: «Вот так сон мне приснился!» Тут он увидел Ольгу и сейчас же улыбнулся ей, совсем забыв про кошачий сон. — На зарядку! На зарядку! На зарядку, на зарядку становись! — пела Ольга и в это время Родькиными руками и ногами делала зарядку. Тут и Лёнька проснулся. Видно, недовольный, что его разбудили на двадцать минут раньше, он залаял из-под одеяла. Он и как бы шутил, по своему обычаю, и в то же время был сердит, только при Ольге не хотел этого показывать. Ольга всё поняла. Лицо её стало весёлым и спокойным, как и нужно в обращении с Лёнькой. — Лёнь, иди быстренько в ванную. А потом будем вместе Родю собирать. — А мама? — Обойдёмся! Я, знаешь, что решила: объявляем маме, что на территории нашей квартиры организуется колхоз. Я председатель, ты бригадир, а Родька — колхозники. Они весело стали собирать Родьку. Собственно, от Лёньки, конечно, помощи не было никакой. Ну принёс из комнаты забытый правый ботинок, ну поставил чайник… Однако Ольга и не рассчитывала на его помощь. Важно, чтоб он был с ней — второй младший братишка. — Мы как колхоз назовём? — спросила Ольга. — Колхоз-совхоз! — радостно запел Родька. — Давай «Стремительный космонавт»! — быстро крикнул Лёнька и вдруг остановился — внимательно и с надеждой посмотрел на Ольгу. Тут улыбаться ни-ни-ни! — Хорошее название. Только непонятно, чего мы выращиваем… Смотри, например, названия: «Красный хлопкороб», «Рыбак», «Коммунистический пахарь». Понял? Кто что делает, тот так и называется. — А мы что выращиваем? — сам у себя спросил Лёнька. И вдруг радостно сообразил: — А мы Родьку выращиваем! — Правильно! — засмеялась Ольга. — Слушай, пускай у нас будет колхоз «Спелые родионы»? Мама, заспанная, в таком известном, родном своём халатике, высунулась из спальни (а они буйствовали в большой комнате, в гостиной). — Вы что колобродите ни свет ни заря, колоброды? — А кто рано встаёт, тому бог подаёт! — выпалил Лёнька загодя разученный ответ. — Какой бог, что вы несёте с утра пораньше! — Но голос у мамы был улыбающийся. — А кто очень долго спит, будет толстый, словно кит! — Георгий! — позвала мама жалобно. — Меня забили до полусмерти. Собственные дети! — Кошмарная компания! — хрипло сказал папа. — Причём во главе с моей старшей дочерью. Послушай, Наташа, по-моему, у нас слишком много детей! День начинался прекрасно! Проводив в детский сад Родьку — и это тоже было для их семьи новостью, — Ольга шла в школу. Она спешила, но не очень уж сильно. Просто шла ритмично, как говорит Машка Цалова. От хорошего настроения, от быстрого шага дышалось глубоко. С утра приударил едва заметный морозец, но солнце светило, несмотря на октябрь, и небо над головой было чистое. Ольга вспоминала о том, как они вприпрыжку шагали с Родионом, а перед лужами останавливались. И Родька осторожно проходил по белому хрусткому блинчику льда. Теперь, оставшись одна, Ольга сама с удовольствием хрустела этим молодым ледком. Такой звук получался, удивительно чистый! «Так, — говорила она себе, — так-так-так! — И улыбалась. — Ну, что мне сегодня ещё предстоит?» Сегодня начинался тринадцатый день из тех четырнадцати льготных, что дала ей Тамара Густавовна. Хотя совсем они и не были «льготными», наоборот, трудовыми — каких, может быть, никогда прежде не бывало в её жизни. «Неужели теперь я всегда так буду жить?» — подумала Ольга. И тут сердце на секунду заныло от того, какую ношу она на себя берёт. Но куда сильнее этой тревоги в её душе звучала радость. И даже гордость, пожалуй! Да, она гордилась собой, хотя вслух никогда бы об этом не сказала и ни в каком дневнике не написала бы, ни в каком письме. У школы её ждала Валя Силина. Она стояла, крохотуля, под большим рукастым деревом, почти совсем облетевшим: последние десятка два засохших листьев болтались на его ветвях как погремушки. Валя синими своими глазами смотрела не туда, откуда шла Ольга, а в другую улицу, откуда она должна была идти из дому. А Ольга ведь шла из детского сада. — Ва-ля!.. — Ой! Олечка! — И потом чуть обиженно: — А я тебя ждала-ждала… — Я Родю в садик отводила. Помнишь, младшего братишку — я тебе рассказывала. До звонка оставалось минут семь — только раздеться да скорей бежать на этаж. И первый урок был геометрия!.. Но Валя требовательно держала Ольгу за модный накладной карман. — Ты чего, Валь? — Они… — Валя нахмурила почти невидимые свои бровки. — Они говорят, ты сама плохо учишься. — Кто говорит? — Из класса… А я говорю: «Нет, она хорошо!» И как дам портфелем! А они мне вот что — руку расцарапали. — Больно было? — Нет!.. А вдруг они твой дневник подсмотрят? Вот так дела! Гордость испарялась из неё, как воздух из проколотого велосипедного колеса… «Бедная ты моя Валечка…» — А ты не бойся, Валь, у меня теперь дневник стал хороший. Хочешь посмотреть? Сейчас просто времени очень мало. — А у самой сердце так странно билось: значит, выходит, и Валька за неё в ответе, выходит, и Валька её воспитывает. Они почти бегом вошли в вестибюль. Пока Валентина возилась с ботинками да тапочками, Ольга сдала её пальто и впопыхах перепутала номерки — чей какой. Испугалась на мгновение, хотела уж извиняться перед нянечкой-раздевальщицей, чтоб та посмотрела, а сзади уже напирал такой же, как она сама, опаздывающий народ. Но вдруг подумала: «Да всё равно же домой-то вместе!» От этой мысли ей стало так легко. Она сунула оба номерка в карман, схватила Валину руку, и они побежали вверх по лестнице, с секунды на секунду ожидая, что грянет выстрел звонка. Валя шмыгнула в дверь своего этажа, а Ольга свободной птицей полетела дальше, не чуя ступенек. Ударил звонок. Впереди по пустому коридору шла Елена Григорьевна. Лишь отдельные разгильдяи пулями проносились мимо неё. Елена уже взялась за ручку двери шестого «В»… — Елена Григорьевна! Елена обернулась. Ольга, запыхавшаяся, остановилась около неё: — Спросите меня, пожалуйста! — и тотчас испугавшись, что Елена поймёт её не так: — Нет… в смысле: когда хотите, тогда и спросите… — Спрошу. И тут прямо ужас охватил её: ни одного дня, ни одной даже секунды у неё теперь не осталось! Она упала к себе за парту, и сразу Машка потянула её портфель. — Дай быстрей вторую задачу сдуть! И безошибочно, с ловкостью утопающего выхватила Ольгину тетрадку. Все встали, и Машка встала, продолжая писать. — Садитесь… Лаврёнова, я сказала: садитесь. Ты что это улыбаешься? Ольга была счастлива: впервые в жизни у неё списывали математику.* * *
Ну и конец! Совсем непедагогичный. Написав его, мы почувствовали себя как-то неуютно. И стали всерьёз подумывать о том, что, мол, не переделать ли чего? Что ж, переделать можно. Но получится-то уже не по правде! Вот ты хоть что хочешь, а ведь было дело: списала Машка Цалова ту задачку (даже, кажется, Елена Григорьевна поставила ей «четыре»), а Ольга действительно была счастлива, что у неё списывали! Тогда мы решили: давайте хоть напишем фразу, что, мол, общеизвестно, товарищи, списывать очень плохо. Но потом подумали: зачем же писать её, раз она и так общеизвестна? И вообще эта история совсем о другом. О чём? Да о том хотя бы, что если человек серьёзен, если умеет быть добрым не только к себе, он многого может достичь. Вот это хорошо бы всем нам, как говорится, взять на вооружение: «Быть добрым не только к себе». И не из-за того даже, что так можно многого добиться, а просто…Из разговоров на перемене
— Смотри, какой билетик, да? Семь-три-два, ноль-четыре-восемь! — Ну и что? — «Что»! Ты сперва найди такой, а потом говори «что»! Все цифры разные, а он всё равно счастливый. — А-а… — Вот именно! И притом я совершенно не подгадывала. А то знаешь, как некоторые: специально не берут, не берут — рискуют вплоть до контролёра, лишь бы счастливый попался. А это же неправильно… — Это вообще всё ерунда! — Не обязательно ерунда. Полозовой даже один мальчишка говорил, он в математической школе учится. Знаешь, которая на Петра Болотникова… Что если попадётся такой счастливый билет, то это редчайшее событие, потому что… — Да нет! Ты же сама всё неправильно делаешь, понятно? Надо… смотри: когда тебе такой билетик попадётся, сразу же, до первой остановки, загадать желание, так? Потом: или же его сразу съесть, или же разорвать на мелкие части и тоже съесть. — До первой остановки? — До первой, конечно, лучше! — А чего ж! У меня этот билет пропал, значит? — Ну ты сама посуди, Нель! Если б так бы всё было просто, тогда бы знаешь сколько счастья появилось! — Ну и хорошо! — Хорошо или плохо, но так же не бывает, правда?.. А потом, ещё неизвестно. Может, не так и хорошо. Когда тебе слишком уж всегда везёт, тоже надоедает. Тебе выпало чего-нибудь хорошее, а ты: «Да ну его! Опять это счастье!»Из размышлений по дороге в школу
Ни черта подобного! Я имею на это полное право! И ребята будут за меня, а не за эту рыбу! Подумаешь, какой авторитет — отличница. Перед учителями она, может, и авторитет, а перед ребятами я авторитет. У меня дело в руках. Мне самому интересно, и всем интересно. А не то что с этой рыбой. Видите ли, Люда Коровина «считает, что…». Считальщица какая! Да ничего она не может считать! Ей лишь бы поменьше делать, лишь бы каким-нибудь формализмом заниматься для отвода глаз. Сборы — это же удавиться можно от скуки. Сама — Коровина, и сборы коровьи: жуём, жуём одно и то же… А чего ж? На честность так на честность. Всё скажу! Нет, погоди! Если я так начну говорить, то сразу будет казаться, что я Коровину хочу переизбрать, а себя на её место… А я хочу себя на её место? Ничего я не хочу и не собираюсь даже! Если, конечно, меня сами ребята выберут, тогда другое дело! Надо так и начать: только не думайте, что я хочу, чтоб Коровину переизбрали из-за меня! Раз выбрали, значит, доверяете! И разговор окончен. Нет, если я так скажу, то сразу станет понятно, что я именно хочу, чтоб меня назначили. И специально для этого всё дело затеял… Вот ёлы-палы! Я же не для того! А чтоб у нас следопытская работа лучше велась. «Ребятам неинтересно этим заниматься!» Не ври! Ребятам интересно этим заниматься! А вот тебе не интересно. Потому что тридцатилетие Победы прошло. Никто больше тебе галочку за это не поставит. Рыба хитрая! Ладно, сегодня ты у меня получишь. Сбор существует для того, чтобы отстаивать свои взгляды, а не для того, чтобы под партой в морской бой играть.История третья. Целебная порода
Сегодня классный час, по меткому выражению Князя Шуйского, не предвещал ни космических пришельцев, ни цунами, ни раздачи волшебных палочек. То есть, в переводе на общечеловеческий, это значило, что сегодня ругать сильно не будут и хвалить сильно не будут — не за что. И особенно интересного ничего не предвидится. Тамара Густавовна расскажет, как у них дела с успеваемостью и «поведяемостью» (тоже княжеское словечко). Наверно, похвалит Лаврёнову, что сумела подтянуться, поговорит с Жужиной, которая подтягиваться не думает. В общем, тыр-пыр, восемь дыр. Вот и все дела. Однако вышла ошибочка в Лёнькиных расчётах — оказалось кое-что! И именно как раз «космические пришельцы». Вместе с Тамарой Густавовной в класс вошёл некто неизвестный. Возраст примерно на уровне восьмиклассника. Он стоял рядом с учительницей, но только по другую сторону стола. Был этот пришелец одет как бы в военную рубашку, в синие нерасклёшенные штаны. На рукаве шеврон — звезда с неровными острыми лучами, на голове пилотка, на груди галстук. Стоял такой весь подтянутый, спокойный… Внимательно оглядел шестой «В», словно что-то выискивая в его физиономиях — самых разномастных, самых разнокалиберных, самых разносообразительных и разносимпатичных. Но все они под внимательным этим взглядом как бы чуть повядали, опускали очи долу. Однако уже через секунду выстреливали глазами вслед непонятному взгляду. Тамара Густавовна между тем говорила, что «у вас в районе, ребята, при Доме пионеров работает тимуровский штаб. И сейчас перед нами выступит его представитель Аркадий Моряков». Она, конечно, заранее знала о приходе этого Морякова, но — обычная её манера! — держала всё в тайне до последнего. Зачем это надо? О тимуровском штабе шестой «В», ясное дело, слыхал. Было известно, что вокруг штаба группируется несколько отрядов, которые именуют себя ЧОН — части особого назначения. И принимают сюда не абы кого, а только людей проверенных. В своё время чоновцем хотел стать Дима Соколов — известная в шестом «В» сильная личность. Пришёл он в штаб. Ему говорят: «Хочешь? Не возражаем. Первое задание будет тебе такое. В пятиэтажном доме по улице Болотникова — квартиры восемь, тридцать и двадцать шесть — живут старики. Надо ходить для них за продуктами». «Сходить?» — уточнил Дима. «Нет, ходить». «Сколько же, интересно, я это должен делать?» «Пока не изменится ситуация». Не сказав ни да, ни нет, Дима ушёл; однако стиснул зубы — побывал в доме на Болотникова раза два. Потом сходил в штаб, доложился честь по чести. Ему сказали: «Молодец. Продолжай». Больше он в штабе не показывался и на Болотникова тоже. И ему из штаба никаких вестей не было. Хотя в первый раз взяли и адрес и телефон. И записали фамилию. О своей попытке поступить в ЧОН Дима, естественно, никому не говорил. Так дело и заглохло. А ЧОН между тем продолжал жить, то исчезая в мелких делах, то гремя на весь район. Последний раз чоновцы сверкнули этим летом. Вдруг пронёсся слух: объявилась компания неизвестных, которые воруют велосипеды. Приезжает, например, человек в магазин за хлебом, ставит велосипед у входа. Возвращается через десять минут, а велика и след простыл. Человек, естественно, в слёзы — ищет-рыщет, родители мрачнее тучи, а какие понесознательней, и за ремень берутся. Таким образом, кстати говоря, пострадал Колька Горелов, известный всему шестому «В» сочинитель детективов. Он даже одно время собирался писать на эту тему приключенческую повесть. И вот взялся за дело ЧОН — человек двадцать сплочённых ребят. Всего неделя прошла — выловили ту четвёрку велосипедных бандитов. А куда им деваться было, некультурному мелкому жулью, когда у ЧОНа система, железный план операции!..* * *
Представитель штаба Аркадий Моряков говорил кратко и ясно — только факты, безо всяких эмоций. Оказывается, в их микрорайоне живёт один бывший бульдозерист. Возводил плотины на Ангаре, на Енисее, строил Абакан-Тайшет — в общем, настоящий кадровый строитель. До недавнего времени работал на БАМе. Спасая ценное оборудование, провалился вместе со своим трактором под лёд — в реку Лену. Сильно простудился. Дал себя знать застарелый ревматизм; теперь не может двигаться. Живёт с матерью. Надо помочь! Такими вот, почти что неживыми фразами говорил этот представитель штаба. Но именно они как раз и доходили лучше всего. — Сколько же ему лет? — спросила Тамара Густавовна. — Сорок один. — Господи! Какой ещё молодой! И Моряков кивнул в ответ. Маринка Оленина, для которой сорокалетние мужчины вовсе не были молодыми, невольно закусила губу: таким этот Моряков показался взрослым и серьёзным по сравнению с нею… Наискосок, через весь класс, Маринка со спрятанной внутри улыбкой поймала взгляд Генки Стаина. Он серьёзно кивнул ей: «Обязательно поможем, точно?» — Ну, ребята, какое мы примем решение? — сказала Тамара Густавовна. — Люда, может, ты? Коровина Люда, председатель совета отряда, круглая отличница, встала и уверенным, отличническим голосом начала: — Я думаю, что наш отряд обязательно поможет и возьмёт шефство над экскаваторщиком товарищем Банкиным… — Во-первых, не экскаваторщиком, а бульдозеристом! — громко сказал Соколов. — А ты не перебивай! Когда тебе дадут слово… — А я и не перебиваю. Я уточняю! — Дима встал. — И ещё я хочу спросить. Почему, когда надо кого-нибудь выловить, ЧОН берёт такие дела себе? А когда надо просто помочь, ЧОН отдаёт простым пионерам? Шестой «В» ответил тем гудением, каким пчёлы встретили однажды нерасчётливого Винни-Пуха. И этим Винни-Пухом был Аркадий Моряков… Только Люда Коровина стояла на своём: — Что ж ты? Помогать, значит, не думаешь? Они всегда были с Соколовым в натянутых отношениях. — Помогать я думаю. А всё-таки это неправильно! — Дима! Ну о чём ты сейчас… — укоризненно начала Тамара Густавовна. — Почему ж, вопрос правильный, — спокойно перебил её Аркадий Моряков. — Во-первых, когда мы кого-нибудь… — он взглянул на Диму, — «ловим», это для нас работа, а не игра. Во-вторых, мы делаем всё подряд, любое, что сейчас важнее. В-третьих, и это естественно, мы не можем доверить борьбу с хулиганами неподготовленным ребятам. Тебе, например. — Может, я подготовленней вас. — Не уверен!.. И в-четвёртых: мы, штаб, и не собирались просить заниматься этим делом весь ваш класс — у многих своей работы хватает. И мы вовсе не хотим, чтоб она из-за нас страдала. Здесь нужны человек шесть-семь, не больше. Но таких, кто действительно может и хочет. Понимаете, это всё абсолютно добровольно. — Мы двое обязательно пойдём! — громко сказал Стаин и смутился: — Оленина Марина и я. — Стаин Гена, тогда выходи к доске и пиши, — сказала Коровина. — И меня ещё прибавь. — Ты и так председатель! — крикнул Соколов. — А сказали: кто не занят. — Ничего, я не белоручка. — Не в белоручках дело. А просто, как что-нибудь новенькое, сразу Коровина тут как тут, чтоб прославиться. — А тебе не стыдно, Соколов? — Люда покраснела. Генка, который сам недолюбливал Соколова, вывел на доске фамилию Коровиной, и вопрос таким образом был решён. Кроме этих троих, в тимуровскую группу записалась ещё Таня Полозова — очень спокойная и хорошая девочка. Училась, правда, ни шатко ни валко, но это в данном случае… Ещё Серёжа Петров — личность абсолютно бесцветная, то есть никак себя не проявляющая. Зачем он только записался? — Для балласту! — тут же нашёлся Князь. — Эй! Постой, Семья. Меня тоже напиши. Номер шестой — Леонид Шуйский. Паша Осалин (фамилия которого, естественно, давно уже была переделана в «Ослин»), известный чемпион второгодников, улыбнулся: — Во законно получилось: Олень да Семья, Корова да Петру ха, Полозка да Князь — как раз трое на трое! Класс расхохотался: ведь действительно выходило — три девчонки, три мальчишки! Черта под списком, таким образом, была подведена. — А можно ещё одного человека? — вся красная, встала Нелька Жужина. Отвела набок чёлку. — Кого это? — Говорили же, что можно семь… — Кого предлагаешь-то? — Меня… — Вот Жужелица непонятная! — покачал головой Князь. — Сиди уж ты, не рыпайся! — А что такое? — спросил Аркадий Моряков. — Колышница! Аркадий промолчал. Потом все ушли. Они остались вшестером, и ещё Аркадий. — Теперь надо о командире подумать, — сказал он. — Среди нас вообще-то председатель совета отряда. — Петров показал на Коровину. Он всегда старался держаться поближе к тому, кто сейчас сильней или главней. Люда скромно опустила глаза. — В принципе это не имеет значения, — сказал Аркадий. Наступило то, что называется неловкая пауза… Ну, а кого им было ещё выбирать? Стаин — полуновичок, Маринка — принцесса, Петров — медуза, Шуйский — слишком остряк, Полозова… никогда в жизни никаких должностей она не занимала. Вроде была только раз санитаркой в классе примерно втором. Ну и вот. Кто остаётся? Одна Коровина Людка. Всё-таки признанный вожак. Аркадий дал им устную инструкцию и ушёл. Была эта инструкция весьма краткой: познакомьтесь, осмотритесь, много не спрашивайте. А то обычно неопытные тимуровцы начинают: мол, что вам нужно да чем вам помочь, а люди этого не любят, тем более он мужчина. Старайтесь сами всё примечать и делать без лишних разговоров. Держитесь повеселей и поспокойней, через недельку приходите в штаб — доложите. В тот же день они отправились к больному строителю. Потолклись перед дверью, пообзывали друг друга трусами, наконец позвонили. Долго дверь оставалась закрытой, Семьянин уже потянулся звонить ещё раз, да вовремя посмотрел на Маринку, опустил руку. И правильно! Дверь вдруг открылась… Перед ними стоял человек в самой простой домашней одежде, с распахнутым воротом рубахи. Голова кудлатая, лоб упрямый, туго обтянутый смуглой кожей, глаза совсем не грустные, плечи широкие и вся фигура крепкая. Только не стоял он, а как бы висел между двумя больничными костылями. — Здравствуйте! — сказал он. — Значит, это вы и будете? Оказывается, ему обо всём уже сообщили из штаба. Ну и тем лучше! Он разговаривал с ними как ни в чём не бывало. Шутил, улыбался, что вот каких красавиц к нему прислали. Но почему-то глядел при этом больше на Таню Полозову, а не на Маринку. Потом пришла его мама — такая ещё не очень старенькая старушка. Стали пить чай, и было непонятно, кто здесь тимуровцы и за кем надо ухаживать. Шуйский по этому поводу потом, естественно, острил, словно бы он был тут ни при чём. Но через дня три всё образовалось. Они уже знали, что нужно делать, где авоськи, а где посуда, без спросу брали веник… И только в одном деле ничем не могли они помочь этому хорошему человеку — Петру Петровичу Банкину: они не могли его вылечить! Во время шуточек с Таней или во время шахматных партий с Лёнькой Шуйским нет-нет да и морщился дядя Петя. Говорил, словно сознаваясь в каком-то своём прегрешении: — Вот же болят, заразы! Ну что ты будешь делать! — и ударял кулаком об кулак. У него ноги болели, не делаясь ни лучше, ни хуже, словно он их день и ночь держал на медленном огне. Да ещё погода ноябрьская не щадила его ни капельки. Так-то подумать: при чём тут погода, когда человек безвылазно сидит дома. Но оказывается, ревматизм и через каменные стены и через двойные рамы её чувствует. — Собаку бы, что ли, какую-нибудь достать! — сказал он однажды, досадливо усмехаясь. — Какую собаку, дядя Петь? — улыбнулась Таня. — Да так… — Он махнул рукой. — Ерунда это… В общем, говорят, собачий мех будто помогает от этого дела… — Мех собачий? — Ну да… — Он снова махнул рукой: — Врут, наверно. Тут уж лекарства никакие не помогают… — А вы пробовали? — Да всё, понимаешь ты, собака никак не попадается! — И он засмеялся. На этот разговор никто, кажется, не обратил внимания. В самом деле, что это за лечение — собаками… Да, никто не обратил, кроме Генки. И однажды не поздним ещё вечером в квартире Олениных раздался телефонный звонок. Маринка, как всегда, первая схватила трубку: звонили-то чаще всего ей. И точно. — Передаю по цепи, — услышала она Генкин голос, — срочность номер один. У меня. И короткие гудки. Маринка недовольно дёрнула плечом: ладно, припомнится! Но всё же быстро набрала номер Шуйского: — Здравствуй, Князь. — Принцесса! Чем обязан? — Передаю по цепи. Срочность номер один. У Стаина. Потом она в спешном порядке, но всё же очень аккуратно надела шапочку, замотала шарф. — Ма, на улице как? — Ужас! Не поленилась, натянула сапоги, хотя «молния» на левом была неисправная и всегда её злила… Так, наверное, каждый из их шестёрки собрался — с некоторыми чертыханьями на этого Семьянина, который затеял какие-то встречи, когда давно уже пора было смотреть телевизор. Однако ничего не попишешь — они сами разработали код звонков по цепи: Коровина — Петрову, Петров — Полозовой, Полозова — Стаину, Стаин — Маринке, Маринка — Князю, Князь — Коровиной. Было предусмотрено три степени срочности: два, один и ноль. Срочность номер один означала сбор через двадцать пять минут. Цепью они пока не пользовались — просто не было необходимости. Лишь однажды Коровина устроила «учебный сбор», и они тогда здорово на неё ворчали, когда выяснилось, что это не по-настоящему, а для проверки. Явились они все почти одновременно. Генка ждал их во дворе. Была уже настоящая зима. По крайней мере, снег лежал вполне по-зимнему, а во дворе даже успели залить каток. Именно к этому катку и повёл их Генка. Надо льдом бледно горело штук пять фонарей. Несколько аккуратненьких девочек делали вид, что они фигуристки. А на другой стороне площадки мальчишки гоняли в хоккей. Но вместо шайбы у них был красный резиновый мячик. Они рубились двое на двое в одни ворота. И вратарём у них стоял… пёс! Это был гвардеец на диво: хвост как помело, лапы и грудь богатырские, сам ростом с телёнка. Вратарь лаял весёлым басом, но когда мяч летел в ворота, успевал прыгнуть и отбить его здоровенной смеющейся мордой или схватить наглухо, как настоящий Третьяк. — Потрясающая собачка! — беззаботно и радостно сказала Маринка. — Для дяди Пети, — уточнил Серёжа Петров, который всегда, как известно, держал нос по ветру. Маринка тревожно посмотрела на Стаина; тот сперва пожал плечами, а потом кивнул: мол, что поделаешь!.. — Эй, ребята! Чья бульдожка? — крикнул Шуйский. Игра остановилась, потому что играли малыши, а спрашивали взрослые. — Моя, — ответил парнишка, примерно так третьеклассник. — Только это не бульдожка. Это помесь знаете чего? Сенбернара! Они людей спасают от снега. — От какого снега? — Ну, когда кто-нибудь заблудится, — пояснил словоохотливый хозяин, — в буране или еще где-нибудь, они берут человека и приносят. Видите, какой здоровый! — Кусается? — Не! Он совершенно не кусается!.. Снелл, ко мне! (Пёс в два прыжка оказался рядом с хозяином. Они были почти одинакового роста.) Знаете, шерсть какая тёплая, попробуйте! — Парнишка чуть не по локти запустил руки в шерсть, пёс терпеливо вилял хвостом. — У меня когда руки замёрзнут, я всегда так греюсь. Это же целебная порода! Насчёт целебности тот парнишка, наверное, приврал, но судьба пса была решена!
Они собрались группой на следующий день после уроков, заперли дверь на стул. Есть такой известный способ запирания классов: в ручку двери всовывается одна из задних ножек учительского стула. Железная ручка и дубовая ножка держат более чем надёжно — сидишь как в сейфе! Так они и сидели… Хотя времени для раздумий было, кажется, достаточно — почти сутки прошли, уж можно бы что-то для себя решить. Наконец Шуйский бодро сказал: — Ну что? Значит, свистнем собачку? Генка Стаин пожал плечами: мол, куда ж тут денешься, надо. — А чего-то мы не то придумали! — закончил вдруг Князь довольно нелогично. Таня Полозова неуютно заёрзала на своём месте. Петров тренькал обломком бритвы, воткнутым в парту. Маринка будто безучастно смотрела в окно. — Серый пел, Олень молчал, Семьянин ногой качал, — продекламировал Лёнька. — До чего мы так досидимся-то? А скоро уже к дяде Пете пора идти. — Вы, конечно… я не знаю, — Таня пожала плечами. — Как же это можно-то! — «Как же, как же»! — раздражённо сказала Коровина. — Это нужно. Понятно?.. Стаин Гена, какие у тебя предложения? — Никаких у меня нету предложений. Как решите, так и я буду. — Хорошее рассуждение! А ты что ж, не член коллектива?.. — начала Люда. Но тут же поняла, что это длинный разговор и не про то. Тогда она сказала: — Ладно. Давайте решать. Давайте проголосуем — и всё. — Я против! — сказала Таня. — Против чего? — Против этого. Они не произносили вслух, против чего «этого». Всё было понятно и так: чтобы сшить дяде Пете лечебные унты, надо содрать с собаки шкуру, а чтобы содрать с собаки шкуру, надо её… — Ну хотя бы голосовать согласны? — спросила Люда. — Значит, ты «за»? — Нет, я так не согласна! — Люда встала, будто на сборе, будто весь шестой «В» здесь присутствовал. — Нечего меня выспрашивать. Я предлагаю тайное голосование. — В принципе это правильно. — Стаин посмотрел на Маринку, но та сидела, упорно отвернувшись к окну. — Конечно, правильно! — сразу, будто спохватившись, согласился Петров, но никто не поддержал его. — А чего? — сказал Петров неуверенно. — Правильно же!.. Люда вынула из тетради по русскому аккуратную беленькую промокашку. Неясно было, зачем вообще делают эти промокашки. Теперь почти что все пишут «шариками». Люда тоже, естественно, писала «шариком», но промокашку всё-таки хранила — просто так. И вот теперь она пригодилась! Люда разорвала промокашку на шесть ровных квадратов, разложила их на окне. Сказала: — Вот бюллетени, вот я кладу карандаш. Проголосуешь — отодвинь свой квадратик в сторону. Кто за операцию — плюс, кто против — минус. Кто воздержался — пустая бумага. Согласны? Все промолчали, а молчание, как известно, знак согласия. — Давайте только в другой угол отсядем, чтобы уж без подглядок. — И откуда ты, Коровина, всё знаешь? — покачал головой Шуйский. — В лагере один раз так голосовали. — Люда спокойно пожала плечами: — Тут ничего особенного нет. Не сговариваясь, они сели за парты по одному человеку. Каждый как бы остался сам с собой. И никто не двигался с места. — Ну чего? — спросил Петров. — Чего-нибудь ещё надо сделать? — Если ты готов, то иди и голосуй. — Коровина кивнула в сторону подоконника. Серёжа посидел ещё секундочку — вроде для приличия, потом встал и пошёл… Точно такой же походкой он обычно шёл к доске: и быстро (то есть вроде бы смело), и неуверенно одновременно. Только он вернулся, встала Таня Полозова. — Счёт матча: один — один! — сказал Шуйский. Но никто не откликнулся на его шутку. Вслед за Таней почти сразу пошла Люда Коровина. Потом наступила пауза. Потом одновременно встали Маринка и Стаин. — Ну иди, иди, Марин. — А я лично не спешу, — ответила Маринка довольно отчуждённо. Так они и стояли: Генка опустил голову, Оленина опять отвернулась к окну. — Ну ладно. Вы решайте, а я пошёл. — Шуйский лёгкой своей походочкой отправился к дальнему подоконнику. Но почему-то долго стоял над своей бумажкой. Наконец проголосовали все. Последней Маринка… И тогда Люда Коровина, подчёркнуто глядя в сторону, собрала все бумажки, перетасовала их, словно карты (причём довольно ловко, чего Шуйский, например, никак от неё не ожидал), раздвинула веером, будто в подкидного собралась играть. — Плюсов три, минус один, воздержались двое… Значит, будем! — И она бросила бумажки на учительский стол, чтобы любой желающий мог проверить. Долго они молчали. Или им лишь казалось, что долго… Принято решение, и теперь уж никуда не денешься. Трое — «за», один — «против», двое воздержались. — Какие будут предложения? — спросила Люда. Она стояла за учительским столом, остальные так и сидели далеко сзади. Поднялся Стаин. Поднялся, потому что чувствовал: всё стало как-то страшнее и торжественнее. — Я предлагаю разбиться на две группы. Одна ходит к дяде Пете, другая ворует. — Верно! — словно даже обрадовалась Люда. А может, и правда обрадовалась, что дело стронулось, прошло мёртвую точку. — Верно! И командиром второй группы я предлагаю Стаина Гену. Согласны?.. Ген, кого возьмёшь к себе? — Шуйского Лёньку… — и замолчал. — Всё? — У вас там у дяди Пети дел прилично, а нам как раз много народу не нужно. — Согласен, Лёня? Шуйский пожал плечами и покраснел. — А кто умеет делать… — Таня Полозова обвела всех глазами. — Ну, после того, когда стащите… в смысле стащим… — Я умею, — тихо сказал Генка. — Мы сусликов на селе свежевали. Вот, значит, как оно называлось — свежевать. Жуткое это слово теперь камнем лежало в каждом из них. Вечером в квартире Стаиных зазвонил телефон. Генка снял трубку. — Это ты? — услышал он очень-очень знакомый голос. — Я. — Это правда, что ты… что ты свежевал? — Они же вредные, Марин! А шкурки… — Он замолчал. И на том конце провода тоже долго молчали. — Я тебя очень прошу: пожалуйста, ты его сам не свежуй. Генка ничего не ответил. Стоял прикусив губу, а свободной рукой тянул себя за волосы, словно собирался их выдернуть! Не такой он был человек, чтобы ляпнуть это важное обещание. Ляпнуть, а потом не выполнить. Да ещё перед Маринкой! — Тогда хотя бы бросьте жребий… Ты можешь мне это обещать? — Могу, — ответил он твёрдо.
Из разговора на уроке зоологии
«А мы, знаешь, мы один раз с дачи уезжали, так? Года три назад. И написали на берёзе: «Наташа+Маша» — у меня же сестра Наташка… Ну ты слушаешь, Лёнь?.. А после зимы приезжаем и про надпись каким-то чудом вспомнили! Смотрим, а её нету… Глядели-глядели… Представляешь, она, оказывается, метра на два выросла! Наверх ушла… Правда!.. Ну, может, не на два, а метра на полтора точно… И мы тогда стали каждый год писать. Но больше никогда так не вырастало. А первый год выросло. Интересно, почему, да? Я Марьяшу обязательно спрошу… Может, какое-нибудь активное солнце было?» «Надписи-то чем делали?» «В смысле как?» «В смысле так! Ножичком небось?» «Ой, ладно тебе, Лёнька!.. Ну хотя бы и ножичком». «А тогда сама считай: «Наташа», «Маша» да еще «плюс» — одиннадцать ран. Ежегодно!» «Да ей же не больно!» «Ну правильно. Тебе больно, а ей не больно. Видишь, ты какая умная!»* * *
Семь дней, даже можно сказать — семь дней и семь ночей, собака не выходила у них из головы. Она и ночью бегала по их снам — весёлый лохматый вратарь. Но о том, как они будут делать «то самое», никому из них не приснилось ни разу. Генка и Князь караулили двор из окна стаинской квартиры. Однако Снелл гулял или с мальчишкой, или с мальчишкиным отцом, или вообще его не было. Дело ещё осложнялось тем, что Генку здесь хорошо знали. Да и Лёньку теперь, пожалуй, тоже: часто появлялся, все видели, к кому он ходит. А потом, именно он тогда интересовался этой собакой… Вдруг возникло ещё одно препятствие: в дело вмешалась Жужина. Та самая Нелька Жужина, извечный тормоз шестого «В», которую в своё время они не приняли в команду. …Генка нервно делал уроки, Князь стоял на посту у окна. Так у них было заведено — сорок пять минут, а потом смена караула. Вдруг Лёнька закричал: — Эй, Семья! Хочешь старую знакомую повидать? Генка рыпнулся к окну, оттёр плечом длинного, но хилого Князя, хотя места было бы достаточно обоим. Вот это да! На хоккейной площадке стояла Нелька Жужина и что-то втолковывала хозяину Снелла. Мальчишка то кивал, то пожимал плечами, а пёс приветливо обнюхивал Нелькины варежки. — Что же это такое, Князь? — Ты меня, конечно, прости. Я много знаю, но… — Кто-то предал! — Брось ты! Доспорить им не удалось. Треснул телефон. Второй раз, третий. Наконец Генка снял трубку — вот же начнут звонить, когда не надо! — Алё!.. Это ты? Голос у Маринки был спокойный и приветливый. Наверное, впервые Стаин не обрадовался этому голосу. — Марин! Слушай внимательно! У нас ЧП. Жужина во дворе треплется со Снелловым мальчишкой. Срочно тебя прошу: аккуратно разузнай у дяди Пети. Первое: ходит к нему Жужа или нет. — Ужас какой, Ген! Вдруг она… — Второе, Марин: если ходит, то с кем. Звони сразу… Постой! Надеюсь, ты к этому делу… — Не стыдно! — И в ухо ему полезли короткие противные гудочки. «Так, поругались, — подумал Генка. — Подлец я, подлец! Кого подозреваю…» — Чего будем делать? — спросил Князь детективным голосом. — Сам не понимаешь? Наблюдать! — рявкнул Генка.* * *
Дальше ничего потрясающего не произошло. А впрочем, как судить. Может, как раз и произошло. Нелька, мальчишка и Снелл, все втроём, прошли по двору и исчезли в парадном. — Что это за финты, Князь? — Сюда бы Горелова Кольку, он бы живенько сочинил нам марсианских шпионов из созвездия Альдебаран. — А мы чего сочиним? — Не знаю, Семья! Минут через двадцать Жужина вышла с полиэтиленовой сумочкой в руке. Несла что-то! Но не тяжёлое… — Дураки мы — не догадались её встретить! — Опасно! И так заварилось… Видишь, как всё пронюхивает. Ещё минут через пятнадцать позвонила Маринка: — Стаин? Это Оленина. Как ни хотелось Генке узнать новости, он всё же сказал: — Марин!.. Ну, Марин! Ты можешь меня извинить один раз в жизни? — Во-первых, не один раз! — Ну, Мари на! Генка, что есть силы посмотрел на Шуйского, тот усмехнулся, дёрнул плечом и вышел, прикрыв дверь. И через секунду Генка услышал, как в уборной спустили воду: Князь хотел этим сказать, что ему вовсе не интересно, что он вовсе не собирается подслушивать «глубокоуважаемых влюблённых», что он вообще ни капли не переживает, а, напротив, как и всегда, готов шутить. Но Генке, конечно, некогда было разбираться во всех этих тонкостях. Вот Маринка бы, наверное, разобралась… Так подумал Князь Шуйский и вздохнул, между прочим, довольно-таки грустно. Впрочем, и Маринка стала теперь какая-то не та. На всякий случай Князь спустил воду ещё раз — может, услышит… Но, конечно, она не слышала! Она слушала совсем другое. — Ну, Мариночка. Я тебя очень… Я тебя, Марин, очень прошу! Ты можешь меня простить последний раз в жизни? Она молчала. Однако Генка чувствовал, что молчала благосклонно. — Я, Марин, хочешь… Ну, я что хочешь за это! — Значит, только за это? Семьянин стоял повинный и счастливый. — А я, между прочим, у дяди Пети была, — и добавила довольно ехидно: — По твоему заданию. — Ну, Марин!.. — К нему Жужа ходит уже две недели! — выпалила наконец Маринка, которую саму распирало от новостей. — Ёлки-палки! — Но совершенно одна. Наврала ему, что «я, говорит, из штаба». А я ему говорю: «А вы ей чего-нибудь говорили?» А он говорит… В общем, он мне ничего не сказал. А потом он всё-таки сказал, что про собаку он ей говорил. — Ты это сама спросила, да? — Спросила, — созналась Маринка. Это, конечно, была ошибка: Генка не проронил ни звука, но всё было понятно и без слов. — Я же растерялась! Да ещё ты меня обрявкал… — Давай, Марин, встретимся по цепи. Ты «срочность ноль» успеешь? «Ну что тут поделаешь, — думал Генка, — если она совсем не конспиратор и не борец. Психованием тут ничего не добьёшься. Надо спокойно и настойчиво её переучивать…» А сам в это время уже набирал номер Коровиной.Собрались, глядели друг на друга, хлопали глазами: «Ну и Жужа! Ну и Жужелица!» Сразу стало ясно, что никто ничего прежде не знал. Значит, и предателей никаких не было. — Но тогда что это за фокусы с нашим Снеллом? — ровным голосом спросила Коровина. — С нашим покойным Снеллом! — уточнил Лёнька. — Слушай, Князь, иди ты в болото! — крикнула Таня. И тут же все на него накинулись: нашёл чем шутить. Однако в вопросе усмирения Жужиной решено было использовать именно Лёнькин юмор. Назавтра во время географии (добрая Нина Павловна была добрее даже самой Тамары Густавовны, и шестой «В» этим, конечно, пользовался!), итак, на географии Шуйский отправил Жуже записку следующего содержания: «Господин начальник штаба жужелиц! Имей в виду, про твоё враньё и про твои колы всем всё известно. Попробуй туда ещё раз нос сунуть! Крепко целуем…» Нелька прочитала и покраснела, как маков цвет. И потом сидела уткнувшись глазами в одну точку чуть не весь урок. Милая Нина Павловна даже сделала ей замечание. Но в обычной своей форме: — Жужина, ты не работаешь почему?.. Ты как себя чувствуешь? Нелька в ответ лишь покачала головой. «Ну что с человеком делаем! — думала Таня Полозова. — Ну хочет — пусть помогает, а мы начинаем тут…» Она собралась на перемене высказать это команде. Но вдруг Жужина опередила её. Едва Нина Павловна ушла, а за нею добрый Боря Сахаровский, нагруженный картами, глобусом и с журналом почти в зубах, в общем, едва эта пара растворилась в грохоте переменочного коридора, Нелька Жужина встала на парту и крикнула: — У кого есть собака? Это было настолько необычно, чтобы Жужина и вдруг кричала! Все остановились разинув рты, почти как в комедии Гоголя «Ревизор». — Ну, у меня есть, — сказал Горелов и смутился, словно Нелька приглашала его на свидание. А Жужина, видно, сама работала на пределе человеческих возможностей. И поэтому, вместо того чтобы подойти к Кольке и сказать ему остальное тихо, Жужа опять закричала: — А можно, я к тебе зайду в три часа дня? — Можно, — ответил Горелов чуть ли не шёпотом. И тут в Жужиной перегорело какое-то сопротивление, она съёжилась, смутилась, села за парту (как раз на то самое место, где только что стояла ногами), открыла географию и стала учить. А урок только что прошёл! Народ тихо покинул класс, и некоторые довольно нервно оглядывались на Жужу до самых дверей. А Машка Цалова и Лаврушка, которые были сегодня дежурными, не решились выставить Нельку в коридор (святая обязанность дежурных), даже вообще подойти к ней. — Пусть сидит, — прошептала Цалова. — Конечно! — прошептала Лаврёнова. Коровинская шестёрка, естественно, никак не могла на людях выдать своего волнения. Они только обменивались выразительными взглядами. А на следующем уроке, на алгебре (событие опять практически невероятное!), Коровина пустила по цепи приказ: «Всё продумать, в 16.00 у меня с предложениями». Записка вернулась к Люде с припиской: «Что, она решила шкурами ему всю комнату обить?» — почерк явно княжеский.
* * *
Но не пришлось им встретиться в шестнадцать. Потому что приключения нахлынули разом, плотина рухнула, и вдруг их понесло — совершенно бесконтрольно, как щепки по весенней реке. Пообедав на скорую руку, Шуйский спешилк Семьянину. Абсолютно никакие предчувствия не тревожили его душу. Хотя потом он недвусмысленно намекал… Ну, в общем, это не важно. Вдруг из ворот стаинского двора прямо на него вылетел Снелл! И вот здесь Лёнька действительно проявил завидную реакцию и настоящее мужество. Он схватил пса за ошейник, крикнул что-то вроде: «За мной!» или «Вперёд!» — и бросился бежать. Снелл, такой уверенный в своей силе, уверенный, что никто и ничего плохого против него затевать не может, раз он сам ничего не затевает, простодушно поскакал рядом с Лёнькой. Даже обгонял его, проявляя особое рвение. Они свернули за угол, промчались три квартала, влетели в проходной двор и побежали прямо к сараю Полозовой. Когда-то, лет тысячу назад, здесь лежали дрова. Но потом в домах установили батареи, печки разломали… Собственно, никто в шестом «В» сам этого не видел. Об этом рассказывала народная молва устами бабушек и родителей. А сараи вот остались, представьте себе. Держа одной рукой Снелла за ошейник, Лёнька другую руку сунул в условленное место под железку, нащупал ключ. На секунду мелькнуло: «Отпустить его сейчас, пока никто… И концы в воду…» Но ключ уже щёлкнул в замке, дверь открылась. Лёнька и Снелл вошли в мрачноватый сарай.* * *
Прошло три дня. И каждый день они собирались в сарае, запирались изнутри на крюк. Снелл вёл себя спокойно, хотя никак не мог взять в толк, зачем его здесь держат. Кормили отлично — дома его так никогда не кормили. Но Снелл замечал это лишь в первый день. Дальше в том месте его собачьей души, где должна рождаться радость от мясных костей и тёплых котлет, поселилась тоска — по дому, по весёлому и, пёс знал это, довольно-таки беспечному хозяину. Когда приходили люди, которые держали его в сарае, Снелл не сердился на них, а даже скорее радовался. Всё же не так одиноко. Хотя, конечно, любить их он не мог. Из всех, пожалуй, ему нравилась только одна девочка. Она говорила высоким и звонким голосом. Но Снелл проявлял к ней особое внимание, конечно, не из-за голоса. От девочкиных перчаток и пальто пахло хозяином! Снелл подходил к девочке и клал ей голову на колени. Голова у него была тяжёлая, а глаза умные и серьёзные. — Смотри, он опять к тебе подошёл. Он понимает, Маринка! Точно, всё понимает! — Таня погладила Снелла, и пёс коротко вильнул хвостом. — Стоит и ждёт, что ты ему что-нибудь расскажешь! — Кончайте вы панихиду! — сказал Петров и посмотрел на Люду Коровину: та сидела, глядя в одну точку. — Ну чего будем делать? — сказала Маринка. — Я не знаю! — А как там этот… собаковладелец? — спросил Шуйский. Дело в том, что они организовали так называемую «группу утешения», в которую, впрочем, за неимением свободного народа, отрядили одну Маринку. Занималась она (группа «Маринка») тем, что, познакомившись с мальчишкой (его звали Витя), стала успокаивать и отвлекать его разными разговорами и байками про то, что всё это ерунда и не в собаке счастье. Однако, несмотря на всё Маринкино, казалось бы, обаяние, Витька этот не то чтобы невзлюбил её, но смотрел как-то удивлённо. И это, в общем-то, наверно, правильно: у человека такая беда стряслась, а ему говорят, что ничего, перезимуем, подумаешь, и тому подобное. Дурацкое какое-то занятие! Маринка, конечно, это понимала. И, естественно, переживала. Но задание есть задание. А Витьке хоть немножечко, да всё-таки было легче… То есть так предполагалось. На самом-то деле ничего ему не было легче! — Он сегодня объявление писал о пропаже! — сказала Маринка и погладила Снелла. — Ну писал, ну и что? — Князь взял у неё половинку тетрадного листа, покрытого зелёными каракулями. — Образец безграмотности: «Сент-бернар, пропавшая неизвестно где…» — Да прекрати ты свои остроты! Лёнька пожал плечами: — А вы прекратите строить из себя несчастных и пострадавших. Сами же всё это затеяли! Сами! Понятно? Я-то лично, когда голосовали… И замолчал… А странно, они почему-то ни разу не говорили между собой про голосование (плюсов три, минус один, воздержались двое). Наверно, считали неприличным об этом говорить. И Князь тоже сейчас это понял. Но слово уже было сказано, и Лёньке ничего не оставалось, как только сидеть отвернувшись в сторону и хмурить брови, словно он о чём-то думал. Они молчали довольно долго. А Снелл глядел на них, ожидая своей судьбы. — Ребята! — Коровина поднялась, стала к стене: руки за спину, сама прямая. Стоя, казалось ей, получалось торжественней. — Ребята! Зачем мы спорим о том, о чём спорить мы совсем не должны… Я знаю, что хочет Таня сказать! А ты тогда тоже ответь. Кто тебе важней — человек или собака? — Она окинула всех почти что победным взглядом. — Мы не из тех, кто кошек вешает! Наша совесть чиста! — Чиста… — Генка покачал головой. — В том-то и дело! Если б чиста была, не сидели бы здесь каждый раз по полдня. — Знаете что, пойдёмте к дяде Пете, — тихо сказала Таня. — Всё равно же мы сейчас ничего не решим. Вечером состоялся такой телефонный разговор. — Гена, ты послушай. Я к тебе сейчас обращаюсь не как командир группы. Просто как товарищ к товарищу. Мне не с кем посоветоваться, а ты самый надёжный… Ты слушаешь меня? — Слушаю… — Ты видел, какой сегодня дядя Петя был? — Выпивши. — Ну вот! Ты тоже заметил? Он так по этой дорожке и покатится… А ему пить вообще нельзя! — Короче, Люд, что ты предлагаешь? — Мы его должны вылечить! — При помощи Снелла? — Мы должны это сделать! — Да сам бы дядя Петя нас за это… — А ему не обязательно знать. Мы должны!* * *
На следующий день было воскресенье. Серебряное ноябрьское солнце светило в щели сарая, никого, впрочем, не радуя. — В молчанку больше играть нам некогда! — Слушай, Люда! Ты прямо такая умная, как завуч. — Кончай, Князь! Может, со штабом посоветуемся, Люд? И вдруг Стаин твёрдо сказал: — Будем делать сегодня. Девчонки уходят, мальчишки остаются… Сейчас времени сколько? Пол-одиннадцатого? Ну вот, в час тридцать встречаемся у Коровиной. Всё. Девочки, до свидания! Коровина подошла к двери, скинула крючок. Маринка, не глядя ни на кого, быстро вышла наружу. Снелл пошёл было за ней. — Нельзя! — крикнул Генка. — Гена… — Уходи отсюда, Тань… Но глядел он в пустую дверь — мимо Тани и мимо Коровиной — на Маринку. Она быстро шла прочь, засунув руки в карманы, опустив голову. Последней вышла Коровина, плотно прикрыла за собой дверь. Ещё секунду было слышно, как скрипит и хрустит снег у них под ногами. — Ты чего затеял, Семья? — тихо спросил Шуйский. Генка расстегнул пальто и вынул из кармана топорик. Такие продаются в туристических магазинах. Петров с ужасом смотрел на чёрное, остро отточенное лезвие. Генка легонько вонзил топорик в стену, подошёл к Снеллу, сказал повелительно: — Лежать! Лежать, Снелл! Пёс медленно, как бы нехотя улёгся, опустил голову на передние лапы и стал ждать. Видимо, команду эту он считал бессмысленной, но не послушаться ему было неудобно. Генка зашёл сзади, поднял над головой правую руку, замер так на мгновение. Снелл продолжал лежать как ни в чём не бывало, в двух шагах от него торчал воткнутый в стену топорик. — Поняли? Вот как это можно сделать. — Ну ты и подлец! — тихо сказал Шуйский. — Надо же, как всё продумал! — Ты сам подлец! Сам! — вдруг закричал Генка. (Снелл удивлённо обернулся.) — Думаешь, мне легко было это продумывать! Думаешь, мне очень приятно?! Подлец ты сам!.. Ты-то что? Только острить и ничего не делать? — Я Снелла украл! — Ну и молодец. Тогда нечего здесь распространяться… Давайте жребий бросать. — Что?.. Жребий? — еле-еле выговорил Петров. — А ты думал, это я буду делать?! На кого выпадет, тот пусть и делает! Какой жребий будем бросать? Шуйский и Петров молчали. Снелл, всё ещё продолжая послушно лежать, скосил глаза на ребят, словно и ему было интересно, какой способ бросания жребия они выберут. — Я… — Шуйский отрицательно покачал головой. — Я… Ты извини, Семья. Тут дело не в жребии, а в том, кто может это сделать, а кто нет. — Так!.. Генка сжал кулаки, но тут же разжал их, даже встряхнул кистями: драка сейчас совершенно ничего не решала. Что же он им должен сказать? Предатели? Трусы несчастные? Генка не сказал ни того, ни другого. — Уходите отсюда оба! — сказал он им. — Если кто-нибудь хоть одну букву от вас узнает!.. — Что ты, Семья! — сказал Петров очень радушно. Лёнька молчал, сжав губы. Понимал, что они с Петровым делают подлость. Серёжка в это время ещё продолжал разглагольствовать про то, что всё железно, металлически и тому подобное. Шуйский взял его за плечо и потянул к выходу. А Петров решил, что его по-дружески обнимают. И попытался тоже положить руку на плечо Князя. «Ну и кадр! — подумал Генка. — Совершенно не рубит ситуацию!» Он кинул на дверь крючок, вынул из стены топорик. Снелл всё ещё продолжал лежать. Наверное, он лежал сейчас уже не по команде, а просто так: что ему ещё было делать в этом сарае? Сидеть да лежать!.. Генка посмотрел на часы. Времени было без двух минут одиннадцать. «Можно не спешить», — подумал он и усмехнулся. Вернее, как говорится, криво усмехнулся. Снелл, поднявшись, довольно равнодушно подошёл к нему. Просто, что называется, от нечего делать. Генка невольно бросил топорик на земляной, смёрзшийся до камня пол. — Место, Снелл! Место! Снелл остановился в полушаге, удивлённо и с обидой посмотрел на этого взъерошенного и почему-то несчастного мальчишку. Опять он подал какую-то странную и бессмысленную команду: «Место» — его подстилка в углу между диваном и стеной — было совсем не здесь. Чего же он тогда хочет, этот мальчишка? Генка никаких таких рассуждений собачьих, конечно, знать не мог. Он только видел, что пёс остановился и смотрит на него как-то странно… Может, он чует? «Полчаса-то я имею право!» — подумал Генка. Поскорее от Снелловых глаз он вышел за дверь, надёжно замкнул её на два оборота, сунул ключ под железку. На минуту ему так легко стало и так свободно! Он быстро пошёл прочь от сарая, словно у него было какое-то важное дело. День сегодня был удивительно погожий, зимний, хрусткий. В парке, за несколько кварталов отсюда, старомодно играла музыка. Там залили бывшее футбольное поле — получился каток. Из репродукторов вырывались какие-то допотопные танго и фокстроты, но именно под них как раз кататься лучше всего. Ветер легко подхватывал большие цветастые куски музыки и приносил их Генке… Там был праздник, там катались, знакомились с девчонками при помощи сшибания с ног (как говорится, бьёт — значит, любит). Им было хорошо, а Генке было совсем нехорошо. Словно бы он в чём-то провинился, хотя ни в чём он не провинился! Он честно шёл до конца по той дороге, которую они наметили. Это было как у альпинистов: все обессилели, и он один продолжал карабкаться к цели. «Я поступаю честно и мужественно» — так он сказал себе. Никто не мог этого сделать, а он сделает, стиснет зубы и сделает, теперь всё было в его руках. Да, в его! Как он решит, так и будет! Постой… А что решать-то? Всё решено… Или ещё не всё?.. Ладно, тогда давай по порядку. С теми, кто вешает и мучает животных, он, Генка, действительно ничего общего не имеет, это ясно. Дальше: всем известно, что убивают овец, коров, кур — на колбасу, на мясо, на перья. И это считается правильно, никто не кричит сам на себя, что он подлец и убийца. То же самое ведь и со Снеллом — его убивают на шкуру… Тут Генку жуть взяла за сердце: до чего же спокойно я рассуждаю, как про задачу у Елены на уроке!.. А всё-таки что-то было здесь не то… Да! Не то! Помнишь, когда предложили: «Давайте в штаб сходим», ты первый отказался: что, мол, время зря терять. А на самом деле ты ведь не из-за времени… Чувствовал: не похвалят за это! Вдруг ему пришло в голову совершенно чёткое решение, как приказ: я сейчас пойду и отпущу! Тут он будто очнулся. Он стоял у ограды городского парка — высокой, старинной. Не сделанной под старину, как у нас теперь любят, а именно старинной. Здесь когда-то, лет сто назад, было кадетское училище. Сквозь высокие чугунные редкие прутья ограды Генке хорошо видна была праздничная пёстрая толпа на катке, она медленно кружилась, а из репродукторов продолжали выплывать старомодные танцы.
Генка всё стоял, держась двумя руками за чёрные пики, и смотрел туда… А может, только делал вид, что смотрит. Да, только делал вид. Ну, отпустишь или нет? Всё сейчас в твоих руках. И сразу он пошёл — быстро-быстро, как только мог. Он спешил, чтобы не перерешить. Потому что кто-то внутри всё время говорил ему: «Как же отпустить? Ты что? А дядя Петя?» А он делал вид, что не слышит этого голоса, и говорил себе: «Правильно! Законно придумал! Так и нужно! Молодец!» А ещё он старался представить себе, как возьмёт Снелла за ошейник и побежит с ним по улицам: «Быстрей, Снелл! Быстрей! Домой!» Генка вынул ключ, повернул его в замке — раз… Второй раз ключ отчего-то не поворачивался. Генка удивлённо потянул за ручку — дверь отворилась. А запирал он (железная отцовская наука) всегда только на два оборота. Уже почти догадываясь, он шагнул в сарай. И всё-таки не мог не остановиться на пороге: Снелл исчез!.. И ни записки, никакого знака. Он сел на серый занозистый ящик из-под неизвестно чего — такой он был весь неопределённый и старый. «Кто же это сделал? Мальчишка!.. Девчонке слабо!» Тут он увидел аккуратно прислонённый к стенке топорик. «Не, мальчишка так никогда не сделает». Он растерянно пожал плечами. Внутри была какая-то пустота… Снелл сейчас, чуть привстав на задние лапы, слизывал громадным ярко-розовым языком хозяйские слёзы и расшвыривал хвостом разные мелкие и крупные предметы… А он, Генка Стаин, не имел, между прочим, к этому никакого отношения. Но хотя бы пусть все знают, что он тоже за это. «Странно, — подумал он, — я хотел сделать хорошее для дяди Пети, а теперь не сделал и рад». Он вышел из пустого сарая, машинально закрыл дверь, опять на два оборота. Посмотрел на часы. До назначенного сбора оставалось ещё полтора часа с лишним. Генка побрёл домой, глубоко засунув руки в карманы, чего с ним обычно никогда не случалось — спортсмены, люди волевые, так ходить не должны… Кто же это всё-таки сделал?.. Он остановился переждать машины на перекрёстке и долго стоял у края тротуара. Мимо него что есть духу бежала девчонка, а рядом с нею здоровый рыжий боксёр. Шкура на нём блестела, но шерсть была короткая — наверное, совсем не тёплая. «Почему же мы сделали это? Хотели дяде Пете помочь… Из-за того, что Снелла жалко? Да, Снелла дико жалко. Но дело совсем не в том…» Он представил двух людей — дядю Петю и этого паренька, Витьку. Один из них натягивал собачьи сапоги, другой кричал, и плакал, и бессмысленно бил по воздуху руками, словно тонул. И тут до Генки Стаина дошла очень простая истина. Вот она, и давайте помнить её все вместе. Ты хочешь сделать добро? Отлично. Только оглядись кругом: не окажется ли твоё добро для кого-нибудь большим злом? И если окажется — остановись! Не делай. И знай, что почти всегда есть другой путь. Может, не такой лёгкий и быстрый. Но есть.
* * *
Люда Коровина вошла в класс. Было ещё очень рано, школа пуста, а в классе сумеречно, как вечером. Не зажигая свет, Люда подошла к своей парте, села. Ей было о чём подумать. Как ни крути, а ведь она командир. И председатель совета отряда тоже! И дяде Пете они помочь всё-таки должны… До чего же Генка здорово сказал вчера! До чего же сказал!.. Конечно, это он сам Снелла. А мне даже в голову… Тихо в этой рассветной полутьме открылась дверь. Люда с удивлением вглядывалась в человека… в девочку, которая вошла в класс. Да это же Нелька Жужелица! — Здравствуй, Неля. — Отношения отношениями, а вежливость всегда должна быть. Жужина, не говоря ни слова, подошла к ней и протянула полиэтиленовую сумку. Люда машинально взяла её. Внутри что-то круглое. Апельсины, что ли? Только очень лёгкие. И тут она догадалась — клубки! Вот ей зачем собаки требовались! И никого убивать не надо… Шесть человек не додумались!.. — Мне бабушка говорит: тут даже на чулки хватит выше колена. Хотя мужчины чулки не носят, да? — Жужина помолчала, смущённая. — Я их чесала, собачек. А бабушка у меня прясть умеет. — А чего ж ты не связала сама? — неловко спросила Люда. Она хотела сказать, что это, мол, твоя заслуга — тебе самой и вязать, и дарить дяде Пете. А по голосу получилось, будто она ещё Нельку и упрекает. — Я медленно вяжу. А вместе у нас куда быстрей получится… Вы меня примете?Из размышлений перед сном
Если, например, начать так. Совершена крупная кража. У какой-нибудь старухи, у какой-нибудь старой графини. «Она жила, мирно доживая свой век на одной из тихих улиц. По утрам поливала цветы…» А чего у неё украли? Да пускай бриллианты. У графини же должны быть фамильные бриллианты! Например, она приходит домой… Например, с рынка… «Дело было однажды в июльский полдень. Анна Казимировна Трубадянская открыла дверь своей квартиры и замерла, поражённая…» Не, это чепушенция будет! Какая-то Трубадянская, какая-то Казимировна. В тот раз какой-то Кронштайнов. Надо простое, человеческое имя… «Анна Егоровна Трубкина открыла дверь своей квартиры и замерла, поражённая…» Опять будет Борька Сахар смеяться. Скажет: «Обязательно поражённая, обязательно замерла…» Ну и что? Конечно, поражённая! Если б его самого обокрали — ещё не так бы, может, остановился… Хватает шкатулку, а там пусто! Сапфиры величиной в двадцать пять карат… Надо завтра в энциклопедии посмотреть. Двадцать пять карат — наверно, большие были… Нет. Понимаешь ты, нет! Не будет она замирать! У неё же шкатулка не в передней находится. Она сначала вошла в комнату, поставила сумку… Вообще даже могла ничего не заметить в этот день. Что ж она, как приходит домой, сразу к своим бриллиантам кидается?.. Н-да… «Она прошла в свою просторную, чуть пахнущую…» Нет, пусть она всё-таки замрёт. Пусть она как будто замерла, но не просто, а потому что кое-что заметила… Замок, что ли, взломан? Как же она тогда дверь ключом открыла?.. Вот бы сейчас Борька повеселился. Она чего-то именно заметила! Вошла и сразу: ёлки-палки! Ну, этого я, конечно, писать не буду… «Лицо её приняло тот мертвенно-бледный оттенок, который обычно…» Чего же она там увидела-то? Вот я, например, сам я, вхожу к себе в квартиру, открываю дверь. Открываю я дверь… Вешалка, пальто, ботинки… «И вдруг она заметила в остром, как игла, луче света, падавшем… в ярком свете раскалённого июльского солнца… раскалённого солнца…» А! Понятно! Она уходила — пол натёрла, а когда вернулась, смотрит: что за ёкэлэмэнэ? Следы! Здоровые такие сапожищи… Не, лучше: «Увидела на ослепительно натёртом полу следы узких остроносых штиблет, которые в первую секунду старушка приняла даже за женскую обувь». Блеск! Она бежит по этим следам… «Не помня себя старая графиня подбежала к заветному секретеру… к заветному старинному секретеру ореховой работы старых мастеров, сердце её перестало биться, а лицо приняло тот мертвенно-бледный оттенок, который…» Нормальненько! Подбегает, а двадцать пять каратов как не бывало… «Она схватилась за сердце и упала, словно подстреленная птица…» Не, это ерунда. «И упала, как… как…» Завтра на истории меня спрашивать не будут. Сяду тихонечко — и порядок, начало в кармане.История четвёртая. Святое дело
«Какие весёлые сани сбегают с декабрьской горы. Мороза седое дыханье горит на щеках детворы!..» И так далее и тому подобное — больше он не помнил и потому без конца твердил эти строчки. Он бежал, упёршись руками в огромные свои сани, дровни, а может, лучше назвать их розвальни, глотал морозный воздух и был счастлив. Но странно всё-таки, откуда только берётся этот металлолом? Ведь каждый год целые школы выходят за ним на охоту, а он опять и опять прорастает, будто из-под земли. Честное слово, как грибы. И снова громыхают по улицам саночные поезда, нагруженные дырявыми кастрюлями, безносыми чайниками, худыми вёдрами. Натужно скрипят проржавелые скелеты допотопных кроватей с шариками… А ведь кажется: железо такое прочное! «А нам нужна, а нам нужна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!..» Да, шестой «В», на этот раз, хоть кровь из носу, хоть что хочешь, нужна только победа! Как на чемпионате мира! Дорога пошла под горку… Ну-ка наддай, Соколов, теперь само поедет! И точно: дорога уже не шла, а летела вниз, сани вырывались из рук. Димка едва успел вспрыгнуть на них, стукнулся боком о какой-то надтреснутый чугунок, но не разозлился, а, наоборот, ещё больше повеселел, потому что это всё был металлолом — жёсткий, увесистый, такой необходимый ему сейчас. А сани его, действительно настоящие деревенские дровни, которые ещё совсем недавно таскала живая лошадь, были полны металлолома и были тяжелы, как танк, и бежали с горы. Димка Соколов беззаботно лежал наверху, раскинув руки и глядя в синее небо, совершенно уверенный по праву сильного, что ничего с ним сейчас случиться не может. И точно. Дровни сами собой миновали все колдобины и все телеграфные столбы. И вроде приморились. С каждым мгновением скрипение снега становилось всё громче, а сани ехали всё медленней. Наконец они стали. Димка лежал на верху воза, думая о своей удаче. Высоко над ним, в самой глубине, застыли две крохотные легчайшие пушинки, то ли пририсованные, то ли примороженные к синеве. Тишина кругом — деревня, да и только!..* * *
Город, в котором они живут, считается старым. Даже, можно сказать, древним. Хотя на самом деле от древности этой почти ничего не осталось. По тем ветхим домишкам, что стояли здесь со времён царя Гороха, прошлась бульдозерная армия. И за каких-нибудь лет пять город стал молодой, сильный, разрастающийся год от года. Как положено, дымят трубы комбината; как положено, ревут и стонут в Ледовом дворце болельщики. Однако при всём при том сохранилось такое странное место — Заречье. Тут живут по-деревенски, тут и снег белый, и лежит он весною дольше. И нахмуренный лес возвышается над Заречьем. Мимо этих вот деревенских домишек идут в походы все школы и все отряды. Тут у них как бы последняя застава. Когда объявили декаду по металлолому, вся их школа двинула в обычные прибыльные места: к комбинату, к радиозаводу, к мастерским. Или по центру, где стоят высокие дома… Это считается особенно заманчивым делом. Там, во-первых, почти везде лифты — уже интересно. А потом, столько подъездов, столько дверей! Кажется, в любую стукни — тут тебе подбитый чайник, тут тебе древний рукомойник… Но это всё только кажется, это так когда-то было. А теперь туда что ни год набеги. Откуда же там настоящему металлолому взяться? Он же на самом деле тебе не грибы, из земли не прорастает! И вдруг Димка Соколов говорит: «Айда за речку, народы!» А кому же ещё такая гениальная идея придёт в голову? Коровиной, что ли? Да никогда! Ей всю жизнь то в голову приходит, что Тамара Густавовна говорит. А самостоятельно… Только примазываться умеет. Ладно, шут с ней, с этой Коровушкой! Так или иначе, пошли они и вот набрали целые дровни полновесного «товара»! Дима улыбнулся, справедливо довольный сам собой, повёл плечами. Жалобно крякнули под ним старые сковородки. Что? Не хочется небось на переплавку-то? — Эй, Соколо-о-ов! К мосту приближалась металлоломная команда шестого «В». Димка приподнялся, махнул рукой и, кстати, заметил, что улов опять есть. Видно, пока он мечтал здесь, ребята зашли ещё в несколько домов. В принципе-то на сегодня хватит. А завтра они снова сюда как штык! Потому что некоторые улицы вообще пропущены второпях, во многих домах хозяев не застали — наверно, в другую смену работают. Подъехали ребята. Живо перегрузили железяки на Соколовские дровни (в общей-то куче оно виднее!), сзади длинным хвостом привязали маленькие санки, запряглись: «Повела кота на мясо!», «Понеслась душа в рай!..», «Девчонок к постромкам не подпускать!», «Конечно! Всегда девчонок не подпускать!», «Мариночку бы Оленину наверх, как знак качества шестого «В»!..», «Э-эй, ухнем! Э-эй, ухнем! Е-щё раааазик, е-щё да раз!..». Ползут, скрипят, царапаются по асфальту дровни — хороший груз, увесистый. Если б сюда простую какую-нибудь лошаденцию запрячь, она бы так и буксовала на месте. То ли дело десяток отборных шестиклассников. И сам Димка Соколов впереди!.. Машины у перекрёстков смирно пережидали их небывалый поезд. Пешеходы одобрительно смотрели вслед: «Это кто ж такие?» Прибыли, и Димка придирчиво оглядел баскетбольную площадку, где классы разгружали добытые богатства — каждый в свою горку. Главнейший их конкурент, пятый «А», отставал. И намного! Это было видно даже невооружённым глазом. А уж у Соколова-то Димки глаз был ещё как вооружён! Могучий Паша Осалин по-матерински обласкал взглядом груду ржавых железяк, добытых шестым «В», сказал с чувством: — Даём стране угля! — Потом подумал малость и поправился: — В смысле под чутким руководством Сокола! Точно, рёбцы? Паша в классе самый здоровый, и ему совершенно не нужно ни перед кем заискивать. Поэтому его слова были Димке особенно приятны! Со спокойной совестью он сел за уроки. Впереди заманчиво маячил абсолютно свободный вечер с московским телехоккеем на закуску. Однако что делать — нет на свете полного счастья. И чем больше стремишься к победе, тем почему-то труднее она достаётся! Часов около семи в окошко тихо стукнул мягкий, как бы замаскированный снежок. Мать, которая тут же рядом перебирала в шкафу бельё, ничего даже и не заметила — так отлично было сработано. И хотя особая секретность сейчас не требовалась, Димке лично дорога была чистота проведения операции. Молодец, Горелик! Они сошлись довольно неожиданно. Димка — человек действия, Горелов же как раз делает мало, а поговорить любит… Так всегда казалось Димке. Ещё Горелов сочиняет детективы. Он в стенгазете один свой детектив напечатал. «Детективный случай» — так он написал. Между нами говоря, муть, чистейшая неправда!.. В общем, вполне естественно, что Димка относился к нему если и не с презрением, то уж точно что с усмешкой. К тому же Горелов имел тесные контакты с Сахаровским Борькой, который явно тяготеет к коровинско-стаинскому блоку. Но вот началось следопытство. И Димка вдруг увидел: а Горел-то, оказывается, человек! Он, конечно, слабенький, драться не умеет и, наверное, никогда не научится. Но парень всё-таки надёжный! Глаз как у индейца — натренировался на своих детективчиках, ни одну важную новость мимо ушей не пропустит. Правда, любит иной раз накручивать фантазию. Но тут уж ничего не поделаешь: писатель! Тут должен включаться трезвый и чёткий ум командира отряда. Так размышлял на досуге Димка Соколов и как-то внутренне подтягивался, взрослел в собственных глазах. Командир отряда следопытов — звучит очень неплохо! Через полсекунды после того, как снежок ударился о стекло, Димка встал подчёркнуто неторопливо, пошёл к двери. В коридоре Димка сделал три стремительных и бесшумных прыжка, потом бросился вниз по морозной лестнице, опасно пролетая через три ступеньки… Сгоряча он выскочил даже без шапки и теперь пожалел: холод к ночи припекал крепенько. Во дворе было темно, пустынно. Где же тут Горел мог спрятаться, на этом совершенно плоском куске пространства?.. Щуплая бесшумная тень отделилась от дерева. Ай да молодец, Коля! И не в том дело, что прятаться, может, и не надо. Важен принцип! Какой же ты следопыт, если будешь отсвечивать посреди двора, как снежная баба? Далее, к сожалению, благодушные эти рассуждения Димки Соколова были прерваны довольно жестоко и на самом интересном месте. Впрочем, даже в тяжёлую минуту Горелов оказался на высоте! Как сообщают худую весть командиру? Сперва насупленно смотрят тебе в глаза, потом вздыхают, потом говорят примерно так: «Глухо дело, Димыч. Невезуха на хвост упала…» И так далее и тому подобное в том же духе — пока не надоест. Горелов сказал: — Пятый «А» полную таратайку привёз. Несколько секунд они молчали. Таратайка, знаменитая тележка пятого «А», могла увезти никак не меньше знаменитых дровней шестого «В». Если б Димка был другим человеком, он бы, наверное, воскликнул: «Полную таратайку?! Не может быть!» Но Димка только спросил подчёркнуто спокойно: — Откуда, не интересовался? — Из Заречья притаранили! — Не может быть! Горелов пожал плечами. Словно хотел сказать: «Или мне не доверяют, или… Я отказываюсь вас понимать, командир!» Димка закусил губу. Чтобы не дрожать на морозе и чтобы сосредоточиться. Плохая история, плохая новость. Даже зло на Горелова берёт. Где это гонцов за плохие новости казнили? Где-то казнили… И между прочим, глупо делали! Человек вовремя информировал, его бы наоборот… Однако плохая история! Выходит, подглядели пятиклашки. Или сами сообразили?.. Теперь уж всё равно — кончилось Заречье! Что там — домов восемьдесят от силы. И каждый обшарен… Плохо! Коровина обязательно выскажется… Ох уж эти пятиклассники!.. Да ещё у них фора семьдесят килограммов — они у нас, видите ли, младшие. А подглядывать, значит, не младшие?.. — Ну что, есть идеи? — спросил Димка сухо. — Пока нету… Здесь мог бы он малость сорвать зло на своём помощнике. Однако твёрдо взял себя в руки: — Ладно. Будем думать. Наших оповести… «Нашими» называлась отборная восьмёрка ребят — следопытское ядро, которое само собой сплотилось вокруг Соколова, когда он рассказал на сборе о своей лагерной находке.* * *
Кончалась третья смена. Для этих почти что северных мест время не очень-то золотое — дожди гуляют по здешнему августу, как по собственному дому. Но дождь — одно, а поход — совсем другое! Никому и в голову не приходило из-за какой-то метеорологии от него отказываться. Поход — ведь это ж лучшие дни за всю смену… Да вы что, ребята! Отправились. Первый и второй отряды. Но кто отсеялся, кто чего… Получилось человек пятьдесят с хвостиком. Нагрузились будь здоров: трёхдневка шуток не любит! Под конец первого дня, когда ещё у них оставался должок перед маршрутом километра три, занудил так называемый «грибной» дождичек. Начальник лагеря — он же начальник похода — дал команду: ставить палатки, готовить ужин. Тем более место попалось неплохое: над головой плотное сосновое лапьё, под ногами сухой ягель. Метров двести — речка. Димка палаток ставить не любил, ужин — вообще не по его части. И он распорядился, что еду в звене готовят такие-то, палатки и постели — такие-то, костёр — такие-то. Себя он зачислил в костровые. Собственно, костровым ходить никуда не требовалось. Лес стоял тихий, нетронутый, сушняка — что на дровяном складе. Но Димке хотелось пройти чуть подальше, вроде как на разведку. Скоро перестуки топориков стали прилетать к нему уже в обнимку с обманными звуками эха. И было не понять, где эхо, а где настоящий звук. Лес стоял неподвижно, глухо, медленно пропитываясь дождём, как одеяло. До земли капли долетали совсем редко. Была тишина… А ведь кажется, не так уж и далеко он отошёл. Наверное, здесь просто было место такое особое. Димка сам не знал, зачем он идёт и куда. Иногда в книжках пишут: «Хотелось побыть одному». Димка этого, пожалуй, вообще не понимал. Зачем одному?.. И когда встречал подобные фразы, книжку безжалостно откладывал, говорил себе: «Это всё для девчонок!» Но тогда зачем же он пошёл? Вот это как раз и неизвестно. Когда вспоминал после, ему казалось: сердце подсказывало! Он и ребятам теперь так объясняет: «Прямо, говорит, потянуло меня туда!» А Горелов сразу: «Всё железно! Потому что интуиция — это…» — и качает головой.* * *
Он вышел вдруг на большую поляну и остановился. Было что-то необычное в ней, тревожащее. Но что именно, Димка понять не мог. Сделал вперёд шага три — царапнуло ногу, дёрнуло штанину. Нагнулся — кусок колючей проволоки, старой, почернелой. Она не гнулась уже, а только ломалась. Откуда здесь проволока, в глуши? Ограждение? Димка внимательно осмотрелся вокруг. Какие-то полузаросшие продолговатые ямы, посредине холм, не то… Он перестал дышать: в холме была дверь и от неё шли прямо к Димкиным ногам ступени. Доски, когда-то лежавшие здесь, сгнили, но ступени остались, были ещё различимы. Может, попади сюда Димка на год, на два позже, всё окончательно бы исчезло — стало простой поляной. Но сейчас он отчётливо видел: ступени и дверь вели… внутрь холма! Так он нашёл партизанский лагерь… Побежал назад, на стуки топориков. В два счёта всех разбудоражил — там его уважали. Уже в полусумерках Димка привёл ребят на поляну. Они долго стояли полукругом по краю её, словно по краю озера. Потом начальник, сам бывший военный, сказал, что здесь партизаны занимали круговую оборону. Ну, а когда круговую, это дело глухо: значит, были окружены! Кто-то предложил: давайте поищем, хотя бы небольшие раскопки устроим… Но было ясно, что никто этого не разрешит. Да и нельзя разрешать! Тем более на месте бывшего боя. Потому что хоть и разминированными они считаются, здешние леса, однако в глубине их, под мхом, под травою, много ещё хранится всякой смерти. И случаи бывают! Вдруг ухнет что-то в глухой глухомани. А что? Поди узнай… Может, какому старому снаряду надоело гнить в тишине.* * *
Они устроили днёвку. Решено было поставить здесь памятник — деревянный треног со звездой и подпись: «Партизанам от пионеров». Походный инструмент известен — ножи да топоры. А Димка Соколов человек совершенно не рукодельный. Тогда ему сказали: «Подумай, какие стихи прочитать на открытии памятника, да подсобери дровишек для обеденного костра». И Димка снова тихо-тихо проник в партизанский лагерь. Было страшно? Было! Вдруг правда лежит под землёй какая-нибудь граната — только и ждёт, чтоб ты на неё наступил. А с другой стороны, откуда уж тут гранате остаться? Единому даже патрону — откуда, когда до последнего дерёшься… Так думал Димка Соколов, а сам медленно шел по неровному кругу той бывшей круговой обороны, от одного окопа к другому (полузаросшие продолговатые ямы были, конечно, окопами!). Вдруг он увидел… Наверное, года три назад осыпалась песчаная стенка одной такой ямы — открылся тайник. Димка увидел что-то обёрнутое в истлевшую, серую бумагу. Когда дотронулся, понял: да это же не бумага — ткань… Наверно, гимнастёрка, а может, пилотка, а может… кто уж теперь узнает! Лохмотья распались, расползлись прямо на глазах, словно мыльная пена. На ладони осталась лежать холодная чёрная коробка — из меди или из латуни. «Портсигар!» — вдруг с каким-то ужасом догадался Димка. Сжав портсигар в руке, он побежал, мелькая и шарахаясь среди деревьев. Восторг и одновременно ужас сплелись в его сердце крепчайшим клубком. И Димка совершенно не знал, что он сделает в следующую секунду… Он вылетел прямо на начальника и остановился, тяжело дыша. — Что с тобой, Соколов? — Н-ничего… Змею увидел… — Змею ли? А, Дима? Но не мог он признаться в нарушении строжайшего запрета, за который сам же голосовал, который сам разъяснял своему звену. И все слово дали, что в партизанский лагерь без Бориса Павловича… Потом он много раз сам себя спрашивал: как же я мог сделать это? Ну, что победителей не судят — это само собой. Но всё-таки. Почему ж другим запрещал (причём от чистого сердца: знал, что правильно запрещает), а себе позволил? Почему? В конце концов он решил так: всё-таки я командир, а командиру разрешается больше. Портсигар он открыл уже дома. От времени медные края спаялись друг с другом, запеклись. Димка работал осторожно, как хирург. Боялся хоть самую малость испортить свою драгоценность. Наконец он почувствовал, что сейчас, если только захочет, сможет разом снять крышку. Он посчитал до пяти, как космонавт перед стартом: «Пять, четыре, три, два, один!..» Он увидел две папироски — одна почти целая, а из другой табак высыпался. Эти высыпавшиеся табачины наделали множество чёрных, как бы оспинных точек на… бумажном треугольнике. Сквозь табачную оспу Димка с трудом разобрал: «Суздаловой Марии Ивановне…», и всё! То ли боец не успел дописать адрес, то ли просто забыл в суматохе близкого боя, теперь уж не узнать. Димка попробовал развернуть письмо — бумага распадалась, словно сплетённая из паутины. Тогда он приказал себе, хотя жутко хотелось попробовать ещё раз, приказал закрыть крышку. И отнёс письмо в класс. Но получилось даже ещё лучше. В тот же день устроили сбор, и Димку хвалили. Он рассказал всё как было, только, конечно, про нарушенное своё слово промолчал. Хотя в принципе это ерунда: победителей ведь и правда не судят! И ещё он малость прибавил, что, мол, ему в лагере поручили разобраться в деле до конца. Так сразу был решён и вопрос о его командирстве — даже, кажется, сама Тамара Густавовна предложила. Сколько они разворачивали то письмо? Час? Больше? А ведь обычно дело и секунды не стоит!.. Потом, боясь лишний раз вздохнуть, уложили невесомые частички между заготовленных заранее прозрачных пластмассовых стёкол, свинтили их… Теперь письмо могло сохраняться едва ли не вечно, его можно было читать. «Мамочка! Пишу Вам и боюсь, как бы не в последний раз. Я сам был в разведке и знаю. Мама, берегите себя и простите за всё. Ваш сын Егор. Маше Полетаевой поклон и привет. А когда Вы получите это письмо, я не знаю. Может, наши потом найдут. А мы сегодня будем гадов бить до последнего. Больше отступать некуда». Они сперва решили клятву дать. Весь класс. Но Тамара Густавовна отговорила. Димка тогда думал: «Вот Лепёшка! С клятвой бы как было железно». А потом понял, что это, конечно, правильно: вдруг бы они не нашли. А клятва уже дана, притом от имени целого отряда! И ещё, может быть, потому он смолчал, что боялся: если будет много спорить, его не назначат командиром следопытов. А Димке хотелось именно командиром, потому что дело по справедливости было его!.. Всерьёз письмом стали заниматься восемь человек. Между прочим, как вскоре выяснилось, больше и не надо. Не то получается уже не коллектив, а какая-то Римская империя. В том смысле, что в Риме вроде порядок, а на окраинах восстания готовятся… В основном Димка ориентировался на мальчишек, потому что девчонок недолюбливал, не знал, как ими руководить. Кстати, один из немногих, он не был влюблён в Оленину. В команде его особенных «звёзд» не было. И это ему тоже казалось неплохо. Шуйский, Стаин, Коровина, та же Маринка Оленина, пожалуй, только бы мешали. Начали б со своими идеями да со своими личными мнениями… Дело не в том, что Димка был против личных мнений. Просто надо понимать, когда стоит спорить, а когда подчиниться, вот и всё. А «звёзды» ничего такого понимать не хотят — проверено! Тамара Густавовна по этому поводу один раз даже «вызвала Димку на разговор». И он ей прямо ответил: «Мы не думали обособляться и не думаем. На отдельные поручения готовы взять любого. А команду ломать я лично ни из-за кого не буду!» Тамара Густавовна тогда улыбнулась, головой покачала: «Ну гляди, командир. Тебе в данном случае виднее… Только не очень ли ты закомандирился?» «Ребята за меня!» «Это, конечно, довод. Ладно. Всё же отчёты на сборах и на советах отряда — твоя обязанность». Димка молча кивнул. Не хотелось ему перед Коровушкой отчитываться. Но здесь уж он, как говорится, «смирил себя железной волей». Тамара Густавовна ему уступила, а он ей — это нормально.* * *
Работать Димка умел — тут уж ничего не скажешь! И все у него работали на совесть — и письма писали, и пороги обивали по разным учреждениям… Кто хоть немного занимался следопытским делом, тот без лишних слов поймёт, сколько пришлось им сил приложить, пока не отыскался тот военкомат, откуда уходил на фронт Егор Петрович Суздалов. И конечно, очень им помогло, что Горелов сумел разглядеть на почернелой крышке портсигара: «Е. П. Суздалову, г. Псков, на память». Нашлась и Мария Ивановна. Ей было сейчас восемьдесят два года, и жила она во Пскове — каких-то шесть часов езды на автобусе! Восемьдесят два года… И тут даже у них, у яростных следопытов, появилось на какое-то время сомнение: «Может, не говорить? Только зря разволнуем человека!» Чтобы не затевать в команде долгих дискуссий, Димка пошёл к Тамаре Густавовне. Она, как обычно, на свой лад головой покачала: — Надо подумать, Дим… Давай-ка сбор по этому поводу устроим. Внеочередной. Димка уже сам не рад был, что пошёл к ней. Но получилось как раз очень хорошо. Класс решил правильно — так, как и Димка сам для себя решил в ночь перед сбором: надо Марии Ивановне сказать, надо! Потому что сын её настоящий герой. Неважно, есть у него Звезда или нету. Главное, что поступил он по-геройски. Так разве можно это от его родной матери скрывать? На том же самом сборе постановили командировать во Псков группу следопытов из восьми человек. А средства — кое-что родители дадут, но основное — приз за сбор металлолома, который назначили шефы из комбината, — сто рублей. Это было справедливое решение. И никто не скрипел, даже Коровина. Ответственным за сбор металлолома был назначен Димка Соколов. А дела всё больше шли на лад. Уже списались с псковскими ребятами — пять дней можно было жить в их школе. И Мария Ивановна ждала. И те два бойца из отряда, что прошли фашистские лагеря, и бежали чудом, и закончили войну в Праге и Берлине, тоже писали: «Приезжайте!» И зимние каникулы — свободные деньки — были не за горами. Только вот выиграть металлоломное сражение, получить приз — на билеты, на подарки, на житьё-бытьё. Казалось: да разве кто устоит против железной следопытской восьмёрки, против шестого «В», сплочённого вокруг Димки Соколова? Притом дело-то святое! Не за корысть какую-нибудь стараются, не за славу. И тут вклинивается этот пятый «А»! Из кожи лезут вон — приспичило им, видите ли, купить фотоаппараты. Они, видите ли — поголовно все сорок человек, — талантливые юнкоры. Так что решай, Соколов. Кроме тебя, никто не решит. Дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих. А дело спасения корабля — дело рук капитана. Значит, твоё!* * *
Уже не вечер, уже настоящая ночь на дворе. Если подойти к окну, увидишь, как всё глухо везде и темно. Лишь редко горят фонари — перемигиваются, сигналят друг другу, словно часовые. Да ещё позёмка ползает — тощая белая собака, — обнюхивает ноги сугробам. Город, как под рентгеном, ясен Димке до последнего дома. И нету в нём металлолома. Это всё равно что искать в пустой комнате — ищи не ищи, одна пустота и будет! — Ты чего это пружинам жить не даёшь? — Дверь в Димкину комнату приоткрыл отец. Уже мама легла, Димка лёг —отец всё работает. Об отцовской работе Димка не любит думать. А уж говорить с кем-то — никогда!.. Отец у него портной, вот в чём дело! И хотя он считается известнейшим в городе портным, Димка предпочёл бы, чтоб отец его был самым рядовым капитаном дальнего плавания или самым простым работником уголовного розыска. Тут дело не в романтике, но просто трудно бывает сказать, что твой отец… как портниха! — Что случилось-то, командир? — Да с металлоломом не клеится! Эту фразу произнёс он неохотно — просто так, потому что неудобно не ответить. Ему решение надо искать. А отец — какой он тут помощник!.. Но потом Димка взял себя в руки и рассказал отцу, подробно и медленно, про Заречье, про пятый «А», про все обстоятельства… Ему Колька Горелов говорил, что когда следователь никак не может найти зацепку в материале, он по многу раз рассказывает всю историю или самому себе, или кому-то. Глядишь, что-нибудь новенькое и выплывет! Но на этот раз ничего не выплыло, и он замолчал. — Хм! — Отец покачал головой. — Вот ты смотри, конкуренты! — И дальше, будто в шутку, продолжал: — А вам бы ту рельсину вывезти, а?.. — Какую рельсину?! — Он ещё ничего не понимал, но уже сердце билось. — Ну, помнишь, — всё с той же улыбкой в голосе продолжал отец, — узкоколейка старая… ну, где мы за маслятами. Помнишь, я там ещё… — А! — закричал Димка. — Помню! Понял! Папка!.. — Господи, — из своей комнаты слабо сказала мама. — Что там опять?!* * *
Отставить уныние! Победа не за горами!.. На третьем уроке, на истории, Димка выпросил у Тамары Густавовны две минуты и довёл до сведения шестого «В» свои распоряжения. Командовать от своего имени показалось ему нескромно, и он говорил как бы от штаба металлолома, хотя штаб (а проще, следопытская группа) — все сидели раскрывши рот. Первое: группа в составе из пяти человек, командир Сахаровский, ещё раз прочёсывает Заречье. Второе: тимуровское звено, старшая Коровина, прочёсывает район больших домов и радиозавода. Следопыты плюс все неназванные участвуют в операции «Струна». — Что это ещё за «Струна»? — спросил Стаин. — К сожалению, это пока тайна, — официальным голосом произнёс Димка. — А почему вдруг тайна? И от кого? — Операция «Заречье» была известна всему классу. Стала известна пятому «А»! — Ну, знаешь ли, Соколов! — Стаин вскочил с места. И сразу недобрый ропот пролетел по классу, как ветерок. — Много на себя берёшь, Дима! — не выдержала наконец Коровина. А Димка только и ждал этих слов — излюбленно коровинских. Он ждал их, потому что у него готов был ответ: — Да, много. Всю ответственность я беру на себя! Может, кто-то в классе недолюбливал Димку, может, кто-то считал его слишком пижонистым. Но сейчас вряд ли хоть один из этих недолюбщиков мог устоять против его лихого обаяния. Димка понял это по тому, как всё притихло кругом, по тому, как улыбнулась Тамара Густавовна. С трудом отсидели шестой урок. Потом сорок пять минут дано было, во-первых, на разграбление домашних холодильников, во-вторых, на доставание лопат и кирок… «Чего-чего?! Лопат и кирок?» Именно! Лопат и кирок. Сам Димка есть не мог, так что его собственный холодильник остался неразграбленным. Лопату для него обещал принести Осалин. Ему не сиделось на месте, и он бродил по классу словно тигр. А ещё в морских книжках есть такое хорошее выражение: «Он мерил шагами…» Ну, например, палубу. Да, Димка именно «мерил шагами», а не «как тигр». Потому что в нём сейчас ни капли не было злобности, одна только сила и уверенность. Никаких сорока пяти минут народу не понадобилось. Все примчались самое большое через полчаса. И притом все почти одновременно. — Ста-а-новись! — крикнул Димка. Скорее просто так крикнул, для смеху. Но его послушались — быстро выстроились по росту, как на физкультуре. Димка сжал зубы, чтобы только не улыбнуться. Вот они начинаются, главные минуты его жизни. — Оружие на пле-чо! На-ле-во! Шагом марш! «По улицам шагает весёлое звено, никто кругом не знает, куда идёт оно…» Нет, пятый «А», ничего у вас не выйдет! Подождёт малость ваша кино-фото-мото, подождёт! Прямо-таки грозно шагает Димкина команда. Соколовцы… На плече у кого кирка, у кого ломик, у кого лопата. А кто даже топоры прихватил. Всё правильно, идём не на гулянку. С рельсом справиться будет нелегко!* * *
Думали, нелегко. Оказалось — невозможно… Это было открытое ледяное место на одиноком холме. Конницы декабрьского ветра одна за другой проносились по занятой ими высоте. Молодой сосняк (где как раз и водились хорошие маслята) лез-лез сюда, да так и не вылез. Весь холм лесной, только на вершине лысина. Но не ветер и не холод испугали Димку Соколова. Испугала его тяжесть задачи. Здесь нужны были тягач и подъёмный кран, а не их руки и не их санки! Однако ни одним движением он не выдал своего сомнения. Знал: будет уверен он, будут уверены и его солдаты. За дело! Никто не побеждён, пока его не победили! Они раскопали снег. Рельс лежал намертво прибитый к земле стальными костылями и железным морозом. И что крепче, Димка не знал… Стали бить мёрзлую землю. Железо звякало о железо, высекало бледные искры. Кирки то и дело застревали в вязком дереве шпал. — Чего-то плохо идёт, ребята. — А ты чего, хотел за одну секунду такого зверя своротить? «Молодец, Горелов, — подумал Димка, — правильно отвечаешь!..» — Отряд! Песню запе-вай! «Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо, вперёд продвигались отряды спартаковцев — смелых бойцов…» Работали уже больше часу. Димка чувствовал: нужен перекур. Да только сейчас был совсем не тот момент. Они же фактически ничего не добились. Правда, удалось выковырять шесть костылей. Но рельс как лежал, так и лежит — ни с места. Мёртвое дело! — Мальчики, переходи на ломы. Одними ломами будем. — Их же мало, — сказал кто-то. — Посменно работаем! — Вообще-то правильно. Если чего-то добьёмся, то именно ломами. Димка, который специально придумал эти ломы, чтобы устроить незаметный перекур, и радовался своей выдумке, теперь радоваться перестал. «Если чего-то добьёмся… Если…» Значит, все понимают, просто молчат. Так в молчании, без всякого успеха работали ещё часа полтора. Десятиметровый рельс даже не качнулся. — Глухо дело! — Петров ткнул свой лом глубоко в снег, оглянулся: — Есть желающие? Димка весь на секунду сжался, соображая, как похлеще ответить первому штрейкбрехеру. Но не ответил. Вдруг вскрикнул Горелов, уронил лом и сел на снег. — Ты чего? — По ноге он шарахнул, — угрюмо сказал Паша Осалин. Горел закрыл глаза, но из-под плотно сжатых ресниц выползли предательские слёзы. — Больно, Горелик? — Димка сел с ним рядом на сухой сыпучий снег, полез рукою в валенок. Крови не было, но едва Димка дотронулся до щиколотки… Эх, Горел, Горел!.. — Домой надо двигать, — сказал кто-то осторожно. Надо! Димка сам знал, что́ им надо! Если рельс с места не стронется… А ведь ни черта он не стронется! Горелов сидел на снегу какой-то весь жёлто-зелёный и кусал серые губы. Эх, Горел, Горел!.. С отчаяния Димка схватил его лом, колотил ещё минут десять не останавливаясь, глотая воздух, словно жёсткие куски горбушки. Ребята стояли, ёжась на ледяном ветру.
— Двигать надо, Соколов! — Ладно. — Он махнул рукой. — Грузи инструмент! Ломы-лопаты свалили в дровни, сверху усадили подбитого Горела. Невесёлым было их возвращение, и грустным был их груз. Димка Соколов, понурившись, шёл сзади и чуть в стороне.
* * *
Поражение шестого «В» стало теперь уже реальностью. Стесняясь ребят, Димка один пошёл на баскетбольную площадку. В их куче почти ничего не прибавилось, а вот у пятого «А» гора подросла, и заметно! Видать, не мудрствуя лукаво, они ходили всей толпой по городу. И это значило, что он, Димка Соколов, сделал ещё одну глупость — со своей самоуверенностью, со своей любовью командовать… «Спокойно! Во-первых, давай-ка без истерик. Во-вторых, ты был прав на все сто процентов. Если б рельс притащили, пятиклашкам конец, и никакие кастрюльки их не спасли бы. Значит, рельс нужен, понятно тебе? Завтра двинем всем классом, разведём хорошие костры…» Но никакого завтра не получилось. На следующее утро класс выглядел щербато и уныло: чуть ли не половина парт была пуста. Так иной раз случается в морозы, когда отменяют уроки, а какая-то часть народа всё-таки приходит. По собственному недомыслию… Но в этот раз ничего не отменяли: проклятый рельс нокаутировал их по всем статьям — и с места не стронулся, и главные бойцы полегли с ангинами да с гриппами. Из Димкиной железной восьмёрки пришёл один Горелов. Не пришёл, а, вернее сказать, прихромал. Спросил уныло: — Ну что, Дим, попали мы? Димка только махнул рукой. Он и сам чувствовал себя неважнецки: из носу текло, в глаза будто песку насыпали. Если бы не такой экстренный случай, ни за что бы, конечно, не пришёл, — в кои-то веки заболеешь по-настоящему… Димка отсидел три урока, с четвёртого его отправила сама Тамара Густавовна. Он медленно собирал портфель. Тамара Густавовна сидела опустив глаза в журнал — высматривала добычу. Историю Димка, конечно, вчера и не открывал — до того ль ему было! Теперь он чувствовал какое-то облегчение: хорошо хоть, не вызовут… На секунду задержался у двери — мальчишек в классе почти не осталось. Встретился глазами с Гореловым, подмигнул ему невесело и ушёл. Дома он разделся, лёг. В квартире было пусто и тихо. Только за стеною кто-то без конца барабанил гаммы. Так и представлялась какая-нибудь зануда вроде Коровиной. Под одеялом было тепло, но Димку познабливало, покалывало. В голову не лезло ни одной мысли… Проснулся он под вечер — неожиданно, резко. И почему-то сразу стал одеваться. Нос был толстый, как гиря, голова горела ровным простудным огнём, и хорошо было слышно, как толчками бежит по сосудикам кровь. Быстро, пока не пришли родители, Димка сбегал на кухню, умылся обжигающе-холодной водой. Разложил на столе учебники. Толком он ещё ничего не решил, но почему-то обязательно надо было: пусть родители ничего не знают о его болезни. Щёлкнул замок, потом он услышал, как мама снимает в прихожей сапоги. Он быстро раскрыл книжку — кажется, это была физика, — строчки бегали по листу, словно «дворники» по стеклу машины. Димка закрыл глаза. — Что ж так поздно за уроками? — из-за спины его чуть раздражённо спросила мама. — Опять металлолом? — Наоборот, всё в порядке! — Да? Значит, едете? — Конечно, едем! Что он несёт? В каком порядке? Зачем ему понадобилось это бессмысленное враньё? В темноте думалось плохо, а едва глаза откроешь, строчки носятся как сумасшедшие. «Наверно, жар!» — подумал Димка с тоской. Он приложил горячую руку к горячей голове и ничего не почувствовал. Медленно, словно боясь заскрипеть суставами, он поднялся, подошёл к телефону, набрал номер Горелова, но, не дождавшись и первого гудка, положил трубку. Сперва он должен был сам всё решить, сам с собой. Ладно, тогда давай решать. То, что ты задумал, кажется, вроде бы не очень честно… Но пойми: сейчас дело не в глупой честности! Если надо, я сам отвечу за всё и буду прав! Вот солдат, герой войны, Егор Петрович Суздалов. Он не мог сдаться и поэтому стрелял до последнего патрона, а потом погиб. Осталось только его письмо: «Мама, пишу Вам и боюсь, как бы не в последний раз…» Там каждое слово — ни в каком романе не прочитаешь, ни в какой книжке. А Мария Ивановна ждёт это письмо. «Мамочка! Пишу Вам и боюсь, как бы не в последний раз…» Она его, конечно, читала, но переписанное Димкиной рукой. А нужно, чтоб она настоящее письмо увидела. По почте? Нет! Здесь надо из рук в руки. И ещё надо обязательно с теми двумя партизанами встретиться, чтоб, может быть, что-то новое узнать — зацепиться, продолжить поиски и в конце концов восстановить славу того маленького смелого отряда… И вот ерунда, чистая случайность поломала всё дело. Если б пятиклассники не шпионили в Заречье, если б рельс не оказался так адски тяжёл и заморожен, если б мальчишки не заболели все вдруг, словно по заказу Снежной королевы… Если бы да кабы… А ведь не случайности это! Есть другое слово — несправедливость! Ну получат пятиклашки свои фотоаппараты — кому от этого лучше? Да никому! Только им самим! А шестой «В» — он не для себя старается! Может, и осталось-то таких вот живых матерей всего несколько на всём свете. Понятно вам? Живая мать погибшего солдата! А вы тут со своей дребеденью! Вперёд, Соколов! Иди и сделай то, что задумал! — Ты куда? — спросила мама обычным своим, слегка укоризненным голосом. — Сейчас ужинать будем. Отец повернулся от своей работы. Рот его был полон булавок, поэтому он ничего не мог спросить и лишь вопросительно посмотрел на Димку. Но тот был уже в пальто, в шапке, уже замахнул на ходу шарф. Подумал: эх, варежки забыл, однако не хотелось возвращаться… План его был абсолютно прост. В темноте, в тишине прокрасться на баскетбольную, взять от каждого класса по две-три железки и перенести на свою гору. А там разбирайся, как да чего! Он рывком открыл дверь. Мама ещё что-то говорила ему вслед. Димка на секунду остановился у выхода. Нет, он не трусил и не чувствовал сейчас никакой простуды. Только вздрагивал — не то от жары, не то от холода. Морозный воздух рекою лился в комнаты. — Дима! Дверь хотя бы прикрой!* * *
На улице было уже пустынно. И фонари, казалось, горели реже, чем обычно. И машины вылетали из темноты и улетали в темноту, лишь оставляя за собой трассирующий красный след сигнальных огней. И всё было как-то тревожно, как-то напряжённо. Вскрикнув на перекрёстке, пронеслась белой тенью «скорая помощь». Квартала за три до школы Димка привычно свернул в проходные дворы. Теперь они были темны, как норы. Димка на секунду даже остановился, но тотчас взял себя в руки. Снег скрипел у него под ногами, а больше ничего слышно не было. Узкая, но хорошо набитая тропа вывела его к дырке в заборе. Здание школы стояло высокое и отвесное, как древний замок. Димка зачем-то поднялся на крыльцо, постоял у запертой молчащей двери. Вдруг стало светлее — это луна вылезла из густой войлочной тучи. Небо вокруг неё было гладким и мёрзлым, словно каток. И войлочная туча уползала по этому катку всё дальше в сторону и вниз. Ну и что, подумал Димка, ещё лучше: светлее будет работать. Его немного корябнуло это слово — «работать». Он поскорее свернул за угол, прошёл вдоль боковой стены и остановился. Перед ним раскинулась спортплощадка: залитая сине-зелёным светом, вся в тёмных холмах, чем-то похожая на поле боя. Димка нашёл глазами свой железный холм и холм пятого «А». Сейчас они казались почти одинаковыми. Рядом — там и сям — топорщились маленькие горки других классов. Тут он заметил, что вся площадка укрыта тонким, как простыня, слоем свежевыпавшего снега. Димка стоял у этого нетронутого царства и не решался сделать первый шаг. Сверху на него смотрела луна. Димка стоял не шевелясь. Почему, думал он, потому что узнают? Ерунда! Можно так натоптать, что ни одна ищейка не распутает. Всю площадку избегать, а потом разбирайся: кто ходил, куда, чего… Вдруг ему пришло в голову странное слово: «Честный снег». Он честный, пока Димка по нему не пойдёт. «Опять ты психуешь! Опять надо повторять одно и то же! Ты не для себя! Ты чтобы Марию Ивановну… чтобы слава того отряда…» Но пойти не мог. «Чушь ведь! А если б он не выпал сегодня днём, этот честный снег? Неужели из-за какого-то снега?.. Я здесь, чтобы помочь погибшему бойцу! Я здесь, чтобы украсть чужое… Хватит! Вперёд, Соколов, я тебе приказываю!» Странно это, наверное, выглядело со стороны: стоял-стоял человек посреди пустого и тёмного двора, вдруг сел прямо на снег и плачет… Холодные, быстро стынущие слёзы ползли по его холодным щекам.Из письма подруге
…А ещё, Верочка, у меня большое и радостное событие в жизни: меня приняли в тимуровскую группу. Сама Люда Коровина мне это сказала. После той истории они вообще ко мне все изменились, тимуровцы. Но я всячески старалась не зазнаваться. Только, знаешь, иной раз всё-таки не удержишься — улыбнёшься, как дурочка. Хотя, по-моему, они не замечали. А теперь я уже от этого вообще отучилась. Правда, с отметками у меня пока сдвиги не очень большие. Но сдвиги есть, и это самое главное — правда ведь? Не то что в прошлом году, помнишь? Четверть от четверти всё хуже. А теперь четверть от четверти будет лучше. Вообще наш класс сально изменился — жалко, что ты уехала! Или, может, я сама изменилась. Но я заметила, жить у нас стало лучше! По металлолому мы заняли второе место. И нам дали грамоту за подписью директора. На самом деле мы заняли первое место, но из-за форы всё досталось пятому «А». Когда устроили сбор дружины, то выступала из райкома такая чёрненькая Лида (помнишь, мы её один раз встретили на Садовой). Мы собирали металлолом на трамвай, чтобы у нас был в городе пионерский трамвай. Не мы, конечно, одни, а все школы. Ну и собрали наконец столько, сколько нужно. Причём наша школа оказалась на первом месте, и поэтому Лида выступала у нас. Она сначала сказала, какие мы молодцы, а потом и говорит: «Вот по нашему городу пойдёт теперь ещё один трамвай. И это очень хорошо, ребята! Это значит, что ваши родители, когда поедут на работу и с работы, будут теперь ждать трамвай на минуту меньше. И если подсчитать, то за год вы им сэкономили целое лишнее воскресенье!» На каникулы уезжают во Псков двое наших следопытов (на других денег не хватило): Горелов Коля и Осалин Пашка. Причём что характерно: Осалина выдвинул сам Соколов! А на свою кандидатуру взял самоотвод. Представляешь, что в классе творилось после таких заявочек?! Но теперь уж немного улеглось.
История пятая. Целый день, проведённый с отцом
Утром вышло солнце. И светило весь день, пока Земля медленно поворачивалась вокруг своей оси с запада на восток — ближе и ближе к вечеру. Небо всё это время оставалось пустым и синим. Буквально ни единой морщинки или пятнышка, только солнце. Наверное, все тучи и облака, какие только сумели родиться сегодня, все спрятались за горизонтом и не хотели никуда плыть и ждали, пока город, в котором жил Борька Сахаровский и все другие люди из шестого «В», — пока город сам не приползёт к ним на расправу, к этим облакам и тучам. И когда настала ночь, они, наверное, кинулись на небо, чтобы отомстить за столь долгую ясную погоду. А может, и не кинулись… Борька этого уже не видел. День ему так и запомнился — светлым и от этого особенно большим. Словно был июль, а не январь. Борьке в тот день везло. Он проснулся весёлым и выспавшимся. Небо ещё было пепельно-синим, но уже чистым на удивление. Не страшный мороз градусиков семь был крепко разлит в воздухе, когда Борька бежал в Дом пионеров. И молодой снег визжал у него под ногами, а разная птичья мелочь сидела в клетках голых деревьев и вздрагивала и вспархивала только тогда, когда Борька уже успевал пробежать мимо. И в Доме пионеров ему тоже везло. Он играл хорошо. Почти сразу после дебюта, когда они сделали обязательные ходы — как бы скинули камзолы и обнажили шпаги, готовые к поединку, — сразу после этого Борьке пришла в голову совершенно могучая идея. И фигуры потекли будто сами, будто их тянуло всемирное тяготение… Нет, будто они шли сквозь лес, бежали навстречу круглому заходящему солнцу, а перед этим плутали, не зная, куда податься, и боязливо поглядывали на небо в ожидании луны, и ночи, и ночлега в лесу. Его противник, спокойный и серьёзный Саша Гальцев (тоже шестиклассник, но из другой школы), играл себе не переживая, заботился о ближних неприятностях и сам подстраивал ближние. Он надеялся, наверное, что партия закончится вничью. Им всем нужны были очки и баллы — кому, чтобы подтвердить второй разряд, а кому, чтобы и набрать первый. Саша уважал Борьку как игрока: у них в прошлых партиях счёт был равный — 3,5:3,5… Потом он стал потихонечку обкладывать Борькиного ферзя. А Борькины фигуры уже выбрались из леса. Уже им виден стал частокол пешек, за которыми будто бы надёжно спрятался вражеский король. Борькин ферзь, жар-птица-приманка, стоял в другом углу, готовый получить стрелу в самое горло и, даже не вскрикнув, захлебнуться кровью… И тут Борька ударил слоном. И кажется, вся партия вздрогнула: ах!.. А будет ещё хуже! Ферзь так и остался стоять с нацеленным на него арбалетом. Саша недоуменно поправил очки, дёрнул носом. — Чегой-то? Мат, что ли?.. По инерции он всё-таки убил ферзя. И тогда Борькин конь, готовый к смерти и к победе, скакнул грозно и страшно: «Шах!» Вражеская пешка, скромная дура с железным копьём, хотела броситься и пропороть ему брюхо. Но поняла вдруг, что должна стоять, закрывая своею грудью короля. Потому что вон она — притаилась, готовая сверкнуть, дальнобойная молния Борькиной ладьи. Давно, ходов пять назад, она пришла туда и стала — сплошное ничто… пока конь не ударил! Эх! Об этом столько можно ещё говорить и думать… Борька ушёл с соревнований весёлый, как соловей. Борька спешил. Быть может, и с лёгкой досадой, что не остался на разбор тура, на похвалы. Но всё-таки он спешил, весёлый, удачливый, и что-то ещё ждало его впереди! Мама сказала: «Приходи, пожалуйста, пораньше, я прошу». А маме он привык верить за долгие почти тринадцать лет совместной жизни. Ну пусть не все тринадцать, потому что сознательно он жил, пожалуй, лет пять-шесть, со второго класса. Но ведь и это не мало — полжизни! Итак, он вышел в коридор, который, словно аквариум, весь до потолка был затоплен солнцем. Вышел, сделал два-три шага, ни о чём не подозревая… И потом всё понял — увидел. Однако не остановился, хотя невидимая пика так и упёрлась ему в грудь. Борька продолжал идти, а пика продолжала колоть его и останавливать. Даже сердце заныло. И всё-таки остановился Борька не раньше, чем подошёл почти вплотную к человеку, который, стоя у окна, читал книжку. Он не притворялся, а правда читал! Когда он повернул наконец голову, в глазах его мелькнули, убегая, последние слова, которые он ещё успел увидеть в книжке. Это был Борькин отец, не виденный им почти год, с прошлой весны. Он смотрел на Борьку с какой-то… с какой-то спрятанной радостью. Непонятно, да — что это такое за спрятанная радость? Сейчас. Вот, допустим, взрослые вечером заходят к вам в комнату — темно. А на самом деле у вас под одеялом горит фонарик и лежит раскрытая книжка… спрятанная радость… Но может, правильней было бы просто сказать, что отец смотрел на Борьку с любовью? Вот это как раз и неизвестно! Сейчас же вспомнилось досадливое мамино: «Да ну, родитель! По году не видит парня…» Почему-то особенно неприятным показалось Борьке то, что она говорила это в пустой комнате — не кому-то живому, а в телефон. Борька в это время неподвижно стоял у полуоткрытой двери. Вечером, у себя под одеялом, он признал, что мама правильно сказала. Вот он, например, сам. Разве он смог бы маму год не видеть? Да вы что!.. И значит, пусть так оно и остаётся, что отец смотрел на Борьку со спрятанной радостью. А Борька смотрел на отца. Когда видишься с отцом каждый день, то, конечно, наверное, привыкаешь, и тебе даже, может быть, незаметно, какой он на самом деле. Но если вот редко, как Борька, то удивительно так бывает и странно приглядываться: «Неужели же это правда мой отец?» Оказалось, что у него для взрослого очень невысокий, даже, пожалуй, маленький рост. Паша Осалин и Шуйский вряд ли были ниже его. А Паша, наверное, и в плечах был такой же. Раньше Борька этого как-то не замечал, а теперь заметил. На лице его больше всего выделялся лоб. Широкий, крепкий, с глубокой морщиной, которая вонзалась в переносицу, словно стрела. Но может быть, лоб казался таким из-за лысины. Она была большая, поблёскивала. И Борька, кажется, даже видел в ней слабое отражение солнца. Отец взял его за плечи. И Борька испугался: вдруг он начнёт целоваться?.. Как-то глупо было бы: целый год не виделись, а потом целоваться. Отец не стал целовать его, даже не назвал «сынком» или «сыночком». Он только сказал: — Ну, пойдём? Глаза у отца сидели широко и горели внимательным чёрным огнём, как у гроссмейстера Таля. Только в глазах у Таля Борька ни разу не видел такой доброты. Они вышли на улицу. Отец был в нейлоновой куртке и шерстяной шапочке, какие обычно надевают для лыж. — Сейчас к тебе зайдём, переоденешься и поедем, да? Борька не понял, он посмотрел на отца… Поедем? — Тебе разве мама ничего не говорила? Про лыжи? И тогда Борька догадался. Она специально ему не сказала вчера, чтоб не волновать перед партией. И он выиграл! Может, лучшую партию в своей жизни. — Говорила. Я знаю. Это было только его и мамино. Их личное! Ему не хотелось рассказывать про это отцу. Они вошли в прихожую, и Борька тут же увидел свои лыжи, а дальше в комнате на стуле — спортивный костюм, свитер, шапочку. Лыжные ботинки были начищены гуталином и блестели в солнечном квадрате на полу. Когда Борька убегал утром, ничего этого и в помине не было. Отец сел на диван, расстегнул куртку. Шерстяная шапочка со свесившимся помпоном лежала у него на колене. Борька переодевался и в зеркало поглядывал на отца. Тот смотрел прямо перед собой — не то в пол куда-то, не то в стену. Борька заметил: даже ни разу он не обернулся на эстампы, на обстановку. Сидит и сидит. А ведь он когда-то здесь жил, в этой комнате. Может, даже спал на этом диване. А теперь здесь Борька спит… Отец сидел среди всего своего. Но теперь оно было ему чужое… Быстро и смутно Борька вспомнил, как отец жил здесь. Мелькнула какая-то ковбойка — жёлтая, в синюю клетку. Расстёгнутый ворот, и в нём угол белой футболки… Только тогда отец помнился ему полным, а теперь он был худой. С тех пор прошло семь лет… Когда Борька взялся за свитер, на пол спорхнула бумажка: «Боря! Перед уходом попейте чаю. Мать». На кухне всё оказалось приготовлено, как в ресторане. Колбаса и сыр лежали аккуратно нарезанные на тарелке. Такого у них в доме никогда не водилось! Хлеб был под салфеточкой. «Зачем это она? — подумал Борька. — Чтоб ему показать?» А под кухонным столом валялись в обнимку друг с другом Гошины тапочки. Он всегда тапочки теряет: где сидел, там и оставил. Гоша — это был мамин второй муж… Борька включил чайник, взял за шиворот тапки, решив где-нибудь их замуровать в галошнице. Но забыл. Мысль эту как ветром загасило, когда он подумал: «А как мне его называть? Как я ему скажу: пойдём чай пить?.. Или пойдёмте?..» С тапочками в руках он так и вышел на отца, прямо на его взгляд. Словно медведь на двустволку… Да только какой там он был медведь! Покраснел. Рука с тапочками дёрнулась… Отец смотрел на него. — Чай пить, — выдавил Борька. — Там для нас… Мама сказала, чтоб… — Ты чего, меня на «вы», что ли, собираешься звать? — Отец легко встал. Но не сделал ни шагу, словно стоял на кочке среди воды. — Так что? На «вы»?! — Нет! — тихо ответил Борька. Вдруг он подумал, что мог бы отказаться от этой поездки. Но было то ли неудобно, то ли ещё что-то… в основном из-за мамы.* * *
В поезде дела их пошли лучше. Перед этим они взяли из камеры хранения отцовы лыжи и довольно худенький рюкзак, в котором что-то шуршало. Борька догадался, что еда. Все, кто хотел, видно, давно уже уехали за город. Они были в вагоне почти одни. От этой пустоты вагон скакал, жёстко бил бегучими ногами по рельсам. Внутри его раскачивалось и плескало солнце. Отец вынул из рюкзачного кармана шахматы — крохотные, деревянные, с облезшими головками, каких теперь давным-давно уже не делают. Поезд продолжал скакать, и оба войска каждый раз вздрагивали довольно-таки трусовато. — Ты сегодня, кажется, на турнире играл? — спросил отец. (Борька кивнул.) — Покажи партию… Он не мог знать, выиграл Борька или проиграл. Значит, тут всё было без обмана. Легко вспоминая ходы, Борька стал посылать на бой пешки и фигуры. Они шли, ещё не очень представляя, что их там ждёт впереди. Борька никогда не играл и не тренировался на таких маленьких шахматах. Сначала он, словно Гулливер, с улыбкой наблюдал битву этих лилипутов… Но там лилась настоящая, пусть и лилипутская, кровь! И Борька опять с головой погрузился в партию, готовый чуть ли не сам скакать впереди пешек. Однако что поделаешь: твоё место здесь, на высоком холме, за спиною у войска… Он видел, как, посланные его рукой, то здесь, то там падали воины. Борька жалел их. Но как опытный полководец знал: без этого не обходится ни одно сражение. Дело шло уже к развязке. Опять просвистело копьё, и гордый ферзь его рухнул наземь… Этого никто уже, наверное, не видел и не слышал в общем и грозном «Ура!». Борька не дал чёрным подписать капитуляцию — поставил им полный мат, хотя в настоящей партии этого не было. Он решил рассчитаться с ними за ферзя и за всех своих погибших солдат. Дымились жерла пушек. Пороховые тучи медленно уходили на запад… Борька поднял голову и увидел отца. Тот смотрел серьёзно, словно собирался о чём-то спросить. Тёмно-коричневые глаза его чуть вздрагивали от вагонной скачки, на коленях и в руках лежало яркое сегодняшнее солнце. — Молодец ты! — Отец наконец-то улыбнулся. — Здорово стал играть! Борька вдруг вспомнил, что уже был знаком с отцовскими шахматными лилипутами. Только давно до ужаса!.. И это ведь отец научил его играть. Вернее, ходить. Правда, тогда Борька совсем не так относился к шахматам. Для него было всё равно, что в шахматы, что в дурака. — Сыгранём? — спросил Борька. Неожиданно у него вырвалось это старое отцовское словечко — ещё из тех времён. Но отец, видно, ничего не заметил. Он опять улыбнулся и покачал головой: — Не стоит!.. Обыграешь меня… — Ну и что? Отец усмехнулся, пожал плечами. — Чего? Не педагогично, что ли? — улыбнулся Борька, и ему почему-то вспомнилась Людмила Коровина — серьёзная, с поджатыми губами. — Ишь ты какой! — Отец мотнул головой и опять хмыкнул. Он в две горсти сгрёб шахматы, ссыпал их в коробку, разровнял широкой ладонью, как совершенно неживых. Пальцы у него были большие, с крепкими широкими ногтями, словно это были пальцы совсем другого человека. На большом — неровной змейкой белел шрам. — Ты кто, отец? — не очень ловко спросил Борька. — Строитель. Разве ты не знаешь? — Помолчал секунду и добавил: — Бугор. — Чего? — Бригадир, по-нашему. Борька и как бы знал, что отец у него строитель, и как бы не знал. Ещё он смутно помнил про какой-то неоконченный институт. Когда у мамы спрашивали: «Ну что Михаил?», мама отвечала с обидой: «Кажется, на Дальнем Востоке гуляет…» Борька представил себе отца в строительной каске, в телогрейке с широким поясом, в ватных штанах и сапогах. Таких строителей не раз показывали в программе «Время». Они уверенно говорили в микрофон, а за спиною у них проплывали на тросах квадратные куски стен. Нет, он не мог себе представить отца таким… Бугром… Всё время получался кто-то другой — плотнее и выше. И с другим лицом. Даже дядя Петя Банкин со своими неходячими ногами был куда больше похож на настоящего строителя. Борька познакомился с ним недели две назад, когда Тамара Густавовна надумала провести сбор по итогам следопытской работы в гостях у дяди Пети. — А как же ты… строителем? — вырвалось у Борьки. Он чуть не сказал: «Бугром». — Люблю! — Отец пожал плечами. И Борька тотчас вспомнил мамино: «Любит шататься!» — и отвёл глаза.
Некоторое время он смотрел в окно, только делая вид, что смотрит, а сам ничего не видел. Но прошли секунды, промчалось десятка три чёрных, сумасшедше бегущих столбов, и Борька заметил, какой звенящий заснеженный лес недвижно скачет и подпрыгивает за окном. Солнце, не щадя ни себя, ни снега, сыпало драгоценные бриллианты. — Та-ак! Ну, приехали! — сказал за спиною отец. — Давай-ка лыжи бери. Борька обернулся. Отец с рюкзачком своим на плече, с лыжами на другом шёл к выходу. Так спокойно шёл, даже беспечно — не оглядываясь. А как бы мама сейчас с Гошей: «Ничего не забыли? Хорошенько посмотрел?..» Не утерпев, Борька рыскнул глазами по пустым лавкам, по полке над головой. Хотел глянуть для верности ещё и под лавку. Но вдруг ему стало неудобно. Он схватил лыжи и побежал, топая коваными ботинками, догонять отца. Вагон качнуло раз, два, и Борька чувствовал себя почти что матросом…
* * *
Так светло и так свежо было идти по этому лесу, так безветренно и солнечно — солнце в этот день не покидало их ни на минуту. — Загорим с тобой сегодня! — весело сказал отец. — Будем как негры! — Разве зимой загоришь? — Самый загар! А лыжи двигались свободно, едва дотрагиваясь до снега, до этой скользкой, стеклянной, блестящей лыжни, которая далеко и прямо убегала вперёд. Небо над головою тянулось по просеке длинным синим каналом. А слева и справа от этой небесной воды лежали белые берега — снежные кроны деревьев. На некоторых ветках — чуточку, видно, подтаяв — висели такие ненадёжные бомбы, что пронеси господи!.. Однажды, шагов за двадцать впереди, крюкастая и крепкая сосновая ветка дрогнула, взмахнула… Пум! Прямо на лыжню бухнула тяжёлой подушкой снега. И несколько мгновений над нею стоял длинный мерцающий столб. Борька подъехал, задрал голову. Ветка ещё продолжала облегчённо качаться. Когда идёшь на лыжах, особенно если впереди, как-то неминуемо остаёшься сам с собою. Так и Борька сейчас был один среди всего того, что называется зимним лесом, и чего мы очень часто совсем не знаем. Он был один. Только лыжи добротно поскрипывали, да сердце стучало, да воздух полными литрами входил ему в лёгкие. На лыжах худо-бедно кататься умеют все. И Борька умел. Даже лучше многих. Стаин, например, считается классным спортсменом, а Борька его обгонит! Но сейчас речь о другом. Обычно лыжи были связаны у Борьки Сахаровского с уроками физкультуры (а когда ещё занятому человеку на лыжи выбраться). Но это всё, что ни говори, катания по городу да по парку: нет-нет — скрипнет под ногой песочек, а то вдруг из обманного березняка лыжня вынырнет прямо на обочину шоссе и потянется, потянется под рёв и бибиканье. В общем, не стоит долго говорить о городских лыжных прогулках: даже самые лучшие из них всё-таки не очень хороши! Но неужели же, думал Борька, неужели надо было целый год ждать приезда отца, чтобы наконец оказаться за городом… Ему захотелось оглянуться, что он там делает, его отец… Однако обернуться Борька не успел. Вода из синего канала, что протекал у него над головою, вдруг обрушилась и широко разлилась впереди не то морем, не то озером… Это кончился лес, они выезжали на заснеженное пустое поле, покрытое только небом. Лес почти до половины широко обступал поле слева и справа. На самой опушке Борька остановился. Три дороги разбегались у него из-под лыж. Одна шла налево вдоль леса и, вильнув, опять уходила в него белой серебряной ниткой. Другая шла направо, торопливо огибала лесной тёмный мысок и дальше становилась невидима. Только третья была вся на виду. Легко и весело она скользила по огромному белому полю под синими небесами. И там, почти в бесконечной дали, она, еле заметная, взлетала на большой крутобокий холм, который отсюда казался почти что сугробом — даже слева от него лежала совершенно стеклянная синеватая тень, какие бывают только у сугробов. Однако на вершине его темнели то ли кубики, то ли живые букашки, уснувшие на снегу, — деревня. Борьке ужасно захотелось поехать именно туда — под солнцем, по нестерпимой, почти сияющей белизне. Он обернулся. Отец стоял за спиною. И… Борька недоверчиво улыбнулся: его отец среди всей этой зимы (хоть и не очень зверский, но все-таки январь!) стоял без куртки, без рубахи — голый по пояс! — Ты же… — начал Борька. Отец покачал головой: — Всё нормально. — А как же?.. — Люблю! — Отец улыбнулся. — Ну чего, понеслись?.. Только я теперь побыстрей, ладно? Так странно было видеть плечи отца, руки. Борька, может быть, впервые за всю свою жизнь увидел, какой у него отец. Мускулы у отца были не очень огромные. Но и неплохие!.. — Давай рюкзак, — сказал Борька, беспричинно улыбаясь. — Да не надо, ладно… — Ну, а зато позагораешь. — Он вообще-то не тяжёлый… — Отец ещё секунду находился в сомнении. Но потом одним движением скинул рюкзак с голых плеч. Так сделал бы, наверное, какой-нибудь Борькин приятель, Горел, например, или он сам: а что особенного, раз человек предлагает… И потом, отец был уверен, что Борька вовсе не помрёт под этим рюкзачишком, а спокойно довезёт его куда нужно. — Встречаемся на холме. — Отец подмигнул ему, толкнулся палками и разом съехал с небольшого бугорка, как бы с крылечка, которое отделяло тёмный лесной дом от светлой просторности поля. Борька, ещё продолжая стоять на лесном крыльце, смотрел вслед отцу. Хорошие лыжники всегда немного похожи на летящую птицу. Лыжи отца как бы сами бежали по лыжне, руки с палками взлетали высоко, наподобие крыльев, а сам отец шёл как-то хищно и стремительно пригнувшись. Прошло всего-то полминуты, а отъехал он уже далеко — обнажённый по пояс лыжник с помпоном на красной шапочке, который при каждом шаге перекатывался то влево, то вправо. Борька тоже наконец толкнулся, стараясь сделать это по-отцовски сильно, и съехал с лесного крыльца на поле. И побежал; рюкзак тихонько ёрзал за спиной, но он действительно был не тяжёлый. Почти сразу Борька понял, что за отцом ему не угнаться. Хоть он спешил, запыхался, но отец уходил и уходил вперёд. И тогда Борька толкнулся ещё раза два обеими палками, а потом пошёл спокойно, переменным шагом, уже больше не связанный с отцом невидимой струною гонки. Лыжня шла совершенно ровно — ни вверх, ни вниз, и скользилось хорошо, и лыжи больше не косолапили и не толкали друг друга. А в небе над головой не было ни облака, ни птицы, одно только солнце и синева. Далеко слева и справа зеленел, не то синел лес, укрытый тяжёлыми шубами. А лыжня всё летела вперёд, и лес начал уже отставать, оставаться за спиной, зато холм рос и приближался. Домиков на его верхушке уже не было видно. Вдруг сквозь весёлое повизгивание лыж он услышал или, вернее, почувствовал ещё один звук — спокойный и какой-то очень понятный этим полям. Такой, который как бы вообще не нарушал снежной тишины этого просторного места. Борька остановился… Невидимый, неизвестно в какой стороне, постукивал трактор. Вдруг он подумал, что всего пять или шесть лыжных шагов назад звука этого не было. Борька находился как бы на границе его. Немножко отъедешь назад — и окажешься в тишине, вернёшься — и опять услышишь… Неужели, он подумал, неужели правда так бывает? Ему было как-то странно и радостно. А впереди он видел теперь уже совсем маленькую фигурку отца. И это его открытие, и это солнце, и лыжи — всё было связано с отцом. И эта лыжня, на которой он стоял, по ней совсем недавно промчался его отец, делая её ещё более глянцевой и бегучей. Сильно, как от боли, у Борьки защемило сердце. Ему непреодолимо захотелось крикнуть, чтоб отец оглянулся. Крикнуть то слово, которое он ни вслух, ни шёпотом не произносил уж неизвестно сколько лет: «Папа! Па-па!» Но не крикнул, только продолжал смотреть на отца… Слишком маленьким получился бы его крик среди этого огромного простора. И ещё другое: была мама и был Гоша. («А он же мне ничего плохого не сделал, — сказал себе Борька, — как же я крикну?») Отец в это время поднимался по крутому боку холма. И был так далеко, что теперь до него уже никак недокрикнуть. Борьке от этого сделалось не по себе. Он подумал: «А что ж я-то стою!» Правда, что ж он-то?! Сейчас отец влезет наверх, на ветер. И будет там один среди холода, даже без майки. «Скорее, дурак ты несчастный!» — крикнул себе Борька. И побежал. Лыжи орали и дёргались. Один раз палка, зацепившись за что-то, больно рванула руку… Борька не помнил того момента, когда он заплакал. Только почувствовал вдруг, что разбухший нос мешает как следует дышать. Борька хватал теперь густой холодный воздух ртом, как откусывал. Грудь битком была набита этим холодом и болела. Он кашлял на бегу. И ещё приходилось сильно смаргивать слёзы, чтобы видеть дорогу в этой отчаянной гонке от самого себя. Холм встал перед ним такой огромной и крутой высотою, что Борька понял сквозь слёзы, сквозь всю свою последнюю решимость, что никогда не влезть ему туда… И всё равно он полез напролом! Но крутизна легко остановила его, толкнула обратно. Борька поскользнулся, лыжи поехали назад. Ещё немного и задники воткнутся в снег, треснут — тогда пиши пропало! Его спас рюкзак: на какое-то мгновение он, как живой, перевесился вправо и потянул за собой Борьку. И оба они шлёпнулись в снег, спасая лыжи и ноги.* * *
Ухом и щекою он лежал на снегу, шапка куда-то отлетела, правая рука провалилась по самое плечо и вся облипла холодом. И ничего уже нельзя было сделать, даже пошевелиться: ноги с лыжами крепко застряли в снегу и перепутались. Снег, словно болото, засасывал его. Он перестал плакать, последняя большая слеза выползла из глаза и сейчас же пропала в белом, как невидимка. Он вдруг подумал, что если сейчас закроет глаза, то сразу умрёт от страха. Вернее, просто умрёт. И тогда он набрался последних сил и крикнул: — Па-па!.. Но крик его получился таким тихим, что если б в трёх шагах сидела птица, она бы и не подумала испугаться и вздрогнуть. — Папа-а! И всё… И вдруг какой-то свист пронёсся по снегу. Борьку окатило ледяной пылью, неведомо отчего вставшей вдруг на дыбы. Короткое мгновение Борька чувствовал, как она оседает мельчайшим холодом. И сейчас же какая-то сила подняла его из снега. Он точно взлетел… И тотчас увидел, что его держат крепко и высоко родные руки отца. И тут Борьку снова победили слабость и слёзы. Он уткнулся неживою после ледяной простыни щекой в холодную и обветренную отцовскую грудь. Но грудь была всё-таки теплее, и Борька грелся об неё. Плакал и грелся.Борька и его отец катились по главной деревенской улице. С холма она полого уходила вниз вместе с двумя почти такими же. От площади с памятником улицы расходились широкими неспешными лучами: одна чуть влево, другая чуть вправо, а главная шла посерёдке. И если бы посмотреть сверху, с самолёта, вся деревня была бы похожа на трёхпалую гусиную лапу. А может, и нет. Может, это просто так представилось Борьке от хорошего настроения. А что там было двадцать минут назад… Э-э, да надо ли вспоминать-то! Так здорово было катиться спологой горки, не торопясь, вслед за отцом. Смирные деревенские собаки уступали им дорогу, на всякий случай вильнув хвостом. А сами они уступили дорогу красивому красному трактору, который молотил снег огромными губастыми задними колёсами. А маленькие передние бежали и вихлялись, как две шавки. Борька с удовольствием подумал, что это, может быть, тот самый трактор, который послышался ему в снежном поле. Отец повернул голову: — Ну, как дела, сын? Борька засмеялся в ответ, изо всех сил ударил палками в снег — получилось так сильно, что он сразу догнал отца и даже наехал ему на задники лыж. Они катились всё так же в полсилы, а скорость с каждой секундой росла, потому что улица всё веселей уходила под уклон… Один за другим пробегали домишки — гора делалась круче! Заборы уже подскакивали как сумасшедшие, как из окна поезда! Наконец огромным прыжком пронёсся последний дом, махнул рукою дым из трубы, и Борька полетел с белой крутизны, весь напрягшись, пригнувшись. Как торпеда! Гора оказалась просто отличная и совершенно не коварная. Только уже внизу их тряхануло на двух неожиданных холмиках. Но это почти всегда бывает у высоких и длинных гор — как бы экзамен в конце. Так они и въехали в березняк. Как все березняки на свете, он был негустой. Деревья росли каждое отдельно… Отец, наверное, хорошо знал эти места, он уверенно свернул с лыжни, пошёл, рассекая нетронутый снег. Скоро они подошли к небольшому еловому острову или, лучше будет сказать, к тёмно-зелёному еловому дому, который стоял среди берёзовой тишины. Отец осторожно сбил снег с большой колючей лапы и вошёл внутрь, а за ним Борька. Им открылась поляна — комната среди зелёных стен. Крыша была синяя и безоблачная. Одна только истаявшая тончайшая луна высоко висела в этой синеве. Отец нашёл подходящий сук, повесил свой рюкзачишко. Молча они стали раскапывать лыжными палками снег, чтобы в яме на земле развести костёр. Потом отец увидел, что Борька сам понимает, как это нужно делать, и работает толково. Он, опять молча, кивнул сыну, проехал по снежной комнате и вошёл в зелёную стену. Скоро Борька услышал треск и стук — отец собирал дрова. Яма была почти готова, Борька осторожно спрыгнул в неё, наклонился и стал выкидывать снег руками — уже последние пригоршни. Он не говорил себе этого, но знал, что старается для отца. Однако про себя он твердил: «Когда сделаешь всё отличненько, самому же приятно!» Чтоб не мочить варежки, он работал голыми руками. Очень скоро пальцы сделались красными и негнущимися, как грабли. Дно к тому времени стало уже почти чистым. Показалась совершенно зелёная травка и кустики брусники. Они здесь словно сидели в засаде, ожидая весну. А теперь Борька их нашёл и показал всему морозу. И скоро они должны были сгореть… Но сейчас ему не хотелось думать об этих грустных вещах. Он всё расчищал яму, чтобы понравилось отцу. Руки его от работы, от снега, от мороза стали наконец тёплыми, потом горячими. В каждом пунцовом пальце стучало по сердцу. Борька выбрался на снег, осмотрел свою работу — зелёный погреб среди белизны. А солнце за это время ещё покраснело и ещё чуть-чуть опустилось. Из еловой стены вышел отец. На плече его, как на тракторе, лежала, гора длинных дров, он улыбался. И в эту как раз секунду Борька подумал: «Разве им нельзя помириться? Мирятся же люди!» Дальше он ничего не успел, потому что отец был уже совсем близко. Но только он почувствовал, что эта мелькнувшая мысль почему-то корябнула душу, будто он подумал что-то нехорошее. Вдвоём они стали укладывать в яме будущий костёр. И Борька с удивлением заметил, что они делают это одинаково. Есть такой способ, называется «шатром»: дровишки прислоняют друг к другу — получается как бы шатёр или юрта, а внутрь подсовывают бумагу или берёсту. Считается, что это якобы индейский способ. Борька не помнил, откуда он это всё знал. А теперь вот выходило, что этому его научил отец. Они сидели по разные стороны костра. Огонь вырывался вверх почти невидимым столбом, и было совсем не холодно. — Жизнь? — спросил отец весело. Борька улыбнулся. Из пластмассовых складных стаканчиков они пили кофе. На аккуратно притоптанном снегу, как на скатерти, лежали их бутерброды. Лес и воздух были совершенно неподвижны. Только солнце медленно-медленно опускалось, только с каждым ударом сердца улетали живые секунды: есть — нету, есть — нету. Но Борьке совсем от этого не становилось страшно, ведь у него в запасе были их несчётные миллионы, словно снежинок в туче. Пускай себе летят, думал он, быстрей улетят, быстрей стану взрослым! Было так хорошо, так спокойно. В снегу всё больше загоралось малиновых и тёмно-красных зёрен, а крылатые тени елей синели. — Пап… — тихо сказал Борька и остановился. Но всё так хорошо было кругом — такая солнечная зима! «Пусть бы они помирились!» И снова эта мысль корябнула его неприятным… Что же мешало ему? Он спросил неуклюже: — А вы почему… разошлись? — Холодок цепким паучком пробежал по спине. Отец пристально посмотрел на Борьку. — Не знаю… — Он повернул голову куда-то в сторону, усмехнулся, но не весело, а как-то сердито: — Вот лет пять назад я бы тебе на это очень подробно ответил. И мама тоже. «А я чего лезу как банный лист?» Ему стало не то неприятно, не то грустно. Нет, именно неприятно. И он понял наконец, что его корябает — это из-за Гоши! Он, Борька, Гошу как будто совсем из жизни выкидывает. Только заладил одно: пусть они помирятся да пусть они помирятся. А Гоша-то как же? Он ведь не виноват, что у мамы раньше был муж и родился Борька. И Гоша очень даже хорошо к нему относится, к чужому сыну: не орёт и не подлизывается. Просто отец лучше. Но разве из-за этого Борька имеет право Гошу предавать? И мама его любит, Гошу… Иной раз поссорится с ним, вся устанет… А ссорится шёпотом, чтоб Борька не слышал, но стеночки-то — звукопроводимость лучше, чем у радио!.. Наконец Гоша: «Ну, Лена! Ну ты же всё равно знаешь, что я тебя люблю!» А мама тогда: «Ах ты ненаглядное горе моё!» И целый вечер ходит счастливая. А Борьке странно: чего в Гоше такого уж ненаглядного, фигура совсем не спортивная… Конечно, маме он никогда ничего про это не говорил.
* * *
Костёр стал заметнее и вишнёвей. Это в воздухе начало чуть-чуть смеркаться. Луна на небе разгоралась золотым. Отец внимательно и спокойно смотрел на Борьку. И вдруг спросил — как из пистолета: — Ты куришь, сын? Борька даже вздрогнул… потом улыбнулся. Выходило, что отец совершенно не знал его. Но всё равно это был какой-то ужасно отцовский вопрос. Ни Гоша, ни даже мама никогда бы не решились его спрашивать о таких вещах. Или, может, они просто знали. — Я даже не пробовал ни разу, — сказал Борька. Отец смотрел на него. И опять его ужасно потянуло к отцу… Вдруг дело представилось ему словно давно решённое. А что? Правда! Взять и поехать! Можно же с отцом немного пожить?.. В Сибири. Неожиданно для себя он испугался одной вещи. Не верил, конечно, что это может быть, но всё-таки испугался. Как бы про запас. И спросил: — А у тебя есть там… — он запнулся, — жена? — Как-то нелепо было выговаривать это слово, потому что жена — это мама. Но отец, вместо того чтобы рассмеяться в ответ, сказал: — Да, есть. Несколько секунд Борька осваивался с этим ответом. — И… дети? — Нет. — Они встретились взглядами. — У меня только ты. «А у меня только ты!» — хотелось крикнуть Борьке. Но это было бы неправдой. И он промолчал. Отец подождал, что он скажет. Скажет он что-нибудь или нет?.. Потом медленно стал собираться: уложил стаканчики, термос, бросил мятую газету на угли костра, и газета вспыхнула. А сам всё ждал. Но что же Борька мог сказать ему? Чёрный клок газетного пепла вспорхнул над поляной, полетел невесомо, лавируя меж темнеющих еловых вершин, и потом пропал. Отец накрепко, хотя совсем того не требовалось, завязал рюкзак, поднялся: — Ну, айда, сын. А то как бы поздно не было. Они надели скрипучие лыжи, стали палками обрушивать снежный колодец. Зашипело, едко запахло дымом. — Невесёлое зрелище, а? — сказал отец. Скоро уже ничего не осталось от их привала. И тот, кто оказался бы здесь завтра, наверное, мог подумать, что просто проезжали по этой поляне двое лыжников, потоптались зачем-то минутку и поехали дальше. И они действительно поехали дальше — по лесу, потом по открытому полю. Стало холоднее, но всё-таки не холодно — такой уж чудесный день сегодня выдался. Борька ехал по блестящей на зелёном закате лыжне и думал о том, что вот у него есть мама и есть отец. Наверное, они уже никогда не помирятся. А он, Борька, всегда — всегда-всегда! — будет между ними, то больше с мамой, то больше с отцом. И это его, Борькино, и тут уж ничего не переделаешь… Но конечно, Борька ещё не умел сказать себе всего этого так ясно. Пока в его сердце просто сидели в обнимку, как две сестры, радость и тоска. Он шёл по лыжне вслед за своим отцом, и дышалось ему глубоко. Темнеющее небо, лес, мглистое белое поле впереди.История шестая. Никаких проблем
«Горелов — сочинитель детективчиков, Соколов — любитель командовать, Цалова — великая фигурёшница… Правильно: это всё чушь собачья. Но всё-таки кто же такой я?» …Всю свою жизнь Серёжа Петров знал наперёд: окончит шестой класс, потом седьмой, восьмой, потом окончит школу и поступит в институт — строительный, электронный или ещё в какой-нибудь. Но обязательно, чтобы стать инженером. И потом будет работать, как его отец (он тоже инженер) и как его мать (она тоже инженер)… Этого ему не хотелось. Вообще он не знал, чего хотелось ему. «Вот станешь инженером — получится уже определённая династия!» Это отец его так говорит. «Но неужели же я родился на свет, чтобы обязательно становиться инженером?» Серёжа даже пожал плечами. И тотчас испугался: не заметил ли кто? Ведь глупо — стоит человек посреди класса и пожимает плечами. Серёжа скосил глаза налево, направо. Нет, не заметили. Как всегда, на него никто не обращал внимания. Впрочем, сейчас, может, это было и вполне естественно. Шестой «В» только что вернулся с лыж, со счастливой зимней физкультуры. Все были дома, то есть у себя за партами. Расположились кто как хотел, в самых живописных позах, не обращая внимания на робкие просьбы дежурных выйти из класса. Да куда там выходить, ёлки-палки, когда все так отлично устали, надышались этим самым озоном, когда так приятно сидеть в вольных позах, улыбаясь друг другу и остывая. И Серёжа Петров вернулся. Ему бы тоже сейчас усесться поудобнее да болтать — хоть с кем-нибудь, хоть с Жужей… Да что-то вот не получается! Тогда он решил отправиться в буфет. Купить, например, лимонадику и выпить его медленно, со взрослым лицом, словно ты пьёшь пиво. Тем более, что деньги имелись. Он вышел в коридор, во всеобщее кипучее веселье, какое всегда бывает в первые минуты после звонка: кто-то праздновал пятёрку, кто-то радовался, что не спросили, кто-то решил завить горе верёвочкой… Но и здесь Серёжа чувствовал себя каким-то чужим. Ему расхотелось лимонаду, он вернулся в класс. И опять его поймала эта неприятная мысль про инженера, он пожал плечами, потом испугался. Но никто его не замечал. Князь развивал перед Стаиным фантастический проект расчистки с помощью лазерных лучей дикого кустарника, который расстилался с другой стороны от Заречья. — А чего! Двинем в штаб с этой идеей, комбинат заинтересуем… Я точно знаю: в принципе такое делается. — В принципе… — протянул Стаин. — И переименуем в леса Благородного Оленя! — кричал Князь, естественно, в расчёте на Маринку. Серёжа прошёл буквально в полушаге — они даже и не подумали его заметить. А ведь, между прочим, из одной тимуровской команды! Он сел к себе за парту, вынул учебник истории, но читать не хотелось. Да и ни к чему: его спрашивали на том уроке. А за Тамарой Густавовной такого не водилось — спрашивать два раза подряд. Серёжа, по правде говоря, этим обычно пользовался. Сейчас он, сам не зная зачем, всё же открыл нужные страницы — длиннющий параграф о положении крестьян. Прочитал несколько строк. Однако ничего не запомнил. И таким пустым показалось ему это занятие… Он отодвинул книгу и стал смотреть в чёрную, сто раз исцарапанную и сто раз покрашенную спинку парты. Были здесь и Серёжины царапины — этого года и даже прошлого. Он любил рассматривать их — каждая что-нибудь ему напоминала. Серёжа ведь был человек одинокий, и всякие такие мелочи, другим вообще заметные, имели для него значение. Треснул звонок. Но не тот приветливый, что прекращает урок, а другой — суховатый, неласковый. Так всегда казалось Серёже Петрову. Сейчас он ничего этого не заметил. Он просто машинально встал вместе со всем классом, потом машинально сел. Пошли обычные предстартовые минутки: кого нет, что было задано, кто хочет отвечать… Серёжа не хотел! Он сидел за своей последней партой, словно кем-то отделённый от всего класса. Ему припомнилось вдруг недавнее собрание — как раз перед Новым годом, перед каникулами… Было необычное для таких дел время — семь часов вечера. Шестой «В», битком набитый, чем-то похожий на Ледовый дворец во время хорошего матча, даже и гудел как-то по-хоккейному. Шло родительское собрание и сбор отряда одновременно. Пахло духами — от мам. Окна были завалены тяжеловесными отцовскими шубами, шарфами и шапками. Тамара Густавовна, раскрыв классный журнал, говорила по алфавиту о каждом ученике. Говорила она, в общем-то, не обидно, сор из избы перед родителями не выносила. За это её, между прочим, и любят в классе: она понимает человека. Потому что родитель тоже разный. На собрании он, может, даже заступится: чего, мол, вы моего сына обвиняете! А дома как всё вспомнит — за ремень. Не посмотрит, что ты акселерированный. А Тамара Густавовна умно поступает. На простом классном часе она каждому выдаст. Зато на собрании с родителями наоборот — старается поощрить человека. Тем более перед каникулами. Серёжа Петров был в списке почти что последний, пятый от конца или шестой. И Тамара Густавовна то ли выдохлась, то ли ещё что. В общем, она сказала так: «Серёжа Петров… Пожалуй, всё в порядке. — Подумала и добавила: — Пожалуй, никаких проблем». И перешла к Сахаровскому. Отец Серёжин как-то вроде удивлённо посмотрел на Тамару Густавовну, потом на Серёжу. Толкнул повыше на нос очки… По дороге домой он спросил: «У тебя действительно всё в порядке? Как-то она…» «Ты же дневник видел!» В ту минуту Серёжа был скорее доволен, что отделался так безболезненно. Ведь учителя всегда при желании найдут, что родителям сказать. Верно? Потом слова Тамары Густавовны нравиться ему почему-то перестали… Нет, не выдохлась она. Про Соколова, наверно, целых минут пять говорила, что он любит, мол, покомандовать и покрасоваться, но в самых ответственных для души ситуациях умеет поступить принципиально. «В ответственных для души…» Надо же! Душа какая нашлась! А Петров, видите ли, никаких проблем… — Серёжа Петров! — мягко произнесла Тамара Густавовна. — То, что тебя спросили на прошлом уроке, вовсе не даёт тебе права не работать на нынешнем. Серёжа вздрогнул. Его странно поразило, что Тамара Густавовна, сидя, сумела разглядеть его на последней парте, за добрым десятком спин, и что она, оказывается, знала его нехитрую политику, и что оба они в одну и ту же секунду думали друг о друге!* * *
Но всё-таки Тамара Густавовна была не такая, чтоб с первого раза гробить человека: мол, не слушал — садись, два! Это Серёжа знал, и потому он скорее кинулся вникать, что там происходит на свете. Ага! Спрашивали Пашку Осалина, и отвечал он довольно-таки толково. По крайней мере бойко. Значит, дополнять его не понадобится и есть время пробежать следующий кусочек параграфа. Серёжа пробежал его. Фразы лезли в голову плохо: с ходу ведь не переключишься. Со второго раза всё же запомнилось. А тут и Осалин кончил. — Садись, Паша, четыре… Следующим пойдёт… Полозова Таня. Ничего себе ложились снаряды! Осалин на одну строчку выше Серёжи, Полозова — на одну строчку ниже. Пристреливается Тамара Густавовна, но всё же и даёт очухаться. Человек!.. Серёжа кинулся чихать третий кусок, последний. И снова успел! Вызвали Жужину… Какое-то охлаждение, не то обида опустились на Серёжу Петрова, словно осенний туман. Жужина отвечала на хилую троечку, путалась в элементарщине. И ясно было, что кому-то придётся добавлять. Но Серёжа знал, не вызовут его! Ничего Тамара Густавовна не намекала, ничего не пристреливалась. Просто пугнула разок да и помнить забыла. «Петров… Никаких проблем!» Ладно, запомнится… Назло Тамаре Густавовне он не слушал её объяснения, хотя известно, что слушать всегда лучше, особенно историю: потом можно почти не учить. Пробрякал последний звоночек, нестройным салютом постреляли крышки парт. И потом все ушли. Серёжа остался один. И никто не спросил его, зачем он сидит здесь, в опустелом, усталом классе. Валялись бумаги, на доске, небрежно вытертой, остались цифры и формулы. И пол бы, между прочим, неплохо протереть… Дежурнички! Кстати, а кто сегодня дежурные? За целый день Серёжа как-то не обратил на этот пустяк внимания: не он, а там и ладно. Теперь его почему-то задела эта халатность. Если б я так, подумал он, сразу бы начали. А им всё как с гуся вода!.. Им… А кому это «им»? Получалось, что всем, всему классу… Неужели же весь шестой «В» был против одного человека?! Скажу отцу, пусть меня в другую школу переведут — и кранты! Не хочу я с этими гадами учиться. И учителей получше себе найду! Открылась дверь, в класс вошли Горелов и Сахаровский. У Борьки в руках было ведро с водой и тряпка, а Горел нёс на плече швабру. Они о чём-то говорили — такие лица у них были. Но, увидев Серёжу, замолчали. — Ты чего сидишь, Петров? — спросил Сахаровский. И тут же в обычной своей невнятной манере добавил: — Нет, сиди, пожалуйста, если хочешь… Какие все интеллигентные, подумал Серёжа чужими, слышанными где-то словами. Горелов, ничего не сказав, начал подметать, а Борька Сахар лазил под парты и выкидывал бумажки в проход. — Подвинься, пожалуйста, — сказал он Серёже. Серёжа переставил ноги. И тут он подумал: а ведь не им сегодня дежурить. Конечно, не им. Сегодня должны Пашка Осалин и, Соколов. И он сказал, уже зная, что перейдёт в другую школу от этих деятелей: — Чего, нанялись, что ль? — А разве люди попросить не могут? — спросил Сахаровский из-под парты. Серёжа усмехнулся. Причём специально громко: Сахаровский с Горелом были, как известно, самые хилые в классе, а Соколов с Пашей самые здоровые, не считая только Стаина. Сахар вылез из-под парты, посмотрел на Серёжу: — Как раз совершенно неправильно ты усмехаешься! Лицо у него было красное, потому что он там сидел, под партой, чуть ли не кверху ногами. От этой мысли Серёжа опять усмехнулся. Ему сейчас просто было смешно. А получалось, что он уже по-настоящему издевается! На секунду ему стало неприятно. Но он тут же сказал себе: пускай, всё равно ухожу отсюда. Сахаровский не заорал, даже не разозлился, а так странно покачал головой, прямо как взрослый. И Серёжа неожиданно для себя подумал: вот бы с кем дружить! Но не успел ничего дальше додумать, потому что Горелов вмешался. Он заорал: — Что ты с ним разговариваешь, Борька! Нормальный человек взял да помог бы сейчас! А этот… — Не собираюсь! — как можно быстрее и небрежнее ответил Серёжа. — Вот именно! Потому что тебе всё до лампочки, Петров! И тут у Серёжи опять нашёлся быстрый и ловкий ответ: — Эх ты, писатель Тимирязев! Даже говорить не умеешь. При чём здесь «до лампочки»? Глупое выражение! — Нет, не глупое, а умное, представь себе! — Неужели? — Вот и неужели!.. У нас в подъезде, например, горит такая лампочка: днём пылает, как лошадь, а ночью ни грамма. Реле какое-то не фу рычит. Так же и ты! — Он звонко постучал себе кулаком по лбу. — Тоже реле не фурычит. — Глупо! — Нет не глупо, а правильно! Ты даже не слыхал, что у Соколова отец заболел. Иголкой себе ноготь проколол и в больницу лёг. А Пашка на переговорах со Псковом, его Мария Ивановна Суздалова… — Он не договорил, махнул рукой: — Лампочка! Какой иголкой, подумал Серёжа, что за бред?.. Но спрашивать сейчас было как-то не к месту. Горелов между тем старался сдвинуть парты, сразу штуки три: там был мел раскрошен или ещё что-то белое. И Горелов, наверно, хотел замести. Парты, конечно, с места не трогались. Из-за его хилости. — Давай уж помогу, тщедушный, — сказал Серёжа с ехидцей, но всё же и примирительно. — Я тщедушный, а ты равнодушный! — А в рыло не хочешь?! — От тебя, что ли?! Теперь и Сахаровский перестал возиться под партой. Стоял и смотрел на Серёжу. И Горелов смотрел из угла. Получался как бы равнобедренный треугольник из трёх точек. Вернее, из трёх взглядов.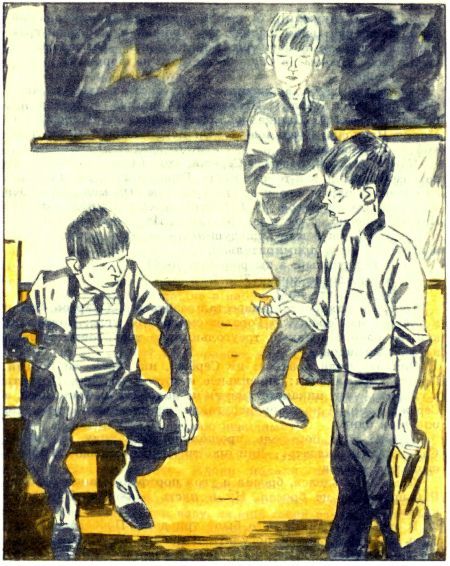
Они не умели драться: ни Серёжа, ни Горел, ни Борька. Просто Серёжа знал: он сильнее и того и другого. Подойти и ударить — тут никакого умения не надо! Но их было двое, а Серёжа один. И не то он испугался, не то обидно стало, что опять он один. Серёжа взял портфель, прошёл по тому ряду, где стоял Сахар. Хотел сказать: «Дай пройти!», но не сказал и просто вышел из класса. Дома он разделся, бросил в угол портфель. Зачем бросил? Раньше вроде не бросал. Ну и пусть валяется! Пошёл на кухню. В это время дня у него было три дела. Пообедать, потом сесть за уроки, пойти погулять. Ни одно из этих обычных послешкольных дел Серёжа делать сейчас не стал. Хотя есть хотелось… Он пошёл к себе, лёг на диван. В большой комнате тикали часы. Серёжа поднялся, чтобы плотнее закрыть дверь. При чём тут часы? Пошёл в большую, сел у телефона, набрал стаинский номер. — Алё, — сказал Стаин. Серёжа сразу же положил трубку. Посидел полминутки, набрал номер Олениной. Прогудело раз и два… — Я слушаю, — сказала Маринка. Она, конечно, была уверена, что весь свет знает её голос. (Серёжа молчал.) — Я слушаю вас! — звонко отчеканивая словечки, опять сказала Оленина. — Хм! А я знаю, кто это звонит. И очень глупо ты делаешь, что молчишь! И ты прекрасно знаешь, что тебе надо делать! — И она положила трубку. Серёжа некоторое время послушал короткие гудочки. Он понимал, что все эти Маринкины слова, конечно, относились совсем не к нему. А к кому? К Стаину? Может, они поругались со Стаиным?.. Если бы на его месте были Горелов, или Шуйский, или даже Лаврушка, они бы сразу догадались. Они потому что знают… А он… Какой-то ненаблюдательный… Но чувствовал Серёжа: не в наблюдательности дело! «Я тщедушный, а ты…» Гад Горелов! И Сахар тоже — нашёл себе друга… Товарища! Не скажи, кто ты, а скажи, кто твой друг. Вот и скажут! Ну если и скажут? «У Горелова друг Сахаровский». Ну и что?.. А у Петрова? Что ж, если у человека нет друзей, про него вообще ничего не скажешь? «Никаких проблем». Как невидимка, да? Нет, деятели! Я вам сделаю невидимку! Он чуть ли не бегом бросился в кабинет к отцу, схватил газеты. Сегодняшние… Наплевать! Вернулся в большую комнату и стал их рвать. Клоки падали на стол. Потом собрал весь ворох, рассовал в карманы… Школа была пуста, и никто не спросил Серёжу, чего он явился сюда в четвёртом часу, да ещё такой взмыленный. Серёжа взбежал на свой этаж, толкнул дверь шестого «В». Класс был пустой и чистый, доска блестела, на полу ещё кое-где мерцали проталины, оставшиеся после тряпки. Совершенно автоматически, заученным движением Серёжа снял шапку. Потом стал расстёгивать пальто. В карманах штанов зашуршали разорванные газеты. Серёжа замер, словно кто-то мог услышать этот шорох. «Всё равно я сделаю, — сказал он себе. — Раз решил, то сделаю. По заслугам!» Он подошёл к доске и как бы для начала написал: «Гады! Гады! Гады!» Буквы получались огромные, мел крошился и брызгал, словно электрод во время сварки… Но, поставив последний восклицательный знак, Серёжа положил мел, без всякой паузы взял губку и вытер всю надпись — точно по линиям, от первой до последней буквы. Потом сел на учительский стул и минут пять смотрел, как испаряются его слова, написанные теперь водой. Потом ещё раз вытер доску, слева направо и справа налево. И она опять стала чистой, как была. Всё. Можно идти домой… Серёжа набрал полный кулак газетных клоков, распахнул окно и бросил клоки на улицу. Сейчас же ветер подхватил их и внёс обратно в класс — не все, конечно, немного. Серёжа ползал за ними испуганно и остервенело. Клоки разбегались, как живые. Наконец он догадался закрыть окно и тогда собрал их все, лежащие неподвижно. И он снова взял полный кулак бумаги и открыл окно. Однако теперь бросил осторожно, сразу вбок. И ветер снова подхватывал их, дёргал, раскручивал, устраивал кутерьму. А Серёжа всё подбавлял ему работы! На школьный двор вышел Осалин. Увидел Серёжу в окне шестого «В». — Ты чего делаешь, Петро? — крикнул он удивлённо, улыбаясь. Видно, разговор со Псковом был хороший. — Салют пускаю! — весело ответил Серёжа. Доска за его спиной блестела чистотою — ни одна экспертиза не докопается. — Даёшь!.. Там убрано, в классе? — Стерильно! — Норма!.. В смысле спасибо… — Он замолчал, не зная, что говорить дальше, и у Серёжи как раз все бумаги кончились. — Ты уроки сделал, Петро? — Откуда? — беспечно ответил Серёжа. — Слушай, тогда айда к этому… к Горелу! Борька Сахарок задачи поможет… Айда! Серёжа молчал. — Чего? Чего ты?.. Со своими будешь, да? Со Стаиным? — Ну да… Правильно… — сказал Серёжа тихо. — Ну тогда… это… — Пашка немного изменил тон, но всё же улыбнулся: — Тогда покедова! Серёжа Петров остался один. Но прежде чем идти домой, он пошёл в уборную и вымыл губку чисто начисто. Даже чище, чем было у Горелова и Борьки.
Из разговора на уроке
— Оль, Оля! Я тебе должна одну вещь рассказать! — Нашла время! — Я и так три урока терпела. Я тебе знаешь как не хотела рассказывать! Оль! — Тихо. Уже Елена смотрит… Ну чего такое? — Оль, только… — Да не скажу я никому. — Честно?.. Ой, Оль, не знаю, чего делать. У нас же вчера соревнования были. Я тебе вроде говорила, да?.. Ну и вот. Там другие пока выступали, а я в следующей пятёрке должна была. И я на запасной каточек… Знаешь, у нас маленький такой каток там есть. Ну это неважно… Я, в общем, потихонечку катаюсь, разминаюсь, и вдруг он выходит из Дворца спорта. У него там, оказывается, тренировка была! — Кто выходит? — Коровин Игорь… Ну нашей Коровиной брат! Мы, помнишь, её навещали в том году… Я-то его сразу узнала. А он меня нет. Остановился у самого краешка и стоит. И ещё солнышко засветило — он буквально весь отражается на льду! Знаешь какой! А я как раз еду в ласточке и прямо на него!.. А он стоит и меня ждёт. Честно, Оль!.. Он меня, конечно, не узнал. Я же дико изменилась. Да он меня в том году и вообще не заметил… Ой, извините, пожалуйста, Елена Григорьевна! Я правда больше не буду… Да? Скажи, Оль, всегда всё заметит, чего не надо. Ладно, я коротко. В общем, он меня все соревнования ждал и пока я переодевалась. А я… хорошо, что мне мама велела новую шубу надеть. Знаешь, у меня с лисой такая шубочка. Ну, у которой рукава вот тут шире, а тут отделка. Нет, рукав именно что вшивной!.. Оделась я, и мы пошли. А он же не знает, что я в шестом классе. А я-то знаю, что он уже в девятом! Да ещё перворазрядник! Я, конечно, стараюсь на разные темы. Но больше про фигурное. Тут мне можно хоть семнадцать лет дать!.. Вот мы подходим к моему дому, а он меня за всю дорогу даже ни разу под руку не взял… За что дневник-то! Что я сделала-то?.. Да пожалуйста!.. Когда другие разговаривают… Ничего я не огрызаюсь. И не собираюсь даже! И так тоже неправильно упрекать, что я вымахала под потолок. Во-первых, не под потолок, а во-вторых, я же не виновата, что я акселератка!История седьмая. В старинном Ленинграде
Как получить зелёный цвет? Надо смешать синий и жёлтый. Это известно из рисования чуть ли не ученикам первого класса, правильно? Однако сейчас на глазах человека, вполне доверяющего науке, ничего подобного не происходило. Синева и жёлтый закатный свет — они не сливались, а существовали отдельно на одном и том же небе. Неслышимый и почти невидимый реактивный самолёт чертил по этой жёлтой сини пушистый, быстро исчезающий хвост. Самолёт проползал примерно на метр выше тоненького, просвечивающего насквозь обмылка дневной луны. «На метр выше луны», — подумала Люда и улыбнулась странным этим словам, пришедшим ей в голову. Вообще надо сказать, что сейчас Люда Коровина занималась совершенно не свойственным ей делом — она мечтала. То есть не то чтобы о чём-то определённом, а просто… Часов в пять вдруг на неё напало это странное состояние. Она надела пальто, шапку, варежки, отцовские бурки, прихватила толстый клетчатый плед, выставила на балкон кресло. Что, почему? То ли неожиданно наступившая весна, то ли полная удача в третьей четверти (единственная из всего шестого «В» она оказалась круглой отличницей), то ли молчаливая победа над нежданно притихшим Соколовым… Словом, неизвестно что, но что-то случилось. Сейчас Люда чувствовала себя в том зыбком и счастливом состоянии, когда ты оказываешься на некоторой вершине, дальше идти уже некуда: только вниз или только изо всей силы вверх — рывок и работа… Но какое-то время можно не падать и не рваться вверх, можно просто немножко постоять здесь, невесомо балансируя, как балерина, на самом кончике пальца. Или, вернее, как во сне. Её старший брат, девятиклассник школы с биологическим уклоном и весьма подающий надежды боксёр, даже вышел к ней на балкон в одной тренировочной курточке. Спросил удивлённо и, конечно, насмешливо: — Ты что, куришь здесь, что ли? Люда с трудом придала своему лицу обычное спокойно-твёрдое выражение, повернулась к брату: откуда, мол, эта странная мысль! — А что за неподвижность такая? — опять спросил брат довольно резко. — Мечтаешь? Влюбилась? Люда помедлила несколько секунд: — Я задачу решаю, а что? Брат пожал плечами и чуть громче, чем следовало, захлопнул балконную дверь. Прошло ещё сколько-то времени. По небу всё гуще разливался малиновый закат. Люда, которая так редко никуда не торопилась, смотрела на эту картину почти удивлённо. Её настроение требовало чего-то особенного. И оно произошло. Балконная дверь снова открылась, появился отец. Он был в пальто, в шапке и даже в одной перчатке. Видно, только что вернулся с работы. Другую руку, голую, отел, сунул куда-то во внутренний карман, в глубины пиджака. Люда встала: — Здравствуй, папа. Отец протянул ей — она сперва не поняла — билет! И сразу догадалась, даже не читая: в Ленинград! — Поедешь одна, — сказал отец. — Сегодня в двадцать два десять. Наверное, для многих такое сообщение было скорее тревожным, чем радостным. Но только не для Люды! Человек, у которого всё выстирано и выглажено, у которого личное хозяйство в полном порядке, не боится спешных сборов. Для него вообще отсутствует такое понятие «спешные сборы». — Сейчас мама придёт, я ей звонил. Думаю, тебе стоит согласовать с ней список вещей? — Большое спасибо, пап! Отец улыбнулся ей: — Только прошу иметь в виду: это не премия, а лишь следствие хорошей учёбы. Стремись к большому, попутно обретёшь и малое! Это была их семейная поговорка. Отец ушёл в комнаты. А Люда осталась ещё на балконе. До поезда было четыре часа, и какие-то минуты ничего не решали. Надо было всё обдумать и успокоиться. В Ленинград ей хотелось давно. Не в Москву, а вот именно в Ленинград. Может быть, оттого, что там учился отец — когда-то давным-давно, ещё в пятидесятых годах. И книг про Ленинград у них было много — ещё тех, старых, знакомых с самого детсадовского детства. И товары ленинградские они в семье любили больше. Считалось у них, что Ленинград уж выпускает так выпускает. А Москва может иной раз и тяп-ляпом отделаться. В Ленинград ездил Людин старший брат. Правда, после восьмого. Но ведь он так никогда и не учился! А Люде отец еще в сентябре сказал, в самом начале: — Работай, дочь, а Ленинград приложится. Вот такая даётся тебе нота камертона! Отец слов своих на ветер не бросал и никогда их не забывал. Поэтому Люда спокойно взялась за работу. Спокойно и упорно. И в результате никто не выдержал её темпа. Только Шуйский одно время тянулся. Но это ведь действительно очень трудное дело — быть круглым отличником. Это как у чемпионов — ни дня без тренировки. А Князь что-то там недоучил по своей обычной расхлябанности. Ну и соответственно в четверти… А Люда работала! Не за Ленинград, конечно. Было какое-то удивительное наслаждение шагать к себе за парту, когда в ушах ещё звучит: «Садись, Люда, отлично!» И так всегда, раз за разом. И никогда ничего другого! Она встала одним движением, сбросила в кресло плед. Ещё секунду постояла, держась за железные холодные перильца балкона. Глядела, как с соседней крыши всё ленивей спрыгивают последние на сегодня капели — уже начало чуть заметно морозить. Месяц разгорался и разгорался, а реактивный след пропал, будто его и не было никогда в этой густой пронзительной сини.* * *
Она лежала на верхней полке, укрытая до самого носа одеялом, и делала вид, что читает «Пионер». На самом деле читать было неудобно. Буквы скакали, путаясь в глазах, перебегая из строки в строку, словно недисциплинированные пешеходы. Вообще все предметы в летящем по рельсам вагоне были слишком живыми и слишком раздражительными какими-то: стаканы медленно, но верно ползли к краю столика, пальто мелко вздрагивало и трясло руками, словно кого-то боясь, туфли, оставленные на полу, то и дело порывались пуститься в пляс. Наверное, на всё это не стоило обращать внимания. Да Люда никогда и не обращала — мало ли она ездила в поездах (правда, в электричках), и всегда спокойно. Дрожащие вещи были только зацепкой. На самом деле сердили её трое командированных дядек, которые сейчас дулись в преферанс, а до этого, наверное, битый час разговаривали с ней. Задавали якобы интересующие их вопросы — часто слишком прямые, которые в разговоре между равными задавать было бы неприлично. Но Люда вынуждена была поддерживать этот «разговор». Во-первых, потому, что мама, несмотря на все Людины протесты, конечно же, просила «присмотреть за девочкой». А главное, из-за того, что она, видите ли, «ребёнок». Кстати, для некоторых это очень удобное деление. Допустим, у человека никаких настоящих заслуг нету, а просто он старше кого-то лет на двадцать — и всё, кончено дело. Его уже должны уважать! «По определению», как говорит Елена Григорьевна. Речь даже не лично обо мне, но ещё совершенно неизвестно, кого нужно сильнее уважать — шестиклассника, который учится без троек и почти без четвёрок, или командированного (хотя бы даже инженера), который целые вечера сидит за картами! Так она думала, сердито глядя в скачущие строчки «Пионера». А эти ещё курили сигарету за сигаретой — один кончал, другой начинал, а то и все трое сразу. А каждый ведь изображал из себя уж такого друга детей!.. Люда ужасно жалела сейчас, что она не Маринка Оленина. Маринка бы им очень ясно объяснила, что к чему. Как председатель совета отряда, Люда не одобряла, что Маринка иногда строит из себя барышню. Но сейчас Люде очень бы пригодилась холодная Маринкина вежливость, чтобы напомнить этим «взрослым», что всё-таки среди них женщина! Уж если так неймётся курить, можно было хотя бы спросить разрешения! К сожалению, Люда так не умела. Так никто не умел, кроме Маринки. И Люда выбрала другой способ протеста. Подчёркнуто (как ей казалось, подчёркнуто), ни к кому не обращаясь, она залезла к себе на полку, установила между собою и преферансистами «Пионер» и, когда её спросили о чём-то, не ответила ни слова. Конечно, это был не лучший способ сопротивления, потому что дым всё равно гулял под потолком. Раза три Люда попробовала кашлянуть. Но её никто не услышал в горячке преферанса, в грохоте поезда.* * *
Следующим утром — ранним, поездным, начавшимся при электрическом свете — Людины игроки встали пасмурные, нахохленные. Скучно и через силу заговорили о каких-то своих делах, главках… Один из них, которого Люда, кажется, видела где-то в городе, сказал: — Девочка, дай-ка мне пройти. Словно это не он вчера задавал ей вопросы про маму, про папу и как у неё с учёбой. Всё же на ленинградском перроне они опять решили было исполнить роль старших. Но Люда так независимо прошла вперёд, что никто из них не посмел к ней подступиться. Однако, отойдя на некоторое расстояние, она с опозданием сообразила: теперь попутчики её так и не узнают, что её никто не встречал, что она совершенно одна идёт по чужому городу. Люда остановилась, глянула налево, направо, подождала. Но преферансисты уже навсегда исчезли в медленной пассажирской реке. А может быть, и лучше, что так вышло. Что её не увидели и не стали расспрашивать. И она… не смогла похвалиться! Потому что чем же хвалиться-то? Взрослостью и самостоятельностью хвалятся только дети, верно? А для настоящего взрослого такие вещи — это само собой разумеется. Однако для неё это пока не было «само собой разумеется». Она чувствовала себя необычно и взволнованно, словно невидимо проникла куда-то, разведчик шестиклассников во взрослой стране. Чемодан поскрипывал при каждом шаге, весомо оттягивал руку и не давал успокоиться. Она прошла громадный зал с полупрозрачной крышей. В этом зале, наверное, легко уместился бы небольшой двух-трёхэтажный переулок, каких много было в её городе. Посреди зала Люда остановилась, как посреди поля, под небом. «Сюда приеду учиться! — подумала она. — Во что бы то ни стало… И чего-нибудь добьюсь!» В каком именно институте она будет и чего ей следует добиваться, она не знала. Это, казалось ей, сейчас неважно, это придёт. В конце концов она всего лишь ученица шестого класса. Важно, что в ней крепко сидит это желание — добиваться! Нет, она не собиралась быть какой-нибудь выскочкой. Просто ведь так всегда бывает: кто-то идёт впереди, кто-то шагает сзади. В своём классе она стала командиром. И добилась этого честно, любой подтвердит. Ну может, кроме Соколова и его свиты… В классе она добилась командирства. Так почему во всей жизни не добиться? Трудно? Ничего! С трудностями она справлялась и будет справляться! Она вышла на большую площадь, обставленную кругом высокими старинными домами. Она остановилась на краю этой площади, заполненной машинами, троллейбусами, трамваями, людьми. Воздух над площадью весь был исчерчен проводами. Люде нужно было сориентироваться, соотнести то, что она видит, с тем, что говорил ей отец. Долгим, медленным взглядом она обвела дома — эти колонны, статуи, каменные цветы и фрукты, развешанные по стенам. Они были не нужны для жизни — дома прекрасно стояли бы и без них. Но они были красивые. Это открытие удивило и как-то странно взволновало Люду: просто вдруг взять и делать ни для чего — для одной красоты. Это ведь глупо!.. Или не глупо?.. Красиво. Так до конца и не выяснив, что же она думает по этому вопросу, Люда постаралась в мыслях перейти на уже знакомое, решённое. Сказала себе: «Обязательно буду здесь учиться!» Отец так подробно всё ей рассказал, что она сразу отыскала нужную улицу и пошла по ней. Старинные стройные дома как бы сопровождали её. Здесь все дома были старинные — красивые, какие-то особенно отвесные. И название улицы тоже было старым, революционным — улица Восстания. Вверху над всем городом висело туманное белое небо. На пути ей попался кафетерий. Люда зашла в него. Не оттого, что умирала с голоду, а просто от значительности и взрослости происходящего, от старинности и красоты высоких домов. Она вошла и удивилась. У них бы в городе это была простая забегаловочка. А здесь обязательно надо было раздеться и, наверное, посмотреть на себя в высокое бледное зеркало. На вешалке, рядом с Людиным пальто, висела матросская курточка. Люда вспомнила это почти забытое ею слово: «бушлат». Сверху висела бескозырка с двумя длинными лентами. «Морской город» — эти слова пришли ей в голову как бы сами собой. И вслед за этим она ещё подумала почему-то: «Строгий».* * *
Женщину, у которой она должна была остановиться, звали Татьяна Сергеевна. Когда-то, лет сто назад, Людин отец жил у неё, пока учился в Политехническом. Ещё он не был женат на маме и, значит, само собой, что не было ни Люды, ни Людиного брата. В те времена отец даже с мамой ещё не познакомился. Он и знать не знал, что через несколько лет его распределят на комбинат, в тот самый город, в котором родились Люда и её брат… Как давно это было и как странно! Когда Люда думала про Ленинград, она обязательно думала и про Татьяну Сергеевну, и про всё вот это. И сердце её охватывала какая-то… будто робость. Ведь если бы папа жил не у Татьяны Сергеевны, а ещё где-нибудь, например в общежитии, как все другие студенты, он бы, может, дружил с другими людьми и учился бы хуже… или даже пусть лучше, сейчас не в том дело. Важно, что он учился бы не так! И его бы не распределили на такой хороший комбинат, в такой город. И он не познакомился бы с мамой, и не родилась бы Люда. Никогда бы не родилась! Так она думала о Татьяне Сергеевне. Нельзя сказать, чтобы очень часто, но зато каждый раз с особым замиранием сердца. Однако говорить про это она никому не говорила. Попробовала один раз брату — он такую презрительную физиономию состроил!.. Потом сказал как-то особенно противно, врастяжку: «Сентиментальность вас, барышня, одолевает. Видно, влюбляться пора». Люда горше всего не любила попадать в такие ситуации, чтобы над ней смеялись. Она запомнила тот случай, как обожглась. И уж с тех пор никогда! Однако неведомая Татьяна Сергеевна нет-нет да и появлялась в её мыслях. Словно добрая колдунья: добрая — это хорошо, а колдунья — всё-таки страшновато. Отец, перед тем как отправиться за билетом, позвонил в Ленинград просить о приюте. Татьяна Сергеевна — уже чуть не двадцать лет пенсионерка! — обычно бывала дома. И на этот раз отец застал её. Обо всём они договорились очень быстро. Татьяна Сергеевна лишь сказала, что не сможет встретить «Володину дочку». Вот почему Люда шла сейчас совершенно самостоятельно, гордо и одиноко по знакомо-незнакомому Ленинграду. Город был утренний, пасмурный и весенний. Лениво просыпалась капель. Каменный атлант держал на тяжёлых своих руках шесть этажей дома. С бороды его свешивалась сосулька. Словно бы он надышал её за ночь… Люда покачала головой: странные какие-то мысли ейприходили! Но здесь её никто не видел и не слышал. Она была здесь… инкогнито! Допотопный скрипящий и охающий лифт привёз её на шестой этаж, напоследок дёрнулся, вздохнул, словно хотел бы пойти выше, да сил не хватило. Ещё в лифте… нет, раньше, ещё в тёмном обширном зале, в котором она оказалась, открыв дверь дома… нет, ещё на улице, охраняемой бородатыми каменными атлантами, к Люде пришло радостное и робкое ощущение, будто она в музее, где «руками не трогать!», а тронуть-то как раз хочется. Лестничная площадка, на которую вышла Люда, была, может, и меньше их класса, но, честное слово, не намного меньше. А ведь это значит, что здесь уместился бы весь шестой «В» плюс учитель, плюс доска, шкафы, наглядные пособия… Какие странные всё-таки делали раньше дома! Пол выложен был трёхцветной плиткой. Пологая лестница с широкими ступенями медленно уходила вниз. Над нею ползли на чугунных частых ногах тёмные деревянные перила. Люда Коровина, которая тоже, между прочим, немало повидала на своём веку, но которая жила в новом доме нового города, стояла удивлённая: неужели же всё так до конца и будет в этом старинном Ленинграде! За спиною у Люды хлопнула дверь. Какая-то девчонка (класса из четвёртого), не заметив Люду, не обратив ни малейшего внимания на всю эту древнемузейную необычайность, проскакала вниз по лестнице. Наверное, самым обычным образом опаздывала в кино или на кружок в Дом пионеров. И тут Люда будто опомнилась, подошла к нужной ей двери, на которой — тоже необычайность! — сидело чуть ли не с десяток звонков. Нашла тот, против которого приклеилась маленькая табличка: «Т. С. Бутенко», и позвонила.* * *
Она сидела в пустоватой, голой комнате на жёстком деревянном стуле. Перед нею на столе, покрытом старомодной белой скатертью, лежала записка: «Здравствуй, Люда. Я непременно вернусь 25/III вечером. Еда в холодильнике у Веры Николаевны (спроси, тебе скажут). Очень не советую тебе сидеть целый день дома. Непременно ступай гулять по городу! Лишь хорошенько запомни адрес! Прости моё невольное негостеприимство. До встречи! Татьяна Сергеевна». 25/III — это значит сегодня… А ведь Татьяна Сергеевна не сказала, что уезжает, — только, что встретить не сможет. Это, наверное, чтоб Люда всё-таки приехала. И правильно! Потому что в конце концов один день не такая уж страшная вещь. Она ещё раз перечитала записку. Еда в холодильнике у Веры Николаевны. Почему? Что, у неё своего холодильника нет?.. Люда медленно прошла глазами по всей комнате. Это была небольшая комната: два-три шага — окно, два-три шага — дверь. Но казалась она большой. Во-первых, из-за непомерной высоты потолков. А во-вторых, здесь было совсем мало вещей. На тускло блестевшем паркете каждая стояла отдельно, словно остров или корабль: диван, пустое пространство, два стула, пустое пространство, швейная машина, пустое пространство… Посредине обосновался стол, над диваном висела решётчатая полка с книгами… Ни телевизора, ни магнитофона, ни проигрывателя. Даже приёмника нет!.. Может, и холодильника тоже? Наконец она сказала себе те слова, которые долго вертелись на языке: «Бедная комната»… И тотчас стало неприятно, что она, Люда Коровина, обращает на такие вещи внимание. Как будто не всё равно, есть у человека магнитофон или нету. Ей и самой купили магнитофон совсем недавно!.. Четыре шага от двери до окна по скрипучему щербатому паркету. Четыре шага обратно. В окне, внизу, узкий глубокий двор: крохотный — кажется, чуть больше этой комнаты. Колодец!.. Нет! Она, конечно, не какая-нибудь мещанка. Ей неважно, богатый человек или бедный. Но дело в том, что отец всегда со значением так рассказывал: Татьяна Сергеевна необыкновенная!.. А на самом деле она в жизни никем не стала… Почему никем? Да потому, что по комнате — тут уж нечего ханжить! — можно запросто узнать, добился человек чего-нибудь или не добился. А Татьяна Сергеевна именно что не добилась — это плохо, это! А не сама комната. Понятно вам? «Стыдно не быть великим. Каждый им должен быть!» — вот как Евтушенко считает. И правильно. А то выходит — что ж ты? Жил-жил — и всё на ветер!.. А отец почему-то про неё всегда… Может, это какая-нибудь не совсем её комната? Вряд ли. Так не бывает. Она взяла с полки небольшую щуплую книжечку. «А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 5». Рядом стояло с десяток таких же сероватых неказистых книжечек. Странно! Она перелистнула страничку, такую тонкую — страшно. И сухую… будто всю иссохшую. Повеяло чем-то старым-старым, почти древним. 1932 год. Людина бабушка те далёкие времена называла: «до войны». Людины родители тогда ещё не родились — куда там! Сама бабушка была девочкой — почти такой, как Люда. А Татьяна Сергеевна уже преспокойно ходила в магазины. Купила вот полное собрание сочинений Пушкина. Представляете вы? Она взяла с полки ещё одну книгу, какую-то совсем уж обтрёпанную, в переплёте из грубой серой материи. Раскрыла её где-то на середине — тотчас выпала страничка, словно только и ждала, чтобы её выпустили из темницы. Люда сумела поймать её возле самого пола — пожелтевшую, плохо гнущуюся страницу. Это была страница телефонного справочника на букву «П». Но странная страница: вся исписана, а потом вся зачёркнута — номер за номером, вместе с именами и фамилиями людей: «Павлова Людмила Борисовна» — зачёркнуто, «Повзнер Лев Самойлович» — зачёркнуто, «Прозоров Н. Д.» — зачёркнуто. И так от первой до последней строчки. Люда вложила страницу назад, на её место… Наверное, листать чужие телефонные справочники не совсем честно: всё-таки они чем-то похожи на дневник и на письма. Но тут Люде нечего было стесняться. Она переворачивала страницу за страницей — зачёркнуто, зачёркнуто, зачёркнуто. То аккуратно — видно, по линейке, то кривой, нервной полосою… Редко, на две-три странички раз, попадался незачёркнутый номер или адрес. Такие были особо аккуратно обведены рамкой, словно забором. Словно Татьяна Сергеевна хотела спасти их от нашествия зачёркнутых. Странная книжка. И странная эта Татьяна Сергеевна. Чего она всех зачеркнула? Разругалась?.. И вдруг Люда поняла: они все умерли! Это мёртвая книга. Звони хоть по какому хочешь номеру, никуда не дозвонишься. А живые номера спрятались за чернильным забором и боятся! Люда поскорее закрыла старую книгу… Эх, так и не посмотрела на букву «К» — сидит там их адрес в чернильной клетке?.. Наверное, сидит… А кругом мёртвое побоище. Одни зачёркнутые номера. Но проверять всё же не стала. Наконец она подумала о Татьяне Сергеевне. Нет, конечно: себя она не поставила на её место… Разве это возможно, когда одному человеку всего двенадцать с хвостиком, а другому семьдесят пять или ещё больше, например лет восемьдесят! Но всё-таки Люда сумела представить себе, как эта женщина, неведомая Татьяна Сергеевна, сидит и вычёркивает номера: умер, умер, умерла… Может быть, впервые за все годы своей сознательной жизни Люда подумала, что человека можно уважать просто за возраст. Не за какие-то там заслуги и успехи, а лишь за то, что он сумел прожить долгую жизнь. Это само по себе, наверное, было очень непростым делом. Хотя бы потому, что вот так приходится раз за разом вычёркивать друзей из телефонной книги.* * *
Конечно, она не пошла искать холодильник Веры Николаевны. Она опять надела пальто, шапку, сапоги. На шапке ещё не просохла капель, падавшая с бороды атланта. Люда вышла из комнаты в длинный коридор, конца которого не было видно за поворотом. Этот коридор тоже был для Люды необычным: в новых домах, в новых городах ничего такого быть не может. Коридор был пуст, словно ночной переулок. У поворота высоко, как звезда, и неярко горела лампочка. Люда сказала дрогнувшим голосом: — Закройте, пожалуйста. Я ухожу. Неожиданно на её слова одновременно и быстро отворились две двери, выходящие в коридор (а всего таких дверей было, кажется, шесть). Высунулись две женские головы. Одна сказала: — Ступай, ступай. Ничего. А другая: — У нас «собачка», захлопни и… Татьяна-то Сергеевна вечером… Тогда уж… И замолчала. Есть такие люди, которые у всех своих фраз отъедают хвосты. Люда слабо улыбнулась обеим головам и вышла на лестничную… «площадь», нажала старинную фарфоровую кнопку старинного лифта.* * *
Уже через десять минут Люда заблудилась. И наверное, даже ещё почище, чем когда-то заблудилась Маринка со Стаиным. Сейчас она не нашла бы дорогу назад даже под страхом какой-нибудь самой страшной казни, выдуманной Соколовым и его подручными. Но за то, что она заблудилась, казнить её никто не собирался. И Соколов со всеми его скрежетаниями зубов находился отсюда далеко безмерно. Люда пребывала в состоянии ужасно безалаберного счастья. Она просто скиталась по улицам — просторным и прямым. На редкость прямым, на удивление просторным. Видным от начала до конца, словно хитрость первоклассника. Она нисколько не боялась пропасть или потеряться. Ей не от кого было теряться — ведь она была здесь одна! Потом в кармане, в кошельке, у неё было тридцать рублей. А такие вещи вселяют немалую уверенность! Наконец она знала один секрет — его рассказал отец. Если ты потеряешься или заблудишься в Ленинграде, обратись к любому прохожему, и тебе сейчас же расскажут дорогу, потому что нет людей более приветливых, чем ленинградцы! Люда поступила, может, и не очень хорошо, но для самоуспокоения она остановила какую-то молодую тётеньку: — Скажите, пожалуйста, как мне попасть на улицу Гоголя? А потом тронула за рукав старичка, что ждал у перехода зелёного света: — Вы не скажете, как проехать на улицу Пестеля? Оба раза она получила подробные и приветливые объяснения. А старичок даже пропустил из-за неё несколько зелёных светов… Между прочим, «адреса» Люда извлекла из знаменитого «Мистера-Твистера»: «Улица Гоголя, третий подъезд. «Нет, — отвечают, — в гостинице мест». Улица Пестеля, первый подъезд. «Нет, — отвечают, — в гостинице мест…» Стыд, конечно! Но сердиться на себя долго она сегодня не могла. Ей так хорошо было ходить по весеннему Ленинграду, над которым тучи пораздуло, выглянуло небо и солнце. Мостовые и тротуары стали прозрачными, словно серебряными. Впереди Люды по пустому какому-то переулку шла кошка, вся до кончиков лап отражаясь в мутном зеркале тротуара. Так они шагали вдвоём, потом кошка ушла в высокие чугунные ворота.* * *
Люда явилась обратно часа в четыре, усталая до ужаса, чуть ли не пьяная от впечатлений, чуть ли не шатающаяся. Но опять ей открыли соседи, а комната Татьяны Сергеевны по-прежнему была пуста. Пожалуй, она бы поела чего-нибудь, но надо хлопотать, у кого-то что-то спрашивать, благодарить. Она легла на диван, укрыла ноги своим пальто. Голова её чуть-чуть кружилась. Ей казалось, что она опять видит Неву — удивительно просторную и чистую реку… Медленно-медленно по ней шли редкие белые льдины. Люда смотрела на воду с высокого моста, который назывался Дворцовым. И голова её кружилась, как сейчас. И прямо глазам не верилось, что вон он, пожалуйста, Зимний дворец, а вот она, Петропавловская крепость. Солнце горело на её строгом офицерском шпиле, а стены от солнца казались ещё чернее. У тех стен стояли люди в купальниках — издали, с моста, крохотные белые фигурки. Есть в Ленинграде такой фокус: особые смельчаки (а их набирается немало) ныряют в ледяную Неву, а потом бегом — по снегу, по сугробам — к чёрной, горячей от солнца Петропавловке. Станут и греются… Говорят, в Ленинграде самый первый во всей стране загар. Даже на Кавказе ещё не загорают. А около Петропавловки уже можно. Люде об этом рассказывал отец. И вот она увидела это сама. Теперь, уже почти во сне, уже почти не отвечая за свои мысли, она представила себе, как Генка Стаин смело бежит по снегу к чёрно-прозрачной воде, оборачивается и кричит ей, улыбаясь: «Ну, иди, не бойся!» Именно ей кричит, а не Маринке…* * *
Она проснулась оттого, что кто-то зажёг свет. Для просыпания это самый неподходящий способ и самое неподходящее время: всё в голове склеено, настроение никудышное. Но Люда сразу сообразила, кто мог её разбудить. Она улыбнулась через силу и быстро встала. Даже не зевнула ни разу. На неё глядела, улыбаясь, маленькая сгорбленная старушка, седая и… усатая. Это Люда узнала, когда старушка поцеловала её в щёку, слегка кольнув своими редкими толстыми усами. А рука у неё была вся высохшая и смуглая, но не от загара, а просто от старости. На пальцах каждый сустав разросся в продолговатый шар. От этого пальцы торчали криво и в разные стороны.
Сказать по-честному, Люде было не так-то просто улыбаться ей и приветливо отвечать на вопросы… Когда Татьяна Сергеевна пошла ставить чай, Люда выругала себя подлой неженкой, сурово напомнила себе, что она не только тимуровка, но даже и командир тимуровской группы (уж не говоря о том, что и председатель совета отряда)! И в то же время в самой глубине души она себя… оправдывала. Потому что никогда раньше ей не приходилось иметь дело с такими старыми и с такими некрасивыми старухами. Первый их вечер двигался кое-как. Люда всё прятала глаза от волосатого старухиного лица, от её фиолетовой улыбки, в которой каждый раз неестественно и почти страшно сверкали вставные зубы. Таких новеньких зубов не было даже у тринадцатилетней Люды. Но тем страшнее они выглядели! В конце концов Люде пришлось сослаться на головную боль — причину, конечно, совершенно позорную. — Давай-ка спать тогда, — спокойно предложила Татьяна Сергеевна. — Авось завтра наладится. По переулку-коридору с одинокой звездой они отправились в ванную, где на стене висела многоэтажная полочка со многими мылами, пастами и зубными щётками… Надо же, как живут! По пути заглянули на кухню — просторное помещение, где стояло несколько газовых плит, несколько столов, висели разнокалиберные шкафчики и полки. В углу четверо мужчин, не обращая ни на кого внимания, громили в домино. За другим столом несколько женщин пили чай. Парень в майке, с наколкой на всю руку, читал газету. Люда подумала, что вот так же летом бывает у них во дворе: вроде сидят все отдельно и никому ни до кого нет дела, а вроде и все вместе… Здесь, в этой большой темноватой кухне, был как бы зимний двор. Их увидели, стоящих в дверях, и сразу начали звать: — Что же вы, Татьяна Сергеевна! А чайку? — Да подожди ты! Читали, что американцы делают, баба Тань?! Толстый доминошник, который занимал локтями чуть не полстола, оторвался на секунду от своего важного дела и произнёс: — Сегодня пятая серия будет. Ко мне заходите, Татьяна Сергеевна… — Спать, спать пойдём! — сразу всей компании отвечала Татьяна Сергеевна. — Обе мы уморились с дороги, не дай бог. — Да не заснёте ведь, я-то вас знаю!.. «Что это они к ней?» — растерянно думала Люда. Татьяна Сергеевна в это время мылила усатое своё лицо, фыркала, кашляла зачем-то и была очень некрасива. Вернулись в комнату, Люда разделась и легла. Татьяна Сергеевна, в ночной рубашке, подошла к выключателю. Она была худа и тонка — наверное, тоньше самой Люды. Свет погас. — Ну, спать! — бодро сказала Татьяна Сергеевна, словно приглашала Люду на завтрак. — Спать — и конец! В темноте, когда Татьяну Сергеевну не стало видно, Люда наконец сумела расслышать её голос — звонкий, мальчишеский. Даже можно сказать — красивый. — Спокойной ночи, Татьяна Сергеевна. — Доброй ночи, дорогая девочка! Люда повернулась на правый бок, глубоко вздохнула. Всё-таки что-то мешало ей уснуть. То ли просто днём выспалась, то ли… Какая-то была тайна у этой Татьяны Сергеевны. Так уверенно держится… даже весело. А сама в жизни ну буквально ничего не добилась. И теперь уж ясно, что не добьётся. Неужели не страшно? Жила-жила, тыщу лет прожила — и ничегошеньки, в буквальном смысле ничего! Или добилась? Потому что странно, чего эти все, которые на кухне: «Татьяна Сергеевна, чайку, да Татьяна Сергеевна, пожалуйста!» И отец: «Татьяна Сергеевна, Татьяна Сергеевна… Ну ты, дочка, сама увидишь». А Люда вот не видит! Видит комнату, всю излизанную годами. Видит Пушкина, допотопного, бедного. Видит телефонную книгу с зачёркнутыми номерами… Телефонное кладбище. Ну, это правильно, что прожила она долгую жизнь, старей всех в квартире, а может, чуть ли не старей всех в городе. Даже представить, и то ужас! Но погодите. Что ж, ей за это орден давать, что ли? Ордена ей за это никто не даст. И правильно! Потому что это не такая уж заслуга. Живёт и живёт, сколько положено. В общем, никакого подвига. Нет! Конечно, это само собой: старость надо уважать. Ещё Михалков писал. Но… Тут Люда прямо чуть ли не подскочила — такая странная мысль пришла ей в голову. Вот я, например, учусь на «пять». И так же дальше буду, это точно. А вот она, Татьяна Сергеевна, ну вот хоть на спор — она не училась на «пять»! Люда ещё не успела понять, что же из этого следует, что Татьяна Сергеевна не училась на «пять», а она, Коровина Люда, учится так и будет учиться. Вдруг Татьяна Сергеевна заговорила сама: — Что, не спится, девочка? И опять голос её прозвучал до того утренне, как будто она пела песню про «Вставай, не спи, кудрявая!». Люда даже улыбнулась. — А я тоже не сплю. Лежу, как старая колода… Ну что, много ль сегодня денег потратила? Вопрос этот был для Люды неприятным и неожиданным. Стараясь голосом показать, что такие вопросы задавать человеку не следует, Люда ответила, что сегодня истратила она ровно шестьдесят семь копеек. — О! Молодец! — весело отозвалась Татьяна Сергеевна. — А почему, собственно, молодец? — А не люблю я, знаешь ли, этих тратчиков… которые деньги тратят. Скучноватые обычно люди. Вот странная старушенция! Почему непременно скучноватые? — А почему вы говорите — скучноватые? — Да чудачки́ они! — замолчала. Но было понятно, что сейчас она продолжит. — Чудачки́, Людок. За душой маловато — они деньги и тратят. Думают: во как я живу — интересно! Люда вспомнила огромный универмаг «Дом ленинградской торговли», который был битком набит какими-то женщинами, мужчинами с авоськами. Толкучка эта многократно была перечёркнута упорными полосами очередей. Ну правильно, быстро сообразила Люда, ведь конец месяца… даже конец квартала! Но тотчас подумала: «Да ни за что я не буду здесь толпиться!» — и сразу вышла на улицу, в весенний Ленинград. И была довольна собой, и чувствовала, что поступила правильно. Однако сейчас она не хотела соглашаться с Татьяной Сергеевной. Ни в чём не хотела ей уступать! Ловкий ответ пришёл вдруг сам собой. Она опять вспомнила тот битком набитый универмаг. Наверно, и в других магазинах то же. — Что-то очень уж много тогда «чудачков»! — сказала она довольно едко. — Хм! Верно! — удивилась Татьяна Сергеевна. Она совсем не почувствовала враждебного Людиного тона. — Да я ведь не так хотела сказать. Я только говорю: люди не понимают! Потому что чем дороже и необходимей вещь, тем дешевле она достаётся нам… Да-с!.. А бесценные вещи — те вообще задаром… Неожиданные и странные эти слова заставили Люду напрячься, как бы вслушаться. Что же такое говорит Татьяна Сергеевна? То, что дороже всего, стоит всего дешевле. Как это понять? То, что дороже всего… А что дороже всего? Что мне, например, дороже всего, лично мне? И неожиданно у неё сорвалось: — А что бывает самое дорогое? Татьяна Сергеевна молчала. И Люда вдруг почувствовала себя неловко, что задала такой вопрос. Внизу, где-то на самом дне двора, протяжно и надрывно запела кошка. И почти тотчас мужской голос крикнул: — Брысь ты! Заразина! Ни кошка, ни мужской голос больше не появлялись. Была тишина. Люда лежала, напряжённо ожидая, когда наконец пройдёт это неловкое мгновение. И вот Татьяна Сергеевна заговорила. Голос её звучал на этот раз глуховато, будто чуть удивлённо и чуть обиженно. — Самое дорогое, Люда, — мать с отцом. Разве не так? Вырастешь постарше — любовь, ещё одно самое дорогое… А ты что думала? Что-то другое? — Люда ей не ответила, и Татьяна Сергеевна продолжала: — Небо, звёзды, товарищи… Улицы наши ленинградские. Вот что, я считаю, самое дорогое… Лес, Нева, музыка. Финский залив, хлеб, наконец… Понимаешь ты меня?.. А деньги нужны совсем на другое. Я бы сказала: на ненужное — на платье немыслимое, на моду, на кольца, на духи за шестьдесят рублей, ресторан… Вообрази: сидит человек и пять часов ест. Нелепо! Люда молчала удивлённо. Потому что самое дорогое, она думала, — это чего надо добиваться. Например: стать членом совета дружины. Или: окончить школу с золотой медалью. В общем, без труда не вынешь и рыбку из пруда. А если тебе рыбки просто так достаются, от этого уже никакой радости нет! Но с другой стороны, она, конечно, и маму любила, и папу. Они были ей очень дорогими, хотя Люда совсем не боролась, чтобы они стали именно её родителями. И за небо она совсем не боролась, и за звёзды, и за лес. И за друзей. Они сами появлялись: Нелька Жужина, Стаин, Таня Полозова. Как же выходит? Самое дорогое то, чего вообще не надо добиваться? Хоть ты глупый, хоть умный, а всё равно у тебя небо над головой. Ночью не спи — вот и звёзды! Нет! Так что-то очень просто получается. Один человек, например, всю жизнь старается, на пятёрки учится, а другой живёт себе шаляй-валяй. И вдруг про этих двоих говорят: «Им даётся все одинаковое. Что у одного есть самое дорогое, то и у другого». Нет! На это Люда была не согласна. Да и в жизни, между прочим, не так. На любом заводе, на любом предприятии, даже в любом классе — везде есть, кто много в жизни добился и кто мало. А Татьяне Сергеевне, конечно, выгодней говорить, что всем всё одинаково. Потому что она-то сама ничего не добилась… А ведь это несправедливо по отношению к таким, как Люда!.. Хмыкнув для начала, но всё-таки стараясь говорить спокойно и беспристрастно, она выложила всё, что думает по этому вопросу… Говорить ей было хорошо — никто её не видел, лишь тёмная пустота невесомо плавала над нею. Слова ударялись о потолок, о голые стены и потом звонко отлетали к Татьяне Сергеевне. Люда словно и не говорила — просто думала. А ведь думается всегда легко, резко. Татьяна Сергеевна не перебивала её. Да, не перебивала. Но это, между прочим, хорошо лишь до поры, до времени. А потом ты уже просто всей душой хочешь, чтоб тебя перебили, — тебе ведь тоже надо перевести дух, набраться новых сил и нового ехидства и со словами «Очень странно вы, между прочим, рассуждаете!» (или что-нибудь в этом роде) снова кинуться в бой. От Татьяны Сергеевны, однако, не исходило ни звука. И Люда чувствовала, что уже начинает пробуксовывать. Она гоняла свою мысль по кругу, приводила всё новые и всё более водянистые доказательства, которые больше были похожи на какие-то жалкие оправдания. Хотя на самом деле Люда была права со всех сторон! Наконец она попросту иссякла. И только тогда, словно падающего без чувств марафонца, Татьяна Сергеевна подхватила разговор. — Ну, с тобой не поспоришь! — сказала она. — Любого забьёшь! Люде от этой похвалы сразу стало легко и ужасно приятно. Чуть ли не с благодарностью она подумала о Соколове: если б не его упрямство, разве бы ей когда так научиться! Ну, а то, что под конец в доказательствах получилась ведь… противник же всё равно признал своё поражение! — Это же само собой разумеется, — сказала Люда скромно, — тут любой доказал бы! Кто добивается, тому почёт и всё другое, а кто не добивается… значит, сам виноват. — А ты добиваешься? — Стараюсь! — Ясно… И в этом слове Люда не услышала особого одобрения. — Ну… ну, а как же? — сказала она. — Ведь надо же к чему-нибудь стремиться!
* * *
Люда проснулась и увидела такую довольно странную картину. За столом перед укутанной в газеты настольной лампочкой сидит Татьяна Сергеевна и что-то пишет… Она была очень мала и тонка, словно девочка, и сидела в одной ночной рубашке. Люде почему-то представилась Нелька Жужина или Лаврёнова, как они вскакивают ранним (почти ещё ночным) утром, чтобы доучить уроки — из каких-то источников Люда знала о таких вещах, только забыла откуда. Сейчас Татьяна Сергеевна напоминала ей как раз что-то в этом роде. Свет, замаскированный газетами, горел по-ночному, и в окнах стояла совершенно глухая ночь, и Татьяна Сергеевна склонилась над листом как-то очень старательно. Только одно было не так: Люде совсем не хотелось спать. Она лежала не шевелясь, глядела на Татьяну Сергеевну, которая сидела к ней почти спиной, и соображала, что же такое пишет Татьяна Сергеевна? Почему среди ночи совсем не хочется спать? Потом она подумала, что, наверное, неудобно подглядывать, и закрыла глаза. Но не уснула, потому что ей просто на удивление не хотелось спать. Словно сейчас было уже часов восемь. Ну и положение! Она не могла даже пошевелиться, потому что диванные пружины, на которых она лежала, были очень разговорчивые. Только повернись, Татьяна Сергеевна сейчас же услышит. Но ведь долго так вылежать невозможно. Если б во сне — другое дело, хоть всю ночь можешь не шевелиться. Она поборолась с собою ещё некоторое время — нет, никак не получается! Открыла глаза — прямо на неё смотрела Татьяна Сергеевна. — Доброе утро. Давно не спишь? На мгновение Люда смешалась. Но взяла себя в руки, не стала врать. Спросила с улыбкой: — А как вы узнали? — Лицо у тебя было такое, знаешь… слишком напряжённое. Татьяна Сергеевна попыталась изобразить Людино выражение. Ничего, конечно, у неё не получилось: слишком Люда была девочкой и слишком она сама была старой женщиной. Вышло только смешно. Люда невольно засмеялась, и Татьяна Сергеевна засмеялась обе звонко! — Ну, вставай, времени без малого полдевятого! Да, такое уж обманное ленинградское утро. Здесь с осени до весны дни коротенькие. Утро и вечер проходят в ночных потёмках. Первый свет пробрался в их окно только в десятом часу. Зато летом в Ленинграде, говорят, белые ночи: пусто, как ночью, а светло, как днём. Весь город словно залит невидимой прозрачной водой. Так сказала ей Татьяна Сергеевна. И Люда очень ясно представила себе это. — Ты в июне ко мне приезжай. — Спасибо!* * *
А писала она уж совсем странную вещь — Людин план на сегодня: как доехать до Эрмитажа и куда там пойти. План был подробный, но в то же время недлинный, уместился на одной страничке. Люда сразу вспомнила такие же отцовские планы, хорошо знакомые ей и похожие на этот. Значит, вот откуда папа… Так странно было думать, что отец её тоже что-то перенимал. Да ещё у кого? У Татьяны Сергеевны. Опять Люде бросилась в глаза бедная неудачливость этой комнаты… На допотопном столе, на белой, сто раз стиранной скатерти, лежал план, удивительно похожий на отцовский. Даже почерк чем-то был похож. Например, Люда сразу узнала букву «д». Отец писал её так же, как Татьяна Сергеевна, хвостом вверх. Они позавтракали яичницей, выпили по чашке крепкого чая, и Люда отправилась выполнять план. …Она знала, что Эрмитаж большой. Если человек будет в каждой его комнате жить по одному дню, то понадобится вроде года три, не то четыре (эти странные сведения она вычитала однажды из странички календаря). Но Эрмитаж оказался куда огромней, чем она думала. В нём человек терялся мгновенно, как и в самом Ленинграде. Небывалые толпы народа кочевали из зала в зал. Группы с экскурсоводами впереди двигались быстро и целеустремлённо, напоминая троллейбусы или трамваи… в общем, городской транспорт. Отовсюду слышалась иностранная речь. Бородатые и длинноволосые личности неподвижно стояли посреди залов, словно памятники или фонарные столбы. Одна раздевалка тянулась, наверное, на целый километр. И везде люди, люди, очереди, толкучка, звяк оброненных номерков. И каким же спасением оказался для неё этот листок. «У главной лестницы, не поднимаясь, иди направо. Если интересно — Египет, Вавилон и другой древний Восток. Обязательно: Древний Рим и Греция. У входа в зал бюст Антиноя». Мраморное лицо, широкие мраморные плечи, мускулистая грудь. Люда стояла перед скульптурой и никак не могла понять, в чём дело. Может быть, из-за того, что лицо у него очень красивое, она никак не может уйти?.. Сразу ей стало неловко. Она оглянулась — никто не обращал на неё внимания: стоишь, ну и стой себе, пожалуйста. Здесь вообще было сравнительно немного народу. Все почему-то, как сговорясь, из вестибюля шли по парадной лестнице вверх, где висели картины. Антиной… Так и не поняв, в чём дело, Люда ушла к другим скульптурам, потом вернулась опять. Могучий красавец. На одну секундочку он задумался — может быть, на пиру, а может, после пира, присев на край… чего там — ложа?.. И вдруг ещё невидимая ему самому проступила на его лице какая-то тайная печаль: то ли недуг, то ли ещё что… Вот это и сумел поймать художник. И оставил навсегда. Прошло уже больше тысячи лет. Что же здесь такое, думала Люда, что такое?..* * *
Она ходила по Эрмитажу, по задумчивым его, молчаливым залам — таким раззолоченным и сверкающим, но в то же время таким серьёзным и строгим. Тысячи картин, скульптур, ваз, разных других замечательных вещей проплывали перед её глазами. И всего этого, конечно, нельзя было удержать в памяти. Любой человек, каким бы внимательным он ни был, утонул бы здесь, как муравей в меду. Но вот Люда, школьница шестого класса, не тонула. Она плыла от островка к островку по маршруту, который для неё составила Татьяна Сергеевна. Она пыталась, конечно, не поверить своей наставнице, но очень быстро почувствовала, что буквально утопает (тогда-то и пришли ей в голову слова: «Как муравей в меду»). И поскорее вернулась на последний остров, с которого так легкомысленно сбежала… Так получилось, что этим островом была картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Люде оставалось только покачать головой. Может, и это Татьяна Сергеевна тоже сумела продумать?.. И поплыла дальше по бездонному эрмитажному морю. И всё время, до конца её путешествия, рядом с нею была Татьяна Сергеевна — очень старая женщина, которая сама уже не могла так долго ходить, как нужно посетителю Эрмитажа. Но зато в голове своей она держала весь этот огромный мир, все тысячи его залов. Сидя за бедным своим столом с застиранной белой скатертью, могла бродить по лестницам и длинным коридорам. («А бесценные вещи вообще достаются нам даром!») Думать: «Пойду-ка я взгляну на пейзажи Коро». Неужели это всё правда? И на самом деле она так может? Люда и верила себе и не верила. Но в руках она держала листок, исписанный серьёзным разборчивым почерком, чем-то похожим на почерк её отца и… господи!.. чем-то похожим на её собственный почерк! А по стенам напротив неё висели могучие деревья, буйно разросшиеся кусты — тёмно-зелёные и коричневатые, наверное, от заката. Они все уже давным-давно были срублены или засохли сами — ведь столько лет прошло. Но они остались жить, потому что их увидел когда-то великий французский художник Коро.Домой она отправилась не в автобусе, а пешком, по пути, известному ей со вчера. Через весь Невский проспект до Московского вокзала, мимо Исаакия, что стоял чуть в стороне и тяжеловесно сверкал огромным золотым куполом в бледном ленинградском марте. Мимо Казанского собора, где в скверике за низкой оградой стояли два знаменитых полководца — Кутузов и Барклай де Толли. И дальше, дальше по гранитным мостам через ленинградские речки и каналы. Мимо громадных и прекрасных домов, ставших ей уже почти привычными. Мимо самого большого в Ленинграде магазина, который странно назывался Гостиный двор. Мимо станций метро — неведомого ещё подземного мира, в который пока страшно было спускаться. Надо у Татьяны Сергеевны спросить… И всю дорогу, весь этот почти час, Люда думала о Татьяне Сергеевне — очень старой женщине, которая будто ничего не добилась в жизни, не стала никакой знаменитостью. И всё же добилась! Чего? Люда не могла себе ответить на этот вопрос. Но было что-то в ней необыкновенное… Люда вспомнила, как старалась вчера её переспорить, не дать себя в обиду. А Татьяна Сергеевна тоже, наверное, хотела что-то ей сказать, что-то важное. Но что?.. Люда ведь её и слушала-то кое как. Брала только то, что нужно было для хороших ответов в споре. Может, так теперь и не узнаю никогда! И главное, что обидно — из-за себя самой. Папа спросит: «Ну? Понравилась ли тебе Татьяна Сергеевна?» А я буду стоять и молчать.
* * *
Ленинградские сумерки набежали и сгустились как раз в те минуты, когда Люда подходила к дому на улице Восстания. Могучий атлант был виден ей уже смутно, уже сквозь пыль и паутину быстрого вечера. Люда так и не сумела рассмотреть, свисает с каменной бороды сосулька или нет. А утром она про эту сосульку вообще забыла. Дверь ей открыла Вера Николаевна, та самая женщина, которая так странно не договаривала предложения. — Ты раздевайся — и на кухню… — говорила она. — Там мы… И Татьяна Сергеевна тоже… Это был опять «зимний двор»… Там, человек пять или шесть пили чай, в другом углу парень с наколкой во всю руку провёртывал мясо и читал газету. Толстый доминошник грузно сидел на стуле и курил, пуская паровозную струю дыма в высокий потолок. Молодая женщина стояла у плиты над шипящей сковородкой. Кому-то, может, показалось бы здесь тесновато. А им — нет. — Люда! А ну-ка иди скорее сюда! — громко сказала Татьяна Сергеевна. Она сидела за столом, где пили чай. Возле неё, словно знак власти, высился очень большой блестящий чайник, каких Люда в жизни своей не видела. Наверное, старинный. Пили чай, аккуратно цепляя ложками варенье из разнокалиберных вазочек, и разговаривали кто о чём. Такие разговоры обычно бывают просто от покоя и хорошего настроения. — День рождения? — спросила Люда тихо. Татьяна Сергеевна покачала головой. — А чего? — Да просто собрались… посидеть. Суетливая и сердобольная Вера Николаевна уже подсунула Люде парочку бутербродов, дала большую чашку сладкого чаю и шепнула, что вон то варенье абрикосовое, пусть Люда берёт, не стесняется, потому что Вера Николаевна сама его варила. Люда ела бутерброды, пила сладкий чай с вареньем. Весь день она провела впроголодь и, конечно, устала. Теперь домашняя еда и уют спокойной взрослой компании усыпили её. Казалось, столько впечатлений, столько надо ещё понять за сегодня. Может быть, даже и прямо спросить у Татьяны Сергеевны… Вместо этого Люда задремала под шелест и говор негромкого пира… Это себе она казалась большой, высокой и взрослой. На самом деле, наверное, всё было не совсем так. И когда Люда уснула, кто-то из мужчин легко поднял её и унёс в комнату Татьяны Сергеевны на диван с говорливыми пружинами. Люда ничего этого не услышала, ничего…Вот она уснула. И теперь очень трудно сказать, в каком настроении она проснётся завтра. Честное слово, мы совсем не уверены, что ей захочется вспоминать свои послеэрмитажные мысли. Потому что человек не очень-то любит менять взгляды и переделываться. Раз стал переделываться, значит, в чём-то был неправ и теперь исправляет свою ошибку… или даже вину! А тут уснула — и с плеч долой! Но, правда, очень жаль, что так получилось. Когда-никогда, а Люде Коровиной всё-таки надо кое в чём меняться. И лучше это понять, пока тебе тринадцать лет, а не двадцать, скажем. Потому что — акселерация! О ней уж теперь говорят чуть не с детского сада. Очень рано люди взрослеют, очень рано по сравнению с прошлыми поколениями. Но и твердеют рано. Трудно потом переделываться. Так что спеши, Люда Коровина, все спешите — пятиклассники, шестиклассники, семиклассники! Спала Люда Коровина, и сейчас её ни за что было бы не отличить от шестиклассниц тридцатых годов, сороковых, пятидесятых. Может быть, только чуть повыше была она. Однако у спящего человека рост определить очень нелегко. Если только он не карлик и не баскетболист.
Но всё-таки о чём же они поговорили бы, если б Люда не уснула? Трудно сказать. Может, у них и вообще не получилось бы ничего. Причём совсем не обязательно из-за Люды. Вполне возможно, что как раз из-за Татьяны Сергеевны… А что вы думаете! Взрослым ведь тоже нелегко говорить с шестиклассниками, они тоже могут чувствовать себя неловко и потом сердито говорить себе: «Что-то не то я болтаю», и комкать разговор, и умолкать на полуслове. Такое очень даже часто случается, когда взрослые говорят с ребятами. Только ребята этого почти никогда не замечают, потому что они следят лишь за собой, за своим разговором и за своей победой в этом разговоре. Ну ладно. А если б всё-таки?.. Если б Люда начала, а Татьяна Сергеевна откликнулась, о чём бы тогда? Наверное, сначала об Эрмитаже. Да, конечно, об Эрмитаже! «А помните, Татьяна Сергеевна, когда идёшь на третий этаж, у самой лестницы…» «Конечно, помню!» Они поговорят о той картине. Потом ещё о какой-нибудь. Потом об Антиное. И наконец Люда спросит: «Да как же вы всё это помните?! Неужели вы весь музей… — И наконец догадается: — Вы там работали, да?» «Нет… Я туда ходила… Я туда давно хожу. Совсем молодая была, девчонка, лет двадцати пяти, что ли…» И у Люды сердце замрёт: ей до той «молодой девчонки» ещё жить столько же, сколько она прожила, то есть бесконечно много! А Татьяна Сергеевна словно бы услышит её мысли: «А с тех пор, Людочка, столько лет прошло! Господи, иной раз думаешь: да неужели всё это я прожила?.. Я!.. А смотрю на них…» «На кого?» «Да на картины… и ничего не изменилось… Моя жизнь кончится, твоя пройдёт — и то же самое! Понимаешь? — И вдруг продолжала неожиданно для Люды: — Всё бесценное — помнишь, что я тебе говорила: небо, Финский залив, Антиной вот… книги — оно не меняется. Вечное». Слово-то какое!.. «А почему?» — еле слышно спросит Люда. «Но знаю!.. Так уж… И надо, чтобы эти вещи всегда были в тебе». «Как «в тебе»?» «Чтобы ты о них надолго не забывала. Нет нет да и вспомни!..» Потом они обязательно поговорят о том, что так важно знать Люде… Вы помните, как она в душе своей измеряет человека: выбился куда-нибудь — стоящий; не выбился — говорить с ним не о чем! На самом деле, Люда, всё это не совсем так… Только внимание! Сейчас будет сложно. У каждого из нас есть в жизни две задачи. Внутренняя и внешняя. Внешняя задача — это то, чего человек должен или может добиться в жизни, в мире, среди людей. Вот у тебя, например: хочу учиться в Ленинграде, хочу стать учёным. У Соколова — хочу быть командиром, руководителем. У Бори Сахаровского — хочу быть классным шахматистом. У Горелова — хочу быть писателем… Внешняя задача. А внутренняя для всех людей одна: быть добрым, честным, верным, быть спокойным и мужественным, поступать так, чтоб из-за твоих дел не страдали другие. Внутренняя задача, она будто бы само собой разумеется. Мы говорим: «Ну конечно, добрым, конечно, мужественным, как же иначе?» Однако на самом деле очень часто внутреннюю свою задачу мы доделываем едва ли до половины. Почему? Потому что считаем: мы должны выполнять внешнюю задачу — добиваться! Говорим (а большей частью кричим): «Да некогда мне сейчас ваши диваны пылесосить! Мне ещё алгебру делать. Знаешь, какая теперь алгебра стала? Вы такую и в восьмом не видали!» Или что-нибудь в этом роде — у каждого происходили такие столкновения. С мамой, с бабушкой, с дедом… И между прочим, взрослые обычно оставляют тебя в покое. Только, может, рукой махнут с обидой. Но и то далеко не всегда. А знаешь, почему они так легко отступаются? Потому что стало принято внешнюю задачу считать как бы главнее. Говорят: «Ну, верно, грубит. А зато учится хорошо, первый разряд по плаванию!..» Но кем он вырастает вдруг, этот «хороший ученик»?.. Мы понимаем с горечью и презрением, что души у него не более чем копейки на три! И уж неважно, добился он чего-нибудь или нет. А вот Тамара Густавовна, вот Татьяна Сергеевна. К таким и люди тянутся. Такие живут внимательной, доброй и счастливой жизнью. …Люда проснулась и увидела себя лежащей на диване — в платье, в чулках, под головой подушка, ноги до копен укрыты чем-то вроде шали. Значит, я недавно сплю, подумала она, я же не могла так всю ночь проспать. Значит, сейчас ещё только поздний вечер? За столом, спиною к Люде, склонилась Татьяна Сергеевна. Она была в том же тёмном штапельном платье, что и прошлый раз, когда сидела на кухне. Татьяна Сергеевна писала, отставив ученическую шариковую ручку далеко вбок, словно это было древнее гусиное перо. Люде сейчас же вспомнился сегодняшний план по Эрмитажу… Антиной. Она спросила ещё неясным со сна голосом: — А помните, Татьяна Сергеевна, перед входом в Древний Рим… Татьяна Сергеевна, словно ждала именно этого вопроса, подняла на неё спокойные глаза: — Конечно, помню. Тебе он понравился? — А как же вы всё это помните?! Вы там работали, да? — Нет… Я туда ходила… Я туда давно хожу…
Заключение. Последний бой
Надежда, я вернусь тогда,
Когда трубач отбой сыграет,
Когда трубу к губам приблизит
И острый локоть отведёт.
Надежда, я останусь цел…
Надежда, я останусь цел,
Не для меня земля сырая…
* * *
Летела над лесом сорока, подметала широким хвостом ветер. С удивлением, с испугом глянула в прогал поляны, что за шум, что за крик? Но не стала разбираться — и скорее прочь! А проплывавшему в апрельской сини облаку уже не было видно той поляны. Оно видело — если б действительно могло видеть — темную страну хвойного леса, а рядом большой город. Трубы завода глядят на облако чёрными круглыми глазами. А космонавт, скользящий в своём корабле по орбите, увидел бы широкую-широкую зеленеющую равнину… Будто на физической карте, на ней были нарисованы извилистые нити рек, неподвижные чёрно-синие озёра. И так до самого горизонта, где серым монолитом лежала Атлантика, и так до другого горизонта, где смутно сияли арктические снега и льды. Какой город? Где? Когда?.. Шестой «В» между тем шагал себе по лесу, дуя на красные клешни рук… Солнце светило, и мир с каждым часом становился всё более весенним.





Последние комментарии
1 минута 58 секунд назад
20 минут 52 секунд назад
1 час 1 минута назад
9 часов 30 минут назад
9 часов 43 минут назад
10 часов 17 минут назад