Тайна трех неизвестных [Всеволод Зиновьевич Нестайко] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Всеволод Зиновьевич Нестайко
Тайна трех неизвестных

Глава I. О том как поссорился Иван Васильевич с Павлом Денисовичем

Знаете ли вы Павла Денисовича? О нет, вы не знаете Павла Денисовича: чудный, необычный человек Павел Денисович. Добрый, воспитанный, умный. А какой смекалистый! Это ведь он придумал штуковину для расстегивания пуговиц. После ее испытаний Степан Иванович Карафолька три дня не мог сесть. Прекрасный человек Павел Денисович! Когда он проходит по своей родной Васюковке, все собаки лают от восторга, а куры, гуси и прочая птица почтительно разлетаются в разные стороны, давая ему дорогу. Прекрасный человек Павел Денисович! Его знают не только в окрестных селах и в районном центре, но даже и в Жмеринке, где он иногда бывает у родичей. А какая рогатка у Павла Денисовича! Бог ты мой, какая рогатка! Николай-чудотворец, святой угодник! Необычайная! Несравненная! Невиданная! Разрази меня гром, если у кого-нибудь в мире найдется еще такая! Кожица — из материнского шлепанца, рогатулька — из могучей орешины, а резинка — из футбольной камеры. Катапульта, а не рогатка! Ах ты господи, отчего же у меня нет такой рогатки! Очень хороший также человек Иван Васильевич — тот самый, что заблудился в кукурузе и вывесил дедовы подштанники на телевизионной антенне. И собаки точно так же лают, а куры и гуси так же разлетаются в разные стороны, когда Иван Васильевич проходит по селу. Но Павел Денисович и Иван Васильевич не совсем сходны между собою. Павел Денисович очень любит вареники с вишней и может скушать их целую миску. Иван же Васильевич больше всего любит мороженое и как-то отведал за один присест восемь порций. У Павла Денисовича большие оттопыренные уши. У Ивана же Васильевича — совсем наоборот. Зато у Ивана Васильевича весь нос и щеки в рыжих веснушках. Павел Денисович говорит не спеша, растягивая слова. Иван Васильевич строчит, как из пулемета, — мысли едва поспевают за его словами, а иной раз мысль так и не может угнаться за словом, и летит себе слово с языка Ивана Васильевича этаким легким порхающим мотыльком без всякого смысла. Но оба — и Павел Денисович, и Иван Васильевич — любят поговорить. И, бывает, сойдясь вместе, наплетут такого, что сами удивятся, замолкнут и некоторое время смотрят друг на друга, хлопая глазами. Но только не было еще случая, чтоб они растерялись и не нашли, как выкрутиться. Их имена все время на устах у классного руководителя Галины Сидоровны. «Изумительны эти двое, — говорит она, — просто бесподобны! Если я не доживу до нового учебного года, то только из-за их оригинальности». А как дружили Павел Денисович с Иваном Васильевичем! Боже мой, как дружили! Так могут дружить только великие люди или герои. Друг без друга — ни на шаг. Водой не разольешь! И вот эти прекрасные люди поссорились. Что там поссорились, — как говорится, горшки побили. Да как! Вдребезги, на мелкие черепки… Не соберешь и не склеишь! Это было так невероятно, что, если б мне за месяц до того сказали, что Павел Денисович и Иван Васильевич будут проходить по улице, не замечая друг друга, как незнакомые, я просто посмеялся бы над таким человеком. Ведь это никак не укладывалось в моей голове. Но это так. Поверьте мне на слово. Тем более, что Иван Васильевич (а по-уличному — Ява) — это я сам. А Павел Денисович — мой лучший друг, мой верный и неизменный дружище Павлуша, с которым ой-ой-ой сколько всего пережил я за свои тринадцать лет! Как же это случилось?.. Ну, видно, придется рассказать все по порядку. Как-то на большой перемене Павлуша мне говорит: — Знаешь, давай запишемся в кружок рисования. — Это зачем? — спрашиваю я удивленно. — Как «зачем»? Рисовать будем. Интересно же. — Может, — говорю, — и интересно, кто умеет, а нам-то что? — Ты же собирался когда-то стать художником! — Ну и что? Верно, был момент, когда мне вдруг втемяшилось стать художником. Давно еще, в первом классе. Когда на уроке рисования учитель Анатолий Дмитриевич похвалил меня при всех за то, как я нарисовал курочку Рябу. Но это было случайно. Курочка Ряба осталась первым и последним моим шедевром в живописи. Больше учитель рисования меня никогда не хвалил, да и сам я через несколько дней уже мечтал быть директором кондитерской фабрики. Кстати, как раз тогда выяснилось, что я дальтоник, то есть не различаю зеленого и красного цветов, путаю их. С тех пор все очень любят удивляться этому. Даже мама. Покажут что-нибудь и спрашивают: «Скажи, какого это цвета?» И когда я неверно отвечаю, всплескивают руками: «Ты смотри!.. Ты правда не видишь или прикидываешься?» Сперва меня это злило, а потом привык. Ну каким же, к шуту, художником я мог быть, не различая цветов! Это все равно, что немой певец! И Павлуша, как будто ничего не знает, говорит мне такое. Вот уж честное слово!.. Я смерил его взглядом и спросил с насмешкой: — А ты что, почувствовал в себе талант? — При чем тут талант?.. Просто можно было бы… — Павлуша отвернулся и покраснел. — У меня вот, говорят, что-то получается… — Ах, говорят!.. Ха-ха-ха! Уж я-то знаю, кто это говорит. Она! Ну конечно же, она! Если бы вы только видели, что это за штучка! Тюлька какая-то, мелочь пузатая. И что он в ней нашел, никак не пойму! Когда ее нет — человек как человек, но стоит ей появиться — враз меняется. Начинает крутиться, на месте не усидит. Смеется каким-то деланным, придурковатым смехом, кричит, всех перебивает, никому слова не дает сказать. И говорить начинает так, будто у него вареник во рту — каким-то сдавленным горловым басом. Наверно, ему кажется, что так он совсем взрослый и мужественный… Смотреть противно! И из-за того, что с ним такое творится, я ее еще больше не терплю. Ну конечно же, она накрутила его с этим рисованием, Гребенючка! А кто ж еще? Ведь она ходит в изокружок. Даже староста кружка. И воображает себя великим скульптором. Вылепила из пластилина две какие-то фигурки и думает, будто уж бога за бороду схватила. А когда была выставка работ кружковцев, посетители просто смеялись и, разглядывая Гребенючкиного казака на коне, насмешливо спрашивали: «А кто это на собаке едет? А?» (Правда, это я спрашивал, но так оно и было — вылитая собака, а не конь.) Как-то на одном уроке Павлуша написал ей записочку и, должно быть, что-то там такое изобразил, потому что я сам слышал, как она ему сказала: «А знаешь, у тебя выходит. Ты чувствуешь форму и хорошо передаешь движение». Ишь знаток нашелся! Набралась от Анатолия Дмитриевича всяких научных слов и воображает. А Павлуша рот раззявил, уши развесил и верит. Ну, а она видит, что он лопух, и играет с ним, как кошка с мышкой. И тянет его в этот кружок, потому что, наверное, хочет, чтоб он ее портреты рисовал, как Анатолий Дмитриевич. Наш учитель рисования Анатолий Дмитриевич был без памяти влюблен в Галину Сидоровну. И все время рисовал ее портреты. Все стены в его хате были завешаны портретами Галины Сидоровны. Из-за этих портретов все село знало про его несчастную любовь. Вот и Гребенючка, обезьяна, хочет, чтоб и Павлуша так же… Я уже собирался вывести ее на чистую воду: «Ты думаешь, дурачок, что у тебя есть талант…» — как тут, будто из-под земли, выросла Гребенючка. — Не слушай его, Павлуша! — закричала она. — Он просто завидует тебе. Вот уж у него точно никаких способностей нет! У него одни хулиганские выходки в голове. Он только и знает… А у тебя способности… Он на тебя плохо действует… Тут я повернулся к ней и говорю: — Вот я сейчас как начну действовать по твоему портрету… Будешь тогда тявкать! А она: — От тебя только этого и можно ожидать. Хулиган и босяк! — Молчи! — сказал я, замахнувшись. И тут Павлуша схватил меня за руку: — Не тронь!

— Что значит — не тронь? Она будет обзываться, а я… — Обзывайся и ты, а рукам воли не давай! Она же тебя не бьет. — Пусть бы только попробовала, я бы ее… Да я бы из нее шашлык сделал! Ха! Чтоб какая-то мартышка меня ударила! Ха! — Она не мартышка, а человек! — басом сказал Павлуша. — Ах, так! — вскипел я. — Ну и целуйся со своим чело веком! Тьфу! — Я вырвал руку, повернулся и пошел прочь. И еще слышал, как она сказала: — Вот и хорошо! Хватит тебе под его дудку плясать! Что он на это ответил, я уже не разобрал.
Глава II. Ищу напарника. Гениальная теория Антончика Мациевского. У меня идея
Сперва я даже не очень беспокоился. «А, ничего, — думаю, — завтра помиримся». Мы не раз, бывало, ссорились с Павлушей, но через день-другой кто-нибудь из нас заговаривал, и ссора тут же забывалась. Обычно заговаривал тот, кто был больше виноват. Я считал, что на этот раз больше виноват он. А что?! Во-первых, знает же, что я дальтоник, и лезет со своим рисованием. Во-вторых, поднял на товарища руку. Еще немного — и ударил бы. За что, спрашивается? «Нас на бабу променял», — как поется в известной песне о Стеньке Разине. Так там хоть княжна была персидская, а тут бог знает что — тюлька какая-то! И я надеялся, что завтра Павлуша одумается и все будет опять же как в той песне: «И за борт ее бросает в набежавшую волну». Ну, я, конечно, не требовал, чтоб он обязательно ее из лодки в речку выкидывал. Но чтоб хоть выкинул ее из головы… Но прошел день, другой, третий… А он все не заговаривал. Он отворачивался точно так же, как и я, и не смотрел в мою сторону. А на четвертый день узнаю, что этот пентюх все же записался в изокружок. Это уже была измена. Такое я не прощаю. У меня внутри все клокотало, как борщ в горшке. Ах ты перебежчик, предатель несчастный! Бросил меня, дальтоника, а сам подался в художники, в живописцы! Знает же, что я не могу туда, физически не могу. Это все равно что бросить друга на поле боя. Ах ты Иуда, Иуда Завгородний! Только так теперь тебя и буду звать. Ты думаешь, я заплачу? Да? Ну нет, не увидишь ты моих слез! Не увидишь никогда. Думаешь, я без тебя не проживу? А вот это видел? Дулю с маком! Сначала ты будешь плакать, ты приползешь ко мне и будешь умолять, чтоб я тебя простил! Я ж тебя знаю — ты без меня помрешь от скуки через несколько дней среди этих кисточек, красочек, фанерочек… Без наших приключений и разных штук-выкаблук. И я почувствовал немедленную потребность выкинуть что-нибудь такое, чтоб мир пошатнулся от удивления. Чтоб у этого Иуды от зависти в носу защекотало. Непременно нужно что-то выкинуть — какую-нибудь штуку. И причем немедленно. Но что? Запустить что-нибудь в небо? Было. Запускали уже с этим Иудой на бумажном змее кувшин со сметаной. Поймать что-нибудь и… Тоже было. Поймали как-то с Павлушей, то есть с Иудой, в лесу совенка и выпустили во время лекции… Вот ведь! Как не нужно, так разных этих идей всегда, что называется, целая торба, а как нужно, то хоть лбом в стену бейся… Кроме того, нужен напарник. Без напарника, одному, отмочить что-нибудь сногсшибательное не так-то легко, а во-вторых, неинтересно. И я пошел на выгон к ребятам. Они сидели кружком и разговаривали о чем-то страшном. Я молча подсел к ним. — Надо купить, не торгуясь, на базаре котелок, — зловещим голосом говорил Вася Деркач. — Только обязательно не торгуясь: сколько бы за него ни запросили — тут же покупать. Так вот, взять такой неторгованный котелок и сделать в дне маленькую дырочку. Поймать летучую мышь. Пойти в лес в полночь. Найти муравейник. Положить туда летучую мышь… Накрыть котелком. И сразу быстро уходить, не оглядываясь, а то летучая мышь начнет дико кричать… На другой день, тоже в полночь, пойти на это же место, поднять котелок… Там будут только косточки от летучей мыши. Разгрести их палкой. Найти одну такую, что похожа на вилку, а другую — как крючок… И вот если ты хочешь, чтобы какой-нибудь человек от тебя отцепился, то его нужно тихонько тронуть этой вилкой. А если хочешь привлечь, то нужно зацепить крючком… «Не иначе, как Гребенючка, бисова душа, зацепила Павлушу таким вот крючком, а от меня оттолкнула вилкой», — подумал я. — Брехня! — пренебрежительно хмыкнул Карафолька. — Чего ж ты не оттолкнешь математичку, чтоб она к тебе не цеплялась и двоек не ставила? Ребята засмеялись. — Легче всего сказать «брехня», — надулся Вася Деркач. — Ведь ты же не проверял? — Да что там проверять! Ты бы еще учил нас, как чертей ловить или призраков. Неандерталец! Это все пережитки! — сказал Коля Кагарлицкий. Вася Деркач был такой темный… ну прямо, как… гудрон. А все под влиянием своей двоюродной бабушки. Эта бабушка, бабка Мокрина, была страшно религиозной и суеверной. Она олицетворяла в нашей Васюковке темные силы невежества. Так говорили про нее лекторы. И в каждой антирелигиозной беседе приводили ее как пример пережитков прошлого. — А все-таки эти привидения как-то, знаете… — проговорил Антончик Мациевский. Вчера в клубе показывали чешский фильм «Призрак замка Морресвилл», фильм-комедия, но привидений и всякой чертовщины там столько, что в зале все время охали и ахали. После таких фильмов обычно тянет поговорить о страшном. И хочется показать, что для тебя всякие там ужасы — тьфу, чепуха, да и только. — Вообще в наш космический и атомный век эти привидения в замках — чепуха на постном масле, — снова отозвался Коля Кагарлицкий. — Наука все это объясняет элементарно… «С таким, конечно, никакую штуку не выкинешь, — подумал я. — Дюже грамотный». — С одной стороны, конечно… Квантовая механика… Лазеры… — брякнул Вася Деркач и, опустив глаза, покраснел. Балда! Понятия не имеет, что такое квантовая механика, что такое эти лазеры, а туда же! Ну, с этим тоже каши не сваришь. — А главное — кибернетика, — авторитетно заявил Степа Карафолька. — Наука сейчас на грани создания электронного мозга — машины, которая полностью заменит разум человека. «Тебя первого нужно было бы заменить ко всем чертям какой-нибудь машиной, чтоб не воображал! — подумал я. — Если бы мне даже сто миллионов давали, я б его в напарники не взял». — А все-таки… — несмело повторил Антончик Мациевский. — Кибернетика… Лазеры-шмазеры… Я понимаю… Но… Вот вы мне скажите, что с человеком делается после смерти? Вот жил-жил человек, все чувствовал, думал, мечтал… И вдруг умер и нет… Нет ничего! Вот как это может быть, чтоб не было ничего? Должно же что-то быть. Вот даже по закону физики. Ничего из ничего не возникает. Ничто без следа не исчезает, а просто переходит в другую форму… Закон Ломоносова. Железно! Так что ж, каждый из вас верит, что он умрет и ничего от него не останется? Ничего и никогда он не будет чувствовать, думать? Вот скажите мне! Только честно! — А ну тебя, пришибленный, с твоими дурацкими разговорами! Нашел о чем говорить — о смерти! — Тьфу! Замолчи! — возмущенно замахал на него руками Карафолька. Наш отличник Степа Карафолька не терпел, просто не выносил разговоров о смерти. Очень уж он дрожал за свое здоровье. Даже когда чихал, то всегда сам себе говорил тихонько: «Будь здоров, Степан!» И разговоры о смерти, наверно, считал небезопасными для себя — как будто тот, кто говорит, уже самим разговором мог накликать на него несчастье и помешать долголетию. Но Антончик на Карафолькины проклятия особого внимания не обратил. — Нет, правда, — сказал он. — Вот если по закону физики ничто не исчезает, то почему не могут мысли там… чувства… ну, все, что называют душой… перейти после смерти в привидение? Все разинули рты и переглянулись. — Я читал, что вот в Англии привидения стоят на учете, — продолжал Антончик. — Точно. Сам читал в журнале «За рубежом». И в самом Лондоне и в других городах. Живут они в древних замках и регулярно появляются. Вот как это объяснить? А? — Так то ж… то ж при капитализме, — возразил Коля Кагарлицкий. — Они и в бога верят. Так что ж из этого?! — Да! Вот легенда про Горбушину могилу, — не сдавался Антончик. — Живет же она у нас в народе. Сколько уж лет… Лет триста, не меньше. И говорят ведь, что видели люди, и не раз… И тут меня будто ударили. Вот! — Ребята! Идея! — сказал я. — Чем так языком трепать, предлагаю проверить легенду про Горбушину могилу. Собственными глазами убедиться, правду или нет говорят. Пойти ночью в пятницу и проверить. Все снова разинули рты и переглянулись. Эту легенду про Горбушину могилу знал каждый с малолетства.Глава III. Легенда о Горбушиной могиле
Страшная это была легенда. Будто бы давным-давно, еще во времена казачества, возвращаясь из турецкого похода, возле нашего села в долине разбили свой стан запорожцы под командой сотника Горбуши. И случилась тогда удивительная история. Неожиданно исчез ночью мешок золотых червонцев, вся казна казачья, все драгоценности, все трофеи, взятые в трудном походе. Хранителем казны у запорожцев был старый казак Богдан Захарко. Сотник Горбуша обвинил его в краже. И как ни клялся старый Захарко, как ни божился, призывая в свидетели всех святых, что не виновен, но доказать ничего не мог. И приказал сотник Горбуша казнить Захарко. Отрубили казаку седую голову. И на том же месте похоронили. А сотня двинулась дальше, на Запорожье. Прошло время, сотник Горбуша возвратился в эти места и купил там землю, заложил имение, построил дворец. И стал жить пан паном — денег у него было, как навозу. Он швырял их на ветер, ежедневно пируя и гуляя с соседями. Ведь это он сам украл тогда сокровища запорожцев и закопал темной ночью в долине под ивой… Но не принесли счастья сотнику Горбуше краденые казацкие червонцы. Не прошло ему безнаказанно злодейство. Темными ненастными ночами стал являться ему призрак невинно казненного старого Захарко. В длинной белой рубахе, без головы, подходил он к Горбушиной кровати и наклонялся, протягивая руки, то ли угрожая, то ли прося о чем-то. И так страшен был этот безголовый призрак, что Горбуша вскакивал с кровати и бежал куда глаза глядят, пока не падал обессиленный. Наутро его находили где-нибудь далеко в степи исцарапанного, окровавленного, едва живого. И приказал Горбуша раскопать Захаркову могилу, спалить останки, а пеплом выстрелить из пушки, развеять его по ветру! Надеялся, что это избавит его от ужасных ночных видений, отгонит прочь дух Захарко. Начали раскапывать могилу. Раскопали — голова Захарко есть, а тела нет. Побледнел, как полотно, сотник Горбуша, аж задрожал весь. «Копайте, — кричит. — Копайте, пока не найдете!» Семь дней и ночей без перерыва копали сотниковы слуги. Выкопали огромную яму, метров сто в ширину и двести в длину. Но тела старого казначея так и не нашли. А на седьмую ночь вдруг дно ямы разверзлось, забил источник, и сделалось озеро, которое и стало называться — Захарково. Еще пуще после этого помрачнел сотник Горбуша, одичал совсем, еще больше пил, заливая вином страх в своем сердце. Но темными грозовыми ночами все так же являлся ему безголовый призрак и протягивал руки. И Горбуша срывался и бежал, куда глаза глядят. И как-то раз после такой ночи на берегу Захаркова озера под ивой, где когда-то закопал Горбуша краденые сокровища, слуги нашли его мертвого и… без головы. Опознали сотника только по рубашке да по шраму на плече от турецкой сабли. А голову, как ни искали, нигде найти не могли. Так его без головы и похоронили. И поставили над могилой часовню. А немного погодя как-то сама собой загорелась усадьба сотника Горбуши и сгорела дотла. Женат он не был и никаких родичей не имел, и поэтому земля его отошла в казну. И осталась от Горбуши только вот эта часовня. Одиноко стоит она среди поросших травой могил — ветхая, замшелая кирпичная часовня с прорезанными еще, наверное, лет двести назад узкими оконцами, с полуоткрытыми проржавевшими железными дверцами, которые уже ни закрыть, ни открыть — на полметра вросли в землю… И когда начинает смеркаться, возле часовни уже не увидишь живой души. Люди обходят ее за версту. Говорят, что это место нечисто. Будто бы в каждую пятницу (потому что как раз в пятницу был казнен Захарко) ровно в полночь являлся возле часовни белый призрак без головы. То приходил к Горбуше старый казначей напомнить о себе. И из-под земли слышался стон и приглушенный крик ужаса. Горбуша и в могиле не знал покоя, мучился, искупая свой грех. Но считалось, что увидеть призрак может не каждый. Только если ты что-нибудь украл и придешь после этого в пятницу в полночь к часовне, тогда тебе явится призрак, говорили люди. Ну, а из-за того, что таких дураков немного, которые бы после кражи бежали ночью на кладбище повидаться с призраком, то живых очевидцев мы не знали. Только слышали россказни, что кто-то когда-то видел: или чей-то прабабушкин свояк, или прапрадедушкин кум.Глава IV. Беру в напарники Антончика Мациевского. Кража аппарата. В разведку на кладбище
— Ну, так что? Боитесь? Г-герои! — презрительно глянул я на ребят. — А иди ты еще!.. Да ну тебя!.. Тоже мне! — загомонили все. — Это ж еще и украсть что-то надо, а то ведь… — А что? И украсть! — не колеблясь, сказал я. — Раз для науки нужно — можно и украсть. А что? Вы понимаете, если выяснится, что Антончик прав и что душа по закону физики превращается в призрак, — что тогда будет… Переворот в науке! — Да что ты мелешь! — отозвался Карафолька. — Какой переворот? В какой науке? Если тебе с перепугу что-то померещится, пригрезится, как ты докажешь? — Как? Да сфотографирую! Эта мысль мелькнула в моей голове так неожиданно, что я и сам удивился. — А что? А что? — загорелся я. — Если призрак и вправду существует, то он должен выйти на фото. Обязательно. — А что?.. Вот, наверно, так и нужно… А? — неуверенно сказал Антончик. — Дурило! Из тебя философ — что из гнилой пакли кнут! — оборвал его Карафолька. — Если б можно было сфотографировать привидение, так это давно бы уж сделали. — Ты думаешь? — упорствуя, сказал я. — Если хочешь знать, великие открытия всегда совершались неожиданно для современников. И эти чудики современники сперва всегда смеялись над гениальными Ньютонами и Эдисонами, а потом удивлялись, как же это все просто и как это они раньше сами не додумались. — Ой, держите меня, а то упаду! — не своим голосом закричал Карафолька. — Эдисон нашелся! Переэкзаменовщик задрипанный! Скажи лучше, сколько будет дважды два. Ребята засмеялись. — Смейтесь, смейтесь! Смех полезен для здоровья! — спокойно сказал я. — Слушай, Антончик… раз они такие… давай с тобой вдвоем. А? Ты, я вижу, все-таки хлопец что надо! С тобой можно в разведку идти! А они… — Я махнул рукой. Антончик покраснел от удовольствия. Несколько дней назад, когда мы еще не поссорились с Павлушей, он был «глист парализованный», потому что не прошел по перилам мостика, как это делали мы с Павлушей. — Идем! — кивнул я Антончику. — Они еще пожалеют… Карафолька насмешливо закричал нам вслед: — Только пусть вам призрак автограф на портрете поставит, а то наука не поверит! Ха-ха-ха! И мальчишки снова захохотали. Но сбить меня с панталыку им не удалось. Я вошел в раж и уже горячо верил в успех нашего дела. Когда, отойдя немного, Антончик не очень уверенно спросил: «Ты что, серьезно хочешь сфотографировать привидение?» — я с таким жаром начал его убеждать, как это все здорово у нас получится, будто не он, а я сам придумал теорию превращения по закону физики человеческой души в привидение. Антончик слушал-слушал, кивал головой, поддакивал, а потом скривился и сказал: — Ничего все-таки не выйдет. Это ведь аппарат нужен не простой, а такой… Какой-нибудь специальный. Чтоб ночью снимал. Моя «Смена» не возьмет. Я вскипел. — Ах ты, г-г… — хотел сказать, по привычке, «глист парализованный», но вовремя смекнул, что сразу же потеряю напарника, и сказал: — Г-герой! Тоже мне! Просто хороший аппарат нужен. «Киев» или вроде этого. — А где взять? — Как — где? Украсть, конечно! Антончик даже споткнулся: — Ты что?! — Все равно ведь нужно что-то украсть. Чтобы призрак явился. Так украдем фотоаппарат. — Да ну еще!.. Можно где-нибудь пару яблок стянуть, кавун или еще что-нибудь, — в крайнем случае по шее надают, а за фотоаппарат еще в тюрьму посадят. — Да мы же потом вернем, чего ты? — Ну да! А как сцапают! Доказывай тогда, что ты хотел вернуть. — Дрейфило! Да я один буду красть. Ты только покараулишь. — A у кого? — уже спокойнее спросил Антончик. — Да у кого же?! У Бардадыма. — Ну-у… Ты что?! — Продолговатое лицо Антончика еще больше вытянулось. — Тот как сцапает — руки-ноги повыдергает, точно! Я и сам знал. Гришка Бардадым, двухметровый верзила-десятиклассник, кулаком забивал гвозди да еще был, как говорится, в горячем купанный: слово ему скажи — он уже заводится. Его все мальчишки боялись. И вот как раз у него был самый лучший в селе аппарат «Киев» — с телеобъективом, с пленками такой чувствительности, что сам Фарадеевич, наш васюковский Эдисон, говорил, будто этим аппаратом можно снимать даже то, что зарыто в землю. Бардадым увлекался фотографией, его снимки часто печатали в нашей районной газете. Фотоаппаратом своим он страшно гордился и, конечно, очень просто мог за него повыдергать руки-ноги. Но если уж фотографировать призрак, то только Бардадымовым аппаратом. А что до риска… Что ж… это даже хорошо. Уже сама кража аппарата у Бардадыма — не какое-нибудь пустячное дело, и оно наверняка станет известно всем. А мне ведь и нужно, нужно доказать этому вахлаку Павлуше, кого он, тютя, променял на какую-то индюшку ощипанную. Чтоб он плакал во-от такими слезищами в свою подушку, чтоб мучился, страдал и каялся. А я в его сторону и не посмотрю. Пусть кается! Пусть! Чтоб знал, как предавать друга. Пусть плачет! Для этого можно и рискнуть. — Только, наверно, уже на той неделе придется, — с надеждой сказал Антончик. — Ведь сегодня уже как раз пятница, а мы не успеем и украсть, и все остальное… А? — Сегодня, — твердо сказал я. — Вот прямо сейчас и пойдем. — Да чего так спешить? Это ведь такое дело… Нужно все обдумать, рассчитать. — Что там рассчитывать! Пойти и украсть, вот и все. Айда! Я просто так сказал, не задумываясь. А вышло, будто я наперед все знал, — как в воду глядел. Антончику даже караулить меня не пришлось. Бардадымово окно было открыто, на стене у окна висел аппарат. Ни в хате, ни во дворе никого не было. Протягивай руку и бери. Я так и сделал. И мы с Антончиком огородами рванули к речке. — Вот здорово! Ну честное слово! — прямо захлебывался Антончик. — Никто б из хлопцев не осмелился, а мы… Да что хлопцы, — никто б во всем селе! Никто бы вообще на свете… А мы… У Бардадыма! Скажи! Вот ведь… Правда? А? Антончика распирало от гордости. И тут у речки мы неожиданно увидели Павлушу. Он сидел на берегу, держал на колене продолговатую фанерку и что-то мазюкал на ней кисточкой.
Увидев его, Антончик метнул на меня взгляд и ощерился: — Гы-ы! Художник! Потом сложил пальцы в дулю и ехидно закричал в сторону Павлуши: — Художник! Нарисуй мою дулю!.. Художник! Нарисуй мою дулю! Ха-ха-ха! Он знал, что мы поссорились, и хотел сделать мне приятное — старался изо всех сил: кричал, кривлялся и пританцовывал! Антончик раньше сам дружил с Павлушей. Но после того, как он бросил Павлушу в трудный момент на баштане, когда мы играли в фараона, тот перестал с ним водиться. И теперь Антончик из вредности издевался над Павлушей. Это было мерзко и противно, и не стоило бы его поддерживать. Но я поддержал. И тоже злорадно загоготал. Я, может, и не стал бы гоготать, если бы не эта проклятущая фанерка. Я сразу заметил — то была крышка от посылки. На обратной стороне ее черной краской был написан адрес:
Село Васюковка, ул. Гагарина, 7. Гребенюк С. И.Сердце мое так и забилось. Ну, всё! Эх ты! На Гребенючкиной фанерке рисуешь. На семейной, так сказать, фанерочке. От посылки, которую им прислала какая-нибудь ихняя тетя Мотя. Скоро ты ее юбку носить станешь! Так вот же тебе: — Ха-ха-ха-ха!!! Он посмотрел на меня долгим грустным взглядом, и столько в этом взгляде было укора и горечи, что мне даже… даже… А ничего мне не «даже»! Можешь себе смотреть сколько хочешь! И можешь рисовать на Гребенючкиных фанерках сколько влезет, и можешь вообще… Но скоро ты узнаешь! Я крепче прижал под рубашкой Бардадымов «Киев». Скоро… — Ты тут, художник, краски переводишь, а мы… — Цыц! — с досадой перебил я его. — Идем быстрей. — Да-да, ведь приготовиться нужно… Такая операция! — многозначительно подмигнул Антончик — и не мне, а Павлуше. Вот трепло! А в общем, пусть помучается; Он ведь любопытный — страх! Уж я-то его знаю! С каменным лицом я прошел мимо него, даже не взглянув на его фанерку, хотя меня так и подмывало посмотреть, что же он там намалевал. Но на какой-то миг я все-таки скосил глаза и успел заметить, что он рисовал куст и чуть поодаль — лужу. Вот уж нашел, что рисовать! Хоть бы уж иву срисовал, с которой мы в речку ныряли. Историческая ива! Я на ней рекорд поставил — с самой вершины в воду сиганул. И этого рекорда никто так и не побил до сих пор! А то — куст… Хотя… может быть, под этим кустом Гребенючка сидела. Его Дульсинея! Ну и провались вместе с нею, со своей Дульсинеей! Я был так этим возмущен, что совсем не чувствовал страха от того, что мне может влететь за кражу. Этот страх пришел лишь тогда, когда, забравшись в кусты, мы с Антончиком начали разглядывать аппарат. Вот это была техника! Ну просто что надо! Я хоть и мало понимал в аппаратах, усек это с первого взгляда. Антончик разбирался в этом лучше меня. У него была ученическая «Смена», он делал ею паршивенькие снимки, но воображал себя большим специалистом. Он забрал у меня из рук фотоаппарат, начал крутить его со всех сторон и, словно меня и не было рядом, восторженно бубнил себе под нос: — Классный аппарат… Автоматическая экспозиция… Оптика. Вот это оптика! А затвор какой удобный! Такой плавный спуск! Он то и дело прикладывался глазом к аппарату и наводил его то на меня, то за кусты куда-то вдаль. И все время восторженно ахал. Мне стало противно. Я решился на кражу, рисковал, из меня Бардадым, может, теперь руки-ноги повыдергает, а он тут ахает, распоряжается да еще и привидение, видно, думает снимать собственноручно. И получается, что он герой, а я так… сбоку припека. На биса мне нужна такая самодеятельность! Нет уж! — Дай сюда! Снимать буду я! Ты мне все покажешь, что нужно делать, а сниму я сам. Давай! Антончик нехотя протянул мне фотоаппарат: — На! Только так сразу не научишься. На это нужно несколько месяцев… — Может, несколько лет? — ехидно спросил я. — Какой умный! Сам же говорил, что здесь все автоматическое, только наводи и щелкай. — Да нужно же знать, как наводить, ловить в кадр, как выбирать освещение и многое другое! — Ага… ловить в кадр? Нам не на фотовыставку. Лишь бы в этом кадре был призрак… И вообще, не заводи меня, а то… Антончик сразу присмирел и начал показывать мне, как наводить, что поворачивать и как нажимать спуск. Я очень быстро это освоил. И для практики снял Антончика на фоне речки, где паслась на берегу корова. А потом еще крупным планом свою грязную, в цыпках ногу. Больше фотографировать не стал — оставалось всего десять кадров. «А вообще-то и этих вполне хватит, — решил я, — вряд ли привидение станет долго нам позировать. Хорошо, как посчастливится хоть раз щелкнуть». До ночи я спрятал аппарат в сене на чердаке, и мы с Антончиком пошли на кладбище в разведку. Нужно было выбрать удобное место для наблюдений и определить пути подхода, чтобы не было потом непредвиденных помех и неприятных неожиданностей. Вы же знаете, что ночью на кладбище пугает все: и куст может показаться человеком, и самая обычная кошка — чертом (если сверкнет глазами), а если не знать дороги и нечаянно свалиться в какую-нибудь ямку, то и вовсе с ума спятить можно, думая, что в могилу падаешь! Так что разведка тут нужна обязательно. Кладбище наше на краю села. С улицы огорожено высокой глухой оградой, посередине которой стоят тяжелые дубовые ворота, что всегда закрыты на огромный висячий замок («Чтоб покойники не разбежались», — шутит дед Саливон). Но если бы покойники и вправду захотели разбежаться, то могли бы это сделать очень просто, ведь загорожено кладбище только с улицы, а со всех других сторон никакой ограды нет. Отпирались ворота очень редко — только когда кого-нибудь хоронили. И тогда, отворенные, они выглядели необычайно торжественно и значительно — это были ворота, отделявшие этот свет от того, живой, гомонящий, подвижной — от света неподвижного, безмолвного… А так, изо дня в день, ворота имели обычный, будничный, совсем не кладбищенский вид. Может быть, потому, что на них висел почтовый ящик. Кто и когда его повесил, я не знаю, но висел он давно. И повесили его, должно быть, потому, что больше тут повесить было негде: на всей длинной-предлинной улице — только низенькие плетни да загородки из жердей. А почта с другим ящиком была на противоположном конце села, за три километра отсюда. Насчет этого почтового ящика дед Саливон шутил: «Туда можно бросить письмо на тот свет. И дойдет. Быстрее, чем до Жмеринки». И еще эти ворота имели некладбищенский вид, наверное, потому, что за ними, чуть вправо, ближе к хате деда Саливона (усадьба деда граничила с кладбищем), росла гигантская сосна и где-то посередине ее голого ствола, там, где он искривляется и от него отходят в стороны два сука, было гнездо аиста, сооруженное, конечно, не без дедовой помощи. И насчет аистова гнезда дед Саливон тоже шутил. «Это, — говорил он, — не просто аисты. У них соцсоревнование с безносой. Она людей косой подсекает, а они, вишь, всё новых свеженьких младенцев подкидывают. И человечество растет. Уж к трем миллиардам подошло. А в двухтысячном году будет шесть. Смерть отступает, жизнь побеждает». И как это дед Саливон мог без конца шутить, каждый день видя перед собой кресты и могилы! Неприятное все же соседство. Да еще этот страшный Горбушин склеп почти у самого порога. Две крайние вишни из дедова сада ветками касаются стен гробницы. Конечно, удобней всего добраться до Горбушиной могилы через усадьбу деда Саливона. Не идти же со стороны поля, через все кладбище. У деда в доме как раз никого не было. Дед — на баштане, а бабка его на речку пошла, на пляж (к ним племянник с детьми из Одессы приехал, мы видели, как она их повела). Можно было спокойно прикинуть маршрут на местности. Значит, так: с улицы заходим не к деду Саливону, а сперва к Карафольке (так удобнее: у деда — плетень, зацепиться можно, а у Карафольки — жерди). Карафолькиным огородом пробираемся в дедову картошку, проходим мимо свинарника, перелезаем через погребню и вдоль пасеки — в сад вот только бы улей не повалить, иначе не поздоровится). В саду залезаем в кусты смородины, и всё. Отсюда Горбушин склеп как на ладони. И главное — мы даже не на кладбище, а в садике возле людей. В хате не только дед с бабкою, но и гостей полно: племянник с женой и двое маленьких ребятишек. В общем, ничего страшного. Не сравнить, как мы с Павлушей запорожца, предка деда Саливона, выкапывали или как в Киеве в лавру ходили. Я повеселел. — Все будет в порядке! Идем, Антончик! Нужно малость подремать, чтобы к ночи не сморило. Мы вылезли из кустов на улицу. И тут встретили Карафольку. Он шел домой, держась рукой за лоб, и лицо у него было такое, как будто он только что откусил яблоко-дичок. — Ой, хлопцы, — воскликнул он, — там такое творится, такое творится! У Бардадыма кто-то его «Киев» украл. Он уверен, что пацаны. Прибежал к нам. «Кто, кричит, взял, гады? — И прямо трясется весь, — Признаетесь, кричит, прощу. Не признаетесь — найду, руки-ноги повыдергаю…» И, по-моему, Ява, он на тебя думает… Меня всего сразу охватила какая-то противная слабость… И руки-ноги уже как не мои, будто их и вправду повыдергали. Карафолька принял руку со лба. На лбу сияла здоровенная синяя шишка. — Что это у тебя? — спросил Антончик. — А-а… — замялся Карафолька. — Обо что-то зацепился и упал… А ты, Ява, ему лучше на глаза не попадайся, серьезно… Ну, я пошел, приложу что-нибудь холодное, а то… — Он скривился и, схватившись уже обеими руками за шишку, шмыгнул к себе во двор. Некоторое время мы молча шли по улице. Глаза у Антончика были как у кота, которого загнала на грушу злая собака. Он уже несколько раз вздыхал, и я чувствовал, что он сейчас что-то скажет. И он сказал: — Слушай, Ява, а может, признаться… И отдать ему аппарат, а то, знаешь… А? Он все же был трус, этот Антончик Мациевский. Я не мог говорить, так как еще не справился со своей слабостью. Только отрицательно замотал головой. — Как хочешь. Мне-то что… — пожал плечами Антончик. — Я просто хотел, как тебе лучше. А то ведь знаешь… Это он намекал, что аппарат своровал я и мне отвечать, а его, мол, хата с краю. Вот что!.. Павлуша бы так никогда не сказал. Я посмотрел на Антончика, как на какую-нибудь паршивую козявку и процедил: — Если ты такое дрейфило, так я могу и один. Тот замахал руками: — Вот как ты сразу! Какой горячий! Уж и слова сказать нельзя. Это я просто так. Мы же завтра с утра и отдадим, и все… Это Карафолька, дрейфило, паникует… Где встретимся? — Возле клуба, в одиннадцать… — Все! Ясно! Я даже ложиться не буду, чтоб не проспать… Ну, до вечера! — И он побежал к своей хате, петляя и озираясь, будто за ним кто-то гнался.
Глава V. Привидение. Внимание! Снимаю!
Дома дед Варава встретил меня словами: — Тебя Гришка чего-то спрашивал, Бардадым. Сказал, как придешь, чтоб к нему зашел. Как это часто бывает в минуту опасности, я даже не испугался. Просто все во мне напряглось, и в голове волчком завертелась мысль: что делать? Надо немедленно забрать аппарат с чердака и дать тягу из дому. — Да-а, — безразличным тоном сказал я. — Это он собрался вечером идти на рыбалку. Ловить с фонарем. Что-то там такое придумал, хочет попробовать. — И лучшей компании, чем ты, не нашел? — покосился дед в мою сторону. — А я знаю? Просто, наверно, из-за того, что лодчонка у них легкая, а помощник нужен… И чтоб весил немного и в рыболовном деле соображал… Ой, только б не завраться! Дед мой брехню за пять километров чует. Нужно не давать ему расспрашивать, самому нужно что-нибудь спросить. — А ты, дедуль, не знаешь, у нас на чердаке где-то было… такое… ну… чтобы фонарь к корме прикрепить. Я вот полезу, найду… И, не дожидаясь дедова ответа, начал быстро карабкаться на чердак. Сердце во мне болталось, как поросячий хвост. Скорее-скорее-скорее! Что, если Бардадым сейчас снова придет! Я выхватил из-под сена аппарат, сунул его под рубаху — и вниз. — Ой, что-то живот заболел! — скривился я, отворачивая свой живот с аппаратом в сторону, и, не давая опомниться деду, юркнул мимо него за овин, а там, пригибаясь между подсолнухами и кукурузой, на улицу — и за село, в рощу… До позднего вечера, уж пока совсем не стемнело, слонялся я то в роще, то в степи, то в кустах по-над речкой. Я никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Худо мне было, ох, как худо! Я боялся всего, как трусливый заяц. Мне даже казалось, что у меня уши шевелятся, когда я, озираясь, прислушивался к малейшему звуку. Только бы не попасться кому-нибудь на глаза! И как это воры живут на свете? Ведь это не жизнь, а мука адская! Все время прятаться, ждать, что тебя вот-вот схватят, все время только и думать о своем преступлении… Бедные воры! Несчастные люди! Когда уже совсем стемнело, я, крадучись вдоль плетня, направился к клубу. Я специально назначил Антончику это место, потому что на клубе есть часы. Нам нужно быть ровно в двенадцать. А часов у меня нет. Красть еще и часы — это уж было бы слишком! Возле клуба безлюдно. Сегодня пятница, и ни кино, ни танцев в клубе нет. У нас кино три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, а в воскресенье — танцы. Часы показывали без пятнадцати одиннадцать. Я забрался в кусты напротив клуба и начал ждать. В одиннадцать Антончик не пришел. «У него ведь тоже нет часов, ничего страшного, есть еще время», — решил я. В четверть двенадцатого Антончика не было. «Наверно, не может выйти из дому, ждет, пока заснут», — решил я. В половине двенадцатого с темной улицы послышались шаги. Он?! — «Нас-с оставалось только тр-рое…» — вполголоса пропело из темноты. Это возвращался из чайной пьяненький Бурмило. И снова тишина. Без четверти двенадцать мимо клуба торопливо пробежала чья-то собака. Антончика не было. Вот свинья! Не пришел! Сдрейфил. Нет, Антончик — это не напарник. Как был глистом парализованным, так и остался. Павлуша бы не подвел. Эх, если бы сейчас со мной Павлуша! Совсем бы другое дело… Но ждать больше нельзя. До деда Саливона отсюда идти минут десять, не меньше. Я вылезаю из кустов, разминаю затекшие ноги и еще с какой-то последней надеждой вглядываюсь в темноту. Может, все-таки идет Антончик… Нет, не идет. И я трогаюсь с места. Иду по улице и почему-то спотыкаюсь на ровном месте. Эх, если бы сейчас со мной Павлуша! Все было бы по-другому. И чего ему не хватало? Ведь так нам было хорошо вдвоем! Так было здорово помечтать вместе о мировой славе!.. Столько сил понапрасну потратили мы для ее достижения… И вдруг он бросил меня и пробивается к славе один. Ну разве ж это не предательство? А что, если он и вправду станет знаменитым художником? Разве это по-товарищески? Станет там каким-нибудь лауреатом, а я так и останусь дальтоником, который зеленое от красного не отличает. Вот и сейчас. Ну куда я иду? И зачем? Фотографировать привидение! На Горбушину могилу. Смех! Поверил, что душа и разум человеческий по закону физики превращаются в привидение. И кто это сказал? Тоже мне классик выискался! Философ-теоретик сопливый! Антончик Мациевский, дрейфило и растяпа! Какие там привидения! Никаких привидений у нас и в помине нету. Подумаешь, в Англии… Да за границей у империалистов чего не бывает? У них и ку-клукс-клан, и гангстеры, и привидения, конечно… А мы в космос раньше всех полетели и точно знаем, что ни бога, ни черта и никаких привидений нет. Так что — может, не идти? Эх, если б можно было!.. Ведь завтра же ребята дознаются — засмеют. И для чего же я тогда аппарат крал? Ведь Бардадым конечности из меня повыдергает. Пойду. Известно, никаких привидений там нет, но для очистки совести пойду. Погода испортилась. Поднялся ветер. По небу стремительно неслись клубящиеся темные тучи. И полная луна, которая еще полчаса назад освещала все вокруг, теперь едва проглядывала светлымпятном, а то и совсем исчезала. Но я подумал, что плохая погода для привидений как раз самая хорошая. Во всех книжках они являются чаще всего в непогоду, когда дует ветер, хлещет дождь, бушует пурга. Пригнувшись, я пролезаю между жердями и, как аист переставляя ноги (чтоб меньше шуршать), осторожно крадусь Карафолькиным огородом. Вот уже и дедова картошка. Тихо. Все спят. Только в хате деда Саливона кто-то заливисто, с выкрутасами храпит: то густо и тяжело, как старая лесопилка, то высоко и тоненько, будто лобзиком выпиливает. Должно быть, племянник-одессит. Очень уж складно, интеллигентно, по-городскому. А из свинарника ему в тон подхрюкивает свинья. Я даже развеселился от этого дуэта. И стало мне совсем не страшно. Чего это я, дурак, боялся? Вот сейчас дойду до часовни, минут пять подожду, щелкну несколько раз часовню, чтобы ребята не сомневались, что я тут был, — и домой. Я загодя снял с объектива крышку, поставил палец на кнопку затвора. Чего там ждать пять минут? Можно и сразу щелкнуть и уходить. Вон люди уж десятый сон видят, а я, как дурак, в такую погоду (ишь какой ветер!) по кладбищу шатаюсь. Вот уж придумал! Вот учудил! Павлуша и бровью не поведет. Только хмыкнет пренебрежительно: «Подумаешь, кладбище! До чего оригинально! Как будто мы с тобой и не ходили уже раскапывать могилу запорожца, предка деда Саливона, и в Киеве в лавре ночью не были. Постыдился бы!» И мне действительно стало стыдно, что я на самом деле ничего оригинального-то и не придумал. Не буду, конечно, ждать ни минуты. Дойду до часовни — и сразу назад. Я прошел мимо свинарника, перелез через погребню и на ощупь, чтоб не опрокинуть ульи, двинулся в садик. Вон уже в конце его вырисовывается на фоне неба Горбушина часовня. И вдруг… Холодные скользкие мурашки потянули мою душу по спине вниз, в пятки. На и в пятках она не задержалась, выскочила и ушла в землю. И я оцепенел без души, пустой, как барабан. Ничего во мне не осталось, ничегошеньки… кроме страха. У Горбушина склепа стоял… призрак. Белый призрак без головы. Стоял, гневно размахивая руками. А из склепа слышался приглушенный стон. Я мотнул головой. Призрак не исчезал. Я протер глаза рукой. Привидение было на месте. Старый казацкий казначей Захарко ходил у могилы своего коварного убийцы и мстительно грозил кулаком. Я ущипнул себя за руку (может, это снится мне). Больно. Значит, не сплю. Призрак стоял, трагически размахивая руками. Белый. Без головы. Я видел его удивительно отчетливо на черном фоне часовни. А вон что-то темное возле шеи — это, наверно, пятна крови. Вдруг показалось, что он приближается ко мне. А я не могу сдвинуться с места от страха. Прошла секунда, другая, третья… Нет, не приближается. Топчется у часовни и грозит кулаками. А сквозь шум ветра явственно слышен из-под земли стон и плач сотника Горбуши. Я уже готов был пуститься наутек, как вдруг вспомнил про фотоаппарат, который сжимал в руке. Снимай, дуралей, это же то, из-за чего ты шел сюда! Снимай, ну! Это же… Я поднес аппарат к глазу, навел на привидение и щелкнул.
Ну, сейчас исчезнет… Но призрак не исчезал. Это противоречило всем моим представлениям о призраках и привидениях. И тут мне стало просто не по себе. Я начал понемногу пятиться к ульям. А глазами впился в привидение, не сводя с него взгляда. Я не мог повернуться к призраку спиной. Мне казалось, что тогда он кинется на меня сзади и схватит руками за горло. Это уж закон. К привидениям нельзя поворачиваться спиной. Они этого страшно не любят. Только стукнувшись задом об улей и услышав, как угрожающе загудели пчелы, я на миг оторвал взгляд от призрака, чтобы высмотреть путь для бегства. Продолжая все время пятиться, я перелез на ощупь через погребню. И уже когда зашел за свинарник, лишь тогда, в последний раз кинув взгляд на призрака, повернулся и задал стрекача. Загородку я перескочил с ходу, даже не зацепив верхней жердины. Такому рывку мог бы позавидовать даже колхозный жеребец Электрон. Я бежал по улице, все время оглядываясь, не гонится ли за мной безголовый призрак. И временами мне казалось, что сзади во тьме что-то белеет. Тогда я включал сверхзвуковую скорость, так что даже ветер в ушах уже не свистел. Я не мог идти спать в хату, но на дворе оставаться было боязно. Тогда я залез в сарай, где стояла наша корова Контрибуция, и зарылся там с головой в сено. Нужно было, чтобы рядом находилась хоть какая-нибудь живая душа, пусть даже коровья. Меня успокаивали ее сонные вздохи. Под эти вздохи я в конце концов и заснул.
Глава VI. Иду к Бардадыму. Бей! Нокаут! Мой триумф
И странно, несмотря на такие страшные происшествия, мне ничегошеньки не снилось в эту ночь, я спал как убитый. Заснул и как будто сразу же и проснулся. Было уже утро, и мать доила Контрибуцию. Когда я зашевелился, она сразу увидела меня и не удивилась, не ругала. Только насмешливо спросила: — Ну, как рыба? Что-то не вижу! Дед все-таки поверил моей брехне про ночную рыбалку с Бардадымом, а тот вечером так и не приходил. — Да-а-а, — махнул я рукой: не спрашивайте, мол, похвалиться нечем. И, выбравшись из сена, боком, пряча под рубахой аппарат, выскользнул мимо матери из сарая. К Бардадыму! Скорее! Пока он не пришел сам. А то подумает, что я и вправду украл. Может, уговорю. Все ему объясню. Все начистоту. Там же, в аппарате, доказательство. Ой, только б вышло что-нибудь на пленке! Только бы вышло! В голове у меня все вертелось, прыгало и переворачивалось… Бардадым, фыркая, умывался во дворе у колодца. Я тяжко вздохнул и решительно подошел к нему: — Гриша! Он поднял на меня мокрое лицо. Я протянул ему аппарат: — Бей, Гриша! Бей! Это я твой аппарат украл. Бей! — Я подставил ему свой нос и зажмурился, ожидая удара. Но удара не последовало. — Зачем брал? — пробасил Бардадым. — Привидение ночью снимал… На Горбушиной могиле. — Снял? — Снял. — Врё!.. — Во! — чиркнул я себя ладонью по шее. — А ну, идем проявим. — Идем, — пропищал я, еще не веря, что так легко отделался. На ходу вытираясь полотенцем, Гриша повел меня в хлев, где у него была оборудована фотолаборатория. Потом в полной темноте, хоть глаз выколи, он чем-то щелкал, шуршал пленкой, хлюпал в каких-то ванночках. Я только догадывался, что это он достает из аппарата пленку и закладывает в проявитель, промывает и снова закладывает уже в фиксаж. Я с трепетом ждал. Неужели ничего не будет? Наконец он отпер двери хлева и вышел, держа в руках мокрую пленку. Он сразу поднес ее к глазам, разглядывая. — Ну что? Что там? — так и подскочил я от нетерпения. — Да цыц ты! — скривился он и начал щуриться, вглядываясь в пленку. И вдруг закричал: — Есть!.. Есть, черт подери!.. Разрази меня гром, что-то есть!.. Вот черт!.. Лицо его было по-детски растерянным. — Дай! Дай! — схватил я его за руку. И он — в другой раз уж обязательно дал бы мне за это затрещину — покорно нагнулся, показывая мне пленку. Ой! Есть! Есть все-таки! Правда, не очень четко, даже очень нечетко, но есть! Виден белый силуэт Горбушиной часовни (негатив же!) и на нем темный силуэт — туловище, руки, а головы нет… Меня сразу охватило такое чувство, что и передать не могу. Вот есть русское слово «восторг». Так вот, этот самый восторг меня и охватил. И мне показалось, что я стою уже не на земле, а на какой-то воздушной подушке (как некоторые современные корабли). И эта подушка растет и поднимает меня все выше и выше. Ой, мама! Мамочка моя! Неужели это я совершил такое, чего никто на свете еще не делал: сфотографировал привидение, живое привидение сфотографировал! — А ну рассказывай, как это было! Только не ври, а то… — Бардадым поднес к моему носу кулачище. Но я спокойно отстранил его. Чего мне бояться? И чего мне врать? Я рассказал Бардадыму все, как было, даже как наперебой храпели племянник-одессит и свинья. — Чертовщина какая-то! Призрак! — пожал плечами Бардадым. — Какой, к бису, призрак? Нет никаких призраков! Какие могут быть привидения? Люди в космос летают, а ты — «призрак». И тут я ему рассказал про теорию Антончика Мациевского о вполне научном превращении, так сказать, по закону физики разума и души человеческой в привидение. — Чушь! — сказал Бардадым. — Околесицу какую-то несешь… Но в глазах его не было уверенности. Скорее неуверенность и растерянность. Бардадым не был отличником. Он больше умел работать руками, чем головой. И задурить ему голову было нетрудно. — А что ж это тогда, если не привидение? — спросил я. — Леший его знает! Может, кто-нибудь переоделся, чтоб тебя напугать. — А голову куда дел? Отрезал на время? И ног не было. Он будто в воздухе летал… Я же видел. — Ну, вот пусть пленка высохнет, отпечатаем — будет виднее. Внезапно из-за плетня высунулась голова Антончика Мациевского. — А? Что? Есть что-нибудь? Есть? — криво усмехнулся он. Я бросил на него убийственный взгляд и отвернулся. — Ну чего ты? Чего? Меня мать не пустила. Честное слово! Что я, виноват? Заперли в хате. Клянусь! Я молчал, не глядя на него. Тогда, обращаясь к Бардадыму, он снова спросил: — Есть что-нибудь? Есть? Да? Гриша! — Да, есть, — нехотя отозвался Бардадым. — Похоже на привидение, но кто его зна… — Гриш, а Гриш… Можно я гляну? Ну покажи, Гришенька! Можно я гляну?
Он так просил, что даже у меня не хватило бы духу отказать ему. — Иди, — сказал Бардадым. — Только смотри не залапай. Вот так бери, двумя пальцами за края. Вытянув шею, Антончик благоговейно начал разглядывать пленку. — У-у! Точно! У-у! Привидение! И вдруг со всех ног бросился со двора. — Ты куда? — Я сейчас! — уже с улицы крикнул он. Минут через десять у Бардадыма на дворе было полно народу. Все ребята с нашего конца сбежались сюда: и Вася Деркач, и Коля Кагарлицкий, и Степа Карафолька, и Вовка Маруня… Не было только Павлуши… Прыгали, как воробьи, вокруг Гришки Бардадыма и, отпихивая друг друга, без умолку гомонили: — А ну-ка, ну-ка! — Дай-ка я! — Да пусти, я гляну! — Да я еще сам не разглядел. — Ух ты! Вот это да! — Смотри-и! — Ох ты! Наконец пленка высохла, и Бардадым пошел печатать снимки. Я стал проталкиваться в хлев следом за ним, хотя мне там и нечего было делать. Мальчишки почтительно расступились, давая мне дорогу. Вася Деркач сунулся было тоже, но Бардадым, пропустив меня, молча отпихнул Васю и запер дверь. Гордость захлестнула меня до краев и даже выплеснулась наружу. Я с Бардадымом, а вы все — «отвали!» (как говорил Будка, наш киевский приятель). Бардадым вставил пленку в увеличитель, включил его — негативное изображение отразилось на фотобумаге. Затем выключил и погрузил бумагу в ванночку с проявителем. И в неестественном, каком-то цирковом освещении красного фонаря я вижу, как на фотобумаге действительно начинает проступать изображение темной Горбушиной часовни и белого привидения на ее фоне. Сердце мое на миг замерло, а потом забилось с удвоенной силой. Есть! Есть фотография призрака! Пусть теперь кто-нибудь скажет, что я вру. Вот! Вот! Вещественное доказательство! Самому Келдышу, президенту Академии наук, покажу, если нужно будет! Ур-ра! Когда мы вынесли еще мокрое фото во двор и показали ребятам, говорить они уже не могли. Они только молча переглядывались круглыми птичьими глазами и удивленно вытягивали рожицы. В боксе это называется «нокаут». Когда противник от меткого сокрушительного удара шлепается на землю и лежит, откинув копыта, как неживой… Такого триумфа среди мальчишек я еще не знал. Даже когда с Павлушей мы выкидывали разные штуки-трюки, и то я все-таки делил славу с ним. И для меня то была не целая слава, а полславы. Только теперь я понял что настоящая слава неразделима. Настоящая слава — это когда только ты, ты один пьешь ее целыми бочками, не давая никому ни капли. Вот наслаждение! Вот счастье. Эх, какая жалость, что нет сейчас здесь этого неверного Павлуши! Вот бы завертелся волчком, вот бы запрыгал, как карась на сковородке, от зависти. И где он ходит, черти бы его взяли! Наверно, водит где-нибудь кисточкой по бумаге, мазильщик несчастный. Ну ничего, он сегодня все равно узнает… Все равно! Я представил себе, как это будет, и по-настоящему, от всей души ему посочувствовал. Как он станет жалеть! Эх, дурень, дурень! А в общем — сам виноват.
Глава VII. Антончик старается вылезти на первое место. История Карафолькиной шишки. Атака бабки Мокрины. Атака отбита
Неприятно было только то, что своим подвигом я подтверждал философскую теорию труса и предателя Антончика Мациевского. А он уж крутится среди ребят и, захлебываясь от радости, выкрикивает: — А? Что я говорил! А? Что я говорил? Человеческий дух не может исчезнуть без следа. Он должен во что-нибудь превратиться. Абсолютно точно! По закону физики! Что я говорил?! Гляди ты, хочет вылезти на первое место! Червяк! Ну, меня так просто не оттолкнешь. — Ты бы, — говорю ему, вкладывая в свои слова как можно больше презрения, — лучше рассказал людям, как ночью бросил меня одного, как сдрейфил и не пришел. Теперь-то ты герой! Он сразу скапустился. — Да я… Да что… Меня мать не пустила… Я ж говорил… Что я, виноват? Ребята ехидно зафыркали. Антончик стал теперь уже не страшен. Он был уничтожен. Солнце моей славы безраздельно засияло на небосклоне. — Да… все на меня! — закусил губу Антончик. — Карафолька вон вчера сказал Грише, что это, наверно, ты аппарат украл, так ему ничего, а все на меня… Ладно, ладно… — Где уж «ничего»! — усмехнулся Бардадым. — Он свое получил. Больше ни на кого клепать не будет. Карафолька покраснел, как помидор, отвернулся и, согнувшись, стал чесать ногу (нога у него, вишь, зачесалась!). Вот оно что! Вот откуда та самая шишка на Карафолькином лбу! А Бардадым, оказывается, справедливый — не любит доносчиков. И злости на Карафольку у меня как не бывало. Никакого вреда своим доносом он мне не причинил, а слава моя от этого засияла еще ослепительней. — Ну-ка, идем к часовне, посмотрим, что там и как, — сказал Бардадым. И мы гуськом потянулись за ним на кладбище. И хоть сейчас было утро, сердце мое почему-то сжималось от страха, когда мы пробирались среди могил. После того как я увидел да еще и сфотографировал здесь привидение, это место стало для меня страшным даже днем. Возле Горбушиной часовни, ясное дело, никакого привидения мы не встретили. Вместо него по кладбищу ходила бабка Мокрина, двоюродная Деркачева бабушка, и рвала в мешок траву для кроликов. Вася тут же подбежал к ней и выпалил: — Баб Мокрин! Баб Мокрин! А Ява сегодня ночью тут привидение сфотографировал. — Свят! Свят! Свят! — осенила себя крестом бабка Мокрина. — Что ты такое болтаешь? Да воскреснет бог… Святая Варвара-великомученица, спаси и помилуй… — Точно! При чем тут ваша Варвара? Вот гляньте! — и, взяв у Бардадыма снимок, показал бабке. Та сначала долго его разглядывала, потом расспрашивала, а после торжествующе сказала: — Правильно! Оно самое! Привидение! Ну конечно! Ох, боже! Наконец-то! — И она радостно закрестилась. Мы удивленно переглянулись — чего это она? — Наконец-то! — повторила бабка Мокрина. — Может, хоть теперь вы не будете, ироды, насмехаться и издеваться над господом богом нашим. Может, хоть теперь поверите в существование силы духовной, бестелесной, божественной… Слава тебе, господи, что явил ты отроку Яве сие видение! Наконец-то! Счастливый ты, сынку! Дай боже, чтоб с твоей помощью повернули мы на путь праведный это стадо заблудшее. Благослови тебя матерь божья! Бабка Мокрина трижды перекрестила меня, потом вдруг наклонилась и поцеловала. Я отшатнулся и, споткнувшись о могильный холмик, чуть не упал. Щеки мои так и горели. Вот еще! Этого мне еще не хватало — чтоб меня к попам на службу вербовали! Чтоб я направлял пионеров в лоно церкви! Дудки! — Вы, бабушка, не так поняли. Никакого отношения к вашему богу это не имеет. Наше привидение не божественного, а научного происхождения, по закону физики. — Ну как же, ну как же! Это ты, сынку, не понимаешь! — кротко заулыбалась бабка Мокрина. — Привидение — оно привидение и есть. А если вы мне Николая-чудотворца по науке выведете, я обижаться не буду. Мне научный Никола тоже будет мил… Кто-то из мальчишек хихикнул. Один — ноль! Вела бабка Мокрина. Я весь напрягся. — Да… — махнул я рукой. — Нам некогда. Обратитесь в Институт кибернетики, пусть вам там выведут. Будете иметь полупроводникового Николая-чудотворца на транзисторах… Снова кто-то из ребят хихикнул. Один — один. Нужно было немедленно кончать дискуссию, пока бабка не набрала решающее очко. Не давая ей рта раскрыть, я затараторил: — Айда, хлопцы, к деду Саливону. Нужно с ним поговорить… Будьте здоровы, бабуся, кланяйтесь Варваре-великомученице! — Привет Николе на транзисторах! — тоненько подтявкнул мне Антончик Мациевский (ишь грех свой замаливает!). Ребята захохотали (много ли им нужно?). Ласковая улыбка сразу исчезла с лица бабки Мокрины, вместо нее появилась злобная гримаса. — Ах вы аспиды, ироды проклятые, черти болотные! Гореть вам в геенне огненной, богохульники сопливые! Чтоб вас чирьи облепили! Чтоб языки у вас к зубам приросли! Чтоб на вас икота напала! Чтоб вас язва извела! Чтоб вас черви источили! Чтоб вам в гробу перевернуться! Чтоб вам ни дна ни покрышки! Чтоб… Под эти нескончаемые бабкины проклятья мы направились к деду Саливону. Вот так бабка, ну и ну! Ведь только что была такая хорошая, тихая да ласковая. А теперь слышь как лается! Нехорошо, бабуся. Два — один в нашу пользу. Когда мы уже вошли во двор к деду Саливону, Карафолька сказал: — Только если ты серьезно к деду, то их сейчас никого нету. Сегодня в шесть утра все пошли на автобус. В Камышовку поехали, на свадьбу. Дедова сестра внучку замуж выдает. А что ты хотел? — Да ничего особенного. Просто он тут живет… Может, что-нибудь знает. И вообще… — М-да! — задумчиво проговорил Бардадым. — Ну что ж, идем! Тут нам делать нечего. Пока что картина туманная, картина неясная. Одно могу сказать: за аппарат свой я ручаюсь — он зафиксировал то, что было. А что там было — этого уж я не знаю.Глава VIII. «Два цвета мои…» «Иди отсюда!» — говорит мне Павлуша. Вторая атака бабки Мокрины
Теперь главное состояло в том, чтобы, пока я на коне (ведь вы же знаете, в жизни все бывает), про мой всемирно-исторический подвиг как можно быстрее узнал Павлуша. Чтоб он раскаялся в своей измене, заплакал бы и чтоб я мог его простить и мы помирились. А то, честное слово, это мне уже страшно надоело… Но как сделать, чтобы он узнал? Его и не видно нигде. Конечно, кто-нибудь из ребят ему в конце концов расскажет, но когда? Это может быть и завтра, и послезавтра, и через три дня. Не просить же кого-нибудь специально. И не пойдешь ведь сам докладывать. Во! Гребенючка! Нужно действовать через нее. Нужно как-нибудь между прочим ей рассказать, а уж она ему все в точности перескажет. Главное — между прочим. Чтоб она не догадалась, что это специально. Гребенючка жила на улице Гагарина, которая тянулась от автобусной остановки до самой речки. Расставшись с ребятами, я побежал на эту улицу. Гребенючку я увидел еще издалека — она копалась в огороде. Беспечно помахивая прутиком, я прошел мимо ее двора, отвернувшись в другую сторону и даже не взглянув на нее. Главное — «между прочим». Чтоб она не догадалась… Пройдя несколько хат, я повернулся и пошел назад. Она меня не замечала. Дойдя до автобусной остановки, я опять повернул в сторону речки. Теперь я уже негромко насвистывал что-то бодренькое. Она не слышала. Потому что даже головы не подняла. Пройдя несколько хат, я повернул назад. Теперь я насвистывал уже громче. Но она все равно не слышала. Дойдя до автобусной остановки, я снова повернул назад. Главное — «между прочим», чтоб она не дога… И я уже в полный голос пел песню:
— Не тревожься, ангел, радоваться надо, а не грустить. Ведь тебе одному явилось видение, тебе сей знак, на тебе перст указующий. Ты один сподобился. Значит, ты не такой, как все. Я сдвинул брови — ишь куда хватила! Она это сразу заметила. — Ну чего уж надулся, как мышь на крупу? Думаешь, бабка тебя агитирует, хочет в монахи записать? Да оборони бог! Будь пионером, стучи себе в барабан, дуди в трубу. Когда ж еще в барабан стучать, как не в твои годы… Но… не так оно в жизни все просто, как кажется, как по радио о том говорят. Ох, как много еще такого, чего люди и не знают! Вот, вишь, ты привидение живое сфотографировал… И как знать, может, кто-нибудь и докажет, что это высшая сила, которую мы, старые люди, богом называем. Ведь нельзя же, сынку, еще ничего не зная, посрамлять то, во что люди веками верили. Нельзя. Пока что вся история точно по Библии идет. Вот ты же не читал, сынку, Библию? Не читал? Я отрицательно покачал головой. Стыдно признаться, я еще «Миколу Джерю» не читал, который по программе требуется, не то что Библию. — Вот видишь а кричишь: «Передайте привет Варваре-великомученице»! А ты бы спросил сперва, что это за Варвара, почему она великомученица, за что муки приняла и чем людям помогала… Господи, сохрани и помилуй! — Бабка перекрестилась. У меня голова шла кругом. Я чувствовал, как твердый материалистический грунт, на котором я стоял всю свою сознательную жизнь, зашатался подо мною. Не то чтобы я сразу поверил в бога, нет, но какая-то неуверенность скользким червяком заползла мне в душу, тревога и растерянность завладели мной. Я чувствовал, что если сейчас же не перебью бабку Мокрину, позволю ей говорить дальше, не спрошу ее о чем-нибудь, то может случиться страшное — свет перевернется для меня, и я стану другим, не таким, как был до сих пор, не таким, как все ребята. И великий страх охватил меня. — Бабушка, — сказал я, еще не зная, что спросить, и боясь, что она снова заговорит, — бабушка… а скажите мне, пожалуйста… — Что? Что, голубчик? — Беззубый бабкин рот растянулся до ушей в льстивой улыбке. — А скажите… э-э… привидения только на кладбищах бывают? А? Но она не успела ответить. Издалека, с конца улицы, послышался крик моей сестренки Иришки: — Ява-а! Иди, тебя дед кличе-ет! Я как-то облегченно взглянул на бабку Мокрину и пожал плечами — простите, мол, зовут. — Ну, беги, беги, — кивнула бабка. — И приходи ко мне. Я тебе все расскажу, что тебя интересует, и яблочками попотчую. Знаешь, какие у меня яблочки? И фотографию эту захвати. Я ее показать хочу… — Ага! — бросил я уже на ходу и что есть духу пустился наутек. Я так от привидения не бежал, как от бабки Мокрины. Дед Варава встретил меня хмуро: — Где бегаешь не евши, ветрогон? Черти тебя носят? Все остыло. И, уже хлопоча возле стола, скосил вдруг на меня свой мутный, но всевидящий глаз. — Ты что там такое снова отмочил? A-а? Говорят, сатану какую-то открыл? Нечистую силу сфотографировал… Ой, гляди, доиграешься… Заберут тебя в приют, в лагерь для малолетних… Голову людям брехней морочишь… — Да дедушка… Вот честное слово!.. — И я, захлебываясь, рассказал ему все, как было. Дед выслушал внимательно, не перебивая, долго разглядывал фотографию, потом покачал головой: — Насчет физики, насчет Ломоносова не скажу, не знаю, а насчет привидений — ярунда… Не верю. Я ведь сам когда-то в детстве… с хлопцами… — Ну-у! И вы? И что же?! — Да что ж… Ничего. И не один раз — трижды ходили. — Но ведь фото же! — Ну и что ж? Должно быть, что-нибудь там в пленке засветилось. Или, может, кто-нибудь из хлопцев подшутил, разве я знаю… — Нет! — убежденно сказал я, потому что точно знал, что не засветилось, иначе бы в глазах у меня засветилось. А из ребят никто не мог подшутить, гарантия. — Ну, уж не знаю, что там такое, — рассердился дед, — но не привидение! Восемьдесят лет живу на земле и ни одного привидения не встретил, а он, от горшка два вершка, и уж гляди ты… Если бы по твоему закону физики все после смерти превращались в привидения, то их бы уж столько развелось — негде бы и курице клюнуть. — Да что? Думаете, мне это очень нужно! — воскликнул я. — Я и сам не хочу, но ведь…
Глава IX. Отец Гога
И правда, мне уже теперь хотелось, чтоб вся эта история оказалась «ярундой». Меня это стало угнетать. Особенно бабка Мокрина с ее разговорами. Мокрина была в нашем селе церковным начальством. Все богомольные старушки крутились вокруг нее. Церкви в нашем селе нет. Церковь в Дедовщине, в четырех километрах от нас. Служил там отец Георгий. И бабка Мокрина была его заместителем у нас в Васюковке: собирала деньги на храм, созывала старушек на собрания, ну, и всякое такое. Отца Георгия с легкой руки деда Саливона все атеисты звали Гога. Когда-то в нашем селе отдыхал художник Георгий Васильевич, которого жена называла Гога, вот с тех пор дед Саливон и окрестил этим именем отца Георгия. И оно к нему прилипло — не оторвешь. Дед Саливон, как выпьет, любит вести с батюшкой антирелигиозные беседы. Он тогда говорит: «Пойду с Гогой побалакаю… Пусть мне Гога расскажет про бога». Берет бутылку, садится на велосипед и, выписывая кренделя, едет в Дедовщину. Отец Гога выпивки не чурался, а в антирелигиозные беседы не вникал. Выпить он мог, как добрый молотильщик, и не пьянел. После этих диспутов дед Саливон говорил: «Специалист! Ну и специалист этот Гога! Хитрый, как змий! Он же сам в бога не верит. А говорит — как поет. Просто должность ему, видно, нравится. Спе-ци-а-лист!» «Должность» у отца Гоги была и вправду ничего себе. Сперва он имел простой мотоцикл, затем мотоцикл с коляской, потом «Запорожец», потом старый «Запорожец» поменял на новый, а теперь, говорят, записался в очередь на «Жигули». С прихожанами ладить он умел. Службу божью вел по-прогрессивному. Изучал науку, все ее достижения, выписывал журнал «Знание — сила» и двенадцатого апреля каждый год служил молебен в честь космонавтов. И разговоры бабки Мокрины — все это, конечно, от отца Гоги. Я не успел еще позавтракать, как во двор к нам зашли трое восьмиклассников. Я плохо их знал — они были не с нашего конца. — Ну, расскажи, что там… Как? Оказывается, Бардадым размножил фотографию и пустил ее по селу. И началось… Рип-рип!.. Рип-рип!.. Калитка наша не закрывалась. Только я кончал рассказывать, как снова приходилось начинать сначала. Наконец я не выдержал. Схватил удочки — и дёру. Махнул в плавни. А когда вечером воротился, то увидел, что возле наших ворот стоит машина. Я не стал догадываться, чья эта машина, — к моей маме, депутату, часто приезжали из района и даже из области, но, зайдя во двор, я так и присел: под яблоней рядом с дедом Варавой сидел… поп Гога. Я хотел броситься назад, но было уже поздно — меня заметили. — A-а, рыбак, — приветливо улыбнулся мне отец Гога. — Здравствуй! Я замер. Ну, сейчас начнет, как бабка Мокрина: «Славен еси, отроче… видение, что тебе явлено… Варвара-великомученица, сохрани, спаси и помилуй…» Да еще при деде. Хоть крестись и уноси ноги! Но он не начинал. — Ну-ка, показывай улов, — сказал он весело и, взяв у меня прут с нанизанной на нем рыбой, начал разглядывать: — О, три чехони, подлещики, устирочка, ерши… носачи и обычные… краснопер, язик… О! И линек один даже есть… Молодец! Знатная будет ушица. Здорово клюет? На что ловил? На червяка, мотыля, на хлеб… или, может, на тесто? А? — На червяка… красненького, — едва-едва выдавил я из себя, настороженно глядя на него: когда же он начнет? Но отец Гога только взглянул на меня внимательно своими серыми прищуренными глазами и вдруг поднялся: — Ну, пойду. Спасибо за воду. Будьте здоровы. И пошел к машине. Когда он отъехал, я бросил удивленный взгляд на деда: — Что такое? Чего он хотел? — Кто его зна… Воды попросил… в радиатор залить. Говорит, выкипела… Чудно́! И почему обязательно к нам? Недалеко отсюда на улице колодец, и ведро там есть. Неспроста. Ой, неспроста этот Гога заехал! И как он посмотрел на меня! Насквозь взглядом прошил. По глазам видно было, что все-все знает. И оттого, что он ничего не сказал, еще как-то тревожнее стало. У меня было такое впечатление, что он не хотел говорить при деде. Он как-то так на меня смотрел, будто у нас с ним было что-то общее и от деда хранимое в тайне. И взглядом своим он будто сказал: ничего, мы потом потолкуем. О господи! Ведь это выходит, что я заодно с попом Гогой! Заодно с бабкой Мокриной и всеми богомольными старушками. Заодно с этими грязными небритыми алкоголиками, которые побираются в Дедовщине у церкви и примазываются к богу, чтобы легче было выпрашивать на похмелье. А если я заодно с попом Гогой, то, значит, против родной мамы, депутата и передовика, которая всегда сидит в президиуме; против Галины Сидоровны, которая проводит в селе антирелигиозную пропаганду, против всей науки во главе с академиком Келдышем. И все из-за того, что я, болван, сфотографировал привидение, черт бы его побрал со всеми потрохами! И теперь поп Гога не отцепится от меня. Он может поймать и запутать меня в свои сети, как запутал он десятиклассника Валерия Гепу из Дедовщины, который, не пройдя по конкурсу в гидромелиоративный, поступил в духовную семинарию и теперь учится на попа. Так и я… Павлуша станет художником, Гребенючка тоже, Карафолька академиком, Коля Кагарлицкий артистом, Вася Деркач фининспектором, а я… монахом. С длинными грязными патлами и реденькой бороденкой. В черной замызганной рясе и с крестом на шее. Мысли роились и гудели в моей бедной голове, как пчелы в улье. Это ведь еще и маму могут из-за меня из депутатов выставить… А что ж? Какой же она депутат, если ее сынок с крестом ходит! Хорошо, что хоть она не видела попа Гогу у себя на дворе. Сегодня партийное собрание, и они с отцом придут, наверно, поздно. Сидит себе в президиуме и не знает, бедняжка, какие черные тучи собираются над ее головой. Нет! Не-ет!.. Нужно спасаться. Нужно что-то делать. Нужно людей звать на помощь. Прежде всего нужно идти к деду Саливону. Поговорить с ним, расспросить, может, он что-нибудь видел, замечал, это же все-таки возле него, почти у самой хаты в саду. Не мог же он никогда ничего не замечать. И вообще, нужно, может быть, какую-нибудь комиссию создать — пусть разрешают сообща эти сложные научные вопросы. А то спихнули все на меня одного. Но прежде всего — завтра с утра к деду Саливону. С таким твердым решением я и заснул.Глава X. Я навещаю деда Саливона. Самые невероятные чудеса
Дед Саливон сидел на завалинке и крошил в деревянное корыто картошку для свиньи. Голова его была обмотана мокрым полотенцем, и вода с полотенца текла по лицу, свисая сияющими каплями на седых усах. Дед кривился и стонал. «Это же он на свадьбе перепил», — догадался я. Еще, чего доброго, турнет и разговаривать не станет. — Здравствуйте, диду, — несмело поздоровался я. Он не ответил, только кивнул. — Похмелиться бы вам, — сочувственно сказал я. Он, застонав, отрицательно покачал головой. Я вспомнил — дед Саливон никогда не похмелялся: где-то он вычитал, что похмеляются только алкоголики, и с тех пор всегда стойко переносил похмелье. Я топтался на месте, не решаясь заговорить. Он вопросительно взглянул на меня и наконец раскрыл рот: — Тебе что? Меду? — Да нет! Нет! — А что? — Да вы же плохо себя чувствуете… — Ничего. Что тебе? — Да хотел кое-что рассказать да расспросить… — Рассказывай. И я рассказал деду все и показал фотографию. Дед Саливон выслушал меня внимательно, потом посмотрел прямо в глаза и сказал: — Я знаю. Я тоже все видел. У меня на затылке онемела кожа. — И вы… тоже… видели… привидение? — Видел, — спокойно сказал дед Саливон и поднялся. — Идем! «Значит, правда, — в отчаянии подумал я. — Значит, привидения действительно существуют. Значит, после смерти человека человеческий дух по физическому закону Ломоносова — Лавуазье на самом деле превращается в привидение… И не миновать мне сетей попа Гоги. Придется, как видно, быть монахом». Дед Саливон повел меня в сад. Возле ульев остановился. — Тс-с! — приложил он палец к губам, потом показал на часовню: — Смотри. В черном проеме наполовину открытых дверей часовни в глубине что-то белело. Но нельзя было различить, что именно. И вдруг оттуда послышался сухой, какой-то деревянный стук. «Кости! — похолодел я. — Мертвец встает». Белое из темноты начало приближаться к дверям — вырисовывалось все четче, четче, четче… И вот в дверях появился… аист. — Ясно? — усмехнулся дед Саливон. Аист! Так вот оно что! И стук — это же стук аистовым клювом. Значит, не привидение, а аист. Самый обычный аист. Тьфу ты! Так это же здорово! Это же прекрасно! Вот и никаких привидений не существует. И не нужно мне становиться монахом. И поп Гога может теперь оставаться с носом. Ур-ра! Диду! Дайте я вас поце… Но что это? Я приглядываюсь и вижу, что аист… без головы. Шевелится, переступает ногами, а головы нет. Только туловище, крылья и ноги. «Наверно, он спрятал ее под крыло, — решил я и подумал: — А может ли человек спрятать голову под крыло… то есть под мышку?» И почему-то решил, что может, и подумал: «Вот, наверное, привидение без головы именно так и получается». Я пристально всматриваюсь в аиста и вдруг замечаю, что нет — на самом деле нет головы. Вон там, где должна начинаться шея, — ровное место. Если бы он спрятал голову под крыло, то хоть шею было бы видно, а так… — Диду, — спрашиваю я, пораженный, — диду, а где же его голова? — Что? Голова? — будто не понимая, переспрашивает дед Саливон и вдруг со стоном хватается за свою голову: — Ой, голова! Голова! — Что с вами, диду? — пугаюсь я. — Ой! Так болит, так болит, что не могу! Нет! Лучше уж совсем без головы! — говорит дед и вдруг, схватив себя руками за голову, срывает ее с шеи и швыряет в кусты. И голова его катится по земле, тяжело подскакивая, как арбуз. Точь-в-точь как арбуз! У него же много арбузов на баштане… Я замираю от страха. А дед стоит рядом — без головы, в белой рубахе — и размахивает руками. Видно, он что-то говорит, но я не слышу его, ведь он без головы. И тут я смекаю, что дед Саливон — призрак. Тот самый призрак, которого я видел позавчера ночью. И вдруг я еще замечаю, что ульи, возле которых мы стоим, — не ульи, а… гробы… Пять присыпанных землею трухлявых гробов. Внезапно крышка одного из них заскрипела, поднялась, и оттуда высунулась… голова попа Гоги. — Здравствуй, рыбак! — И поп Гога захохотал: — Го-га-га!.. Го-га-га!.. А ты уже думал… Вот тебе, вот тебе, во-от! — И он показал мне кукиш. Потом сразу стал серьезным, помрачнел и молча поманил меня крючковатым пальцем. И подвинулся в гробу, давая мне место. Тут я увидел, что в гробу рядом с попом Гогой уже лежит… Павлуша. Неподвижный, с закрытыми глазами. И невыразимый страх, не столько за себя, сколько за друга, который, верно, уже не живой, охватил меня. Я хочу крикнуть, хочу кинуться к Павлуше — и не могу. Что-то на меня наваливается, наваливается, становится все больше и больше… Я задыхаюсь, задыхаюсь… и просыпаюсь.Глава XI. Я навещаю деда Саливона теперь уже наяву. Вот оно что!
Несколько секунд я все еще не могу сообразить, что это сон. Наконец прихожу в себя. Я вспоминаю все вчерашние события, попа Гогу и свое твердое решение с самого утра бежать к деду Саливону. Отца и матери, хоть и пришли они после собрания поздно, уже нет. Они в поле. Вот что значит передовики, активисты. Я их почти не вижу. Наскоро позавтракав, я побежал к деду Саливону. Бежал и волновался: а что, как он еще не приехал, свадьбу же по нескольку дней играют. И сам себя успокаивал: да нет, не оставят они свое хозяйство надолго, на день еще так-сяк — соседей можно попросить свинью, кур покормить, подоить корову и всякое такое, — а больше нет. Да и Камышовка недалеко, в соседнем районе, сорок пять минут на автобусе. Приедут. Мне казалось, что если я сейчас, немедленно не поговорю с дедом Саливоном, то пропаду — поп Гога околпачит меня, и я навеки потеряю и маму-депутата, и всех родных, и школу, и Галину Сидоровну, и все-все, что было самым светлым в моей жизни. Я еще издали увидел, что приехали. Из трубы летней кухни курился синий дымок. Дед Саливон, его жена баба Галя, племянник-одессит в белоснежной рубашке, его супруга, крашеная блондинка, и двое маленьких ребятишек сидели в саду за столом и завтракали. Сейчас подходить, конечно, было неудобно. Я притаился за плетнем, пережидая, пока они позавтракают. Ждать пришлось довольно долго. Они не столько завтракали, сколько судачили — про жениха, который им не очень понравился (особенно бабе Гале), потому что все время молчал и почти ничего не ел (видать, или чересчур гордый, или какой-нибудь хворый); про какого-то Павла Гика, который, наоборот, все время кричал и не давал никому слова сказать и которому его жёнка все время говорила: «Сиди, сиди и молчи. Ты тут неглавный. Это не твоя свадьба»; про закуску, которая была, в общем-то, не плоха, но пирог недопеченный, винегрет кислый, рыба пере соленная, а яйца несвежие… Я терпеливо слушал эти пересуды и думал, что я бы согласился, наверно, целый год есть кислый винегрет, пересоленную рыбу, несвежие яйца и недопеченные пироги, лишь бы выпутаться из злой мерзкой истории, в которую я влип по собственной глупости. Наконец они позавтракали. Гости пошли в хату, баба Галя — мыть посуду, а дед Саливон остался на дворе один. Теперь можно. — Здравствуйте, диду! — вежливо поздоровался я, заходя во двор. — Можно к вам? — А! Здорово, шелегейдик! — поднял кверху брови дед Саливон. — Заходи! Чего тебе? Меду? У меня задрожали ноги. Это было почти слово в слово, как и во сне. И я почувствовал, что и сам сейчас скажу те же слова, которые говорил тогда. Испугавшись этого, только замотал головой. — Значит, просто так, в гости? — усмехнулся дед Саливон. — Пожалуйста! Прошу!.. Ну, как живешь? Какую новую авантюру придумали вы с приятелем? А? Я растерялся. И как-то не знал, с чего начать, как заговорить, о чем хотелось. — Чего стесняешься? Что-то нужно, я ведь вижу! — подмигнул дед Саливон. — Так давай, ну! — Да нет, я просто… просто хотел спросить… — наконец отважился я. — Так спрашивай, чего там. Да побыстрее, не мучай. А то я весь уже дрожу от нетерпения… — Диду, вы позавчера ночью, перед тем как ехать на свадьбу, ничего не замечали? — Ночью? Позавчера? — Дед удивленно опустил уголки губ. — Гм!.. Ночью… Да, честно говоря, не очень приглядывался, ведь… темновато было… А что? — Ну, а не почувствовали ничего… такого? — Почувствовал? Гм!.. A-а!.. Кажется, укусило что-то. То ли комар, то ли, помилуй бог, блоха. А что? — Да нет! Ну так… в душе! — A-а… в душе? Чувствовал! Чувствовал! Точно. Мучило меня, что за ужином я вареник один с творогом не доел — скиснет ведь, думаю, к утру. В сметане на тарелке остался. — Да ну, какой вы, ей-богу! Я совсем не про то! Я о видении. Видения какого-нибудь не было вам позавчера ночью? — Тьфу ты! Видение! Да что я, хворый или что? Помилуй бог! — Да я тоже вроде бы здоров, а вот позавчера ночью в вашем саду возле Горбушиной могилы не только видел, а даже сфотографировал… Вот гляньте! — И я протянул деду фотографию. В этот момент я повернул голову в сторону Карафолькина огорода и вздрогнул — там стояла вся наша компания: сам Карафолька, Вася Деркач, Антончик Мациевский, Коля Кагарлицкий и (я даже не поверил своим глазам) Павлуша с Гребенючкой. Они стояли, по-гусиному вытянув шеи, и внимательно прислушивались к нашему разговору. Дед, наверно, давно их заметил, так как стоял к ним лицом, а я спиной. — А ну-ка, ну-ка! — Дед с любопытством поднес фотографию к глазам. — Что ж это такое? А? — Да что ж еще! Разве не видно?.. По-моему, привидение. Без головы! — Ну-у! — разинул рот дед. Из хаты вышел его племянник. — Что там такое? — спросил он без особого интереса, старательно ковыряя в зубах. — Ну-ка, Сережа, иди посмотри! — крикнул ему дед Саливон. — Ты человек грамотный, помоги разобраться. Хлопцы вот тут привидение сфотографировали. У нас в саду. Позавчера ночью. — Привидение? — Племянник подошел, взял у деда фотографию. Посмотрел и покачал головой: — Ай-яй-яй!.. Что ж это вы, дядя! Нехорошо! Кажется, атеист, смеетесь над суевериями, а сами привидения у себя в саду разводите. И это тогда, когда люди по Луне гуляют! Подрываете авторитет науки. — М-да-а, — растерянно развел руками дед Саливон. — Конфузия вышла. Опозорился на старости лет. Вот беда! Что же теперь делать? Могут ведь быть неприятности… — Разве я знаю… — пожал плечами племянник. — Нужно что-то придумать. Как-то выкручиваться. — А что, если… — задумчиво протянул дед и вдруг решительно повернулся к племяннику: — Ну-ка, снимай сорочку! — Потом крикнул девчушке, которая стояла на пороге: — Оксанка, давай плечики! — Правильно! — подхватил племянник и начал снимать свою белую нейлоновую сорочку. Из хаты вышла жена племянника с пластмассовыми плечиками в руках. — Что это вы… — начала она. Но племянник перебил ее: — Постой! Давай сюда! — И, заговорщически приставив ладонь ко рту, он таинственно проговорил, обращаясь ко мне: — Пустим слух, что это была… рубашка! А? И только тут я догадался, что они надо мной смеются. Ой ты! Да это ж и вправду была рубашка! Самая обычная нейлоновая рубашка на плечиках, которая сушилась вон на той вишне в конце сада. Выстирали к свадьбе, чтобы чистенькую утром надеть. Ветер качал ее, размахивал рукавами… А я… Ах ты… Первым начал Антончик. Сперва нерешительно, короткими очередями: — Хи-хи… Хи-хи… Хи-хи… — Потом, почувствовав поддержку, раскатисто, во весь гогот: — Га-га-ха-ха-ха! И ребята, те самые ребята, которые еще вчера только рты разевали и лежали в нокауте, как говорится, задрав копыта, те же самые ребята хохотали теперь надо мной, едва по земле не катались. И даже Гребенючка пискляво хихикала. А Павлуша смеялся, глядя на меня с горьким сочувствием, как смотрят на пьяного калеку. И жена племянника (видно, добрая душа) смотрела на меня с жалостью. Они жалели меня. Они думали, что я страшно огорчен такой конфузней, как говорит дед Саливон. Да люди добрые! Да ну, ей-богу, я ни капли не жалею! Да, я рад, рад, что это не призрак, а рубашка. Да это же так прекрасно! Я прямо как заново на свет родился! До лампочки мне теперь и поп Гога, и бабка Мокрина, и вся их церковная братия. Не боюсь я их нисколечко. Потому что снова стою на твердой материалистической почве. И я смеюсь, хохочу вместе с ними. Но сам чувствую, что слишком громко, слишком уж сильно хохочу. И они мне не верят. — Ну так расскажи, расскажи, как же вы это учудили? — насмеявшись наконец, спросил дед Саливон. — Да! — махнул я рукой: не хотелось даже думать про это. — Ну! Ну… — Да что там… — не поддавался я. — Вот ведь ломается! Тогда давай ты! — крикнул он Павлуше и, повернувшись к племяннику и его жене, сказал: — Эти хлопцы всегда что-нибудь такое выкинут, шелегейдики, живот надорвешь. Специалисты! Ну! Павлуша пожал плечами. — Ну что? И тебя просить нужно? — скривился дед. — А я тут ни при чем, — хмыкнул Павлуша. — Как?! — удивился дед Саливон. — Разве вы не вместе? — Не-а!.. — сказал Павлуша, покраснев, потом повернулся и пошел прочь. — Вот так так! Что случилось? Ну и ну! — Дед даже расстроился. — Да они поссорились! Совсем! Уже не дружат! — выскочил Антончик. — Э-э… Не годится. Что ж это вы? Такие закадычные друзья! Него-оже! — протянул дед Саливон. Тут уж я покраснел, повернулся и тоже пошел прочь. Только в противоположную от Павлуши сторону. Прямо через кладбище, туда, в поле, где только ветер, подальше от людей. Ну, теперь все! Конец! Если раньше, доказав Павлуше своими подвигами, что он, дурень, променял меня, героя, на какое-то чучело в юбке, я мог еще простить ему измену и помириться, то теперь уж нет. Потому что он при всех отрекся от меня. Всё! Оборвалась наша дружба, как гнилая веревка. Всё! Нет у меня больше друга.Глава XII. Тоска. Я отгоняю воспоминания. Мой верный друг Вороной. Солдаты. «Восьмерка»
Прошло несколько дней. Всего три слова, три маленьких словечка — «Прошло несколько дней…». Написал — и не видно их. Будто и не было ничего. А как же трудно, как долго они тянулись, эти несколько дней! И долго, и тоскливо, и грустно, ну прямо как в тюрьме, в одиночной камере. И погода, как назло, снова испортилась. Дождь зарядил с утра до ночи. Нос из хаты не высунешь. Сядешь у окна, уставишься на покрытый лужами двор и только слушаешь, как беспрерывно журчит в водосточной трубе вода. И так тебе плохо, что и сказать нельзя. Будто весь этот дождь — сплошные твои слезы. До чего дошло — учебники прошлогодние перечитывать стал! А тут еще мать сердце надрывает: — Пошел бы хоть к Павлуше — не скучал бы так. С этой своей работой, с этими своими общественными обязанностями она все время забывает, что мы поссорились навеки. А там еще и отец душу выворачивает своей музыкой. Придет с работы, вынет скрипку да как, начнет пиликать жалобное, — кажется, не по струнам, а по жилам твоим смычком водит… Лучше б он уж этой скрипкой по голове меня треснул! Наверно, впервые в жизни я понял по-настоящему, что это за беспросветная штука — полное одиночество. Когда даже мыслью поделиться не с кем. И делать ничего не хочется, и читать не хочется, и играть не хочется — ничего не хочется… Павлуше хорошо — сидит себе, наверное, и малюет какую-нибудь муру… А чего это я про него думаю?! Пускай хоть на голове стоит — мне-то что! Предатель! Гребенючкин угодник! А дождь хлещет… И вода в водосточной трубе журчит без перерыва… И лужи уже всю землю покрыли, и, кажется, плывет хата среди бурного моря. И нет этому морю ни конца ни края — безбрежно и безлюдно оно, как после всемирного потопа. И кажется, солнце уже никогда не проклюнется сквозь плотные мутно-серые тучи. А в голову непрошено лезут воспоминания… Я их гоню, выталкиваю, а они всё лезут и лезут… Про робинзонскую историю на необитаемом острове в плавнях, про то, как заблудился в кукурузе, про незнакомца из тринадцатой квартиры, про киностудию, про подземелье лавры, про тореадорский бой с Контрибуцией, про ВХАТ с «Ревизором», про атомную бомбу на транзисторах и т. д., и т. п. И о чем бы я ни вспоминал, всегда — хоть ты тресни! — этот Павлуша в голову лезет, всё с ним связано, всегда он там обязательно. Как будто у меня и не было своей личной жизни, а только общая с ним. Будто сам я не целый человек, а полчеловека. С одной ногой, одной рукой, полживота и полголовы. А другая нога, другая рука, другая половина живота и головы — Павлушины. Вот ведь как!.. Я уж себя даже по лбу куда ком бил, чтоб выбить эти воспоминания, но все напрасно. «Это, наверно, оттого, что я все время сижу на месте, без дела, — наконец решил я. — Нужно двигаться, чем-то заняться, что-то делать, и тогда они сами собой улетучатся». Я соскочил с подоконника и начал двигаться — быстро ходить по хате из угла в угол, сперва просто так, а потом размахивая руками. Дед Варава, который дремал на печи, открыл один глаз и спокойно спросил: — Чесотка напала? Иль укусил кто-нибудь? — Зарядку делаю, — соврал я. Не объяснять же ему, что это я воспоминания из головы таким способом выгоняю. И все-таки эти несколько дней прошли. Как-то, проснувшись утром, я увидел, что дождя уже нет и сияет солнышко. Мне стало чуть полегче. Я вывел на двор велосипед, защепил на правой ноге штанину деревянной бельевой прищепкой (я всегда так делаю, чтобы штанина не попадала между цепью и зубцами передачи), сел и поехал. Ясное солнце купалось в грязных лужах и делало их чистыми. Я с разгону врезался в лужи, и они разлетались в разные стороны солнечными брызгами. Выехал за село и помчался полевой дорогой. Ветер насвистывал в ушах какие-то веселые песни без слов. А потом внезапно появились слова. Но это был уже не ветер. Это навстречу мне шли солдаты. Шли они и дружно пели лихие походные песни:ВНИМАНИЕ! На полигоне регулярно днем и ночью проводятся стрельбы. Красные флаги на вышках — на полигоне стрельба. Выпас скота, сбор грибов и ягод в этом районе — только с разрешения начальника полигона.И хоть бухало на полигоне далеко не каждую ночь и не каждый день, пасти скотину и собирать грибы да ягоды возле него никто не решался, даже с разрешения начальства. Только мы, ребятня, несколько раз ходили туда искать порох, гильзы и другие боеприпасы. Да и то больше «на слабо», если кто-нибудь заденет за живое: «Вот, мол, тебе слабо!..» Но все это так, без результатов. Солдаты через нашу Васюковку ездили все время на разных машинах, мотоциклах, бронетранспортерах, на грохочущих здоровенных тягачах, для которых специально были отведены грунтовые дороги за селом. А в субботу солдаты приходили к нам в клуб на танцы. И мы любили толкаться возле них и слушать, как они отпускают шуточки. Особенно нравился нам невысокий, но весь какой-то ладный солдат из Рязани — Митя Иванов, рыжий и курносый. Он неутомимо подшучивал над своим другом, здоровенным увальнем Всеволодом Пидгайко, который был вдвое выше его ростом. Заметив, например, что мимо них проходит какая-нибудь красивая дивчина, Митя Иванов неожиданно громко выкрикивал: — Солдат Пидгайко, смир-рно! Равнение на середину! Пидгайко краснел и махал рукой: — Да ну тебя! Тогда Митя начинал его отчитывать. — Кто такой солдат? — строго спрашивал он и сам отвечал: — Солдат — это военнослужащий, который умеет — что? — отлично владеть оружием; который досконально знает материальную часть и… неукоснительно выполняет — что? — приказы своего командира. А вы, Пидгайко? Вы лентяй, неряха и обманщик. Вы думаете только о еде и о девчатах. Позор! До какой жизни вы дошли! Какой пример вы показываете подрастающему поколению? — И он широким жестом показывал на нас, мальчишек. — Позор! Мне стыдно за вас, солдат Пидгайко! Два наряда вне очереди! И три часа строевой. Кру-гом! От меня до следующей колонны ша-го-ом арш! Песню! Последние слова он произносил каким-то особенным голосом, видно, кого-то копируя, старшину или еще кого-нибудь… Раздавался дружный хохот, — должно быть, было похоже. Вообще в клубе они были очень ребячливы и во многом похожи на нас, эти солдаты. Шутя передразнивали своих командиров, как мы — учителей. Рассказывали, как кто-то из солдат ходил в «самоволку» (то есть без разрешения начальства — вроде того, как мы прогуливали уроки). И все время шутили и смеялись. А шутки, по-моему, — самое главное в жизни. Жизнь не может быть без шуток. Я вот даже боюсь чересчур серьезных взрослых, которые не понимают этого. Мне кажется, они злые, недобрые люди, которые если еще и не сделали ничего плохого, то наверняка когда-нибудь сделают. А веселые, остроумные, по-моему, гораздо нужнее в жизни, чем чересчур серьезные, важные и сердитые. Эти только и умеют, что покрикивать да наказывать, а шутник скажет что-нибудь остроумное, и сразу легче работать, и дело спорится. А если ваш начальник веселый человек и шутить умеет, тогда вообще здорово. Вот у нас такой председатель колхоза Иван Иванович Шапка. А был до него Припихатый. Тот все время только кричал и руками размахивал. И от этого размахивания колхоз… развалился. А нынешний не кричит никогда, только шутит, и колхоз — первый в районе. Да я уверен, что и в бою этот самый Митя Иванов и тот же Пидгайко скорее совершат геройский подвиг, чем кто-нибудь другой. И это ничего, что Митя Иванов идет вон там в строю последним (потому что самый маленький ростом). Но как солдат он совсем не последний. И, наверно, эту самую дошкольную «Таню» он первый запел, а все подхватили. Проходя мимо, Митя Иванов подмигнул мне и улыбнулся. И так захотелось побежать следом за ним и, пристроившись к колонне, зашагать и подхватить песню!.. Но если б я был сейчас хотя бы во втором классе, а то ведь… Но все же встреча с солдатами как-то сразу подняла настроение, и я помчался полевой дорогой с удвоенной скоростью, и в душе моей сама собой начала петься, вымурлыкиваясь под нос, эта удалая солдатская песня: «В путь… в путь… в путь…» Эх, как я люблю вот так мчаться на велосипеде среди бескрайних полей, или тропинкой в лесу, или по мокрому песку возле самой речки (лучше, чем по асфальту)! Молодчина тот русский мужик Артамонов, который велосипед выдумал! Что бы это люди делали без велосипедов! У нас все село на них ездит: и в поле, — тяпку к раме привязав, и на базар, — корзины к багажнику да к рулю приторочив, и вообще куда угодно. Вообще велосипед — главный транспорт на селе. Так говорит дед Саливон. В городе на велосипедах только дети да спортсмены ездят, а здесь все. В городе вы старой женщины на велосипеде сроду не увидите, а у нас какая-нибудь семидесятилетняя бабушка Палажка жмет на все педали, только ветер свистит. И никто не удивляется, как будто это не старушка, а дивчина-спортсменка. Я люблю свой «велик», как, должно быть, когда-то казак-запорожец коня любил. Даже воображаю, что это и есть мой конь боевой. И ласково называю его — Вороной. Потому что у него черная рама. И сдается мне — ни у кого в мире нет такого резвого коня. — И-го-го-о! — так голосисто заржал он на все поле моим голосом, что я даже охрип. Разве существуют для такого коня какие-нибудь преграды! Гоп-ля! — с ходу перескочил он какую-то палку, лелеявшую у нас на пути. Гоп-ля! — перескочил выбоину. Го… Геп! Ляп! — перескочил я руль велосипеда, пролетел несколько метров в воздухе и со всего маха шлепнулся носом в жидкую грязь. У-у-у, чтоб тебя!.. Тьфу ты! Тьфу! Тьфу! Это была не просто лужа, как мне показалось. Это был ровик, до краев залитый водой. Мой Вороной лежал на боку, как-то странно и неестественно задрав вверх переднее колесо. Я подошел к нему, и крик отчаяния вырвался у меня из груди: переднее колесо было скручено в какую-то страшную спираль. «Восьмерка»! Такой дикой «восьмерки» я еще никогда не видел. А до Васюковки километра два. Вот еще передряга!.. И что я такой невезучий?! Вот всегда так: только чуть полегче станет, только покажется, что жизнь улыбается снова, как судьба тут же бац по носу! И ты в луже. Эх!.. Поднял я своего Вороного, обнял за руль и поковылял к селу, волоча за собой. Если просто так идешь, то редко кого и встретишь, а если не хочешь никого встретить, то на каждом шагу: — Ай-яй-яй! — Что ж это ты сделал?! — Ого-го! — Вот это «восьмерка»! — Ай-яй-яй! А уже возле самого дома на Павлушу наткнулся. Он как раз выходил из своей калитки. Увидев меня, Павлуша не мог сдержать удивленную улыбку. Я в сердцах только плюнул в его сторону и тут же, как назло, споткнулся. Павлуша рассмеялся. — Дурак! — крикнул я, яростно дергая велосипед, который застрял в калитке. Он не ответил. Отвернулся и пошел себе по улице. Дед взглянул на искалеченное колесо и спокойно спросил: — Трактор, что ли, на таран брал, а? Я только зубами скрипнул. С дедом ссориться я не мог: кто ж тогда Вороного вылечит? Мой дед умеет все на свете. Что бы я ни сломал, что бы ни испортил, я всегда шел к нему. И он меня выручал. Хоть и говорил при этом всякие неприятные слова. Но я к ним привык. Вот и сейчас я вздохнул и молча с надеждой взглянул на него. Дед в свою очередь вздохнул и сказал: — Принеси плоскогубцы, клещи и молоток. Я не заставил его повторять. Молниеносно метнулся в сарай за инструментом. И дед сразу взялся за дело. — Варва́р! — Дед любил перекручивать слова. — Только и знаешь золоти вербы вырощувать… Вредитель! Колорадский жук! Не на велосипеде тебе, а на корове ездить. Багамот! Этак колесо искрутить! Ведь это же нужно суметь! Десять злодеев будут специально крутить и так не скрутят. Вот тебя бы так скрутило, чтоб знал, как ездить. Я молча слушал и только время от времени вздыхал, показывая свое раскаяние. Дед любил, когда я каялся. Тогда он делал для меня все на свете. Провозился дед до позднего вечера. И колесо стало как новенькое, будто только что из магазина. У моего деда золотые руки. Если бы мне такие!.. А мои только шкодить умеют. Эх!..
Глава XIII. Недаром эта глава тринадцатая — в ней появляется нечто необычное, непонятное и загадочное. Тайна трех неизвестных
На следующий день я уже выехал на своем Вороном как ни в чем не бывало. Правда, теперь я ехал осторожненько, объезжая каждую ямку, каждый камушек, каждую лужицу. Дед стоял у ворот, как будто просто так, но я заметил, что он искоса поглядывает на мое переднее колесо. Ему было интересно, как оно вертится. И он, видно, был доволен своей работой. Я проехал нашу улицу и повернул на центральную, Шевченковскую, которая вела через все село в поле. Уже миновал крайние хаты, когда услышал позади треск мотоцикла. Я свернул на обочину, чтобы дать ему дорогу, и обернулся. Меня догонял какой-то военный в шлеме и больших мотоциклетных очках-крагах, которые закрывали ему пол-лица. Поравнявшись со мной, военный вдруг затормозил. — Рень? — коротко спросил он и, когда я кивнул в ответ, протянул мне какой-то конверт. И сразу дал газ и рванул вперед. Я так растерялся, что уронил конверт на землю. И пока поднимал, от мотоциклиста только пыль на дороге осталась. Я лишь успел заметить, что это был офицер: старший лейтенант или капитан (то ли три, то ли четыре звездочки на погонах). А лица — хоть убей — не разглядел. Только и запомнил, как белозубо сверкнуло это короткое «Рень» на загорелом запыленном лице… И очки и зеленый шлем…
Я взглянул на конверт:
Яве Реню (Совершенно секретно).Занемевшими пальцами разорвал конверт и вытащил письмо:
Сегодня в девятнадцать ноль-ноль приходи и разбитому доту в Волчий лес. В расщелине над амбразурой найдешь инструкцию, что ты должен делать. Это письмо нужно немедленно уничтожить. Дело чрезвычайно важное и секретное. Никому ни слова. Чтобы тебе легче было хранить тайну, мы пока что не называем себя. Итак, ровно в девятнадцать ноль-ноль. Г. П. Г.У меня сразу вспотели ладони. Я поднял голову и осмотрелся. На улице никого не было. Только у крайней хаты во дворе старушка кормила кур, приговаривая: «Цыпонька, цы-па-цы-па, цыпонька, цы-па-цы-па». Но в мою сторону она даже не смотрела. Кажется, никто ничего не видел. Я сел на велосипед и погнал в поле. Письмо я крепко сжимал в руке, притискивая к ручке руля. В голове моей была сумятица и неразбериха. Что это? Шутка? Кто-нибудь из ребят? Или все вместе? Решили подшутить и посмеяться надо мной? Отомстить за то, что я их дурачил с этим привидением? Но ведь они же видели, что я сам остался в дураках. Чего нее мстить-то? И разве стал бы офицер на мотоцикле встревать во всякие ребячьи выдумки, передавать письмо? Нет, вряд ли! И почерк в письме не детский, не ученический. Ученический почерк, даже самый что ни на есть каллиграфический, сразу можно узнать, а это совсем взрослый — очень четкий, разборчивый, с наклоном влево и каждая буковка отдельно. Нет, это не ребята. Но кто же?.. И что означают эти буквы — Г. П. Г.? Что это? Инициалы? Или зашифрованное звание? Например, гвардии полковник Герасименко (или там Гаврилов, Гогоберидзе…). Или — генеральный прокурор Гаврилов (или опять-таки Герасименко, Гогоберидзе…). Но в письме стоит «мы». Выходит, Г. П. Г. — не один человек? Должно быть, трое — «Г», «П», «Г». И кто нее они, эти трое неизвестных? Хорошие люди или плохие? Не останавливаясь, я еще и еще раз перечитывал письмо. И ничего не мог понять. Они просят порвать. Ну что ж, порвать можно. Даже если это шутка — тем более. Я порвал письмо на мелкие-премелкие клочки и, двигаясь по дороге, понемногу их выбрасывал. Теперь это письмо сам черт не соберет. До семи часов вечера было еще далеко. Но ноги мои механически крутили педали, а руль сам собой поворачивал в сторону Волчьего леса. Я и не заметил, как оказался уже на опушке. И только тогда вдруг подумал: «А почему это я сюда еду? Ведь в письме сказано — в девятнадцать. И если я приду раньше, может, это повредит делу — кто его знает». Я крутанул руль и свернул на дорогу, которая ведет вдоль леса в Дедовщину, — как будто кто-то невидимый следил за мной и я хотел его убедить, что я и не собирался ехать в лес. «Заеду в Дедовщину, куплю фигурных леденечков», — решил я. В дедовщинской лавке бывали фигурные леденцы на палочках — девятнадцать копеек сто граммов. В нашу таких почему-то не завозили, и мы иногда специально ездили за ними в Дедовщину. Не доезжая до села, я увидел на дороге «Запорожец» с поднятым капотом. В моторе кто-то ковырялся. Когда я приблизился, этот кто-то поднял голову, и я узнал попа Гогу. Увидев меня, отец Гога сказал: — О! Ну-ка, подержи мне вот тут немножко. Я слез с велосипеда и, глуша в сердце тревогу, подержал ему в моторе какую-то штуковину, которую он прикручивал плоскогубцами. — Спасибо! — сказал он, когда кончил. Потом хитро глянул на меня прищуренным глазом и проговорил какие-то непонятные, загадочные слова: — Темна вода во облацех. — И усмехнулся. Я удивленно захлопал глазами, потом торопливо сел на велосипед и поехал. Мне стало как-то не по себе от этих слов. Я даже забыл про фигурные леденцы на палочках и свернул на другую дорогу — назад в Васюковку. «Может, это поп Гога написал? — растерянно думал я дорогой. — Вместе с бабкой Мокриной. «Г.П.Г.» «П.Г.» — это может быть «поп Георгий» — абсолютно точно. А «Г»? Гавриловна!.. Это по отчеству бабку Мокрину. Мокрина Гавриловна. Ее иногда так и зовут — Гавриловна. И они хотят заманить меня в лес и… убить. За то, что я их с этим привидением подвел. А что! Были нее такие случаи, когда религиозные фанатики убивали людей. Даже в газетах писали… Эх, если бы рядом был Павлуша, ничего бы страшно не было. И зачем это он предал меня? Вот убьют меня, тогда уж он пожалеет, тогда уж поймет, что это он виноват, потому что бросил меня на произвол судьбы. Да уж поздно будет…» В селе я свернул на улицу Гагарина и поехал по ней до речки. Мне не терпелось взглянуть, что сейчас делает бабка Мокрина. Ее хата была крайней, почти у самой воды. Под соломой, но чистенькая и опрятная, а сад большой, лучший в селе. Таких сортов яблок, как у нее, не было ни у кого. Но не выпадало нам счастья их отведать, потому что и такого злющего Бровка, как у бабки Мокрины, тоже ни у кого не было. Бабка Мокрина как раз трясла яблони, собирая яблоки в подол. Завидев меня, она вся так и вытянулась в струнку. — А, это ты? По яблочки пришел! А вот тебе, во-от! — И она сложила пальцы в здоровенную дулю. — Пошел вон! Атеист сопливый! Бандюга! Чтоб тебе чертей в пекле фотографировать! Марш отсюда! Прочь! Я только усмехнулся и поехал. Мне сразу стало легче. Если б они собирались меня убивать, она бы так не лаялась. Она бы, наоборот, старалась сладкими речами глаза мне отвести, чтоб я ничего не подозревал. Да и что это я вообразил! Кому я нужен, чтоб меня убивать? И разве мог офицер на мотоцикле быть заодно с попом Гогой и бабкой Мокриной? Тьфу! Глупость какая-то! Я твердо решил ничего не бояться и к девятнадцати часам ехать в Волчий лес. Видно, дело действительно серьезное. Я кому-то нужен и могу быть полезным. И нечего думать. Мой дед всегда говорит, что, если ты можешь сделать доброе дело, делай, не задумываясь и не откладывая. Но не думать я не мог и до шести часов вечера только об этом и думал.
Глава XIV. Волчий лес. История дота. Неожиданное препятствие
Наконец я сел на велосипед и поехал. Волчий лес был когда-то дремучим, с непроходимыми чащами, и в нем на самом деле водились волки. Теперь там волков давно уже нет — всех истребили, — но непроходимые чащи остались и, хоть без волков, все-таки страшноваты. Во время войны в Волчьем лесу шли большие бои. Весь он был изранен окопами, которые теперь поросли густой травой да узорчатым кудрявым папоротником. А в старом дубняке на взгорье громоздятся гигантские глыбы взорванного дота. Когда-то здесь была опушка, и как раз возле дота перекрещивались две дороги. Одна, внизу по краю леса, вела на Дедовщину, другая — в лесную чащу, на Гарбузяны. А теперь опушка отодвинулась почти на километр, потому что поднялась тут густая посадка сосняка, через которую прорублена новая дорога. Эту дорогу люди называют «глеканкой». Если ехать по ней на телеге, то на корнях колёса, как у нас говорят, «глекают». А дорогу, которая через лес на Гарбузяны, назвали «генеральской», потому что в лесу от нее есть поворот к военным лагерям. Славная история у этого дота. В сорок первом, когда немцы стали захватывать Украину, здесь держали круговую оборону трое наших бойцов. Весь район уже был оккупирован, фронт продвинулся на тридцать километров к востоку, а немцы все никак не могли захватить этот дот. Ни бомбы его не брали, ни снаряды, ни мины. Восемь дней держались бойцы без воды, без пищи до последнего патрона. Четыре танка подбили из противотанкового ружья, без счета фашистов покосили из пулемета. И, только когда не стало уже боеприпасов, вышли защитники дота и безоружными пошли на врага. И, говорят, каждого из них пробило не меньше чем сто пуль. А дот, даже пустой, нагонял страх на фашистов. Они привезли туда три воза взрывчатки и взорвали его. Но и разбитый, покалеченный, с искореженными железными рейками, которые, будто кости, торчали на изломах из толстых метровых глыб, он поражал силой и мощью. Его огромные грязно-серые глыбы, кое-где покрытые ржавым мхом, были из какого-то невероятного, нигде теперь не встречающегося железобетона, густо замешанного на кусках гранита, какими часто мостят дороги. Между этих камней торчала черная погнутая арматура из железных прутьев в палец толщиной, которую даже ржавчина не брала. Весь дот зарос густой жалящей крапивой, будто оберегая таким способом свое суровое одиночество и неприкосновенность. Все же на одной из глыб какой-то досужий Вася, желая, наверно, пробиться в бессмертие, попытался запечатлеть чем-то острым свое имя, но не осилил. Буквы нацарапались едва заметно, а последнее «я» было уже такое хилое и немощное, что даже стыдно становилось за этого Васю с таким его жалким «я». Хоть и был дот не очень-то далеко от села, мы, мальчишки, к нему почему-то почти не ходили. Я за всю свою жизнь раза три, может, только и был. И по грибы и по ягоды мы больше ходили в Пещанский лес, за Пески. И теперь, когда я подъезжал к доту, все вокруг показалось мне чужим, незнакомым и таинственным. Стояла какая-то жуткая тишина, даже птичек не было слышно, только где-то в лесной вышине едва-едва шелестели под ветром листья. Я прислонил своего Вороного к дубу возле дороги, потом осторожно раздвинул кусты и, хватаясь руками за ветки, стал карабкаться вверх, к руинам дота. — Ты куда?! — раздался вдруг негромкий, но властный голос. От неожиданности я выпустил ветки, за которые держался, и упал на колени. — Куда лезешь? — повторил голос. — Никуда… а… а что такое? — спросил я, все еще стоя на коленях и напрасно вглядываясь в чащу — того, кто говорил, за кустами не было видно. — Сейчас учения. Не видел, что ли, — флаги на вышке. Ну-ка, давай отсюда! Ясно: караульный. Когда учения, всегда выставляют караулы на дорогах, которые ведут к лагерям. Спорить было нечего. Я повернулся и на карачках стал спускаться вниз. Вот черт! И нужно же! Поставили как раз на этом месте. Ну, ничего! Я его как-нибудь обойду. Зайду осторожненько сбоку — он и не углядит. Эти караульные, по-моему, просто так стоят, для вида. Развалятся себе в кустах и покуривают. Очень это им нужно. Кто сюда пойдет! Если бы я прямо на него не наткнулся, он бы, наверно, и головы не поднял. Я спускаюсь на дорогу и, пригнувшись, кидаюсь вправо; перебегая от дерева к дереву, начинаю обход сбоку. Теперь я смотрю в оба и стараюсь двигаться как можно тише. Но когда я оказался уже почти у самой цели, из кустов послышалось: — Ты что, в жмурки со мной играешь? Ну-ка, давай отсюда! Заметил. Все-таки заметил, чертяка! — Уж и грибков поискать нельзя! — проворчал я и, насупившись, пошел назад. Вот ведь! Как же я теперь возьму инструкцию? Разве они не знали, что будут войсковые учения? Не может быть. Что же делать? Вот так просто ехать домой, и все?.. А может, они потому обратились ко мне, что надеются на мою ловкость, пронырливость, на то, что я смогу незаметно проскользнуть мимо часового? Может, как раз в этом и состоит мое задание? Да кто ж такие тогда «они»? Если «они» хотят делать что-то тайно от армии… Может, «они» шпионы? Э, нет! Ерунда! Хватит с меня шпионов. Были уже в моей жизни «шпионы». Кныш и Бурмило. Хватит. Настоящие шпионы не такие дураки… Да и не стану я делать ничего шпионского, — что я, болван?! Я сперва узнаю, что им нужно и для чего, а уж тогда… Но домой так просто идти я не могу. Я должен достать эту инструкцию. Должен! Иначе я не буду уважать самого себя. Я беру Вороного за седло и встряхиваю, чтобы он подал голос — задребезжал. Пусть часовой думает, что я уезжаю. Для этого я еще и кашляю громко в придачу. Потом сажусь и еду по дороге — будто бы в сторону села. Но, отъехав метров сто, так что от дота меня уже никак не видно, сворачиваю в лес, прячу Вороного под папоротником в окопе и по-пластунски, на животе, начинаю в обход подкрадываться к доту. Я ползу долго и осторожно, через каждые два-три метра замирая и прислушиваясь. Наконец прямо передо мной дот. Часового не видно. Он, должно быть, с той стороны, в кустах. Но и амбразура тоже с той стороны. Выход один — пробраться через руины дота и попробовать нащупать трещину над амбразурой изнутри. Но это легко сказать — пробраться. Я уже говорил, что весь дот зарос густой и зверски жалящей крапивой. Одно дело идти по такой крапиве в полный рост, раздвигая ее какой-нибудь палкой, и совсем другое — ползти по ней по-пластунски, да еще и так, чтоб тебя не было видно, чтобы эта крапива не шевелилась. Я полз вперед, опустив лицо к земле и прикрывая его рукой. Крапиву я раздвигал макушкой. И пока покрытые иглами зубчатые листья проходили по волосам, я их не чувствовал. Но когда они касались шеи, меня всего так и передергивало — будто кто-то лил мне на шею кипяток. Но больше всего страдали уши. Мои бедные большие оттопыренные уши. Мне даже казалось, будто я слышу, как они сухо трещат, пылая жарким пламенем. И казалось, что не по крапиве я лезу, а через какой-то страшный адский огонь. Но я стискивал зубы и лез, лез, лез… — М-да-а! — услышал я вдруг над головой уже знакомый голос. — Видно, ты или чокнутый, или что-то задумал. Вставай! Ругнувшись про себя последним словом, я поднялся. На покатой глыбе дота, расставив ноги, с автоматом на груди стоял Митя Иванов. Это был он! И где-то в глубине души шевельнулась у меня одобрительная мысль: «А часовой-то что надо, самого черта не пропустит».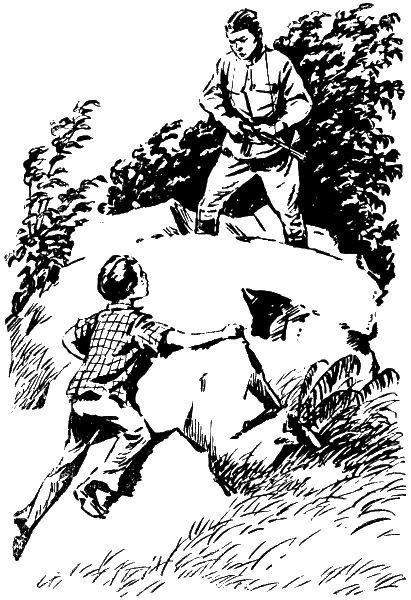
Митя Иванов смотрел на меня беззлобно, с интересом. Мои сплошь обожженные крапивой уши, шея, руки говорили сами за себя. — Ну, так что ж тебе нужно? — спросил он, усмехаясь. — Ничего, — я еще не успел придумать. — Ничего? Гм! Значит, дурень, — с разочарованием сказал он. — А может, все-таки нужно? И вдруг у меня мелькнула мысль: «А может, это все специально? Чтоб меня проверить?» Ну так нет, дудки! Ничего вы от меня не услышите! Хоть мне и очень хочется доказать, что я никакой не дурень.
Глава XV. Старший лейтенант Пайчадзе. Я осматриваю лагерь
Вдруг на дороге затрещал мотоцикл и, чихнув, сразу смолк — остановился. — Иванов, что там такое, а? Чей велосипед на дороге? — раздался хрипловатый голос с кавказским акцентом. — Да вот, товарищ старший лейтенант, нарушитель… Пацан какой-то. Я его гоню, а он лезет… Кусты раздвинулись, и появился офицер, высокий, стройный, с черными грузинскими усиками. Пристал; но взглянув на меня, он спросил: — В чем дело, а? Я тоже внимательно посмотрел на него и молча пожал плечами. А в голове неистово крутилось: «Тот или не тот? Тот или не тот?» И никак я не мог вспомнить, с усиками был тот или без. Да разве за те считанные секунды, пока он передавал мне письмо, можно было что-нибудь запомнить? Но лицо такое же загорелое, запыленное, улыбка белозубая. И на погонах три звездочки… Кажется, все-таки тот. — Ты что, немой, да? Не понимаешь, что тебе говорят? А что с ушами? Почему такие красные? И шея… Иванов? — Он неожиданно метнул сердитый взгляд в сторону солдата. — Ты что… а? — Да что вы, товарищ старший лейтенант! — Уши Иванова стали сразу еще краснее, чем мои. — Как вы могли подумать? Это он по крапиве лез. Шальной какой-то! — По крапиве, да? — Офицер удивленно поднял брови и взглянул на меня с нескрываемым любопытством. — Инте-ре-сно! Так что тебе тут нужно, а? «Ничего-ничего, — подумал я, — проверяйте, проверяйте! Вы меня не «подцепите». Я не «расколюсь», не бойтесь». И, строя из себя дурачка, я захлопал глазами и сказал: — Да грибков хотел поискать… Что, нельзя? Нельзя разве? Офицер прищурился, пронизывая меня взглядом, потом повернулся к солдату: — Иванов, приглядишь за его велосипедом, да… — Есть! — козырнул солдат. — А ты поедешь со мной, — приказал мне старший лейтенант и пошел на дорогу к мотоциклу. Я молча двинулся за ним. — Садись! — кивнул он на сиденье позади себя и нажал ногой стартер. Мотоцикл сразу фыркнул, зарычал, и мы так стремительно рванулись вперед, что я едва не слетел с седла. Хорошо, что успел цепко ухватиться за офицерскую гимнастерку. Мы мчались по ухабистой, разбитой тяжелыми военными машинами «генеральской» дороге. Меня все время подбрасывало, и полдороги я, считай, летел в воздухе и только полдороги ехал. Но я не замечал этого. Даже наоборот. Это было близко моему настроению. Меня изнутри тоже будто что-то подбрасывало. Не знаю, как называется по-научному эта нервная тряска, а по-нашему, по-мальчишески, — «мандраж». Разве я мог, скажите, быть спокойным, когда ехал на какое-то необычное, какое-то важное и секретное задание, для которого требовалось мужество, смелость, может быть, даже героизм. Ясно теперь, что это военное задание. Секретное задание военного значения. Наверно, у них там что-то сломалось и взрослому не пролезть. Пацана нужно. Может, надо залезть в дуло какой-нибудь гигантской пушки или в ракету с атомной боеголовкой. И было мне, честно говоря, так страшно, что пятки холодели (ведь если же она бахнет — даже пепла от меня не останется, похоронить нечего будет). А с другой стороны, подпирала радостная гордость, что выбрали не кого-то, а меня, — значит, считают, что я подхожу для такого дела. И как же хотелось доказать, что я как раз такой и есть! Даже возле пупка щекотало, как часто бывает перед экзаменом или перед тем, как арбуз с баштана стянуть. Ох, если бы только повезло, чтобы все было в порядке! Это было бы так кстати, так кстати! Павлуша умер бы от зависти! Вот только рассказывать, наверно, нельзя будет. Уж если так засекречивают, предупреждают, если уж так проверяют да испытывают… А может, наоборот, придут в школу и на общем собрании благодарность объявят. А то и подарок какой-нибудь ценный вручат — фотоаппарат, транзистор или еще что-нибудь… А могут и медалью наградить. Разве не бывает, что ребят награждают медалями? Если они совершат что-нибудь героическое? Это уж точно! Мотоцикл так резко остановился, что я ткнулся носом офицеру в спину. Мы были на большой поляне перед высокой деревянной аркой, какие бывают на шоссе при въезде в новый район, украшенной поверху флажками. Но в отличие от районной, эту арку перекрывал внизу полосатый шлагбаум, как на железнодорожном переезде, и стояла будка с часовым. — Пропускай! Лазутчика везу! — крикнул офицер часовому. Тот поднял шлагбаум, и мы въехали на территорию лагеря. «Лазутчика везу», — значит, придется все же куда-то лезть. Мы ехали (теперь уже медленно) по чистенькой, посыпанной белым песочком дорожке, с обеих сторон которой стояли брезентовые палатки, точь-в-точь как в пионерском лагере. И даже красные лозунги на фанерных щитах, что выстроились вдоль дорожки, были похожи на пионерские: «Равняйся на отличников боевой и политической подготовки», «Тяжело в учении — легко в бою», «Стрелять только на «хорошо» и «отлично»!» «Выходит, солдаты — тоже ученики, только взрослые, — подумал я. — Значит, люди и после школы должны учиться, думать про оценки и равняться на отличников». А я-то мечтал закончить школу и навсегда забросить учебники на самую высокую иву… Не тут-то было! — Класс тактики, — не оборачиваясь, сказал офицер. Мы проезжали мимо площадки, где стояли ряды длинных лавок, вкопанных в землю, как в летнем кинотеатре, только вместо экрана на дереве висела черная школьная доска. — Спортплощадка, полоса препятствий, да, — снова, не оборачиваясь, сказал офицер. Здесь было много всего — и футбольное поле, и волейбольная площадка, и турник, и кони, и огромная перекладина на двух столбах с канатом, кольцами и наклонной лестницей (чтоб на руках подниматься). А то, что он назвал «полосой препятствий», было: бревно, яма с водой, высокий забор, низенькое проволочное заграждение, под которым нужно на животе пролезать, и всякие другие сооружения. Это, должно быть, интересно. Вот бы попробовать!.. А вообще, может, мне сейчас придется такую «полосу препятствий» преодолевать, против которой эта — детские игрушки?! — Артиллерийский парк, да. — Мотоцикл сбавил ход возле огромного загона, где вся земля была перепахана колесами тяжелых машин и орудий и гусеницами тягачей. Но сейчас ни орудий, ни тягачей не было. Только в глубине под навесом стояло несколько приземистых бронемашин с вытянутым корпусом и каких-то высоких грузовиков с будками. Да кроме того, под другим навесом, стояло несколько восьмиколесных машин со скошенными вниз, как у лодок, носами. — А это что такое? — Я ткнул рукой в сторону восьмиколесных машин. — Бронетранспортеры-амфибии. Для преодоления водных рубежей да и для высадки десантов. Понял? — Понял. Он говорил накаком-то смешанном языке — половина слов украинских, половина русских. Ему, наверно, трудно было, но он все-таки старался говорить по-украински, и это выходило у него как-то очень мило. А это свое «да» почти после каждого слова он выговаривал с певучей кавказской интонацией, и оно не раздражало, а наоборот, тоже было каким-то симпатичным. Мы еще немного проехали. Возле длинного деревянного барака он сказал: — А это столовая. Перед столовой стояла машина с прицепом, похожим на пушку, нацеленную дулом в небо. Я уже знал, что это такое. А когда-то всем нам было невдомек и мы долго спорили. Антончик Мациевский говорил, что это гаубица, Вася Деркач — миномет, а Карафолька доказывал, что это секретное оружие ракетного типа последнего образца. А прицеп оказался… походной кухней! — Ну что, нравится тут у нас, да? — спросил офицер. — Ага, — сказал я. — Ты в каком классе? — В седьмом. — Значит, через четыре года… Ну, все, поехали, да… Он развернул мотоцикл и дал газ. И через минуту мы снова были возле арки. Часовой поднял шлагбаум, и мы рванули по «генеральской» назад к доту. «И это все? — разочарованно подумал я. — Или, может, так и надо — сперва простое знакомство с территорией лагеря, а потом… Или, может… или, может, я им… не подошел?» Мне стало ужасно горько от этой мысли. Мы подъехали к доту. Стали. Какое-то время я еще сидел, держась за его гимнастерку. Во мне еще оставалась капля надежды, что это еще не все. Он повернул голову и улыбнулся. — Мне слазить? — тихо спросил я. — Да, дорогой, да, — сказал он. Я с трудом перевалил через седло ногу и слез. А он снова улыбнулся. — Да, будем знакомы — старший лейтенант Пайчадзе. — Он протянул мне руку. — Кстати, скажу по секрету, да, у нас в штабе был разговор, чтобы взять шефство над вашей школой, да. Поднять военно-спортивную работу среди старшеклассников. А? Будем приглашать к себе, да, знакомить с материальной частью, с боевой техникой. Нужно готовить из вас хороших воинов, да. Верно я говорю, да? Нет, что-то он не то говорит… Неужели я ему не понравился, неужели не подошел? Я вопросительно посмотрел на него долгим взглядом и решился. — Вы, может, думаете кого-нибудь получше найти? — Я пренебрежительно хмыкнул. — Вряд ли. Разве только Павлуша… Но… Он пристально взглянул на меня и сказал: — Думаю, что ты хороший хлопец, да… Но не понимаю, о чем ты говоришь… Кровь бросилась мне в лицо. Зачем я сказал? Эх! — Ничего, это я просто так… Спасибо! До свиданья! — Я быстро вскочил на Вороного и нажал на педали. Отъезжая, слышал, как Митя Иванов говорил: — Чудной какой-то хлопец, правда? Пайчадзе что-то ответил, но я уже не расслышал. Тьфу ты! Вот ведь как вышло! Если они в самом деле ничего не знают про это письмо, то наверняка думают, что я или круглый дурак, или уж, во всяком случае, с придурью. А если… Тогда еще хуже. Выходит, что я им все-таки не подошел… Но почему в письме было сказано про амбразуру, про инструкции? Для чего? Неужто просто так? Вряд ли. И, кажется, у того офицера, который передавал письмо, все-таки не было усиков. Я бы их запомнил. Тогда, может, и Пайчадзе и Иванов просто не в курсе дела? Когда проводится секретная операция, о ней знает только небольшая группа людей, даже среди своих. Слава богу, фильмов, про это я насмотрелся да и книжек прочел — будь здоров! Тогда нужно подождать, может, эти тактические учения скоро кончатся и пост снимут. Я выехал на опушку и свернул в посадку молодого сосняка. Положил Вороного на землю под сосенки, а сам прилег на теплый и мягкий, как перина, мох. Отсюда хорошо было видно и деревянную вышку, которая поднималась над лесом, и дорогу. На вышке развевался красный флаг. Я решил ждать. Может, этот флаг скоро спустят, и тогда я смогу подойти к амбразуре. Не мог же я спокойно ехать домой, даже не узнав, что там такое, в этой инструкции! Но как же я не люблю ждать, если б вы знали! Самая большая для меня мука — это стоять в очереди. Еще хуже, чем зубрить какой-нибудь нудный урок. Ох, как я не люблю ждать! Но что поделаешь.Глава XVI. Павлуша. Неужели?.. Не хочу, чтоб он меня видел. Неизвестный в саду учительницы. Кто он такой?
Начало смеркаться. Потянуло вечерней прохладой. Я лежал и думал, как было бы здорово, если бы вот сейчас рядом со мной лежал Павлуша. Ничего мне не было бы страшно, никакие испытания. И ждать я мог бы хоть целую ночь. И зачем мы поссорились? Зачем эта пакостная Гребенючка нас разлучила? Почему она такая вредная? Ненавижу ее! Ненавижу! С какой радостью я б ей сейчас всыпал по первое число, дал бы так, чтоб только мокрое место осталось! Да разве бы это помогло… От села по дороге кто-то ехал на велосипеде. Я сначала думал, что в Дедовщину. Но велосипедист миновал поворот на Дедовщину и начал приближаться по «глеканке» к лесу. Кто же это? Неужели не видит, что на вышке флаг? Не пропустят же… Он ехал быстро и с каждым мгновением приближался. Уже можно было разглядеть, как надувается ветром рубашка на спине. Я напряг все свое зрение, и вдруг меня так и подкинуло. Я даже встал на четвереньки. На велосипеде ехал… Павлуша. Он что было сил крутил педали — торопился. Лицо серьезное и сосредоточенное. И не видно при нем ни кисточки, ни красок. Значит, не рисовать он ехал. Да и кто ж это на ночь глядя поедет в лес рисовать? Вдруг неожиданная догадка ледяной волной захлестнула мое сердце: это его вызывали вместо меня. Потому что я не подошел. Не понравился. Что-то не так сделал. И они решили, что я не справлюсь, решили поручить другому. А кто же из ребят подходящий? Конечно, Павлуша. Не Карафолька же, не Антончик Мациевский, не Вася Деркач и даже не Коля Кагарлицкий. Да я и сам назвал Павлушу старшему лейтенанту. Эта внезапная догадка прямо парализовала меня. Тело мое стало каким-то ватным — вялым и бессильным. Я не мог шевельнуться. Раскорячившись, как теленок на льду, я стоял на четвереньках с разинутым ртом и только смотрел вслед Павлуше, пока тот не исчез в лесу. И хотя никто меня не видел, это были минуты самого большого в моей жизни позора и стыда. Если бы мне при всех плюнули в глаза, было бы легче, чем сейчас. Я представил себе, как возвратится Павлуша после успешного выполнения опасного секретного задания, как наградят его медалью, ценным подарком или просто грамотой и он, покраснев от смущения, как девчонка, опустит глаза, как будто бы он никакой не герой (это он умеет!). А Гребенючка подойдет к нему и при всех поцелует, и Галина Сидоровна обнимет его и, может быть, тоже поцелует, а на меня никто и не посмотрит, будто я умер и меня совсем нет на свете. Я все это себе представил, и мне стало так горько, словно я полыни наелся. И мне захотелось, чтоб сейчас же подо мной провалилась земля и поглотила навеки или чтобы прилетел с полигона какой-нибудь шальной снаряд и разорвал меня на атомы. Но снаряд не летел и земля подо мной не проваливалась. Только кругом становилось еще темнее — наступал вечер. За несколько метров уже ничего не было видно. Где-то близко прострекотал мотоцикл, не разберешь — то ли в сторону села, то ли в сторону леса… Может, это старший лейтенант Пайчадзе повез Павлушу выполнять секретное задание? Непреодолимая тревога овладела мной. Меня неистово тянуло махнуть туда, к доту, и посмотреть, что же там делается. Но остатки гордости и самолюбия, которые горсткой маковых зерен еще перекатывались на самом донышке моей опустошенной горем души, не пустили. Чего это я буду лезть, мешаться, если меня отшили? Пусть себе справляются сами, пусть! И недоставало еще, чтобы Павлуша увидел меня вот тут несчастненького, жалкого, выброшенного, как ненужный хлам. Эта мысль подхватила меня с земли, вмиг посадила на Вороного и во весь дух погнала в село. Нет, этого бы я не пережил! Если бы такое случилось, — тогда прямо хоть в пропасть вниз головой. Я даже не поехал улицей, а свернул на тропинку, что вела по задворкам. Чтоб и не видел никто, что я из лесу еду. Не было меня там, не было! И письма не было! Ничего не было! Докажи теперь! Докажи! Я только смеяться буду. Ничего я не знаю! Никаких Г.П.Г. Какая тайна? Какие трое неизвестных? Три «ха-ха» — вот что было! Я проезжал за садом нашей учительницы Галины Сидоровны и вдруг заметил, что какой-то человек, пригнувшись, крадется в полумраке между деревьями. Увидев меня, он враз присел, потом стремительно юркнул в кусты и спрятался там, притаился.
Вот это да! Кто ж это такой? Галина Сидоровна живет вдвоем со своей матерью, мужчин у них в доме нет. Какой-нибудь преступник?! Вор или еще кто-то? Порядочный человек не стал бы прятаться. Я нажал на педали. Через две хаты тропа выводила на улицу. И через какую-нибудь минуту я уже соскочил с Вороного возле ворот Галины Сидоровны. — Галина Сидоровна! Галина Сидоровна! — громко закричал я, приоткрыв калитку. — Что? Кто? Кто это? — послышался встревоженный голос учительницы. — А, это ты… — проговорила она, выскочив со стороны сада из-за хаты. — Что такое? Что случилось? — К вам сейчас дядь Петро и дядь Микола придут! — закричал я, чтобы слышно было там, в саду, и прошептал: — Это я нарочно. У вас в саду вор прячется. — Да что ты? — Тс! Точно! Сам только что видел. Я соседей кликну, а вы… — Да нет, это тебе, наверно, показалось. — Клянусь! Я по тропинке за вашим садом ехал, а он крадется, а потом как кинется в кусты… — Что ты говоришь! У нас ведь и красть нечего. — И высокий такой, метра два. — Ты скажи! Ну-ка, идем посмотрим. — Да, может быть, все-таки кликнуть кого-нибудь? Ведь он здоровый, как вол. Одни не справимся. — Да ну уж! Как-нибудь! Топор возьмем, серп. Подожди, я сейчас. Она заскочила в сени и быстро вынесла оттуда серп, топор и электрический фонарь. — Если бы я каждый раз к соседям обращалась, им бы покою не было. Я могу и сама постоять за себя. Идем! Она дала мне серп, сама взяла топор, включила фонарик и смело двинулась вперед. Она была отчаянная и решительная, наша Галина Сидоровна. И я невольно залюбовался ею. — А ну, кто тут лазит по чужим садам?! — звонко закричала она и круглым пятном света стала ощупывать деревья. — Вон там, в кустах, — подсказал я. Луч осветил кусты. Там никого не было. Мы прошли весь садик, но ничего не обнаружили. Видно, тот человек, услышав мое «к вам дядя Петро и дядя Микола», сразу дал дёру. — Вот видишь — нету, — весело проговорила Галина Сидоровна. — Это тебе показалась. Мне в темноте тоже часто кажется, что в саду кто-то стоит за деревом. — Да видел я, ну честное слово, видел! — Мне было досадно, что учительница не верит. — Ну, может быть, может быть, — успокаивала она меня. — Значит, удрал. Видно, кто-то проходил да яблочка захотелось… Хорошо, что мамы нет, пошла к тетке. Перепугалась бы до смерти. Ну, спасибо тебе, защитник мой! Она взъерошила мне волосы и нежно провела рукой по щеке. От ее руки маняще пахнуло тонким ароматом каких-то духов. И было приятно чувствовать прикосновение ее руки и почему-то стыдно от того, что это было приятно. — Слушай, а как там Павлуша? Вы уже помирились? Все приятное сразу исчезло. — Не знаю, — буркнул я. — Ну, я пойду. До свиданья. — До свиданья. Жаль. Вы так хорошо дружили… Я ничего не ответил. Молча вышел со двора, сел на велосипед и поехал. И так у меня на душе было темно! Темней, чем глухой ночью. Павлуша, может, в это время уже выполнил важное секретное задание и генерал или полковник пожимает ему руку, вынося благодарность от командования, а я… Даже Галина Сидоровна не поверила, что я видел того человека в ее саду, и решила, что мне померещилось, и благодарила просто так, из вежливости. Я же видел. По голосу понял. Голос у нее был какой-то не такой, как обычно, а какой-то деланный, будто она шутила со мной… Ну и пусть! Пусть ее обкрадывают, раз так… И тупое безразличие ко всему охватило меня.
Глава XVII. Меня вызывают к телефону. «Расследование футбольной баталии». Новое платье Гребенючки. Испорченное настроение
На следующее утро я заспался, потому что с вечера долго ворочался и никак не мог заснуть — очень уж много переживаний на меня навалилось. Проснулся я оттого, что кто-то тряс меня за плечо: — Вставай, деятель! Царство божье проспишь. Без тебя Советская власть управлять не может, — услышал я голос деда. Когда тебя насильно будят, то всегда как раз в эту минуту больше всего хочется спать. Я дрыгнул ногой, натянул одеяло на голову и сонно проворчал: — Не трожьте, диду! Я сплю!.. Я спать хочу… Но дедова рука безжалостно стянула с меня одеяло: — Вставай! Вставай! Говорю же, тебя к телефону в сельсовет кличут. Давай быстро! Я вмиг подскочил и сел на кровати, хлопая глазами: — А? Что? Кто? — Да кто ж его знает? Какой-то человек. Из Дедовщины звонит. Вишь, понадобился ты ему с самого утра. Может быть, что-нибудь натворил, а? Беги живей, ведь сельсоветский телефон занимаешь. Я вскочил в штаны и вылетел на улицу. Вы, наверное, не раз видели, как в кино в комических местах быстро бегают (так называемая «ускоренная съемка»). Так вот, в таком же темпе пронесся и я по улице от нашей хаты до сельсовета (метров триста). За какие-нибудь считанные секунды. В сельсовете я сгоряча пробежал мимо телефона в другую комнату. — Стой! Куда ты? — весело крикнул мне секретарь сельсовета Спиридон Халабуда. — Гони назад! Вот тут, вот тут! Я обеими руками схватил трубку, прижал ее к уху и крикнул что есть силы: — Алло! — Здравствуй! — услышал я в трубке басовитый мужской голос. — Слушай внимательно! Если будут спрашивать, кто звонил, скажешь — инспектор роно Федорищенко. Просил подъехать в Дедовщину. Он расследует дело о драке на стадионе тридцатого июня. Хочет уточнить кое-какие факты. Почему с тобой? Потому что знает и уважает твою маму-депутата и считает, что сын такой матери скажет все честно и объективно. Понял? Запомнил? Федорищенко. Инспектор роно. — Ага. Ясно. Ясно, товарищ Федорищенко, — сказал я, метнув взгляд на Халабуду, который даже рот от любопытства разинул, уставясь на меня. Такого и вправду не бывало, чтобы в сельсовет к телефону вызывали ученика, пацана. — Теперь слушай, — продолжал басовитый голос (он говорил медленно, четко выговаривая каждое слово). — Вчера ты не смог достать инструкцию. Мы это знаем. Но не горюй. В этом не твоя вина, а наша. В связи с обстоятельствами операция на один-два дня откладывается. Следи за мачтой возле школы. Когда на мачте появится белый флажок, в тот же день в девятнадцать ноль-ноль пойдешь к амбразуре за инструкцией. Ясно? — Ясно! Ясно! — И радость горячей волной прокатилась по всему телу, хлюпнула-защекотала в горле. Значит, не отшили, не забраковали меня, а просто что-то помешало! И так мне не хотелось вешать сейчас трубку, так хотелось еще поговорить, спросить что-нибудь. — Слушайте! — И голос мой сорвался. — Слушайте, а… а… — я не знал, что сказать, — а… а… а как вас по отчеству? — Фу ты! — Он запнулся и вдруг рассмеялся. — Вот тебе и раз! А я и сам не знаю, как имя-отчество этого Федорищенко, да. А на что тебе? Обойдется и так. Я растерялся. Халабуда не спускал с меня глаз и прислушивался к каждому слову. Я понял, что сморозил глупость. Нужно было как-то выпутываться. — Ага, спасибо, теперь буду знать, — сказал я, прикидываясь перед Халабудой, будто получил ответ на свой вопрос. Тот, на другом конце провода, все понял. — Молодец! — сказал он. — Ну, хорошо. Тогда все. А в Дедовщину все-таки съезди на полчасика, чтоб не вызывать подозрений. Ну, будь здоров! — Ага, сейчас поеду. До свиданья, — и я положил трубку. В голове моей как-то странно гудело и звенело. — Что за Федорищенко? — сразу спросил Халабуда. — Инспектор роно. Просил приехать в Дедовщину. Он расследует дело о драке на стадионе тридцатого июня. Хочет уточнить кое-какие факты. — A-а… его я, кажется, знаю, — важно прогнусавил Халабуда. — Точно. Знаю. Федорищенко. Знаю… Спиридон Халабуда любил похвастать своим особым знакомством с руководящими работниками района. И хотя по выражению его лица было видно, что Федорищенко он наверняка не знает, я встревожился: а что, если он где-нибудь слышал его имя и отчество и сейчас меня спросит? И я, делая вид, что мне нужно спешить, быстрей попрощался и убежал. Деду я сказал слово в слово то, что и Халабуде, и, даже не позавтракав, а выпив только стакан молока, сел на велосипед и поехал. Выезжая, я искоса взглянул через плетень на Павлушу. Он сидел на земле посреди двора, хмурый и злой, перед велосипедом, который стоял вверх колесами, и крутил рукой педаль. Заднее колесо то и дело чиркало о раму. «Восьмерка»! «Видно, они проверили его вчера и убедились, что он не лучше меня, — подумал я, — и решили вернуться к моей кандидатуре». Мне стало жаль Павлушу. Но что же я мог сделать? А может, он вообще не туда ехал… А куда? Кто его знает! Может, просто катался… Когда я не могу найти ответ на какой-нибудь вопрос, то просто отбрасываю его и начинаю думать о чем-нибудь другом. Такой уж у меня характер. А какой густой голос у этого дяденьки по телефону! Наверное, не ниже чем полковник. А может, и генерал. Говорит так внушительно, солидно. И все продумано. Инспектор роно. Драка на стадионе. Я выехал за околицу и как раз проезжал мимо стадиона. По правде говоря, это не совсем стадион, а просто кусок поля, ворота с двух сторон (без сетки, конечно). И по бокам в один ряд лавки вкопаны из кривых неструганых досок. По всему полю трава вытоптана, а у ворот выбита так, что иногда во время игры пылища — мяча не видать. Тридцатого июня этого года здесь проходила товарищеская встреча по футболу между командами класса «Г» — нашей васюковской «Ракетой» и дедовщинским «Космосом». Команды были школьные, играли старшеклассники. У нас на воротах стоял Бардадым, центром нападения был Вовка Маруня, наш васюковский Блохин. Он хотя и учился только в восьмом классе и выглядел очень щуплым, но обводил здоровяков-десятиклассников, «как мальчишек» (по выражению деда Саливона). Матч проходил в жаркой борьбе. За пятнадцать минут до конца счет был 23:18 в пользу дедовщинского «Космоса». Стадион неистовствовал, ревел ревмя. Среди наших болельщиков особенно отличались дед Саливон и баба Маруся, наша школьная уборщица. Дед Саливон не замолкал ни на минуту, подзадоривая игроков: — Вовка, давай, давай! Ванюшка, пасуй Грицко! Головой, головой!.. А, чтоб ты треснул! Чего же ты отдал мяч, недотепа? Бей, Вовка, бей!.. А баба Маруся все время вполголоса бубнила: — Господи милосердный! Боже праведный! Сделай, чтобы наши забили гол! Господи милосердный! Боже праведный! Сделай, чтоб наши забили!.. И когда наши забивали, она верещала тонким, пронзительным голоском: — Шту-у-ка! Шту-у-ка! И крестилась. За пятнадцать минут до конца игры Вовка Маруня прорвался с мячом к воротам и влепил бы в девятку, но защитник «Космоса», здоровенный бугай Роман Гепа (двоюродный брат того Гепы, который пошел учиться на попа), подцепил его ногой, и Вовка запахал носом. А судья, дедовщинский киномеханик Яшка Брыль, вместо того чтоб назначить одиннадцатиметровый, дал угловой. Мол, Гепа действовал правильно, только выбил за линию ворот, а Маруня, дескать, сам упал. Ух, что тут поднялось! Наши болельщики так отчаянно загорланили, засвистели, завопили, будто настал конец света. — Судью на мыло! Судью на мыло! — кричал, чуть не лопаясь, дед Саливон. — Пенальти! Пенальти! Ах ты вражья сила! — верещала баба Маруся. Но судья не обратил на этот рев никакого внимания. Таков уж порядок: на поле судья — хозяин. После встречи можете опротестовывать его действия сколько хотите, а во время игры слово судьи — закон. Стиснув зубы, Вовка Маруня подал угловой и от волнения неудачно — в аут. Но за минуту до финального свистка мяч снова попал к Маруне, и он опять прорвался к воротам. Гепа, видя, что судья смотрит сквозь пальцы на его нарушения, теперь уж нарочно зацепил Маруню, и тот снова запахал носом. Уж тут Маруня не стерпел (он у нас такой горячий!), вскочил и, несмотря на то что едва доставал Гепе до подбородка, дал ему в нос. Гепа лягнул ногой, и Маруня кубарем покатился по земле. Тогда к Гепе подскочил наш левый крайний Юрка Загубенко и врезал ему под дых. Ну, и началось… Пока болельщики опомнились и бросились разнимать, наша «Ракета» успела так пройтись по дедовщинскому «Космосу», что от него осталось только мокрое место. Ведь один наш Бардадым мог свободно отлупцевать по крайней мере пятерых дедовщинских форвардов. А двадцать три пропущенных гола удесятеряли его силы. Игроков едва растащили. — Вот так товарищеская встреча! — сказал дед Саливон. — Вторую такую придется, наверно, проводить прямо на кладбище. — Это еще, знаете ли, ничего, — сказал Павлушин отец. — Это еще мелочи. А вот между Сальвадором и Гондурасом из-за футбольного матча настоящая война началась. Стотысячные армии… Артиллерия, самолеты, танки… Вот это, знаете ли, болельщики… Особенно я был доволен, что Бардадым успел заодно надавать подзатыльников и судье. Чтоб знал, свинья, как подсуживать своим! Вот какой матч был тридцатого июня. Честно говоря, было что расследовать. Я заехал в Дедовщину и свернул прямо к сельмагу. Купил там леденцов на палочках, покрутился немного — и назад. Настроение у меня было прекрасное. Несмотря на то что погода портилась, собирался дождь. На вышке над лесом алел флаг. Значит, учения еще идут. Подъехав к селу, я, как и вчера, свернул на тропинку, что вела по задворкам мимо сада Галины Сидоровны. Меня тянуло взглянуть, что там такое было — нет ли каких-нибудь следов вчерашнего человека. А может, он еще ночью приходил? Возле сада учительницы я слез с велосипеда, положил его на землю и, крадучись, как настоящий сыщик, пошел, озираясь по сторонам. Тропинку в двух местах пересекали следы здоровенных сапог (не меньше чем сорок пятый размер!). Они четко отпечатались на влажной земле. Одни следы были повернуты носками к саду, другие наоборот — к полю. Это он приходил, а это — возвращался. Возле кустов малины, где он прятался, трава была примята и лежал мокрый окурок сигареты с фильтром. Я поднял. Сигарета была очень мало откурена и загашена о землю. Марка — «Столичные». Шерлоку Холмсу или майору Пронину одного этого окурка и следов было бы достаточно, чтоб узнать все. Но я не был ни Шерлоком Холмсом, ни майором Прониным. Я мог сказать только то, что человек — курящий и что у него большие ноги. Ничего другого я сказать не мог. Разве только, что сигареты он покупал не в нашем сельмаге (в нашем «Столичных» не было), а может быть, в дедовщинском, там есть, я только что видел. Но для выяснения личности незнакомца этого было маловато. Что ж он тут все-таки делал? Почему прятался? Неужели хотел ограбить учительницу, а я его спугнул? Не похож он был ни на кого из наших, совсем незнакомый какой-то… — Только смотри все же осторожнее, Ганя, — услышал я возле хаты. — Ой, что вы, Галина Сидоровна, что вы!.. — пискляво застрекотало в ответ. Это был голос Гребенючки. А, чтоб ты лопнула! Еще не хватало, чтоб она меня тут видела! Пригнувшись, я проскользнул на тропинку, к велосипеду. Оседлал Вороного — и аллюром во весь опор! Вот ведь эта Гребенючка! Терпеть не могу, когда к учителям подлизываются, лезут со всякими нежностями: «Галина Сидоровна, дорогая! Галина Сидоровна, золотая! Галина Сидоровна, серебряная! Ах! Ох! Ах!» Противно! Уж лучше двойки получать, чем подлизываться. Я выехал на улицу и увидел в спину Гребенючку, которая шла от ворот Галины Сидоровны в нарядном белом платьице в синий горошек. Она не шла, а выступала на цыпочках, как какая-нибудь дрессированная собачонка в цирке, мелко перебирая ногами. Наверно, думает, что она такая уж хорошая и пригожая, что сил нет. И тут я вспомнил Павлушу, сидевшего на земле с велосипедом, хмурого, мрачного, как осенняя ночь. И лютая злоба к Гребенючке охватила меня. Это она виновата во всем, ведьма курносая! Она! Она! Это из-за нее мы стали врагами! Посреди улицы разлилась огромнейшая лужа. Гребенючка как раз проходила мимо нее и осторожно жалась к тыну, чтобы не забрызгать платье, ступая по краю лужи. Она смотрела под ноги и меня не видела. Эх, разогнался я да и прямо через эту лужу — ш-шуррр! Бры-ыззь! Целые гейзеры жидкой грязи хлынули на Гребенючку, и белое чистенькое платьице ее вмиг превратилось в грязную тряпку, а вся она стала похожа на пугало огородное. — Ой! — только и успела вскрикнуть она, отшатнувшись. А я пришпорил своего Вороного и, не оглядываясь, помчался дальше. В груди у меня булькала и клокотала радость отмщения.
Вот тебе! Вот тебе! Чтоб знала, чтоб не разлучала друзей, не делала из них врагов. Кр-р-апива кусачая! Я резко свернул вправо, на нашу улицу. Еще издалека увидел — Павлуша все еще сидит на земле около своего велосипеда и крутит ключом какие-то гайки. И тут я подумал, что сейчас Гребенючка пойдет домой (куда же еще идти в таком виде!) и ей обязательно нужно будет пройти мимо наших с Павлушей хат. Павлуша ее увидит и… Я нажал на педали и проскочил в свой двор. Павлуша даже головы не поднял. Прислонил я Вороного к воротам и притаился за плетнем. А ну-ка! Сейчас он увидит свою красавицу. Хе-хе! Это даже хорошо. Может, хоть теперь расчухает наконец, на кого променял друга. Секунды ожидания тянулись так долго, что я подумал, уж не вернулась ли она назад к Галине Сидоровне жаловаться на меня и требовать наказания. Дудки! Попробуй докажи! Кто видел? Ничего не знаю. Сама замаралась, как хрюшка, а потом на кого-то сваливает. Я смотрел сквозь плетень на Павлушу. Улицы я не видел и потому не заметил, как Гребенючка подошла. Но вдруг Павлуша так резко вскочил, что велосипед упал на землю. — Ой, Ганя, что такое? Где ж ты это? Кто тебя так? — воскликнул он удивленно. Сердце мое так и заколотилось. Ну, сейчас начнется! Сейчас она на меня всех собак навешает. Только держись! Ну и пусть! Пусть докажет! А кто видел? Ничего не знаю. Сама забрызгалась, как хрюшка, а потом… — Да сама виновата, — весело затараторила Гребенючка. — Грузовик ехал, а я не успела отбежать, растрепа. Вот уж разукрасил, правда? Хи-хи-хи! — Да беги домой быстрей! Вот еще! — крикнул Павлуша с искренним сочувствием и досадой. А я только рот разинул… Ну и ну! Что это она?.. Ишь ты, какая благородная!.. И стало мне как-то не по себе, как будто не она, а я весь в грязище с ног до головы. Гребенючка давно убежала домой, Павлуша вернулся к своему велосипеду, а я все еще сидел на корточках у плетня и не мог двинуться с места. Стал накрапывать дождь. Павлуша потащил велосипед в хату. Пошел со двора и я… Настроение было вконец испорчено. …Дождь лил весь день. А к вечеру поднялся ветер. Он, как из ведра, обдавал окна тяжелыми струями ливня — аж стекла звенели. И дико завывал в трубе. В такую погоду хорошо лежать где-нибудь в укромном местечке и читать какую-нибудь приключенческую книжку. Я стащил у отца «Покушение на бродягу» Жоржа Сименона (он сам мне ее не давал — считал, что она не детская) и, укрывшись с головой и оставив только узенькую щелку, чтобы падал свет, окунулся в захватывающий мир комиссара Мегре, мир загадочных убийств, страшных преступлений и тайн.
Глава XVIII. Стихийное бедствие. Я принимаю решение
Ночью я внезапно проснулся и сразу почувствовал тревогу. В хате горел свет и слышались приглушенные голоса, ощущалась какая-то суета и движение. Так было, когда у отца однажды среди ночи случился приступ аппендицита и его отправили в больницу. Тогда меня тоже никто не будил, я проснулся сам. Вот и теперь. Я мигом вскочил и, запинаясь от волнения, спросил: — Что? Что такое? Среди хаты стояли одетые в плащи отец, мать и дед. У деда в руках было весло. — Спи, сынок, спи! — повернулась ко мне мать. — Что случилось? — Река от дождей поднялась, вышла из берегов. Плотину у мельницы прорвало. Село внизу заливает, — молвил дед. — Да ты спи, спи, — повторила мать. Я вскочил с кровати. Ну да, спи! Там людей заливает, а я — «спи»! — Я с вами! — Да ты что?! Вон Иришка проснется, бояться будет, если никого не окажется. Ложись, спи сейчас же! Это тебе не игрушки! — повысила голос мать. Но я уже одевался. Меня била какая-то нервная дрожь, и я долго не мог попасть ногой в штанину. Зубы отбивали бешеный рок-н-рол. «Спи»! Может, я всю жизнь ждал этой ночи… Вот когда можно совершить что-нибудь геройское! А тут — «спи»! Нет уж! Нет! — Пусть идет. Глядишь, подсобит. Он уже взрослый, — сказал дед. — Правда, пускай! — поддержал отец. Свет мигнул и погас. — Оборвало! А может, и столб повалило, — сказал в темноте отец. Дед чиркнул спичку, зажег керосиновую лампу, стоявшую на выступе лежанки. — Надень вот отцовский ватник и сапоги, — сказала мне мать. — Фонарик свой возьми, — добавил отец. — Лампу не будем гасить. Пусть горит. А то Иришка проснется… Ох, лучше бы ты не ходил! У меня душа была бы на месте. — Мать вздохнула. — Да что ты, мама, с этой Иришкой! Здоровущая девчонка, в школу уже ходит, а ты… — Пошли, пошли, хватит уж вам, — вмешался дед. Мы вышли из хаты в сырую, ветреную темень. Ветер хлестал дождем прямо в лицо. — Главное — лодки, наверно, снесло, потопило, — едва расслышал я голос деда, который шел рядом. Я хотел сказать, что плоскодонку нашу, может, и не снесло, потому что она на пригорке лежит вверх дном, но ветер заткнул мне рот, и я только хавкнул. То тут, то там будто мерцали светляки — то отовсюду с фонарями спешили люди. Еще издали сквозь ливень был слышен какой-то тревожный шум. Чем ближе мы подходили к улице Гагарина, которая вела к берегу, тем явственней и громче становился этот шум. В нем уже можно было различить рокот мотора, стук топоров и отчаянные, душераздирающие женские крики: «Спасите! Караул! Ой, лишенько!» Тяжко ревела скотина, верещали свиньи, выли собаки. Все это раздавалось уже совсем близко, рядом, но, как я ни напрягал зрение, сквозь дождь и темноту ничего не было видно. И вдруг впереди вспыхнули два горящих глаза — фары. И первое, что я увидел в свете фар, — были плетень и вода. Вода набегала волной и разбивалась о плетень, а он шатался и кренился набок. Потом возле плетня возникла фигура по пояс в воде, с телевизором на голове. В свете фар мокрый от дождя экран поблескивал огромным страшным бельмом. Фары были тракторные — в проулке натужно взрёвывал трактор «Беларусь». Его большущие задние колеса буксовали, разбрызгивая грязь. — Давай, давай, ну! — кричал кто-то позади трактора: там светились еще фары машин. Несколько мужчин посреди улицы стучали топорами — наскоро сбивали из бревен плот. Наши сразу бросились помогать: дед — строить плот, отец — к трактору, а мать прямо в воду, к ближайшей хате — выносить добро. — Побудь пока тут! — крикнула она мне на ходу. И я не успел опомниться, как остался один. В темноте то и дело, будто водяные, появлялись из воды люди, таща на себе разный домашний скарб. Вон провели корову, которая уже не мычала, а только стонала. Вон старушка, спотыкаясь, тянет за собой по воде, как лодку, оцинкованное корыто с узлами и подушками. И, плача, все время причитает: — Ой, что делается! Ой, господи! Ой, за что ж такая кара! Ой, пропало все, пропало! Ой, боже ты мой, боже! — Хуже всего внизу, на берегу, — сказал кто-то в темноте. — Гребенюк, Мазниченко, Пашко затопило совсем. А старую Деркачку — так по самую крышу. И добраться не на чем, лодки потопило. Еще и трактор вон застрял — бревна для плотов не подвезешь… — Что ж это такое в природе творится, ей-богу? Одни стихийные бедствия по всему миру: ураганы, землетрясения, наводнения, смерчи. То в Америке, то в Японии, то в Голландии… Да и у нас… То в Закарпатье, то на Кубани… А теперь вот здесь… Раздался скрип колес, храп коней — люди подъезжали на телегах. — Кладите сюда! Давайте! Телевизор вот тут поставьте, на сено! Я кинулся помогать грузить на телеги вещи потерпевших. Из темноты послышался голос Ивана Ивановича Шапки, председателя колхоза: — Везите в школу! Занимайте классы! И клуб занимайте и правление! Там все отперто! А трактор все рычал и рычал, аж взвизгивал. Но ни с места. Там командовал мой отец: — Переключай на первую! Влево подай, влево! Давай назад! Теперь вперед! То было проклятущее место. Там всегда грязь даже в самую сухую погоду. И вечно застревали машины. А теперь от дождя оно совсем раскисло и прямо засасывало, как трясина. Внезапно издалека, с берега, донесся душераздирающий женский крик: — Спасите! Спасите! Ой! Люди беспорядочно засуетились. Кто-то из мужчин кинулся прямо в воду. Ему закричали: — Куда ты? Чем ты поможешь? Сейчас плот кончим. Но он уже исчез в темноте. Тогда все накинулись на тракториста: — Что ж ты засел?! Там люди гибнут, а ты!.. На тракторе не можешь проехать, герой! Кричали так в досаде от собственного бессилия. Тракторист хрипло отругивался: — Что — на тракторе! Что — на тракторе! Тут на танке не проедешь, не то что на тракторе! Умники! «На танке…» И тут я вспомнил военный лагерь, артиллерийский двор, удивительные машины со скошенными, как у лодок, носами… «Бронетранспортеры-амфибии, да… Для преодоления водных рубежей… для десантов, да…» Я уже где-то читал, как они помогали людям во время стихийных бедствий… И внезапная мысль пронзила меня. — Иван Иванович! Иван Иванович! — закричал я в темноту. Но председатель не откликался. Тогда я бросился к отцу: — Тато! Тато! Он, забрызганный грязью с ног до головы, толкал трактор. Из-под буксующего колеса прямо на него летела грязь. — Отойди! Отойди! — кряхтя от натуги, с раздражением прохрипел он. Эх! Да что там спрашивать!.. Нельзя терять ни минуты. И, не раздумывая больше, я бросился домой. Запыхавшись, влетел в сени, схватил велосипед, прижал динамку к шине, чтоб светила фара, и вскочил в седло. Ехать было ой как тяжело! Колеса вязли в грязи, буксовали на глине. Приходилось то и дело, слезать и толкать велосипед рядом с собой. Хорошо, что это не трактор. Когда выбрался из села на укатанную полевую дорогу, колесам стало немного легче. Колесам, но не мне. Тут бушевал сильный ветер, который сбивал, прямо валил на землю. Дважды я не мог удержать равновесие, припадал на ногу и некоторое время прыгал на ней, не имея возможности выровняться. А раз просто упал в болото. Но торопился из последних сил. И с тревогой вглядывался вперед, в темную громаду леса, который все же приближался. Я искал глазами вышку с флагом и не мог найти. И думал со страхом: «А что как учения еще не кончились и в лагере никого нет? Что делать? А даже если и есть кто-нибудь, послушают ли меня, поверят ли они какому-то пацану?» Нужно было бы, наверно, разыскать председателя или хоть кого-нибудь из старших вызвать. Так нет же! Вылетел пулей и помчался. Как бешеный! И я уже жалел об этом и ругал себя. Но возвращаться в село было нельзя. Люди гибнут. Каждая минута дорога. А вот и посадка сосняка. Я въехал на «глеканку». Ветер сразу отпустил меня… Он пошел верхом, с диким свистом расчесывая взъерошенные шевелюры стройных сосенок. Но теперь мне все время приходилось быть настороже, чтобы не наскочить на пеньки. Ведь если наскочишь, «восьмерка» обеспечена — тогда все. И, впившись глазами в «глеканку», я так и не заметил, есть ли флаг на вышке или нет. Где-то тут уже и дот на взгорье, за дубами, невидимый в потемках: я выехал на «генеральскую» дорогу. И, как о чем-то далеком и не имеющем ко мне отношения, подумал о тех инструкциях, что лежат там в расщелине над амбразурой. Все мои мысли вытеснял этот пронзительный крик: «Спасите!», который то и дело звучал в моей памяти. И я еще крепче нажимал на педали. Кто был ночью в лесу в непогоду, когда гудит, по-волчьи завывая в кронах, ветер, когда стонут человечьими голосами деревья, когда где-то что-то грохочет, свистит, трещит, ломается, падает, ревет, бушует и свирепствует, тот знает, как это страшно. Но клянусь вам, я не чувствовал тогда страха. Я даже подумал: «Почему мне не страшно?» Но тут же забыл об этом. Я весь был какой-то нацеленный вперед и только вперед. Я думал только о том, чтобы ехать быстрее, быстрее, быстрее… Вся моя энергия уходила в ноги, которые крутили педали и уже страшно болели от напряжения; я видел только дорогу, эти бесконечные корни, ямки, бугорки — чтобы не наскочить, не наткнуться, объехать…Глава XIX. Полковник Соболь. Снова старший лейтенант Пайчадзе
Когда я выскочил наконец на поляну к шлагбауму, освещенному фонарем, то как-то не сразу сообразил, что уже приехал. Часовой крикнул: — Стой! Кто идет! Я подъехал вплотную к шлагбауму. — Мне начальника… Главного… Пожалуйста… Очень нужно. Немедленно… — Я не знал, говорить ему, в чем дело, или нет: он ведь сам не решает. Ну, а если не захочет позвать офицера?.. — Что случилось? Только вернулись с учений. Может, утром? — У нас село заливает, — выдохнул я.
— Погоди. Сейчас. — Часовой кинулся к будке, схватил телефонную трубку: — Товарищ капитан! Докладывает пост номер один. Тут мальчик приехал. Говорит, у них село заливает… Есть! — Он обернулся ко мне: — Давай вон к той палатке! Я нырнул под шлагбаум и поехал. А из палатки навстречу мне уже выходил высокий офицер с красной повязкой на рукаве. — Что такое? Заикаясь, я рассказал ему про нашу беду — про хаты, затопленные по самые крыши, про лодки, снесенные водой, и порванные провода и даже про трактор, который буксует и не может подтащить бревна для плотов… — Ясно, — сказал капитан. — Идем. Придется будить полковника. Хоть и жалко — час всего, как лег, только что из похода возвратились. Да ничего не поделаешь — тут такое дело… Мы прошли несколько палаток и возле одной остановились… Капитан пригнулся и нырнул в нее. Вмиг палатка осветилась изнутри желтым светом, и на брезенте заколыхалась длинная тень. — Товарищ полковник! — послышался голос капитана. — Извините, что тревожу, но дело серьезное. В соседнем селе наводнение. Затопило хаты, нужна помощь. Кто-то (должно быть, полковник) прокашлялся и проговорил густым неторопливым басом: — Значит, так… Поднимать пока что офицеров — начштаба, начартиллерии, транспортников, командиров мотострелковых батальонов… Других не нужно. Пусть отсыпаются. У меня так и перехватило дыхание. Показалось, будто это тот самый голос, который говорил со мной по телефону. — Кто сообщил про наводнение? — Мальчик, товарищ полковник. На велосипеде примчался… — Пусть войдет. Из палатки вышел высокий капитан: — Зайди, с тобой товарищ полковник хочет поговорить. Я вошел в палатку. На узкой железной кровати сидел, натягивая сапоги, плотный лысоватый мужчина. Он был уже в галифе, но еще без кителя — в одной майке. И мне сразу бросилось в глаза какое-то странное несоответствие: виски седые, лицо уже не молодое, в глубоких морщинах и такое загорелое, ну прямо до черноты, а тело наоборот — белое, чистое, молодое, с выпуклыми, как у борца, литыми мускулами, и шея тоже борцовская — широкая и мощная. И было такое впечатление, что эта голова не от того тела. — Здрассте, — поздоровался я. — Здравствуй. Садись. Ну, докладывай, что там у вас. Я сел на лавку возле стола и стал рассказывать. Пока я говорил, он надел китель, висевший на стуле у кровати, — с полковничьими погонами и несколькими рядами орденских колодок на груди. Еще я не кончил свой рассказ, как начали заходить офицеры. Тихо здоровались. Он, не перебивая меня, молча показывал им на длинные лавки, стоявшие вокруг стола. Все садились. Вошел старший лейтенант Пайчадзе. Удивленно вскинул брови — узнал меня. Чуть заметно усмехнулся, но тут же все понял — нахмурился. Наконец я смолк. Полковник поднял глаза на офицеров, обвел их взглядом: — Все? — Так точно, товарищ полковник, — ответил высокий капитан. Полковник подошел к столу, вынул из планшета карту, расстелил: — Товарищи офицеры! Итак, вы слышали — в селе Васюковка наводнение. Речка вышла из берегов, прорвала плотину, затопила хаты. Гибнет скот, имущество. Нужно эвакуировать население, спасти скот, имущество. Предполагаемый район действий… Затопило, видимо, ту часть села, которая в низине у речки… Вот эту улицу, эти хаты… Подходы здесь, здесь и здесь… Полковник и офицеры склонились над картой. «Чего они так тянут? — с досадой подумал я. — Вместо того чтобы сразу всех поднять по тревоге, броситься по машинам и в село, совещания какие-то проводят… А там уже люди, может быть, гибнут…» Только потом мне стало ясно, что на все это ушли считанные минуты. Просто тут дисциплина, организованность, при которых не бывает беспорядка и суеты. Делать быстро — не значит пороть горячку. Но все это я понял только позднее, а тогда досадовал, что они, как мне казалось, очень уж долго поворачиваются. — Значит, так, — говорил полковник. — В операции примут участие бронетранспортеры, два мотострелковых батальона, первый и третий, три малых арттягача. Действовать будем в соответствии с обстановкой. Сигнала тревоги по лагерю не давать. Людей поднимать тихо, без шума. Других не будить. Готовность… — он взглянул на часы, и в это время на столике возле кровати зазвонил телефон. Полковник снял трубку: — Полковник Соболь слушает. Да… да… здравствуйте… Здравствуйте, товарищ Шевченко… Да… Уже известно… Через пять минут выступаем… Откуда? Откуда известно?.. Да тут нам сообщили… — Он взглянул на меня, усмехнулся, прикрыл трубку рукой, спросил тихо: — Как тебя зовут? Секретарь райкома звонит… — Ява… — растерялся я и добавил: — Рень. — Один товарищ… Ява Рень. Знаете?.. Да… да… Хорошо, передам. Значит, через пять минут выступаем, товарищ Шевченко. Не волнуйтесь, все сделаем, что в наших силах. До свиданья. — Полковник положил трубку и снова взглянул на часы. — Готовность… четыре минуты! Без четырнадцати два. Выполняйте! Миг — и палатка опустела. — А тебе секретарь райкома просил передать благодарность. За инициативу и оперативность. Он, оказывается, тебя знает. Я покраснел и опустил глаза: — Это он мать мою знает, а не меня. Она депутат. Полковник накинул на плечи длинный, почти до пят, зеленый плащ с капюшоном без рукавов, и мы вышли. Из палаток выскакивали солдаты, на ходу поправляли гимнастерки ибежали к артиллерийскому парку. Не слышно было ни криков, ни разговоров. Только стук сапог по дорожкам лагеря. В парке заводили машины. Пока мы подошли, они уже друг за другом выехали на дорогу. Обгоняя бронетранспортеры и тягачи, вперед вырвался «газик» с брезентовым верхом, похожий на наш колхозный, на котором ездит председатель и который все называют «бобик». Но этот «бобик» был совсем новенький, не забрызганный грязью, с белыми кругами на колесах. «Бобик» подскочил к нам и резко затормозил. Сзади сидело трое офицеров. Свободным было только место впереди, рядом с шофером. Полковник на какой-то миг задумался: — М-да, с велосипедом мы сюда не влезем… — Товарищ полковник, я его возьму в свою машину. Да мы с ним старые друзья, — послышался сзади голос старшего лейтенанта Пайчадзе. — Хорошо. И я не успел опомниться, как Пайчадзе схватил мой велосипед и побежал с ним вперед, крикнув мне на ходу: — Давай за мной! Я кинулся следом. Пайчадзе подбежал к амфибии, передал кому-то вверх велосипед и тут же сам взлетел туда и исчез за бортом. А я подбежал и только беспорядочно суетился, не зная, как вскарабкаться. Я всюду натыкался на мокрую, скользкую броню. Меня охватило отчаяние — мотор шумел, машина содрогалась, вот-вот тронется. А я все карабкался и сползал, как жаба в стеклянной банке. В отчаянии я уже хотел крикнуть, но услышал сверху: — Давай руку, да! — голос старшего лейтенанта. Меня, как пушинку, оторвало от земли и втянуло в машину. И тут же она тронулась. Мое настроение из отчаянно-безнадежного вмиг превратилось в радостно-приподнятое. Впервые в жизни я ехал на такой машине! На военном бронетранспортере-амфибии, который предназначен для высадки десантов и преодоления водных рубежей. Ну разве ездил кто-нибудь из ребят на такой машине? Да никогда в жизни! Они лопнут от зависти, когда узнают! Эх, машина! Вот это машинка! Она ведь, наверно, еще и секретная… Наверняка секретная! А как же! Разве есть еще где-нибудь в мире такие машины! Меня распирало от гордости, радостно щекотало в груди. Только бы увидел кто-нибудь из ребят! Только бы увидел! А то ведь не поверят… И вдруг я вспомнил, куда и зачем я еду… «Эх ты! — с презрением сказал я самому себе. — Там такое творится! Такое несчастье! Людей заливает, а ты… Только бы кто-нибудь увидел!.. Свинья!» Но радостное щекотание в груди не проходило. Я стоял возле самого водителя, смотрел на освещенные перед ним приборы, на разные циферблаты и стрелочки, смотрел через стекло вперед на дорогу, где в свете мощных фар новенький «бобик» легко подскакивал на выбоинах, и мне казалось, что я иду в настоящий бой. Сердце мое сладко замирало. «Эх ты! — снова сказал я себе. — Там такое творится… такое… а ты… Свинья! Барахольщик паршивый, эгоист!..» Мы уже миновали дот и въехали на «глеканку». Машины шли полным ходом. Я даже не успел доругать себя как следует — уже позади «глеканка», и вот уж полевая дорога, а вон и Васюковка. И снова мне показалось, что иду я в настоящий бой, врываюсь в захваченное врагом родное село. И такой охватил меня боевой задор, что от нетерпения я даже подскакивать начал. Машины с ходу влетели в село и, не останавливаясь, повернули прямо на улицу Гагарина. В свете фар я еще издали заметил людей, которые возились у плота, и трактор, буксовавший в проулке, и телеги, на которые потерпевшие грузили свой мокрый скарб. Все было таким, каким оставалось в момент моего отъезда. И я невольно удивился: неужели так мало времени прошло? А мне казалось — целая вечность. «Бобик» полковника подъехал к людям и остановился. Остановились и мы. Полковник и офицеры вылезли из машины. Наш старший лейтенант тоже соскочил на землю и подбежал к ним. И тут же появились и председатель колхоза Иван Иванович Шапка, и секретарь сельсовета Халабуда, и директор школы Николай Павлович, и зоотехник Иван Свиридович — короче, все наше сельское начальство. Они окружили военных и все разом возбужденно заговорили, размахивая руками. Слов не было слышно, потому что в машинах ревели невыключенные моторы. А я весь напрягся, съежился и замер. Я думал об одном: только бы меня не высадили сейчас из машины, только бы позволили остаться. «Ну пожалуйста, ну что вам стоит? Ну забудьте про меня, забудьте, ну пожалуйста!..» — причитал я про себя. И боялся поднять глаза, чтоб не встретиться взглядом со старшим лейтенантом, или с водителем, или с солдатами из нашей машины. Вцепившись в мокрый холодный поручень, я напряженно смотрел вперед, на полковника, окруженного людьми. И ждал, чувствуя почему-то, что главное зависит от него. Он уже что-то убежденно говорил офицерам, показывая рукой то в одну, то в другую сторону. «Наверное, ставит задачи», — подумал я. И вот люди расступились — офицеры кинулись к машинам. Пайчадзе вскочил на нашу амфибию и приказал водителю: — В конец улицы… Да, к крайней хате! Я вскинул глаза на Пайчадзе и похолодел. Он смотрел прямо на меня. Я опустил глаза. Ну, сейчас скажет: «Слезай!» — и все. Просить, уговаривать в такой момент невозможно. Не до того. Но вместо «слезай» Пайчадзе сказал: «Давай!..» — и не мне, а водителю. Тот крутанул руль и, объезжая «бобик», повел машину прямо к воде. — Только сиди и не рыпайся! — услышал я над собой голос Пайчадзе. Я облегченно вздохнул и с благодарностью взглянул на него. Но старший лейтенант на меня уже не смотрел. Он смотрел вперед. Шофер включил верхнюю фару-прожектор, и она прорезала темень далеко впереди. Сколько хватало глаз — всюду была вода, бурлящая, темная. Уже волны с плеском бились о борта машины. Она все глубже погружалась в воду. Водитель перевел какой-то рычаг, и позади амфибии закипела, забушевала вода. Я сразу почувствовал, что мы уже не едем, а плывем: нас шатало и покачивало — под колесами не было грунта. Заборы и плетни с обеих сторон скрылись уже под водой, и трудно было поверить, что мы плывем по улице.
Глава XX. Подвиг старшего лейтенанта Пайчадзе. Неожиданное появление Павлуши
Странно было видеть хаты, по окна затопленные водой. Они походили на какую-то необычную флотилию белых кораблей, которая плыла не среди камыша и тростника, а между огромных диковинных кустов, сплошь усеянных желтыми, белыми, красными плодами (так странно выглядели кроны деревьев полузатопленных садов). Урожай фруктов в этом году выдался богатый, и в садах теперь был самый настоящий компот — вода тяжело колыхалась, перемешивая сбитые плоды. Всюду на хатах, на сараях, на хлевах, на ригах теснились люди. Все скаты крыш были заставлены разным домашним добром. Очень чудно выглядели там чья-нибудь швейная машина, велосипед или зеркало. А вода несла какие-то обломки, поломанные доски, всякий хлам — тряпки, корзины, ведра… Завидев нас, люди начали махать с крыш руками, подзывая к себе. Но старший лейтенант Пайчадзе закричал: — Не волнуйтесь, сейчас вас снимут! Сейчас вас снимут, да! Не волнуйтесь! Конечно, мы не могли остановиться здесь. Мы направлялись к крайней хате, туда, где самая большая вода, где всего труднее. Но вдруг хаты за две до крайней мы услышали душераздирающий женский крик: — Ой! Спасите! Ой, быстрее! Малец в хате на печи! Ой, потонет! Ой, спасите! Это была хата Пашко, где жил тот самый гундосый третьеклассник Петя, который раздвигал занавес во время представления «Ревизора», когда с таким треском провалились когда-то я — Бобчинский и Павлуша — Добчинский. Петина мать была не обычная мама, а мать-героиня. У нее было одиннадцать детей. Четверо уже взрослых, а остальные — мелюзга. И вот эта мелюзга сидела теперь на крыше вокруг матери, как птенчики в гнезде.
Уже потом Пащиха рассказывала, что ее мужа и старших детей в ту ночь как раз не было дома — поехали в Киев устраивать в техникум среднего сына. И бедной матери пришлось одной спасать детей от наводнения. И, закрутившись, не успела она вынести пятилетнего Алешку, который с перепугу забился на печь. А вода уж и окна залила. — Ой, спасите! Ой, пропадет малец! Ой, люди добрые! Старший лейтенант Пайчадзе не колебался ни секунды. — Поворачивай тачку к ее хате, да! — приказал он водителю. И через несколько мгновений мы были уже возле Пашков. — Ой, ломайте хату! Ой, что хотите делайте, спасите мне только сына! Ой, люди добрые! — голосила, надрываясь, Пащиха. Пайчадзе сбросил сапоги и одним махом вскочил на борт машины. — Прожектор в окно! — скомандовал он — и бултых в воду. В тот же миг яркий свет выхватил из темноты стену Пашковой хаты, где едва выглядывало над водой верхнее стекло окна. Возле него появилась голова Пайчадзе. Нырнула в воду и тут же появилась обратно. Видно было, что он вышибает ногами окно. Но вот над водой мелькнули босые ноги — старший лейтенант снова нырнул. Есть такое выражение «время остановилось». Я раньше не очень его понимал. Но, оказывается, и правда бывают минуты, когда не ощущаешь, сколько прошло времени — секунда или час. Как будто выключаются у тебя где-то внутри часы и перестают тикать. И сам ты будто уже не дышишь, и сердце твое не бьется. И так страшно. И пусто. И ничего в тебе нет, кроме жуткого ожидания. Но вот… снова затикало! Из воды у окна вынырнули две головы — Пайчадзе и Алешкина, живая, перхающая. Это была такая радость, что я закричал. И мать закричала, и вся ее малышня, и солдаты на «тачке». Их руки мигом подхватили Алешку из воды и передали на крышу — матери. И Пайчадзе подхватили солдатские руки и втянули на бронетранспортер. Все это случилось так быстро и так просто, что не о чем вроде бы и рассказывать. Прижимая к себе мокрого Алешку, целуя его, мать не успела даже поблагодарить старшего лейтенанта. Мы уже отплывали. Пайчадзе только крикнул: — Вас сейчас снимут! И правда, уже подплывала другая машина. До меня сразу дошел железный закон армии: приказ есть приказ. Выполнить его — первая обязанность солдата. Вот Пайчадзе только что совершил подвиг: рискуя жизнью, спас ребенка, вон у него даже кровь на руках и на лице — порезался, видно, стеклами в окне; но он сейчас не думает об этом — он спешит выполнить приказ, спешит к крайней хате. И он как будто даже чувствует себя виноватым, что из-за сложившейся обстановки вынужден был задерживаться для подвига, и всячески старается наверстать потерянное время. Я с восхищением смотрел на Пайчадзе, который по-мальчишески прыгал на одной ноге, вытрясая воду из уха. И только теперь я рассмотрел его как следует. Он был совсем молодой, хоть и с усиками. И уши у него оттопырены, как у Павлуши. И вообще, как ни странно, он чем-то напоминал мне Павлушу. И я подумал: «А где сейчас Павлуша? Что он делает?» И внезапно вздрогнул — я увидел его. Слушайте, это было просто невероятно! Но я уже давно заметил: стоит, например, встретить на улице кого-нибудь похожего на вашего друга или знакомого и подумать о нем, как обязательно встретишь и его самого. Со мной уже много раз так бывало… И я не знаю, почему, но это — закон. И когда я увидел Павлушу, я вздрогнул от неожиданности, но почти не удивился. Так как где-то в глубине души уже предчувствовал, что увижу его. В первое мгновение я увидел только лодку, которая плыла навстречу нам от густых прибрежных ив. И только потом разглядел фигурку человека. Он стоя греб в лодке. И я сразу узнал Павлушу. Я узнал бы его даже без прожектора, в темноте, по силуэту… На дне лодки лежала хорошо знакомая мне красная надувная резиновая лодочка, которую подарил Павлуше в прошлом году киевский дядя. Хорошенькая одноместная, которая не тонула, как бы ее ни опрокидывали. Она вызывала зависть у всех наших ребят. Ясно — Павлуша добрался на своей надувной до ив, где привязывались лодки всего села, нашел там лодку, которую чудом не снесло и не потопило, и теперь плывет спасать людей. Вот молодец! Ну и молодчина! Удалой все-таки парень! Что бы он там про меня ни думал, что бы ни говорил, но объективно… Молодец! Молодец, ничего не скажешь! А я?.. Эх, я… Катаюсь себе на амфибии, где никакой опасности, ее даже атомная бомба не потопит. Тоже мне геройство!.. Мы как раз подплывали к крайней хате. Вернее, к двум постройкам, стоявшим в одном дворе. Это была усадьба бабки Мокрины. Одна постройка была старой, покосившейся хатой под соломенной крышей, другая — новым недостроенным кирпичным домом, у которого не было еще крыши, только белели одни свежеотесанные стропила. На старой хате верхом на стрехе, обхватив руками трубу, сидела бабка Мокрина. А с чердака недостроенного дома смотрели, держась за стропила, две ее дородные немолодые уже, но незамужние дочки. Между ними как ни в чем не бывало стояла пятнистая рыжая корова. Раздвигая кроны знаменитых бабкиных яблонь, мы заплыли во двор и, развернувшись, стали так, что носом уперлись в стену хаты, а кормой пришвартовались к каменному дому. — Коровушку, коровушку сначала! Коровушку, люди добрые! — закричала бабка Мокрина. Водитель навел прожектор на каменный дом, и все мы подались к корме — и Пайчадзе, и солдаты, и я. От чердака до машины было метра полтора, не больше, но корова — не кошка, прыгать не умеет, и за шкирку ее не возьмешь, чтобы ссадить вниз. — А как вы ее туда затащили? — спросил Пайчадзе бабкиных дочек. — Да по сходням же, по сходням, — пробасила одна. — Куда-то их смыло, — пробасила другая. Сходни — это такие доски с прибитыми к ним поперечными планками, по которым, как по лестнице, поднимаются на стройках рабочие, когда еще лестниц нет. — Придется на веревках, товарищ старший лейтенант, — проговорил один из солдат, и только теперь я с удивлением узнал моего знакомого Митю Иванова. Фу ты! Вот ведь! Сколько ехали вместе, а я и не заметил, что это он. Правда, было темно, да и молчали они всю дорогу, не до разговорчиков… А вон и друг его, здоровяк Пидгайко. Ну как нарочно! — Да, придется на веревках! Да! — согласился Пайчадзе. — Айда! Один за другим солдаты начали карабкаться на чердак. Я сунулся было за ними, но Пайчадзе схватил меня за руку: — Сиди, сиди! Мы уж как-нибудь сами, да! Будешь мешать только… Кровь кинулась мне в лицо. Мальцом меня считает, оберегает, чтоб чего-нибудь, не дай бог, не случилось. И Павлуша ведь, должно быть, слышал. Вон темнеет его лодка у стены хаты — подплыл, смотрит: никогда же не видел амфибий так близко и в деле. Замычала встревоженно корова — солдаты уже обвязывали ее веревками. — Осторожненько! Осторожненько! — завопила на стрехе бабка Мокрина. — Да не гавкайте, мама! — раздраженно крикнула какая-то из дочек. — Без вас обойдется! Сидите себе тишком! — добавила другая. — Покою от вас нет! — Вот видите, люди добрые, какие у меня дети! — заохала бабка Мокрина. — Родную мать в грош не ставят! И внезапно голос ее набрал силу, в нем зазвучал металл: — Вот господь бог и наслал кару на землю за то, что дети ко мне плохо относятся!.. Потоп! Потоп! Разверзлись хляби небесные. Потоп! Вот видите, видите! «Что-то бабка явно перехватила, — подумал я. — Если бы даже и существовал бог на свете, не стал бы он из-за одной бабки и ее семейных передряг расходовать столько пороху и энергии. Уж очень неэкономно. Обошелся бы чем-нибудь более скромным. А то чего ж это столько людей должны страдать из-за одной бабки». — Да цыцте вы, мама, чтоб вам пусто было!.. И так весело, а тут еще вы тявкаете! — снова закричали дочки. Бабка Мокрина замолкла, всхлипывая и постанывая. И мне стало жаль ее. Свиньи все-таки у нее дети. Чтоб вот так разговаривать с матерью, какая бы она ни была! Да разве можно? Если бы я своей такое сказал, я б, наверно, язык себе отрезал! Может, эта бабка потому и в бога верит, что у нее такие дети… — И пожалеть и защитить некому… — продолжала стонать бабка Мокрина и вдруг вскрикнула: — Ой лишенько! Ой, забыла! Забыла! За иконой… О господи! И она тихонько завыла, шмыгая носом, как маленький ребенок. Никто на ее вопль не обратил внимания. На чердаке было шумно — кряхтение, топот, возня. То и дело слышались крики: «Сюда!», «Давай», «Тяни!», «Держи!», «Пускай!» Обвязанную веревками корову никак не могли выпихнуть с чердака… — Пропало!.. Пропало!.. О господи! — в отчаянии повторяла бабка Мокрина.
Глава XXI. Я ныряю в затопленную хату… Ловушка. Один на один с богом. В безвыходном положении
На это я решился внезапно. Но одним махом, как старший лейтенант Пайчадзе, вскочить на борт машины не смог — мне было высоковато. Подпрыгнув, я повис на животе, перегибаясь через борт, потом перекинул ногу, на миг повис на руках уже на той стороне и неслышно соскользнул в воду. Несколько движений — и я уже возле окна. Икона должна быть вот тут вот, в уголке, сразу за окном вправо. Нащупаю. Только бы стекло высадить так, чтоб не порезаться. Хата была затоплена почти по самую стреху, и окна, собственно говоря, я не видел, только верх резного наличника выступал над водой. Подплыв, схватился за этот наличник и сунул руку в воду, ощупывая. Рука свободно прошла в окно: стекла уже были выбиты. Все в порядке. Я повернул голову в сторону лодки. Эх, жаль, что Павлуша, кажется, не видит. Ну ничего, он увидит, когда я вынырну и буду передавать бабке Мокрине то, из-за чего она плачет. Увидит! Я слегка подался вверх, хватил полной грудью воздуха и нырнул. Проплывая в окно, я зацепился за что-то ногой и уже думал, что застрял. Что есть сил дернул ногу — отпустило. Гребнул руками и вынырнул уже в хате. Раскрыл глаза и сразу увидел в углу икону. Да, так сразу и увидел, потому что перед ней горела лампадка… Мне сперва даже не показалось это странным. Я сделал два-три движения и остановился возле иконы. Сунул за нее руку и нащупал какой-то продолговатый небольшой сверточек. Выхватил — и назад к окну. Нырнул, но тут же ударился обо что-то головой, руки наткнулись на какую-то преграду. Я стал торопливо нащупывать руками проход. В окне что-то застряло. Мне не хватило воздуху, и я вынырнул. Снова нырнул и снова не мог пробиться. Вынырнув, попробовал нащупать и оттолкнуть ногой то, что мешало. Я колотил что есть силы, но напрасно. Окно завалило чем-то большим и тяжеленным. То ли я это сдвинул ногой, когда зацепился, то ли водой прибило, неизвестно. Я рванулся в приоткрытые двери сеней к наружным — они оказались запертыми. Мало того: я нащупал, что они были еще и подперты изнутри какими-то колодами, — должно быть, бабка Мокрина думала спастись так от воды… Я поплыл назад в хату. Другое окно было загорожено шкафом: то ли вода его сюда подвинула, то ли опять-таки сама бабка — неизвестно. Больше окон не было. Хата у бабки Мокрины старая, в два окна, тесная и неудобная. Потому-то дочки и построили каменный дом — для себя. Мокрая одежда тянула книзу, трудно было держаться на воде, видно, давала себя знать еще и усталость от велосипедной гонки. Я вцепился в электрический провод, на котором в центре хаты висела лампочка. Дышать было трудно. И вдруг я осознал весь ужас своего положения. Я висел на электропроводе почти под самым потолком в затопленной хате, а вода все прибывала. В трепетном свете лампадки я видел, как плещется она о стены. Вот уже вода, задевая, качает лампадку. И только теперь я заметил, как непостижимо странно выглядит эта лампадка перед иконой в углу. Как не потухла в буйстве стихии эта маленькая капелька света? Просто удивительно!.. А может… Может, и вправду, чудо? Может… Тут я впервые пригляделся к иконе и увидел… бога. Он взирал на меня из угла большими круглыми черными глазами — спокойно и строго. Казалось, он стоит в воде по грудь и вода шевелится, плещется возле него оттого, что он дышит. Это было так страшно, что я почувствовал, как у меня волосы встают дыбом.
Вспомнился поп Гога, его таинственные слова: «Темна вода во облацех…», которые я никак не мог понять, хоть явно чувствовал в них осуждение и укор. Пришла на ум и бабка Мокрина с ее проклятиями… Темна вода… Вода… Вот она — вода… «Неужели все-таки есть на свете бог и это он меня карает? — с ужасом подумал я. — И сейчас мне придет конец. Потому что никто ведь не знает, что я нырнул сюда. Они возились там с этой коровой, и никто не видел. Сейчас вода поднимется до потолка, зальет всю хату, я захлебнусь, и все…» Но я не хочу умирать! Не хочу! Я хочу жить! Хочу кататься на велосипеде, играть в футбол, есть мороженое «крем-брюле». Я рванулся к окну и нырнул. И отчаянно, изо всех сил заработал руками, стараясь пробиться через окно. Я возился под водой до тех пор, пока не почувствовал, что еще мгновение — и я захлебнусь. Тогда я вынырнул. Открыв глаза, я успел еще увидеть, как в последний раз мигнул и погас огонь лампадки. Видно, ныряя, я поднял легкие волны, и они сделали свое дело. Сплошная непроницаемая тьма окружила меня. Я барахтался в воде, как слепой котенок. Сил оставалось все меньше и меньше. Я начал глотать воду и захлебываться. Невыразимый страх охватил меня. Неужели конец?! Не хочу! Не хочу! Не хо…о…о!.. Я закричал. И сам услышал, каким сдавленным и бессильным был мой крик. Так кричат сквозь сон, когда спящего душат кошмары. А может, это и вправду только кошмар, может, это все мне снится? И я сейчас проснусь, увижу солнце, которое светит в окно, и услышу…
Глава XXII. «Давай руку!» Я снова с ним. Что было за иконой
— Ява! Ява! Ява! Где ты? Ява! Это был голос… Павлуши. Я не сразу сообразил, что это наяву, что это мне не мерещится. Но тут же я увидел тоненькую полоску света. То светился остаток воздуха над водой в сенных дверях. Ой! Там же в сенях в потолке ход на чердак! Как же я раньше не раскумекал! Из последних сил, глотая воду и захлебываясь, я рванулся туда. Свет фонаря ослепил меня, и я ничего не видел. Только слышал Павлушин голос: — Давай руку! Давай руку! Я с трудом поднял над водой руку и почувствовал, как ее цепко схватила рука друга. И только теперь я смог отдышаться. Я дышал, как паровоз. Как еще может дышать человек, которого только что вытащили из воды? Я хватал воздух целыми кубометрами, жадно, ненасытно, глотал и не мог наглотаться. Павлуша молчал. Он только крепко стиснул мою руку. А я стиснул его. И более крепкого, более горячего рукопожатия еще не бывало в моей жизни. Когда я немного отдышался и глаза привыкли к свету, я огляделся вокруг. Лестницы на чердак не было — видно, снесло водой или бабка куда-то затащила. Да уж, сам бы я тут не выбрался ни за что. Павлуша начал меня понемногу подтягивать вверх. Но я так обессилел, что не мог вскарабкаться и все время сползал в воду. — Ничего, ничего, сейчас… Все будет хорошо! Еще немного! Вот так! О! О! Ох! — успокаивал меня Павлуша, кряхтя от натуги. И ему пришлось здорово поручиться, пока я не оторвался наконец от воды и не перевалился, как куль, на чердак. Некоторое время мы лежали рядом, отдуваясь. Потом я положил руку ему на плечо и сказал, запинаясь: — Спасибо, с-старик!.. Я уже думал, что конец… Вот влопался… — А я вижу, что ты нырнул… Потом гляжу — нет тебя… Мало ли что, думаю… и — на чердак… — Павлуша на минуту примолк. — Знаешь, я как увидел, что ты нырнул, страшно стало… Я как раз про тебя подумал — где ты… А ты тут… Я тебя искал, знаешь… Думал, вот бы вместе за лодкой… А ты здесь… Я засмеялся. Наверно, ему странно было, что я засмеялся. Потому что ничего смешного он не сказал. Но я засмеялся. От радости. Он искал меня! Слышите? Дружок-то мой верный. Как же я мог думать, что мы навсегда поссорились? Как? Да разве могу я поссориться с ним навсегда! Да ведь это ж Павлуша! Павлуша! Нет, ему не стало странно, что я засмеялся. Потому что вдруг он и сам засмеялся. Он все понял. Мы лежали и смеялись. И хотя мокрые штаны и рубашка противно облепили тело и страшно холодили, мне стало так тепло, так хорошо, как, кажется, еще никогда не бывало. Как хорошо жить на свете, если тебя спас от смерти твой самый лучший друг! Эх, Павлуша, Павлуша! Какой же ты молодчина! Все тебе прощаю: и твою измену, и рисование, и твои обидные слова, и то, что Гребенючку защищал, когда я ей комком по юбке влепил, и то, что ты не дальтоник… Прощаю! Это все не твоя вина. Это все она… Ну, не буду! Не буду! Даже в мыслях не буду! Пусть она хоть сбесится, твоя Гребенючка! Хоть целуйся с ней, я в твою сторону даже и не гляну. Отвернусь. Главное для меня — что ты такой мировой парень! И нет у меня в целом мире лучшего друга. Я бы даже поцеловал тебя сейчас, да не умею. Не целуются ребята друг с другом, не принято. Это только взрослые мужчины, когда они друзья, целуются. Понимаешь ли ты все, что я думаю? Да, наверняка понимаешь. Я по смеху твоему чувствую, даже по тому, как ты дышишь. Я ведь тебя так знаю, как никто на свете, как мать родная не знает. Наконец мы перестали смеяться, и Павлуша сказал: — А ты все-таки молодец… Я не знаю, решился бы вот так нырнуть в окно… Это ведь погибнуть — девяносто шансов из ста. Да стоило ли еще? Что она могла там, за иконой, прятать? Ну деньги… Ну облигации трехпроцентные… Да чтоб они сгорели! Из-за них голову класть? Да черт с ними!!! Ух ты! Я ведь совсем забыл про тот продолговатый сверточек. Торопливо хватаюсь за свой карман. Есть! Когда я держался за лампочку, то сунул его в задний карман штанов да еще на пуговицу застегнул, чтоб не выскользнул. Не мог же я его бросить, раз из-за него сюда полез. А в руке он мне мешал. Ой-ой! Если там облигации или деньги, то, может быть, из них уже каша в воде получилась. А ну, посмотрим! Отстегнув пуговицу и оттопырив карман, я осторожно вытащил сверток. — Да ты что — все же достал? — удивленно воскликнул Павлуша. Он-то был уверен, что я не достал, и успокаивал меня: «Черт с ним! Да чтоб они сгорели!» А тут смотри-ка… Мне так приятно было видеть его удивление, что даже кровь в голову ударила. Уж только из-за этого стоило нырять и испытать все эти передряги. Лучшей похвалы, чем Павлушино удивление, для меня и не могло быть. Но показать, что мне приятно, я постеснялся и только махнул рукой: да, мол, что уж тут такого? — А ну, посвети фонариком, — попросил я Павлушу и начал осторожно разворачивать сверток — газету, в которую было что-то завернуто. Мокрая старая газета не столько разворачивалась, сколько отпадала мягкими невесомыми клочьями. Наконец газета то ли развернулась, то ли распалась, и мы увидели свернутые трубкой какие-то листки бумаги, исписанные карандашом. Я склонился пониже и прочитал на сгибе: «…снова в бой. Береги дочурок наших и себя. Целую. Михайло…» Я поднял глаза на Павлушу. Павлуша тоже успел прочитать и покачал головой. Это были письма. Фронтовые солдатские треугольники от мужа бабки Мокрины, который погиб, освобождая Прагу, в День Победы, девятого мая сорок пятого года. Сколько прошло времени, а в селе до сих пор частенько вспоминают про эту необычную, такую нефортунную, как говорит мой дед, гибель Михайлы Деркача. Рассказывали, что это был большой остряк, веселый, добрый человек. И страстный садовник. Он-то и насадил перед войной этот большой сад, так и не отведав его плодов. А теперь некоторые деревья даже посохли от старости… И то, что я чуть не утонул, спасая фронтовые письма дяди Михайлы, что рядом со мной солдаты спасали людей, скотину и добро, наполнило меня таким чувством, будто я тоже принадлежу к армии, будто принимаю участие в настоящей военной операции и сделал сейчас что-то похожее на то, что было на фронте, что-то такое, что достойно бойца. И гордость и радость захлестнули мое сердце. И я уже ни капли не жалел, что нырял за этими письмами. Только подумал: «Береги дочурок наших…», а они вон что: «Не гавкайте, мама». И стало мне еще пуще жаль эту старую, несчастную Мокрину, которая сидела теперь верхом на стрехе и плакала, думая, что письма ее мужа погибли… Наверно, вспоминает его и ругает себя за то, что забыла про них. И стало мне жаль, что она верила в бога, считая, что он такой хороший и справедливый, а он, вишь ты, больше других ее как раз за что-то и покарал — сильнее всех затопил, прямо под самую стреху, а безбожников, атеистов, вроде деда Саливона, например, даже не зацепил… Ну где же тут справедливость? И еще я подумал, что Павлуша оказался сильнее бога. Потому что спас меня, а бог бы не спас. Всегда надейся не на бога, а на друга. Хорошо, что дядя Михайло карандашом писал свои письма. Если бы чернилами, расползлись бы, а так высохнет — и всё. — Идем, сразу ей отдадим, — сказал я. Мы поднялись на ноги. — Я вот тут, через слуховое окно, влез, — рассказывал Павлуша. — Но по мокрой крыше вверх не взберешься. Павлуша навел фонарь, освещая забитые барахлом, затянутые паутиной углы чердака. Вот! За печной трубой стояла лесенка (так вот она где!), а вверху в соломенной крыше зияла дыра, через которую, должно быть, и вылезла бабка Мокрина. — Ты давай лезь, а я посвечу, — сказал Павлуша. — Нет, давай вместе, — ответил я. Мне не хотелось разлучаться с ним даже на минуту. — Ну, давай, — он не стал спорить. — Только лезь первый. Ты же будешь отдавать. И мы полезли. Я первый. Он за мной, освещая дорогу фонариком. Я, наверно, так неожиданно вынырнул перед бабкой Мокриной из этой дырки, что она испуганно отшатнулась и быстро-быстро закрестилась, приговаривая: «Свят! Свят! Свят!» Ей, наверно, показалось, что это какая-то нечистая сила. — Это я, бабуся, не бойтесь, — проговорил я и протянул ей письма. — Возьмите! Она не сразу рассмотрела, что я ей даю, и не сразу взяла. Только пощупав рукой, поняла, что это такое, и, схватив, поднесла к глазам. — О господи! Господи! — промолвила она отчаянно и заплакала. — Ой, сынку! Ой, как же ты? Господи!.. И так жалобно, так горестно она это сказала, что у меня у самого перехватило в горле. И я не мог ничего ответить. Да и не пришлось. Потому что совсем близко позади меня послышался голос: — Сейчас, бабушка, сейчас… Я обернулся. На крышу поднимался по приставленной из машины лестнице Митя Иванов. Корова была уже на амфибии, бабкины дочки тоже. Рассвело. Дождь прекратился. На затопленные хаты и деревья ложился туман. В его белой пелене все выглядело еще необычнее. Я вдруг почувствовал, что замерз, почувствовал, как закоченели ноги в мокрых штанах, как застыли, задубенели руки. От холода даже в груди ломило. Я чувствовал, что если сейчас как-нибудь не согреюсь, то будет плохо. Да там ведь, в машине, мой ватник. Надеть, надеть его быстрее! Но… как же Павлуша? Что, если я полезу в машину за ватником, а она двинется… Уже ведь, кажется, всё забрали, вот только бабку Мокрину снимут и поедут. А Павлуша ведь на лодке, он лодку не бросит. И машина переполнена. Кроме коровы, подсвинка и кур, вон еще сколько узлов, чемоданов, ящиков всяких… Митя Иванов, осторожно поддерживая бабку Мокрину, уже помогал ей спуститься по лестнице в бронетранспортер. — А где пацан, а? Пацан где? — послышался вдруг внизу встревоженный голос старшего лейтенанта Пайчадзе. Я должен был подать голос. — Да тут я! — лязгая зубами, как мог веселее откликнулся я. — Вы езжайте, езжайте! Я на лодке, с Павлушей! Я уж потом сообразил, что этим самым отрезаю себе путь к ватнику, и кто знает, как я теперь смогу согреться. «Да там наверняка ватник и не найдешь за теми узлами», — успокаивал я себя. И чтоб уж не было никаких сомнений и колебаний, сразу сунулся вниз — назад на чердак. Павлуша, который терпеливо стоял на лесенке ниже меня и все слышал, но ничего не видел, кроме моих мокрых штанов, не успел двинуться вниз, и я чуть не сел ему на голову. Но он даже слова мне не сказал и, не подав виду, стал тут же спускаться.Глава XXIII. У хаты Гребенючки. «Ой, нога, нога!» Бесславно домой. Все перепутывается
Через слуховое окно мы перебрались в лодку. — Я п-погребу, а то з-замерз что-то, — пролязгал я зубами и взял весло. — А ну постой, — сказал Павлуша, снимая свою брезентовую штормовку. Она была совсем новенькая, на «молнии», с капюшоном. — Да ну… — начал я. Но он меня перебил: — Надевай сейчас же, а то… — и силой натянул на меня штормовку. — Н-ну л-ладно, я м-малость… а потом отдам. Застегнув «молнию» до самого подбородка, я взялся за весло. Я так налегал на него, как будто хотел сломать. И уже через несколько гребков почувствовал, как тепло понемногу пошло в руки и в ноги. Я греб стоя, приседая и двигаясь всем телом. Мне казалось, что лодка летит, как ракета. Но не успел я еще и из сада выгрести, как нагруженная, будто цыганская повозка, амфибия спокойненько «обштопала» нас и, показав корму, с которой меланхолически смотрела пятнистая коровья морда, исчезла в тумане за кронами деревьев. Мощная все-таки у нас техника в армии. Ишь как прет! Я выгреб на улицу и, уже не торопясь, потому что здорово устал, направил лодку вдоль по улице, мимо садов. Туман клубился над водой. Он густел, становился белее, и с каждой минутой все заметней светало. Внезапно вынырнул из тумана, чуть было не наскочив на нас, еще один бронетранспортер, на борту которого белели большие, почти метровые цифры: 353 (на нашем был номер 351). Триста пятьдесят третий был тоже нагружен разным домашним добром. Там даже стояло пианино, а на нем сидела… Гребенючка. Заметив нас, она встрепенулась и, кажется, хотела что-то крикнуть, но не успела — бронетранспортер уже проплыл. Я взглянул на Павлушу. Он смотрел вслед машине растерянно, и в глазах его было отчаяние и какая-то досада. Такими глазами смотришь вслед поезду, на который ты опоздал. И вдруг я понял. Он же наверняка спешил к ней: хотел спасать, специально лодку раздобыл. Может, мечтал вынести ее на руках из затопленной хаты. Влюбленные во всем мире мечтают об этом. И была ведь такая возможность, была. А из-за меня ничего у него не вышло. Опоздал. Из-за меня. Вот если бы не спасал меня, может, и успел бы. А так — опоздал… И я почувствовал, что должен сейчас что-то сделать. — Слушай, — сказал я, — а давай завернем туда. Там, наверно, еще что-нибудь нужно забрать. Точно. И, не дожидаясь согласия, я повернул лодку туда, откуда только что выплыл триста пятьдесят третий, — к хате Гребенюков. Она была новая и большая — в прошлом году поставили. Не хата, а настоящий дом — просторный, с островерхой крышей, под черепицей, с широкими трехстворчатыми окнами, с узорчатой застекленной верандой. И потому, что он был на высоком фундаменте, залило его только наполовину. Окна были растворены настежь, и внутрь можно было заехать прямо на лодке. Я так и сделал. — Пригнись, — сказал я Павлуше и сам присел, направляя лодку прямо в окно. Было так чудно — заплывать на лодке в хату! Никогда мне еще не приходилось этого делать. Павлуша, который сидел впереди, хоть и пригнулся, зацепил нечаянно головой за люстру, и стеклянные подвески мелодично зазвенели, словно приветствуя наше появление. В хате почти ничего не осталось. Только большой буфет с пустыми полками отсвечивал в воде зеркалами да посреди комнаты плавал вверх ножками сломанный стул. Сам Гребенюк был очень энергичный, да к тому же у него, кроме Ганьки, было двое взрослых сыновей. И, конечно, они смогли сделать все по первому классу: вытащили вещи сперва на чердак, а потом погрузили в машину. И теперь я подумал, что Павлуше, честно говоря, не на что было рассчитывать. Никто бы не дал ему выносить Гребенючку на руках из хаты. Разве что только бы лодкой воспользовались (если б солдат не было). Да и всю основную работу по спасению делали бы отец и братья, а мой Павлуша в крайнем случае подавал бы вещи с чердака в лодку. А то и вообще могли бы отправить его домой на этой вот надувной лодочке, чтоб не вертелся под ногами и не мешал. Вот ведь что… Но я, конечно, ничего этого Павлуше не сказал и не скажу никогда. Пускай тешится мыслью, что он вынес бы ее на руках и она обняла бы его, и поцеловала при всех, и сказала бы какие-то такие слова, какие только в мальчишеских мечтах говорит девчонка мальчишке… Пусть тешится… Бедный Павлуша оглядывался вокруг с таким разочарованным и кислым видом, что мне просто жаль его стало. И так хотелось найти хоть какую-нибудь, пусть самую пустячную Гребенючкину финтифлюшку, чтоб он спас ее! Положив весло на дно и перебирая руками по стенам, я провел лодку в другую комнату. Это была спальня. Из воды торчали никелированные трубки с шишками и шариками — спинки кроватей — и стоял большой, на полстены, пустой шкаф с открытыми дверцами. На шкафу в беспорядке валялись какие-то коробки. — Да ну, поехали, ничего тут нет, — сонным голосом проговорил Павлуша. — Постой, — сказал я и подогнал лодку к шкафу. С краю на шкафу лежали пустые коробки из-под обуви. Спасать их мог только ненормальный. Но у самой стенки я заметил какую-то плоскую квадратную коробочку темно-синего цвета. В таких коробочках в ювелирных магазинах продают всякие драгоценности. Дотянуться до нее с лодки я не смог. Нужно было лезть на шкаф. Я это и сделал, как мне казалось, очень ловко. Облокотился руками о край шкафа, сделал рывок вверх и сел на шкаф. Вот если б в этой коробочке да оказалась какая-нибудь драгоценность!.. Но надежды мои не оправдались. Коробочка была пуста. Когда-то в ней лежали, наверно, серебряные ложечки (об этом говорили специальные перегородки, обтянутые черным бархатом), но это было давным-давно, потому что и бархат уже порыжел и отклеился, и крышка коробочки была оторвана и едва держалась. Должно быть, и ложечки эти уже потеряны. — Тьфу! Чтоб тебе!.. Я прыгнул назад в лодку. И тут… Лодка качнулась, левая нога подвернулась, и я так и вскрикнул от боли. Внизу возле щиколотки что-то хрустнуло. Я не устоял и шлепнулся в воду. Сразу вынырнул и схватился за борт. Павлуша помог мне залезть в лодку: — Тю! Как же это ты? — Да ногу подвернул, — сказал я с досадой и виновато взглянул на него. — Вон и штормовку твою замочил. — А черт с ней. Как нога? Нога возле щиколотки страшно болела, нельзя было дотронуться, не то что наступить. И прямо на глазах стала пухнуть, отекать. Но я сказал: — Да ничего, пройдет. Заживет, как на собаке… И все же Павлуша по моему лицу видел, что с ногой дела плохи. — Поехали, — решительно сказал он и взялся за весло. Когда мы выбрались из хаты, Павлуша поднялся и начал грести стоя. У нас почти все на плоскодонках так гребут. И весло для этого делается специально длинным. Я бы сейчас грести не смог. Боль в ноге не проходила. Она отдавалась прямо в сердце. «Неужели сломал?» — с тревогой думал я. Уже совсем рассвело. Туман редел, и стало видно, какое оживленное движение здесь, на затопленной улице. Между хат, сараев и садов сновали бронетранспортеры, где-то дальше, в глубине села, рычали тягачи и машины, растаскивая завалы. И всюду маячили зеленые солдатские гимнастерки. Чем ближе мы подплывали, тем больше становилось людей. Казалось, все село теперь тут, в затопленном месте. И никто не сидел сложа руки. Все что-то делали: что-то несли, что-то тянули, что-то передавали друг другу. Вон Галина Сидоровна в спортивном костюме промелькнула на чердаке хаты. А там дед Саливон. А вон ребята — Карафолька, Антончик, Коля Кагарлицкий. На борту бронетранспортера едут, и у каждого в руках по две курицы. А лица такие геройские, куда там… А я… Ну надо же так по-дурацки — как раз теперь, когда такое творится, когда все село, и стар и мал, помогает потерпевшим, — сломать ногу! Это было так несуразно, что я чуть не плакал. И как я доберусь домой? Ну, довезет меня Павлуша на лодке до сухого места, а дальше как? На одной ноге прыгать? Не допрыгаю — далеко. А людям разве до меня сейчас! Еще со мной возиться. И тут я вспомнил про своего Вороного, про велосипед свой. Да он же на триста пятьдесят первом остался. Наверно, завезли его и свалили вместе с домашним скарбом бабки Мокрины. Не то чтобы я боялся, что он пропадет. Ничего с ним не сделается. Бабка Мокрина отдаст, конечно. Просто, если бы он был, Павлуша как-нибудь дотащил бы меня на нем до дому. А так… Только я это успел подумать, как увидел, что навстречу нам шпарит триста пятьдесят первый и старший лейтенант Пайчадзе машет мне рукой: — Эй, забери свое добро! Бронетранспортер был уже порожний. «Как быстро они обернулись! Молодцы!» — подумал я. Поравнявшись с нами, бронетранспортер остановился. Пайчадзе, перегнувшись через борт, спустил в лодку велосипед. — Держи свою тачку, да, — он подмигнул мне и усмехнулся. — Спасибо, — сказал я и улыбнулся в ответ. Хоть мне и было совсем не до смеха, потому что, опуская велосипед, он зацепил мне колесом ногу и так она заболела, что я зубами скрипнул, но не хотелось, чтобы солдаты знали про мою ногу. Только теперь я разглядел, какие они усталые, измученные. Глаза у всех красные, губы обветрены и потрескались, на щеках, три дня не бритых, — щетина. Они же ведь только-только легли поспать после трехдневного тяжелого похода, а тут снова. Но держались они бодро, эти совсем еще молодые солдаты. И мне было стыдно сейчас перед ними за свою ногу, за свое бессилие. И я хотел, чтобы они быстрее отъехали, чтоб ничего не заметили. Пайчадзе кинул мне ватник, сапоги и сказал: — Надень, а то синий весь, как пуп… Поехали! Разворачивай тачку и давай вон к той хате! Последние слова были сказаны уже водителю. Все у этого Пайчадзе «тачка»: и велосипед и бронетранспортер. Но почему-то мне это нравилось, что-то было симпатичное. Может, потому, что сам он был какой-то очень свойский, из тех парней, которые в детских играх всегда бывают Щорсами или Чапаевыми. И командовал он солдатами просто, по-товарищески, без начальственного тона. И я подумал, что, если мне когда-нибудь в жизни придется командовать, я буду командовать только так. Триста пятьдесят первый отъехал. Через какую-нибудь минуту лодка чиркнула дном о землю. Про велосипед Павлуша додумался сам, и говорить ему ничего не пришлось. — Садись на багажник, — сказал он, ставя велосипед возле лодки. Держа за руль, он довел велосипед до сухого места, а там уже сел в седло. Павлуша довез меня до дома быстро и без всяких приключений. Никто на нас и внимания не обратил. У нас часто так ездят, особенно мальчишки: один педали крутит, а другой на багажнике сидит, расставив ноги. Дома у нас никого не было. Даже Иришка, видно, проснулась и побежала куда-то. Павлуша помог мне приковылять в хату и переодеться в сухое. Сам я и штанов, наверное, не скинул бы. Нога уже была как колода, и Павлуше пришлось минут пять тянуть левую штанину — осторожненько, по сантиметру, потому что так болело, что я не мог не стонать. Уложив меня в кровать, Павлуша сказал: — Лежи, я за доктором мотану. Больницы в нашем селе не было. Больница была в Дедовщине. А у нас только фельдшер Любовь Антоновна, которую все почтительно звали «доктором». И этот «доктор» был для насбольше, чем вся дедовщинская больница. Такая она была способная в исцелении больных. И в сложных случаях врачи всегда звали ее на консилиум. Была она невысока ростом, но крепенькая, как говорят — сбитая, и очень быстрая, несмотря на свои пятьдесят с гаком. К больным она не ходила, а прямо-таки летала, и тот, кто приходил ее вызывать, всегда отставал. Ну разве ее теперь найдешь, нашего доктора? Там такое творится, столько людей затопило, и уж, наверно, не одному помощь медицинская нужна! До моей ли ноги ей теперь! — Не надо. Не ходи, — сказал я. — Да ты что? — махнул он рукой и побежал. А я лежал, и меня трепала лихорадка. Все мое тело, всю кожу с головы до пят прохватывала мелкая дрожь. Поверх одеяла я укрылся еще дедовым тулупом, но только чувствовал тяжесть, а согреться не мог. Главное, что я не мог шевелиться, потому что при каждом движении острая боль ударяла в ногу. И эта бессильная, беспомощная неподвижность была хуже всего. Все село, от сопливых пацанят до самых старых дедов, было там, чем-то занималось, что-то делало, а я один лежал и считал мух на потолке. И было мне скверно, как никогда. А что будет, когда придут мать, отец и дед! Даже думать не хотелось. Первое, что скажет мать: «Я ж говорила! Я ж говорила!» И ничего ей не скажешь, конечно, она говорила… А дед глянет насмешливо и бросит: «Доигрался! Доскакался!» А отец ничего не скажет, только глянет пренебрежительно: эх, мол, ты, мелочь пузатая!.. А Иришка захихикает, показывая пальцем и припевая: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» Эх, почему я не солдат?! Случилось бы такое, например, со старшим лейтенантом Пайчадзе, или с солдатом Ивановым, или с Пидгайко. Ну что ж, боевые друзья отнесли бы его на руках в медсанбат или в госпиталь, и лежал бы он себе в гордом одиночестве, никаких родичей, никто не укоряет, не наставляет, не читает мораль. Только забежит на минутку кто-нибудь из товарищей, расскажет, как идет служба, боевая и политическая подготовка, угостит папироской, а может, и порцию мороженого подкинет… Красота! А где ж это Павлуша? Что-то долго его нет. А что, как увидел он свою Гребенючку и я уже вылетел у него из головы? Ведь она же несчастная, потерпевшая, ее нужно пожалеть. И он ее жалеет и успокаивает как может. А обо мне уж и думать забыл. И не придет больше, и будем мы с ним снова в ссоре. И так мне стало от этой мысли тоскливо, что в глазах потемнело. И такая меня взяла злость на Гребенючку, что я аж зубами скрипнул. Ну все ведь она, все беды из-за нее! Ну не придираюсь! Ну точно же из-за нее! Ну из-за кого же я еще лежу, страдаю, как не из-за этой паршивой Гребенючки! Из-за кого я ноги лишился, шевельнуться не могу? Из-за нее. Хотел же спасти для нее хоть чертовщину какую-нибудь, чтоб порадовать. Коробочку, вишь, ювелирную с драгоценностями высмотрел! Ох, чтоб горела эта коробочка, и шкаф этот проклятый, и вся хата вместе с Гребенючкой синим огнем!.. И вдруг мне стало жарко, так жарко, будто мои проклятия на меня же самого и обернулись и не та проклятущая коробочка, не шкаф и не вся хата вместе с Гребенючкой, а сам я горю синим огнем. Хочу сбросить дедов тулуп с одеялом и не могу. Что-то на меня наваливается, и давит, и так печет нестерпимо, как огромный раскаленный утюг. И что-то в голове у меня крутится, крутится, крутится… И гудит. И мчатся в ней какие-то цифры во всё нарастающем темпе, какие-то бешено растущие числа, какое-то невероятное множество. И чувствую, что нет мне уже выхода из этого множества. И что вот-вот у меня внутри что-нибудь лопнет и будет конец… Но нет, эта мука не прекращается. И цифры всё кружатся и мчатся в моей голове. И сквозь это кружение я слышу вдруг голос Павлуши, но не могу разобрать, что он говорит. И голос доктора, и чьи-то еще голоса… А потом все смешалось, и дальше уже я ничего не помню…Глава XXIV. Болезнь. Сны и действительность. Чего они все такие хорошие?!
Я прохворал больше двух недель. Уже потом Павлуша мне рассказывал, что, когда он привел наконец доктора (ее он долго не мог найти, так как потерпевших разместили по всему селу), то я лежал раскинувшись на постели, красный как мак, пыша жаром. Любовь Антоновна сунула мне градусник под мышку — оказалось сорок и пять десятых. Я был в бреду и все время повторял: — Чтоб она сгорела!.. Чтоб она сгорела!.. Чтоб она сгорела!.. А кто «она» — неизвестно. Я-то хорошо знал кто, но Павлуше, конечно, ничего не сказал. Пришел я в себя только на третий день. В хате было так ясно, светло и тихо, как бывает только во время болезни, когда наутро спадает температура. Первый, кого я увидел, был дед. Он сидел на стуле у моей кровати и клевал носом. Наверно, он сидел с ночи. Но только я шевельнулся, он сразу же открыл глаза. Заметив, что я смотрю на него, он усмехнулся и положил шершавую жилистую руку мне на лоб: — Ну что, сынку, выкарабкиваешься? Полегчало чуток, милый, а? Это было так необычно, что я невольно улыбнулся. Дед сроду не говорил мне таких слов. И рука эта чуть ли не в первый раз за всю жизнь коснулась моего лба. Чаще всего она касалась совсем другого места, и, уж конечно, не так нежно. Отцу и матери всегда было некогда, и воспитывал меня дед. Воспитывал по-своему, как его самого когда-то в детстве, еще при царизме, воспитывали. Я, известное дело, был против такого воспитания и доказывал, что это дореволюционный, жандармский метод, осужденный советской педагогикой. Но дед давал мне подзатыльник и говорил: «Ничего-ничего, зато проверенный. Сколько великих людей им воспитано. И молчи мне, сатана, а то еще дам!» А тут, вишь ты, «сынку», «милый»… Услышав дедовы слова, из кухни выбежала мать. — Сыночек, милый! — кинулась она ко мне. — Уже получше, правда? Мать приложилась губами к моему виску (она всегда так мерила температуру и у меня, и у Иришки и обычно угадывала с точностью до десятых). — Тридцать шесть, не больше. А ну, померь! — Она сунула мне под мышку градусник. Из спальни зашлепал босыми ногами отец, заспанный, взлохмаченный, в одних трусах, — только проснулся. Лицо его расплылось в улыбке: — Ну как? Ну как?.. Ого-о, вижу — выздоравливаешь, козаче! Вижу! — Да цыц ты! Раскричался! — прикрикнула на него мать. — От твоего крика у него опять температура подскочит. Отец сразу втянул голову в плечи, на цыпочках подошел к кровати и, склонившись ко мне, шепотом сказал: — Прости, это я от радости. Я усмехнулся — впервые в жизни не я у отца, а он у меня просил прощения. — Ну, как там затопленные? — спросил я и сам не узнал своего голоса, такой слабый, чуть слышный был он — будто из погреба. — Да ничего, все хорошо. Вода уже спадает. Люди начинают домой возвращаться. Все хорошо. — Жертв нет? — Да, слава богу, обошлось. Правда, кое-кто поцарапался, простудился, но серьезного ничего нет. Вот только скотина пострадала. Да и то немного. У кого коза, у кого подсвинок, у кого птица… А коровы все спасены… — И все спасибо солдатам! — вставила мать. — Если бы не они, кто знает, что бы тут было. — Да, техника теперь в армии богатырская, — молвил степенно дед. — И говорят, что это ведь ты их привел. — Мать нежно положила мне руку на лоб. — Не знал я, что у меня такой геройский сын, — будто с трибуны, сказал отец. — А-а!.. — Я отвернулся к стене и почувствовал, как жар бросился мне в лицо, даже слезы выступили. Все говорили вроде бы искренне, но голоса родителей были такими ласковыми, такими ласковыми, какими только с калеками разговаривают. «Это они потому, что я больной». Дед кашлянул и сказал: — А дружок-то твой вчера целый день просидел тут возле тебя. И не ест ничего, аж похудал… Вот увидишь, сейчас прибежит. Спасибо, дедушка! Знал ведь, что сказать! Понял, что мне неловко от таких разговоров. Мать вынула у меня градусник. — Тридцать шесть и одна. Что я говорила?! Теперь уж пойдет на поправку. А как ножка, болит? А я и забыл совсем про «ножку». Шевельнул ею — боли почти не было, только почувствовал, что она туго забинтована. — Слава богу, перелома нет. Вывих. И небольшое растяжение… Любовь Антоновна сказала, через две недели в футбол играть будешь. Скрипнула дверь, и над дверной ручкой высунулась взлохмаченная голова Павлуши. Лицо, поначалу вытянутое и какое-то неуверенное, сразу расплылось в улыбке: — Здрассте!.. Можно? — Да заходи, заходи, чего там, — заулыбалась мать. — На поправку пошло. — Я ж говорил, говорил, что сегодня лучше будет! — Павлуша подошел к кровати. Он весь так и светился радостью и приветом. — Здорово, старик! Ну как? — Ничего… — усмехнулся я, сдерживая радость. И замолкли оба. При родителях разговор не клеился… — Ой, у меня ж там молоко! — всплеснула руками мать и побежала на кухню. Отец пошел в спальню одеваться. Поднялся, кряхтя, со стула и дед: — Ну, балакайте, старики, а я, молодой, по делам пойду, — и зашаркал во двор. — Садись, чего стоишь, — сказал я Павлуше. И он присел с краешку на стул.
Он сидел и молчал. Только улыбался и время от времени подмигивал мне. И я тоже молчал и улыбался. И чувствовал себя так, словно возвращаюсь откуда-то издалёка-издалёка в знакомый и родной мир, как возвращаются домой из дальнего тяжелого путешествия. И близок мне этот мир больше всего потому, что в нем есть Павлуша. Вот этот самый, с облупленным носом Павлуша, у которого волосы так смешно торчат на макушке. Неужели могло случиться такое, что он перестал бы быть моим другом? Это было бы так страшно, так непонятно… Я просто не знаю, что бы тогда было. — Ну, как там, расскажи, — сказал наконец я. — Да как… Ничего. В порядке. Все только и говорят про тебя. Кого ни встретишь: «Какая температура? Как нога? Какой пульс?» Хоть бюллетень вывешивай о твоем здоровье. Как премьер-министр. Таким знаменитым стал, куда там!.. — Вот уж верно — дальше некуда! — Ну точно, я тебе говорю! Все село уже знает, как ты солдат привел, как письма спасал… Бабка Мокрина день и ночь за тебя богу молится. Да что Мокрина — отец Гога за твое здоровье в церкви молебен отслужил! — А ну тебя!.. Ты толком расскажи, как там… — Да честное слово! Ребята тебе завидуют. Хоть они тоже старались… Вон Карафолька даже ботинки в воде потерял. И фонарь себе под глазом поставил, где-то о косяк навернулся… А Коля Кагарлицкий свою курточку нейлоновую заграничную знаешь как располосовал — сверху донизу! И даже глазом не моргнул. Так в разодранной до самого вечера и таскал вещи затопленных. А Антончик чуть не потонул. Он же, знаешь, плавает паршиво, а полез в кошару овец Мазниченко спасать. Ну и… Павлуша глянул на меня и запнулся. — Ну что ж… молодцы ребята, — вздохнул я. — Вообще-то молодцы, конечно, я и сам не думал… но… но все они мелкота по сравнению с тобой. Точно! Думаешь, кто-нибудь из них вот так нырнул бы в затопленную хату через окно? Ни за какие бублики! Да что там… — Ну уж, скажешь! — криво усмехнулся я. — Хорошо… А как там вообще? — Вообще ничего… Порядок! Жизнь нормализуется, как пишут в газетах. Восстанавливаются коммуникации, приводятся в порядок пострадавшие объекты. Предприятия и учреждения работают нормально — и сельмаг, и парикмахерская, и баня… Несмотря на стихийное бедствие, колхозники своевременно приступили к работе — вышли в поля и на фермы. Короче, в борьбе со стихией наши люди победили. Правда, пока еще нет электричества. Но солдаты прилагают все усилия, чтобы в хатах снова засияли лампочки… Вообще, я тебе скажу, вот кто все-таки молодцы, так это солдаты. Как они работают, ты бы видел! Сила! Если бы не они со своими машинами… Эх! Ты даже не знаешь, какой ты молодец, что их привел! Просто… просто считай, что этим ты спас село. Абсолютно точно! — Да иди ты! И без меня их все равно бы вызвали. Секретарь райкома уже при мне звонил полковнику… — Ну и что? А все-таки ты их привел. Ты! А кто же? И чего там скромничать! Вот уж любишь ты скромничать!.. Я усмехнулся. «Эх, Павлуша, мой Павлуша! — подумал я. — Что ты говоришь? Я люблю скромничать? Вот уж нет! Что-что, а скромничать ни я, ни ты не любим. Это все знают. Скорей наоборот». Но я не стал спорить. Мне было так хорошо, что вот он сидит на кровати и разговаривает со мной! Так радостно! И я боялся, как бы он не ушел. И он словно прочел мои мысли. Потому что посмотрел виновато-виновато и сказал: — Ну, я пойду, наверно… Тебе отдых нужен… — Да посиди, чего там! — встрепенулся я. — Да я бы посидел, конечно… но мы, знаешь, договорились… — Ну, иди, — сказал я тихо и обреченно. — Да ты не обижайся. Я еще забегу. Ты, главное, отдыхай, лучше ешь и выздоравливай. А я… Ведь там, знаешь, еще много… Ну, бывай! — Бывай! — через силу улыбнулся я. — Передавай привет хлопцам! И почувствовал, как что-то в горле мешает мне говорить — будто галушка застряла. — Я еще до обеда забегу обязательно! — бодро уже с порога крикнул Павлуша. Он даже не сказал, с кем и о чем он договорился и чего там еще много… Ну, ясно с кем! С ней! Побежал ее ублажать. Эх!.. А почему обязательно ее? Может, и не ее совсем. Что, нечего сейчас делать в селе, что ли? А ты хотел, чтоб он возле тебя нянькой сидел? Побежал парень по каким-то делам, а ты уж и раскис! Глотай вон лекарства и не морочь себе голову. Интересно, а ты бы сидел у его кровати? Вспомни, как однажды Иришка хворала и мама просила возле нее посидеть. Как тебе не хотелось! Вот и не выдумывай. Не выдумывай. Не выду… Внезапно кровать моя качнулась, мягко двинулась с места и поплыла, покачиваясь, в окно… Я не удивился, не испугался, только подумал: «Видно, и нас затопило. А от меня скрывали, не хотели волновать, потому что я больной… Потому и Павлуша убежал — спасать отцову библиотеку. У них же стеллажей с книжками — на две с половиной стены. Пока все вынесешь!..» Кровать моя выплыла через окно на улицу. Вокруг уже не видно было ни хат, ни деревьев — ничего, кроме белой, вспененной воды из края в край. Белой, как молоко. Я сперва подумал, что это туман стелется так низко над водою. Но нет, это был не туман, потому что видно было далеко, до самого горизонта. Это была вода такая белая. Вдруг я заметил, что в воде, покачиваясь, плывут большие бидоны из-под молока, и сообразил: залило молочную ферму и выворотило оттуда эти бидоны, а вокруг — всё это вода, смешанная с молоком. Но почему же моя железная кровать не тонет? И тут же пришло в голову: ведь у меня же кровать-амфибия, военного значения, и это потому, что у меня мама — депутат. Всем депутатам выдают такие кровати… Небольшие белые волны плещут около самой подушки, но не заливают ее. Ну конечно, это молоко. Причем свеженькое, парное. Я уже остро чувствую его запах. И вдруг слышу голос матери: — Выпей, сынок, выпей молочка. И сразу голос отца: — Он заснул, не буди его, пускай… Но я уже проснулся и открыл глаза. Я выпил молока и снова заснул. Когда я проснулся, был уже обед. Я пообедал (съел немного бульону и куриное крылышко), полежал и снова заснул… И спал так до утра.
Глава XXV. Все! Конец! Дарю велосипед. «Загаза чегтова!» Я выздоравливаю
Проснувшись, я увидел, что возле кровати на стуле сидит Иришка и читает журнал «Барвинок». В хате было солнечно, прямо глаза слепило, часы на стене показывали без четверти десять, и я понял, что это утро. Иришка сразу отложила журнал и вскочила со стула: — Ой, бгатишка, милый!.. Сейчас будешь завтгакать. Она у нас не выговаривает букву «р». В один миг Иришка поставила передо мной на стуле молоко, яичницу, творог и хлеб с маслом. Я догадался, что в хате никого нет, все на работе, и ей поручено приглядывать за мной. — Ну пожалуйста, милый бгатишка, ешь! — сказала она сладким голосом. Я насторожился. А уж когда она в третий раз сказала «милый бгатишка» («Милый бгатишка, спегва пгоглоти таблетку»), это меня уже совсем встревожило. «Милый бгатишка!» Она никогда меня так не называла. Обычно она говорила «загаза чегтова», «так тебе и надо», «чтоб ты газбил свою поганую могду…» И вдруг — «милый бгатишка»!.. Плохи, выходит, мои дела. Может, и совсем безнадежны. Может, я уже и не встану. Потому-то все такие нежные со мной: и отец, и мама, и дед… И все время успокаивают — выздоровеешь, выздоровеешь. А я… Вон сплю все время. Значит, нет в организме сил, энергии для жизни. Вот так засну и не проснусь больше. Голову даже поднять от подушки не могу. Поднимусь, сяду на кровати, а голова кругом идет, даже мутит… Я взглянул на творог, на яичницу и вспомнил слова деда Саливона, которые он любил повторять: «Как без пищи быть силище. Живется, пока естся и пьется. На пищу налегай, и будешь как бугай». — Иришка, дай еще кусок хлеба с маслом, — сказал я тихим, глухим голосом. — Что? Да ты же еще этого не съел! — Жалко? — с горьким упреком взглянул я на нее. — Может, я… Может… — Да что ты, что ты! Возьми! — Она побежала на кухню, откромсала от буханки огромную краюху, намазала маслом в палец толщиной и положила на стул. Прыснула и побежала за печь смеяться. Я вздохнул. Ничего, ничего! Смотри, чтобы плакать не пришлось, когда меня… когда меня уже не будет… Яичницу с первым куском хлеба я умял довольно быстро. А вот тарелка творога, щедро политого сметаной, и краюха хлеба, принесенная по моей просьбе Иришкой, пошли туго. Полтарелки я еще так-сяк съел, а дальше начал давиться. Набивая полный рот творога и хлеба, я жевал-пережевывал эту жвачку по нескольку минут и никак не мог проглотить. Жевал, как какой-нибудь старый вол. Уж я и молоком запивал, и резко запрокидывал голову назад, как это делает обычно мама, глотая таблетки, но только напрасно — не глоталось. «Ну, все! — с ужасом подумал я. — Уже и есть не могу. Организм пищу не принимает. Все! Конец! Крышка!» Я бессильно откинулся на подушку. Лежал и прислушивался, как внутри у меня что-то булькало, бурчало и переливалось. Это гуляет в пустом животе одинокая яичница в окружении творога и молока, думал я. Гуляет, не имея возможности спасти слабеющий организм. О! Кольнуло в боку!.. И нога занемела, наверно, кровь туда уже не доходит… И левая рука какая-то бессильная и вялая. Да ведь там же сердце близко! Видно, сердце уже отказывается работать… О! Уже тяжело дышать! Прерывистое какое-то дыхание. И пальцы на руках посинели, видно, отмирают… Эх, жаль — нет Павлуши. Хоть бы с ним попрощаться. Не успею, наверно… Из-за печи выглянул лукавый Иришкин глаз. Она смеялась. Она и не представляла, как мне худо. Она думала, что я придуриваюсь. Нужно ее как-то разуверить, что это не шутки, что мне на самом деле плохо, что, может, это последние мои минуты… Я не мог умирать под ее хихиканье. — Иришка, — чуть слышно проговорил я, — иди сюда. Она вышла из-за печи. — Иришка, — вздохнул я и смолк. Она подошла поближе. Личико ее стало немножко серьезнее. — Иришка, — вздохнул я во второй раз и снова смолк. Я должен был сказать в этот момент что-то значительное, что-то возвышенное и великое, что говорят только перед смертью. — Иришка, — сказал я наконец тихо и торжественно, — возьмешь себе мой велосипед… Я дарю тебе его… И закрыл глаза. — Ой! — взвизгнула она радостно. — Ой! Пгавда?! Ой! Сегьезно? Ой, бгатишка! Какой ты хогоший! Ой! Дай я тебя поцелую! И ее губки мазнули меня по щеке возле носа. Я отвернулся к стене, потому как чувствовал, что вот-вот заплачу. Мы с Иришкой чаще всего ссорились как раз из-за моего велосипеда. Она хотела на нем кататься, а я не давал. Я считал, что она еще сопливая, чтобы кататься на взрослом велосипеде, — только в первый класс пошла в этом году. Она и до педалей еще даже не доставала. Но все же умудрялась ездить — просовывала правую ногу сквозь раму и, извиваясь червяком, стоя крутила педали. Эта ее находчивость только раздражала меня. Такое уродливое катание, на мой взгляд, было просто издевательством над велосипедом. И вообще, кому хочется, чтобы на его велосипеде кто-то катался! Это всегда неприятно. Велосипед — это что-то очень личное, близкое, заветное. Это, по-моему, ближе, чем рубашка, штаны да что хочешь… И теперь, подарив велосипед Иришке, я почувствовал, что мои счеты с жизнью почти что окончены. Я слышал, как она, забыв от счастья про мою болезнь, уже вытаскивала Вороного из сеней во двор. И он жалобно дребезжал и звенел. Эти звуки разрывали на части мое умирающее сердце. Так в последний раз печально ржет верный конь, навеки прощаясь с казаком… Я вытянулся, как мертвец, сложил на животе руки и обреченно уставился в потолок. Я ждал прихода смерти. Часы на стене неумолимо отбивали минуты. Но неожиданно вместо смерти пришла доктор Любовь Антоновна. Хлопнув дверью, она зашла в хату и быстрым шагом приблизилась к моей кровати. Положила руку мне на лоб, потом взяла пульс. И все это — не говоря ни слова, молча, сосредоточенно, строго. Я замер в безнадежном ожидании. Окончив щупать пульс, она подняла мне рубаху, склонилась и приложила маленькое холодное ухо к моей груди. Она всегда выслушивала больных прямо так, ухом, без всяких медицинских причиндалов. И, только выслушав меня, она сказала наконец весело: — Молодец, козаче! Все хорошо! Скоро будешь здоров. — И хлопнула меня ладонью по животу. — Ну да! Хорошо! — буркнул я. — Вон уже и есть не могу. Организм не принимает. И голова кружится, подняться нет сил. — Что? — Она удивленно взглянула на тарелки, что стояли на стуле. — А это кто завтракал? — Да я же… видите… — вздохнул я. — Ну, вижу. И яичницу, вижу, принял твой организм, и творогу полтарелки, и молока. Что ж ты хочешь? После такой температуры это даже многовато сразу. Запрещаю тебе есть по стольку! А голова кружится от долгого лежания. Нужно вставать понемножку, раз температуры нет. Разрешаю тебе сегодня встать минут на десять — пятнадцать и походить по комнате. Только не больше… «Организм не принимает»! — Она усмехнулась. — Эх ты, герой! Я насупил брови и отвернулся. Не очень-то я ей верил. Она доктор и должна успокаивать больных. Такая у нее работа. Ей за это деньги платят. И все-таки после того, как она ушла, я почувствовал себя легче — перестало колоть в боку, и нога отошла, и руку отпустило. А сердце забилось живее. Смерть пока что отступила. Мне даже показалось, что я услышал, как она, загремев костями, побежала-покатилась куда-то прочь по дороге… Или, может, это загремел, упав вместе с Иришкой, мой велосипед?.. Мой? Велосипед? Какой же он мой? Нет у меня больше велосипеда! Нету! Подарил! Балда! Да я ведь… я ведь… думал, что умираю. «Подожди-подожди! Чего уж ты разволновался? Может, еще умрешь и не будешь балдой», — шепнул мне насмешливо внутренний голос. «Тьфу, провались ты! — ругнул я его. — Лучше быть живым дураком, чем…» Ну и что? Ну и подарил! Подумаешь! Родной сестренке подарил. Пусть себе катается на здоровье, милая, дорогая, се… Во дворе снова что-то грохнуло и задребезжало. Черт! Чего же она, растрепа, падает! Так ведь все спицы повыбивать можно! Ну и пусть выбивает. Ее велосипед — может совсем его разбить. Чего тебе теперь беспокоиться? Тебе теперь не нужно беспокоиться. Павлушка, значит, будет на велосипеде, Вася Деркач на велосипеде, Коля Кагарлицкий на велосипеде, Степа Карафолька, воображала, на велосипеде, — короче говоря, все, абсолютно все на велосипедах, а я — пешкодралом. На своих двоих. М-да… Тогда уж лучше умереть! Что ж за жизнь без велосипеда! Комедия! Смех! Эх! Какой это был велосипед! «Украина». С багажником, с фарой, с ручным тормозом. А скорость какая! Ветер, а не велосипед!.. Был! Во дворе снова задребезжало. Доламывает! Сердце мое разорвалось на части. «Разрешаю тебе сегодня встать на десять — пятнадцать минут». Я поднялся и сел на кровати. Встать! Хоть взглянуть на него в последний раз! Вот гляну, а потом уж… лягу и умру. Я встал и, качаясь, заковылял к окну. Иришка, высунув от старания язык, выгибаясь, кружила по двору. На лбу у нее светилась здоровенная шишка, на щеке царапина, коленка разбита. Но глаза сияли счастьем. И, видно, это счастье ослепляло ее и она ничего не видела. Во всяком случае, дубовый комель, на котором мы рубили дрова, она точно не замечала, потому что перла прямо на него. Я не успел даже рот раскрыть, как она задела за комель и… Вот тут уж я рот раскрыл. Я не мог его не раскрыть. Душа моя, которая еще держалась в теле, не выдержала. Велосипед встал на дыбы и со всего маху грохнулся на землю, задребезжав всеми своими деталями. — Ах ты!.. Чтоб тебя!.. Ты что делаешь?! — отчаянно закричал я. Пусть я умру, но даже перед смертью я не могу спокойно смотреть, как погибает мой Вороной! Лежа под колесом, Иришка растерянно хлопала глазами. Потом сразу насупила брови и молча начала выбираться из-под него. Встала, подняла велосипед, смерила меня презрительным взглядом и с обидой прокартавила: — Думаешь, я тебе повегила, что ты подагил? Я знала, что ты шутил… загаза чегтова!.. — И, шмыгнув носом, отвернулась. Я разинул рот и… улыбнулся. «Загаза чегтова…» Солнце засияло в небе, запели птички и зацвели-запахли под окном розы. Жизнь возвратилась ко мне. Сомнений не было — я не умру. Раз меня опять ругают «загазой». Дорогая Иришка, милая моя сестричка, я теперь всегда буду давать тебе велосипед — когда только захочешь! Честное слово!Глава XXVI. Снова трое неизвестных. Ты мне друг? «Ничего не разберешь», — говорит Павлуша
Пока мне было очень плохо, я не чувствовал, как идет время. Оно как будто не существовало. А как только мне чуть полегчало, я сразу почувствовал, до чего же все-таки муторно болеть. Я никогда не думал, что часы могут быть такими долгими, а день — таким бесконечным. Раньше мне его всегда не хватало. Не успеешь, бывало, что-нибудь затеять, начать, как уже и вечер. А теперь до этого вечера была целая вечность. Она без конца и края тянулась, тянулась, тянулась, вытягивая из меня жилы. Этого вечера просто невозможно было дождаться. А ради вечера я только и жил на свете. Вечером приходил Павлуша. Правда, он забегал и утром и в обед, но это всего на несколько минут. А вечером он приходил часа на два, а то и на три и сидел до тех пор, пока я не замечал, что он уже клюет носом, и тогда я гнал его спать. Он очень уставал, Павлуша. И не только он, все уставали. Все село работало на улице Гагарина, приводя ее в порядок после страшного погрома, который учинила стихия за одну ночь. Отстраивали хаты, расчищали дворы, заново ставили снесенные заборы, чинили поломанные хлева и амбары, раскапывали погреба. Наравне со взрослыми работали и школьники, начиная с седьмого класса. Да и младшие не сидели сложа руки — каждый что-нибудь делал в меру своих сил и возможностей. Потому что рук-то этих, конечно, не хватало. Пора была горячая, уборка урожая — и фрукты и овощи… Хорошо, что хоть жатву закончить до дождей успели. Все работали с утра до вечера. Все. А я лежал себе паном — пил какао, ел гоголь-моголь и разные вкусные финтифлюшки, которые по ночам пекла мама для укрепления моего больного организма. Пил, ел и читал всякие приключенческие книжки. А ребята трудились и ели самый обычный хлеб с салом. И я им завидовал. Завидовал отчаянно! Я ненавидел какао, гоголь-моголь и вкусные финтифлюшки. Я бы променял все эти лакомства на кусок хлеба с салом в перерыве между работой. Мой дед частенько называл меня «всемирным лодырем». Но если бы он знал, как мне, «всемирному лодырю», хотелось сейчас работать! Я бы не отказался от самой грязной, самой противной, самой тяжелой работы. Только бы со всеми, только бы там, только бы не лежать бревном в кровати. Только теперь я понял одну вещь. Чем страшна болезнь? Не тем, что где-то что-то болит. Нет! Болезнь страшна прежде всего бессилием, бездеятельностью, неподвижностью. И я понял, почему люди прежде всего желают друг другу здоровья, почему говорят, что здоровье — всему голова… Как я страдал от своей бездеятельности! Вы себе даже не представляете. Когда никого не было в хате, я зарывался в подушку и просто выл, как какая-нибудь голодная собака. Один Павлуша по-настоящему понимал меня и все время старался развлечь, успокоить. Но это ему плохо удавалось. Я был, конечно, благодарен ему за сочувствие, но одни слова не могли мне помочь. Какие там слова, если я сам чувствовал, что нет еще сил! Похожу немножко по хате — и в пот бросает, голова кружится, лечь тянет. Казалось бы, и нога с каждым днем все меньше болит, и температуры нет, а вместо того чтобы выздоравливать, я чего-то снова расклеился. Стал думать, что никогда уже не буду здоровым, и упал духом. Потерял аппетит, плохо ел, не хотелось ни читать, ни радио слушать. Лежал с безразличным видом, уставившись в потолок. И никто этого не видел, потому что с утра до вечера никого не было дома, а Иришка, дорогая моя сестренка, которой поручено было присматривать за мной, дома не задерживалась. Да я ее и не винил, я и сам, когда она болела, не очень-то сидел возле ее кровати. С утра, подавши мне завтрак, она, как щенок, смотрела на меня и покорно опрашивала: — Явочка, я немножечко… можно? Я вздыхал и кивал головой. И она, громыхая, тащила велосипед из сеней во двор. И только я ее и видел потом до самого обеда. Она торопилась, пока я болею, накататься вволю. Она чувствовала, что, когда я выздоровею, не очень-то она покатается. И если раньше она каталась во дворе, то теперь выезжала за ворота и старалась убраться с глаз долой, чтоб не слышать моих упреков за то, что не так ездит. А мне уже даже и это было все равно. Я и на велосипед махнул рукой. Иногда вместе с Павлушей забегали ребята, но они были так поглощены своим делом, так им было не до меня, что это приносило мало радости. Два раза заходила Галина Сидоровна, только мне почему-то было стыдно перед ней, что я лежу беспомощный, жалкий, и я все время с нетерпением ждал, когда же она уйдет. Плохо мне было, ох, как плохо! Сегодня я почему-то особенно сильно чувствовал себя несчастным и одиноким. Может быть, потому, что сегодняшний день был на редкость хороший — солнечный, ясный, в небе ни облачка. И Иришка, вытаскивая из сеней велосипед, распевала во все горло:Дорогой друг! Нам все известно, что случилось с тобой в последнее время. Мы довольны твоим поведением. Ты вел себя как настоящий солдат. Нам очень приятно, что мы в тебе не ошиблись. Теперь мы еще больше уверены, что то секретное задание, которое мы должны поручить тебе, ты выполнишь с честью. Стихийное бедствие и метеорологические условия делают невозможным проведение намеченной операции сейчас. Операция откладывается. Надеемся, что к тому времени ты выздоровеешь и нам не придется искать другую кандидатуру. Намеченная операция секретная. Имеет большое военное и государственное значение. Разглашение тайны карается по статье 253 Уголовного кодекса УССР. Это письмо нужно немедленно сжечь. Напоминаем: условный сигнал — белый флажок на мачте возле школы. В день, когда появится флажок, нужно прибыть к доту в Волчий лес ровно в девятнадцать ноль-ноль. В расщелине над амбразурой будут инструкции. Желаем скорейшего выздоровления. Г. П. Г.Когда я дочитал до конца, пульс у меня был, наверно, ударов двести в минуту. В висках так и бухало. Они! Снова они! Трое неизвестных! Как раз сегодня я их вспоминал. А до этого не то чтоб забыл, нет. Просто события той страшной ночи, а потом и моя болезнь как-то отодвинули мысли о них, заглушили интерес, и все это вспоминалось так, как будто было не со мной. Как будто я прочел об этом в какой-то книге или видел в кино. И чем дальше, тем чаще я думал, что все это, наверно, не серьезно, а чья-нибудь шутка, только непонятно, чья и для чего. Уж сколько раз я решался поговорить обо всей этой истории с Павлушей, но каждый раз в последнюю минуту что-то мешало: или Павлуша поднимался, чтобы уйти, или кто-нибудь заходил в хату, или у самого мелькала мысль: «А что, если это и вправду военная тайна?» И момент проходил, а я так и не заговаривал. К тому же меня смущало, почему молчит Павлуша. Я раза два пытался выведать, куда это он ехал тогда по «глеканке», но он от ответа уклонялся. В первый раз он как-то ловко перевел разговор на другое, а во второй, когда я ему прямо сказал, что видел, как он выехал к вечеру из села и махнул в сторону леса, он невинно захлопал глазами: «Что-то не помню. Может, в Дедовщину… Не помню…» — и так он это искренне, правдиво сказал, что если бы я сам не видел его тогда собственными глазами, то поверил бы. И вот: «Разглашение тайны карается по статье 253 Уголовного кодекса УССР». Теперь ясно, почему молчит Павлуша. Да… но как же я узнаю, когда появится флажок на вышке, если я лежу? Нет, я должен сегодня же поговорить с Павлушей. В конце концов, друг он мне или нет? Если уж на то пошло, я готов вместе с ним отвечать по этой 253-й статье. И в тюрьме сидеть вместе с ним (только чтоб в одной камере). А почему обязательно сидеть? Если б я какому-нибудь врагу разгласил, тогда другое дело, а то ведь другу. Да и что разгласил? Я еще и не могу ничего разглашать. Я еще и сам не знаю, в чем состоит эта государственная и военная тайна. Может, Павлуша знает, так пусть мне разгласит. А если не разгласит, то он мне, выходит, и не друг. Интересно, разгласил он Гребенючке или нет? Если ей разгласил, а мне не хочет, тогда все, между нами все кончено. Если я и так не мог всегда дождаться прихода Павлуши, то можете себе представить, с каким нетерпением ждал я его сейчас! И, заслышав во дворе его голос, я даже подскочил на кровати. Он обычно еще во дворе выкрикивал во весь голос: «Ява-а! Э-эй!» — давая знать, что он идет. На этот раз Павлуша вбежал в хату запыхавшийся, раскрасневшийся и уже с порога начал взволнованно: — Старик! Только что погреб Пашков откапывали. Не веришь? Откопали кастрюлю, а там вареники с вишней. Попробовали — свеженькие, будто вчера сварены. А больше недели прошло. Ты скажи! Полезные ископаемые — вареники с вишней! Допотопные вареники с вишней! Га? Сила! Главное — как вода туда не попала? Наверно, землей сразу присыпало, а крышка плотная и… Только малость сверху подмочены, а внизу совсем нормальные! Я пять штук умял. Вкуснота! Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? — Да нет, — мотнул я головой. Я решил не откладывать, так как в любую минуту может прийти Иришка. — Павлуша, — я пристально посмотрел ему в глаза, — ты мне друг? Скажи честно. — Ты что? Друг, конечно. — Скажи, а ты мог бы… сесть вместе со мной в тюрьму? — Да ты что!.. — Он растерянно заулыбался. — Ты что, сельмаг обокрал? — Нет, скажи серьезно: мог бы? Он нахмурил брови. — Мог бы! Ты же знаешь… — Ну, тогда на, читай! — И я протянул ему письмо. Пока он читал, я не сводил с него глаз. Он сначала побледнел, потом покраснел, потом начал сокрушенно качать головой. Дочитав, он поднял на меня глаза и вздохнул: — Так… «Г.П.Г.» Значит, и тебе… Ничего не понимаю… — А тебе, выходит, тоже? И молчал… Павлуша виновато пожал плечами: — Ну когда же я мог сказать? Раньше — сам знаешь… А потом ты заболел, тебе же нельзя волноваться, так что… — Нельзя волноваться? Мне очень даже можно волноваться! Мне даже нужно волноваться! Мне нельзя лежать, как бревно какое-нибудь, потому что я так не выдержу… А ну, рассказывай! — Я резко сел на кровати, щеки у меня горели. Я и вправду почувствовал какой-то внезапный прилив сил, бодрости и энергии. — Ну что… Ну, иду я как-то по улице, вдруг навстречу мне офицер на мотоцикле. Остановился. «Павлуша, — спрашивает, — Завгородний?» — и протягивает конверт. И как газанет — только я его и видел. В шлеме, в очках, лица не разглядишь. — Точно! — Ну, развернул я письмо. «Дорогой друг… секретное задание… нужно прийти в Волчий лес к доту… в амбразуре инструкция». — В расщелине над амбразурой. — Точно. — А в котором часу? — В двадцать ноль-ноль. — А мне в девятнадцать. — Видишь. Значит, они не хотели, чтобы мы встретились. Ну, и ты был? — А как же. Только давай сперва ты. — Ну, значит, подъехал я к доту. Только туда, а меня — цап за шкирку! Солдат Митя Иванов, знаешь? «Куда, — говорит, — опять лезешь? Совсем сдурел, что ли?» Ну, теперь-то я понимаю, что это ты передо мной прорывался, а тогда я страшно удивился, почему это он говорит «опять». Ну, да не это меня больше всего удивило, а то, что я никак до амбразуры добраться не мог. Сами писали: «Приди», — и сами же часового поставили, не пускают. Кстати, на дороге и мотоцикл стоял, а в кустах, кроме Мити Иванова, еще кто-то был. Уж не тот ли, который мне письмо передавал?.. Я его не видел, но голос слышал. Поэтому я даже психанул. Чего, думаю, голову морочат! «Ах, так! — крикнул я громко. — Не пускаете, тогда я домой пошел. Слышите, домой!» И тут из кустов в ответ: «Правильно!» Ну, думаю, раз так — будьте здоровы! Сел на велосипед и поехал… — Так что — и всё? Больше ничего не было? — Да подожди! На следующий день пошел я рисовать. Как раз занятие кружка было. Открыл свой альбом, а там… письмо. Снова Г.П.Г. «Операция переносится… не волнуйся… Следи за мачтой возле школы… Когда появится белый флажок — приходи в этот день в Волчий лес к доту…» — И снова в двадцать ноль-ноль? — Ага! Ты знаешь, меня аж в жар бросило. Альбомы наши хранятся в школе, домой мы их не берем. После каждого занятия староста собирает, и Анатолий Дмитриевич запирает их в шкаф. Как могло там очутиться письмо, хоть убей, не знаю. Не иначе, как кто-то ночью влез в школу, подобрал ключи к шкафу и подложил. Но ведь школа летом на замке, и баба Маруся там всегда ночует, а она, ты же знаешь, какая — муха у нее не пролетит. Просто не знаю. — Ну, это все ничего не значит. Если нужно, так и бабу Марусю усыпят, и ключ любой подберут… Это не трудно. — Ну, а у тебя-то что? — Ну, а у меня… — И я подробно рассказал Павлуше про все, что приключилось со мной: и про письмо, и про «экскурсию» по военному лагерю, и про разговор по телефону. — Ну, так что ж все это может значить, как ты думаешь? — спросил Павлуша, когда я кончил. — Я, конечно, точно не знаю, но думаю, что, наверно, это связано с военным делом. Я уж думал: может, что-нибудь у них там сломалось, в какой-нибудь пушке или в ракете, куда взрослый пролезть никак не может, и нужен мальчишка. — Кто знает, может быть… — нахмурил брови Павлуша. — А почему ж тогда и тебе и мне? И в разное время? — Откуда я знаю… — пожал я плечами. — Должно быть, кто-нибудь из нас основной, а кто-то дублер. Знаешь, ведь и у космонавтов всегда дублеры, и правильно, в таких делах… — Могло быть, — вздохнул Павлуша. — Выходит, ты основной, а я дублер. — Почему это? — Ну, ты же на час раньше назначен. — Ну и что! Это ничего не значит! Может, как раз ты-то и основной! Я почему-то думаю, что основной ты! — убеждал я его, хотя в душе думал, что основной все-таки я, потому что и вправду, зачем это дублеру назначать на час раньше, чем основному? Так и есть, я основной! Но показывать, что я так думаю, было бы нехорошо, нескромно. А Павлуша ведь, помните, сказал, что я люблю скромничать… — А теперь, после моей болезни, ты уж наверняка будешь основным! — сказал я просто для того, чтобы его успокоить. И вдруг я понял всерьез, что сказал. И прямо похолодел. Ведь правда! Какой же я основной после такой болезни? Это меня нужно успокаивать, а не его. Немедленно нужно выздороветь! Немедленно, а то и в дублеры не возьмут! Я беспокойно заворочался на кровати. Нет! Нет! Я все же чувствую себя лучше. Намного лучше. Вот и сила в руках появилась. Могу уже подтянуться, взявшись за спинку кровати. А позавчера ведь не мог совсем. Ничего, ничего! Все будет в порядке… Если ничто не помешает. — А ты кому-нибудь говорил про это? — Я внимательно посмотрел на Павлушу. — Конечно, нет. — И ей не говорил? — Я не хотел называть ее имени, но Павлуша понял. — Да ты что?! — Он покраснел. И я почему-то подумал, что он, наверно, все-таки не знает, что это я обрызгал Гребенючку грязью с ног до головы (она не сказала), и вдруг вспомнил таинственную фигуру в саду у Галины Сидоровны в тот вечер. Я же ничего еще не говорил Павлуше про того человека. — Слушай, — и тут же начал рассказывать. Когда я кончил, он только пожал плечами: — Бог знает что творится… Сам черт ногу сломит. Ничего не разберешь…
Глава XXVII. События разворачиваются молниеносно. Неужели один из неизвестных — она? Не может быть! «Он хочет украсть ее!» Мы спешим на помощь… Асса!
Интересная все-таки штука человек! То он едва дышит, тает, как свечка, голову поднять не может, а то вдруг (и откуда только силы берутся!) начинает крепнуть и набираться бодрости с каждым часом. И вы знаете, что я подумал? Я подумал, что, наверно, все-таки главное для выздоровления — это желание стать здоровым. Когда ты всеми силами стремишься к одной цель — победить болезнь, — ты обязательно и очень быстро поправишься. Я в этом убедился на себе. После нашего откровенного разговора с Павлушей я сразу начал выздоравливать быстрыми темпами. Ел я теперь, как молотильщик. По две порции. Любовь Антоновна как-то сказала: «Больным нужно есть главным образом то, что им хочется. Организм мудрый, он сам подсказывает, что ему требуется». Слава богу, мне хотелось есть все, что давали. Но один раз я хитро взглянул на деда и сказал: — Деда, мой мудрый организм подсказывает, что ему нужно… мороженого. Дед кашлянул и ответил: — Кум Андрей, не бери пример со свиней. Только лихоманка отпустила, и снова хочешь? Скажи своему организму, что он не мудрый, а дурной, если такое тебе подсказывает. Совсем поправишься, тогда будешь есть. Это еще больше усилило мое желание поскорее выздороветь. Вы же знаете, как я люблю мороженое. На третий день после нашего с Павлушей разговора Любовь Антоновна послушала меня своим щекотнымхолодным ухом, ощупала мою ногу и сказала: — Можешь понемножку выходить во двор, но очень не бегай, а то снова простудишься. Как же это приятно вместо потолка над головой видеть бездонное голубое небо и дышать свежим ветром, который щекочет тебе кожу нежным прикосновением, и слышать, как приветливо шепчут листья на деревьях, и чувствовать под ногами твердую землю, и брести по улице без всякой цели, и улыбаться без причины, просто потому, что светит солнце, что мурлычет на завалинке кот, что хрюкает в луже свинья — что жизнь прекрасна!.. И хоть шел я, повторяю, без всякой цели, просто так, чтоб немного пройтись (так как далекие прогулки были мне еще строго-настрого запрещены), ноги сами повели меня в сторону улицы Гагарина. А мне на эту улицу докторша даже носа показывать не разрешила. — Я знаю, все сейчас там дружно работают и тебя потянет, — сказала она. — Так вот, если я тебя там увижу, то прямо при всех возьму за ухо и поведу домой. Я хорошо знал, что Любовь Антоновна женщина серьезная и слов на ветер не бросает. Но… я ничего не мог поделать со своими ногами. Правда, я шел не прямой дорогой, а сделал порядочный крюк. Потому что сначала должен ведь был я взглянуть на эту самую мачту возле школы, как вы думаете? А что, как там… Хоть мы с Павлушей, конечно, договорились, что он внимательно будет следить за мачтой, несколько раз в день смотреть на нее и мне докладывать. Но что, если он заработался и… На мачте сидела сорока и легкомысленно трясла длинным хвостом. Увидев меня, она снялась и полетела. Никакого флажка не было. Теперь я мог спокойно идти на улицу Гагарина. Еще издали я услышал веселую музыку стройки: звонко тюкали топоры, перестукивали гулко молотки, голосисто выводила свою песню электропила, которую притащили из колхозной столярки и поставили под наскоро сбитым навесом возле электрического столба. Улица смолисто пахла свежими стружками. Все вокруг звучало и двигалось — взад-вперед сновали люди, неся доски, бревна, разный инструмент. В большинстве своем это были молодые, крепкие парни, стриженные наголо, до пояса обнаженные. И только по зеленым галифе и сапогам можно было узнать, что это солдаты. На подручных работах у них трудились наши ребята. Вон и Вася Деркач, и Степа Карафолька, и Вовка Маруня… Да и Павлуша где-то здесь, наверно. Ремонтировали хаты, чинили сараи, ставили новые плетни и заборы. И работалось им, видно, с радостью, весело — кто-то пел, кто-то насвистывал, кто-то шуточки отпускал, которые сразу вызывали дружный смех… Я стал на углу за колодцем под навесом и только с завистью поглядывал на эту веселую, шумливую суету. Поглядывал и прятался за колодцем. Не хотелось, чтоб меня тут увидели: если я не могу вместе с ними, то зачем… И вдруг услышал радостный звонкий возглас: — Ой! Ты уж выздоровел? Поздравляю! Позади меня стояла с ведром в руках… Гребенючка и приветливо улыбалась. Я покраснел и нахмурился. Вот еще! Нужно же было, чтоб как раз она меня и увидела! — Спасибо! — буркнул я и, не оглядываясь, пошел прочь. Вечером я начал наступление на родителей. — Во-от! — тянул я, скривившись, как среда на пятницу. — Сколько еще мучиться! Я уже совсем здоров, а мне ничего не позволяют! Так я зачахну и совсем пропаду. Я не могу больше. Ну дедуся, ну вы же у нас мудрый, ну объясните им, что я уже совсем-совсем здоров. Родители меня долго убеждали, что я глупый, что сам не понимаю, как сильно болел, что лучше лишний день выдержать, чем потом лежать, и снова называли меня глупым, а я говорил, что они умные и поэтому должны меня понять… Наконец маме надоело, и она сказала: — Ну ладно! Договоримся так. Завтра последний день ты еще побудешь на карантине, а послезавтра, если все будет хорошо, можешь немножко пойти поработать, только немножко, часика полтора, не больше… И делай что-нибудь легкое, иначе ты же знаешь… Последний день, если чего-нибудь ждешь, всегда самый длинный, самый нудный, самый тяжелый. Это все равно как последние минуты на вокзале перед отходом поезда. Уже попрощались, поцеловались, уже радио объявило: «Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих, и освободите вагоны». Уже в который раз сказано: «Так ты смотри, осторожно! И сразу напиши, хорошо?» — а поезд стоит. Я слонялся по двору, по безлюдным улицам и томился, томился, томился… Улицу Гагарина я обходил за версту. Только издали я слышал веселый шум строительства. Зато к школе я подходил раз десять. Меня как будто на веревке туда тянули, к той почерневшей от дождей, рассохшейся и чуть скособоченной ветрами мачте, которая торчала посреди школьного двора. Во время пионерских линеек на ней гордо и торжественно развевался флаг, а в другое время она теряла свое высокое предназначение, и мальчишки старались закинуть на ее верхушку чью-нибудь шапку. Это удавалось очень редко, но когда удавалось, то делало счастливчика в тот день знаменитым на всю школу, а мальчишкам доставляло много радости, потому что тогда устраивали необычное состязание — кто собьет шапку комком земли. Кидали по очереди, каждый три комка. Порядок при этом был «железный», и кто старался его нарушить (или кинуть больше трех раз, или без очереди), тот получал подзатыльник! Один раз мне здорово повезло: я не только закинул шапку на мачту, но и сбил ее, и шапка была не чья-нибудь, а Карафолькина. Он ею страшно гордился — белая в крапинку кепочка с шишечкой на макушке. Этот день я всегда вспоминаю как один из самых счастливых в моей жизни. Вот и теперь, глядя на мачту, я вспомнил свой прошлый триумф, и сразу стало как-то легко на сердце. И захотелось вдруг закинуть что-нибудь на мачту. Шаря вокруг глазами, я прошелся по двору, потом — за школу, туда, где был сад, на пришкольном участке. Но, свернув за угол, я сразу забыл, за чем шел. Внимание мое привлекли рисунки, выставленные в окне пионерской комнаты. Это была постоянно действующая выставка работ членов изокружка. Анатолий Дмитриевич выставлял лучшие рисунки своих учеников в окне пионерской комнаты, и эта выставка все время обновлялась. Теперь все рисунки и скульптуры были новые и все посвящены тому, как спасали село от наводнения. Затопленные хаты, амфибии, нагруженные всяким скарбом, солдаты, снимающие людей с крыш, и т. д. А один рисунок… У меня перехватило дыхание, когда я взглянул на него. На этом рисунке я увидел… себя! Темная, почти под потолок затопленная хата, в углу икона, перед которой горит лампадка, а посреди хаты, ухватившись за провод, в воде — я… Ну конечно, это был рисунок Павлуши. И так здорово, так точно было нарисовано, будто он сам пережил это. Вот что значит художник! Молодец! Просто молодец! Он наверняка станет художником. Есть у него способности, есть. У меня насчет этого — никаких сомнений. И впервые я подумал об этом без зависти, а с искренней радостью. И впервые я почувствовал, какое это прекрасное чувство — гордость за друга. Я долго разглядывал рисунки. Там было много хороших, но с Павлушиным не мог сравниться ни один. И молчал ведь, сатана, ни слова мне не сказал. Вот я сейчас пойду и прямо скажу ему, что он талант, и… дам в ухо. Чтоб не задавался. Для талантов главное — не задаваться. И потому обязательно им нужно время от времени давать в ухо. Я решительно направился на школьный двор. И вдруг стал как вкопанный. Возле мачты стояла… Гребенючка. Стояла и прицепляла к шнуру, на котором поднимают флаг, белый платочек. Это было так непонятно, так фантастично, что я просто оторопел. Тьфу ты! Так, значит, один из трех неизвестных — Гребенючка! Вот тебе и на́! Да почему же из трех? Может, она одна все это и придумала! «Г.П.Г.» — Ганна Петровна Гребенюк. Но она ведь не Петровна, она Ивановна. Ведь ее отец Иван Игнатович. И почерк же совсем не ее, взрослый почерк. И по телефону говорил басистый дяденька. Она никогда в жизни так голос не подделает. И письмо ведь мне передал офицер на мотоцикле. И мне и Павлуше. Павлуше? А может… Может, Павлуше вообще никто никакого письма не передавал и ничего с ним такого не было, а просто он с ней заодно. Молчал ведь, не признавался, пока уж я первый не начал. И «Г» — это Ганя. «П» — Павлуша, а второе «Г» — может быть, Гришка Бардадым или еще кто-нибудь. А я-то, дурак… Нет! Вряд ли! Павлуша не может быть таким предателем! Тогда вообще нет правды на земле! Нет! Пожалуй, одно только мог Павлуша: не удержаться и рассказать ей про письмо (мы с ним тогда в ссоре были). А может, она сама то, второе письмо прочитала. Она же староста кружка, собирает альбомы, а ведь то письмо было в альбоме. Точно! Прочитала и решила подшутить. А может быть, даже захотела что-нибудь подстроить, чтобы поссорить нас. Видит, что мы помирились, и это ей покоя не дает. У-у, курноска паршивая! Мне ужасно хотелось подскочить сейчас к ней и двинуть ей как следует. Но я сдержался. Это бы значило признать себя побежденным. Нет! Нужно что-то придумать такое, чтоб ей… Она ведь не знает, что я вижу, как она прицепляет платок. И этим можно здорово воспользоваться. Спокойно, Ява, спокойно, дорогой! Дыши глубже и возьми себя в руки! Гребенючка потянула за шнур, и белый платок пополз вверх, на верхушку мачты. Когда платок был уже наверху, Гребенючка воровато оглянулась вокруг и шмыгнула на улицу. Меня она, конечно, не заметила, потому что я стоял за углом школы да еще и в кустах. Я еще несколько минут простоял вот так, не двигаясь. В голове роились беспорядочные мысли. Я никак не мог придумать, что бы такое устроить Гребенючке, как бы ее проучить. Ишь решила шутки надо мной шутить! Ну погоди! Ты у меня запляшешь! Первое, что нужно сделать, — немедленно снять этот белый платок. Павлуша не должен его видеть. Если он не в сговоре с Гребенючкой, то подумает, что это правдивый знак. А если в сговоре, то должен будет как-нибудь выдать себя: начнет беспокоиться, почему на мачте нет платка, и я таким образом дознаюсь. Полминуты — и платок у меня в кармане. Солнце повернуло уже к полдню, скоро Павлуша прибежит домой. Я пошел ждать его у хаты. Его почему-то долго не было. Уже отец и мать Павлуши пообедали и снова пошли на работу, уже все соседи с улицы поели и разошлись, а его все нет и нет. Я уж волноваться начал — не случилось ли что-нибудь с ним. И наконец вижу — бежит. Запыхавшийся, взъерошенный какой-то, а глаза — как у зайца, что из-под куста выскочил, так и светятся. Кинулся ко мне и слова выговорить не может, только хекает: — Слу-шай!.. Слу-шай!.. Слу-шай!.. — Что такое? — спрашиваю. — Горит что-нибудь или снова наводнение? — Нет… Нет… Но… Слушай, он хочет ее украсть! — Кто? Кого? — Галину Сидоровну! — Кто?! — Лейтенант. — Тьфу ты! Что она, военный объект, что ли? Какой лейтенант? — Да грузин тот с усиками, с которым ты на амфибии ездил. — Он что, сдурел? — Не сдурел, а влюбился! И ты же знаешь, какие у них обычаи? «Кавказскую пленницу» помнишь? Понравится такому янычару дивчина, он ее хватает, связывает, на коня — и в горы!.. Понял? — Да откуда ты взял? Расскажи толком! — Слышал! Собственными ушами слышал! Понимаешь, начался обед, все разошлись. И я уже собирался… Как вижу, этот самый грузин возле нашей Галины Сидоровны ошивается и что-то ей нашептывает, а она отмахивается сердито и хочет уйти, а он ей дорогу преграждает. Это во дворе у Мазуренков, за хатой, там, где наполовину засохшая груша, знаешь. Ну, я спрятался на огороде в кукурузе, смотрю, что же будет. А она ему: «Ну отойди, ну отойди, я тебя прошу!» А он: «Не могу больше! Я тебя украду, понимаешь, да! Украду!» Она что-то ему сказала, я не расслышал, а он: «Сегодня в одиннадцать, после отбоя». А она как вырвется, как побежит. Он рукой только так — мах! — раздраженно и не по-нашему что-то залопотал, заругался, наверно, а глаза прямо как у волка — зеленым огнем пылают… Вот! — Ты смотри… — пожал я плечами. — А ведь вроде такой хороший. Мальца Пашковского спас. И вообще… — Прямо отчаянный. И видишь — дикий человек. От такого всего можно ожидать. Еще зарежет. У них у всех кинжалы, ты же знаешь. Меня сразу охватила горячая волна решимости. После стольких дней вынужденного бездействия и скуки душа моя требовала острых ощущений и действий. — Нужно спасать! — твердо сказал я. — Самим? — недоверчиво посмотрел на меня Павлуша. — А осилим? — Да чего там! Возьмем хорошенькие дубинки, а если что, поднимем такой тарарам — все село сбежится. Никуда он не денется! — Но тебя же из дому не выпустят так поздно. Ты ведь еще больным считаешься. — Да какой там больной? Сегодня последний день. Я, знаешь, к тебе в гости приду, а потом ты меня пойдешь проводить, и мы — фюйть! Мне даже самому весело стало, как я здорово придумал. Мы договорились так: Павлуша придет вечером со строительства, зайдет ко мне и пригласит в гости, а я заранее приготовлю хорошие увесистые дубинки и спрячу их в саду под забором. Поэтому Павлуша побежал быстренько пообедать — боялся, чтобы товарищи не подумали, что он отлынивает. А я сейчас же пошел в орешник срезать дубинки. Про Гребенючку я Павлуше так ничего и не сказал. Не хотелось портить ему настроение. Кроме того, у меня мелькнула мысль: «А ну как Гребенючка заодно с тем грузином…» Не то чтоб заодно, а просто он, возможно, ее запугал и заставил помочь. И всю эту историю с письмами придумал для того, чтобы меня и Павлушу выпроводить из села на то время, пока он будет выкрадывать Галину Сидоровну. Чтоб мы ему не мешали. И тут я подумал, что это наверняка он был тогда вечером в ее саду. И он знает, конечно, что мы с Павлушей в обиду ее не дадим… Так вот, как раз сегодня, когда он собирается выкрасть Галину Сидоровну, Гребенючка и вывесила на мачте этот условный белый флажок. Дубинки я долго выбирал в орешнике, но все же срезал две хорошие. Обе с такими балабухами на конце, что прямо настоящие палицы. Я был полон решимости биться до последнего. Я рвался в бой. А что? Если бы вашу любимую учительницу собирался кто-нибудь украсть, вы бы сидели сложа руки? Ну как же! Усидишь тут! Хоть она и двойки нам ставила, и из класса выгоняла… Но ведь она и ВХАТ вместе с нами создавала (Васюковский Художественный Академический театр), и в Киев на экскурсию нас возила, и пела вместе с нами, и вообще… Вот если бы завпеда Савву Кононовича кто-нибудь украл, я бы, наверное, и пальцем не шевельнул. Или учительницу математики Ирину Самсоновну. Пожалуйста, крадите на здоровье! Еще спасибо сказал бы. Еще вязать бы помог… А Галину Сидоровну — нет! Не позволю! Головы за нее не пожалею! За обедом я съел здоровенный кусок мяса — с полкило, не меньше. А на картошку даже не взглянул. Дед только крякнул, глядя на это. Но я на дедово кряканье не обратил внимания. Что мне его кряканье, если мне силы теперь нужны. А на картошке их не наберешь, для силы мясо нужно. Это все знают. Вечером никаких осложнений не было. Павлуша пригласил меня к себе, я пошел к нему, мы до пол-одиннадцатого играли с ним в шашки, а потом он вышел меня проводить. Мы забрали дубинки и направились к Галине Сидоровне. Зашли, конечно, не с улицы, а с той самой тропинки за огородами, по которой я тогда на велосипеде ехал. Пробрались в сад и затаились в кустах, там, где старший лейтенант Пайчадзе от меня прятался. И как я тогда не сообразил, что это был он! На тропке ведь даже след от мотоцикла остался… Кусты смородины, где мы сидели, были на небольшом бугре, и оттуда хорошо было видно и сад, и двор, и хату учительницы. Мы заметили, как Галина Сидоровна два раза выходила во двор, один раз воду из миски выплеснуть, другой раз — в погреб. И что-то не видно было, чтобы она волновалась. — Слушай, — прошептал я Павлуше, — может, ты напутал? Может быть, он сегодня красть не будет? И только я это прошептал, как с тропинки послышалось тарахтенье мотоцикла. Мы прижались друг к другу и замерли. Мотоцикл фыркнул и замолк, не доезжая до сада. «Конспирация! — подумал я. — А что, и я бы так сделал». Через некоторое время на тропинке появилась фигура старшего лейтенанта. Он двигался бесшумно, ступая мягко, как кошка. Прошел мимо нас, стал возле крайней яблони и вдруг защелкал по-соловьиному. Да так здорово, что, если бы сейчас был не август, можно было бы подумать, что это настоящий соловейко. Скрипнули двери. Из хаты вышла Галина Сидоровна. Вот ду… Вот глупая! Чего она вылезла?! Из хаты же труднее выкрасть, а так… Он начал ей что-то тихо, но с жаром доказывать, потом вдруг схватил за руку. — Пусти! — рванулась она. Ну, все! Надо спасать! Я толкнул Павлушу, мы выскочили из кустов и кинулись к Пайчадзе. Разом, как по команде, взмахнули палками. Кунь! Кунь! Я с одной стороны, Павлуша — с другой, как какие-нибудь молотильщики на току цепами, по голове его, по спине! Он сразу охнул, сник, выпустил руку Галины Сидоровны и, словно дерево на лесозаготовках, рухнул. — Тикайте! — закричал я изо всех сил. Но… Но тут случилось невероятное. Вместо того чтобы спасаться, она кинулась к лейтенанту, упала перед ним на колени и, обхватив руками, отчаянно закричала: — Реваз! Любимый! Что с тобой? Ты жив?!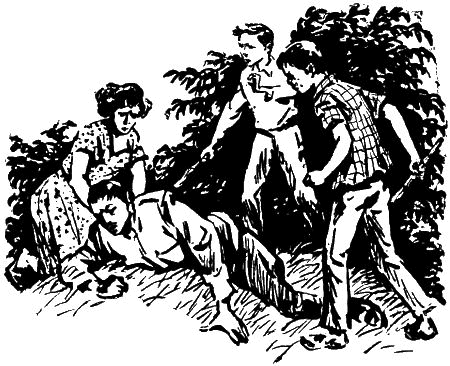
Я не видел в темноте, разинул ли Павлуша рот от удивления, но у меня нижняя челюсть так и отвалилась. И тут старший лейтенант, все еще лежа на земле, вдруг прижал нашу Галину Сидоровну к груди и воскликнул счастливым голосом: — Галя! Я живой! Я никогда не был такой живой, как сейчас! Ты сказала «любимый»! Я — любимый?! Вай! Как хорошо! Она отшатнулась от него, а он разом подскочил с земли и, как вихрь, пустился танцевать лезгинку, отставляя в сторону руки и выкрикивая: — Асса!.. Асса!.. Вай! Как хорошо! Асса! Я не раз видел, как радуются люди, но чтоб так, не видел никогда, честное слово. Потом он подлетел к нам, сгреб нас в объятия и начал целовать: — Хлопцы! Дорогие! Как вы мне помогли! Спасибо! Спасибо вам! Потом так же внезапно отпустил нас и стал серьезный. — Хлопцы! — сказал он как-то хрипло, приглушенно. — Хлопцы! Я люблю вашу учительницу! Люблю, да, и хочу, чтоб она вышла за меня замуж. А она… Она говорит, что это… непедагогично! Понимаете, любовь — непедагогична, а?.. Значит, ваши мамы не должны были выходить за ваших пап, да, потому что это непедагогично, а? У-у! — Он шутя сделал угрожающее движение в сторону Галины Сидоровны, потом нежно положил ей руку на плечо. — Ну, теперь они уже всё знают, да. Скрывать уже нечего. И тут уж я не виноват. Завтра, да, пишу родственникам. Все! Галина Сидоровна стояла, опустив голову, и молчала. Я подумал, каково ей, нашей учительнице, которая всю жизнь делала нам замечания, слушать все это при нас. Нужно было что-то сказать, чтобы спасти ее из этого положения, но в голове было пусто, как у нищего в кармане, и я не мог ничего придумать. И тут Павлуша встал на цыпочки, вглядываясь в лицо Пайчадзе, и сказал: — Простите нас, пожалуйста, но… у вас вон там кровь на лбу. — Где? Где? — встрепенулась Галина Сидоровна. — Ой, действительно! Нужно сейчас же перевязать! Молодец Павлуша! — Нате, нате вот! — кинулся я, выхватывая из кармана тот самый белый платочек, который снял с мачты. Галина Сидоровна, не раздумывая, схватила его. — Идем быстрей в хату. Тут ничего не видно. Нужно промыть, зеленкой смазать. Мы с Павлушей нерешительно топтались на месте, не зная, идти ли нам тоже в хату, или остаться на дворе, или совсем убираться отсюда. Но Пайчадзе подтолкнул нас в спину: — Идем, идем, хлопцы! Идем! В хате Галина Сидоровна засуетилась, разыскивая зеленку. Она бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню, хлопала дверцами шкафа и буфета, что-то у нее летело из рук, звякало, падало, разливалось, рассыпалось, и никак она не могла найти эту зеленку. Старший лейтенант смотрел на нее растроганно-влюбленными, сияющими глазами. А мы смотрели на него. На коротко стриженной голове его, будто рожки у молодого чертика, выпирали две здоровенные шишки, а из-под волос на лбу стекала тоненькая струйка крови. Мы смотрели на него виновато и с раскаянием. Найдя наконец зеленку, Галина Сидоровна взялась перевязывать Пайчадзе. И, глядя, как бережно, с какой нежностью промывала она ему ваткой шишки и какое при этом блаженство было написано на его лице, я подумал: «Ну до чего же эти учителя все-таки странные люди! Они думают, что мы дети, что мы ничего не замечаем. Ха! Вы спросите Павлушу про Гребенючку! А я, думаете, Вальку из Киева не вспоминаю? Ого-го! Мы очень даже все хорошо понимаем. Прекрасно!» Жаль только лейтенанта… А крепкая у него все-таки голова. Если бы мне вот так долбанули раза два по кумполу, то он, наверно, треснул бы, как арбуз. — Простите, пожалуйста… Пожалуйста… простите, — виновато пролепетали мы. — Да что вы, хлопцы! — радостно улыбнулся Пайчадзе. — Это самые счастливые минуты, да, в моей жизни. И это сделали вы, да! — Мы думали, что вы хотите украсть… — пробурчал я. — И решили спасать… — пробурчал Павлуша. — Спасать?! А? Спасать? Ха-ха-ха! — загрохотал на всю хату лейтенант. — Слушай, Галя! Слышишь, какие у тебя геройские питомцы, да! Вай, молодцы! Вай! Ты права, им нельзя ссориться, да, ни за что нельзя ссориться! И вы никогда не будете ссориться, правда? Ваша дружба, да, будет всегда крепкой, как гранит того дота! Вы на всю жизнь запомните, да, тот дот! И вы, конечно, не сердитесь на нас за эту тайну, да? «Г.П.Г.». Герасименко. Пайчадзе. Гребенюк. Но все, что вы сегодня прочитали там, святая правда. Павлуша вытаращился на меня: — Г-где… что прочитали? Я пожал плечами. — Как! Разве вы сегодня не были у дота? — теперь уже удивленно проговорил старший лейтенант. Он глянул на Галину Сидоровну. Та растерянно захлопала глазами. — А… а этот платочек? — Галина Сидоровна подняла руку с платочком, который я ей дал. — Это ведь… это ведь… тот самый, я же вижу. Мой платочек, который я дала Гане. Ой, мальчики… Павлуша вопросительно взглянул на меня. Я опустил голову: — Это я… снял. Он даже не знает. Я случайно увидел, как она прицепляла. Я думал, что она как-нибудь узнала и хочет посмеяться. Поссорить нас снова. — Да что ты! Что ты! — воскликнул старший лейтенант. — Скажешь еще — поссорить! Совсем наоборот! Это ведь она все придумала, чтоб помирить вас. Помирить, понимаешь! Она замечательная девчонка! Павлуша покраснел и опустил глаза. И я вдруг вспомнил, как обрызгал Гребенючку грязью, а она сказала, что это грузовик и что сама виновата… И я тоже покраснел и опустил глаза. Боже мой! Неужто я такой болван, что все время думал про нее бог знает что, а она, оказывается, совсем не такая?! Что ж тогда она должна про меня думать? Она же наверняка считает, что я самый настоящий болван. И выходит, что это правда! И никто этого так не знает, как я сам!
Глава XXVIII. Последняя, заключительная, в которой история наша, как это бывает в старых классических романах, заканчивается свадьбой
На следующий день все село облетела весть о том, что наша учительница, наш классный руководитель Галина Сидоровна Герасименко выходит замуж за старшего лейтенанта Реваза Пайчадзе. Это было так неожиданно, что все прямо рты разинули от удивления. Никто никогда ничего не замечал и не подозревал. Всем было известно, что наша Галина Сидоровна очень гордая, неприступная и независимая. В нее влюблялись — да! Но она — никогда! Она ходила как царица, и никто не отваживался приблизиться к ней. В ответ на робкие ухаживания она только смеялась. И вот оказывается, что уже больше года она любила этого старшего лейтенанта и не признавалась ни ему и никому на свете. Она запретила ему на людях даже подходить к ней. Она считала, что учительница не имеет права влюбляться, потому что это может уронить ее в глазах учеников, подорвать авторитет, отрицательно сказаться на воспитании у школьников высоких моральных качеств. И кто знает, сколько бы еще мучила она лейтенанта и мучилась сама, если бы не мы с Павлушей… А теперь уж деваться было некуда. То единственное слово, что невольно слетело с ее языка в нашем присутствии, отрезало ей пути к отступлению. Наша Галина Сидоровна выходила замуж! — Ну, дай бог ей счастья, — говорили бабы. — Парень он, видать, хороший. — Говорят, умный, добрый… — И не пьет… — А какой воспитанный! — Да что там говорить — ну просто герой! Ребенка спас! — Я своего Карпа хоть сегодня на такого бы променяла… — Да такой-то тебя не возьмет, ведь ты косоглазая. — Нашлась красавица! Сама рябая и кособокая! И в носу свистит! — Да цыцте вы! Раскудахтались! — Надо было лет тридцать назад об этом спорить, теперь поздно. Внуков скоро будете женить. — Вот я и говорю — дай ей бог счастья! — Жаль только, хорошая была учительница. Кто еще с этими разбойниками так возиться будет, как она. Другая бы их и грамоте не научила. Так бы в ведомости и ставили крестики вместо подписи. — Говорят, их полк зимой где-то под Киевом стоит. — В казарме, значит, жить будут… — Почему в казарме? Семейные офицеры в отдельных квартирах живут. Газ, ванна, холодильник — все, что нужно. — А через год, говорят, он в академию поступать будет. На генерала учиться. — Дай им бог счастья! А нам как-то сначала и в голову не пришло, что ведь она уже не будет больше нашей учительницей. Мы были взволнованы и взбудоражены, мы собрались всем классом, чтобы обсудить это чрезвычайное происшествие. Еще бы! Не каждый день твоя учительница выходит замуж! Да еще какая! Классная руководительница, которая ведет тебя с самого первого класса, знает как облупленного и к которой, несмотря на ее «выйди из класса» и двойки, ты привык, может быть, больше, чем к родной тетке, потому что родную тетку видишь обычно только по праздникам, а ее каждый день. Но из обсуждения ничего не вышло. Мы только мдакали, чертили и ковыряли каблуками землю. Кто-то (кажется, Антончик Мациевский) попробовал шутить, хихикнул, но на него сразу зашикали, он сник и рта больше не разевал. Наконец среди общей тишины Гребенючка дрогнувшим голосом проговорила: — Не будет у нас уже такой классной руководительницы… Никогда… Кого б ни назначили… И тут только мы поняли, что наша Галина Сидоровна больше не наша, что мы расстаемся с ней навеки. И мы понурили голову, и наступила мертвая гнетущая тишина. И я вдруг почувствовал, прямо физически почувствовал, как щемит не только мое собственное сердце, а сердца всех нас — и Павлуши, и Гребенючки, и Степы Карафольки, и Коли Кагарлицкого, и Васи Деркача, и Антончика Мациевского… Будто сердца наши были соединены между собой тоненькими невидимыми проволочками и по этим проволочкам сразу пустили ток — щемящий ток печали. — Знаете, — тихо сказал Павлуша, — нужно с ней попрощаться. И так, чтобы она запомнила это на всю жизнь. — Правильно, — сказал я. — Правильно, — поддержала Гребенючка. — Правильно, — добавил Карафолька. И все по очереди сказали «Правильно», будто других слов и не было на свете. — Как-нибудь торжественно надо, знаете, — продолжал Павлуша. — Собраться в нашем классе, принести цветов, подготовить выступления… — Правильно, — снова сказал я, — и… Я хотел сказать что-то в дополнение к Павлушиным словам, но никакой мысли, как назло, в голове в этот момент не оказалось. Но я уже сказал «и» и должен был продолжать. И я сказал: — и… правильно! Это было смешно, но никто даже не улыбнулся. Такое у всех было настроение. Для подготовки торжественного прощания с Галиной Сидоровной решили создать специальную комиссию. Начали выбирать и выбрали Степу Карафольку, Колю Кагарлицкого и Гребенючку. Ни Павлушу, который подал саму идею прощания, ни меня в комиссию не выбрали. Они, должно быть, считали, что для такого серьезного дела мы не подходим. Не станешь же спорить и выдвигать свою кандидатуру. Прощаться решили накануне свадьбы. Времени для подготовки оставалось почти две недели. Ну что ж, пусть готовятся… А мы с Павлушей сели на велосипеды и махнули в Волчий лес. Хоть это было уже и не так интересно, но мы должны были все-таки прочесть, что там написали эти «трое неизвестных», эти «Г.П.Г.». В лесу возле дота было тихо и торжественно. И как-то не хотелось нарушать эту тишину. Невольно мы старались ступать бесшумно. Павлуша засунул руку в расщелину над амбразурой и вытащил сверток: в прозрачном полиэтиленовом мешочке была завернута какая-то бумага. Павлуша развернул, и я сразу узнал почерк — четкий, с наклоном в левую сторону, каждая буковка отдельно (почерк старшего лейтенанта Пайчадзе). Мы сели на холодную замшелую каменную глыбу, я обнял Павлушу за плечи, прислонился головой к его голове, и мы начали про себя читать.Дорогие друзья! Ява и Павлуша! Это очень-очень хорошо, что вы помирились. Наша тайна теперь не нужна. Потому что все это было придумано для того, чтобы вас помирить. И мы надеемся, что вы не обидитесь на нас за это. Мы хотим от всего сердца пожелать вам, чтобы свою дружбу вы пронесли через всю жизнь. Святое это дело — дружба. Самое святое и самое чистое на свете. И чище всего оно в детстве. Берегите же его и цените! Ведь самые верные, самые большие, самые прекрасные друзья — это друзья детства. И тот, кто на всю жизнь сбережет друга детства, тот счастлив! А кто не сбережет, плохо тому придется. Потому что детство не повторяется… И проживет этот человек свою жизнь без дружбы. И будет она совсем безрадостной, хоть, может быть, и долгой. И не почувствует он себя по-настоящему человеком. Потому что больше всего ты Человек, когда что-нибудь делаешь для друга! Не забывайте этого, ребята! И пусть ваша дружба будет такой же крепкой, как эти каменные глыбы, которые стали памятником настоящей солдатской дружбе, дружбе до последней капли крови… Г. П. Г.Мы уже давно прочитали письмо, но все еще сидели, не двигаясь, и молчали.

И так же, как тогда, на чердаке у бабки Мокрины, когда Павлуша вытащил меня из воды, я вдруг почувствовал неистовую, горячую радость от того, что он рядом, что он мой друг, что мы помирились. Неужели я мог быть с ним в ссоре! И не разговаривать! И проходить мимо, будто незнакомый! Чушь какая-то! Черт те что! Но… неужели Гребенючка писала это письмо? В голове не укладывалось! Хоть убей! Извините, но я еще не мог привыкнуть к мысли, что Гребенючка — и вдруг такая хорошая. Это только в книжках так бывает, что герой только р-раз — и вмиг перевертывается на сто восемьдесят градусов: из плохого делается хорошим, из хорошего — плохим, кого ненавидел, сразу начинает любить и наоборот. Я так сразу не могу. Я буду постепенно. Мне нужно привыкнуть. Конечно, письмо писала не Гребенючка, а Галина Сидоровна. Хотя писал-то на бумаге его Пайчадзе, но придумывала, диктовала Галина Сидоровна. Он бы так не написал, хотя бы потому, что языка украинского не знает. Конечно же, Галина Сидоровна и тот разговор со мной по телефону ему написала, и он только читал по бумажке (потому что так солиднее да и легче акцент сбить). Вообще они думали, что все будет очень легко и просто, что они малость поводят нас за нос с этими загадочными инструкциями, заставят делать тайно друг от друга одну и ту же работу (из-за этого в разное время и назначали!), а потом столкнут носами и заставят помириться. Намечалось, что мы будем по очереди раскапывать и расчищать дот, чтобы в конце концов создать там музей боевой славы. Пайчадзе заранее даже маленькую саперную лопатку тут припрятал. Но вышло все не так, как думали и намечали. Неожиданно, после того как Пайчадзе уже вручил мне и Павлуше письма, были объявлены по тревоге военные учения. В армии, оказывается, всегда так: никто ничего не знает, ни солдаты, ни офицеры, и вдруг тревога — боевая готовность номер один! И все! А что ж, это верно — армия ежеминутно должна быть готова к бою. Хорошо, что Пайчадзе со своим подразделением остался в лагере — «в охранении». А то ведь Галина Сидоровна сказала ему: «Делай теперь что хочешь, но чтобы ребята мои зря не волновались и не переживали!» Это ведь он вечером после встречи с нами возле дота ездил отчитываться к ней, а я его в саду выследил и наделал шуму (правда, он переждал в кустах и потом все же встретился с ней). И утром пришлось ему звонить по телефону. А Павлуше письмо в альбом для рисованья это уж, конечно, Гребенючка подложила. В общем, всю эту кашу заварила Гребенючка. Она, видишь ли, не могла смотреть, как мучается и страдает Павлуша. (Он, значит, страдал, мучился, а я-то, дурак, думал!..) И решила нас помирить. Но сама этого сделать она не могла, потому что знала, как я ее «люблю». Тут все бы вышло наоборот. Тогда пришла она посоветоваться к Галине Сидоровне. А Галина Сидоровна подключила к этому делу своего Пайчадзе, и уже втроем они разработали план операции. Гребенючка прямо сказала: — Нужно что-то интересное придумать. А то ведь они такие ребята… Просто так на удочку не пойдут. Больно вредные. Нужно какую-нибудь загадочную тайну. Вот это они любят! Ну и что ж? Подумаешь! А кто это из ребят не любит, чтобы было интересно, не любит тайн и загадок! А вот с раскапыванием дота вряд ли бы что получилось. Мы бы сразу догадались, что это подстроено, и их затея провалилась бы. — Ну ты скажи, Павлуша, а?! — Ага! — Ух! А если бы мы придумывали, мы бы такое выдали, будь здоров! Вот не знаю, что эта самая комиссия сейчас думает, в которую нас не выбрали. Конечно, они все отличники, серьезные, примерные, но ведь фантазии-то у них — кот нарыдал, всем известно! А тут ведь нужно что-нибудь такое… грандиозное, небывалое, космическое! — Ой! Слушай, Павлуша! — вдруг воскликнул я. — А давай… И, захлебываясь, я начал выкладывать ему свою идею. — Молодец, Ява! — вскрикнул он. — Молодец! Гений! Я всегда говорил, что ты гений! — Только чтобы никто не знал, — сказал я. — Пусть они себе готовятся официально, а мы… — Это будет наша тайна, — подхватил Павлуша. — Тайна двух неизвестных! — Точно! Мы начали готовиться в тот же день. Потому что то, что мы придумали, требовало очень большой, кропотливой работы и времени. Хорошо, что со строительством на улице Гагарина было все закончено, а то мы просто не успели бы. Эта улица стала еще красивее, чем до стихийного бедствия, прямо как игрушечка. Теперь все село готовилось к свадьбе. Такой свадьбы у нас еще не знали. Всеми любимая учительница выходила замуж за героя-офицера, который вместе со своими солдатами спасал село от наводнения. Правление колхоза единогласно проголосовало за то, чтобы устроить свадьбу на всю Васюковку, пригласив спасителей-военных. В колхозном саду плотники сбивали стол, длиннющий, почти на километр! За этим столом должно было разместиться все село до одного человека и гости… Стол этот должны были радиофицировать: через десять метров поставить переносные микрофоны, а на деревьях повесить громкоговорители, чтоб того, кто будет выступать с тостом, слышали все. Вот будет здорово! А мы с Павлушей готовились отдельно… За три дня до свадьбы из Грузии прилетели родственники и друзья нареченного. Их было человек сто, не меньше. Они закупили целый самолет до Киева — «ТУ-104», а из Киева заказали три автобуса и одно грузовое такси. На этом такси приехало десять бочек грузинского вина и уж не знаю сколько ящиков с мандаринами, апельсинами, гранатами, чурчхелою и другими кавказскими лакомствами. Это было здорово! А мы с Павлушей готовились отдельно… Вся наша самодеятельность под руководством заведующего клубом Андрея Кекалы ночами до самого утра разучивала и репетировала новую программу для свадебного концерта. Гвоздем ее был вновь созданный «хор старейшин» (то есть стариков и старушек). Кекало где-то вычитал, что в Грузии есть такой хор, и немедленно решил создать у себя. Как ни странно, наши дедушки и бабушки охотно откликнулись на эту идею. И вышел мощный хор. Уж кого-кого, а дедушек и бабушек у нас хватает. Соседнее село ведь так и называется — Дедовщина… У нас долго живут люди. Вон бабушка Триндичка сто десять отмахала. А восемьдесят, девяносто — это у нас запросто. Профессор из Киевского института долголетия приезжал, так он говорил, что это из-за того, что у нас вода хорошая — раз, свежий воздух — два, любят трудиться — три и почти нет плохих людей — четыре… А я думаю, что главная причина в том, что у нас народ веселый, все любят шутить и смеяться. А смех — дело здоровое! И говорили, что хор дедов разучивает все песни веселые, шуточные. Это было здорово! А мы с Павлушей готовились отдельно… И вот подошел канун свадьбы. Утром на школьном дворе комиссия созвала весь класс и доложила о результатах своей работы. Решили, значит, так. Сначала празднично убираем класс. Чтоб был как во время экзаменов: стол, накрытый красной скатертью, от дверей — ковровая дорожка, на столе и на окнах — цветы. Потом идем домой, одеваемся во все самое нарядное, праздничное. Каждый берет букет цветов. Приходим в школу. Садимся за свои парты. Ровно в два часа (как на урок — мы во вторую смену последний год учились) придет Галина Сидоровна. Ее уже предупредили вчера. Первой выступит Гребенючка (председатель комиссии). Скажет слово от девчат класса. У нее написано две странички. Она прочитала — всем понравилось, даже мне: здорово, хоть и слишком жалостно. Потом выступит Коля Кагарлицкий — скажет слово от ребят класса. У него было написано целых три с половиной страницы и тоже здорово — с именами, фактами, меня с Павлушей вспоминает, наши выходки, простите, мол, за все… Третьим выступит Карафолька и прочтет… стихотворение. Собственного изготовления. Это было для всех нас страшной неожиданностью. У нас и мысли никогда не было, что Карафолька может слагать стихи. И вдруг… Творил свой стишок Карафолька ровно столько же времени, сколько и господь бог землю — шесть дней. Только, по-моему, результаты были значительно хуже. Хотя девчонкам стишок этот, понравился, особенно последние строчки:

Втроем дело пошло лучше. Пожар стал понемногу сдавать. Уже больше было дыма, который нестерпимо ел глаза, так что слезы текли по щекам беспрерывно. Но, несмотря ни на что, мы изо всех сил продолжали борьбу с огнем. И наконец он смирился и погас. Мы еще долго ходили по гари, затаптывая тлеющие места, чтоб не разгорелось снова. И вот все кончено. Изнемогшие, мы сели на землю и сидели молча, только переглядываясь и тяжело дыша. Лица у всех были закопченные, черным-черны, обгоревшая одежда свисала клочьями. Я глянул на Гребенючку и улыбнулся. А она все же молодец! Ей-богу, молодец! Не бросила нас в беде, не убежала, не испугалась огня. Наоборот! Билась с пламенем, как… как тигрица. Молодчина! И я подумал: «Интересно, наверно, было бы нарисовать такую картину: сидят трое после того, как погасили пожар, — ободранные, грязные, закопченные, но счастливые, как солдаты-победители…» И еще я подумал, что, должно быть, и Гребенючка и Павлуша станут все-таки художниками. Ну что ж. Пусть! А что ж такого, если есть способности? Вон ведь как змея разукрасил Павлуша. Красота, что за змей был! И вдруг неожиданная мысль пришла мне в голову: кем бы мы ни стали в жизни, но солдатами мы будем обязательно. Это уж точно. Кончим школу и пойдем в армию. И, может быть, даже попадем в те самые лагеря, которые в нашем лесу. К полковнику Соболю. Вот было б здорово! И будем мы с Павлушей дружить самой крепкой, самой верной солдатской дружбой — до последней капли крови. Ну, а… Ганька? Гребенючка? Ну что ж, пусть будет и Ганька! Пусть будет Ганька-пулеметчица. Как в «Чапаеве». Пусть!
Последние комментарии
9 минут 56 секунд назад
16 часов 14 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 11 часов назад