Всегда вместе [Оскар Адольфович Хавкин] (fb2) читать онлайн
- Всегда вместе 2.15 Мб, 182с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Оскар Адольфович Хавкин
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Оскар Адольфович Хавкин
Всегда вместе

Памяти комсомольцев Могочинской средней школы, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Пойдут на смерть — не предадут такие.С. Щипачев
1. Восьмиклассники

Кто-то часто застучал в ставню. Твердые удары перемежались глухими, мягкими. Так, кнутовищем, стучал только отец. Кеша сквозь полусон услышал, как соскользнула с кровати мать и, быстро переступая босыми ногами, прошла в сени. Звякнула железная задвижка. Кеша поежился: морозный пар хлынул в избу из распахнутой двери. Пока отец разматывал шарф, сбрасывал полушубок и переобувался, мать успела растопить плиту, сходить в кладовую за морожеными пельменями, поставить на огонь чайник. Кеша потянулся и тотчас почувствовал у себя на голове сухую ладонь. — Сынок, вставай! Расколи пару чурок. Натягивая рыжие изюбревые унты, накидывая телогрейку, Кеша соображал, почему отец так рано вернулся из Загочи. Отец уже сидел за столом. Он знакомым движением провел пальцами по вислым усам и медлительно и деловито начал есть. Крепкий утренний мороз охватил Кешу, едва он вышел на крыльцо. Серый рассвет, скаредничая, неохотно заполнял котловину Новых Ключей. Поселок лежал внизу. Домики сбегали с двух крутых склонов, будто торопясь к ключу, и, сопутствуя ему, лепились друг к дружке до самой реки — до Джалинды, очертившей здесь широкую и плавную дугу. На той стороне ключа кривые, узкие тропы тянулись вверх и вливались в широкую дорогу; она вела на бегунную фабрику[1]. Налево, за рекой, в густом кедровнике выделялось новое здание рудничной больницы. А за нею — ныряющий в тайгу проселок, по которому этой ночью отец возвращался из районного центра. Кеша повернул голову. Над тропой, пролегавшей через хребет на север — на Иенду и Чичатку, — стояла плотная морозная мгла. А кругом — молчаливые, чуть забеленные снегом сопки. Кеша по привычке стал считать: «Одна, две, три…» и улыбнулся: будто он не знает, что их двадцать три. Кеша запахнул телогрейку, поддел ногой пузатую колоду и, играя колуном, быстрыми, точными движениями расколол ее. Сухое дерево позванивало, как струна. Занося в избу огромные охапки сладко пахнущих поленьев, Кеша услышал обрывки разговора. Разомлевший от еды и тепла, отец ронял короткие фразы: — Дорога дрянь: ни два ни полтора… На телеге — поздно, на санях — рано. Верхом совсем не проехать. Пришлось низом петлять, мимо старого зимовья… Сизый дым от самокрутки обволакивал продубленное морозом лицо Назара Ильича. — После праздников полегчает, — говорит отец. — Снегу насыплет. В эту зиму на рудник завозу много будет, — отцовские усы приподнялись в довольной усмешке, — на всю зиму мне работенки подвалят… Владимирский в тресте всех на ноги поставил. Кеша догадывался: придет оборудование для новой гидравлики. Дело серьезное, если сам директор рудника уже третью неделю не выезжает из районного центра. — Толкуют в районе, — продолжал отец, — будто за хребтом к разъезду новую дорогу проложат… Уже весной начнут. — Да и в прошлом году толковали, — поддержала его мать. — Давно надо. Хоть бы почта не припаздывала… Мать слушала отца, склонив голову с черными, отливающими синевой волосами. По ним ото лба до затылка бежала серебряная дорожка седины. Кеша, подсев к столу, слушал. — Железнодорожники клуб себе отгрохали: каменный, в два этажа, с библиотекой, с биллиардом. В Чите такого нету, право! Горняцкий театр там спектакли ставит, сходил разок. Все мельче и незначительнее, как хлебные крохи, становились новости, но Кеша угадывал по отцовским глазам: что-то прибережено еще. Назар Ильич встал, мешковатый, плечистый, потянулся, из-под клочкастых бровей хитро посмотрел на сына: — Ну, паря, для тебя особая новость есть. До праздников еще раз оборот сделаю: новый учитель меня в районе дожидается. В нашу школу направление имеет. Вещички его привез — на базе оставил… Бронзовое, со слегка выступающими скулами Кешино лицо (весь в мать!) оживилось, но отец уже повалился на постель и дремотным, сипловатым голосом договорил: — Там, в овчине, в изнутренном кармане, газеты и письма… Которые конторские — я сам отнесу, а от директора снеси в больницу, Семену Степановичу… Сбегай… Просил очень… Матери уже нет в избе. Ее тихий, ласковый говор доносится со двора, из коровника, где в ответ хозяйке добродушно помыкивает безрогая Пеструшка.
А Кеша, конечно, к Захару, к дружку своему. К астафьевскому дому надо спускаться кривой, в размоинах, улочкой. Но Кеша, перескочив заплот, проходит задами по мерзлым грядкам огорода и через узкую дощатую калитку попадает в соседний двор. Белесоватый дымок, сливающийся с рассветом, вьется из трубы: значит, уже не спят. Захар Астафьев, Кешин одноклассник, стоит на коленях в теплых сенях и мастерит туесок[2]. Он берет желтые распаренные полосы бересты из деревянного чана, скручивает их, и они, совсем как живые, послушно свертываются в кольца. Над головой Захара на длинных, во всю стену, полках — большие туесы и крохотные туески, похожие на кораблики чуманы, лукошки, темножелтые треугольники ягодных битков, — все это выстрогано, переплетено, сработано руками Захара. — Зось, а Зось! Астафьев вопросительно посмотрел на товарища зелеными продолговатыми глазами. — Под бруснику? Захар кивнул и ловко прикрутил на туесе берестяной поясок… «Как бинт накладывает!» с восхищением подумал Кеша. У Астафьева старший брат — глухонемой. На руднике все считают, что и младший чудом научился говорить. Школьный водовоз дед Боровиков, выражающийся всегда кратко и точно, как-то сказал: «Астафьевым за каждое слово рублем плати — не разоришься…» Кеша присел на корточки рядом с Захаром и пересказал новости: и о гидравлике, и о железнодорожном клубе, и о приезде учителя. — Учителя отец до праздника еще привезет… Захар перочинным ножиком обстругивал круглую крышку. — Вещи его уже на базе, — добавил Кеша. — Думаешь, издалека? — Наверное. Интересно, по какому предмету? Перочинный ножик чиркал по дереву, крышка становилась ровнее, глаже. Оставалось только просверлить дырочки под березовое ушко, вставить его и закрепить кругленькими палочками. — Зося, — осторожно спросил Кеша, — когда мы пойдем к Платону Сергеевичу? — Я не пойду. — Вчера ты мог о Полтавской битве целый час рассказывать. Мы же вместе учили… А получил двойку… Ножик в руке Захара остановился. — Учителя думают: раз ты молчишь — значит, не готовился… Ножик в руках Захара бесцельно сделал круг по деревянной крышке. Кеше стало жаль товарища. Он вытащил из кармана телогрейки письмо и с любопытством начал рассматривать мятый треугольник, на котором директорской скорописью было выведено: «Рудник Новые Ключи. Семену Степановичу Бурдинскому». Владимир Афанасьевич, должно быть, торопился; начальные буквы, выведенные мокрым химическим карандашом, были темнолиловые, а последние — чуть заметные, бледные. — Сходим в больницу? — спросил Кеша. Захар поставил на полку готовый туес, прибрал бересту. Друзья молча спустились с крутогорья к реке Джалинде. Чтобы попасть в Заречье, надо было пройти весь поселок, миновать вросшую в землю баню, пробраться через густые заросли порыжелого ольшаника и перейти Джалинду по молодому, только-только ставшему ледку. Над дальними сопками, над кромкой тайги брусничным соком разливалась заря. Со всех концов доносились задиристые петушиные переголоски, перестук дровоколов. Возле прорубей позвякивали ведрами женщины. Поселок проснулся. Оглянешься назад на рудничные домики — и первым делом примечаешь дымки, тянущиеся из труб: они завиваются спиралями, разливаются волнами, распадаются на волокна — живут какой-то своей минутной жизнью. Больница видна отовсюду. Большое одноэтажное здание с крыльями по бокам выступает между низкорослыми кедрами. Ближние сопки похожи на выбритые макушки. Только кое-где на них высятся одиночные сосны и березки. — Домой зайдем? — спросил Захар. — Ну что ты! Семен Степанович, наверное, уже в больнице. Больничное крыльцо пристроено с тыльной стороны здания, обращенной к густо заросшему багулом целиннику. Через него тайгой идет дорога в районный центр — на Загочу. Два-три новеньких, еще не покрытых сруба желтеют вблизи дороги в сумеречном утреннем свете. И странно, неожиданно было после этой голизны и неприютности попасть в иной мир: высокие двери, белые скамьи со спинками, круглая городская вешалка-стойка, маленький, покрытый скатертью столик с газетами и журналами, и запах, доносившийся из-за дверей, — острый и неистребимый запах больницы. Ребята слышали, как шуршала мягкими туфлями по коридору сестра: она пошла доложить врачу об их приходе. Затем быстрой, ковыляющей походкой по тому же коридору прошел Семен Степанович, распахнулись двери, и хирург уже стоял перед рослыми парнями, вытирая полотенцем крупные жилистые руки. Из-под белого квадратного колпачка выбивалась льняная прядь. Задрав острый подбородок, врач смотрел на ребят пронизывающим взглядом очень светлых и беспокойных глаз.

— Здорово, ребята! Никак, резаться пришли? — Он наклонил голову и строго сказал: — Голяшки подтяни! Школьник ты или ухарь с большой дороги? Захар смутился и с виноватым видом подтянул вывороченные чуть не наполовину верхи катанок: эта мода была заведена интернатцами. А те переняли ее от рудничных парней. Семен Степанович взял из Кешиных рук письмо и, зажав подмышкой полотенце, вскрыл треугольник. Улыбка, изменившая лицо Бурдинского, была понятна и Кеше и Захару. …В конце прошлой зимы директор рудника впряг в кошеву могучего рыжегривого Атлета и помчался ледовыми кривунами Джалинды, чтобы, сократив путь, выехать на урюмский проселок. Возле дамбы кошева опрокинулась, и жеребец протащил директора двести метров на вожжах. Владимирский нашел в себе силы пригнать лошадь к больнице и свалился у больничного крыльца. И только с месяц-полтора, как Бурдинский выпустил Владимирского на волю. — Опять наш директор бесчинствует, — не то одобрительно, не то укоризненно сказал хирург. — И меня, слава богу, не забыл: набор хирургических инструментов где-то достал. На пользу пошло лечение и ему и мне!.. Ну, как отец? Что рассказывает? — обернулся он к Кеше. Тот вновь пересказал новости. — Это хорошо! — сказал Семен Степанович, узнав о предстоящем приезде учителя. — И руднику хорошо и вам: свежие люди в наших местах ой как нужны!.. Всё? Ну, ну, шагайте… Назару Ильичу и Клавдии Николаевне кланяйся. Отцу передай, чтобы зашел перед отъездом… Из-за дверей еще раз выглянул белый колпачок, и, прикрывая парадную дверь, Кеша услышал: — В праздники приходи — в шахматы сразимся. Коня вперед даю! Ребята спустились к реке. Рассвело. Леденящий ветер с хребта свистел, обжигал уши. Пригибался, будто под тяжелой рукой, облетелый, как веник, кустарник. Одинокие, просвистанные ветром, стыли нежилые срубы… Тишина в Заречье. Ранняя зима будет в этом году.
Но ни октябрьский морозец, ни ветряные порывы не смущали интернатцев. Без шапок, в одних рубашках, они разминались до завтрака: перекидывались мячом на волейбольной площадке. Кеша и Захар с ходу ринулись в схватку. Маленький — самый маленький в восьмом классе! — Тиня Ойкин вертелся, приседал, падал, прыгал, сторожа мяч и подхватывая его растопыренной пятерней. Тиня Ойкин ни в чем и ни от кого не хотел отставать. Его нисколько не смущал маленький рост. Стоило кому-нибудь позвать: «Тиня, в волейбол!» — и Малыш уже мчался, ловко подбрасывая мяч на лету. «Максим» в городках был его любимой фигурой — он вышибал ее с одной палки. Буквы в Тининых тетрадях ровнялись одна к одной, как солдаты в строю; почерк не хуже, чем у учительницы литературы Варвары Ивановны. От всей его низкорослой подвижной фигуры веяло бодростью, даже удальством. Между тем мяч, запущенный могучей зыряновской пятерней, перелетел через ограду в соседний двор, и с криком «последнему доставать» ребята кинулись вперегонки домой: уже несколько раз терпеливая Поля Бирюлина, дежурная по интернату, выходила на площадку, напоминая игрокам, что завтрак давно приготовлен. В большой мальчишечьей комнате сидели те, кому не надо было торопиться ни на завтрак, ни в школу, — учащиеся второй смены. Толя Чернобородов читал томик стихов в своем излюбленном положении: развалившись на прибранной постели и скрестив ноги на табурете. На другой койке, в противоположном конце комнаты, в такой же позе, заложив руки за рыжеватую голову, лежал Ваня Гладких и о чем-то сосредоточенно мечтал. За длинным, на козлах, столом, у самого края его, Трофим Зубарев, зубоскаля и поддразнивая противника, сражался в шахматы с Сеней Мишариным. Вокруг шахматистов толпились болельщики. Только Антон Трещенко сидел за печкой и чинил сапог: он усердно вгонял гвозди в старую подошву. Кеша распахнул телогрейку, придвинул к шахматистам табурет и обхватил его ногами. Захар стоял рядом. — Ребята, — не сводя глаз с доски, сказал Кеша, — к нам едет новый учитель! Чернобородов отбросил книгу и сел на койке. Зубарев будто и не обратил внимания на слова Кеши: он ни на секунду не оторвался от игры и не шевельнул ни одним мускулом. За спокойное достоинство, с которым всегда держался Зубарев, а может, и за галстук под латаным пиджачком его звали в школе — кто Графом, кто по имени-отчеству: Трофимом Ивановичем. Кеша наклонился к Мишарину: — Сеня, не проворонь. Граф сейчас двинет ладью. Сеня застенчиво улыбнулся. — Ну что же, — сказал наконец Трофим Зубарев, — учитель проживет зиму и уедет. Потом опять к новому привыкать. — Почему ты так думаешь, Троша? — спросил Захар. — Ты же не знаешь, кто едет, а уже делаешь выводы. Зубарев покосился на Астафьева, сделал ход и тем же холодным голосом добавил: — Граждане, внимание: заговорили молчавшие! Может быть, мы услышим что-нибудь интересное о Полтавской битве? — А разве Татьяна Яковлевна не работает в школе десять лет? А Варвара Ивановна? — возразил Кеша. — Ты считай, сколько переменилось, а не сколько осталось, — сказал из-за печки Трещенко. Вбежал Тиня Ойкин, умытый, с приглаженной чолкой, свисавшей на лоб. Следом за ним, как всегда с шумом, влетел Борис Зырянов. Услышав новость, они затеребили Кешу: — Кто? Математик? Химик? Молодой? Здешний? — Этого я не знаю. Интерес к Кешиной новости заметно остыл. Но возросло внимание к мишаринскому загнанному королю. Толя Чернобородов вновь принялся за чтение. Антон Трещенко, кончив сапожничать, обулся и вышел из-за печки. Притопнул ногой. Оглядел свою работу, вздохнул: — Хоть бы до праздников дотянуть! Трофим Зубарев на секунду отвлекся от игры: — Первоклассные джимми. Фирма — «Трещенко и компания». В это время по коридору часто-часто протопали, и чей-то свежий, чистый голосок вывел:
Постоит он у крылечка,
Отвернется и вздохнет…
2. Новый учитель
— …Тебе удобней: ты секретарь комсомольской организации. Поля Бирюлина растерянно водила кончиком карандаша по ладони. Ребята окружили ее, требуя, чтобы она зашла в учительскую. Поля не знала, на что решиться: — Нет, нет, пусть лучше дежурный… Я же не могу так просто, без предлога… — Да ведь Захар Астафьев сегодня дежурный, — уговаривали Полю ребята. — Разве от него что узнаешь! Это же Великий Немой! — Предлог ей нужен!.. — тянул Антон. — Ты же, как-никак, ответственная личность. — Звонок через три минуты! — нервничал Толя Чернобородов. — Эх вы… струсили! Давайте я! — крикнул Ойкин. Тиня пригладил чолку и приоткрыл дверь учительской. — Здравствуйте! — приветствовал он учителей. По учительской прохаживался Геннадий Васильевич в огромных растоптанных катанках. Он, как всегда, был взъерошен и обсыпан мелом — белая мука на руках, в волосах, на пиджаке. Походит Геннадий Васильевич, остановится, пожует истерзанный мундштук папиросы и опять начинает свою бесконечную прогулку… — Геннадий Васильевич, — обратился Тиня к учителю математики, — к уроку что надо? — Ты нынче дежурный? — Я, — мужественно солгал Малыш. Пока Геннадий Васильевич доставал из-за шкафа огромный деревянный циркуль, старенький, тоже деревянный, транспортир с облупившейся местами желтой краской, Тиня Ойкин глазом разведчика шарил по учительской. Прежде всего он заметил Варвару Ивановну — учительницу литературы. Она стояла у печки и так пристально смотрела в окно, прямо на Поклонную гору, что Тиня не на шутку встревожился — не случилось ли чего на горе. Он изогнулся, чтобы тоже заглянуть в окно и проверить, но во-время спохватился. «Нервничает, — сочувственно подумал Ойкин. — Опять ее Захар и Митя расстроили». Между тем дверь за спиной Малыша поскрипывала, кто-то за нею возился, кто-то шептал в самое ухо: «Где? Покажи! Да не висни, отодвинься!» Внимание «разведчика» привлек новый учитель. Он стоял, опершись о крышку пианино, и беседовал с директором Платоном Сергеевичем. Учитель был среднего роста, худощавый, с зачесанными назад черными волосами. Он взглянул на Ойкина внимательными глазам и продолжал разговор. «Серьезный какой… Даст, однако, жару», подумал Тиня. — Наша школа своеобразная, — говорил Платон Сергеевич. — Она как бы межрайонная. В северных районах, прилегающих к нашему, не везде имеются средние школы. На прииске Первомайском, например, только семилетка, в Озерках лишь в прошлом году появился восьмой класс. Вот и едут к нам ребята из северных поселков, а то и пешочком сквозь тайгу за триста-пятьсот километров идут — так сказать, в поход за средним образованием. У нас и интернат есть для северян. Платон Сергеевич был на целую голову выше учителя. Он беспрестанно наклонялся к нему, а длинные его руки все время были в движении, будто директор не знал, что с ними делать. Учитель слушал и кивал головой. — Малыш! Скоро ты? — довольно громко шепнул из-за двери Борис. — Может, дать подзорную трубу? За дверью засмеялись. Но Ойкин был невозмутим. Он находился на посту и продолжал наблюдение. — Ну, вот и все. — Геннадий Васильевич нагрузил Малыша кипой тетрадей: — Унесешь? — Мелок в циркуле надо бы сменить, — схитрил Тиня, чтобы выиграть еще несколько секунд. — …После праздников и начнете, — вновь донесся голос Платона Сергеевича. — Расписание ломать нет смысла — осталось несколько дней. Устраивайтесь. Рудник посмотрите. На школьный вечер приходите. Рекомендую на уроках побывать… Успеваемость у нас хорошая, учителя опытные… Вы комсомолец? — Да. — Старый? — Очень, — улыбнулся новый учитель. — Мне двадцать пять лет! — Ну вот, хорошо! — все потирал руки Платон Сергеевич. — Мне, как коммунисту, подмога! Вы как, человек беспокойный? — Кажется, да! — засмеялся учитель и провел рукой по своим чуть вьющимся волосам. — Хорошо, — склонился к нему директор. — Замечательно! Я сам такой. — Милок, возьми-ка мелок! — Геннадий Васильевич любит пошутить и побалагурить; он так неслышно подошел, что Ойкин вздрогнул. — Ну, нагляделся? Теперь иди. — Ну что? Видал? Какой? — жаркий топот обдал Тиню, едва он выскочил из учительской. Ойкин описал с точностью то, что «разведал», но ребятам было все мало: — Откуда? Из какого города? — Где остановился? — Совсем приехал или на время? — Что будет преподавать? Долговязый Митя Владимирский прохаживался по коридору с Линдой Терновой и Сережей Бурдинским. Завидев Малыша, все трое подошли к окружившим его ребятам. Митя распахнул пиджак и засунул руки в карманы щегольских брюк: — Папа уже распорядился квартиру приготовить. Возле продснаба. Антон поддел Владимирского локтем и раздраженно бросил: — Мите обязательно надо прихвастнуть! — Своего нет, на папином выезжает, — заметил Трофим. Митя, обидевшись, отошел. — Как зовут-то, узнал? — поинтересовался Сережа. — Поговорить удалось? — спросил Толя Чернобородов. — Ага, — серьезно ответил Малыш. — Он сразу подошел ко мне, поздоровался за ручку и назвал по имени-отчеству. Восхищенный ответом Малыша, Борис Зырянов хлопнул Толю по спине: — Слышал, а? По имени и отчеству! Один Захар ничего не спрашивал, он молчаливо разгружал Малыша: принимал у него тетради, циркуль, транспортир. Уже в классе Астафьев спросил у Кеши: — Учитель у вас остановился? — Да, отец привез его к себе. В ночь приехали. Я уже спал. Нашим понравился. — А молчишь! — Зоя обернулась (она с Полей Бирюлиной сидела впереди): — Нехорошо, Кеша. Какой же ты скрытный! Кеша скупо усмехнулся. …Что-то скороговоркой спрашивала у Малыша Поля Бирюлина, что-то бесстрастно-язвительно говорил в затылок Мите Трофим Зубарев, а в класс уже входил Геннадий Васильевич, держа пол мышкой старую, завязанную черными тесемками папку с надписью: «Геометрия».3. Первые дни
Нового учителя географии Андрея Аркадьевича Хромова пригласил к себе директор рудника Владимирский. В просторном и светлом кабинете учителю прежде всего бросились в глаза минералы. Они лежали на полках за стеклянными дверцами шкафов; ими, вместо книг, была заполнена большая, чуть не в треть стены, этажерка; разноцветные камни поблескивали слюдой и белели прожилками кварца на подоконниках; на зеленом сукне двух столов, размещенных буквой «Т» (один — письменный; другой, с графином посредине, — для совещаний), переливались желтыми, черными, красными огоньками ребристые образцы. — Это со всего района! Бо-га-тейший у нас район! — с горделивой улыбкой произнес Владимирский — лобастый, с худощавым лицом человек. Улыбка еще резче выделила жесткие складки вокруг твердого рта. Учитель протянул директору записку от Платона Сергеевича. Владимирский бегло прочел ее и сунул бумажку под настольное стекло. — У меня у самого мальчуган в восьмом классе… Откуда-то из угла буркнули: — Мальчуган-то под крышу вымахал. А толк-то какой? Владимирский искоса метнул взгляд на говорившего. По лицу директора, как показалось учителю, скользнуло смешанное выражение уважения и снисходительности. — Познакомьтесь, — шутливо сказал Владимирский: — король охотников, покоритель недр… и неисправимый ворчун! — Брынов, начальник геологической партии, — снова буркнули из угла. Высокий человек с красным, обветренным лицом встал с дивана, пересел к столу и принялся бесцеремонно разглядывать учителя. Он почти не вмешивался в разговор, только беспрестанно курил, зажигая папиросу о папиросу. — Как доехали? — спросил Владимирский, придвигая к гостю портсигар. Учитель закурил: — Эти семьдесят километров я никогда не забуду. Телега переваливается, как утка. Ее и швыряет и качает, колесо другой раз так о пенек стукнет, что в зубах отдает!.. А возчик ваш мне понравился. С ним никакая дорога не покажется скучной! Все расспрашивал, ожидается ли война, и с кем тогда будут Англия и Америка. Потом рассказал, как раньше на вашем руднике хозяйничали англичане, как советская власть строила здесь обогатительную фабрику; говорил еще о гидравлике, которую вы сооружаете. — Напал Назар Ильич на свежих людей! — засмеялся геолог. А Владимирский, не скрывая гордости, сказал: — Строим, товарищ Хромов, строим! Растет рудник! Заговорили о бытовых, будничных делах. Все разрешилось проще и лучше, чем ожидал Хромов. Питаться он будет в столовой продснаба. Квартиру отремонтируют в ближайшие дни. Владимирский обещал письменный стол («в крайнем случае из конторы возьмем»). Хромову понравился директор рудника — его деловитость и даже полувоенный костюм, который к нему очень шел. Он распрощался с Владимирским и краснолицым геологом. На спуске к ключу начальник геологической партии нагнал учителя и пошел рядом. — Ну как, надолго в наши края? — спросил он. — Поживем — увидим. Возможно, до весны. — По мамаше скучаете? — рассмеялся геолог. — Ничего, привыкнете! Посмотрите — красота какая! — Он показал на сопки вокруг поселка. — Утром пораньше встаньте — залюбуетесь. Зори у нас какие щедрые! Все цвета: и вишневые, и лимонные, и апельсиновые… Ботанический сад, а не зори! Хромов начал расспрашивать Брынова о районе. Геолог отвечал охотно и обстоятельно: — Владимирский прав: здесь, в Загочинской тайге, кладовая минералов. Здесь — центр будущих пятилеток… Улыбаетесь? Думаете, сболтнул? Ладно, через двадцать лет увидим. Но уже сейчас надо кое-что выбирать из сундука. Мы не имеем права держать в недрах сурьму или иридий. Людей нехватает — вот беда. Приедешь в Иркутск, в геологическое управление, там руками разводят: ищите, мол, людей на месте, воспитывайте!.. Обзовешь их бюрократами и уедешь ни с чем! — Что ж, может быть и правы ваши управленцы: ищите на месте! — А я что же, не ищу! — возразил геолог. — Ищу, чорт меня побери! Да нелегкое это дело сейчас: здесь гидравлику строят, там дороги прокладывают или артель старательскую организуют — везде люди нужны… Вы где остановились? Хромов ответил. — У Евсюковых? Хорошие люди. У Бурдинских еще не были? — продолжал геолог. — Не беспокойтесь, затащат. Они новых людей любят, особенно она. Женщина умная, образованная, любезная. Рукодельница и общественная деятельница. Ее эполеты всему району известны. И Семен Степанович славный малый. Хромов не мог понять — всерьез иди с иронией говорит Брынов. Кто такие Бурдинские? При чем здесь эполеты? Он хотел было расспросить Брынова, но тот остановился возле небольшого, в два окна, домика и взял учителя за рукав: — Завернем ко мне. Один живу, жена вот уже полгода странствует в Баргузинской тайге. — Он вздохнул: — Беда, когда и муж геолог и жена геолог… Зайдемте, брусничным вареньем угощу. Хромов отказался: он очень устал за день. — Ну ладно, как хотите. В клуб как-нибудь вечерком сходим. На бегунную фабрику съездим. Она недалеко, за сопкой. День был на исходе, когда Хромов подошел к прилепившемуся на крутом склоне дому Евсюковых. У ворот какой-то дед, заросший дымчатой с прозеленью бородой, понукал пегую малорослую лошаденку. Наконец, погромыхивая большой, в глубоких вмятинах, железной бочкой, лошаденка въехала в тесный дворик Евсюковых. — Ну и взъем, ну и взъем! Совсем заморился! — укоризненно выговаривал водовоз Клавдии Николаевне, сбежавшей с ведрами с крыльца. Простоволосая, в синем домашнем платьице, она казалась совсем молодой. — Чего, дедушка, сердишься? Я тебе сейчас кваску принесу… Заходите в избу, — приветливо обратилась она к Хромову, — а то пристынете. Хромов, не отвечая, перехватил у нее из рук два полных ведра и отнес в сени. Хозяйка была проворней его. Она быстро опоражнивала ведра и торопилась, звеня ими, обратно. Она ставила ведра на край телеги и, пока дед черпал ковшом на длинной ручке воду, успевала обменяться с ним новостью или шуткой. — Кадушка у тебя, Клавдеюшка, бездонная, — язвил старик, наливая двенадцатое ведро. — Байкал-море, а не кадушка! Когда «бездонная» кадушка была наполнена, дед из другого ковша напоил лошадь. — Лошадь — она заботу любит, — назидательно сказал он, встретив взгляд Хромова. Затем водовоз вторично напился квасу («Ох, и мастерица же ты, Клавдеюшка! Ровня моей старухе!») и, зажав между зубами газетный клочок, вытащил большой, с торбу, кисет. Он высыпал на черную в твердых мозолинах ладонь какую-то зелень и скрутил гигантского размера козью ножку: — Огонечку дайте, молодой человек! Хромов предложил ему папиросу. — Нет, — отказался старик, — привык к своему, сам выращиваю. Они закурили. — Вы сами из каких мест будете? — Из Москвы, дедушка. Дед покачал головой: — Из какого далека к нам нынче народ ездит! Хорошо! Только у нас никаких… этих… городских удобств нету. Однако без воды и дров не будете. Как что надо — прямо с горы меня кличьте. А я тут как тут…
Стемнело. Мягкой синью накрылись сопки, еще гуще залегли фиолетовые тени в котловине, где прятались домики поселка. Дед натянул квадратные брезентовые рукавицы и запрокинул бороду кверху, к тонкому и бледному серпу молодого месяца. — Начало ноября на рогу висит, — заметил старик: — холодный месяц-то будет… — И, попыхивая цыгаркой, как трубой, водовоз снова прогромыхал со двора своей железной бочкой. — Кто этот славный дед? — спросил Хромов, входя в маленькую кухоньку евсюковского дома. — Это школьный водовоз — дед Боровиков, — отозвалась хлопотавшая у печки Клавдия Николаевна. — Без малого двадцать лет в школе… Вскоре пришел Назар Ильич, и Хромов не сумел отказаться от приглашения отужинать с хозяином дома в теплой кухоньке. Потрескивали дрова в печке. — Ну, Клавдея, завтра собирай в район, — сказал возчик, когда жена подавала ему шестой стакан чаю. — С обозом еду — за оборудованием для гидравлики. Он посмотрел на задумчивое лицо учителя, отвел жену в сторону и пошептался с ней. — Вот что, — голос у Евсюкова был с густой хрипотцой: — поселяйтесь, учитель, у нас, вот в этой боковушке. Семья у нас небольшая, а живем просторно… Да вы соглашайтесь, — с грубоватой простотой повторил Назар Ильич. — И нам выгода: квартирные деньги со школы будем получать, за водой ей, — он кивнул на жену, — на ключ бегать не придется, дров, глядишь, привезут… Но столько радушия и теплоты было в этих словах, что учителю стало ясно: и деньги и дрова были припутаны для того, чтобы убедить его остаться у Евсюковых. И Хромов остался. Учитель устраивал жизнь на новом месте, осматривал рудник, знаке милея с новыми людьми. Но более всего его тянуло в школу — в это двухэтажное здание на берегу Джалинды, когда-то принадлежавшее английской концессии. Учитель ловил любопытные взгляды ребят, слышал за спиной быстрый шопоток, приглядывался к лицам детей, и ощущение новизны соединялось с приятным холодком тревоги и ожидания. В канун октябрьского праздника Хромов пришел в школу перед началом второй смены. В учительской на диване сухонькая горбоносая учительница немецкого языка Татьяна Яковлевна Добровольская беседовала с грузной, незнакомой Хромову женщиной. Он сразу обратил внимание на жакет с буфами, плотно облегавший фигуру собеседницы Добровольской. Пышные сборки на рукавах вызвали в памяти словцо Брынова: «эполеты». Андрей Аркадьевич с любопытством взглянул на немолодое, с крупными чертами лицо. Взгляд его растворился со встречной любезной улыбке. — Познакомьте нас, — прервала женщина щебетанье Татьяны Яковлевны. Голос у нее был низкий, густой. — Андрей Аркадьевич, да подойдите же! — сказала Татьяна Яковлевна, кокетливо передернув плечиком. — Альбертина Михайловна только ради вас и пришла. — Бурдинская, — представилась «дама с эполетами». Она подвинулась, освобождая Хромову место рядом с собой на диване. — Прекрасно, что приехали, — глядя на Хромова чуть выпуклыми глазами, басила Альбертина Михайловна. — Руднику нужны образованные люди. Мой муж с нетерпением ждет знакомства с вами. Вы не поверите, но мои мальчики — и Валерик, и Сереженька, и Петруша — уже влюблены в вас. Они будут в восторге от ваших уроков. География — это увлекательный предмет! Все это было высказано с такой убежденностью, что Хромов и впрямь стал сомневаться — не встречал ли он эту представительную даму когда-либо в прошлом. От него не ускользнул критический взгляд, которым Бурдинская обвела его с ног до головы («Костюм, что ли, не в порядке?»). — О да! — воскликнула Татьяна Яковлевна, — Но надо соединить знание географии со знанием иностранного языка! Мы с вами союзники, Андрей Аркадьевич! У меня нет неуспевающих! Она вдруг осеклась и с горечью сказала: — Если бы только не Захар Астафьев! Если бы только не он! Она посмотрела округлившимися, как у птицы, глазами на учительницу литературы: — Варвара Ивановна, когда же вы возьметесь за Астафьева? Варвара Ивановна, прислонившись спиной к круглой, обитой черными железными листами печке, равнодушно курила. Услышав свое имя, она повернула голову. Глубокие складки у рта, красноватая кожа придавали лицу этой тридцатилетней женщины угрюмое выражение.

Варвара Ивановна пожала плечами, плотнее закуталась в серую оренбургскую шаль и, не произнеся ни одного слова, продолжала курить. Казалось, она приросла к своему месту у печки. В учительскую вошла молоденькая учительница второго класса Шура Овечкина. Хромов дружески ответил на ее приветствие, а Шура, плохо скрывая свой интерес к разговору на диване, уселась напротив учителя математики, проверявшего за столом тетради. Альбертина Михайловна поправила лепестковой толщины платочек в кармане жакетки и тоном, не допускающим возражений, сказала: — Вечером, восьмого ноября, вы, Андрей Аркадьевич, — мои гость. Я, Семен Степанович и наши дети будем вас ждать. И вас, Татьяна Яковлевна… И вы, Шура, приходите. Бурдинская удалилась, шевеля «эполетами». Хромов заметил, каким недоверчивым взглядом проводила Бурдинскую учительница литературы. Платон Сергеевич вышел из своего кабинета: — Ну как, Андрей Аркадьевич, познакомились? Не испугались? — Ничуть! — ответил Хромов. — С чего бы! — А вот Геннадий Васильевич и Варвара Ивановна, — шутливо сказал директор, — не жалуют Альбертину Михайловну. — А за что жаловать? — спросил Геннадий Васильевич. — Она нас похваливает, а сама сверху вниз смотрит. — Мне все равно, как на меня смотрят, — сухо возразила Варвара Ивановна, — но я не допущу, чтобы детей отвлекали от школы пустыми развлечениями. Шура Овечкина вспыхнула: — И совсем не отвлекает! И совсем не пустые! Неправда все это! Альбертина Михайловна нам помогает… Я сама у нее музыке учусь… — Овечкина даже с каким-то вызовом обратилась к Хромову: — Приходите к Альбертине Михайловне, приходите! У нее и рудничная молодежь бывает… У нее интересно… Она ведь вам понравилась? Хромов взглянул на Кухтенкова. Директор стоял у окна и задумчиво барабанил пальцами по стеклу. — Ну, конечно, Александра Григорьевна, — ответил, улыбаясь, учитель географии, — поправилась! — Вот вам в награду за это! — Шура бросила ему через стол кедровую шишку. Хромов поймал ее. От кедровой шишки шел чуть уловимый запах апельсиновой корки.
4. Праздник
Мороз и солнце придают воздуху стеклянную ясность. Похрустывает под ногами ноябрьский ледок. Воздух пахнет мороженой брусникой и хвойной свежестью… Рудник расцвечен флагами, кумачевыми полотнищами. Из репродукторов льются торжественные марши, песни и речи. Школьный зал прибран. Сцепа, сооруженная ребятами и дедом Боровиковым из досок и козел, покрыта большим ковром, взятым из учительской. Посредине сцепы — стол под красным сукном. На столе, в глиняных кувшинах, веточки багульника. Школьный вечер начался с доклада Платона Сергеевича. Вначале Хромову казалось, что директор говорит как-то уж очень просто, без подъема. А на лицах ребят было написано живое внимание. Хромов стал вслушиваться и понял: Кухтенков не докладывает, а разговаривает с ребятами. И разговор у него выходил и серьезный и душевный, а местами с каким-то особым — не ярким, но доходчивым юмором. Он похвалил Кешу Евсюкова, Полю Бирюлину, Тиню Ойкина, Сеню Мишарина и других комсомольцев за успеваемость по всем предметам. Потом ясно и вместе с тем осторожно, чтобы не обидеть учителей, показал, что физику и химию трудно изучать с помощью «одного мела»: надо использовать приборы, схемы, аллоскоп. И вдруг, улыбнувшись, посмотрел на Хромова: — К нам приехал новый учитель географии, Андрей Аркадьевич… Хромов почувствовал на себе десятки внимательных взглядов. — Теперь, — продолжал директор, — Зоя Вихрева уже не будет на вопрос, где находятся истоки Дуная, отвечать: «Дунай течет из-за границы»… Ребята заулыбались, а Зоя спряталась за спины товарищей. Платон Сергеевич посерьезнел. Он заговорил о неграмотности. — Вы знаете, ребята, как терпелива и требовательна Варвара Ивановна. Многие из вас хнычут: «Гоняет нас Варвара Ивановна!» А ведь не зря гоняет. Тургенев с гордостью говорил о великом русском языке, о его красоте. Маяковский воскликнул: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». А Борис Зырянов и Троша Зубарев говорят «шешнадцать», «хотит» — и не краснеют! Директор достал из портфеля тетрадку в зеленой обложке, развернул ее и, держа за уголки, словно в руках у него была лягушка или грязная тряпка, показал всему залу: даже издали были заметны следы красного карандаша. — Это сочинение Дмитрия Владимирского, ученика восьмого класса. Двенадцать грамматических и синтаксических ошибок… Стыдно! Митя, как ни сгибался, не мог спрятаться за товарищей: он был высок, а главное, неосмотрительно сел на видном месте. — Мне рассказывали, Владимирский, что ты ведешь дневник и что в нем есть такие записи: «Митя, возьмись наконец за ум», «Митя, перестань симулировать». Значит, ты понимаешь, что так заниматься нельзя? Из восьмиклассников Платон Сергеевич назвал в числе неуспевающих Ваню Гладких и Захара Астафьева. А закончил Кухтенков так: — Передал мне дедушка Боровиков письмо от своего сына Павлика. Наверное, некоторые из вас его помнят. Он окончил нашу школу восемь лет назад, служил в армии, а недавно с отличием выпущен из Военно-воздушной академии… Дед Боровиков сидел в президиуме. Борода его была тщательно расчесана, и в ней пряталась горделивая ухмылка. — Так вот, летчик Павел Боровиков поздравляет родную школу и всех вас с праздником и просит отца: «Передай, папаша, ребятам, что в школе нет лишних предметов — все нужны. Человек без знаний, что самолет без горючего. На своем опыте убедился…» В перерыве ребята разбились на группы, и то из одного, то из другого угла зала доносились голоса спорящих. — В прошлом году, — резко говорил Кеша, обращаясь к Мите, — ты один из всего класса не сдавал испытаний. — Так я же заболел, Кеша, — оправдывался тот, — ты прекрасно знаешь! Меня врачи освободили. — Заболел?! — будто с сочувствием повторил Трофим. — Ну да, конечно! Испугался — и все! — Если бы ты весной, перед испытаниями, повторил правила, — серьезно сказал Тиня Ойкин, — то не позорил бы класс такими сочинениями. — У меня только по русскому плохо, — оборонялся Митя, — а у Захара почти по всем… — Митенька, — теребила Владимирского Зоя, — дай дневник почитать. Дашь? Хорошо? — Да ну вас, вот пристали! — нахмурился Митяй угрожающе добавил: — Я еще узнаю, кто чужие дневники любит читать! После перерыва начался концерт. Толя Чернобородов прочитал свое стихотворение «Двадцать первый Октябрь». Маленькая шестиклассница продекламировала революционные стихи на немецком языке. Добровольская, сидя в первом ряду, с умилением почти вслух повторяла каждое слово. Варвара Ивановна, закутавшись в шаль, сидела с Шурой Овечкиной на скамейке у окна. Хромов сел рядом. Учительница литературы была расстроена. — Ну и ничего особенного! — говорила Шура Овечкина. — И не надо переживать. Подумаешь, три-четыре человека на семьдесят учащихся! В других школах неуспевающих гораздо больше. — Не утешайте! — жестко ответила Варвара Ивановна. — Я виновата. Астафьев и Владимирский учатся в классе, которым я руковожу… — Но вы же с ними столько возились! И дополнительные занятия проводили… А Митю папа с бабушкой избаловали. — А Захар? — спросил Хромов учительницу литературы. — Что с ним? — Не могу понять, что с этим мальчиком, — угрюмо ответила Варвара Ивановна. — Сочинения пишет грамотно, хорошим языком. Вызовешь — молчит. Геннадий Васильевич, окруженный ребятами, склонив голову к баяну, перебирал клавиатуру и тихонько наигрывал. Рядом с ним сидел дед Боровиков. — Пойдемте к ребятам, — предложил Хромов. — Споем. Овечкина, точно ждала этих слов, сорвалась сместа. Хромов, не дожидаясь согласия Варвары Ивановны, быстро поднялся, пересек зал и остановился перед Борисом Зыряновым и Антоном Трещенко. Оба, как по команде, отодвинулись друг от друга, и Хромов сел между юношами на освободившийся стул. — Ну, кто же здесь запевала? — спросил ребят учитель географии. — У нашего Зыряна самый здоровый голос, — сказал Тиня Ойкин. — На всем руднике такого баса нет. Зырянов выпятил губу, собираясь протестовать, но не успел: учитель негромко, но звучно выводил первые слова запева:По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед…
Чтобы с бою взять Приморье…
Вечер закончился. На улице было светло и холодно. Небо казалось низким, звезды — близкими и крупными. Сквозь щели ставен пробивались гостеприимные домашние огни. С дороги на бегунную фабрику доносились переборы гармошки. Где-то на крутогорье пели:
Ружья в гору заблистали,
Три дня сряду дождик лил,
Против белых мы восстали,
Журавлев там с нами был.
5. В доме Бурдинских
Дом Бурдинских посещали и учителя и школьники. Однажды, еще до праздников, Шура Овечкина пришла в школу в новом жакете с буфами. В другой раз в таком же наряде учителя увидели маленькую Полю Бирюлину. Ее подруги с интересом трогали пышно взбитые в плечах рукава. Между ними совсем затерялась крошечная Полина головка. На второй день праздника Хромов вечером собрался к Бурдинским. Хозяйка встретила его в передней шумными приветствиями. Она сама поднесла свою белую крупную руку к губам Хромова. Заметно было, что приход учителя обрадовал ее. — К вам очень идет серый костюм, Андрей Аркадьевич! — ласково басила Альбертина Михайловна. — Всегда носите серое. А вот галстуки вы не умеете подбирать… Да, да, не умеете. Я вам сама подыщу под цвет костюма… Можете положиться на мой вкус! Она ввела Хромова в комнату, служившую, видимо, и столовой и гостиной. На стенах висели всевозможных цветов аппликации. Слева от огромного, в человеческий рост, зеркала — на прямоугольнике серого полотна цвели вышитые васильки, ромашки, незабудки. Над пианино, на красном шелке, резвые танцовщицы в шелковых синих юбочках отплясывали что-то развеселое. Справа от танцовщиц висел «карманчик» из черного бархата, а на нем — экзотические попугаи на ветках. Чем-то пестрым, вышитым, кружевным были покрыты и обеденный стол, и пианино, и круглые тумбочки. Даже из-за прикрытой дверцы буфета высовывался кружевной треугольничек, словно говоря: «Вот видите, нас так много, что и места нехватает: вон куда меня запрятали!» Стоило куда-нибудь положить руку, и пальцы мгновенно нащупывали или гипсового слоненка, или зеркальце в виде арфы, или какой-нибудь флакончик из граненого темносинего стекла… При внимательном осмотре оказывалось, что все это было в образцовом порядке развешано, разложено, расставлено на своих местах в сравнительно не очень просторной комнате. — Все сама, сама, Андрей Аркадьевич. Люблю красивые вещи и умею делать их, — слышал Хромов над своим ухом рокочущий низкий голос Бурдинской. — Вот, посмотрите… Она подвела учителя к дивану и с гордостью показала на висящий над ним макет: из небольшой корзиночки выглядывает виноградная лоза с фиолетовыми виноградинами в обрамлении светлозеленых листьев. Казалось, лозу только-только сорвали, а под тонкой кожицей виноградин словно бы играл сок. — Это очень просто, Андрей Аркадьевич! Шарики из ваты я покрывала слоем клея и канифоли, а Сема вырезал эти листья из бумаги. Немножко возни и мусора, зато потом какое наслаждение для глаз! Альбертина Михайловна усадила Хромова на диван, и он тотчас оказался в мягком плену круглых и прямоугольных подушек и подушечек. — Танюша! — не меняя голоса, произнесла Бурдинская. Хромов быстро оглянул комнату: ему показалось вначале, что в комнате никого не было. Но из-за кожаного валика дивана, делая короткие, осторожные шажки, вышла хорошенькая девочка лет четырех, в розовом платьице, с большим розовым бантом в волосах. Танюша, не дойдя шага до учителя, присела, улыбнулась и протянула Хромову тоненькие пальчики. Альбертина Михайловна поправила бант и, отодвинув Танюшу, посмотрела на нее так, как с минуту назад смотрела на виноградную лозу. — Дочь? — спросил Хромов. Бурдинская глубоко вздохнула и ничего не ответила. — Танюша, иди к себе! — приказала девочке Альбертина Михайловна. Розовый бант послушно скрылся за диваном, где, прижатый к ветвистому фикусу, стоял круглый детский столик. За ним Танюша обряжала в цветные тряпочки пышноволосую куклу. — Вы спросили, — понизив голос, сказала Бурдинская: — дочь? После смерти моей подруги Таня стала нашей дочерью. Хромов почувствовал себя неловко. — Мы с вами отужинаем по-московски! — между тем загудела Бурдинская. — У Семена Степановича тяжелобольной, он не скоро вернется. Затейливые салфеточки и дорожки с заячьими мордочками, вишенками и тюльпанами исчезли с обеденного стола. Их сменила белая скатерть. — Шура! Татьяна Яковлевна! Идите же сюда! У нас гость! «И Александра Григорьевна здесь», подумал было Хромов, но появившаяся из-за портьер Овечкина уже приветливо пожимала ему руку и доброжелательно улыбалась Добровольская. — Шура, — тем же ровным гудом, что и над Танюшей, командовала Бурдинская, — выполняйте ваши обязанности: режьте хлеб… Татьяна Яковлевна, приготовьте, пожалуйста, селедочку так, как я вам показывала. Сыр я нарежу сама. Учительницы послушно и охотно выполняли приказания Бурдинской. Скоро на столе в чинном порядке были расставлены большие и маленькие тарелки. Возле каждого прибора лежало по нескольку ножей и вилок и узорчатые салфетки, сжатые желтыми деревянными колечками. Посредине стола красовался металлический судок с солонкой, перечницей, уксусником. Хлеб в плетеной корзинке; тонкие, словно из желтой пластмассы, листочки ноздреватого сыра; разложенные в строгой симметрии кружочки колбасы… Альбертина Михайловна поставила на стол два графина: один — с красным вином, другой — с водкой; в чуть тронутой желтизной влаге на дне шевелились лимонные корочки. — Сама, сама настаивала! — басила хозяйка, любуясь сервировкой стола и усаживая Танюшу рядом с собой. Она внимательно следила за тарелками, пить приглашала, но не упрашивала, и, разливая чай, казалось, этими же руками крепко держала нить разговора, разматывая ее в нужном направлении. — Я жалею, что вы не застали Сему… Когда мы приехали на рудник, он был едва ли старше вас. Мне так не хотелось покидать Иркутск, хотя с театром у меня уже было все покончено… Бурдинская придвинула к Хромову вазочку со смородиновым вареньем. Учитель ожидал, что хозяйка прогудит: «сама». Но она увлеклась воспоминаниями: — Я ему говорила: «У тебя туберкулез кости, ты талантливый молодой хирург, куда ты нас тащишь?» А он уже упаковывает вещи и отвечает: «Туда, где я буду работать самостоятельно». В разговор неожиданно вмешалась Танюша. Она, не забывая о варенье, внимательно рассматривала Хромова. И вдруг розовый бантик дрогнул: — Дядя, а вы умеете шевелить ушами? — Нет, Танюша, не умею, — пытаясь сохранить серьезность, ответил Хромов. — А вот, — продолжала Танюша, — у дяди Брынова есть Сервис, и он всегда ушами туда и сюда, туда и сюда. Все рассмеялись. Выпуклые глаза Бурдинской остановились на девочке. — Извинись, — коротко сказала она, и басы ее голоса звучали гуще, чем обычно. Девочка покорно подошла к учителю и, опустив длинные светлые ресницы, извинилась, искренне огорченная, но ничуть не сознавая, в чем она провинилась. — Татьяна Яковлевна, уложите, пожалуйста, Танюшу. Добровольская, видимо вполне освоившаяся с домом, увела розовый бантик в спальню. — Вы уверены, Альбертина Михайловна, что ваша строгость оправдана? Танюша ничего не поняла. — Вот видите, и Андрей Аркадьевич на моей стороне, — несколько торопясь и заметно робея, подхватила Овечкина. В это время в передней послышались ребячьи голоса. Альбертина Михайловна вышла из комнаты. Хромов, сидевший напротив двери, успел заметить улыбающееся лицо Линды Терновой, высокую фигуру Мити Владимирского, бархатный жакетик Поли Бирюлиной, всех трех мальчиков Бурдинских. — Дети, — доносился из передней бас хозяйки, — сегодня я с вами заниматься не буду. Идите в комнату к мальчикам. — Чем занимается Альбертина Михайловна с ребятами? — спросил Хромов у Овечкиной. — Музыкой, рукоделием, хорошими манерами… — Поленька, поправьте жакет, — доносился голос Бурдинской. Хромов живо себе представил, как Бирюлина с виноватым видом исполняет повеление своей воспитательницы… Вернувшись, Альбертина Михайловна предложила пересесть на диван. Шура убирала со стола. — Музыку любите? — спросила Альбертина Михайловна Хромова. Она села за пианино: — Хотите «Турецкий марш»? …Бурдинская несколько минут не снимала рук с клавиш. — Если бы вы знали, как я тоскую по сцене! — Что вас оторвало от театра? — Вы думаете: семья, хозяйство? Нет… Это было для меня таким несчастьем — потерять голос. Я думала, что лишу себя жизни. А потом решила, что в нашей стране и безголосая певица может пригодиться, если она хочет быть полезной… Когда мы приехали на рудник, Сереже было три или четыре года… Прошло с полгода, и как-то ночью возвращается домой Семен Степанович, расстроенный, лица на нем нет… Случилось несчастье: умерла роженица, а отец малютки незадолго до этого погиб в боях за КВЖД… Так у нас появился Валерик… Позже мы усыновили Петрушу и, наконец, Таню. Выпуклые глаза Бурдинской затуманились: — А когда мои дети подросли, они стали приводить товарищей, и я решила с ними заниматься… Татьяна Яковлевна с неясностью смотрела на Альбертину Михайловну. Овечкина задумалась. Бурдинская весь вечер говорила — охотно, с подчеркнутой откровенностью. У нее была особая манера разговаривать. «Помните?» говорила она о картинах Сурикова, будто не раз ходила с Хромовым по залам Третьяковской галереи. «Помните?» повторяла она, когда зашла речь о театре, будто только вчера они вернулись с премьеры. «Помните?» вновь и вновь спрашивала Бурдинская — заходила ли речь об Останкине или Кускове, Собачьей площадке или Патриарших прудах, Шестой симфонии Чайковского или портретах Крамского. Да, она многое знала, многое читала, видела. Может быть, слишком самоуверенно высказывала она свои суждения. Сбить ее было трудно: из огромного запаса памяти она извлекала цитаты, авторитетные свидетельства, заключения, применяя их с удивительной последовательностью и точностью. Отправляя своих мальчиков спать, Альбертина Михайловна проверила, чистые ли у них руки, и каждого поцеловала в лоб. — Я вам говорила, — басила она, не стесняясь присутствия детей, — что они будут без ума от ваших уроков. Они уже мечтают быть географами. — Простите, — сказан Хромов, — но вы ошибаетесь: у меня еще не было ни одного урока. — Это не имеет значения, — невозмутимо ответила Бурдинская. Когда мальчики удалились в спальню, Бурдинская со вздохом заметила: — Семен Степанович очень строгий отец. Он ввел для детей трудовое воспитание. Валерик ходит за продуктами, Сережа пилит и колет дрова, таскает воду, Петруша прибирает комнаты… Я не могу понять, насколько это необходимо. Мы достаточно обеспечены, чтобы не обременять этим своих детей. — Я союзник вашего мужа, — сказал Хромов. В разгоревшемся споре Овечкина приняла сторону Хромова. Татьяна Яковлевна безуспешно пыталась примирить спорящих. Затем Бурдинская перевела разговор на школу, упрекая учителей в неумении понять душу ребенка, в неделикатности и нечуткости. Варвара Ивановна выгнала Сереженьку из класса за то, что он на уроке читал книгу. Она резка и не щадит детского самолюбия. Геннадий Васильевич не хочет ничего знать, кроме своей математики, Платон Сергеевич — мягкотел… — Как же так? — не выдержал Хромов. — Вы же при мне давали им самую лестную характеристику. — Конечно, — как ни в чем не бывало ответила Бурдинская, — ведь я знаю, как себя вести в обществе. Зачем же портить отношения! — Они, мне кажется, и так испорчены, — возразил Хромов. — Надо не подслащивать плохие отношения, а устанавливать хорошие, прямые и ясные. — Меня не любят в школе, — коротко ответила Бурдинская. — Считают мещанкой. — Почему? — Потому что я люблю красивые вещи, потому что я требую от ребят воспитанности… Хромов покачал головой: — Думаю, что не в этом дело. Может быть, вы не замечаете своих ошибок? — Может быть, — пожала плечами Бурдинская. Перевалило за полночь, и Хромов стал прощаться. Собрались уходить и учительницы. — Шура, вы остаетесь у меня, — прогудела Бурдинская. Они обе вышли провожать Хромова и Добровольскую в переднюю. — Я очень рада, что вы наконец посетили мой дом. — Альбертина Михайловна вновь поднесла руку к губам Хромова и расцеловалась с Добровольской. — Я и Семен Степанович будем с вами друзьями… Едва они вышли, Татьяна Яковлевна заговорила: — Это один из немногих домов на руднике — понимаете, один из немногих, — где вы отдыхаете и телом и душой. Они шли по слегка присыпанному снегом льду Джалинды. Хромов не знал, что ответить: он еще не разобрался в своих впечатлениях от дома Бурдинской. — Почему учителя не любят Альбертину Михайловну? — опросил он. — Вот-вот! — зачастила Добровольская. — Геннадий Васильевич почему-то решил, что она бывшая дворянка. Варвара Ивановна считает, что она отвлекает ребят от учебы. — А вы как думаете? — Это недоразумение, Андрей Аркадьевич, взаимное непонимание — вот и все! Они вышли к берегу. Хромов остановился: — Взгляните, Татьяна Яковлевна, какие звезды! В который раз смотрю и не могу наглядеться! Он запрокинул голову и долго смотрел на крупные, в синем мерцании, звезды, усеявшие низкое небо Забайкалья. — Куда вы смотрите? — тронул он Добровольскую за локоть: учительница стояла лицом к только что покинутому ими Заречью. Она показала на огоньки в одном из окон заречинской больницы. — Бедный Семен Степанович, — сказала, вздохнув, Добровольская. — Он так редко бывает в своем доме…6. Урок
Прошли дни праздника. Хромов привыкал к школе, втягивался в ее будни. Он посещал уроки других учителей и находил, чему поучиться и у Геннадия Васильевича, и у Платона Сергеевича, и у Татьяны Яковлевны, сопоставлял, сравнивал — одним словом, учился сложному делу педагога. Интересовался он и жизнью рудника. Побывал с Владимирским и Брыновым в горном цехе, на обогатительной фабрике, на строительстве гидравлики. Много времени отнимала подготовка к урокам. Но Хромову никто не мешал. В доме Евсюковых стояла вечерами прочная, нерушимая тишина. Владимирский выполнил обещание и прислал хороший письменный стол. Школе, урокам, ребятам отдавался Хромов всем своим существом. Входя в класс, Хромов всегда испытывал волнение. Вот этих ребят надо было перенести силой воображения и живым, взволнованным словом к седым вершинам Тянь-Шаня, на улицы и площади Москвы или в угольные шахты Донбасса. Каждый урок был для него радостным откровением, мучительным и трудным поиском.После праздников неделю подряд мелкими дробинками падал сухой снег. Сопки вокруг Новых Ключей стали еще строже, будто накрыли их, плотно, в обтяжку, белыми чехлами. Но утром и под вечер снега в уемах розовели от солнечных лучей, и веяло тогда от сопок бодрой свежестью. В перемену ребята выбегали на школьный двор, на ледовые дорожки Джалинды, без шапок, в тоненьких рубашках. Они перебрасывались снежками, гонялись друг за другом, боролись, вытряхали потом снег из ушей, из-за воротов, из катанок. «Ну и крепыши!» восхищался Хромов, стоя у коридорного окна, обращенного к реке. Учитель потер обмороженное место на переносице; он и не заметил, когда и как обжег его ветер, оставив круглую ноющую отметину. Между тем на ледовом поле Джалинды шло сражение. Тиня Ойкин увильнул от огромного зыряновского снежка и ловко влепил снежный ком в лицо «противнику». Тот что-то кричал, очищаясь от снежного крошева и отплевываясь. А Малыш уже влепил крепко сбитый шарик в спину Владимирского. Низкорослый веселый паренек с чолкой все больше нравился Хромову. Внимание учителя привлек Кеша. На него сзади набросился Антон Трещенко. Чуть согнувшись, по-медвежьи расставив ноги в неизменных изюбревых унтах, Евсюков рывком сбросил с себя рослого парня, и тот свалился на лед. «Крепкий малый», подумал Хромов. В стороне беседовали Захар Астафьев и Толя Чернобородов. Учитель задумался и вспомнил вчерашний разговор с Кешей о Захаре… Дежурная уборщица вышла со звонком на улицу. Над белой Джалиндой, над снежной тишиной рудника прозвенел тоненький металлический голосок, зовущий школьников в классы. Ребята, возбужденные, раскрасневшиеся, вбегали в коридор, в классные комнаты, рассаживались.
Обычно карту приносил дежурный. На этот раз ее принес учитель. Это была новая карта. Толстая серая материя, на которую ее наклеили, была свернута в трубку и не имела ни одной морщинки, ни одной продавлинки. Желтая, с несколькими коричневыми сучками, планка была обтесана и отполирована. С двух колечек, красивой перевязью схватывая сверток, шли витые белые тесемки. Казалось, они едва сдерживают массивное свернувшееся тело карты: тронь, и карта рванется вниз, как водопад. — Особенность этой карты, — сказал Хромов, гладя сверток, как живое существо, — в том, что она говорящая… Ваня Гладких, снедаемый любопытством, даже привстал со своего места у окна. — Ни мотора, ни провода, — простодушно сказал он. — Удивительно! Тиня Ойкин, сидевший на передней парте, пытался заглянуть внутрь трубки и пожимал плечами. — Тут какая-то хитрость, — шепнул он Зое. — Нас не проведешь! — Видите ли, — продолжал Хромов, — эта карта говорит только раз в год… — Точь-в-точь как Захар! — тихонько вставил Трофим. — …и это случается как раз на испытаниях. — Чудесная карта! — умилился Митя. — Карта-подсказка! — Нет, это не карта-подсказка, — сказал Хромов, развязывая тесемки. — Чтобы она заговорила, надо в течение года подолгу и по душам беседовать с нею. Матерчатая трубка с коротким шумом развернулась, прикрыв коричнево-зеленой стеной учителя географии. Перед восьмиклассниками словно разостлалось все пространство Родины: с шафрановых гор по зеленым равнинам к голубым морям и океанам синими змейками тянулись реки; круглыми глазками смотрели с карты города… И ни одного названия, ни одной буквы! Неведомые города стояли на неведомых реках, неведомые реки впадали в неведомые заливы, моря и океаны. — Чистенько сделано! — воскликнул Борис Зырянов. — Немая карта. Люблю! — проговорил Трофим. Глаза у него загорелись, и он поднял руку. Хромов заметил, как дернулась рука у Захара. — Ты что? — спросил учитель у Трофима. — Отвечать. — Троша, ты пропал! — скорчил жалобную гримасу Гладких. — Разве все упомнишь! — Вот тебя-то мне и надо, — сказал Хромов и протянул Ване указку: — Ответь сначала на вопрос сверх программы… Ваня стоял ни жив ни мертв и смотрел на немую карту с боязливым уважением. — Расскажи, какие поселки, реки, хребты находятся между нашим рудником и Загочей. Ваня сначала уставился в карту, потом убрал со лба рыжий чуб и повернулся к учителю: — Где? Учитель повторил вопрос. Гладких мгновенно ожил, веснушки на его лице засияли. — Переправляемся через Джалинду в Заречье, — уверенно заговорил он. — Проходим кедровник. Подымаемся по Верблюжьей сопке. Как перевалим — тут и новое зимовье, как раз у Кабарожьего ключа. — Тут для ночевки самое благодатное место… — Ну, ну, покороче, — добродушно пожурил учитель: — ты уж и о ночевках… — А дальше, — заторопился Ваня, — самый тяжелый подъем, километров, однако, на шесть-семь, — это через сопку Гривастую… Не успеешь отдохнуть — глянь, надо подыматься на Сохатиный хребет. А за ним, у распадка,[3] старая зимовушка… А потом… — Довольно, довольно… Вот видишь, все хребты, ключи и распадки знаешь. — Так ведь я, Андрей Аркадьевич, этой дорогой, наверно, раз двадцать проходил. — Знаю. Нам нужно и мыслью и сердцем пройти так всю Родину — от края до края. Увидеть за этими черными кружками огни наших заводов, услышать шум улиц и площадей, почувствовать биение большой и интересной жизни нашей страны. Увидеть за синими ленточками рек пароходы с лесом и зерном, новые гидростанции, плотины, судоверфи… Что ж, давайте путешествовать!.. Поедем на запад, в Москву… Весь класс втянулся в эту игру-учебу. Хромов прохаживался между партами. — Ты что делаешь? — вдруг спросил он Гладких, не оборачиваясь к карте. Ученик отпрянул от нее. — Сотри! — сказал учитель. — Чтобы на немой карте не было ни одной надписи! Сконфуженный, под общий смех, Ванюша вернулся на свое место. Учитель назвал Захара. С прошедшей недели он вызывал Астафьева третий раз. Захар поднялся, постоял, словно в раздумье, взглянул на Кешу и нехотя подошел к карте. Андрей Аркадьевич не спеша перелистывал страницы классного журнала. Кеша знал, что везде, на всех страницах учитель ищет фамилию его товарища.

Литература. Там твердым почерком Варвары Ивановны полностью выведены два злых слова: «очень плохо». Немецкий язык. Здесь, сердитые, как морщинки Татьяны Яковлевны, стоят две буквы: «о. п.». И только там, где математика, кривые, веселые буковки Геннадия Васильевича соединились в «отлично». На этой странице учитель географии задержался и взглянул на класс. Зеленоватые глаза Захара были устремлены на Кешу. Кеша видел в глубине этих глаз молчаливое страдание: сейчас его опять посадят на место. Большие Кешины руки были сложены на широкой груди, скуластое лицо неподвижно, и только в прищуренных темнокарих глазах — огонек ожидания. Вчера он провел воскресный вечер в Заречье, у Семена Степановича. Они сидели за письменным столом. Из-под розового абажура мягкий свет падал на шахматную доску. До половины партии они играли спокойно, миролюбиво. Из соседней комнаты доносились звуки пианино: там Альбертина Михайловна занималась с ребятами музыкой. Кеша зорко следил за ходами хирурга, чтобы не прозевать какой-нибудь ловкой комбинации. Семен Степанович, переставляя фигуры, иногда приговаривал: «Это тебе, парень, не чурки пилить», или: «Мозгуй, Кеша, мозгуй!» И вдруг Кеша рассказал о Захаре. Бурдинский выскочил из-за стола и заковылял по комнате. — Что же ты в молчанку играешь! — набросился он на Кешу. — Да ты в какой школе учишься?!. Ты слышишь, Берта? Бурдинская вышла на зов мужа, и они вдвоем стали стыдить Кешу. — Так ведь Геннадий Васильевич знает! — «Геннадий Васильевич, Геннадий Васильевич»! — передразнил Бурдинский. — Палка, жаль, в спальне, а то вытянул бы! Все должны знать! Хороший же ты товарищ, нечего оказать. И Сережа наш хорош!.. Расскажи. Пойди и расскажи — честно, прямо, как комсомолец. А то не поленюсь — сам к вам приду. Семен Степанович и Альбертина Михайловна взяли с Кеши слово, что он все расскажет учителям. И вечером у Кеши произошел разговор с Андреем Аркадьевичем. …А Захар все молчал, сжав тонкими пальцами указку. В дальнем углу громко зевнул Борис и, спохватившись, лег грудью на парту. Антон повернул голову, с раздражением смотря в окно: «Зря в перемену выскочил… Опять, наверно, подметка отлетит…» С холодной улыбкой на лице, прямой и подтянутый, сидел на своем месте Трофим Зубарев. Зоя, опустив крутой подбородок на сцепленные пальцы обеих рук, с сожалением смотрела на Захара: «Сейчас посадят…» Но Андрей Аркадьевич ждал. Ждал минуту, две, три. Осторожным движением он положил на столик журнал. Потом повернулся к Захару, провел рукой по волосам, удобно уселся на стуле вполоборота к классу и карте, явно приготовившись слушать и не выражая ни нетерпения, ни досады. И на четвертой минуте Захар заговорил. Медленно произносил он своим глуховатым голосом длинные фразы. Между ними ложились заполненные работой мысли паузы. Слова у Захара были какие-то весомые. Карта ожила, расцвела, и весь класс переносился из виноградных рощ Абхазии на табачные плантации Аджаристана, с крутых улиц Тбилиси к причалам батумского порта… Кеша сначала подался вперед, словно готовый поддержать Захара своим плечом. Прошло с полминуты, и он вздохнул, будто скинул тяжелый груз, и искоса повел глазом вдоль парт. Смешно выпятил губу Зырянов, казалось готовый закричать от изумления. Круглое Толино лицо выражало добродушное восхищение. И милая улыбка Линды, доброй Линды, показалась Кеше особенно светлой и сердечной. А Зойка не шелохнулась. Захар Астафьев говорил двадцать минут. Андрей Аркадьевич не останавливал, не прерывал, не вмешивался. Когда Захар замолчал, в классе было так тихо, что слышно было, как пропела свою коротенькую песенку капелька на оттаявшем оконном стекле… За стеной, где занималась с пятиклассниками Татьяна Яковлевна, доносился чей-то тоненький голосок, повторявший вслед за учительницей: «Маус, Маус, комм хераус, Маус, Маус…» И прозвучал вслед за этим певучий голос Добровольской: «Правильно, деточка, правильно». Андрей Аркадьевич ничего не сказал Захару, но по лицу учителя можно было заметить, что он взволнован. Зашуршали страницы классного журнала, которые Андрей Аркадьевич перелистывал в обратном порядке, возвращаясь к той, где в верхнем углу было написано «География». Захар уже был рядом с Кешей, когда Малыш, сидевший за первой партой, просигнализировал, сложив большой и указательный пальцы в букву «о». И, улыбнувшись одними глазами, Трофим Зубарев вполголоса, ни к кому не обращаясь, проронил: — Невероятное событие: карта заговорила и Захар заговорил.
Хромова лихорадило, когда он входил в учительскую. Такое же чувство он испытал однажды, когда самолет заблудился в тумане над Кавказом и затем опустился на аэродроме среди гор. Эти первые минуты ожидания, это искушение посадить школьника на место, чтобы не терять драгоценных минут, нужных «для прохождения программы»! Он сел на диван, не выпуская журнала на рук. Ему хотелось рассказать всем, как это произошло у карты, но горло перехватило. Хромов с трудом овладел собой, но нужных слов не нашел: — Захар Астафьев удивительно хорошо отвечал, на шестерку! Жаль, оценки такой нет! Варвара Ивановна, стоявшая у печки, вздрогнула, будто ее ударило током. Она бросила на Хромова мимолетный взгляд, в котором он успел прочитать внимание и благодарность. Морщинки Татьяны Яковлевны, напротив, выразили дружелюбное недоверие. — Может быть, вы, Андрей Аркадьевич, излишне доброжелательны? Или в порядке поощрения решились на такую оценку? Это, Андрей Аркадьевич, не совсем благоразумно. Хромов повторил: — Захар Астафьев знает на «отлично», а излагает еще лучше. Но Татьяна Яковлевна не сдавалась: — Он даже у меня не успевает! Варвара Ивановна медленно повернула голову к Добровольской, но ничего не сказала. Поправила покрывавшую плечи шаль. На ее замкнутом лице трудно было прочесть, что она думала. Но Хромов заметил, что пальцы ее дрожали: восьмым классом руководила она. Платон Сергеевич подсел к Хромову и с интересом, переспрашивая подробности, выслушал рассказ учителя географии. Геннадий Васильевич, шуршавший по учительской огромными катанками, остановился перед диваном: — А что особенного? Вот уж удивил! Парень он мозговитый. Математику знает… Директор школы в упор посмотрел на Геннадия Васильевича и сказал всердцах: — И вы меня не удивили. Мне известно это. Но ведь школьная программа не исчерпывается алгеброй и геометрией. Разве я не спрашивал вас, почему Астафьев успевает по математике? Не мешало бы вам, Геннадий Васильевич, делиться тем, что знаете, не превращать свой опыт и знания в военную тайну!.. Резкий, полный возмущения голос Шуры Овечкиной прервал его: — Зачем же, Геннадий Васильевич, скрывать, если знаете! В кубышку, что ли, будете складывать свой опыт? Вы же не Плюшкин… — Ну, ну, Шуренька, полегче, — ответил учитель математики. — Пожалуйста, приходи на урок, учись… Не выгоню! А я тридцать лет до всего своим умом доходил. В коридоре прозвенел звонок. Хромов и Варвара Ивановна остались одни. У них больше не было уроков. — Вы понимаете, — начал Хромов, — все очень просто. Мне рассказал Евсюков. Он дружит с Захаром. У мальчика особенность: он долго собирается с мыслями. Ему нужно охватить сразу все. Он не может говорить, видя только частности, не связав их пониманием целого. Он должен хорошенько подумать перед ответом. А ему, без всякого — «садись на место». Как дубинкой по голове! Хромов с нетерпением взглянул на учительницу литературы: «Неужели не ответит?» Он знал, что Варвара Ивановна очень замкнута. Учительница жила одиноко. Говорили, что молодость ее была омрачена утратой любимого человека. В рудничной школе она работала уже десять лет, никогда не болея, никогда не пропуская уроков. Ребята побаивались ее: она была требовательна и совершенно нечувствительна к слезам и просьбам. Учителя ее уважали, но не всем нравилась ее резкая прямота, ее привычка называть вещи своими именами. Варвара Ивановна закурила. — Астафьев окончил семь классов на прииске Ковыхта. Там же, кажется, одно время жили Евсюковы. У нас мальчик учится первый год. Но все равно, — она с силой выдохнула струю дыма, — все равно: виновата я, и как преподаватель и как классный руководитель: это мой класс. И если вы думаете, что я собираюсь с себя снять вину, — вы ошибаетесь. Я рада за вас, но зла на себя. Знаю, что прозевала. Сколько раз собиралась пойти на урок к Геннадию Васильевичу, чтобы понять, как он «открыл» Захара… Взор ее был устремлен в окно на ближнюю сопку. Хромов встал с дивана, подошел к печке и стал рядом с учительницей литературы: — Варвара Ивановна… Они встретились глазами. Учительница смотрела настороженно, зябко поводя плечами под паховой шалью. — У нас, Варвара Ивановна, хороший коллектив… Честно скажу: рад, что со студенческой скамьи попал в эту школу. Учительница слушала. Складки вокруг рта были все так же неумолимо жесткими. Пышные золотистые волосы обрамляли ее суровое лицо. Она все так же, не отрываясь, смотрела на Поклонную гору. Хромов волновался и ломал речь на тяжелые, необструганные куски: — Я был на уроках истории, у Платона Сергеевича… Я не встречал еще такой оригинальной хронологической таблицы, какая у него сделана самими ребятами. Каждая дата с иллюстрацией… Я поразился, как Геннадий Васильевич ухитряется из урока в урок повторять всю годовую программу… У Татьяны Яковлевны семиклассники уже почти свободно разговаривают по-немецки. Успеваемость в школе высокая… — Чего же вы еще хотите? — В голосе Варвары Ивановны явно звучала ирония. — И меня все это не устраивает! Варвара Ивановна повернулась к учителю географии и посмотрела на него так, как смотрят на диковинного зверя. — Ну да, — уже тверже повторил Хромов, — не устраивает. Я хочу большего. Мы можем делать больше!.. Вот и все. — Например? — У вас есть неуспевающие. Вы их подтягиваете на уроках. Вы занимаетесь с ними вечерами. А другие учителя? Почти никто не поправляет речь учащихся. У Шуры Овечкиной ученица говорит «ейный», а Шура молчит… Геннадий Васильевич сам шутки ради употребляет местные обороты… Хромов перевел дыхание. Варвара Ивановна не прерывала. — Дальше. Почему Антон Трещенко спутал лимонад с лимоном, а в пятом классе ученица утверждала, что «греки носили бронзовые лапти», спутав их с латами? Выходит, что, кроме дополнительных занятий по русскому языку, математике, кроме проведения вечеров, надо еще и другое… Варвара Ивановна смотрела на Хромова с любопытством, по губам ее пробегала улыбка. — Что же? Вам ясно, чего вы ищете? — спросила она тем же ровным голосом. — Вот в том-то и дело, что определенного у меня еще ничего нет. Знаю лишь одно: надо заботиться о кругозоре ребят и о том, чтобы они были теснее связаны с жизнью рудника, трудом старателей, чтобы больше думали о будущем, чтобы они мечтали… Но этого не добьешься в одиночку, это дело всех учителей, и не только учителей. Вот я был у Бурдинской… Гребцова сразу же отвернулась от него и вновь устремила свой взгляд на сопку. — А Бурдинская здесь к чему? Ну были у нее, и на здоровье. — Варвара Ивановна, мы же одни не справимся, надо привлечь всю интеллигенцию рудника. — Я как-то вызвала Митю на вечерние занятия, а он, видите ли, не смог — у него, оказывается, урок танцев у Бурдинской… И слушать вас не хочу… Варвара Ивановна вновь закурила Хромов был обескуражен. — Ну, хорошо, подумаем… Но давайте вместе. Тут нужен союз, взаимная помощь… Давайте же вместе, Варвара Ивановна… Я ведь не забыл нашего хорошего, сердечного разговора на школьном вечере. А вы забыли. Учительница помолчала, только слегка пожала плечами, потом ответила: — Что же, хорошо, если хотите…
7. Откровенный разговор
Посещение Бурдинских, случай с Захаром, разговор с Варварой Ивановной вызвали у Хромова множество мыслей. «Чего нехватает нашей школе? — думал молодой учитель и отвечал себе: — Силы коллективного воздействия на учащихся, целеустремленности в работе, связи с людьми рудника, в центре которого расположена школа…» Он вспомнил кабинет Владимирского, похожий скорее на музей минералов. Вспомнил, с какой влюбленностью рассказывал ему Брынов о богатствах Загочинской тайги… Мысли его перекинулись к дому Бурдинской. В сущности, что плохого в том, что Бурдинская учит ребят танцам, музыке, рукоделию, прививает культуру поведения! Плохо другое: она занимается вслепую, без связи с другими задачами воспитания, оторвана от школы. Спустя день или два Хромов спросил у Кеши: — Ты бываешь у Альбертины Михайловны? — Да, я там с Семеном Степановичем в шахматы играю, — ответил юноша. — Нравится тебе у них? — Нравится. Они хорошие. Только… — Что «только»? — Иногда стеснительно у них. — Почему? — Очень уж строга Альбертина Михайловна. Не так скажешь — выговор, не так вижу возьмешь — выговор… А потом — танцы, пение, музыка… Это хорошо, интересно, а нам иногда и другого хочется: поспорить, о книге поговорить, о жизни… Семен Степанович — тот не против. Но при Альбертине Михайловне мы стесняемся. Хромов не нашелся, что ответить своему воспитаннику. Но ученик и не догадывался, какое новое и ясное направление дал он мыслям учителя. С кем посоветоваться? Хорошо бы с Кухтенковым. Что он думает о Бурдинской? Может быть, то же, что и Варвара Ивановна? Но директор сам положил конец колебаниям учителя. Он вызвал Хромова к себе. Был безветренный морозный вечер — один из тех, какие бывают обычно в забайкальском декабре. Застыли в дремоте зеленовато-синие звезды. Недвижимые, боясь шевельнуться, вытянулись у школьной ограды припорошенные снегом сосны. С Джалинды доносилось ломкое похрустывание льдов — казалось, природа покряхтывала, сдавливаемая обручами декабря. В школе уже давно отшумел хлопотливый день. Только дед Боровиков ходил по затихшим классам, шуруя в топках, подкладывая в них вперемешку сырой листвянки и березового сушника. Дед к печам никого не подпускал. «Сам клал голанки, — говорил он, — сам топить буду. Они мой характер понимают». — Что, Андрей Аркадьевич, пристыли? — посочувствовал старик, видя, как учитель растирает уши и щеки. — Это еще что! Вот в рождество, видать, не менее шестидесяти грохнет. Кухтенков сидел у раскрытой топки. Огонь из нее играл на его худощавом лице. Директор пододвинул к печке табурет. Хромов сел рядом и рассказал ему все, о чем передумал за эти дни. Кухтенков слушал его, положив на колени длинные руки, временами протягивая их к огню. — Ого! — пошутил наконец директор. — Можно подумать, что вы подслушали мои мысли… Теперь-то я и в самом деле вижу, что вы человек беспокойный… Кухтенков задумчиво пошевелил бесцветными губами. — Знаете, Андрей Аркадьевич, — пошутил он, — руки у меня хотя и длинные, но до всего не доходят… Про директора школы обычно говорят, что у него голова учителя, а моги завхоза. Самый распрекрасный директор ничего не сделает без коллектива. Мало иметь хороших учителей — надо, чтобы они составили хороший коллектив. И еще: сколько у нас интересных людей на руднике — Владимирский, Брынов, Бурдинские… Они далеки от школы. И в этом наша вина. Вот и Бурдинская. По собственной инициативе занимается с школьниками, детей чужих воспитывает. Но мне кажется, что она увлекается внешним, показным. «Изящное» для нее — превыше всего. Детей воспитывает придирчиво, но не сурово. Но она честная и умная — может понять, если ей указать на ошибки. Надо поправить. А поправить некому! Мы — в сторонке… Варвара Ивановна и Геннадий Васильевич даже с предубеждением к ней относятся. Плохое видят, а хорошего не замечают. А Татьяна Яковлевна, напротив, растаяла от восторга. Неправильно мы поступаем. Как вы думаете? — Вы хотите, — спросил Хромов, — примирить обе точки зрения? — Нет, я не любитель компромиссов. Надо вышибать у людей старое и поднимать у них новое. Почему бы Бурдинской или, например, Брынову не поручить кружковую работу? Тут только есть одна опасность, мы должны ее избежать: не превратить все это дело в самоцель, а подчинить главному — учебе… Они долго говорили о том, что школа должна вечером жить такой же жизнью, как и днем, и как это может поднять успеваемость, пробудить интерес к знаниям. — Давайте, Андрей Аркадьевич, будоражить и учителей и ребят, — сказал на прощанье Кухтенков. — Сплав школьной программы с жизнью — это хороший сплав советской марки! Будем учить ребят мечтать и дерзать! Он закрыл печную дверцу, будто подводя итог разговору, крепко встряхнул руку Хромову и пересел к своему письменному столу. «Загляну-ка в первую очередь к Брынову, — решил Хромов, расставшись с директором школы, — с ним, наверное, легче договориться». Хромов уже хорошо знал рудник. Он легко, несмотря на позднее время, разыскал маленький, в два оконца, домик геолога. Брынов встретил его приветливо. Он ввел учителя в маленькую, чистенькую, по-спартански обставленную комнату. Над походной койкой крест-накрест висели два ружья, патронташ, ягдташ. С медвежьей шкуры на полу поднялась огромная белая собака, деловито обнюхала Хромова и улеглась на прежнее место.
Брынов работал. Единственная лампа, под зеленым абажуром, низко свисала над чертежной доской. На нее булавками был наколот лист ватмана со схематическим изображением района. Остро отточенные цветные карандаши лежали рядом. Хромов продолжал осматривать комнату. Брынов перехватил его взгляд. — Что же вы думаете, — сердито сказал он, — если человек на холостяцком положении, то обязательно в углу пустые бутылки и банки из-под консервов? И добавил с горькой откровенностью: — Моей доблести тут нет. Жена к порядку приучила. Он подошел к этажерке. На верхней полке была прислонена какая-то фотография. — Посмотрите. — Брынов протянул гостю снимок. Так вот она какая — жена геолога! Молодая, с решительным и открытым взглядом и мягким очерком губ. И рядышком, прижавшись, смышленое худенькое личико мальчугана. Хромов не знал, что делать: то ли расспрашивать, то ли молча положить снимок. — Тоже геолог, способная очень! И железная выдержка, — пояснял Брынов. — Бродит в Баргузинской тайге с геологической партией. — А сын? — У родных в Иркутске. Стосковался — сил нет! Брынов вертел снимок, медля расстаться с ним. Они стояли близко друг к другу; Хромов пристально смотрел на геолога: «Какие у него хорошие глаза!» — Ну ладно, зачем в этакий мороз пожаловали? — отводя взгляд, спросил Брынов. Хромов поинтересовался его работой. — Обрабатываем результаты летних поисков. Я да ещеполтора человека… Брынов попал на своего конька. — Вот, Хромов, полюбуйтесь. — Он подвел учителя к чертежной доске: — Здесь, за хребтом, к юго-востоку от Олекмы, должна быть чортова уйма металлов… — Он водил остроконечным карандашом по карте района. — По моим расчетам — а я здесь рыскаю без малого три года, — мы должны в районе Голубой пади найти редчайшие руды. Это же металлы, укрепляющие могущество нашей страны! Там, на Западе, гарью пахнет, а наши бюрократы из треста не верят мне, жалеют денег на поиски. Какой-то профессор несогласен с моими теориями и, не выходя из кабинета, опровергает их. А чинуши на моих докладных пишут: «обождать», «несвоевременно», «включить в план на будущее». Будто наше государство может ждать! Хромов нагнулся над чертежной доской. — А если бы я вам дал помощников? — спросил он и снизу, повернув голову, взглянул на геолога. Брынов, в свою очередь, вопросительно посмотрел на учителя. Тогда Хромов без обиняков рассказал о своем замысле Брынову. Брынов пересел на койку и, пропуская меж пальцев мягкие, вислые уши собаки, заговорил с ней: — Ну вот, Сервис, мы с тобой уже и педагоги. Не знаю, как ты, а я отказываюсь. Не по силам. Не по вкусу. — Кузьма Савельевич, — сказал Хромов, — давайте начистоту. Меня, конечно, не может не волновать вопрос, найдете ли вы с ребятами ископаемые или не найдете. Если найдете — понятное дело, хорошо. Я верю вам, но важно иное: у ребят появится коллективная задача. Вы приходили когда-нибудь к учителю насчет своего сына? Посоветоваться, попросить помощи? А я пришел к вам потому, что нас, учителей, беспокоит судьба не одного, а двадцати, пятидесяти, ста… Вы же коммунист, Брынов. Что же вы упрямитесь, чорт вас побери! Геолог смотрел на Хромова веселыми глазами и отрицательно качал головой. — За вами и другие потянутся: врачи, инженеры, хозяйственники… — продолжал Хромов. — Надо, чтобы школьные окна вечером светились. Надо ребят вести вперед! Брынов качал головой и посмеивался: — Слушайте, учитель, экий вы, право, горячий. Все равно не соглашусь. Давайте-ка лучше пить чай с брусничным вареньем. Тогда Хромов всердцах сказал: — С вами напьешься! Не согласитесь сами — добьюсь, чтобы вам дали партийное поручение. — Ишь ты, в порядке партийного поручения! Вы уж и рады: объегорили, мол, Брынова, объегорили!.. Чудак! Да я уже с четверть часа, как лежу на обеих лопатках и наслаждаюсь вашим красноречием. Сервис, и тот обратил внимание. Согласен, дружище, согласен! И Бурдинскую затащим!.. Ну, а как насчет брусничного варенья и чая? На этот раз Хромов не отказался.
8. В интернате
Воскресенье было солнечное и морозное. Воздух пронизан холодным золотом. Золотом отсвечивали и белые сопки. Выходишь на улицу — и слепнешь от солнца. Ледяной воздух стесняет дыхание, а итти легко, хорошо. В интернате пусто. Трофим Зубарев, Антон Трещенко и Тиня Ойкин с утра ушли на лыжах в Чичатку: тренируются к районному кроссу. Из рудничных, прихватив ружья, к ним присоединились Захар Астафьев и Кеша Евсюков. По ледяному раздолью Джалинды гоняют тугой мяч школьные хоккеисты. Носится по льду огромный Борис Зырянов. «Возьмет он клюшку, убьет он чушку», срифмовал про него Толя Чернобородой, который, забыв свою медлительную важность, мчится за мячом. Но куда ему до костистого, выносливого Ванюши Гладких! Проворный северянин побаивается только Бориса: тот стремителен и всегда появляется откуда-то внезапно, со стороны. В угловой интернатской комнате будничным делом заняты девочки. Постелив на стол синее байковое одеяло, Поля Бирюлина гладит «выходное» шерстяное платье. Утюг испорчен, защелка все время соскакивает. Тогда утюг раскрывает крокодилью пасть, в которой пылают красноглазые угли. — Какая ты, Поля, терпеливая! — не то с завистью, не то порицая, говорит Зоя, отрываясь от книги. — Я бы грохнула эту железину об стену, чем так мучиться с ней! Зоя сидит на табурете возле печки, поджав ноги. У нее на коленях небольшая, в толстом переплете книга. — Должна же я закончить! — отвечает Поля. — Не бросить же, когда осталось только рукава догладить. — Если не догладишь — не беда, — отзывается, кашляя, Зоя. Крышка утюга, звякнув, вновь срывается. Поля косится на Зою и долго возится с металлической защелкой. — Почему? — спрашивает она. — Почему, Зоя, ты меня осуждаешь? Словно я преступление делаю. Зоя встряхивает косичками. — Почему? — переспрашивает она. — Потому что твой лыжный костюм висит в шкафу. Комсомольский кросс, а ребята без тебя на тренировку ушли. Удивляюсь! — У меня сегодня урок музыки, — оправдывается Бирюлина, — я не могу пропускать… Ты упрекаешь, а сама осталась дома… — Зоя больна, — вмешивается Линда; она сидит за столом и учит уроки. — А впрочем, — Девушка заливается смехом, — может, она из-за Антона не пошла? Хоть от его ворчанья отдохнет! — Антон во многом прав… — начинает Поля. — Может, и прав, — упрямится Зоя, — а меня тоже зло берет. Будто клуб отрыли, чтобы туда не ходить! А вот Поля — секретарь комсомольской организации, а к старым артисткам ходит… Утюг снова щелкает. — Хоть бы ты веревкой прикрутила или проволокой, — говорит Зоя. — Кончаю, Зоинька, — отвечает Поля. — А что ты плохого находишь в артистке? Она очень культурная женщина. — А я бы ни за что не пошла, — возражает Зоя. Она вызывающе смотрит на Бирюлину. — Чтобы меня, как куклу, вертели-повертывали: «садитесь», «встаньте», «улыбнитесь»! — Не в этом дело! И не мне ее учить, она старше меня, — говорит Бирюлина. Она отставляет утюг на край стола и рассматривает платье: складок нет, платье будто только что из магазина. — От твоей артистки за версту старым режимом пахнет, — уже не сдерживая себя, говорит Зоя. Поля Бирюлина поводит плечами: — Ты вот Тургенева «Дворянское гнездо» читаешь. Из рук не выпускаешь! — Сравнила! — вспыхнула Зоя. — «Дворянское гнездо» у Тургенева и «дворянское гнездо» на Новых Ключах! — Почему же? — вмешалась в разговор Линда. — Почему дворянское? Потому что у нее в доме любят музыку, потому что у нее можно научиться вышивать? Зоя фыркнула: — Будто я против музыки. Ты скажи, почему она Сережу не хочет пускать в тайгу? Сережа вчера какой расстроенный был! Семен Степанович говорит: «Пусть идет, крепче станет», а Альбертина Михайловна: «Не пущу!» Сережа сам рассказывал… А Митенька Владимирский так совсем испортился. Волосы расчесывает проборчиком, как на манекене. Флакон духов каждый день на себя выливает. Франтик! Линда все улыбается, только нежная кожа на ее щеках засветилась румянцем. — Не в этом, Зоя, дело, — рассудительно говорит Поля. — Пусть одевается и прихорашивается. Но ведь жалко на него смотреть, когда к доске вызовут. И в этом ты, Линда, виновата: что за дружба, когда он на каждом уроке заваливается! — Вчера в клуб пришел, гордый-прегордый, голову во все стороны поворачивает. — Зоя встает, прохаживается по комнате, передразнивая Митю. — Я думаю, что с ним? Оказывается, новый галстук надел — в розовых крапинках — и фасонит. Она вновь садится к печке, берет в руки книгу. — Ты тоже хороша! — сердится Поля. — Каждый день — в клуб. Конечно, для уроков времени нехватит. Зоя выпрямляется, и книга падает, гулко стукнув об пол толстым переплетом. Линда взглядывает в окно и громко смеется: — Девочки, Ванюша-то за Борисом гонится! Разозлился! Девочки сгрудились у окна. С минуту они следят за мелькающими на Джалинде мальчиками. — А все-таки, Зоинька, — мягко говорит Поля, — если ты сегодня придешь позже десяти… — Ну и что? Ну и приду! — упрямо мотает косичками Зоя, не отрывая плаз от окна. — Сегодня новая картина. Лицо Поли становится строгим: — Будем обсуждать на комсомольском собрании. — Больше некого, кроме меня! — запальчиво отвечает Зоя. — Мальчишек боишься, вот и напустилась на меня! У Мити Владимирского по русскому двойка… У Вани Гладких по алгебре двойка… — Девочки, когда Андрей Аркадьевич обещал притти? — меняет разговор Линда. — После обеда, — отрывисто отвечает Зоя. Она подходит к печке, поднимает книгу, наугад раскрывает ее и упирается локтями в колени. Поля, внимательно проследив за всем этим, недовольно говорит: — Ну вот, после обеда… А мальчишки пропали. Ну как же теперь? Опоздают! Чувствую, что опоздают! — Да нет же, Поля, — говорит Линда, — ведь до Чичатки всего восемнадцать километров. А они с утра ушли. — Это правда, — успокаивается Поля. — А главное, там Антон, — уверенно говорит Зоя. — Я Антона знаю с пятого класса. Он за четыре года ни разу к обеду не опоздал. Молчание. — Зоинька, ты анатомию выучила? — осторожно спрашивает Поля. — Один раз читала, — неохотно отвечает Зоя. — Зоинька, дорогая, оставь книгу, позанимайся, — ласково говорит Бирюлина. — Да, как же! Борис скоро придет и отнимет. Это его книга. — Давай вместе, — предлагает Линда. Поля благодарно смотрит на нее. — До свиданья, девочки, я скоро, — говорит она. — Не забудьте Андрея Аркадьевича встретить! — А Сережу скажи, чтобы отпустила! — кричит ей вслед Зоя. — Слышишь? Поля оборачивается: — Слышу, Зоинька, скажу. Ты не думай, что я со всем согласна. Взобравшись с ногами на табурет и подперев кулачками подбородок, Зоя смотрит на Линду. «…Грудная клетка образуется позвоночным столбом и ребрами… Ее форма приближается к форме конуса…» А может, Зоя и не слушает — думает о своем? Поля Бирюлина вздыхает и тихонько прикрывает за собой дверь.Из глубины интернатского коридора прогремел зычный голос: — Зойка, догоню — плохо будет! Книгу верни! Зоя собралась ответить что-то очень дерзкое, но застыла, обеими руками прижав к груди книгу. С улицы в коридор входили Хромов и Варвара Ивановна. — Ой, это вы! — Вихрева кинула уничтожающий взгляд в сторону Бориса Зырянова: — У мальчишек грязно, идемте к нам. Сначала возле Хромова были только девочки: синеглазая Поля Бирюлина, беспокойная Зоя Вихрева и улыбающаяся Линда Терновая. Ребята входили по одному, по-двое, потом целой гурьбой. Они обсуждали поход на Чичатку. Трофим подтрунивал над Сеней Мишариным, потерявшим по дороге варежку. Антон, вошедший в комнату последним, старательно жевал булку. Ваня Гладких и Толя Чернобородое вошли, продолжая между собою спор, но замолкли, увидев учителей. — О чем это вы? — спросила Варвара Ивановна. Толя Чернобородов объяснил: — Мы заспорили, как стать культурным человеком. Я утверждаю, что без образования нельзя стать культурным. Ленин говорил на третьем съезде комсомола, что надо овладеть всеми знаниями, которые накопило человечество… — Я не против этого — возразил Гладких, — а все-таки хотя дед Боровиков и без образования, а культурней Антона, который не всякий раз даже с учителем поздоровается. Антон дожевывал булку и был пойман врасплох. Он только развел руками. — Не волнуйся, Антон, — заметил Трофим Зубарев. — Ваня научно обосновывает свои провалы по алгебре и списывание чужих решений… Ваня свирепо посмотрел на Трофима, но сдержался. — А почему, Ваня, — вмешалась своим ровным голосом Варвара Ивановна, — почему ты культуре мысли, образованности противопоставляешь культуру поведения? Ваня молчал. — Грош цена твоей ленивой «вежливости»! — резко сказала учительница. — Такая же цена зазнайству Антона при его хорошей успеваемости. Хромову показалось, что Варвара Ивановна «перехватила». Он даже сделал невольное движение рукой. — Вы знаете, ребята, — видимо, поняв его, сказала учительница, — что я люблю говорить в глаза неприятные вещи… Но пусть, Андрей Аркадьевич, они обижаются сейчас. Через пять лет они мне все простят. После слов Гребцовой разговор с ребятами пошел еще оживленней. — Помните, ребята, — сказал Тиня Ойкин, — прошлогодний случай с патроном? — Он обратился к учителям: — Старушка одна шла со свертками из золотоскупки, а Борис Зырянов в двух шагах от нее, за спиною, по капсюлю патронному ударил. Старушка уронила свертки, схватилась за сердце. А ребята наши великовозрастные стоят и смеются. Вот это «культура»! — Да я же. Малыш, не хотел… да я и не видел ее! — вскричал кто-то над ухом Хромова. Учитель невольно поднял глаза. И он и Варвара Ивановна оказались посреди тесного круга — не только Борис, Антон, но и Захар, и Кеша, и многие девочки собрались возле спорящих. Заговорила Поля Бирюлина: — На-днях Митя Владимирский своей бабушке говорит: «Твое дело — дом, хозяйство, корова, а мое — учеба. Зачем тебе знать о моих отметках!» А ведь Митя — восьмиклассник! — Как же, покажет он бабушке дневник, когда там тройкам от двоек тесно! Стыдно показывать, — пожал плечами Кеша. — А Зоя Вихрева как ведет себя! — заскрипел Антон. Он наконец покончил с булкой. — Режим нарушает. Культура! У девочки с косичками щеки залились румянцем: — А что мне, дожидаться, пока Антон Трещенко вечер в школе устроит! А еще член учкома. Лодырь ты! — Ладно вам! — Тиня Ойкин прервал грозившую разгореться схватку. — Андрей Аркадьевич, расскажите нам о Москве. Ребята смолкли. Хромов почему-то сразу вспомнил свою школу — небольшое здание в кривом переулке Остоженки… Как давно это было! И как далека Москва! …Вот он, черноволосый юноша, идет в колонне школьников по улицам Москвы, высоко неся красный стяг с пламенными словами: «Да здравствует десятая годовщина Великого Октября!» Воспоминания перенесли Хромова в продымленную чугунолитейку старого завода в Замоскворечье. На этом заводе, где до революции изготовляли чугунные плиты для могильных памятников, сейчас делают турбины. Огонь из вагранок освещает плакат: «Выполним пятилетку в четыре года!» И толстый мастер Ильин кричит ударникам-комсомольцам, потрясая мохнатым кулаком: «Компотники, не подведите! Турбины делаем, а не кресты могильные!» И вот они, эти турбины, выходящие одна за другой из сборочного цеха, — турбины для Дзорагэс, для Канакира, русские турбины для армянских строек. А потом — незабываемый полет на открытие далекой гидростройки. Станция с гортанным названием: Ка-ла-ге-ран. И вот их, строителей турбин — токарей, модельщиков, сборщиков, — обнимают, целуют и поят терпким густым вином строители армянской электростанции. Годы идут… И это он, Андрей Хромов, в рядах заводского коллектива шагает мимо метростроевских вышек под волнующим лозунгом: «Да здравствует пятнадцатый Октябрь!» Проходит год, и Андрей Хромов сидит в кабинете секретаря райкома комсомола; тот задумчиво вертит в руках путевку и говорит: «У тебя среднее образование. Стране нужны педагоги. Учись!» И вот высокий молодой профессор с тонким и нервным лицом читает в круглой институтской аудитории лекции об английском империализме и британской изворотливой дипломатии. И седоусый, похожий на сердитого моржа, ученый, сверкая молодыми глазами, рассказывает о богатствах родной земли, о растущем в недрах страны Кузбассе, об укрощенном Днепре, о покоренной Арктике… И это снова он, Андрей Хромов, студент последнего курса, об руку с друзьями проходит по асфальтовым улицам молодеющей столицы, мимо мрамора и гранита новых зданий, и над рядами демонстрантов гордо звучит призыв: «Да здравствует двадцатая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!» Так прошла московская молодость: в пионерских лагерях под Звенигородом, за спорами в студенческих общежитиях, у картин Репина и Сурикова в залах Третьяковки… «Вот теперь, Хромов, пришла твоя пора учить новое поколение». Внимательно слушал Кеша Евсюков. Разрумянилась Зоя Вихрева. Тиня Ойкин переводил свои серые глаза с учителей на ребят. Поля Бирюлина подперла круглое лицо маленькими кулаками. Хромов рассказал, как он, окончив институт, решил ехать в Забайкалье, о дороге в Загочу и на рудник. — Ну вот… — оказал, улыбаясь, Хромов. — А теперь вернемся к нашим школьным делам и к вопросу о культурности… Почему бы обо всем этом не поговорить на комсомольском собрании?..
9. Так закончилось собрание
— …На повестке два вопроса: о режиме в интернате и доклад геолога Кузьмы Савельевича Брынова. Поля Бирюлина озабоченно обводила синими глубоко запавшими глазами беспокойную аудиторию. С секретарского места деловито взирал на комсомольцев Тиня Ойкин. Хромов наклонился к уху Платона Сергеевича: — Надо бы отучить ребят приходить на собрание в пальто и шапках. По двору в одних рубашках, а сюда вот — в таком виде. Рядом с Кухтенковым: вертелась на стуле Шура Овечкина. В углу, чтобы не терять времени, проверяла тетради Варвара Ивановна. Татьяна Яковлевна, сияющая, взволнованная, что-то говорила разместившимся вокруг нее девочкам. Необычайно серьезная сидела в кресле приглашенная на собрание Бурдинская. Возле дверей, с ушастой шавкой на коленях, сидел еще один человек, который по возрасту никак не подходил к собранию. Это был дед Боровиков. Дед никогда не считал себя просто «техническим работником» в школе — он считал себя нужным человеком. Дед Боровиков возил воду, ремонтировал парты, делал новые, вставлял стекла, перекладывал печи. И все это делал быстро, умело и добротно. Но он не удовлетворялся только этим. Боровиков посещал собрания, заседания, педсоветы. К этому привыкли. Однажды его спросили о причине такого пристрастия к собраниям. Дед даже обиделся и съязвил: — Думаете, раз водовозного дела в программе нет, так и деду делать нечего? Я эту школу своими руками строил… Вот что! А на комсомольском собрании, между прочим, всегда что-нибудь новое узнаешь. Иногда и справочку получишь… Поля Бирюлина с горечью говорила о грязи в мальчишечьих комнатах, о грубости, непослушании, озорстве. Потом наступило молчание. Поля напрасно призывала выступать: ребята пересмеивались, переговаривались топотом, а в том углу, где сидели Борис, Антон и Трофим, вдруг взрывался смех или доносился шум возни. Тогда встал Тиня Ойкин и, едва возвышаясь над столом, хлопнул ладонью по листочкам протокола: — Вот что, Антон: довольно по углам и коридорам шушукаться! Сам требовал собрания. Здесь надо говорить. И прямо надо, по-комсомольски, а не присказками. — Давай, Антоша, давай! Крой правду! — громким шопотом поддержал Зырянов товарища. Тот нехотя поднялся с места. — А чего говорить! — забрюзжал он. — Девчата у нас все умненькие, чистенькие, примерные. А режим они нарушают… да, они!.. — Все, что ли? Ты скажи, кто? — негодующе зашумели девочки. — А я не о всех — о некоторых. — Антон скосил глаза в сторону Зои Вихревой. — Все люди как люди, спят по ночам, а эти по коридору туда-сюда шваркают да дверьми скрипят. Надоело! Спишь с открытыми глазами, того и гляди — в мороз двери открытыми оставят… И эти некоторые думают, — продолжал он, — что таким манером, прохаживаясь по руднику, они перейдут в девятый класс… Договорить Антон не успел. Зоя вскочила и повернула к нему пылающее яростью лицо. — Ты что? Ты что? Лучше? Лучше? Ты с Зыряном по закоулкам окурки раскуриваешь! А хорошего слова разве от вас дождешься! — Она зло передразнила Антона: — Все «косолапая» да «скуластая». Такого, как ты, в пятом классе стыдно держать… А ты, Ванюша, смеешься? Принес бы лучше сюда свою тетрадь по алгебре. Вот уж всем смешно было бы!.. Ага, спрятался! Она только развертывала силу своего исступленного красноречия, но Поля Бирюлина испуганно застучала карандашиком: — Зоя! Зоя! Тогда Вихрева вложила всю свою горечь в яростный выкрик: «И это — товарищи!» и, громко пристукнув крышкой парты, села на свое место рядом с Линдой Терновой, разгоряченная, со сверкающими глазами. Среди наступившего молчания раздался тягучий голос Мити Владимирского: — У нас вообще бескультурье… чужие дневники читают… Всех прозвищами наделяют… Вот и меня тоже прозвали… — Шомполом! — услужливо подсказал кто-то. — Чижиком! — раздалось с другого конца. — Вот видите, видите, даже здесь! — Митя обращался уже к учителям. И снова тишина была взорвана шумным и веселым многоголосьем выведенных из состояния равновесия комсомольцев. — Платон Сергеевич! — почти угрожающе шептала директору школы Шура Овечкина. — Что же вы? Так и будете сидеть? Бурдинская наклонилась к Хромову: — Нельзя же так, Андрей Аркадьевич! Хромов было приподнялся со стула, но Кухтенков притронулся к его руке: — Подождите. Осторожно раздвинув сидевших рядом с ним Захара и Толю, выбрался из-за парты Кеша. Мягко ступая унтами, он подошел к столу и обернулся бронзовым лицом к ребятам. Он первый решился выступать не с места. — Вот что, Зырян, — сказал он очень ровно, без всякой угрозы. — Ты меня знаешь, помолчи… И снова вгляделся Хромов в лица ребят. «Этого уважают — за силу». — Прозвища у нас в школе разные есть. Вот Тиню Ойкина зовут Малышом. — Кеша с какой-то нежностью произнес последнее слово. — Скажите, разве мы его не уважаем? Уважаем. И за то, что хорошо учится, и за то, что товарищ настоящий, и за то, что за себя постоять может. Уважаем Малыша, — повторил Кеша, — и любим… Меня вот тоже прозвали… — Адмиралом, — подсказал Зубарев. — Знаю. Адмиралом, — без тени хвастовства подтвердил Кеша. — Потому что я своего добьюсь… «Кажется, уважают его не только за силу», подумал Хромов, с волнением слушая юношу. — А тебя, — продолжал Кеша, взглянув почему-то не на Митю, а на Линду, — прозвали Шомполом… — Кеша! — строго прервала Бирюлина, испуганно глядя на Платона Сергеевича. Линда перестала улыбаться. — …и Чижиком, — упрямо продолжал Кеша. — Шомполом — потому, что ты длинный, Чижиком — потому, что еще ума не набрался. Ты за отцову спину прячешься. Чему ты научился? Ногами крендельки чертить? Великая наука! А как испытания, так справна от врача: у Митеньки нервы больные и сердце усталое. Тебя в кресле из класса в класс перетаскивают. Что ж ты думаешь, с тобой и в Красной Армии так нянчиться будут? На Хасане в прошлом году, небось, не фокстротили, а воевали. Высокая фигура Мити Владимирского взметнулась над партой: — Неправда! Неправда! — Нет, Митя, это правда! — твердо сказал Кеша. — Правда и то, что Ваня Гладких часами валяется на койке. И то, что он списал у Бориса работу по алгебре… Так комсомольцы не делают! Кеша замолчал, но не трогался с места, видимо желая что-то еще сказать и колеблясь. Наконец он решился. — А про твой дневник, — сказал он, глядя на Митю в упор, — Платону Сергеевичу рассказал я. Я его не брал у тебя, даю честное слово, случайно получилось… Показали, а кто — сказать не могу. Кеша махнул рукой и, ступая по-медвежьи, направился к друзьям. Поднялся невероятный шум. Кричал Борис. Что-то бубнил в затылок Мите Трофим Зубарев. Взволнованно переговаривались девочки. Дед Боровиков грозил пальцем Антону, который неистово барабанил кулаком по парте. Беспомощно прыгал по столу Полин карандашик. Взволнованно приглаживал свою чолку Малыш. Только Зоя сидела неподвижно, будто бы не слыша и не видя ничего. На полном лице Альбертины Михайловны можно было прочесть смятение. — Вот теперь, Андрей Аркадьевич, медлить нельзя, — произнес Кухтенков. — Надо брать вожжи в руки… Среди этого шума и гама никто, кажется, и не заметил, как к черной классной доске, что висела за столом президиума, подошел высокий человек в бурках. Он приколол кнопками большую карту, затем подошел к столику, сдвинул в сторону Тинины бумажки, разложил цветные мелки и стоял, терпеливо ожидая тишины. Его обветренное лицо улыбалось. Это был Брынов. «Что это он? — почти с возмущением подумал Хромов. — Ведь его вопрос второй!» А Брынов уже говорил. — Вот что, ребята, — оказал геолог: — довольно-ка по улицам катыши гонять. По аудитории пошел леший пересмех: одним из развлечений школьников в перемены было перегонять, как мячики, мерзлые комья конского навоза. Хромов укоризненно посмотрел на геолога, но взгляд пропал даром: Брынов его и не заметил. — Знаете ли вы, — обратился геолог к ребятам, — чудесные слова Михайлы Ломоносова: «Пойдем ныне по своему отечеству… дорога не будет скучна, в которой, хотя и не везде, сокровища нас встречать станут… станем искать металлы, золота, серебра и прочих…» Это к вам, друзья, через грохот и сумятицу двух столетий обращается великий человек нашей земли, вас — именно вас — призывает он выводить богатства недр нашей Родины «на солнечную ясность». Брынов говорил о Палласе, Паршине, Кропоткине, о балейском золоте, ононском олове, чикойском иридии, киновари, реальгаре. Он взял из рук Поли Бирюлиной карандаш и стал водить им по карте. Затем начал цветными мелками рисовать на свободной половине доски. Сурьму, иридий, реальгар и другие ископаемые он изобразил в виде маленьких фигурок — толстых, худых, длинных, коротеньких. Они рождались, жили, имели свои приметы, свой характер, свою судьбу и должны были, каждый по-своему и в содружестве с другими, служить родной стране. Была особенная тишина. В такой тишине возникают общие чувства, единые стремления, живая связь сердец. Давно отложила свои тетради Варвара Ивановна. Сияло морщинистое лицо Татьяны Яковлевны. Горели черные, как угли, глаза Овечкиной. Восхищенно смотрел на геолога дед Боровиков. Комсомольцы слушали — и Борис Зырянов, и Трофим Зубарев, и Митя Владимирский. Только Зоя сидела неподвижно, низко опустив голову. — Я буду вас учить геологии, — закончил Брынов. — А летом, — он показал на доску, — летом пойдем искать «человечков». Он начал прибирать свои мелки. Ребята молчали, будто еще чего-то ожидали от геолога. Брынов выпрямился, провел ладонью по подбородку. — Только вот что, — оказал он: — чтобы вы, черти, алгебру и грамматику знали. И чтоб дисциплина была. Мне шелопаи не нужны… Когда приняли решение и проголосовали, ребята бросились к Брынову. Он никак не мог пробраться к учителям. Вместе с ним передвигалось кольцо обступивших его ребят. — Вы нам весь регламент расстроили, — смеясь, говорили учителя геологу, горячо пожимая ему руку. — Пришлось сразу по двум вопросам одно решение принять! — А по-моему, я у вас порядок восстановил, — буркнул Брынов. — Что, разве непедагогично? — Вы — талантливый педагог! — убежденно сказал Кухтенков. — А решение, пожалуй, и требовалось одно… Брынов и Хромов пошли провожать Бурдинскую. Геолог и учитель обменивались впечатлениями от собрания. Бурдинская отвечала бегло и рассеянно. — Ну, теперь, Альбертина Михайловна, ваша очередь, — сказал, прощаясь с Бурдинской, геолог. — Давайте организуйте свой кружок изящных искусств. А то мне одному скучно будет в школе… Ну ладно, спокойной ночи, меня мой Сервис заждался…10. Непредвиденные события
А ночью Зоя Вихрева убежала из интерната. Линда, встав пораньше, чтобы подучить физику, удивилась: Зоина кровать была прибрана, а ее самой не было. Сначала не очень тревожились; забеспокоились, когда Поля, нагнувшись за гребенкой, ахнула: Зоиного полосатенького сундучка под кроватью не было. — Ну вот, ну вот! Что же теперь? Что с ней? И она, бледная, металась по интернату, заглядывала во все комнаты, забежала даже в маленькую заброшенную сторожку в ограде, хотя всем было ясно: Зойки нет. — Довели, довели! — набросилась наконец на ребят Поля. — Дальше Урюма не уйдет, — процедил, впрочем не совсем уверенно, Антон и поспешил удалиться с глаз Бирюлиной. В кабинете директора школы собрались все члены комсомольского бюро. Пригласили Варвару Ивановну. — Что ж, ребята, — сказал Кухтенков, — давайте говорите. — Как это случилось? — воскликнул взволнованный Хромов. — О причинах потом, сейчас не время, — сказала Варвара Ивановна, едва разжимая тонкие губы. — Что предпринять? — Конечно, Зоя могла уйти только домой, на Урюм, — высказала свое мнение Поля Бирюлина. — С характером она, — не удержался Сеня Мишарин. — Вспыхнет, как порох, а потом сама кается. — К вечеру Зоя дойдет до зимовья… — деловито прикинул Толя Чернобородов. — Это — если хребтом, — согласился Сеня. — А вдруг прямиком, лесовозкой пойдет? Тогда раньше доберется. — Лесовозкой не пойдет, — возразил Малыш. — До нее четыре километра речкой итти, а в тайге — страшно, безлюдно. Через хребет пойдет, проселком, — убежденно сказал Тиня. Он явно не договаривал чего-то. Кухтенков молчал, выжидающе глядя на ребят. Молчала и Варвара Ивановна, строгая, сумрачная, непроницаемая. И по этому молчанию Хромов понял, что решается важная задача. — Мы пойдем, значит, чуть речкой, — осторожно приступил к делу Малыш, — до шестого кривуна, а оттуда свернем на лесовозку. — Кто это «мы»? — быстро спросил Кухтенков. Ойкин взглянул на Бирюлину: — Зубарев, Астафьев… и я. — Тиня говорил об этом как о деле решенном. — На лыжах? — На лыжах. — Лесовозкой? — Лесовозкой… И для Зои лыжи захватим, — добавил Малыш. Кухтенков перевел взгляд за окно. Снегу за эти дни навалило много, ребятам придется прокладывать лыжню. Дорога тяжелая. Варвара Ивановна испытующе смотрела на ребят, Хромов — с любопытством и затаенным волнением на директора школы. — Вы же знаете, Платон Сергеевич, — убеждал Малыш, — Троша Зубарев на районном кроссе первое место занял… — Антон просился, — сказал Сеня, — тоже лыжник хороший. Но ребята думают, что ему не следует. — Значит, не следует, — ответил директор и положил руку на Тинино плечо: — Ну, не сплошайте, ребятки. Он тщательно прикрыл за школьниками дверь и, весело потирая руки, обернулся к учителям: — Ну вот, замечательно! — Нашли время радоваться! — пожал плечами Хромов. — Чему? Кухтенков нахмурился, и его широкий изжелта-бледный лоб прорезали тоненькие ниточки морщинок. — Андрей Аркадьевич, — металлическим голосом отрезала Варвара Ивановна, — директор школы радуется не тому, что убежала ученица, а тому, что у нее — хорошие товарищи, умеющие действовать разумно, быстро и самостоятельно. — Простите меня, Платон Сергеевич, — со всей искренностью сказал Хромов и про себя подумал: «Еще один предметный урок». Час спустя три человека — двое побольше по краям, а маленький посредине — проворно спускались к Джалинде. И учителя и школьники в большую перемену следили из окон школы за своими товарищами, пока они не исчезли за речным кривуном.
А поздним вечером рудник потрясло новое событие. Иннокентий Евсюков, ученик восьмого класса, до крови избил своего товарища Дмитрия Владимирского. Случилось это так. Ребята возвращались домой из клуба. Шли весело, пели песни, перекидывались снежками. Споров никаких особенно не было, разве только о том, дошли лыжники до зимовья или нет, успели или нет застать Зойку. Да разве это спор! Всю дорогу Митя Владимирский что-то, смеясь, рассказывал Сереже Бурдинскому. У ключа перед ольшаником Кеша, шедший позади них, догнал Митю. Они остановились, несколько минут говорили о чем-то, а потом Кеша сильным ударом свалил Владимирского на землю. Сережа потоптался на месте, размахивая руками, и побежал обратно, зовя на помощь. Он наткнулся на рабочих с бегунной фабрики, которые, узнав, в чем дело, поспешили к речке. Приближаясь, они видели, как отчаянно защищался Владимирский, выставив вперед голову, с лицом, залитым кровью. Видели, как он зашатался и рухнул лицом в снег. Когда они подошли, Кеша стоял над ним, сжимая кулаки. Кешина телогрейка лежала на снегу, рубаха была изорвана… На другой день, чуть свет, Кеша тихо, чтобы не разбудить отца, вышел в кухню. Мать, склонившись над деревянной лоханью, стирала. Хлопья мыльной пены белели в волосах, на лице. — Ты куда в такую рань? — не поднимая головы, тихо опросила мать. Мог ли он солгать матери, которая понимала каждый его шаг, каждый взгляд, каждый вздох! — Рубашку перемени, — все тем же тихим голосом, не подымая глаз от стиральной доски, сказала мать. — Порвал рубаху, — глухо вымолвил Кеша. Клавдия Николаевна только теперь взглянула на сына. Стирая полотенцем мыльную пену с тонких смуглых рук, подошла к Кеше. — Что натворил? — Митю Владимирского… вчера поувечил… Он подошел к дверям боковушки. Андрей Аркадьевич крепко спал, положив ладонь под щеку. На полу лежала выпавшая из рук книга. Жарким, прерывистым шопотом рассказал Кеша матери о вчерашней драке у ольшаника. — Похожу вот немного, — сказал он, глядя с тоской на серебряную дорожку в материнских волосах, — приду… скажу отцу… Он долго ходил по задворкам. Серый зимний рассвет не приносил успокоения. Нужно же было случиться, чтобы Захар ушел на лыжах! А когда Кеша вернулся, отца уже не было: Назар Ильич, тоже поднялся рано и заспешил в контору. Клавдия Николаевна в это время отлучалась, и отец ушел, ничего не зная. Вернулся он быстро. Сел, не снимая овчины, на табурет у кухонного стола. Мать продолжала стирку. — Ты что же это, — хмуро сказал Назар Ильич сыну, — не знаешь, что Евсюковы зря не дерутся? Рука у нас тяжелая… Он посмотрел на свой лежавший на столе кулак. Встал, заглянул в боковушку. Учитель спал. Евсюков стал снимать полушубок: — Пойдем-ка в амбар, там потолкуем. — Не трожь, — тихо произнесла мать. — Иди себе… Назар Ильич, чуть помедля, обернулся. Глаза у матери горели сухим жаром. Евсюков махнул рукой и в накинутом на плечи полушубке вышел из избы.
Хромов к середине второго урока был уже в школе. Он поднялся на второй этаж. В коридоре охватила его обстановка школьного утра. За дверью класса будто что-то плещет, звенит; вдруг скрипнет парта, вырвется чей-то одиночный голос, вспыхнет и погаснет легкий шумок, донесется покашливанье учителя… Хромов посмотрел расписание: у директора был урок. Он прошел в кабинет Кухтенкова и сел за директорский стол, обдумывая все, что сказала ему Клавдия Николаевна. Тотчас же раздался телефонный звонок. — Товарищ Кухтенков? — Голос звучал властно и твердо. — Платон Сергеевич на уроке. — Кто у телефона? — Хромов. Пауза. — Вот что, товарищ Хромов, говорит Владимирский. Передайте директору, чтобы он явился ко мне немедленно. Понимаете ли, немедленно. Это было произнесено подчеркнуто. — То-есть как? — Хромов не скрывал иронии. — Мне войти в класс, прервать урок и директора послать к вам? — Я вас прошу не острить, мне не до шуток. Разумеется, после урока. В кабинет кто-то зашел. Хромов поднял глаза и увидел хмурое лицо Варвары Ивановны. Он сделал ей знак: «не уходите». Она села и закурила. — Хорошо, — сказал в трубку Хромов. — Можно передать директору, зачем он вам понадобился? Теперь уже Владимирский не скрывал раздражения: — По-моему, нетрудно догадаться, вам в особенности. — Если по поводу драки, то почему бы вам, как отцу, не явиться в школу? Новая пауза была короткой и насыщенной яростью. — Вы что, Хромов, первый день живете на руднике?! Через мембрану телефона учителю передавалось тяжелое дыхание директора рудника. — Владимир Афанасьевич, на руднике я нахожусь недавно, но не понимаю, почему порядки на руднике должны быть иными, чем… — Что ж! — В голосе Владимирского сквозила явная угроза. — Мне придется сообщить в район о безобразиях, творящихся в школе… Распустились… Директор рудника положил трубку. — Как вам это нравится? — обратился Хромов к Гребцовой. — Мне не нравится, как вы разговаривали с Владимирским, — ответила Гребцова. — Вы разговаривали не как педагог, а как обиженный администратор. — Вот как? — изумился уязвленный Хромов. Этого он не ожидал. — Конечно, — с обычным спокойствием, как ученику, выговаривала Варвара Ивановна. — Нам дороги все ученики. А кто прав — еще неизвестно. Вы в школе, а не на лесосеке, не рубите сплеча. — Мне все известно, — запальчиво ответил Хромов. — Виноват Митенька. А его отец, видимо, и разобраться не хочет. — А вы помогаете ему? Он, конечно, может притти в школу, но и его надо понять. У меня никогда не было детей, но представляю, что он должен чувствовать. А вы? Обиделись… за честь школьного мундира. — Ну, идите утешьте его! — сердито сказал Хромов. — Я уже была, — коротко и все так же спокойно отвечала Гребцова. Стычку прервал стремительно вошедший Кухтенков. Хромов, возмущаясь, начал рассказывать о разговоре с Владимирским. Варвара Ивановна молчала. Кухтенков взглянул на Хромова так, будто видел его впервые. — Андрей Аркадьевич, — сказал он с мягкой укоризной, — а вы не подумали о том, что Владимирский не идет к нам потому, что щадит наш авторитет? — Как это? — Да так. Он не хочет, чтобы на руднике заговорили: «Владимирский поехал пушить учителей». Тем не менее Хромов уговаривал Кухтенкова не ходить к Владимирскому: — Это и неправильно и бесцельно. Вы же еще ничего не выяснили. Надо вызвать ребят, выяснить дело во всех деталях, вскрыть причины. Да и Варвара Ивановна была уже у Владимирского. — Что с ним? — быстро спросил Кухтенков. Она пожала плечами: — Обложили его компрессами. Охает. Но опасного — ничего. Они прошли в учительскую. Хромов стал у печки рядом с Варварой Ивановной. Возле дверей подремывал с потухшей самокруткой в черных узловатых пальцах дед Боровиков. На диване оживленно разговаривали Татьяна Яковлевна и Овечкина. — Я давно замечала: у Евсюкова лицо настоящего хулигана! — сказала Татьяна Яковлевна. — Да что вы, Татьяна Яковлевна! — возразила Овечкина. — Напротив, Кеша всегда казался мне выдержанным и способным. — Выдержанный!.. На Сереженьке вчера лица не было… валерьянкой отпаивали. Как он и его не убил! — Всё к одному, как нарочно, — вздохнул Кухтенков. — Бегство Вихревой, избиение Владимирского… И все это после такого собрания! — Сережа вам ничего не рассказывал? — обратился Хромов к Татьяне Яковлевне. — Что вы! Мы и не решились расспрашивать. Он был так напуган! — А Семен Степанович? — спросил, остановившись перед учительницей, директор школы. — Что «Семен Степанович»? — не поняла Татьяна Яковлевна. — Что сказал отец? — Семен Степанович чуть не прибил Сережу за то, что не вмешался в драку, не разнял… — То-то и оно! — Кухтенков укоризненно посмотрел на учительницу. Вдруг от дверей донесся старческий, дребезжащий голос: — Евсюковы зря не дерутся. Я их фамилию пятьдесят лет знаю. У них душа чистая… Геннадий Васильевич, дозвольте огоньку… Вот так-то. Дед мотнул головой в сторону и вышел из учительской, выпыхивая из косматой бороды прогорклый зеленушный дым. Ни Хромов, ни классный руководитель, ни директор школы не могли ничего добиться от Кеши. Кеша упрямо молчал. — Ступай! — сказал наконец Кухтенков, устремив на юношу рассерженный взгляд. — А еще комсомолец! К урокам не допущу, пока не расскажешь всей правды. — Пусть Митя сам расскажет, — только и ответил Кеша. — Он должен рассказать! И Сережа. Позвали Сережу. Он начал охотно, даже с оживлением: — Мы шли, разговаривали… И вдруг он сзади… — А о чем разговаривали? — перебил его Хромов. Мальчик отвел глаза в сторону. Задвигались тонкие брови. — О чем разговаривали? — жестким, неумолимым голосом повторила вопрос Гребцова. Она закурила. — О картине говорили, — нашелся Сереженька. — Ну, еще… — Еще о чем? — вновь спросил Хромов, глядя на Сережины брови. Мальчик мялся, переступал с ноги на ногу, не знал, куда девать руки. — Еще… об учебе… — тихо сказал он. — Что говорили? Мальчик смотрел в окно, точно увидел что-то необыкновенно интересное. — Это еще что за манера! — холодно обратилась к нему Гребцова. Кухтенков движением руки остановил ее. — Говори! — обратился он к Сереже. — Накануне собрания Митя за сочинение двойку получил. Шли мы, а он посмеивался: «Все равно в девятый класс перейду». Кеша услышал, догнал и говорит: «Мы всем классом заставим тебя подтянуться». А Митя: «Плевал я на класс!» Вот Кеша и разозлился… — И все? И Кеша его ударил? Сережа мялся. — Нет, — неохотно ответил он. — Они еще о дневнике говорили. «Ты мне не указчик, — сказал Митя, — ты чужие дневники воруешь». Кеша очень рассердился. «Митя, — говорит, — возьми обратно свои слова». А Митя видит, что Кешу задело, и стал дразнить: «Вор!» Ну, Кеша тут и не выдержал… — А почему ты не вступился, не разнял? — строго спросил Хромов. Сережа молчал, потупив голову. — Испугался? — вновь опросил учитель. Сережа не отвечал. Варвара Ивановна поднялась со стула, подошла к мальчику: — Подыми голову. Сережа взглянул на нее, и снова брови его взметнулись кверху. — Скажи, Сергей, а ты веришь в то, что Кеша мог украсть дневник? Сережа с испугом взглянул на учительницу. — Н-нет… — как-то растерянно ответил он. — И я тоже не верю, — сказала Варвара Ивановна. — Это сделал кто-то другой и показал Кеше. Ты знаешь, кто это сделал? Кто этот трус, который боится признаться в своем поступке и хочет остаться в стороне? Сережа внезапно закрыл лицо руками и всхлипнул. Учителя переглянулись. — Скажи, — вернул его от двери Кухтенков: — значит, неверно, что Евсюков напал на Владимирского сзади? — Нет… Митенька еще назвал Кешу адмиралом сухопутного флота и велел убираться к чорту… и толкнул. — Даже в этом ты оболгал товарища! — с гневом сказал директор школы. — Ступай! — Какая теперь разница — спереди, сбоку, сзади… — оказал Хромов, когда Сережа удалился из кабинета. — Большая разница, — возразил Кухтенков. — Всегда и во всем мы должны видеть черты будущего характера. Мы характер воспитываем, а не кисель с молоком. После короткого совещания решили, что Варвара Ивановна, как классный руководитель, еще раз проведает Владимирского и постарается осторожно расспросить пострадавшего. Хромову предстояло вызвать на откровенность Кешу.
11. Зимовье
Шли гуськом: впереди Зубарев, следом за ним Малыш, а последним Астафьев. К спине Трофима были привязаны лыжи — для Зои. За спиной Захара висело ружье. Самыми трудными были первые пять километров — по застылой ледяной Джалинде. Правда, поверх льда была свежая присыпь снега, но лыжи то и дело скользили, и часто приходилось обходить огромные, отливающие темной желтизной вздутия пустоледа. Ветер, налетая порывами, вздымал колючуюзавируху. Легче стало, когда выбрались на лесовозную дорогу. По ней летом, после пожара, возили сушник к зимовью, а оттуда в поселок. С тех пор лесовозкой никто не пользовался, дорога была не обкатана. Шли по яркой снежной целине, испещренной следами волков. Раза три или четыре за день Зубарев втыкал палку в снег и присаживался на пенек, поджидая спутников. — Места-то, граждане, глухариные, — поощрял Троша Захара во время короткого привала. Астафьев щурил зеленоватые глаза и скрывался среди мохнатых лесин. Раздавался выстрел, и вскоре охотник возвращался с подбитой птицей. — Когда токуют, — говорил Захар, — вот тогда хорошо их стрелять. Они поют свое «кичивря-кичиврить» и ничего не слышат. Близко подпускают. — Знаю, знаю, — скептически сказал Троша, — испытал это. В ту весну с Борисом за Олекму уходили охотиться. Приметил я одного цветастого, в шесть красок, петуха. Вот уж он меня наказал! Поет-поет, да вдруг и оборвет свое «кичиврить». И стоишь, как чучело, врастопырку пять-десять минут, пока этот глухариный певец отдыхает. Закичиврякает — шагов пяток пойдешь, опять остановишься. Хорошо, если за что уцепишься, а то стоишь, руки и ноги на весу, будто в полет собрался, и холодным потом обливаешься… Малыш и Захар посмеивались. — Наша царевна придет к готовому ужину, — заметил Трофим, когда в сумку Захара были запрятаны три глухарки. И вновь они двигались тем же порядком: Захар сзади, Малыш посредине, Зубарев прокладывал лыжню по тугой снежной целине лесовозки. Синеватые, в золотых брызгах звезды рассыпались по чистому небу, когда лесовозная дорога вывела ребят на наезженный урюмский проселок. Лыжники понеслись с крутого спуска. Через четверть часа тайга слегка расступилась, и перед ребятами вырос темнобревенчатый сруб старого зимовья. Уж с полсотни лет, наверно, а то и более, стояло оно в Загочинской тайге, давая приют таежному люду; ползимы этого года оно пустовало из-за болезни зимовщика, и многие предпочитали доезжать до другого зимовья — у ключа Серый Камень. — Что-то, ребята, неладно! — недоумевая, сказал Трофим. — Ведь уж сколько времени, как здесь нет зимовщика… Было чему удивляться: в одном оконце помаргивал тусклый огонек.
— Потише, Граф, — насторожился Тиня. — Может, там бродяги какие? Вот дело будет! И утекать надо, и Зойку не оставишь. С секунду они стояли в нерешительности, поглядывая друг на друга. — Там Зоя, — сказал Астафьев, — а если не она… Он, не договорив, снял ружье. Они приткнули лыжи к стене и тихо, с замирающим сердцем, приоткрыли тяжелую дверь зимовья. За дощатым столиком, на котором догорал огарок свечи, сидела в шубенке, подперев упрямую свою голову, Зоя Вихрева. Рядом на столе, стоял ее полосатенький сундучок. Дрожащий свет падал на тоскливое Зоино лицо, на округлившиеся в раздумье глаза, на тонкие косички, спадавшие на воротник шубенки. Дверь скрипнула. — Кто там? — спросила Зоя, испуганно приподнявшись со скамейки. Тогда все трое, друг за другом, вошли в зимовье. — Лыжный кросс Новые Ключи — Урюм, — учтиво ответил Троша, подходя к столу. — Зойка, — сказал Малыш, вытирая ладошкой глаза, — мы же тебя любим, дура ты упрямая! — Даже я, — подтвердил Трофим. Зоя подняла на него насторожившиеся глаза, но встретила еще невиданный ею очень добрый, очень внимательный взгляд. А Захар Астафьев сел рядом с нею на скамейку и молча положил теплую ладонь на покрасневшие, ледяные коротенькие ее пальцы. — Вот что, — распоряжался между тем Трофим: — каждому своя работа. Захар тащит хворост и топит плиту. Малыш разделывает дичь и готовит ужин. А я утешаю Зою. Скоро зимовье наполнилось дымом от давно не топленной печки. Затрещал, живо сгорая, сушник, и вкусно запахло из большого чугуна, расшумевшегося на плите. Трофим разыскал в комнатке зимовщика большую миску, ложку, налил бульону, положил несколько кусков белой глухариной грудинки. — Суп пейзан, как значится в меню нашей столовой, — сказал он, ставя миску перед Зоей. — Больше посуды нет, граждане, каждый ест своим методом. Ребята пили бульон из кружек, а куски мяса разложили прямо на столе. Зоя опустила ложку в бульон, и крупные слезы закапали в большую алюминиевую миску. — Зоя, — строго сказал Трофим, — не солите, пожалуйста, бульон — Тиня уже солил. Тогда Зоя подняла глаза и улыбнулась. — Вот так-то лучше, — с удовлетворением сказал Троша. — А теперь спать. Завтра, — объявил он, — участники кросса возвращаются хотя и с полпути, но с призом.
12. Директор рудника
Дверь учительской раскрылась резким движением. В комнату стремительно вошел коротконогий, розовощекий юноша в костюме полувоенного образца. Это был секретарь райкома комсомола Спиридон Горкин. С ним Хромов познакомился еще осенью в Загоче. — Спиря! — обрадовался Геннадий Васильевич. — Вот молодец! Не забыл, выходит! Горкин сразу же после окончания педагогического техникума попал на Новые Ключи, проработал в рудничной школе несколько лет и только с весны прошлого года оставил ее. — Приехал, Геннадий Васильевич, приехал, — отвечал юноша. — А где Платон Сергеевич? — У Владимирского. Горкин поздоровался за руку с учителями и сразу же обрушился на всех. — Наколбасили, — звонким, крепким тенорком выговаривал Горкин, — а теперь расхлебывай за вас! — Горкин, — холодно заметила Гребцова, — может быть, мне лучше уйти? Или придется выслушивать грубости? — Это он умеет, — спокойно вставил Геннадий Васильевич. — Да поймите, Варвара Ивановна… — Горкин покраснел, для чего-то схватил линейку со стола и начал ударять ею по руке. — Поймите, не могу я быть равнодушным при таких происшествиях, да еще в моей родной школе. — Значит, вы думаете, что я… что мы равнодушны! — Гребцова смотрела в окно. — Тогда снимайте, если не хотите разобраться. — Ну вот! — поморщился Горкин, будто ему за ворот капнули холодной воды. — Я и прав-то таких не имею. Он долго расспрашивал учителей обо всем: о здоровье Мити, о настроении Кеши и настроениях ребят. Заинтересовался занятиями с геологом и кружком Бурдинской. Наконец он повернулся к Хромову: — Вы член бюро комсомольской организации? Пойдемте вместе к Владимирскому. Кстати и Платон Сергеевич там.Директор рудника взволнованно расхаживал по кабинету, останавливаясь то у окна, то у письменного стола, то у шкафа, машинально беря минералы и вновь кладя их на место. У стола, справа, уложив длинные руки на зеленом сукне, неподвижно сидел Кухтенков. — Садитесь! — отрывисто пригласил Владимирский, будто вызвал на совещание. Хромов и Горкин переглянулись. Первый чувствовал себя как-то связанно, неловко, но Горкина, видимо, трудно было смутить. — Ну, чего панику навел, Владимир Афанасьевич? — прозвенел он своим тенорком, будто ничего особенного не случилось. — Ты еще спрашиваешь! — возмутился Владимирский. — Сынишка третий день в постели! — Отлежится — встанет. — Отлежится? Взглянул бы ты на него: чуть не в кровоподтеках весь… — Наука парню! Будет с уважением относиться к коллективу. — Спиря! — Был Спиря, а теперь Спиридон Гаврилович. — Все равно. Мальчишкой был, мальчишкой остался, — махнул рукой Владимирский. — Старо, Владимир Афанасьевич. Старо и неумно. — Постой, Горкин. — Владимирский помолчал и, поморщившись, как от боли, сказал. — Давай говорить серьезно. Это не шуточка: из интерната убегают, драки между школьниками. Полный развал воспитательной работы. — А я серьезно и говорю. Скажу то же самое, только другими словами. Я их не оправдываю, — кивнул Горкин в сторону учителей, — у них свои промахи… А вот товарищ Владимирский, — эти слова Горкин произнес с необыкновенной горячностью, — не хочет понять, что он оболтуса из своего сына выращивает, а не советского человека! За что ты ему в прошлом году велосипед подарил, а в этом году — ручные часики? За что? Третий год он без испытаний из класса в класс перекатывается. Под твоим нажимом это делается… Все больше краснея и, видимо, от смущения приходя в ярость, Горкин продолжал наступать на Владимирского: — Ты думаешь, Владимир Афанасьевич, это не удар по школе? В какое положение это ставит учителей! О Митеньке я и не говорю: ты, хотел или не хотел, но развил в нем высокомерие к товарищам, неуважение к труду учителей. Ведь ему все легко достается, без напряжения, без приложения собственных сил. Владимирский слушал Горкина, опершись руками о край стола. Желваки бегали на скулах худощавого властного лица. Поглядывая на Кухтенкова, он сдерживал себя. — В общем, Владимир Афанасьевич, не порадует тебя потом сынок. Плохой тебе будет из него помощник. И государству нахлебник! — Какой он будет помощник, — начал Владимирский, — это не твоего ума дело… Горкин досадливо махнул рукой и сел на диван рядом с Хромовым. Кухтенков придвинул Владимирскому коробку «Северной Пальмиры»: — Закурим. И успокойтесь… Вот что, Владимир Афанасьевич: вы спрашивали Митю, за что его Кеша? — Да. Митя давно замечал, что Евсюкову не нравится его дружба с Линдой. И дневник он взял с целью осрамить Митю. Все ясно. — Эта ясность от незнания, Владимир Афанасьевич, — сухо, но вежливо возразил Хромов. — Кеша избил Митю не за дружбу с Линдой, а за то, что он оскорбил коллектив. И его, Кешу, обидел. — Выходит, Хромов, что вы лучше знаете Митю, чем его отец? — сердито оказал Владимирский. — Не берусь это утверждать, но факт остается фактом. Да вы и сейчас говорите не как отец, а как директор рудника. Отец должен понять, что его сыну, советскому школьнику, не подобает наплевательски относиться к своим товарищам, которые требуют одного: чтобы он у шлея как следует! Что касается дневника, то я убежден, что Кеша его не брал. И ребята этому не верят. — Выходит так, — оказал со спокойствием бешенства Владимирский, — выходит так, что сына моего избили, а виноват он. И я… Вы тоже так считаете, Платон Сергеевич? — Как вы думаете, Владимир Афанасьевич, — заговорил Кухтенков тихим, ровным голосом, словно в раздумье, — если бы мы собрали ребят и спросили их, на чьей они стороне — на стороне вашего сына или на стороне Евсюкова, что бы они ответили? Владимирский покосился на учителей: — Ну, если их так дурно воспитали… — Не упорствуйте. Пусть мы их еще плохо воспитываем, но это честные, хорошие советские дети. Наши дети. И они будут за того, кто выступил защитником коллектива. Евсюков, конечно, должен быть наказан. За самоуправство. И это сделают педагоги и сами комсомольцы. Но худо будет для школы, если Евсюков поймет, в чем он виноват, а Митя и его отец не поймут. Кухтенков помолчал. — Владимир Афанасьевич, — добавил он, — я честно окажу: и школа виновата. Давайте вместе исправлять общую вину. Владимирский откинулся за спинку кресла. Он будто сразу постарел. Глаза его были закрыты, Кухтенков молча встал, налил из графина воду и поставил стакан перед Владимирским. Горкин даже с некоторым сожалением посматривал на директора рудника. — Владимир Афанасьевич, — мягко сказал секретарь райкома, — пойми, тебя целыми днями не бывает дома: то ты на строительстве гидравлики, то выезжаешь в район, то тебя вызывают в Читу. Воспитывает его старая бабка… Часто ли ты с ним разговариваешь вообще, и не только о школе, об учебе? Вот и прозевал… — Нехорошо, — тихо сказал Владимирский, открыв глаза, — нехорошо, товарищи… Если я директор рудника, значит можно мне позволить заблуждаться? Не-хо-рошо! — в третий раз произнес он. — Что же, товарищи, — директор школы встал и обратился ко всем, — давайте исправлять и исправляться.
13. За честь класса
Интернатцы были взбудоражены событиями последних дней. Разобраться в ребячьей разноголосице чувств и мнений было нелегко. Сеня Мишарин жалел Зою и осуждал Кешу. Борис Зырянов принял сторону Кеши: «Я бы за такое дело не то что Митьку — я бы по господу богу прямой наводкой грохнул!» А приятеля своего, Антона, Борис обещал вздуть, если тот не оставит Зою Вихреву в покое. Ваня Гладких обвинял всех: и Зою, и Антона, и Кешу, и Митеньку, и особенно Полю Бирюлину: «секретарь комсомольской организации, умная девочка, а твердости никакой». Толя Чернобородов два дня ходил, углубившись в свои мысли, и наконец прочитал вслух стихотворение:Зрей наша дружба,
Как колос ржи,
Цени нашу дружбу,
Ей дорожи!

— Учителя все пришли, и дед Боровиков, и Владимир Афанасьевич, и Семен Степанович… — сообщала Линда. — А Семен Степанович зачем? — А он в самом начале собрания встал и говорит: «Сейчас мой сын Сережа внесет ясность в историю с дневником». И Сережа признался, что Митин дневник он взял на день почитать, хотел с Митей поговорить, и духу нехватило. Рассказал про дневник Кеше, а Кеша, без всякого умысла, — Платону Сергеевичу… — А Платон Сергеевич какой строгий оказался. А мы-то его все «тихоней» звали. — Митя пришел весь перевязанный, охал, охал, а потом признался, что нехорошо поступил… Владимир Афанасьевич его при всех отчитал: «Для нас, для коммунистов, — говорил, — коллектив — все!» — Кеша бледный-бледный, едва говорит… Зоя слушала все это, не спорила, по обыкновению, и улыбалась каким-то своим мыслям. Ее подруги переглядывались: «Да Зоя ли это?» — Тебя, девочка, — материнским тоном сказала Поля Бирюлина, — тоже надо отругать. Романов начиталась. Обиделась, что поругали! Весь рудник перевернула… Ну, зачем убежала? Линда испуганно взглянула на Полю: «Молчи, зачем затеваешь разговор!» Но Зоя не вспыхнула, как обычно. Она сладко зевнула и сонно пробормотала: — Хоть бы кто Антошку за меня отчитал, вот спасибо бы сказала! — Она положила голову на Полино плечо и добавила совсем тихо: — А у Троши какие глаза… добрые-добрые!.. Ох, как я устала, девочки… И заснула. Поля Бирюлина все еще что-то доказывала подруге, а грудь Зои уже мерно вздымалась, и Линда, глядя на нее снизу вверх, загадочно улыбалась. — Ты бы хоть сегодня не улыбалась, — наставительно сказала Поля. — Ты-то усвоила что-нибудь? Будешь на Митю влиять как комсомолка? — Усвоила, — кротко ответила Линда. — Буду. А вот Зоинька уже давно спит. Девочки осторожно раздели подругу и уложили ее спать. Троше Зубареву и Тине Ойкину не пришлось так скоро заснуть. В мальчишеской комнате спорили бурно, азартно, словно продолжалось сегодняшнее, второе на этой неделе, комсомольское собрание. — Правильно сказал Платон Сергеевич, — говорил Сеня Мишарин. — Нечего силу показывать на своих товарищах. — А ты вдумайся, — не уступал Зырянов, — из-за чего его Кеша! Кеша зря не дерется! Если бы тебя так обозвали… — Тоже мне рыцари большого кулака! — возмутился Сеня. — Моральное воздействие нужно, а не расправа кулаком! — На кого что действует! — глубокомысленно заметил Антон. — Это верно, — с невинным видом подхватывает Ванюша Гладких. — Если Антон начнет пилить, то не то что до Урюма — до Байкала рад без оглядки бежать. Ты хоть раз по-товарищески поговорил с Зоей? Все насмешками! Раздетые до пояса, растирая себя докрасна белыми вафельными полотенцами, вошли Ойкин и Зубарев. Им рассказали о событиях и собрании со всеми подробностями. — Знаете, ребята, — сказал Толя, — очень меня затронули слова Варвары Ивановны. «Плохо, — спрашивает, — когда читают чужие дневники?» — «Плохо», отвечает. «Плохо, — опять спрашивает, — когда в этом боятся признаться? Плохо. Плохо, когда одни не уважают коллектив, а другие прибегают к драке как к спасительному средству? Безусловно плохо». Мы сидим, и всем, наверное, стало грустно и обидно. Все плохо да плохо… А я смотрю — лицо у Варвары Ивановны строгое, а глаза не то чтобы веселые, но со светом каким-то особенным… — Она в душе добрая, — перебил Ваня, — только не любит показывать доброту. — Что же Варвара Ивановна еще сказала? — нетерпеливо спросил Трофим. — Она, значит, говорит: «А теперь о хорошем. Хорошо, что вы все знаете, что Кеша не брал дневника. Хорошо, что Сережа нашел в себе мужество признаться в своей ошибке. Хорошо, что Митя недоволен собой и стремится исправиться. Хорошо, что мы, коллектив советских школьников, прямо говорим друг другу о своих ошибках». Тиня слушал разговор, и его серые глаза перебегали с одного на другого. — Люблю Варвару Ивановну, — сказал он: — строгая она, но справедливая. — Вот Поля наша не годится в секретари, — заметил Борис. — Нет у нее строгости. — Борис тоскует по узде, — сострил Зубарев. Тиня Ойкин, сидевший в задумчивости на скамейке, вдруг встрепенулся. — Троша, — сказал он, — по-моему, ты глупо сострил… Ребята, знаете, о чем я думаю? Вот мы учимся вместе четыре месяца. Пришли из разных мест: Ваня — из Первомайского, Захар — из Ковыхты, Антон — из Озерков, Кеша здесь учился… Нам три года вместе учиться… А кто из нас думает о чести класса? Ведь это главное! И тут, словно Тиня высказал мысли каждого, заговорили все. — Надо, чтобы стыдно было за каждую плохую отметку, — сказал Толя. — Я еще в пятом классе, — вспомнил Борис, — вместо «Христофор Колумб» сказал «Светофор Колумб». До сих пор краснею, как вспомню. — Ага! — заметил Зубарев. — А Толя в позапрошлом году изрек: «Море со всех сторон окружено водой». Вот это поэзия! Половину урока сорвал — всё никак не могли успокоиться. Ребята расхохотались. — Давайте предложим всему классу, — сказал Тиня, — чтобы с плохими отметками в геологический поход никого не брать! — Сеня уже впереди всех! — Трофим, застегивая рубашку, подошел к Мишарину. — Ты что, собираешься к весне стать академиком? Сеня обложился книгами. Он заглядывал то в одну, то в другую и заносил что то в записную книжку. Зубарев перелистывал книги. — «Определитель растений», «Как составлять гербарий», «Следопыт-охотник», — читал Трофим названия книг. — Ого, товарищ уже готовится к геологическому походу! Он взял одну из книг, пристроился рядом с Мишариным и начал читать.. — А что ж такого удивительного! — отозвался Гладких. — Я уже маршрут придумал. Вот посмотрите. Ваня достал из тумбочки тетрадку. На последней странице обложки был чертеж. Ребята склонились над Ванюшиной тетрадной. Трофим привстал со стула и заглянул через плечо Сени Мишарина: — Зря старался! — Почему? — ожидая подвоха, спросил Ваня. — Тебя в поход не возьмут, — бесстрастно ответил Трофим. Он уже опять уткнулся в книгу. — Меня? — возмутился Ваня. — Меня?! Самого выносливого?! Я Олекму туда и обратно без отдыха переплываю. — Ну да, тебя, — подтвердил Трофим, перелистывая книги, — самого ленивого… Олекму переплываешь, это верно. И по математике плаваешь… — В самом деле, — вмешался Борис, — Ванюша, ты слышал: у кого с учебой плохо, тот в поход не пойдет. Ванюша тихо присвистнул, молча свернул тетрадь в трубочку и пошел к своей койке. — А ты не свисти, — сказал Сеня. — Кузьма Савельевич прямо сказал: «Кто химии и физики не знает, тот будет на минералы смотреть, как баран на новые ворота». И еще: «Мне работники нужны, а не туристы». — Вот когда придется переправу на Олекме строить, тогда посмотрим, кто работник, кто турист. — Ваня Гладких нырнул под одеяло.
Это было в тот же вечер. Хромов и Кеша прошли весь поселок, пересекли Джалинду и углубились в Заречье. За спиной остались кочкарник, нежилые желтые срубы, больница, огни которой просвечивали сквозь кедровник. Шли молча. Пятидесятиградусный мороз, словно бритвой, резал лицо. — Летом здесь голубицы много, — сказал Кеша только для того, чтобы прервать тягостное молчание. Хромов не ответил. — А на кочкарнике той весной хотели стадион строить, — с отчаянием сказал Кеша. Учитель о чем-то думал. — Не молчите, Андрей Аркадьевич! — не выдержал Кеша. — Я все понял, еще до сегодняшнего педсовета и до комсомольского собрания. Неправ я. Поделом мне. Вот увидите, увидите, что… — Голос его прервался. — Знаю, Кеша, — ответил учитель. — Конечно, увижу. Увижу и тебя и Митю хорошими товарищами. Они остановились. Хромов положил руку на Кешино плечо, а глядел мимо него, куда-то вдаль. — Главное, Кеша: ты защищал себя и товарищей, а забыл про коллектив, не сумел опереться на него. А коллектив — это сила… Так вот, товарищ адмирал Тихоокеанского флота, давай поговорим… Поздно вернулись в этот вечер учитель и ученик.
14. В поход!
Незаметно подошла весна. Сопки освободились от снежных чехлов. На склонах остались только таявшие день ото дня белые клинья. Они розово светились по утрам — и таяли, таяли… Ледяной покров Джалинды, сжигаемый солнцем, стал каким-то пятнистым, скучным, лежал в мутных подтеках. По вечерам на сопках жгли полынь, чтобы гуще росла новая трава. Дед Боровиков глядел в чистое, как родник, небо. — Апрель май догоняет, — приговаривал он. — Завистливый месяц. Но однажды, в середине мая, выпал беглый снежок. Старый водовоз возмутился. — И за что только май месяц встречали! — сокрушался он. — Ну ничего, весна свое возьмет! И верно: это был последний порыв неподатливой, растянувшейся на долгие месяцы забайкальской зимы. Словно лиловый дым пополз по сопкам, настойчивый, неутомимый, живой. Это расцветал багульник — краса и радость забайкальской природы. Весна! Для малышей каникулы уже начались. Стайками бродили ребятишки по берегам Джалинды, уходили за Поклонную гору, на дамбу, в старые разрезы, оглашали рудник детским весельем. Старшеклассники готовились к испытаниям. Дважды в неделю по вечерам приходил в школу Кузьма Савельевич Брынов со своими картами, цветными мелками и коллекциями минералов. Геолог собрал вокруг себя ватагу горластых и пытливых ребят. Занятия у Брынова проходили бурно. Вдруг затевался какой-нибудь спор, и Кузьма Савельевич с довольным видом разжигал спорящих. Или приносились кем-то найденные камешки, и все начинали их разглядывать и оценивать. Временами геолог принимался рассказывать занимательные истории из своих прежних походов, и тогда из класса доносились взрывы смеха. То геолог рассказывал о том, как неделю плыл вверх по Селемдже и всю дорогу питался ухой из больших налимов; то припоминал какую-нибудь особенную ночевку у речной рассошины; то описывал, как росомаха охотится за кабаргой. А между тем ребята узнавали, что, оказывается, Октябрьская сопка начинена, как пирог, сурьмой, что на Кучикане при промывке золота обнаружили иридий, что долина Этаки — это «долина охры и сурика». — Эх, ребята, — часто повторял геолог, — тут глаза сами в землю смотрят! Брынов не просто перечислял месторождения минералов — он увлекал ребят романтикой трудных странствий. Он облекал химические формулы минералов в поэзию поиска и открытий. И когда геолог взмахивал маленькой железной лопаткой, казалось, что она создана не для исследования пластов, а для вычерпывания золотого клада. Кружковцы разрабатывали маршруты, готовили снаряжение, проводили тренировочные походы. Геологический кружок Брынова появился на свет среди шума и волнений, вызванных дракой в ольшанике и бегством Зои. Кружок рукоделия Бурдинской вошел в школьную жизнь неприметно и тихо. В этот кружок записались только девочки. Даже сыновья Альбертины Михайловны не решились войти в него: боялись, что товарищи доймут насмешками. И в самом деле, старшеклассники относились к кружку рукоделия с недоверием. — Артель «Напрасный труд», — презрительно говорил Антон Трещенко. — Ну как у вас там, Поля? — вкрадчиво спрашивал Трофим Зубарев старосту кружка Бирюлину. — Цветочками занимаетесь? — Ну что же, что цветочками? — настораживалась девушка, ожидая подвоха. — Ну и что же? — Да ничего. Сначала цветочки, ягодки потом, — под дружный хохот ребят невозмутимо отвечал Трофим. Неодобрительно отнеслись к занятиям кружка и некоторые учителя. — Боюсь, что у девочек теперь не найдется времени на выполнение домашних заданий, забросят учебники, — таково было мнение Варвары Ивановны. А Геннадий Васильевич постреливал во все стороны серыми глазками и посмеивался: «Мол, посмотрим, что там Кухтенков и Хромов затеяли!» Директор школы и учитель географии на первые занятия кружка не пришли. Они предоставили Бурдинскую ее собственным планам и намерениям. Надо было выждать, чтобы руководительница кружка освоилась со школой и ребятами. Нетерпеливый Хромов торопил рассудительного Кухтенкова. Наконец директор согласился: «Пойдемте». — Благодарю вас за внимание, — забасила Альбертина Михайловна, встречая учителей. На ней было простое серое платье. Она показывала учителям вышивки с изображенными на них виноградными лозами, яркими букетами цветов в корзинках, заячьими мордочками. Эти изображения были уже знакомы учителям по дому Бурдинских. Девочки вышивали и рукодельничали для себя — приносили с собой из дому занавесочки, носовые платки, полотенца. — Да, — сказал директор школы, потирая руки, — приятное занятие. Развивает художественный вкус. Очень хорошо! Бурдинская любезно улыбнулась: — Красивое всегда воспитывает детей. Хромов хотел что-то возразить, но Кухтенков сделал ему знак: «молчите». — Именно поэтому, — сказал директор, — меня не устраивает вид класса, в котором вы работаете. Девочки отвлеклись от своего рукоделия. Бурдинская и Хромов поворачивались то в одну, то в другую сторону, в зависимости оттого, куда протягивалась длинная рука директора. — Занавесок на окнах нет. Стены голые. Грустное зрелище… Ну ладно, пойдемте, Андрей Аркадьевич. Они ушли, больше ничего не сказав Бурдинской, предоставив ей самой разгадывать немудреную загадку, которую поднес ей Кухтенков. Недели через две, накануне первого дня испытаний, Варвара Ивановна, войдя в класс, остановилась на пороге в изумлении. Класс сверкал, как новенькая монетка: окна были украшены белыми кружевными занавесками; от двери до кафедры наискосок вела чересполосная, красное с зеленым, дорожка. На столе у учительницы в кувшине стояли цветы. И даже на классной доске на гвоздике висел зеленый карманчик для тряпки и мела. «Ну, это уж лишнее!» решила насчет карманчика Варвара Ивановна. Она впервые подумала с теплотой о Бурдинской. Занимаясь в этом классе с юными геологами, Брынов заметил: — Что-то, братцы, симпатичнее у вас стало. Тянет к вам. — Это всё наши девочки-рукодельницы, — разъяснил Борис. — Школу прихорашивают. — Антон-то теперь совсем другой стал, — не удержалась Зоя. — Раньше никогда грязь с ботинок не счищал, а теперь ни одного скребка не пропустит. — Тебе бы туда, к рукодельницам, — проворчал Антон, — а ты, небось, не хочешь. К геологии пристроилась. Кузьма Савельевич пристально посмотрел на Антона: — А разве мальчикам нечего делать в рукодельном кружке? Антон в недоумении взглянул на Бориса, ища у него поддержки. — Ты шить умеешь? — вдруг спросил геолог Антона. — Нет, сапожничать умею. — А в армии, между прочим, и уменье шить пригодится, там мамок и нянек нет… И в походе их не будет… Ну ладно, займемся нашими минералами… Вскоре в кружок Бурдинской записались Захар Астафьев, Сеня Мишарин. Антон Трещенко остался при своем мнении. — Вы замечаете, как меняется отношение ребят к школе? — спросил как-то директор школы Бурдинскую. — Да? — Теперь если ребята заметят сор и грязь, то берут друг друга в оборот. — Правильно, — отвечала Бурдинская, — в школе стало красивее. — Главное, Альбертина Михайловна, это не беспредметная красота. Она воспитывает, приносит пользу. «Вот тебе и ягодки!» торжествовала Поля Бирюлина над Зубаревым. Кружок Бурдинской завоевал признание и учителей и школьников. И никто теперь не удивлялся, видя Альбертину Михайловну в школе.Варвара Ивановна читала ребятам переводные оценки. Окна класса были открыты настежь. Июньский ветер колебал белые занавески. Солнечные лучи играли, как котята, с красными и зелеными полосами дорожки. — У Тихона Ойкина, Полины Бирюлиной, Трофима Зубарева, Иннокентия Евсюкова отличные оценки по всем предметам… Варвара Ивановна говорила все это своим обычным, ровным голосом. — Захар Астафьев… — Учительница помедлила, взглянула на бледное лицо юноши, и голос ее заметно потеплел. — У Захара тройка по немецкому… Последняя тройка, наверно? Захар опустил голову. — Не горюй, Захар, — улыбаясь одними глазами, сказал Трофим, — мы с тобой в походе только по-немецки и будем разговаривать. — Зубарев, перестань! — чуть повысила голос Варвара Ивановна и продолжала: — У Ивана Гладких плохо по алгебре. Геннадий Васильевич назначил ему переэкзаменовку на осень… Белый листочек, вырванный Толей Чернобородовым из тетради, перешел к Тине и поплыл от парты к парте, пока Зоя не сунула его в руки Ванюше. Тот прочитал и со злостью скомкал его. Варвара Ивановна, не подымая глаз от журнала, тихо сказала: — Прочти вслух! — И как это вы, Варвара Ивановна, всегда все видите! — с восхищением сказал Тиня. Ваня Гладких привстал, опираясь одной рукой о парту, а в другой сжимая бумажку. — Прочти, — вновь приказала учительница. Ваня развернул бумажку и пробормотал скороговоркой:
Не пойдет Иван в поход —
Надо сдать ему зачет!
Наконец наступило первое июля — день «старта». Провожали ребят чуть ли не всем поселком. Школьники начали собираться с шести утра, хотя выход был назначен на семь. Но раньше всех пришел Назар Ильич с сыном. Он привел двух вьючных лошадей, выделенных прииском, и вместе с Кешей тщательно нагружал на смирных животных тяжелую поклажу. Утро было холодноватое, ясное. Сопки точно в золоте искупались, а небо ушло высоко-высоко в утреннюю синь. За полчаса до «старта» пришел Ванюша Гладких и стал проситься в поход. Почему-то он решил, что Трофим Зубарев — председатель СГП (Совет геологического похода), и ходил за ним по пятам, почти всерьез называя Трофимом Ивановичем. Зубарев долго уверял Ванюшу, что от его огненной гривы все минералы в страхе попрячутся, зароются в глубины и экспедиция будет сорвана. Тогда Ванюша собрался было вздуть Зубарева, но пришел Андрей Аркадьевич, и бедняга кинулся к нему. «А что будет с алгеброй?» спросил его учитель. Ванюша стал с жаром доказывать, что только занятия на свежем воздухе принесут ему пользу, что с самого детства он мечтал именно о таких благоприятных условиях работы и что он готов решить все задачи на два года вперед. Созвали тут же на школьном крыльце Совет. — Пусть идет, — сказала Поля. — Возьмем с него слово, что будет заниматься. Она с сочувствием взглянула на Ваню. — Да я… — захлебнулся тот, — честное слово… — А в самом деле? — колебался Зырянов. — Нельзя ведь так уж сурово! Эх, Ваня, Ваня, как же это ты с алгеброй!.. Гладких с надеждой переводил взгляд с одного на другого. Трофим и Малыш были против. Слово оставалось за Кешей. Он не сразу решился, но, решившись, сказал твердо и жестко: — Если мы это сделаем, то на будущий год в поход пойдут одни лодыри… Жалко тебя, Ваня, — сказал он более мягко, — но нельзя. Ванюша постоял с минуту, ероша свои пышные волосы. Молча повернулся и побрел к интернату. — Да, — многозначительно сказал геолог Хромову, — строгие у нас порядки. Но иначе нельзя. Ребята были экипированы хорошо: вооружены заостренными, на длинных рукоятках, геологическими молотками для отбивания образцов, небольшими железными лопатами для исследования мягких пород; у Бориса — зубила для выбивания из твердых пород окаменелостей и минералов; у Кеши и Сени — две рулетки для измерения толщины слоев пород. Не забыли и сумки для укладки собранных образцов, оберточную бумагу и вату для их упаковки, этикетки из белой бумаги, чтобы писать точное местонахождение взятых образцов, тетради для записи наблюдений, папки для растений. У Брынова и Хромова еще заранее были заготовлены две карты района Олекмы. Захватили три компаса. У Захара и Кузьмы Савельевича были фотоаппараты. — Толя, — вдруг забеспокоился Антон, — рыболовные спасти не забыл? — Нет, конечно. — На Урюме и Олекме порыбачим… Будем уху варить из тайменя и хариуса. — Кажется, ничего не забыли, — озабоченно сказал Брынов. — Платон Сергеевич, давайте прощаться. Директор стоял на школьном крыльце. Участники похода обступили его полукольцом. За их спинами толпились школьники, родители, педагоги. Кухтенков с волнением смотрел на счастливые лица: ребята еще не ощущали тяжести висевших за плечами рюкзаков, их ноги еще не были измучены километрами немеренных троп. Каково им будет? Впереди — малоизведанный Олекминский хребет, Олекма, Яблоновый… — Ну, ребята, — сказал директор полушутливо, полусерьезно, — призываю вас к открытиям, которые прославят школу, рудник, район, область и страну… Считайте себя юными разведчиками грядущих пятилеток! Возможно, что вы и не откроете богатых месторождений. Ручаться за это нельзя. Но я хочу, чтобы вы открыли в себе, в своих товарищах то, что пригодится вам в том большом «походе», который называется жизнью… Варвара Ивановна речей не произносила, но проверила снаряжение каждого. Пришли Бурдинские: Семен Степанович — опираясь на палку, прихрамывая; Альбертина Михайловна — поддерживая мужа под руку, как всегда величественная и любезная. — Кузьма Савельевич, — загудела она, — я, как вы знаете, не поклонница этой затеи, но я примирилась с нею… И заверяю вас, что мой кружок за это лето сделает не меньше, чем ваши геологи в тайге… Сережа, я принесла тебе полдюжины носовых платков. Положи их в свой рюкзак. — Да, и если схватишь насморк, позвони мне в больницу, — скосив глаза на жену, сказал доктор. Но Альбертина Михайловна была невозмутима. — Во всяком случае, — вновь произнес Семен Степанович уже вполне серьезно, — если не дай бог с кем-нибудь из вас случится беда, то пострадавший может рассчитывать на текущий, средний и капитальный ремонт в больнице за Джалиндой. — Ну, в вашей аптечке, — усмехнулся Брынов, — есть, кажется, все, кроме хирургических инструментов и операционного стола. Пришли прощаться родители всех рудничных ребят — участников похода. Назар Ильич, так и не уходивший домой, сурово сказал Кеше, что «евсюковская порода» не киснет ни при каких обстоятельствах и что его сын должен это помнить. Клавдия Николаевна все время улыбалась, говорила мало и угощала ребят теплыми пирогами.
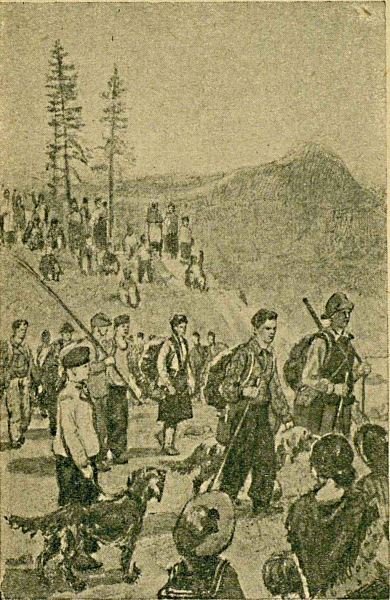
Юные геологи уже собирались выступать, когда пришел Владимирский. Он отвел Платона Сергеевича и Андрея Аркадьевича в сторону. Одергивая свою полувоенную гимнастерку, едва разжимая губы, он попросил, чтобы Митю взяли в поход. — Это невозможно! — решительно сказал Хромов. — Просто даже неловко вас слушать. Владимирский настаивал. Тогда Платон Сергеевич подозвал к себе Кешу и, потирая руки, коротко сказал: — Собери Совет. — И, кивнув в сторону школьников, обратился к директору рудника: — Пусть они сами решают. Ребята опять расселись на ступеньках школьного крыльца. Митя в новом, с иголочки, походном костюме стоял перед товарищами, понурив голову. — Ишь, уже успел и принарядиться! — сердито сказала стоявшая в сторонке Зоя. — Поймите, ребята… — выдавил из себя Митя, — поймите, как хочется участвовать в походе! — Ване тоже хотелось, — ответил Трофим — отказали: не заслужил. Чем ты лучше? Митя молчал. — Это не наказание, — погладил свою чолку Тиня Ойкин, — это справедливость. Митя умоляюще посмотрел на Бориса. Тот шумно вздохнул и развел руками. Митя перевел взгляд на Полю. — Пойми, Митенька… Ну, нельзя, нельзя… Кешин взгляд Митя не поймал — Евсюков отвернулся. Владимир Афанасьевич крупными шагами приблизился к крыльцу. Лицо директора рудника посерело от волнения. Он говорил через силу. — Ребята, я вас прошу — не как директор, не потому, что он сын… — Он сжал пальцами руку сына так, что тот застонал. — Я хочу, чтобы этот… этот верзила хоть раз в жизни похлебал трудностей… И, может быть, впервые, не чувствуя себя «хозяином» рудника, Владимирский тихо сказал: — Я могу только просить. Это испытание оказалось ребятам не по силам. И первым сдался Кеша. — Мы это делаем только ради вас, Владимир Афанасьевич, — сказал он, сумрачно глядя на Митю. — Но если он не будет заниматься… — сказал очень серьезно Малыш, — и вообще будет себя выставлять… — Отправим обратно, — заключил Трофим. — Тогда и Ванюше надо разрешить, — сказала очутившаяся у крыльца Зоя. — За него хлопотать некому… Можно, я сбегаю за ним? И не дожидаясь согласия, Зоя помчалась к интернату. Она вернулась обратно расстроенная, со слезами: — Нет Ванюши. — Как нет? Где же он? — Так, нет. Собрался и ушел. — Эх, Шомпол ты, Шомпол! — зло сказал Антон Мите. — На, тащи! Тут две доли: твоя и Ванюшина. — И «завхоз» вручил Мите Владимирскому самуюувесистую поклажу. Учителя и родители провожали юных геологов до окраины Новых Ключей. Дальше всех провожал ребят, восседая на своей знаменитой бочке, дед Боровиков. — Хоть не попутно, а провожу, — говорил он. — Уж очень весело на вас смотреть. Про наш край говорили: пенья, да коренья, да вечная мерзлота. А вы докажите, что не так. Сам пошел бы по старым тропкам, да старуха не пускает… Ну, ребятки, в добрый путь! И он долго следил за цепочкой ребят, подымавшихся по извилистой тропе в сопки.
15. Дневники
Тетради, записные книжки, блокноты, наскоро сшитые листы белой бумаги… Толстая тетрадь в серой клеенчатой обложке. Круглыми, четкими, как типографские знаки, буквами на первом листе выведено:«Дневник Захара Астафьева. Геологический поход. Лето 1939 года».На следующей странице, с отступом, ближе к верхнему углу, эпиграф:
«Различные глыбы гор, приводящие в удивление своей формой и положением, долины, покрытые приятной зеленью, множество оленей и других диких зверей, еще большее обилие различных птиц — все это делает эту страну такою приятною, что приятнее нельзя и желать, и я никогда в жизнь мою не видел лучше. Такая волшебная обстановка, а особенно множество в полном цвету растений на южной стороне гор привели меня в восхищение. Академик Паллас, Дневники, 1773–1786».
«Начиная с Урала до самого Байкала я не собрал нигде столько замечательных произведений природы, сколько в одной Даурии, нигде эти произведения не были в таком обилии и совершенстве, как в Даурии. Там же».Далее, очень убористо и тесно внесенные в тетрадные клетки, следуют записи дневника.
Из тетради Захара
Вчера ночевали возле старой зимовушки, где полгода назад застали Зойку. Только стали раскрывать дверь — из расщелки выпал листок бумаги. Кузьма Савельевич поднял и прочел: — «На плите горячая вода». Вот, ребята, — оказал он, — у нас в тайге есть замечательный обычай: принято заботиться о тех, кто придет после тебя. — Только записок не оставляют, — возразил Кеша. — Ну, это как кто! — заметил геолог. Вошли в зимовье. В самом деле: огромный котел, вмазанный в плиту, бурлил кипящей водой. — Совсем недавно был здесь этот заботливый таежник, — оказал Кузьма Савельевич. Троша не мог себе отказать в удовольствии сострить. Когда спили чай, он торжественно заявил, что эта зимовушка сыграла выдающуюся роль в истории лыжного искусства и кулинарного дела. Зоя наконец призналась, что в то время, когда мы ее здесь застали, она думала — вернуться или нет, что ей было тогда очень страшно и одиноко (мы-то это хорошо знали!) и что теперь Троша Зубарев может острить сколько угодно, но она все равно на него не рассердится. Митя держится особняком.Из записной книжки Хромова
Источник Кислый Ключ сбегает с отрога Олекминского хребта. Вырывается из густых зарослей тальника и звенит по камням прозрачной и необыкновенно холодной водой. Напился из горсти и даже поморщился; Кузьма Савельевич, развьючивавший рядом лошадей, спросил: — Что, крепковато? — Бьет в нос. Покрепче нарзана! — ответил я ему. — Эта вода полезна, как нарзан, — серьезно ответил Брынов. Пока мы все освежались, пили воду, просто валялись на траве, геолог рассказывал интереснейшие вещи. Оказывается, в нашем крае свыше трехсот минеральных источников — содистых, железистых, углекислых. Многие из них имеют лечебное значение. Об этих источниках сто лет назад писал нерчинский учитель и писатель В. Паршин в своей книге «Поездка в Забайкальский край». Паршин указывал, что Сибирь — пустыня, богатая естественными ископаемыми до роскоши. Паршин в своей книге пишет, что в Забайкалье через двадцать пять верст непременно встречается минеральный ключ. Спустя полстолетия после Паршина эти ключи были еще мало изучены. А сейчас на этих источниках выросли курорты: Дарасун, Олентуй, Ямаровка, Шиванда, Ямкун. День был очень жаркий, и мы провели полдня у нашего источника, изучая прилегающую к нему местность. Перед выходом Кузьма Савельевич, поправляя на моей спине рюкзак, тихо спросил: — Вас не беспокоит настроение ребят? — Немного. — Ребята с Владимирским почти не разговаривают — так, сквозь зубы. — Они сами разрешили ему итти с нами. — Все дело в том, что Ванюше отказали, и он ушел домой, а Митя добился. Ребята ненавидят несправедливость. — Вы не боитесь, что дело дойдет до… — Нет, но мы должны быть настороже.Из тетради Захара
В полдень на крутой извилине Урюма мы увидели четыре небольших домика, обмазанных глиной. Здесь живут китайцы-огородники. Домики расположены так, что с прилегающими к ним обширными огородами образуют целый поселок. Огородники снабжают наш рудник, Иенду, Урюм, Ковыхту картофелем, капустой, огурцами, помидорами, редисом. Огороды китайцев поражают изобилием овощей. Весной, когда Урюм разливается, вода добирается до фанз и огородов. Китайцы оставляют тогда свои домики и переселяются на взгорье, в палатки. Толя Чернобородов, когда мы стояли и смотрели на фанзы, на поворот реки, на хвойную чащу, сочинил стихи:Четыре домика — китайский городок —
Стоят на берегу Урюма.
Сияет солнце, веет ветерок,
Тайга надвинулась угрюмо…
Из блокнота Малыша
В Урюме проведем не менее трех дней. У Кузьмы Савельевича тут какие-то дела, и он решил дождаться начальника прииска, уехавшего по старательским бригадам. Зоя рада больше всех. Она выросла на Урюме. Зазвала меня, Захара и Трошу к себе — молоко пить. Отец Зои умер, когда она была совсем маленькой. Мать — ласковая и подвижная женщина. Зовут ее все Ивановной. Живет она тем, что в ясли и больницу поставляет молоко, да еще одеяла стегает. Обстановка небогатая, живется трудно. Но Ивановна не унывает: «Вот дочку подыму и заживу». Ивановна все потчевала нас горячим молоком с творожными шанежками и пирожками с морковью. Нас удивляло только, что она часто как-то беспокойно озиралась и выходила куда-то. — Вот, упрямица ты моя, — приговаривала, угощая нас, Ивановна. — Вот они, твои друзья-товарищи, не дали тебе школу бросить. Вдруг мы услышали осторожный стук в стекло. Ивановна вышла на кухню и, приоткрыв дверь, позвала Зою. Минут пять мы прислушивались к топоту, доносившемуся оттуда. Троша, загадочно улыбнувшись, сказал: — Наверно, заговор против геологического похода. Нас хотят задержать с помощью пирожков и шанежек. В это время влетела Зоя, закружилась по комнате. Косички били ее по плечам, щекам. — «Эх, хорошо в Стране советской жить!» — запела она. — Что с тобой, Зоинька? — спросил Троша. — Ты уже нашла что-нибудь без нас? Золото? Сурьму? Олово? — Мальчики, это секрет. Не спрашивайте — все равно не скажу. Так и не сказала.Из записной книжки Хромова
Мой гербарий с помощью Сени Мишарина и Зои Вихревой быстро пополняется. По каждому образцу Кузьма Савельевич дает интересные справки. Он не только геолог, но и ботаник, и зоолог. Оказывается, у многих растений Забайкалья захватывающая история и многообещающее будущее. Сегодня на привале геолог с увлечением нам рассказывал: — Некоторые говорят о бедности нашего края. Не верьте. Все вы знаете, что в Забайкалье много ягоды: есть и смородина, и земляника, и жимолость, которую называют здесь зимоложкой, и шиповник, и черемуха. Сами собираете каждое лето. А запасы их грандиозны. В 1916 году купец Хозеев заготовил на Чикое сорок тысяч пудов черемуховой муки. А грибы? В Забайкалье встречаются и грузди, И рыжики, и лисички, и волнушки, и сыроежки; их и сушат, и солят, и маринуют. Здесь есть все, что нужно для стола. Нужен лук? Его здесь заменяет мангир, который едят и в свежем виде, и квасят, как капусту, и сушат. Нужен сахар? На Аргуни растет сладкий корень — осолодка. Корень сушат, нарезают и кладут кусками в стакан, как сахар. Нужен чай? Используйте листья кислицы, брусники, шиповника, бадана. Есть растение, которое так и называется иван-чай. А кисель из луковиц сара́нок? А каша из крупы повилики на молоке? Это всё съедобные растения. Есть и лекарственные: желтушник, или иван-трава, зверобой, или «сердечная трава», хвойник, или кузьмичова трава, ландыш, валериана, горицвет… Из ольховой коры получают черную краску, она идет для окраски сукна и кожи; из корня барбариса извлекают желтую краску… А кедровник! Какое это неистощимое и чудесное богатство! Под кедровыми деревьями занято в Забайкалье пятьсот пятьдесят пять тысяч гектаров! На каждый гектар приходится в среднем двести плодоносных деревьев. С каждого дерева можно собрать девять-десять килограммов шишек, а из шестнадцати килограммов шишек добывают от трех до семи килограммов орехов! Перемножьте цифры — получите не менее ста шестидесяти — ста семидесяти миллионов килограммов орехов. Допустим, что пятьдесят процентов уничтожают кедровки, соболи, глухари, белки. Все равно, к нам просятся в руки восемьдесят миллионов килограммов — восемьдесят тысяч тонн. А из каждой тонны орехов можно добыть четыреста килограммов масла! Да еще жмых! — Вот это цифры! — изумился Борис Зырянов. — Кузьма Савельевич, хватит, а то вы из меня, боевого артиллериста, обыкновенного ботаника сделаете. — Бедный Сеня Мишарин! — притворно вздохнул Зубарев. — Сеня уже пропал для цивилизованного мира! Будет солить мангир на всю Сибирь и выжимать из пятисот тысяч гектаров масло. Только он рассеянный, не перепутал бы мангир с орехами. Сеня Мишарин прищурил мечтательные свои глаза и ласково обнял товарища: — Не бойся, Троша, не перепутаю!.. А где Митя? Митя, идем заниматься! Вот какой, каждый раз заставлять надо… В самом деле, Митя очень ленив.Из тетради Захара
Вот как это произошло. Сеня заспорил на привале с Линдой. Линда решила подразнить Сеню и сказала, что все растения, на ее взгляд, одинаковые. Сеня обиделся и прочитал нам целую лекцию: — Растения имеют свою хитрость: вот шиповник привлекает насекомых своим запахом, багульник — красивой окраской, а черная смородина — сладким соком. А ты говоришь — одинаковые! Вот дать бы тебе понюхать боярышника — запомнила бы! — А что? — спросила Линда. — Мертвечиной пахнет, мух привлекает. — А я не муха, — рассердилась Линда и встала. — Не груби, Сеня, а то приколочу. — Я не грублю, — смутился Сеня, — и не хотел тебя обидеть. А ты вот приглядись к хребтам: на северном и южном склонах совершенно разная растительность. — Ты сам растительность! — все еще не могла успокоиться Линда. Она отошла и вдруг вернулась: — Что у тебя за белый лист на спине? Сеня сидел спиной к широкоствольной сосне. Он встал, и на землю упал лист бумаги, висевший, видимо, на сучке. Сеня поднял листок, мы окружили его, и он вслух прочитал: — «В десяти километрах к северо-западу от Тунгира много голубицы». — Ты зачем, Сеня, написал это? — По рассеянности, наверное, — заметил Трофим. — Боялся — забудет. — Да не писал я! — воскликнул Сеня. — Что вы! Да откуда же я знаю, что в десяти километрах отсюда ягода! — Ну, значит, Троша написал. Больше некому. — А мне зачем? — Чтобы заставить нас прогуляться! — Нет, ребята, и я не писал, — серьезно сказал Трофим. — А почерк, между прочим, знакомый. Кузьма Савельевич обвел всех нас глазами: — В зимовье кто-то вскипятил для нас чай. Кто-то предупредил Лю Я-ми о нашем приходе, и он встретил нас обедом. Кто-то заранее запасает нам к привалам сушник. Кто-то указывает нам ягодники. Кто же этот «кто-то»? Может быть, вы знаете? Скажите! Но мы не знаем. — Странно! — сказал Андрей Аркадьевич. Он взял под руку Кузьму Савельевича и отвел его в сторону.Из блокнота Малыша
Ночевали на левом берегу Тунгира. С Митей Владимирским приключилось происшествие. То ли настил не выдержал, то ли бревно подгнило, но свалился наш Митя в воду, и понесло его течением. Отнесло метров за пятьдесят, там он уцепился за валежник, сидит в воде, только волосы торчат, а Сервис мечется по берегу и заливается. Кеша подбросил Мите веревку, вдвоем с Трофимом вытянули беднягу. Стоит наш Митя на берегу, дрожит, зубами щелкает, а Трофим, конечно, сочувствие выражает: «Понимаете, подбегаю, смотрю — что-то блестит. Ну, думаю, нашли самородок в валежнике. А вместо золота — Митя!» У Владимирского сразу озноб прошел. Чуть не прибил своего спасителя. Ускакал в тальник сушиться. Толя с Антоном выловили рыбину-калугу в полпуда весом и несколько тайменей. Варили уху. Лежали возле костра. Сеня Мишарин вдруг говорит со вздохом: — Что такое СГП? Совет геологического похода. А мне хочется, чтобы эти три буквы девизом нашего похода звучали. — Пожалуйста! СГП — Сурьма, Гранит, Полиметаллы. — Трофим соображает быстро. — Нет! — Толин голос дрожит от вдохновения. — Нет, это Страсть, Гордость, Прямодушие! — А по-моему: Смелость, Героизм, Победа. — Кеша говорит коротко и отрывисто. — Строительство Грандиозной Пятилетки! — взревел Борис в полном восторге от своей выдумки. — Советские Граждане-Патриоты, — подумав, предложил я. — Давайте все это вместе взятое и сделаем нашим девизом, — очень серьезно сказал Кузьма Савельевич. — Держитесь, ребята, скоро начнется Олекминский хребет.Из тетради Зои
Из-за ягод все и открылось. Ах, какая же я глупая и неосторожная! Ягоды оказалось столько — ступить страшно. Крупная, совсем спелая голубица. Все так увлеклись сбором, что потеряли счет времени. Мы обиделись на Антона. Поручили ему донести до лагеря полный туесок с ягодами, а он до привала ухитрился на три четверти опорожнить его. — Я такого обжоры еще не встречала! — рассердилась Поля. — Это только Антон может такое сделать! — А еще завхоз экспедиции! — заметил Троша. — Разве можно этому товарищу доверять материальные ценности! Антон закатил глаза и причмокивал синими от ягод губами. Меня это взорвало: — Лучше бы Ванюша ничего не показывал таким, как ты! У Антоши глаза округлились, он поставил туесок на землю и даже сел на него. Я прикусила язык, но было уже поздно. — Ванюша? Какой Ванюша? — Наш, Ваня Гладких. Который записку написал. Тут уж я не могла отбиться от вопросов. Пришлось рассказать все, что знаю. Малыш обиделся, что про урюмскую встречу с Ваней я тогда умолчала. Ох, если бы он знал, как я хотела тогда Ваню затащить в избу и чтобы все стало ясно!.. Взяла слово с ребят, что Кузьме Савельевичу и Андрею Аркадьевичу пока ни звука. Начали восхождение на Олекминский хребет.Из записной книжки Хромова
На одном из привалов Кузьма Савельевич рассказал, как раньше проводились поиски россыпей в тайге: — Партии были небольшие, по пять-десять человек. Во главе партии от устроителя поисков ставился доверенный — штейгер. Он получал «попудные деньги» — пай от эксплоатации найденных россыпей. Поиски проводились большей частью зимой. Это не совсем удобно: выходы горных пород завалены снегом и день короток. Зато нет «верховой» воды, затрудняющей шурфовку. Нанимали проводников — эвенков с оленями. Эвенки мастерски налаживают вьюки, раскладывают их по оленям. И вот движется поисковая партия узкой тропой вдоль извилистой речки, меж поваленных бурей деревьев, меж валунов, сорвавшихся со скалистых стен долины. Подойдут к подножию гольца — здесь ночевка. Эвенк-проводник заводит партию в густой ельник, где много сушнику. Через четверть часа вьюки уже сложены рядами, нагребается снег, срублены сухие деревья, и из нескольких кряжей сложен костер. Полукругом настланы толстым слоем молодые, тонкие побеги лиственницы — это таежный «тюфяк». Трещит, вспыхивая порохом, ерник[4], навешаны на таганы котлы, чайники — как вот у нас, — только чай приготовляют не из воды, а из глыб запасенного чистого льда. Все усаживаются у костра на корточках, на наветренной стороне, очищают оледеневшую обувь. Закипает вода в котелках, туда крошат кирпичный чай. А утром опять идут вьючной тропой.
Кузьма Савельевич рассказывает о метелях, сбивших с пути не одну партию, о гибели многих. — …Раньше, до революции, когда находили золото, появлялись, как из-под земли, опытные матерые спиртоносы, начиналось соперничество между приисковыми партиями, борьба с таежными волками-захватчиками, которые сами не ищут, но следят за партиями и пытаются отнять у старателей то, что они нашли. Начиналось подпаиванье, слежка друг за другом, хитрости сменялись хитростями — до тех пор, пока площадь с золотом не обставлялась столбами и не вступали в силу «предписанные законом» правила… Вот так и происходил поиск в старое, дореволюционное время. — Ого, теперь буду знать! — пошутил Трофим Зубарев. — Как бы меня Ваня Гладких не обставил! Я найду, а он заявку подаст! — Вот то-то и оно, — возразил Кузьма Савельевич. — Разница небольшая: кто бы из вас ни нашел, Родина все равно в выигрыше. А почему именно Ваня Гладких? — внезапно спросил геолог. — Ведь его с нами нет. Обычно довольно невозмутимый, Зубарев смешался: — Да это я так, к слову… Брынов посмотрел на меня и недоверчиво покачал головой. И мне почему-то кажется, что это не простая обмолвка. С Митей Владимирским был сегодня крутой разговор. Если не исправится — отправим обратно.
Из блокнота Малыша
Вчера ночью подошли к правому берегу Олекмы. В маленькой зимовушке начальник экспедиции собрал всех участников похода. Антон разливал кипяток по кружкам. Все расселись за большим столом посреди комнаты. — А эта кружка кому? Ты просчитался, Антон! — сказал Андрей Аркадьевич. Лишняя кружка стояла на столе. — Сейчас! — ответил Антон. — Что «сейчас»? — Зови, — шепнул Антон Зое. — Теперь за Олекмой мы уклонимся от изведанной главной дороги и углубимся в тайгу, — говорил между тем Кузьма Савельевич. — Одну группу я поведу через Голубую падь, другая группа пойдет через ключ Иван-Талый… Только вот, Андрей Аркадьевич, не знаю, как быть. Хоть вы и географ, но заплутаться — пара пустяков. Брынов задумался. — На той тропе, через ключ, мои затески есть, — заметил Кеша. — С отцом охотился за кабаргой. — Вот ты куда заходил! — обрадованно воскликнул Кузьма Савельевич. — Ну, тогда ты и поможешь Андрею Аркадьевичу вести вторую группу. Группа, которая придет раньше в Иенду, ожидает другую. Встретимся через семь-восемь дней… Завтра с утра поделим снаряжение и перевьючим лошадей… Да что вы сегодня такие беспокойные? Что с вами? Почему чай не пьете? Зоя вдруг вскочила из-за стола, едва не опрокинула кружку и выбежала в сени. Она вернулась, волоча за руку упиравшегося Ваню Гладких. Можно было пересчитать все веснушки на побледневшем Ванюшином лице. Гладких вытащил из-за пазухи книгу и протянул ее нашему учителю: — Вот, проверяйте. Андрей Аркадьевич машинально взял книгу и поставил ее ребром на стол: — Что проверять? — Задачи, правила. По программе. — Так это ты нас преследовал две недели? — спросил Кузьма Савельевич. — Я, — признался Ванюша. — Садись, пей чай, — мягко сказал Андрей Аркадьевич. — Антон тебе уже налил… Ведь он заслужил эту кружку? — обратился учитель к нам. — Конечно! Да садись же, Ванюша, сюда! — затормошили мы Ваню со всех сторон, а Зоя пуще всех. Вдруг Андрей Аркадьевич неожиданно жестко сказал: — Вот, Владимирский, разница между Ваней и тобой: он добился права участвовать в походе, а ты, если Сеня и Линда с тобой не займутся, рад увильнуть. — Митя, перестань симулировать! — вполголоса сказал Трофим. — Отправить этого лоботряса обратно, — проворчал Борис. — А что же? Это ведь дельное предложение, — серьезно сказал наш учитель. — Как вы думаете, Кузьма Савельевич? — Ведь ты и отца подводишь, — буркнул сердито геолог. Все смолкли. У Мити лицо вытянулось. Он видел вокруг себя хмурые, решительные лица своих товарищей. — Может быть, проголосуем? — спросил Андрей Аркадьевич. Сережа Бурдинский не выдержал и подтолкнул Митю. — Ребята… мне очень стыдно… очень… Перед вами, Ванюшей, отцом… Простите меня… — Проняло все-таки! — с удовлетворением сказал Кеша. Но Мите пришлось пережить еще несколько мучительных минут, когда за Ваню спорили обе партии и никто не выражал желания брать к себе его, Митю. Наконец Брынов распорядился: «Гладких идет на Иван-Талый, Владимирский — на Голубую падь». Сегодня подготовка к дороге, сборы. Завтра переберемся через Олекму и — на Яблонку.Из записной книжки Хромова
Этого следовало ожидать! Ведь столько дней небо сверкало знойной синью! Проливной дождь настиг нас на пути к Олекме. Признаться, не ожидал я такой расторопности от ребят. Настоящие таежники! Ободрали с деревьев корье, понастроили балаганы, стащили туда все наше имущество, и мы, как говорится, «вышли сухими из воды». Кузьма Савельевич мне говорит: — Помню, как-то был я в тайге с практикантами, необстрелянными студентами. Тоже вот так дождь нахлынул. Намучился я тогда. Палатку развернули с опозданием. На нас жалко было смотреть — до того вымокли! Одежда набухла. Хлеб превратился в нечто кашеобразное, от него несло кислым. А с этими не пропадешь. Смотрите, и Митя подтянулся. А если бы Альбертина Михайловна увидела Сережу, что бы с ней было? Но как-то мы переправимся через Олекму? После ливня река разлилась чуть не во всю ширь долины.Из тетради Захара
Через Олекму переправились на стареньком плоту. Его разыскал на берегу Ваня Гладких. Как северянин, он не один раз пересекал Олекму. Плот оставался от прошлогоднего похода северян на Новые Ключи. Вода крутится, кипит, покачивает нас на крутых свирепых волнах. Но Ванюша управляет плотом мастерски. В два приема через быстрину переправил всю партию.
Толя Чернобородов сочиняет «Походный марш». Первые строки мы уже поем:
В ливень и зной,
В снег и весной,
Чрез кипень бунтующих вод —
Путь труден и долог,
Но юный геолог
Идет, не робея, вперед!
Из записной книжки Хромова
Подошли к подножию Яблоновою хребта. Распрощались с группой Брынова. Невольно всем стало грустно, не хотелось расставаться. Зоя даже всплакнула. Но Брынов нарочито сухо провел эту «операцию». — Ну, смотрите за ребятами, — сказал я ему. — Ну, не прозевайте ископаемые, — ответил он мне.16. Дневники (продолжение)
Из тетради Захара
Вот так тропа! Не везде по-двое пройдешь, шли гуськом. Сосны и ели касаются ветвями лица, горбатыми узлами переплетаются корневища, то и дело спотыкаешься. На редких полянках порою белеют березки, виднеются кусты багульника. Бесконечным кажется подъем на высоты Яблонового… Идем всё вперед — к вершине. Тропа временами раздваивается, но мы уже привыкли определять правильное направление по «Кешиным затескам». На третий день вышли на широкую, словно вырубленную гигантом просеку. Сосны и ели лежат, вырванные с корнем, и повалены в одном направлении. Здесь похозяйничала буря. Идем, напевая новые строчки «Походного марша»:Сквозь бурелом
Идем напролом,
Разведчики ценных металлов,
От горных подножий
Тропой кабарожьей
К таежным седым перевалам.
Слева от тропы мы увидели лежащую на земле толстую лиственницу. На ней, соединяясь углом, — четыре обугленных лесины потоньше. Кеша свернул с тропы. — Ты что, Кеша? — спросила Александра Григорьевна. — Ищешь что-нибудь? — Прошлой зимой мы с отцом здесь белковали, — ответил Кеша, — и далеко зашли от балагана, возвращаться не хотелось… — Послушаем, граждане, — Трофим сел верхом на поваленную лиственницу, — случай из боевой жизни Адмирала. — Ничего особенного, — ответил Кеша. — Ночь была темная, мороз подходящий — градусов пятьдесят. «Заночуем», говорит отец. А я спрашиваю: «Как же без балагана, под открытым небом?» Ну, отец начал меня учить. Разгребли снег, свалили эту сырую лесину, положили на нее пирамидой четыре сухих бревнышка, так что край их выступал вперед, а под ними разожгли костер. Концы бревен зажглись, разгорелись, и такой жар от них был, что мы даже разулись… Славно переночевали… — И все? — спросила Линда. — Все. А что еще? Утром поднялись и пошли дальше. — Это, — поднял палец Трофим, — это, учтите, еще до морских походов Адмирала, так сказать сухопутная страница жизни… — А где же романтика? — спросила Линда. — Романтика? В том, чтобы не замерзнуть в тайге, — улыбнулся Кеша. — И в том, чтобы найти выход из безвыходного положения, — уже серьезно сказал Трофим. Перевалили! Кругом под нами сплошное, без конца и края, колеблемое ветром море тайги. Огромные каменные осыпи стерегут вершину Яблонки. На гребне много мертвого сухостоя. Начинаем спуск. Попадаем на северном склоне в царство даурской лиственницы, буйных зарослей багульника, ольхи, таволги, ивы. Поем продолжение «Походного марша»:
Бей молотком
Каменный дом,
И в скалы всмотрись хорошо!
Где стланик кедровый,
Где шли звероловы,
Там юный разведчик прошел.
Отдыхали у содистого ключа Иван-Талый.
Из блокнота Кеши
Вчера вечером пришли в Иенду. Нас поселили в пендинской школе. Утром, только мы позавтракали, Зоя говорит: — Пойдем к Троше в гости. — Может, неудобно? — Захар вопросительно смотрит на меня. — Ага! Он у меня в Урюме гостил? Я хочу с его мамой познакомиться. Молодец Зоя! Мне кажется, что мы думаем об одном и тем же: может быть, Трошиной маме надо помочь! — Андрей Аркадьевич, Александра Григорьевна, вы с нами? — спрашивает Зоя. — С вами, — улыбается Андрей Аркадьевич. Пошли. Домик старенький, в два окна, маленький огород. В нем мы и застали Дарью Федоровну и Трошу. Они были озабочены. — Огород под уклон, — прищурил глаза Захар. — Размыло после дождей грядки… Троша, увидев нас, смутился. Дарья Федоровна засуетилась: — Заходите, заходите, гости дорогие… Лицо у нее изможденное, глубокие морщинки на лбу и щеках, а голос молодой, ласковый. — Вы посидите, а я сейчас козочку подою, молочком угощу… Еле отговорили. Это, наверно, у всех мам такой обычай: молоком угощать. Если ко мне Захар или Толя придут, мама уж несет кувшинчик: «холодное, с ледника», или: «парное, только отдоила». И отказаться нельзя! Андрей Аркадьевич сразу насчет здоровья стал спрашивать. — Да так здоровая, только вот ревматизм. Кости ломит, опухаю… Измаялась… — Да что же вы не лечитесь? — Лечусь. Отруби напарю и отвожусь ими… Да ведь работа у меня такая — все с водой. — Вы где работаете? — В приискоме здешнем. Уборщицей. — Мама, — с досадой сказал Троша, — ладно тебе… — Троша, — вдруг перебила его Зоя, — покажи мне дом. Трофим нехотя поднялся, и они вышли. — Стесняется, — с горечью сказала Дарья Федоровна. — У других вот родители — инженеры, врачи, старатели, забойщики, а у него — уборщица. А мне с моим образованием и здоровьем — куда? Он у меня гордый. И самостоятельный. Отец от простуды помер. Троше тогда десять годков было, и он с той поры мне помогать стал по хозяйству… Семь классов здесь окончил, хотел на работу устраиваться: «Никуда от тебя не уеду! Кто тебе воды наносит, дров привезет?» Силком отправила на рудник в восьмой класс. Вернулись Зоя с Трошей. На загорелом Зоином лице было выражение отчаянной решимости. Она схватила меня за руку и оттащила в угол комнаты: — Ты Троше товарищ? — Да. — Надо починить крышу. — Да. — Надо поправить стайку[5]. — Да. — Надо привезти дров. — Да. — Ой, Кеша, я ведь никогда в тебе не сомневалась!Из записной книжки Хромова
Утром собрал свою партию. — Ребята, — говорю, — когда мы пришли в Иенду, у меня было скверное настроение. Ведь мы пришли с пустыми руками. Но теперь у меня хорошее настроение. Мне кажется, что мы нашли тот самый минерал, о котором говорил, провожая нас, Платон Сергеевич. Мы без слов понимаем друг друга. Это бывает при настоящей дружбе. Смотрю, у ребят глаза разгорелись, а у Зои уже слова на языке. — Ну, Зоя, что же вы придумали, как вы решили помочь матери своего товарища? — Кеша и Захар подправят стайку и крыльцо. Ваня со мной и Линдой поедет по дрова. Троша с Толей крышу починят. Пока наши вернутся, мы управимся. Шура Овечкина напустилась на Зою: — А нам с Андреем Аркадьевичем работы не нашли? — Подождите, Александра Григорьевна, — говорю, — Зоя просто не досказала. Во-первых, мы должны в приискоме лошадь выпросить, чтобы дрова вывезти; во-вторых, там, кажется, надо еще ограду подновить. Так? Зоя покраснела: — Так… Трофим молчал, потом поднялся, сжал пальцы так, что они хрустнули: — Ну, товарищи… И больше ничего не мог выговорить.Из тетради Захара
Эти три дня слегка моросило, а сегодня с ночи припустил ливень. Сейчас в Забайкалье время дождей. Хорошо, что мы успели все сделать в Трошином хозяйстве. Я никогда не знал, что на душе может быть так хорошо, когда поможешь товарищу — не словами, а делом. Мышцы ноют, все тело болит, а на сердце радость… Все было бы хорошо, но беспокоимся за группу Кузьмы Савельевича. — Если завтра не придут, — сказал Кеша, — надо итти навстречу, на розыски! — Сеня такой слабенький, — Линда даже прослезилась, — у него малярия. Вдруг приступ? — Член спасательной экспедиции Трофим Зубарев готов выступить в любое время дня и ночи, — заявляет Троша. — Подождем, ребята, не волнуйтесь, — говорит Андрей Аркадьевич. Но и он обеспокоен. Вчера вечером Андрей Аркадьевич рассказывал нам о жизни декабристов в Забайкалье — в Читинском остроге и Петровском каземате. Оказывается, когда в конце 1826 года декабристы (их было восемьдесят два человека) прибыли в Читу, это была маленькая деревушка. При декабристах были выстроены новые домики, а шесть из них, где жили жены декабристов, образовали улицу под названием «Дамская». Декабрист Горбачевский после каторги поселился на Петровском заводе, где и умер. Декабрист Завалишин остался в Чите и много сделал для ее благоустройства. А мы знали о декабристах только то, что в учебнике. Вернусь — обязательно достану книги о жизни декабристов в Сибири… С утра ребята стали осаждать Андрея Аркадьевича: «Пойдемте обратно к Яблонке на выручку». Александра Григорьевна поддержала нас. Андрей Аркадьевич засмеялся: — Вот заполошные! Говорю вам, что там, где Брынов, беды не случится. А вы промокнете, заболеете! — Ну, хорошо, — предложил Кеша, — тогда отпустите только нас двоих: меня и Зуба рева. — Посмотрим, — наконец согласился он. — Подождем до вечера. Ребята ходят повесив носы, у Зои красные глаза, разговоры не клеятся… Дневник и то вести не хочется. Под вечер Андрей Аркадьевич распорядился: он с Кешей, Трофимом и Ванюшей идет на розыски наших товарищей. Александра Григорьевна остается с нами…* * *
Хромов и ребята довольно быстро преодолевали пологий подъем на Яблоновый, ночь провели в зимовушке и утром двинулись с крутизны по направлению к Голубой пади. Ливень стих. Они шли весь день, иногда оглашая таежную чащу громкими возгласами. Но им никто не отвечал. Учитель и ребята охрипли от крика. К вечеру незаметно для себя спустились в падь. Они пошли по-двое, обшаривая долину. Условились сойтись у высокой каменной гряды в западной стороне Голубой пади. — Ау! — время от времени кричали Хромов и Кеша. — Ау! Ау! — откликались Ваня и Трофим. Они вышли к ручью, перешли его по камням и направились по его правому берегу. Вскоре Трофим и Ваня достигли места, где хаотически разбросанные в русле ручья каменные глыбы разбили его на узкие протоки. То, что они увидели, заставило их поспешно позвать товарищей. — Вы видите, видите! — говорил Ванюша заплетающимся от ужаса языком. — Там… палатка… Истерзанная, придавленная камнями, распласталась по земле палатка. Кое-где брезент вздувался, словно силился сбросить с себя каменный груз. Невдалеке мирно пасся Волчок. Кеша и Хромов уже шарили под брезентом. Зубарев и Гладких бросились к ним. Кеша наткнулся на раздавленный туесок, в котором грибы превратились в кашицу. В другом месте Троша заметил вдавленную в землю металлическую пуговицу. — Что с тобой, Ваня? — вдруг спросил Хромов. Ваня Гладких откинул край брезента и сел на мокрую землю; он открывал и закрывал рот, не в силах ничего сказать, и только показывал на лежащего под брезентом на плаще Сережу Бурдинского. Хромов бросился к нему, и не успел он прикоснуться к Бурдинскому, как тот вскочил на ноги, протер глаза и уставился на своих товарищей: — Как вы попали сюда? — Где Кузьма Савельевич, где ребята?17. Голубая падь
Расставшись с товарищами, группа Брынова сразу углубилась в таежную чащу. Узкая тропа то ныряла в сине-зеленую мглу лиственниц, даурского багульника и болотного вереска, то, круто забирая вверх, выводила школьников в нагорный мир стланика, мелкорослых берез и кустов малины. Иногда тропе, становившейся все уже и уже, сопутствовал таежный ручей, журчавший по камням под прикрытием буйного сплетения ивняка, черемухи и жимолости. Ближе к северным склонам попадались таволга, бузина и шиповник. Их ветки были усеяны багряными листьями. В заболоченных падях и по их склонам густой зарослью тянулись ерники, березы, ивы, мелколистный багульник. Частые источники пересекали тропу — вода в них отдавала то щелочью, то углекислотой, но всегда была холодной и приятной на вкус, освежала и прибавляла силы участникам похода. Голубика и моховка созрели здесь в изобилии. Из ягодников то и дело вспархивали рябчики и глухари, иногда стремительно выбегали косули. Все дальше, в нехоженую глухомань, уводила ребят узкая кочкастая трона. Юные геологи не видели ничего, кроме простиравшейся без конца и края зеленой гущи, среди которой порою посверкивали голубые озерца и светлые речушки; местами встречались пятна горных лугов. Несколько небольших приключений не испортили настроения участникам похода. Вблизи Голубой пади Митя Владимирский и Сеня Мишарин опередили всю группу и шли, разговаривая, по тропе. На крутом завороте, в ста шагах, вниз по тропе трусил медведь-муравьятник. Митя и Сеня сообразили, что им с мишкой не по пути, и повернули обратно. В другой раз героем происшествия оказался Сервис. Пронырливый пес забрел в глухой кедровник. Оттуда вдруг донеслось его странное повизгиванье. Борису Зырянову и Антону Трещенко, примчавшимся на зов Сервиса, представилось уморительное зрелище: на камне под кедром среди обглоданных шишек сидела птица кедровка — черная, в белых, как снежинки, пятнышках. Объевшись орехами, кедровка икала и миролюбиво посматривала на Сервиса, склоняя то на один, то на другой бок свою головку с длинным клювом. Она ленилась сдвинуться с места. Поведение опьяневшей птицы совершенно озадачило Сервиса, и он был в положении стража порядка, которому неудобно наказать закоренелого пьяницу, настолько тот беспомощен и добродушен. Эти приключения не отвлекали юных геологов от поисков ископаемых. Брынов и ребята ни на одну минуту не выпускали из рук геологических молотков на длинных рукоятках. Начальнику экспедиции приходилось время от времени окликать вошедших в азарт школьников. То они бросались к скалам, сторожившим вход в горловину пади, и взбирались на них, расцарапывая до крови руки и ноги; то начинали изучать камни, по которым стекал какой-нибудь говорливый источник. Рюкзаки, карманы, даже туеса были наполнены образцами горных пород. Участники похода ревниво оберегали свои с таким трудом собранные коллекции. Все шло хорошо до ливня. Он настиг группу Брынова у самого входа в Голубую падь. Это случилось на шестой день путешествия. Тропа, вся в узлах корневищ, круто обрывалась. Спускаться по ней можно было, только цепляясь за ветви густого боярышника и ерника. Ливень гнал юных геологов в Голубую падь, так как разбить на узкой тропе палатку было невозможно. Слева и справа глухой стеной стояли таежные дебри. Скользя, падая, сбивая друг друга, теряя туеса, рюкзаки, промокшие до последней нитки, ребята упорно шли за Брыновым, все дальше и дальше углубляясь в узкую, буйно заросшую кустарником долину. За несколько часов такою путешествия Митя Владимирский побледнел и осунулся. Стиснув зубы и насупив тонкие брови, шагал Сережа Бурдинский. Шумно дышал ломавший кусты, как медведь, БорисЗырянов. Он шел следом за начальником экспедиции; от него не отставала Поля. Больше всего опасался Брынов за худенького, болезненного Сеню Мишарина. Сеня не жаловался, но лицо его морщилось; еще до Голубой пади его начала трясти лихорадка, и теперь он еле волочил ноги. Ребята разгрузили его от вещей, причем добрую половину Сениного имущества взяли Антон Трещенко и Тиня Ойкин. Брынов увлек ребят к круто вздыбившемуся над падью каменистому западному склону. У его подножия катил свои воды небольшой, теперь раздувшийся от ливня ручеек. Путешественники с трудом перешли его вброд, продрались сквозь заросли тальника и очутились на небольшой площадке между ручейком и темносерой скалистой стеной. Наверху скала увенчивалась каменным козырьком. Здесь, защищенные от дождя выступом скалы, и собрались все участники экспедиции. — Ну вот, — сказал Брынов оглядываясь, — мы здесь прямо как робинзоны. Едва ли до нас кто-нибудь заглядывал сюда… Здесь, ребята, как кончатся дожди, начнем поиск, все утолки осмотрим… По моим расчетам, мы — у цели! Борис, Антон и Малыш уже вгоняли в землю колышки и разбивали палатку. Ливень не прекращался. Тяжелые, словно разбухшие от воды тучи нависли над Голубой падью. Сгущались сумерки. Одна из сторон палатки почти вплотную примкнула к скале, прикрытой густыми зарослями зелени. Борис Зырянов натягивал веревку, а Поля Бирюлина, стоя на коленях, прикручивала веревку к колышкам. Вдруг девушка почувствовала, что веревка в ее руках ослабла. — Боря, что же ты, совсем обессилел? — воскликнула Поля. Ответа не было. — Боря, перестань шутить! Я промокла и устала! Снова молчание. Поля вскочила на ноги. Бориса не было. Только что он стоял рядом и… исчез. — Поля! — вдруг услышала она, и кто-то тронул ее за руку. Она вскрикнула: рядом — никого! Поля поворачивалась во все стороны и ничего не могла понять: перед нею была палатка, сзади — отвесная, непроницаемая окала. — Поля, иди же сюда! — услышала она нетерпеливый зов. Это был голос Бориса. Тут только она заметила узкую расщелину в скале, прикрытую ветвями черемухи и боярышника. Девушка нагнулась и проскользнула между ветвями. Она споткнулась и упала бы, если бы ее не поддержала сильная рука Бориса. Борис и Поля стояли у входа в довольно большую, хотя и невысокую пещеру. — Сюда! Сюда! — кричал Борис, и один за другим в расщелину проскользнули участники экспедиции. Неутомимый Сервис уже обнюхивал все углы пещеры. — Эге! Да здесь тепло и сухо! — сказал Кузьма Савельевич. — Давайте-ка перебираться сюда, обогреваться да сушиться. Здесь будет покойнее, чем в палатке. Через полчаса в пещеру перенесли все имущество геологической партии — одеяла, мешки с продовольствием, коллекции. Лошадь привязали у самого входа в пещеру. Изнемогавшего от усталости и лихорадки Сеню Мишарина уложили на двух одеялах в самом высоком и сухом месте пещеры. У входа в новое жилище нашли несколько сухих сучьев, убереженных от дождя выступом скалы, развели посредине пещеры костер и подвесили на треноге чайник с водой. Поля выставила наружу ведро, и скоро оно до краев было наполнено дождевой водой. — Палатку уберем? — спросила девушка, занося в пещеру ведро. Она хотела еще что-то сказать, но ее отвлек стонавший в углу Сеня. Поля направилась к больному. — Пусть стоит, — ответил между тем геолог. — Она вроде как наша приемная. Утром уберем… Давайте, ребятки, чаевать. Антон разливал по кружкам кипяток, выдавал сухари, открывал банки с консервами. После ужина ребята стали было располагаться на отдых — усталость наливала тело, но Брынов, который почти ничего не ел и нетерпеливо ждал, пока ребята покончат с едой, сразу же схватился за молоток: — Ребятки, еще один подвиг на сегодня! Айда осматривать пещеру! И, сбросив усталость, юные геологи разошлись по уголкам обширного своего жилища. Колебались языки свечей, в ребячий говор вмешивался перестук молотков, а через расщелину доносился несмолкаемый шум ливня. — Кузьма Савельич! Ко мне! Скорее! — закричал Борис. Геолог и ребята бросились в дальний угол пещеры, откуда доносился стук зыряновского молотка. Вслед за Брыновым с лаем помчался и Сервис. Борис Зырянов выглядел растерянным. У его ног лежала груда отколотых от стены острогранных, ребристых камней, а в руках Борис держал плоский минерал, похожий на бутерброд: между двумя толстыми красноватыми слоями — едва заметная белая прослойка. — Ого! — воскликнул геолог. — Это же киноварь! Основная руда, из которой добывается ртуть. И какая богатая! Тут известняк, так сказать, присутствует только «для приличия». Такую богатую руду я встречал только на Чикое. Кузьма Савельевич отбил молотком еще несколько кусков, наконец осветил головешкой всю южную стеку пещеры: ярко-красные полосы густой сетью прослаивали скалу. — Ну, Борис, — Брынов положил руку на плечо юноше, — честь открытия принадлежит тебе. Ребята во все глаза смотрели на своего «Зыряна», будто никогда не видели его жестких волос и выпяченной нижней губы. А Борис и не думал скрывать гордого торжества, он ухмылялся и даже прищелкивал пальцами. — Отныне, — торжественно произнес Тиня Ойкин, — нашей пещере присваивается название Ртутной. Внезапно Кузьма Савельевич выступил вперед и, потрясая киноварным «бутербродом», с чувством продекламировал:Профессор,
Снимите очки-велосипед!

— Обсудим спокойно положение. В пещеру может хлынуть вода — раз, с продуктами плохо — два. Значит, надо покидать пещеру… Сеня болен — раз, через речку не перебраться — два! Значит, надо оставаться в пещере… А? Вот это положение! Брынов, протянув руки над костром, пошевеливал пальцами. Он посматривал на ребят: то налево — на Полю и Тиню, то направо — на Бориса и Митю. — Сейчас же уходить! — сказала Поля. — Оставаться! — предложил Борис. — А по-моему, ни то, ни другое, — спокойно сказал геолог, не меняя лозы. И вдруг, вскочив на ноги, сказал по-военному: — Слушай команду! Собрать и упаковать все вещи. Приготовиться на случай срочной эвакуации из пещеры. Назначаю Зырянова, Владимирского, Бурдинского дежурными на ночь. Обязанность дежурных — следить за подъемом воды. Исполняйте… Борис, ты куда полетел? Я скажу, когда дежурить. Закипела работа. Антон с помощью Сережи упаковывал продовольствие. Борис и Митя взялись за коллекции. Тиня и Поля приводили в порядок дневники. Сон как рукой сняло. За полчаса закончили все сборы и снова расселись у костра. — Вот тебе и Голубая падь! — вздохнул Сережа Бурдинский. Тиня Ойкин взглянул на товарища и перевел свои умные глаза на начальника экспедиции. — А почему, Кузьма Савельевич, она называется Голубой? — полюбопытствовал Малыш. Геолог понял юношу: надо было отвлечь ребят от грустных мыслей. — Охотники рассказывают, что в мае южный склон долины становится сплошь голубым. Это потому, что зацветает ургуй — забайкальский подснежник. Только местами в голубой ковер вплетаются белые цветы кашки. В это время сюда, в падь, заходят изюбри, забредают козы, залетают полакомиться цветами и бутонами ургуя тетерева и куропатки… У охотников, между прочим, есть поверье, что если промыть ствол настоем ургуя, то ружье «не дает рону»: дробь обязательно попадет в птицу… Брынов долго рассказывал, как охотники караулят «на ургуе» коз, потом стал объяснять, как из лепестков ургуя изготовляется лиловая краска. Незаметно он перешел к эпизодам из своей богатой событиями жизни геолога. Особенно позабавила ребят история о том, как Кузьма Савельевич первый раз ездил на оленях. — Это была поездка поневоле. Захворал я. Ну и посадили меня верхом на оленя. А сидеть на нем надобно с высоко поднятыми коленями. Нелегкое это дело. Тогда я додумался: связал свои колени через седло полотенцем. А олень — возьми да и оступись. Я — в снег головой и повис на рогах у оленя. Тот мотает вниз и вверх головой, чтобы избавиться от меня, и окунает меня в снег, как хлеб в молоко, все глубже и глубже! Смеху было сколько! Только не мне, а моим спутникам… Вот так на забайкальском севере и получил я боевое крещение охотника за ископаемыми… Ну, а теперь — спать! — спохватился геолог. — Надо набраться сил. Легли спать. У Сени начался сильный жар. Он метался, стонал, временами бредил, все время просил пить. Поля не отходила от больного; она легла, свернувшись калачиком, у его изголовья. «Спасибо Бурдинскому, что не забыл хину в аптечку положить, — с благодарностью думала девушка. — Все нужные лекарства есть». Поля проследила, как Брынов и дежуривший первым Зырянов, накинув плащи, выбрались из пещеры. Впереди была ночь, полная неизвестности. Вскоре Брынов вернулся. Он подошел к Сене, положил ему руку на лоб, прислушался к дыханию больного. Затем постелил себе возле костра, окинул взглядом спящих ребят, снял сапоги — и через минуту уже спал. «Как это так может Кузьма Савельевич! — с невольной укоризной подумала Поля. — Такая опасность, а он спокойно спит…» Она даже не поверила себе и тихонько, стараясь не шуметь, подошла к костру. Геолог крепко спал, положив руку под щеку, и лицо его не выражало ни волнения, ни тревоги.
Сережа Бурдинский спросонья что-то бессвязно лепетал о пещере, обвале, наводнении… Хромов и ребята ничего не могли понять до тех пор, пока из кустарника с радостным лаем не выскочил Сервис, а на пороге пещеры не показалась Поля. — Андрей Аркадьевич! — радостно воскликнула она. — И Кеша… и Троша… и Ваня… Члены «спасательной экспедиции» прошли вслед за Сережей и Полей в пещеру. Добудиться геолога оказалось труднее, чем разбудить Сережу. — Ну вот, этого я и боялся! — сказал Брынов, поздоровавшись с учителем и ребятами. — Не могли притти попозже. — Сережа заснул на дежурстве. — Поля сердито посмотрела на Бурдинского. — Затопило бы — тогда что? — возмутился Борис. — Эх ты, разиня! — Чего боялись? Какие дежурства? Почему затопило бы? — недоумевал Хромов. — Что у вас, военная игра? Брынов вместо ответа обратился к Антону: — Ну-с, товарищ завхоз, где ваши припасы? Давайте готовить завтрак. Да повкусней! Он покачал головой, обращаясь к Сереже: — Не выдержал, значит? Заснул, бросил пост… — Да я под самое утро, — оправдывался юноша. — Я, Кузьма Савельевич, пять раз мерил — вода не подымается. — А если бы в самом деле завалило русло? — строго спрашивал Брынов. — А если бы в самом деле угрожало наводнение? Тогда что? — Значит, не было никакой опасности? — спросил, улыбаясь, Малыш. — Вы нас испытывали, да? — Теперь я все поняла, — прошептала Поля. Борис Зырянов внезапно расхохотался и начал приплясывать, шлепая себя ладонями по плечам, коленям, бокам: — Ай, Кузьма Савельевич, надули! Ой, надули! А Сережа пять раз мерил! — Конечно, надул, — невозмутимо ответил геолог. — А ведь могло быть и хуже — могло быть и наводнение. Мы поступили, как следовало поступать при настоящей опасности, не считая, конечно, случая с Сережей… Понятно? Теперь уже и Хромов, и Кеша, и Троша, и Ваня начали понимать, что произошло с «хозяевами» пещеры. Тиня Ойкин вдруг подбежал к коллекциям: — А киноварь! Про киноварь забыли! — Ну, ребята, ладно, Антон уже накрыл стол, — оказал Брынов. — Давайте завтракать, за едой и разговор лучше пойдет… Сене лучше, опасность миновала. Пора собираться в путь-дорогу…
18. Дневники (окончание)
Из тетради Захара
Наконец-то мы опять вместе в Иенде. Сколько пережито за эти две недели! Кузьма Савельевич хвалит ребят: молодцами держались! А Трофим Зубарев уже окрестил всех спасенных «пещерными жителями». Борис сияет: ему принадлежит честь находки киновари. Сеню врачи выдерживают в постели. Через несколько дней он будет здоров. Кеша и Линда «гоняют» Митю по грамматике. Привели в порядок снаряжение, коллекции. Сердобольные жители Иенды тащат нам всякую снедь на обратную дорогу. Чувствуем себя героями. Вечером Кузьма Савельевич и Андрей Аркадьевич ушли по делам в поселок. Мы остались одни. В комнате было светло: полная луна заглядывала в окна. Спать не хотелось. Это наш последний вечер в Иенде. С утра мы выступаем в обратный путь — домой, на Новые Ключи… Все были возбуждены, радостно и весело думалось о будущем. И последний вечер в Иенде стал вечером мечтаний. Все расселись вокруг Сениной койки. Сеня лежит бледный, но улыбается: он доволен, что мы все рядом с ним. — Мне хотелось бы лет через десять, — медленно говорит Кеша, — выехать экспрессом из Владивостока сюда, в родные места. — В звании адмирала? — с деланным простодушием спрашивает Троша. — Ну, не сразу же! — усмехается Кеша. — Но, разумеется, в морской форме. В поезде я должен встретиться… — …с художником Астафьевым, — подсказываю я. — Да, с известным пейзажистом Захаром Астафьевым, а также… — …а также с инженером-металлургом Зоей Алексеевной Вихревой, — говорит наша девочка с косичками. — Да, и с ней. Мы сходим на станции Кедровой и… не узнаем ее: многоэтажное, каменное, с гранитным цоколем здание вокзала, длинная бетонированная платформа, газоны, цветы. Нас встречает высокий и попрежнему худой начальник станции… — …Иван Иванович Гладких, — представляется Ванюша. — Иван Иванович, — продолжает Адмирал, — оставляет станцию на своего помощника, и мы вчетвером на «ЗИС-125» мчимся по великолепной автостраде на Иенду. Уже издали мы видим город, растянувшийся до берегов Витима, и корпуса полиметаллического комбината. Мы направляемся туда… — И кто, вы думаете, вас встречает? — перехватывает разговор знакомый голос. — Встречает главный инженер комбината Антон Тимофеевич Трещенко. Он с гордостью показывает вам красу цветной металлургии Забайкалья, а затем пересаживает вас на свою машину, скажем, марки «ЗИС-152» и везет осматривать город. Мы подъезжаем к четырехэтажному, украшенному скульптурой зданию школы… — А здесь, — перебивает Антона тихий девичий голос, — здесь выхожу к вам я, учительница Иендинской школы Линда Терновая. Я веду вас по светлым классам. Мы присутствуем на уроке лучшего преподавателя истории в Забайкалье… — …Трофима Ивановича Зубарева, — ведет дальше рассказ Троша. — Вы с наслаждением выслушиваете все, что я рассказываю о греческих мифах или походах Ермака. После урока мы садимся в «ЗИС» товарища Трещенко и едем в первоклассную городскую больницу. По дороге встречаем знакомого блондина с чолкой, выглядывающей из-под кепки, с массивным портфелем в руках… — …Это лектор-пропагандист Иендинского горкома комсомола Тиня Ойкин, — скромно замечает Малыш. — Я надеюсь, что вы захватите меня с собой? В крайнем случае, можете поместить меня на коленях, если места нехватит. — Для тебя, Тиня, всегда хватит, — с нежностью говорит Троша. — Итак, мы подъезжаем к ослепительно белому, сверкающему на солнце зданию больницы. Это не больница, а город-сад, уголок Крыма! И почему? Потому что главный врач больницы — наша старая знакомая… — …Полина Борисовна Бирюлина, — подсказывает «старая знакомая». — Но почему обязательно «главный врач»? Я могу быть и рядовым врачом. — Не перебивай полета фантазии! — задумчиво говорит Мишарин и, приподымаясь на локте, убежденно продолжает: —…и заканчиваете все вечер у меня — в Иендинском плодово-ягодном и цветоводческом питомнике. Мне хочется, чтобы почва нашего края стала такой же щедрой, как наше небо с его яркими закатами, как наши недра с их богатством… Я видел сад учителя Бессуднова на станции Ксеньевской. Он десять лет его подымает. Я знаю: и яблоки, и дыни, и вишни можно у нас выращивать!.. Вот каков Сеня, наша «красная девица»! Впервые наш скромный и застенчивый товарищ рассказал о своих мечтах. — А меня-то! Меня забыли! — негодует Зырянов. — Я-то что же, хуже всех? Кто киноварь нашел? Кто в пещере страдал? — Ты же артиллерист, — возражает Троша, — тебе работы в Иенде нет! — А что? Разве я не могу встретиться с Кешей и Зоей в поезде! — Зырянов сердится не на шутку, и Троша обращается к Адмиралу: — Кеша, ты согласен встретиться с этим пушкарем в поезде?.. Успокойся, Боря. Из уважения к вашим прошлым заслугам, вам заказано место в международном вагоне. Зоя вдруг замечает, что Митя и Сережа перешептываются. — Нехорошо, ребята, нечего секретничать. Все сказали, и вы не скрывайте! — Зоя прямо-таки сгорает от любопытства: — Ну же, скорее! — Митя хочет быть архитектором, — говорит Сережа, — а я его прошу, чтобы он построил в Иенде театр… — Ой, Сережа! — вскакивает с места Зоя. — Ты будешь артистом, да? Угадала? Трофим Зубарев обращается к молчавшему все время Толе Чернобородову: — А ты, Толя, что же? Ничего не придумал? Или ты уже сочиняешь пьесу для Сережи? — За то, что вы меня забыли, я перехитрю вас! Я раньше всех приеду в Иенду. — Интересно, как это тебе удастся? — встряхивает косичками Зоя. — Очень просто: вы удлинили свой путь, а я примчусь по Северной сибирской магистрали, которая, кстати, пройдет через Иенду. Мы смеемся. Толя, как всегда, находчив и изобретателен. — Ребята, — вдруг спрашивает Сеня Мишарин, — а если война? Тогда что? На минуту воцаряется молчание. — Если война? — повторяет Кеша и говорит со страстью: — Все равно всё, о чем мы мечтаем, сбудется. Если не через десять лет, так через пятнадцать! Ведь наш девиз — Смелость, Героизм, Победа! — Мы забыли директора нашего! И учителей! — испуганно говорит Поля. — Где они будут? — Да, и Кузьму Савельевича! — добавляет кто-то. Снова молчание. Все думают. — Они всегда будут с нами, — глухим от волнения голосом произносит Кеша.Вчера покинули Иенду. Мы немного не дошли до Витима — границы области. Идем на юг. Впереди — речные переправы, глухие тропы, ночевки у костров. Торопимся — надо успеть к занятиям. От Иенды свернули на юг, идем на Анютки. Пока здесь еще не асфальт — полудорога, полутропа. — А почему прииск называется Анютки, знаете? — спрашивает начальник экспедиции. Никто не знает. — В середине прошлого века приехал в селение кто-то из начальства. Обошел все дома. В одной избе хозяин обращается к хозяйке: «Нюра, подай стул его благородию». В другой избе — «Аня». В третьей — «Аннушка». В четвертой — «Анка». В общем все хозяйки были Аннами. Вышло из последней избы начальство и изрекло: «Одни Анютки, крутом Анютки, сплошные Анютки». Старое название забылось, закрепилось новое: «Анютки». Здесь состоялось заседание комсомольского бюро. Присутствовали все участники похода. Решили по прибытии в Новые Ключи разделиться на четыре группы. Одна, во главе с Кешей, займется строительством стадиона; другая произведет ремонт школы и инвентаря (бригадир Бирюлина); третья будет выпускать школьный журнал (ответственным назначили меня); четвертой группе поручено подготовить вечер — «чтобы первый вечер в школе на весь год зарядку дал» (за это дело берется Толя Чернобородов). Обработкой коллекций будут заниматься все. Это своим чередом. — Надо мобилизовать всех школьников, надо привлечь к нашей работе рудничную молодежь, — заметил Андрей Аркадьевич. Кеша и задумчив и радостен. Он говорит мне: — Эх, Зося, какой же у нас чудесный будет девятый класс! И верно: мы чувствуем, как сдружил и закалил нас поход…
Благополучно дошли до Кедровой и вдоль полотна железной дороги — до Загочи. Здесь нас встретили неожиданным триумфом. Очень теплую речь произнес секретарь райкома партии. Секретарь райкома комсомола Спиридон Горкин снял от счастья и гордости за школу и обещался вскоре приехать. Держим курс домой, на Новые Ключи, и в двадцать голосов поем:
Сквозь бурелом
Идем напролом,
Разведчики ценных металлов,
От горных подножий
Тропой кабарожьей
К таежным седым перевалам.
* * *
На этом обрываются записи в дневнике Захара Астафьева.19. После похода
Новостей на руднике было много. Прибыла новая группа «северян»-восьмиклассников. Участники похода разминулись с ними, когда, не доходя Иенды, уклонились с дороги в тайгу. Надо было познакомиться с этим новым пополнением старших классов. Хромов частенько навещал интернат, тем более что большинство учителей, но главе с Геннадием Васильевичем, находились в Загоче на районном учительском совещании. Не уехали только Кухтенков, занятый ремонтом школы, и Шура Овечкина, участвовавшая вместе с Хромовым в походе. В день возвращения в Новые Ключи Хромов и ребята проводили начальника экспедиции в Иркутск. Кузьма Савельевич опешил с докладом в Восточно-Сибирское геологическое управление. — Допеку профессора и некоторых там бюрократов! — грозился он, восседая на сером в яблоках жеребце и сдерживая его. — Ну, пожелайте удачи!.. Сервис, вперед! Хромов, Кеша и Борис долго провожали взглядом геолога, пока он перебирался вброд через Джалинду, поднимался на заречинское крутогорье и, наконец, скрылся в кедровнике. В доме Евсюковых все было по-старому, если не считать изменений «по домашности», которые больше всего волновали Клавдию Николаевну: благополучно отелилась Пеструшка, буйно цвел картофель, хорошо дозрели на солнце парниковые помидоры. Проворную хозяйку можно было видеть или в огороде, или в стайке, или в кладовой, где в огромных кадушках засаливались на зиму огурцы, грибы, помидоры. Когда Назар Ильич и Кеша уехали на несколько дней за Джерол, на покос, Клавдия Николаевна, не любившая ждать и надеяться на кого-нибудь, принялась за тяжелую, мужскую работу. Евсюкова казалась Хромову удивительной женщиной. Топкая и хрупкая, она была неутомимой в хозяйственной работе, бесшумно-деятельной и незаметно-подвижной. Она никогда не бранилась. Эта малограмотная женщина таскала с собой книжку из кухни в дровяник, а из дровяника в стайку, из стайки в магазин продснаба. Скромно и тихо, но с живым чувством вникала она в трудовые будни мужа, в школьные и комсомольские дела Кеши, в его, Хромова, сложные и многообразные интересы. Хромов брался ей помогать по хозяйству. — Да вы пилить-то толком не умеете! — Научусь! — коротко и немного обидчиво отвечал Хромов, с трудом взваливая двухметровое бревно на козлы. — Главное, ко мне свободно пускайте, — учила хозяйка, — тогда пила пойдет будто сама собой. Она встряхивала прядью, весело щурила черные глаза. В ее тонких пальцах легко и послушно двигалась пила, и бревно быстро распадалось на короткие чурки. Но когда Хромов брался за колун, Евсюкова не выдерживала и отстраняла его. Учитель никак не мог привыкнуть к ее манере колоть дрова. Прислонит чурку косо к бревну, придержит нижний конец полена ступней и быстрым взмахом разрубает его, доводя острие колуна чуть не до самой ноги. — Вы же покалечите себя! — ужасался Хромов. — Без ноги останетесь! Она отшучивалась. Круглая толстая чурка за несколько секунд превращалась в груду нарубленной щепы.…На другой же день по возвращении на рудник Хромов, Овечкина и Кеша отправились к директору школы. Кухтенков встретил их с обычной радушной невозмутимостью и спокойной неторопливостью в движениях и речи. Он выслушал, как всегда не перебивая, не сразу выражая свое отношение к делу. Потом молча поднялся из-за стола, взял с вешалки порыжелую кепку, которую носил и зимой и летом, и коротко сказал: — Пойдемте. — Вы куда? — не понимая директора, забеспокоился Хромов. — Надо же решить, Платон Сергеевич. Все-таки ребячья инициатива… — Идемте к Владимирскому, — ответил Кухтенков, предупредив этим самым потовую разразиться жаркой речью Овечкину. Через пять минут они сидели в знакомом кабинете, где взор упирался в минералы, отныне ставшие Хромову близкими и родными. — Да вы знаете, сколько лошадей потребуется? — возражал директор рудника. — Там же камни такие, что и на тройке не вывезешь. — Поймите, Владимир Афанасьевич, какое воспитательное значение будет иметь строительство стадиона, — убеждал его Хромов. — Вы же не какой-нибудь бюрократ! — взмахивала ладонью Овечкина. — Вы — советский хозяйственник. У Платона Сергеевича доводы носили более практический и вместе с тем широкий характер: — Это не только для школьников — вся рудничная молодежь повалит на стадион. Кто-то будет меньше пить, кто-то будет меньше шататься по поселку. После здорового отдыха и работа у молодежи лучше пойдет… — Это правда, — сказал Владимирский и провел ладонью по гладкой, выбритой голове; складки около рта смягчились в улыбке. — К тому же, теперь с вами надо считаться, и за киноварь приходится рассчитываться… Владимирский согласился выделить четырех лошадей, десяток лопат и кайл. — Если нехватит, ребята сами из дому притащат, — успокоил Хромова Кухтенков. — Рабочего ни одного не дам, — предупредил директор рудника. — Вам же известно, Платон Сергеевич: время горячее, самый сезон на золоте. — А мы и не просим, Владимир Афанасьевич, мы сами справимся, — сказал Кеша. — Руки у нас крепкие, сил хватит… Владимирский смеялся шумно, раскатами: — Теперь, чорт возьми, и ты и Митя употребите свои силы на пользу. Это, небось, лучше, чем носы друг другу квасить! Кеша смутился. Хромов и Кухтенков переглянулись: умел все-таки Владимирский бороться с самим собой и побеждать себя! — Кстати, Андрей Аркадьевич, — нахмурился Владимирский: — Митя-то мой выдержит, сдаст? — Правила он теперь назубок знает, — ответил Хромов. — Это еще, конечно, не практическая грамотность, но думаю, что он выдержит. Единственно, что тревожило Хромова, — это то, что до начала учебного года оставались считанные дни, надо было спешить. Но ребят поторапливать не пришлось. Первый ударил ломом Кухтенков. Раньше никогда обитатели заречинской больницы не интересовались видом на южную сторону — на тайгу. Выздоравливающие толпились у широких окон, обращенных к Джалниде, ключу, дамбе и фабрике, к рассыпанным по крутосклонам домикам рудника. Это было куда интересней, чем смотреть в таежную глухомань. Но теперь пациенты Бурдинского — старатели, лесорубы, охотники — превратились в беспокойных, заинтересованных зрителей. Перед ними развертывалось необычное зрелище: школьники строили стадион! Иногда кто-нибудь из выздоравливающих не выдерживал: тихо вылезал через окно и, пригнувшись, оглядываясь назад, бежал на помощь Борису Зырянову, выворачивавшему огромный пень; или Антону Трещенко, ожесточенно подрубавшему неуступчивый кустарник: или Кеше Евсюкову и Хромову. С берега казалось, что зеленое поле усеяли черные жучки́. Во время короткой передышки Кеша сказал учителю: — Сережи что-то не видать. Не хворает ли? — Они же близко живут, в больничной ограде, — откликнулся Чернобородов, — можно сходить. — Зайду узнаю, — полувопросительно сказал Кеша. — Иди, — ответил Хромов и вдруг раздумал: — Нет, оставайся, ты же бригадир. Я схожу. Через пять минут он постучал в двери дома Бурдинских. Не получив приглашения войти, он отворил двери, вошел в сени и остановился на пороге комнаты. Сережа лежал на диване, зарыв голову в подушки. Альбертина Михайловна сидела, словно карауля, рядом. Семен Степанович с самыми свирепым видом ковылял по комнате, цепляясь палкой за ножки стульев и тумбочки. — Немедленно переоденься и ступай к товарищам, — говорил хирург, обращаясь к сыну. — Сереженька, ты никуда не пойдешь! — гудела Альбертина Михайловна. — Садись и разучивай скерцо. — Берта! — Сема! — Не может же он разучивать это подлое скерцо, когда его товарищи ворочают пни! — У него пальцы музыканта, а не чернорабочего: достаточно того, что его замучили этим походом. — Мама! — Сережа порывисто вскочил и оказался лицом и лицу с Хромовым. — Хотите кофе? Или молока? — любезно предлагала Бурдинская, но в басах ее голоса учитель почувствовал какую-то трещину. — Оставь, наконец, свой великосветский тон! — почти выкрикнул Семен Степанович. — Какой тут кофе! Впрочем, может быть, вы и в самом деле хотите кофе?.. Нет? Ну и правильно! А то после кофе вам преподнесут еще скерцо! Хромов понял, что наступила важная минута. Бурдинская должна сдать последние позиции своей домашней системы воспитания. «Вышибать старое!» сказал он себе словами Кухтенкова. — Я думаю, — сказал он спокойно и деловито, — что лучше будет, если Сережа переоденется. Если у вас найдутся ватник, брезентовые рукавицы, старые сапоги, то это лучший рабочий костюм, какой можно придумать… Лопату спросишь у Кеши, — обратился он уж прямо к Сереже. Мальчик в нетерпеливом ожидании стоял посреди комнаты. — Иди, — сказала, заметно поколебавшись, Альбертина Михайловна. — Слово учителя — закон. — Беги! — крикнул Семен Степанович. — Беги в темпе скерцо! В дверях Сережа столкнулся с запыхавшейся больничной сестрой: — Семен Степанович, ходячие больные убегают! — Что?! Куда? — На стадион! — едва вымолвила сестра. — Ах, чорт бы вас всех побрал!.. Вот это уж, батенька, беззаконие. — Семен Степанович сделал вращательное движение своей палкой и быстро заковылял к двери. Хромов и Бурдинская остались одни. Альбертина Михайловна тщательно раскладывала подушки и подушечки на диване, располагая их в строгой симметрии. Делая все это, она рассказывала, сколько занавесок и дорожек сделано ею и девочками за лето и как она собирается украсить школу. Хромов слушал не прерывая. — Неужели я чего-то не понимаю, Андрей Аркадьевич? — спросила она наконец, держа в руках последнюю, крошечную, как котенок, подушку. — Да. И я жалею, что не сказал вам об этом раньше. Когда Сережа не разнял Митю и Кешу, меня это удивило. Когда он лгал, я начал смутно понимать что-то. Когда вы пытались отговорить его от похода, мне уже стало почти все ясно. — Вы обвиняете меня? — Я не обвиняю, я хочу помочь. Вы воспитываете у своих детей любовь к искусству, музыке, красивым вещам, культуру поведения… — Разве это плохо? — Нет. Но это не все. Вы выращиваете своих детей, как в теплице, а им нужен свежий воздух, им нужны товарищи в жизни, им нужно чувство ответственности перед коллективом… А вы лишаете их всего этого… Разве вам приятно было, что Сережа заснул на дежурстве возле пещеры? — О, нет! — призналась Бурдинская и вздохнула. — Понимаете, Андрей Аркадьевич, я старая женщина, мне трудно переучиваться. — Да вы только обещайте, — ответил Хромов, — что Сережа будет всегда там, где его товарищи. — Теперь мне ничего другого не остается… Хромов распрощался и заспешил на стадион. …На второй день строительства, под вечер, в кедровнике прозвенела гитара. Группа молодых рабочих горного цеха подошла к школьникам. Воздух был плотным от зноя. Сонной ленью веяло от неподвижных облаков. Школьники сбросили рубашки и майки. По загорелым спинам струился едкий пот. Каждый вершок твердой, каменистой земли сдавался медленно, озлобленно сопротивляясь кайлу и лопате. — Стадион, значит, строим? — обратился к Кеше молодой рабочий в фетровой шляпе, сдвинутой на затылок. — Стадион. — Кеша разогнулся, расправил широкие, раздавшиеся за лето плечи. Захар взглянул на Кешу и с размаху воткнул свой лом в землю — прямо перед молодым горняком: — Пойду попью, — и направился к больнице. — Так у нас даже футбольных команд нет! — Молодой рабочий посмотрел на астафьевский лом, сплюнул и переложил гитару из одной руки в другую. Кеша скупо улыбнулся: — Что ж, что нет команд! Давай организуем — школьную и рудничную. Начнем тренировку. — Гражданин музыкант, — внезапно обратился к молодому рабочему Зубарев, — не поможете ли вы своей гитарой подцепить этот камешек? Это прозвучало как вызов. Молодой рабочий посмотрел на своих приятелей, те на него. Затем он осторожно положил гитару на землю, рывком, через голову, сбросил клетчатую ковбойку, схватил астафьевский лом и поспешил на помощь Зубареву. Каждый вечер, после смены, приходили в Заречье молодые забойщики горного цеха, рабочие бегунной фабрики, и до тусклого закатного марева уже не двадцать-тридцать школьников трудились на целиннике, а сотни рук лопатили, кайлили, дыбили, перебрасывали заречную неуступчивую землю. Работали и вернувшиеся из Загочи, с совещания, учителя. Не устояли от искушения и рудничные старики. Однажды явился в Заречье Назар Евсюков и взвалил на повозку деда Боровикова метровую каменную кладь. Деда слегка встряхнуло вместе с повозкой. Попыхивая своей зеленушной трубой, он простодушно спросил: — Назарушка, неужто и мы с тобой на старости лет футболить зачнем? А? Стариковскую команду сколотим? И, жмуря глаза от удовольствия, дед стеганул школьную лошаденку. Больше всего хлопот было, как всегда, у него. Ежедневно после развоза воды он оставлял бочку на школьном дворе, впрягал лошадь в телегу и отправлялся в Заречье на стадион. А ведь еще до развоза воды надо было выдать ребятам краску, олифу, замазку, стекло, проверить, как идет ремонт. Дед ранним утром совершал обход всей школы, и это был час тяжелых испытаний для юных столяров, стекольщиков и маляров. Парты ремонтировались во дворе, потому что одновременно шла покраска полов, панелей, оконных наличников, дверей. Дед Боровиков начинал обход со двора. Он переходил от парты к парте и подолгу разглядывал каждую, нагибаясь, присаживаясь на корточки. За ним настороженно следили и Поля Бирюлина, и Линда Терновая, и Сеня Мишарин — их лица и руки были щедро разукрашены черной краской и лаком. На старых газетах, разостланных на земле, были расставлены банки и плошки, валялись кисти всех размеров. — Вот здесь кто-то ножичком свое имя вырезал, а здесь якорь какой-то, а тут чортики да еще стрелки какие-то. А к чему? — вздыхал дед. — А зачем? Вар-вар-ство! Ведь это народное — значит, ваше! Ребята виновато молчали. — Если урок скучный, скажи учителю или пересиль себя, — поучал Боровиков. — Не всякое знание веселое, а нужное — всякое. А дерево чем виновато, если урок скучный! Эх!.. Он осторожно водил желтым ногтем по парте. Еще раз всмотревшись в какую-то замысловатую резьбу, Боровиков покачал головой. — Тут вот щелка, — продолжал он, — прошпаклевать надо хорошенько, а краску поровнее, поглаже накладывать… В общем, ребята, как говорится: работай до поту, поешь в охоту! В это время к работающим подошел учитель математики. — С приездом, Геннадий Васильевич! — поздоровался с ним дед. Он взял учителя под руку: — Пойдемте взглянем на ребячьи труды. Спустя минуту голос деда уже доносился из школы, где он учил другую бригаду во главе с Ваней Гладких, как размешивать краску для пола, как забивать гвозди и наслаивать замазку. Ремонт школы подходил к концу. Угловое помещение второго этажа, в котором занимались девятиклассники, было приведено в порядок в первую очередь. Здесь полы уже просохли и сияли, словно краску развели солнцем; точно сделанная из угля, блестела классная доска. Отсюда, из этого класса, доносился шум спорящих, перебивающих друг друга голосов. Там, склонившись над партой возле окна, выходящего на Джалинду, Захар Астафьев окунал тонкое перышко в склянку с черной тушью и писал своей круглой четкой вязью на белой четвертинке ватмана. Не меньше трех десятков таких листов, уже исписанных, были разложены для просушки на другие парты. Каждый лист — в обрамлении орнамента: строгий рисунок, выведенный черной тушью, увенчивался наверху страницы красной звездочкой. Каждый заголовок Захар сопровождал рисунком-заставкой. «Дневник юного геолога» — тайга, костер на берегу таежной реки. «Легенда о ключе Иван-Талый» — круглая струйка родниковой воды, сбегающей по камням. «Пленники Ртутной пещеры» — скала, перед ней речка и поверженная палатка. «Наши мечты» — автомобиль, летящий по шоссе мимо сопок навстречу высоким стройным зданиям большого города. «Разговор о смысле жизни» (это написал Кеша) — слева глобус и на нем — красным цветом — СССР; справа — книга, на обложке которой написано: «Как закалялась сталь». Все эти заголовки и заставки красными, синими, зелеными рядами, зигзагами и полукружиями открывали страницы с очерками, рассказами, стихами о недавнем походе и о том, что волновало ребят. Спор шел о названии журнала. — «Юность»! Только «Юность»! — провозглашал Тиня Ойкин. — В нашей стране особенная юность: будто все можешь, все сумеешь и будто всегда все впереди. — Не очень складно, но довольно точно! — глубокомысленно заметил Толя. — А почему не «Смена»? Я предлагаю «Смену»! — азартно возражала Зоя. — Ведь мы — смена. Смена тем, кто строит пятилетку. — А мне нравится «Борьба». Вот это сильное название! — настойчиво убеждал товарищей Борис. — Можно назвать журнал и тушкой, даже артиллерийской батареей, — охладил его Трофим. Зырянов свирепо погрозил ему кулаком: мол, не хочешь ли отведать «карманной артиллерии»… Вдруг все вздрогнули. Толя Чернобородов, опрокинув с грохотом стул, стоял посредине комнаты. Его большие круглые глаза горели вдохновением, волосы взлохматились. — «Дружба»! «Дружба»! И… всё! Толя произнес это с такой убежденностью, что все были покорены. — Да, — оказал Андрей Аркадьевич, — прочная, верная дружба советских людей. Дружба Маркса и Энгельса; дружба Ленина и Сталина. Дружба всех поколений революции. В это слово мы вкладываем все: и юность, и смену, и борьбу. Так ведь, Варвара Ивановна? Учительница литературы, правившая какую-то статью для журнала, улыбнулась, что бывало с ней редко, кивнула и продолжала читать рукопись. Захар Астафьев принялся выводить первую букву названия на титульном листе журнала. В это время в комнату медленно вошел в сопровождении деда Боровикова Геннадий Васильевич. Зоя побежала навстречу учителю: — Ой, Геннадий Васильевич, посмотрите, ведь правда хорошо: «Дружба»! Это Толя придумал! Хорошо ведь, дедушка, а? — Конечно, стрекоза, хорошо, — отвечал учитель математики. — Хорошо, конечно, — подтвердил дед, — если она не на одной бумаге, а в деле… Геннадий Васильевич пострелял по всем углам серыми глазками и медленно прошелся вдоль парт, внимательно разглядывая журнальные страницы и читая вслух названия статей. Дед шел следом, с явным интересом следя за лицом учителя. Передвинув папиросный огрызок из одного края рта в другой, Геннадий Васильевич, ни к кому определенно не обращаясь, заметил: — По-моему, математический раздельчик тут не помешал бы, а? — Нисколько не помешал бы, Геннадий Васильевич, — отозвался Хромов, — напротив… Борис хлопнул себя ладонью по лбу: — Как это мы забыли! — Загремела артиллерия! — заметил Зубарев. — Ну, возьми и… сочини. — Только вы уж сами просмотрите, Геннадий Васильевич, — попросил Хромов. — Это можно, — согласился учитель. — А про водовозное дело нельзя? — простодушно спросил до сих пор молчавший дед. Все рассмеялись, а дед заговорщически шепнул Хромову: — Проняло, а? Геннадия Васильевича-то проняло! Учитель математики между тем повернул к двери. — Геннадий Васильевич, — сказала ему вслед Гребцова, — послезавтра переэкзаменовки, вы не забыли? — Не забыл, Варвара Ивановна, не забыл! — почти пропел учитель математики: — Как бы они вот не забыли — Ваня и Митя! Посмотрим, чему они в походе выучились! — Ясное дело, посмотрим, — в тон ему сказал дед и вдруг заторопился: — Эх, заговорили меня, а Татьяна Яковлевна воду ждет! — Какой же статьей мы откроем журнал? — Андрей Аркадьевич смеющимися глазами обвел ребят. — Чтобы там все было: и о школе, и о походе, и о дружбе, — мечтательно сказала Линда. Тиня Ойкин незаметно подкрался к Толе Чернобородову и, заглянув через плечо, выхватил из-под самого пера листок бумаги, увернулся от Толиной слоновьей лапы и спустя секунду, стоя на скамейке, читал:
Ты вспомнишь ли низкий кедровник,
Малинник средь серыхкамней,
Извивы дорожек неровных,
Напевы таежных ключей?
Ты вспомнишь! Ты взглянешь в окошко,
И сладко заноет в груди.
Но знай, коль взгрустнется немножко,
Что юность твоя — впереди!
20. Новые тревоги
Геолог Брынов, недвижимый, истекающий кровью, лежал в придорожной канаве. Что-то немыслимой тяжестью навалилось на грудь, что-то острое впилось в живот. Сквозь пелену, застлавшую угасающий взор, видел Кузьма Савельевич строгое лицо жены, и грустные глаза сына, и голубой цветок ургуя возле ярко-красного минерала, и недоверчиво поджатые губы иркутского профессора — все это сливалось и кружилось, надвигалось и отстранялось, и над всем этим в недосягаемой темной вышине мерцали далекие звезды. Грузовик опрокинулся на крутом завороте, за березовой рощицей, когда спуск к Новым Ключам был пройден больше чем наполовину. Брынов и геологоразведчики, ехавшие с ним из Иркутска, сидели на покрытых брезентом больших дощатых ящиках; в них находилось тщательно упакованное оборудование для сложных разведочных работ. Водитель успел выскочить из кабины, спутники геолога отделались ушибами, а Кузьма Савельевич Брынов беспомощно лежал, сплюснутый неумолимой тяжестью металла, который, прежде чем дать жизнь Голубой пади, почему-то должен был умертвить его, нашедшего для страны ртутную руду… Острая боль лишила геолога сознания. И он уже не чувствовал, как стащили с его истерзанного тела ящики с нелепой и оскорбительной теперь надписью «Осторожно», как несли его восемь верст на руках мимо желтых срубов и стадиона Новых Ключей, как доставили в сияющую белизной приемную больницы к Бурдинскому, как снимали с его тела окровавленные лохмотья — то, что раньше было одеждой. Бурдинского разбудили поздней ночью. Осмотр Брынова отнюдь не успокоил хирурга. — Ясно одно, что без ножа не обойтись. Пальпация не обманет: живот одеревенел, как доска… Скорее всего, поврежден мочевой пузырь… А вдруг начинается перитонит? Впервые, чорт побери, в моей практике… Это, знаете ли, не апендикс… — А если отвезти в Загочу? — осторожно спросила хирургическая сестра. Бурдинский рассердился: — Что же ты, злодейка, хочешь, чтобы он умер в дороге?.. Готовьте больного! — Он не вышел из шока, Семен Степанович, — заметила сестра. — Я не хочу, чтобы Брынов прямо из шока вышел на тот свет. Готовьте! — повторил хирург. Сестра бесшумно ушла. …Геолог лежал на операционном столе. Матовое лицо, расширенные, как у филина, зрачки, подернутый холодной испариной лоб. Он очнулся, когда шли последние приготовления. Его беспокойные глаза встретились с глазами хирурга. — Не все, брат, тебе в недрах копаться! — промолвил Бурдинский. — Вот и я пороюсь. Может, набреду на какую-нибудь жилу. Брынов слабо улыбнулся, слегка шевельнул рукой и вновь закрыл глаза. — Ну, начнем, — склонив голову, сказал хирург. — В добрый час!Школьный вечер удался. Зубарев вел программу. Он прочно завладел вниманием зрителей, превзойдя самого себя. При полном бесстрастии конферансье его шутки приобретали остроту и выразительность. Особенно понравились ребятам «Комические сцены и в шутку и всерьез». В первой сцене (автор Поля Бирюлина) действующими лицами были «маляры-плотники, до работы охотники, и штукатуры — веселые балагуры». Одетые в синие спецовки, пестрые от краски, они размахивали кистями, окунали их в жестяные банки и демонстрировали новенькие парты и скамьи. Особенно хорошо изобразил Антон Трещенко деда Боровикова, с ласковой хмуростью выговаривающего своим молодым помощникам: «Эх вы, одну парту перепортили, а другую порту перепартили!» Ваня Гладких был бесподобен в роли рыжего стекольщика. Кончалась сцена стихами Толи Чернобородова:
Мы успели все покрасить,
Поддержали нашу честь.
Пусть приходит первоклассник —
Может он за парту сесть!
Лейся, песня, по дороге,
Не грусти ты, Ртутик наш!
Штурмовать седые горы
Поведет геолог нас!
Утром следующего дня — последнего дня каникул — все девятиклассники собрались в школе. Школьники осторожно раскрывали двери, с любопытством заглядывали в классы. Острый запах лака исходил от свежеокрашенных парт. Полевыми травами пахли начисто вымытые полы; лесным осенним морозцем тянуло от дров, вязанками сложенных на жестяных листах у печей. Во всех классах, в учительской, в зале висели на окнах белые и сиреневые занавески, полы были устланы пестрыми дорожками, на стенах висели портреты вождей, знаменитых ученых и писателей. — Как хорошо в нашей школе! — воскликнула Зоя, схватила Линду и завертела ее по залу. Митю Владимирского ребята взяли в кольцо. — Ты, как забудешь правило, — учил Митю Антон, — вспомни, где его зубрил: у Иван-Талого, или в Урюме, или на рыбной ловле? Оно сразу и вспомнится. — Митя, — шутил Трофим, — ты, главное, местоимения не путай: меньше употребляй «я», чаще говори «мы». — Это он уже знает! — заметил Малыш. — Крепко выучил. — Что же учителя не идут! — беспокоилась Поля. — Пора уже начинать… В зал влетел запыхавшийся Сережа Бурдинский. — Ребята! Ребята! — закричал он еще у двери. Все обернулись. — Кузьму Савельевича задавило… Митя Владимирский был мгновенно забыт, да и он сразу забыл, что через несколько минут ему предстоит испытание по литературе. Сережа торопливо рассказывал: — Привезли ночью… без памяти… весь в крови. Папа сделал операцию… до сих пор домой не приходил. У Зои дрогнули губы; она ушла в глубь зала, села за пианино, взяла несколько нот и вдруг легла всей грудью на клавиши, закрыв лицо руками. — Айда, ребята, в больницу! — вскричал Борис и метнулся к лестнице. За ним — Кеша, Захар, Трофим. — Куда вы? — преградил ребятам дорогу Хромов; лицо у него было утомленное, глаза чуть запали. — Куда вы? Не надо. Я вам все расскажу… Я только оттуда… Ребята, Кузьме Савельевичу очень плохо, очень… Быстро, отвечая на приветствия ребят, прошел Платон Сергеевич; за ним, со старой папкой в руках, — Геннадий Васильевич и, наконец, как всегда внешне спокойная, — Варвара Ивановна. — Вы все хотите присутствовать? — спросила она ребят своим ясным, с медным звоном голосом. — Ну что же, я не возражаю… Учителя прошли в класс. Ребята толпились у двери, ожидая приглашения. — Входите! — сказала Варвара Ивановна. Ребята сразу присмирели, входили, точно боясь наступить на что-нибудь бьющееся или звенящее. Стол у классной доски был накрыт красной скатертью. На председательском месте сидел Платон Сергеевич, оправа от него — Геннадий Васильевич, слева — Варвара Ивановна. А учитель географии примостился на табурете у открытого окна и смотрел в сторону Заречья, где среди темной зелени играли желтые краски осени. — Прежде чем отвечать по билету, — оказал Кухтенков, глядя на ребят, — Дмитрий Владимирский должен написать сочинение… Какова тема сочинения, Варвара Ивановна? — «Чему меня научил геологический поход», — ответила ровным голосом учительница литературы. — Владимирский, подойди. Вот тебе лист бумаги. Постарайся не делать ошибок. Сочинение носит зачетный характер. — Ребята, если будете шуметь, — строго сказал Платон Сергеевич, — придется вас попросить из класса. В чем дело? Что случилось? Тиня Ойкин, закончив топотом переговоры с Кешей и Зоей, поднял руку: — Позвольте, Платон Сергеевич, нам всем написать об этом. Это же наша общая тема! — Пишите! — ответил директор. — Вы не возражаете? — спросил он учителей. — Дается два часа. — Хорошее дело! — сказал учитель математики, прислонил указательный палец к уголку левого глаза и со вниманием разглядывал ребят. Хромов уже знал манеру каждого выполнять классную работу. Захар на отдельном листочке пишет план, долго думает, потом пишет безотрывно, не подымая глаз от бумаги. Кеша порою откинется на спинку скамьи, скрестит руки на груди и смотрит в одну точку. У Трофима скучающий вид, он смотрит то на учителей, то на товарищей, то в окно, а листок его между тем густо заполняется строчками. Зоя, написав несколько слов, старательно прикладывает к бумаге промокашку. Антон закрыл свой труд грудью и все оглядывается, словно боится, что кто-нибудь подсмотрит. А Борис пишет, чуть не положив голову на парту, и почти вслух восхищается тем, как у него получается: «Вот это да!», «Ну и ну!», «Эх, и ловко же!» Первым подал листки, исписанные крупным круглым почерком, Малыш, потом Захар, нанизавший свои строки, как бисер, на тетрадные линейки. За ними — Трофим, Кеша, Сеня. Наконец и Митя неохотно понес к столику свой листок. Он подал его Варваре Ивановне и все никак не мог отойти от столика. — Садись. Сейчас проверю, — сказала Варвара Ивановна и взяла в руки красный карандаш. Ни разу не сменив выражения бесстрастного внимания, она иногда метала красным карандашом в тексте, потом дала читать директору, Хромову, Геннадию Васильевичу. — Прочтите, Варвара Ивановна, вслух, — сказал Платон Сергеевич. Варвара Ивановна читала медленно, тщательно выделяя периоды, но нигде не повышая и не понижая голоса: — «Раньше, до похода, я жил в тайге и не знал тайги. В каникулы отец отвозил меня в город, к родственникам, а зимой дальше Джалинды и Поклонной горы я не ходил. Теперь, после экспедиции, исходив сотни километров по звериным тропам, по падям и сопкам, я узнал, как красив и богат мой край. Вместе с товарищами я искал для Родины ископаемые и они были найдены…» Перед «и» следовало поставить запятую, — заметила Варвара Ивановна. — Почему, Ваня? — Это самостоятельное предложение, — быстро ответил тот. Варвара Ивановна продолжала читать: — «В походе я научился ценить помощь товарища, чувство дружбы, научился уважать коллектив… «Голос одиночки тоньше писка», говорил Маяковский. Трудности и испытания похода заставили меня думать в первую очередь не о себе, а о судьбе общего дела, о своих товарищах и больше всего меня волнует сейчас здоровье нашего дорогого Кузьмы Савельевича…» Опять не поставил запятую перед «и», — заметила Варвара Ивановна; голос ее налился теплом. — Но ты молодец, ты очень правильно написал… честно написал… ты союз «и» понял душой, надо теперь понять грамматически. — Отныне, Митя, ты не Шомпол и не Чижик, — тихо произнес Трофим Зубарев, когда Варвара Ивановна прочитала все сочинение. — Прозвища отменяются. Среди всеобщего молчания раздался взволнованный голос Мити Владимирского: — Разрешите отвечать устно? Когда Митя направлялся к классной доске, Ваня Гладких сказал Кеше: — Завтра моя очередь — увидишь, не подведу!
Шесть дней боролся Семен Степанович за жизнь геолога. По нескольку раз за ночь подымался хирург с постели, ковылял через больничный двор и, сидя у изголовья Брынова, смотрел на него острым взглядом своих необыкновенно светлых глаз. Бурдинский знал, что операция сделана им точно, правильно. Но он опасался последствий травмы. Выносливый организм геолога обнадеживал хирурга. Очнулся Кузьма Савельевич утром седьмого дня. Первое, что он увидел, открыв тяжелые веки, — это ветви огромного кедра. Словно руки, простирались они в открытое окно и звали его в родные заросли, в таежную глухомань. Впервые геолог видел старого своего знакомого так вот — из окна больницы. Брынов медленно повернул голову. Бурдинский сторожил взгляд больного. — Будто живой я, Степаныч? — нетвердым голосом опросил геолог. — Ты что, сердишься на меня? — Сер-жусь, сер-жусь, — растягивая слова, отвечал хирург. — Ну? За что же? — слабо улыбнулся геолог. — Вот тебе и ну! Безобразник! — Что ты ругаешься, Степаныч! Как тебе не совестно! — У тебя-то есть совесть? — выговаривал хирург. — Киноварный король! Альбертина Михайловна из-за тебя глаза выплакала. Сережа как вспомнит, что уснул возле пещеры, места себе найти не может… Брынов смеющимися глазами смотрел на хирурга. — Ты знаешь, Кузьма Савельевич, — сказал Семен Степанович, — я ведь совершил трудную операцию! — Спасибо, Степаныч, спасибо. Скажи только одно: когда я встану? — Через месяц. — Что?! Ну нет, я столько не могу валяться. — Не можешь? — притворно рассердился Семен Степанович. — А мне, думаешь, легко тебя держать в больнице? Меня твои школьники замучили звонками да визитами: «как» да «как»! «Спасите его!» Будто я сам не хочу! — Мне нужно в Голубую падь, понимаешь? Ох, как нужно! Только теперь по-настоящему разволновался Брынов: настойчивая мысль точила его сознание и в глубоком бреду, и когда он плыл в легкой дреме, и во время разговора с врачом. — Не о себе я, Семен Степанович, о деле… Семен Степанович, родной, разведчики-то мои уцелели? Что с ними? Он с тревогой взглянул на хирурга. — С меня и одного тебя хватит, — ответил тот. — Целы твои разведчики. На Голубую падь уехали. В Ртутной пещере живут. Геолог вздохнул с облегчением. Разговор утомил его. Он посмотрел в окно. Тронутые нежной желтизной, тускло светились в лучах нежаркого сентябрьского солнца новоключевские сопки. Спустя минуту геолог уже спал крепким и сладким сном выздоравливающего человека.
21. Осень
К середине сентября целинник был полностью раскорчеван, очищен от камней, ямы были засыпаны, земляные горбы срезаны. С обеих сторон поля врыли столбы, перекрыли их поперечинами, и ворота эти придали полю обжитой вид, будто годы уже существовал здесь стадион! Можно было начать состязания. Владимирский распорядился сшить для обеих команд из синего и красного шелка спортивные костюмы. В середине месяца выдалось теплое воскресенье, и загудело, зашевелилось поле первого в Загочинской тайге стадиона! Потрясая толстой суковатой палкой, Бурдинский говорил Владимирскому и Кухтенкову: — Ну, где будет центр Новых Ключей? У вас? Дудки! У нас в Заречье. Слепились вы там — вдоль ключа, под ключом, над ключом, окно в окно, дверь в дверь. «Куча мала», а не поселок. А здесь проспекты проложим — прямые, широкие, ни одного дерева на вырубку не дам. Ого! Скоро ко мне с той стороны паломники повалят: «Дайте, Семен Степанович, местечко под застройку». Во-первых — простор, во-вторых — кедровник, в-третьих — стадион, в-четвертых — неотложное врачебное обслуживание… А мы с Альбертиной Михайловной не всякому разрешим! Учителя и рудничные руководители стояли у крыльца больницы. В воздухе веяло звонким холодком наступающей осени. Из труб четырех законченных срубов подымались прямые веселые дымки. Еще с десяток домов достраивалось вдоль дороги, ведущей в Загочу. А слева от дороги бурлило зеленое поле стадиона, по которому гоняли мяч красно-синие фигурки рудничной и школьной команд. Хромов, стоявший рядом с директором рудника, задумчиво произнес: — Стадион в тайге! — Первый в районе! — откликнулся Владимирский. — Не то еще будет здесь, Хромов, далеко не то! Англичане укрывали от нас богатства, путали, фальшивые карты составляли. Когда уходили — оборудование в Шилке топили. А золота здесь — на столетия. Найдем! Новую фабрику построим, механизируем все процессы. Дорогу проложим. Дом культуры выстроим. И переименуем наш рудник из Новых Ключей в Великие Ключи! — А про сады забыл! — неодобрительно заметил Геннадий Васильевич. — Да, и сады будут! — с какой-то детской улыбкой оказал Владимирский. — Будут и сады на Новых Ключах! Невольно забилось сердце у молодого учителя: сколько радостных дней еще впереди! …Школьники и рудничная молодежь, переговариваясь, опускались этим вечером к реке. Вступив на шаткие доски плашкоута, Толя Чернобородов поднял руку в сторону Заречья:Над падью, где речка витая,
В тайге, где сосна и кедрач,
Летает, летает, летает
Крылатый динамовский мяч!
Вскоре после окончания строительства стадиона Иннокентия Евсюкова избрали секретарем школьной комсомольской организации. Тине Ойкину поручили руководство ученическими пионерскими отрядами. Зоя Вихрева возглавила ученический комитет. Девятый класс закрепил за собой ведущее место в школе. Ване Гладких и Мите Владимирскому пришлось крепко подтянуться — общественное мнение класса судило жестоко и безжалостно. В просторном зале второго этажа на стене висели тридцать шесть страниц первого номера журнала «Дружба»: по шестнадцать страниц в два ряда, и еще четыре страницы образовали третий, верхний ряд. Здесь выделялся рисунок Захара Астафьева: цепочкой по тропе идут юные разведчики-геологи, а впереди, в буйном цветении голубого ургуя, — уже ставшая знаменитой падь. Но две страницы журнала висели незаполненными, и на них было карандашом написано: «Здесь будет помещена статья Кузьмы Савельевича Брынова, по выздоровлении последнего». Кто-то карандашом же наспех приписал: «Скорее поправляйтесь, Кузьма Савельевич!» Спустя несколько дней после перевыборного собрания староста исторического кружка Трофим Зубарев выставил в коридоре прибитую к деревянной рамке карту Европы. Сверху на белой бумажной ленте рукой Захара была выведена крупная надпись: «На фронтах второй мировой войны». Спустя некоторое время, опять-таки Трошей в содружестве с Толей Чернобородовым, была сооружена витрина газетных вырезок… Каждое воскресенье Кухтенков и Хромов уводили ребят в сопки. Школьники возвращались опьяненные холодком осени, военной игрой, синезубые от голубичного сока: в эту осень крупная ягода тучей покрыла просторы Забайкалья. Ребята изучали мотор, чертили топографические карты, делали переходы в противогазах. Борис Зырянов в высоком звании инструктора ПВХО терпеливо (каково это для Бори!) просвещал шестиклассников. Поля, как инструктор ГСО, была неутомимо деятельной в отведенном ей царстве бинтов и носилок. Малыш — Тиня Ойкин был увлечен работой с настоящими малышами, и его светлая чолка теперь уже неразрывно соединялась с красным пионерским галстуком. Тиня носил этот галстук и в интернате, и на уроках, и на улице, входил с ним в учительскую, покорял им директора, членов комсомольскою бюро, родителей, когда затевал новое «очередное мероприятие» с пионерами. Однажды, вскоре после митинга, посвященного освободительному походу Красной Армии, Тиня Ойкин предложил написать письмо школьникам города Луцка. — И пошлем подарок! — поддержала Поля Бирюлина. Вскоре в отполированный дедом Боровиковым ящик были сложены принесенные ребятами из дому книги, портреты, бюсты вождей. А письмо написал Захар Астафьев. Он писал о том, что никакие границы не отделяют сейчас школьников Западной Украины и Западной Белоруссии от школьников Забайкалья, что на расстоянии девяти тысяч километров одинаковой любовью к Родине проникнуты сердца советских детей. Он писал о том, что раньше, при царе, Сибирь была страной ссылки и каторги; что дедушка Бориса Зырянова был за революционную работу сослан на усть-карские рудники; что небольшой разъезд Загоча превратился за годы советской власти в районный центр с паровозным и вагонным депо, с двумя кинотеатрами («один в каменном здании»), тремя школами, радиоузлом и крупной электростанцией; что Загочинский район по территории равен такому государству, как Бельгия; что среди сопок, в тайге много золота, сурьмы, олова, и школьники во время летнего похода обнаружили у Голубой пади богатое месторождение минералов. Еще писал Захар о том, что Антон Трещенко хочет быть геологом, Зоя Вихрева — металлургом, Кеша Евсюков — моряком, Линда Терновая — педагогом, а Борис Зырянов — артиллеристом. И это все доступно и возможно в Советской стране («наши старшие братья уже получили высшее образование или учатся в вузах»). Не забыл Захар написать и о том, что юноши и девушки, достигшие восемнадцатилетнего возраста, скоро будут принимать участие в выборах местных органов власти. В конце письма Захар поздравлял школьников Луцка с наступающей двадцать второй годовщиной Великого Октября, «которую вы впервые празднуете свободными людьми». Геннадий Васильевич и дед Боровиков обязательно просили сделать приписку насчет партизанского привета «от старых бойцов за советскую власть». Варвара Ивановна строго проверила орфографию и пунктуацию. И письмо, покрытое десятками подписей, и коричневый деревянный ящик отправились в многоверстный путь на запад, на освобожденную советскую землю… На октябрьском вечере, после концерта, Кеша вышел на эстраду, держа в руках небольшой бумажный листок. И по тому свету, которым было озарено Кешино лицо, но тому огоньку, который искрился из узких прорезей его глаз, ребята поняли, что случилось необычное. — «Дорогие товарищи! — медленно читал Кеша. — Впервые свободно и легко мы произносим и пишем эти волнующие слова. Горячий привет вам от школьников советского Луцка! Мы счастливы, потому что свободны. Нет ныне жандармов и шляхтичей, называющих нас «москалями». И на улицах Луцка льется вольная русская речь… Вместе с вами отныне будем строить новую, радостную жизнь». Тетрадный листок в крупную продолговатую клетку с красной линией, отчертившей поле, переходил из рук в руки. — Нынешний Октябрь — в сердце у каждого из этих ребят, — сказал Кухтенков Хромову. Наконец письмо попало в руки Чернобородова. — Вот и есть материал для нового номера «Дружбы»! — оказал редактор школьного журнала. — И напиши, Толя, стихи — стихи о Луцке и Новых Ключах, — серьезно предложил Трофим Зубарев. — Только это должны быть очень хорошие стихи.
22. У Брынова
Наконец ребятам разрешили проведать Кузьму Савельевича. Хирург просил Хромова предварительно зайти к нему — он хотел о чем-то предупредить и учителя и школьников. Шумливой гурьбой подошли ребята к дому Бурдинских. Танюша, игравшая во дворе, церемонно, но вместе с тем с каким-то затаенным лукавством поздоровалась с гостями. — Папа и мама дома, — сказала девочка. И вдруг, не выдержав, побежала вперед и застучала в дверь: — К нам гости! К нам гости! — Входите, входите все! — приветливо загудела Альбертина Михайловна, увидев ребят. И снова запестрели в глазах Хромова и ребят цветные вышивки, матерчатые орнаменты, узорчатое домашнее рукоделие; и те, кто разместился на диване, ощутили за спиной, с боков и под руками круглые и овальные подушечки и подушки. — Ого! — шутил Семен Степанович. — Счастливый Брынов человек: сколько у него друзей!.. Сереженька, ставь-ка наш главный самовар, двухведерный. — Что вы, что вы! — испугалась Шура Овечкина. — Мы же не в гости, мы к больному. Но не в обычаях Альбертины Михайловны было так «легко» отпускать гостей. Она немедленно стала потчевать учителей и ребят какими-то особенными сладкими рулетами, коржиками, пастилой. — Все сама, сами! — приговаривала она, поднося новое угощенье. — Вы всерьез думаете такой компанией навестить Брынова? — спросил хирург. — Ну нет! Это вам не бал-маскарад! — Пойдете вы… — он указал на Хромова. — И вы… — на Овечкину. — А я? А мы? — разом загалдели ребята, забыв о строгих правилах дома Бурдинских. — А вы? — Доктор подумал. — Двое, по жребию. — Трое, Сема, — мягко поправила Альбертина Михайловна. — Хорошо, трое, — согласился Семен Степанович. Большего, несмотря на жаркие просьбы, добиться не удалось. Стали бросать жребий. Счастливые билетики выпали Кеше, Зое и Трофиму. — Все равно увижу Кузьму Савельевича! — забурчал Борис Зырянов. — Все равно! Семен Степанович отвел Хромова в сторону: — Не говорите с Брыновым о семье. Самое чувствительное место. Раны заживают, теперь душа заныла. — Не беспокойтесь, у меня лекарство заготовлено. — Неужели получили ответ на нашу телеграмму? — обрадовалась Альбертина Михайловна. — Получили! Брынов лежал в палате один. С нескрываемой радостью встретил он учителей и ребят. Геолог благодарным взглядом проследил, как осторожными движениями прилаживала Зоя Вихрева в стакан с водой веточку, казалось, совсем иссохшего багульника. — Вот увидите, Кузьма Савельевич, ветка оживет, расцветет. И цветы будут совсем как звездочки. А запах будет такой, как в тайге: смолистый-смолистый… Брынов, приподнявшись на локте, сдернул салфетку, которая прикрывала вазочки и тарелочки, теснившиеся на столе возле койки. — Попробуйте, ребятки… ну, пожалуйста, — уговаривал он школьников. — Меня просто завалили вкусными вещами. То Альбертина Михайловна принесет какое-нибудь необыкновенное желе, то Марфа Ионовна напечет каких-нибудь особенных шанежек, то Клавдия Николаевна пришлет миску с варениками… Так закормили, что в тайгу не захочешь!
Он огорчился, узнав, что Бурдинская уже опередила его и ребята сыты. С любопытством перелистал геолог страницы школьного журнала, которые Зоя перетянула тесемкой. Брынов жадно, не отрываясь, читал все подряд. Не пропустил он и «математического раздельчика». — Вот так! Совратили Геннадия Васильевича. Ну, молодцы, ребята, рад за вас и за школу. — Он потер ладонью подбородок — признак, что его что-то беспокоит. — Как Ваня Гладких? Перешел в девятый? — Ой, Кузьма Савельевич, если бы вы видели, как его гонял Геннадий Васильевич! Вы знаете, какой Ваня красный, когда волнуется. А тут мы все думали, что он вспыхнет и сгорит! — Да что вы тянете! — сказал Трофим. — Иван Гладких сдал алгебру и перешел в девятый класс. — А ты все такой же, Зубарев? — улыбнулся геолог и стал читать дальше. Наконец геолог дошел до двух пустых страниц, на которых сохранились карандашные надписи, и прочел: «Поправляйтесь скорей, Кузьма Савельевич!» — Подвел вас, а? Подвел? — с сожалением сказал геолог и даже немного взгрустнул. Но вдруг голубые глаза Брынова осветились. — Место, черти, оставили! А вдруг не выжил бы? — Мы были уверены, что не подведете! — убежденно сказал Кеша. Ребята наперебой рассказывали о стадионе, о ремонте школы, о журнале, о том, как Митя и Ваня сдавали экзамен, о переписке с Луцком, о школьных вечерах, о юном геологе Ртутике Киноваркине. — Почему Ртутик? Почему Киноваркин? — смеялся Брынов. — Захар так придумал, — улыбнулся Кеша, — в честь нашего открытия. Разговор, как и следовало ожидать, зашел о том, что волновало и геолога, и учителей, и ребят. — Ваши «копеечники» из треста, — говорил Хромов, — шлют людей за людьми, оборудование за оборудованием. Назара Ильича сейчас дома совсем не видать — всегда в пути… Ошиблись вы, Кузьма Савельевич, недооценили иркутское начальство… — Попробуй они поломаться, — возразил геолог, — правительство не позволит! Впрочем, из управления я получил несколько хороших писем. За окном рванулся ветер. Кедр тихонько постучал зелеными лапами в стекло. — Когда я смотрю на это дерево, то всегда вспоминаю наш летний поход, — сказал геолог. Зоя, повернув курносое лицо к окну, производила какие-то странные движения руками. Хромов быстро обернулся и увидел скульптурную группу, украсившую брыновский кедр: рядом с пышной шевелюрой Бориса — круглая физиономия Чернобородова; огненные Ванюшины вихры в соседстве со стриженой головой Сени Мишарина. Обхватив руками толстый прямой ствол, оседлав ветви, они не обращали никакого внимания на Зоины знаки, зато во все глаза смотрели на геолога.

— По правде говоря, — просто сказала Овечкина, — ребята здорово скучают по вас. Они уверены, что следующим летом найдут с вами новые богатства! В палату вошел Семен Степанович: — Всё. Хватит. Выпишу — наговоритесь. Хромов и Овечкина выпросили у строгого доктора еще несколько минут. Учителя и геолог остались с глазу на глаз. Брынов взглянул в окно: кедр опустел. На лицо геолога легла тень тоски и боли. Овечкина положила руку на его плечо, прикрытое зеленым больничным одеялом: — Не грустите, Кузьма Савельевич. Через неделю-две вы будете уже на ногах. Брынов приподнялся на локте. — Не то, друзья, не то, — поморщился он. — Вот нашел я киноварь. И вы и ребята вошли в мою жизнь, как самые близкие люди… Но… Хромов и Овечкина переглянулись. «Скажите!» прочитал Хромов во взгляде учительницы. — Так вот, Кузьма Савельевич, имею честь сообщить, что ваша жена в Иркутске и через три дня будет здесь вместе с сыном. — И он протянул геологу телеграмму.
Спустя десять дней светлым звездным вечером вновь возвращался Андрей Хромов из Заречья. Брынов почти поправился, и Семен Степанович обещал на-днях выписать геолога из больницы на вольную жизнь, на таежные тропы… Хромов улыбался, вспоминая, как Бурдинский в присутствии его и жены геолога расхвастался: «Я, Кузьма Савельевич, на тебе имя заработаю. Статейку вот написал в журнал «Хирургия». Итак, рудничный хирург Бурдинский выписывает геолога Брынова, тридцати шести лет от роду, женатого, партийного… заметьте: не пьющего, что бывает с геологами очень редко…» Хромов с нетерпением ждал возвращения своего друга в школу: Брынову предстояло там много работы.
23. Зима
Суровой была и эта зима. В котловину Новых Ключей с вечера заваливался плотный туман — затаивался, прижимался к прибрежному ольшанику и рудничным домишкам. Раннее зимнее утро встречало жителей поселка морозной белой «копотью», неохотно расходившейся к полудню. И всю эту зиму — ледяными кривунами Джалинды, через хребет, снежными тропами — перебрасывали к Иенде на машинах и лошадях людей, продовольствие, оборудование. Нередко над рудником пролетали самолеты. Курс их был на Олекму. У Голубой пади шла в дебрях Яблонового хребта подготовка к летнему строительству большого нового рудника. А школа жила своей жизнью. Морозоупорный забайкальский народец — детвора и не думала сидеть дома. В школе ни на один день, даже в шестидесятиградусные морозы, не прекращались занятия. Таков неписаный закон забайкальской жизни, идущий вразрез со строгими инструкциями о прекращении занятий при тридцати градусах мороза. И так же, как всегда, носились по школьному двору неугомонные мальчуганы, только растирая время от времени исщипанные морозом щеки да носы. И в классах, во время уроков, — ни кашля, ни чиханья, ни посмаркиванья. Весело смотрят разрумянившиеся лица, задорно блестят глаза, и стойким здоровьем веет от хорошо сбитых ребячьих фигур. Вечерами в школе царило многоголосье. В одном классе дымчатая рука аллоскопа водила ребят по крымскому побережью мимо курчавых виноградников и белоснежных дворцов; в другом под руководством Альбертины Михайловны ребята что-то мастерили из бумаги, картона и фанеры; в третьем репетировалась очередная пьеса Толи Чернобородова и Захара Астафьева; в четвертом Варвара Ивановна и ее кружковцы слушали доклад Поли Бирюлиной об образе молодого человека в русской литературе. Брынов, выйдя из больницы, сначала съездил в Голубую падь, куда давно рвался и мыслью и сердцем; он вернулся окрыленный и снова вечерами приходил в школу, путешествовал с ребятами по карте, рисовал цветными мелками «человечков» — он готовил к летнему походу новую группу юных геологов. В школе становилось традицией: прежде чем перейти в девятый класс, надо выдержать суровый экзамен в тайге. Ученики младших классов благоговейно заходили в школьный музей, где хранились образцы горных пород, гербарии, дневники, туесы, компасы, исторический зыряновский молоток и киноварный, «бутерброд», найденный в знаменитой пещере Голубой пади. Первое поколение разведчиков недр не уставало рассказывать «легендарные» эпизоды похода 1939 года, снисходительно и терпеливо наставляло своих преемников и последователей. — А что должно быть главным в походе? — спрашивал какой-нибудь шестиклассник. — Главным? — переспрашивал Зубарев. — Главное, чтобы ноги были длинные и голова не была пустой. — Ладно тебе! — сердился на Трофима Тиня Ойкин и отвечал за него: — Главное, чтобы дружба была и каждый верил товарищу, как себе… Разве ты не испытал во время похода силу дружбы? — спрашивал товарища Тиня Ойкин. — Испытал, Малыш, верно. Но ведь и самому не надо быть лопухом! — Надейся на себя и помогай товарищу — вот мое правило, — отвечал Малыш. — Оно проверено походом. — А мое правило, выходит, какое — «помогай себе и надейся на товарища»? Да? Ты это хотел сказать? — Троша, — вмешалась Зоя, — ты стал таким злюкой, что к тебе подходить опасно. — Почему, гражданка Вихрева? Разве я сказал что-нибудь обидное? Разве я неправ? — Нет, Троша, ты просто раньше был спокойней, а сейчас раздражаешься. — Да? Не замечал. Троша отошел к шведской лестнице, справа от которой висела его географическая карта. — Что тебе, Зоя, надо от него! — сердито сказал Антон. — Не затрагивай! — Вчера вечером, — зашептала Зоя Малышу и Сене Мишарину, — Троша ходил к директору, отпрашивался домой. Платон Сергеевич не разрешил. Вот он и злится. — Что-нибудь случилось! Может, с Дарьей Федоровной плохо? — Неужели бы он нам не оказал, скрыл? — воскликнула Зоя и повторила: — Ишь, какой стал! И чего он загордился? — Я уж с ним и в шахматы перестал играть, — заметил Сеня. — К каждому ходу цепляется. — Надо бы поговорить с ним, — сказал Тиня. — Что-то с ним происходит. — А я знаю, знаю! Догадалась! — почти крикнула Зоя и сразу же зажала себе рот ладонью. Она с таинственным видом нагнулась к Малышу: — Он, наверное, влюбился! Но в кого? У нас в классе нет ни одной интересной девочки. — А ты? — опросил, улыбаясь, Малыш. — Я курносая! Нет, надо за ним проследить… Только Поле не говорите, а то она расстроится. Ома ужасно расстраивается, когда кому-нибудь из нас плохо… Зубарев так всю перемену и не отходил от своей географической карты. Была середина марта, а морозы стояли шальные, трескучие, казалось — бесконечные. Дед Боровиков постучал однажды в заросшее снежным мхом окно Евсюковых. Хромов и Кеша вышли во двор за водой. Что это была за вода! Она громыхала в ведрах. Из дедова ковша валились в них блестящие остроребрые куски льда: ковш не успевал опорожниться, а поверхность воды в бочке уже затягивалась ледяной корой. Во дворе, как жесть, похлопывало развешанное на веревке, затвердевшее с мороза белье. Дед укоризненно приговаривал: — Вот тебе на! Март январь догоняет! Теперь уж до «сорока мучеников» вымерзать будет. До самых именин моих. — Сколько, же вам, Петр Данилович, исполнится? — позевывая от холода, рассеянно спросил Хромов. — Семь десятков, Андрей Аркадьевич. На восьмой пойдет… Да вы ведерко-то лучше придерживайте. Оболью ненароком — враз коркой зарастете… Нынче, — продолжал дед, — год у меня круглый получается: от роду семьдесят стукнет, в браке состою пятьдесят годов и в школе рудничной уж двадцать лет работаю… Вот оно как. Дед от удовольствия покрутил головой: очень его забавляло то, что он говорил. — Кругом год круглый, кругом, — повторял Боровиков. — Вы почто без рукавиц? Хромов внимательно посмотрел на старика: — Привык, Петр Данилович, приучился… Неужели двадцать лет в одной школе! Как же без юбилея? Боровиков не расслышал или не понял: — Вот что верно, то верно, Андрей Аркадьевич: здоров, здоров, не болею, ни одного дня в школе не пропустил… Пожалуйте ко мне через воскресенье на именинный пирог. Старуха бражки наварит — ног не почуете… Десять талончиков за вами за воду, не забудьте. Дед погнал пегую заиндевевшую лошадку на набережную — к квартире Геннадия Васильевича. Хромов долго смотрел ему вслед, занятый новой мыслью. Кеша удивлялся задумчивости учителя географии, когда они вдвоем шли в школу. А Хромов шел и думал о деде Боровикове, о старом партизанском деде: «Семьдесят, пятьдесят, двадцать: долгая жизнь, верная любовь, честный труд…» Деда любили, деда уважали, деда звали в гости, с дедом советовались. И он всегда был одинаков — со своей свежей шуткой, острым словом, веселостью характера, неутомимой бодростью духа. Дед сросся со школой, в которой был и водовозом, и столяром, и завхозом, и своеобразным неофициальным «дядькой» для школьников. — Посмотрите, — отвлек учителя Кеша. — Верблюды… на Голубую падь груз везут. На Новые Ключи через таежную чащобу, через кедровую глухомань прибыл верблюжий караван. Желто-бурые косматые животные, впряженные в сани, высокомерно несли приплюснутые головы. Из разверстых, наискось двигающихся челюстей выпирали крупные и желтые, как у курильщика, махорочного цвета зубы. Верблюды ложились на мерзлую землю, подобрав ноги в «калошах» из толстой кожи. Они старательно пожевывали топыристыми губами, выпыхивали из пасти клубы пара и терпеливо ожидали погонщиков на Урюм. Хромов с удивлением рассматривал горбатых степняков, безмолвно и важно несших свою службу в суровой забайкальской тайге. Но рудничным жителям верблюжий караван был не в новинку. Только вечно любопытная детвора собиралась вокруг равно длинных животных, тыча в них пальцами и выкрикивая «тымэн, тымэн» — монгольское слово, перекочевавшее, как верблюды, из степей в тайгу, в русский обиходный разговор. Солнце взорвало морозную «копоть». Золотые нити пронизали воздух и соединили небо, сопки, Джалинду, домики поселка в единый сверкающий слиток. Хромов и Кеша заспешили в школу: на это утро был назначен митинг. Вчера на рудник пришла весть о том, что Финляндия Маннергейма, поверженная Красной Армией, капитулировала и подписала мирный договор. Когда Хромов и Кеша вошли в зал, они увидели ребят, толпившихся возле географической карты. Трофим Зубарев торопливо орудовал на ней цветными карандашами. Он отчертил красным карандашом жирную ломаную линию. Она прошла севернее Выборга и западнее Ладожского озера в направлении на северо-восток. Красным кружочком обвел Зубарев полуостров Ханко. Он отодвинул ребят от карты и оценивающим взглядом окинул ее: — Точность и аккуратность! Глазомер и художественный вкус! Он вдруг поспешно, будто что-то вспомнив, сунул карандаш в верхний карман пиджака и подбежал к окну. Ребята уже выстраивались в линейку по всей длине школьного коридора, в два ряда: младшие — в первой линии, старшие — во второй. Трофим подошел к директору школы: — Платон Сергеевич! — Что тебе? — Значит, на карту я все нанес. — Хорошо… А почему ты не в строю? На матовом лице Зубарева лихорадочно горели глаза. — Я нездоров. Разрешите пойти к врачу. Кухтенков пытливо взглянул юноше в глаза: — Иди. И предоставил слово учителю географии. Что можно сказать в какие-нибудь десять-пятнадцать минут, когда надо сказать так много! В таких случаях внутри у Хромова словно все напруживалось, и он чувствовал легкий озноб во всем теле. Мобилизовывались все духовные силы, вся нервная энергия. И это ощущение, эта внутренняя нервная сосредоточенность, эта страстная убежденность всегда рождали слова — нужные и сильные, взволнованные и волнующие, слова, которые соединяли Ленинград, Балтику, Карельский перешеек с Новыми Ключами широкой дорогой общей жизни и единой цели. — Разве ты, Кеша Евсюков, — говорил Хромов, — не делал на-днях доклада об истории русского флота? А сколько книг перечитал ты, Тиня Ойкин, чтобы рассказать на историческом кружке о битве на Чудском озере! А Зоя Вихрева разве не показывала мне тетрадь, заполненную сведениями о жизни и творчестве Ломоносова! А ты, Трофим Зубарев, не забыл свой труд, посвященный обороне Петрограда от Юденича… Хромов поискал в шеренге Зубарева и не нашел. Учитель говорил о Ленинграде, о победе Красной Армии, о Новых Ключах, о школе… — Ух ты, припоздал малость! Дед Боровиков ввалился в зал в своей шапке-ушанке, с бородой, похожей на зимний лес, — он напоминал новогоднего деда Мороза. — Просил без меня не начинать! — укоризненно оказал дед Кухтенкову. Тот виновато развел руками и показал на круглые в простенке часы — через пять минут начинался первый урок. Но дед вдруг скривил лицо, славно выпил уксусу, и почесалуказательным пальцем переносицу. Директор, хорошо знавший деда, понял, что тому надо посекретничать. Он шепнул Хромову, чтобы тот заканчивал митинг, и пошел с Боровиковым в учительскую. — Ей-богу, Платон Сергеевич, этот парень хочет с верблюжатниками уйти. — Кто? — Трофим… Зубарев… у которого мать в Иенде… Сам слышал, как с погонщиками договаривался. Кухтенков в одной кепке выбежал в коридор. Одновременно прозвучал звонок. Через несколько минут директор вернулся. Он с укоризной сказал деду: — В классе твой беглец, у Варвары Ивановны на уроке. Дед вскипел: — Я, Платон Сергеевич, не сорока. Двадцать лет меня знаешь. А у парня лицо смутное. Свербит у него на душе. Присмотри получше. Дед вышел, а директор школы остановился на пороге своего кабинета и сказал вслух: — Да, но почему он на уроке, если отпрашивался к врачу?.. Зайдите, Андрей Аркадьевич, поговорим, — обратился он к входившему в учительскую Хромову.24. Трофим Зубарев не ходит в школу
Через несколько дней Трофим Зубарев небрежно сказал товарищам-интернатцам: — Кухня продснабовская меня не устраивает. Перехожу на сухое питание. И перестал ходить в столовую. Поля Бирюлина, принимавшая к сердцу каждую мелочь, тут уж не на шутку вышла из себя: — Ничего не могу понять! Избаловались мальчишки, и всё! Трофиму не нравятся котлеты и шницели, подавай ему поросенка и гусятину. А дружка его Антона вилами из столовой не вытащишь, после всех уходит. Ничего не пойму! — Одно слово — граф, дворянин, — подхватывал Ваня Гладких, сияя веснушками. — В их усадьбе на Иенде свой повар был. Но ребята великолепно знали, что мать Трофима Зубарева работала уборщицей в пендинской конторе и что единственный ее сын вырос среди будничных забот о хлебе. На все расспросы и укоры Зубарев холодно отвечал: — Меню не устраивает! Однообразие! Так прошло с неделю-полторы. Однажды Трофим Зубарев не пришел на уроки. — Слушай, Кеша! — Зоя в перемену отвела Евсюкова в сторону. — Неладно с Трошей. Зоя быстро перебирала короткими пальчиками косички, лицо ее раскраснелось. Она долго убеждала в чем-то Кешу, и только звонок прервал их разговор. На другое утро Кеша пришел в интернат. Зубарев сидел на крыльце, погруженный в учебник истории. — Ты что, Троша, нездоров? — Видимо, так, раз вышел свежим воздухом подышать. Кеша вгляделся в осунувшееся лицо товарища, и что-то защемило у него внутри. — Троша, помнишь, во время похода мы часто говорили о дружбе… — Помню, Кеша, спасибо, — ответил Зубарев. — Но ты меня перебил на самом интересном месте. Я как раз дошел до реформ Сперанского… — А честь класса? — не отступал Кеша. — А совесть комсомольца? Лицо Зубарева стало бледным, но он молчал, уткнув глаза в книгу. Так Кеша ничего и не добился от Зубарева. Тогда, раздосадованный, он «взял в клещи» Антона Трещенко. Тот вертел своей кислой физиономией то в одну, то в другую сторону, брюзжал, отнекивался и, наконец, поняв, что от Кешиной мертвой хватки ему не уйти, рассказал: все дело в том, что Дарья Федоровна заболела, и вот уже второй месяц, как Зубарев не получает денег из дому. Он мог бы, конечно, питаться в кредит — это разрешали интернатцам, попавшим в затруднительное положение; можно было бы заявление написать в прииском, на Иенду — помогли бы. Но самолюбие у Графа — Кеша ведь это знает, — самолюбие дьявольское. Вон он и разыграл комедию, решил перетерпеть. Никакого «сухого питания», конечно, у него нет. Парень ослабел и за мать беспокоится. Кеша отругал Антона, повертел перед его носом железным своим кулаком и пошел в школу, рассчитывая застать там Платона Сергеевича. Он не ошибся. Директор был в учительской. Он убеждал в чем-то Хромова. Кеша услышал последние слова: — Андрей Аркадьевич, вам не кажется, что мы успокоились? В школе вообще никогда нельзя успокаиваться. Помните наш с вами первый разговор? — Помню, Платон Сергеевич, — отвечал Хромов. — Вот я и хотел вам сказать. Геннадий Васильевич предлагает… Приход Кеши прервал разговор директора с учителем. Евсюков рассказал все, что знал о Зубареве. — А Трещенко? — вспыхнул Андрей Аркадьевич. — Что же, он принимает участие в этой постыдной игре? Товарищ голодает, а он… — Да нет же, Андрей Аркадьевич! Антона ребята задразнили, что засиживается в столовой, все знают, что он покушать любит, а ведь он съедал только первое, а второе, как все уйдут, в бумажку завертывал для Графа, то-есть, простите, для Троши. Денег лишних у Трещенко не было, а то одолжил бы! А Зоя догадалась, Зубареву в учебник деньги положила; он вернул и отругал ее. Кухтенков улыбнулся. Улыбнулся скупо, медлительно и Кеша. — Вот гордецы! И Антон и Зоя — хорошие товарищи. Но надо научиться действовать коллективно, — сказал Кухтенков. — Может, нам всем классом деньги собрать? — предложил Кеша. Кухтенков покачал головой: — Ты меня не понял. Это может оскорбить Трофима. А потом, Кеша, никогда не забывай, что живешь в Советской стране, стране с добрым сердцем, мудрым умом и сильными руками, стране, которой никогда не безразлична судьба ее детей. В этот день Зубарев снова не явился в школу. В перерыв Кухтенков вызвал к себе Варвару Ивановну и Хромова. — Вот видите, Андрей Аркадьевич, — сказал Кухтенков, — таков уж наш учительский труд: каждый день ставит перед нами новые задачи… Кто ищет «спокойной жизни», тому в школе делать нечего! Кто ищет спокойствия, тот сделает «зевок», а в школе это не так безобидно, как в шахматах! Тут не деревянные пешки, а живые люди! Учительница, по своему обыкновению, закурила. — Надо внести за мальчика деньги, и все, — сказал Хромов. — Что же, школа не найдет этих ста рублей? — Да? Вы так думаете, Андрей Аркадьевич? — жестко спросила Варвара Ивановна. — Легко же вы решаете педагогические проблемы! Хромов покраснел. — Дело не только в сотне рублей, — продолжала учительница. — Зубарев так же может, как и Зоя, взять да уйти на Иенду. — Деньги найдем. Сегодня же. Но это половина дела, — сказал Кухтенков. — Надо поговорить с ним. Я поручаю это вам, Андрей Аркадьевич. Подумайте… А вы, Варвара Ивановна, напишите письма матери Зубарева и в прииском. Надо помочь Дарье Федоровне. Утром следующего дня учитель пришел в интернат. Ребята занимались. Большой стол был завален книгами, тетрадями, линейками. Что-то сосредоточенно читал, вцепившись в рыжие свои космы, Ваня Гладких. Зажав между толстыми пальцами ручку, быстро водил по бумаге Толя Чернобородов. Выполнял какой-то сложный чертеж Тиня Ойкин. Но через минуту в комнате никого не было. Хромов остался наедине с Зубаревым. Тот сидел, как всегда, очень прямо, тщательно причесанный, в своем неизменном галстуке под стареньким, заношенным пиджаком. На похудевшем лице юноши можно было прочесть, что он приготовился к отражению любого нападения. Внутреннее чутье подсказало Хромову, что ни одно из тех слов, какие он собирался сказать, не затронет Трошиного сердца. Отбросив эти слова, Хромов просто подумал: «В чем же разница, Трофим Зубарев, между судьбой моих родителей и твоей судьбой, между твоим детством и моим, человека старше тебя на одно поколение?» И, словно думая вслух, он начал говорить: — Отец мой, Троша, был, как и мой дед, простым сапожником. От профессии, наверно, и пошла наша фамилия. Отец говорил, что и его самого мяли и дубили, как кожу… Но он был из особенного материала: чем больше мяли, тем он крепче становился… Я никогда не забуду отцовских рук — рук мастерового… Ладонь широкая, шероховатая, с желтизной, и какие-то очень живые и ладные пальцы. Когда он брал ими кусок кожи и прощупывал ее, казалось — сами пальцы говорят: «хром», «шевро», «замша». Эти пальцы умели сжиматься в кулак. Нас с братом часто забавляла игра: пробовали разжать отцовские пальцы. В царской армии солдат Аркадий Хромов стал большевиком. Он поднял свой полк на восстание в крепости Свеаборг. Его приговорили к смертной казни. Он бежал через Финляндию в Швецию, испытал горести и унижения бесприютной жизни на чужой земле. — Хромов говорил, вспоминая скупые рассказы родителей. — Матери было двенадцать лет, когда нужда заставила ее уйти из дому на заработки. Два года шила она солдатское белье в сырой каменной коробке — белье для армии, погибавшей в Маньчжурии… Когда ей было пятнадцать лет, она вышла со своими подругами на взбунтовавшиеся улицы. Не рубанул нагаечной свинчаткой конный казак. Мать, спасаясь от преследований, добралась до Риги, села на пароход и уехала в Стокгольм… Там, в эмиграции, встретили и полюбили друг друга два революционера, два большевика. Они терпели нужду в Копенгагене, голодали в Париже, мерзли в Гамбурге… И вдруг — февраль 1917 года, революция. Эта весть застала их в Стокгольме. Одним из самых счастливых дней был тот апрельский день, когда в Стокгольм всего на несколько часов приехал Ленин! Великого вождя революции ждали рабочие Питера, матросы Кронштадта, восставшие солдаты, народ… Вскоре мои родители уехали в Россию. Большевики-ленинцы, они приняли горячее участие в строительстве новой жизни. Начались дороги гражданской войны, по которым родители таскали меня и брата. В Киеве петлюровская банда вывела на расстрел «семью большевика» — мать, брата и меня. И вдруг нас выхватывают буквально из-под пуль питерские металлисты в потертых пахучих кожанках… Мать привела их в наш полуподвал. Они посмотрели на штукатурку, сбитую залетными пулями, на наши опухшие пальцы и разделили с нами, наверное, последний каравай ржаного хлеба. А мать отдала им бомбы, которые хранились в пуховой перине и прошли все обыски. В Одессе отца оставили при деникинцах в подполье. Его выдали. Я был болен дизентерией, когда пришли арестовать отца. Меня сбросили с кровати на пол, чтобы вспороть матрац. «Мадам, будьте спокойны, все будет по закону», сказал лощеный офицер. Рукоятью нагана он выбил все зубы отцу, едва вывели его на улицу. А потом отец и мать затерялись на фронтах гражданской войны, и для нас с братом наступил трудный год — год голодной, на одном тухлом селедочном форшмаке, жизни в детдоме двадцатого года… Хромов впервые с такой обнаженностью прикоснулся к дорогому для него прошлому; для него самого в этих воспоминаниях открывался новый, ранее невиданный им смысл. Он увидел не личную биографию, не личные судьбы, а биографию и судьбы двух поколений. И ему страстно хотелось, чтобы минувшее открыло его ученику глаза на день, в котором живет он, представитель нового, третьего поколения революции. — Во имя чего это выстрадано, Троша, это и многое другое?.. В этой борьбе, в этих испытаниях родилось наше могущество, наше невиданное в истории человечества единство. И уж совсем не для того это все делалось, — усмехнулся учитель, — чтобы Трофим Зубарев не посещал занятий. Юноша сидел, расправив плечи, положив руки на ребром поставленную книгу, смотря прямо в лицо учителю. — Очень трудно, Андрей Аркадьевич. Вы знаете, как мне трудно учиться! — Знаю, — ответил учитель. — На той неделе я чуть не пристал к верблюжьему обозу… Солгал директору, что заболел… И вдруг вспомнил, как все беспокоились, когда Зоя ушла, подумал, что и меня искать будут… Стыдно стало… Решил, что это малодушие… — И это знаю. А трудно тебе потому, что ты хочешь в одиночку все пережить. А нас советская власть приучила помогать друг другу. Ты знаешь, Зубарев, в чем сила советских людей? Бесстрастное лицо юноши нисколько не обманывало учителя. Троша не пропускал ни одного слова. — В том, что мы, люди разных поколений, разных профессий, из различных уголков страны, всегда вместе. И в малом и в большом. Этому научила нас партия. — А где, Андрей Аркадьевич, ваши родители сейчас? — быстро спросил Зубарев. — Отец строит новый завод, а мать на партийной работе. — А вы вот нас учите… — вырвалось у Троши. Учитель и ученик встретились глазами. И поняли, что каждый по-своему думает об одном. — Ты прав, Троша: от поколения к поколению мы передаем и будем передавать, как эстафету, вечно молодую силу большевизма. Наша партия — особенная партия. Ей сейчас сорок лет, будет шестьдесят, и восемьдесят, и сто… И она останется молодой. Ты вглядись в портрет Сталина. Посмотри, Троша, какие юные глаза у нашего вождя. Это юность одухотворенной идеи, вечно живой и творящей мысли, юность вдохновенной революционной страсти… Для такой молодости, покоряющей возраст, не страшны никакие испытания. А они были и будут у старшего поколения, и у моего, и у нового — у вас. Наступила пауза. Хромов вновь осторожно подошел к больной для Зубарева теме: — Вот о тебе заботился, как мог, Антон, тот самый, которого ребята задразнили за обжорство. Хотела помочь Зойка, верный и честный товарищ. Не успокоился Кеша, пока не узнал, что́ с тобой приключилось. Поля Бирюлина всех комсомольцев на ноги подняла. Ребята хотят собрать деньги для тебя. Это пример бескорыстной дружбы… Подожди, не горячись… — Он уловил на лице Зубарева смущение и растерянность. — Сейчас не двадцатый год. За нашей спиной — больше двух десятилетий строительства. Мы вступаем в середину третьей пятилетки. И то, что государство поможет сейчас не только тебе, но и твоей матери, — это не благотворительность, не милостыня, это помощь народного государства, родной власти… А то, что ты горд, стоек, терпелив, — это неплохо. Пригодится в жизни. Ни учитель, ни ученик не заметили, как вошли и Тиня Ойкин, и Толя Чернобородов, и Ваня Гладких, и Антон Трещенко. Но они уже давно слушали разговор между учителем и учеником. — Троша, — оказал Тиня, — мы решили в мартовские каникулы всем классом уйти на Иенду. На лыжах. — Даже дед Боровиков собирается, — оказал Ваня Гладких. — «Я — говорит, — в день семидесятилетия своего не собираюсь сторожить школу. А потом охота, — говорит, — посмотреть на Дарью Зубареву: я двадцать лет в школе водовозом работаю, детей воспитываю, а она двадцать лет в приискоме работает уборщицей, и рабочие ее очень уважают. Вроде мы как ровня». — Двадцать лет! Неужели двадцать лет? — спросил Трофим. — А ведь наш дедушка, Андрей Аркадьевич, из старшего поколения, из тех, кто революцию делал. — А в школе мы бы без него, наверное, пропали. Он каждого из нас и в лицо и по имени знает, — заметил Толя. — Что ж, ребята, — улыбнулся Хромов, — давайте и вы подумайте, чем бы обрадовать старика. …Трофим Зубарев на следующий день пришел на занятия.25. Дед Боровиков
С некоторого времени дед Боровиков начал примечать, что к нему в дом зачастили гости, что вокруг него самого происходит некое странное движение. Старик был не из простоватых — сам любил вокруг пальца обвести. Ложась, дед размышлял на сон грядущий, соображал, прикидывал. — Не из-за варенья ли твоего, Марфа Ионовна? — обращался он к жене. — Голубишное твое варенье слаще вишневого. Ей-богу! Или из-за бражки — крепкая она у тебя. Лучше тебя в поселке никто не готовит. — Выдумываешь! — сонным голосом отвечала Марфа Ионовна. — Тоже невидаль — варенье да бражка… — А может, кто раньше нашего разведал, что мы деньги на облигации выиграли? Или под избой нашей кто клад нашел? А мы вот разлеглись и не знаем! — Спи, косматый идол, все выдумываешь! — сердито отвечала Марфа Ионовна. Дед замолкал, но все продолжал «выдумывать». А на следующий день «косматый идол» вновь принимал гостей — доброхотно, любопытливо и кумекая про себя, что к чему. Первым заявился Кеша Евсюков. Его приход не удивил старика: этот был не гостем — своим. Сбило деда с толку лишь то, что Кеша, с карандашом и бумагой в руках, дотошно допрашивал: как он, Боровиков, в былые времена «старался» по приискам, как хозяйничали встарину англичане на руднике, как дед получил четыре Георгия, как партизанил, как строились заново Новые Ключи. — «Как, как»! — изнемог наконец дед. — Ты что, Коша, в попы готовишься — меня исповедуешь? У меня грехов нет. Чист, как святцы… Дай ему, Ионовна, варенья из новой банки, пусть помолчит. Кеша деловито намазывал варенье на пшеничный ломоть хлеба, а расспросы продолжал. Через несколько дней Боровикова навестил школьный поэт Толя Чернобородов; он пучил на деда бесхитростные круглые глаза, ерошил волосы и тоже записывал, а когда уходил, уже на пороге, воскликнул: «Нашел, нашел! Вот это рифма: деда — победа!» Тут уж Марфа Ионовна усомнилась в Толином здоровье и заявила, что интернатская жизнь не доведет ребят до добра. Если бы Захар пришел с бумагой и карандашом, дед бы, наверно, выставил его за дверь. Но Астафьев купил деда фотоаппаратом. Юноша был, как всегда, немногословен и только нащелкивал, снимая деда «по бороду», в пояс и полный рост, одного, и с бабушкой, и даже с огромным, в рыжих полосах, котом по прозвищу Арестант. В солнечный, погожий день ввалился в дом Сеня Мишарин с ящиком красок и холстом. Он усадил школьного водовоза в кресло, и дед просидел полтора часа, не шелохнувшись, пока не взмолился: — Курнуть-то дай, мучитель! Едва выпросил пять минут на перекурку. Было над чем поломать полову деду и Марфе Ионовне, тем более что на все дедушкины расспросы следовали неопределенные ответы. Наконец пришел Платон Сергеевич, выпил литровую банку боровичихинской бражки и настойчиво допрашивал стариков, в чем они нуждаются, какие у них недохватки и чего хотят. Захмелел, что ли, дед от бабушкиной бражки, но на язык стал остер и колюч: — Чего бы хотели? Сына хотели бы увидеть — Павла Петровича Боровикова, что в авиации служит! К дочкам и внукам хотели бы съездить в Ленинград и Харьков! Вот мои нехватки! А насчет одежи не беспокойтесь, Платон Сергеевич, не первый день живу на свете. Нажили, слава богу. — Ну, а все-таки? — добивался Платон Сергеевич. — Неужто, Данилыч, ничто тебя не интересует? Дед подлил гостю из жбана бражки и поманил пальцем: «склонитесь поближе». — Ин-тере-сует, Платон Сергеевич, интересует, — зашептал он, накрывая ухо директора косматой бородой. — Очень интересует меня: почто меня народ обхаживает? Что им от меня надо? Уж вы, по старой дружбе, просветите. Директор сделал удивленное лицо и взмахнул руками: — Что ты, Данилыч! Ишь ты! Дело-то какое! А я и не знал! Обхаживают? Ишь ты! Дед всердцах сплюнул: — Лукавите вы, Сергеевич, лукавите! — И уже спокойнее сказал: — Ладно, если хотите удружить, то признаюсь: давно мечтаю о трубочке пе́нковой. Удобная штука, думать помогает. Вот все. Тем и закончился разговор. Подошел конец марта. Субботним вечером Тиня Ойкин и Зоя Вихрева постучали к Боровиковым. Они застали деда за чаепитием. Возле него на круглой подставке стоял объемистый медный чайник; початая стеклянная банка с голубичным вареньем была придвинута к стакану. — Какое там заседание? — вытирая расписным рушником медное, как чайник, лицо, опрашивал Боровиков. — У меня ныне банный день! Су-уббота! Что им приспичило? Без деда оправятся! Тиня, улыбаясь, поглаживал чолку: — Не сейчас, Петр Данилович, а завтра в шесть часов. — И не один приходите, — добавила Зоя, — а с супругой. Вот, пожалуйста, билет… Дед потянулся было за билетом, но проворная Марфа Ионовна опередила его. Повертев билет в руках, она степенно положила его в карман фартука. Боровиков искоса посмотрел на свою супругу, крикнул и взялся за чайник. — Завтра, говорите? Еще лучше! — добродушно язвил дед. — Дозаседались — недели нехватает, до воскресенья добрались. — Что с тобой стало, Данилыч? — с неожиданным участием опросила Марфа Ионовна. — Ты, дед, часом не заболел? На заседания ходить — твое любимое дело. — Тьфу ты, старая, тебе-то чего не сидится! — Пойдем, Данилыч, — примирительно сказала Боровичиха. — Может, премирование будет или концерт. — И не забудьте, Петр Данилович, — сказал Тиня Ойкин, — в парадной форме! — Что я вам — генерал, что ли! Ладно уж… Проводив гостей, Марфа Ионовна пошла в стайку подоить козу, потом прибиралась, долго гремела на кухне посудой, и дед, разморенный баней и чаепитием, уснул, не дождавшись ее возвращения. А назавтра пришлось деду со старухой пилить дрова, стайку поправлять. Подошло дело к закату, старики заторопились в школу и забыли про билет. Уже у самой школы Боровичиха остановилась, как вкопанная, и всплеснула руками: — Господи, приглашение-то в фартуке оставила! — Вот, вот, — начал подтрунивать дед, — потому ты завсегда вперед заскакиваешь… — Но, видя огорчение жены, он сказал: — Не бойсь, все-таки, как-никак, я заместитель по хозяйственной части. Пропустят. Только-только дед в своей черной опаре с галстукам, повязанным под самой бородой, показался в зале, он услышал гул оркестровой меди и дружные хлопки, увидел обращенные к нему смеющиеся ребячьи лица. «Опоздали, — слегка подтолкнув супругу, в бок, недовольно проворчал дед. — Прособирались. Уже без нас что-то важное сказанули». Но речей никто не говорил. Наступила внезапная тишина, и сквозь эту тишину Кеша Евсюков и Зоя Вихрева провели стариков в первый ряд и усадили в кресла. — Не иначе, как меня хотят председателем месткома выбрать, вот и обхаживают! — шепнул жене смущенный водовоз. В это время к столу президиума, накрытому красной скатертью, подошел директор школы. Он, помедлив, торжественно объявил: — Сегодня, ребята, мы чествуем нашего дорогого юбиляра — Петра Даниловича Боровикова. Тогда, вновь оглушенный оркестровым громом и аплодисментами, дед чуть приподнялся в кресле, взглянул на свою старуху и зашарил по карманам. Он вытащил свою неразлучную торбу-кисет, но не закурил, почему-то поднес торбу к глазам, затем взмахнул рукой: «Эх, где моя не пропадала!» А Боровичиха, просидев пяток минут с разинутым ртом, сняла с головы платок, вновь перевязала его и взяла деда за локоть, словно боясь, что он исчезнет. Вот теперь, наконец, дед увидел и вывешенный в простенке меж знамен свой портрет, рисованный Сеней Мишариным, и над ним на красной ленте: «Привет славному труженику-патриоту деду Боровикову в день его семидесятилетия и двадцатилетия работы в школе!», и школьный журнал с тремя фотографиями астафьевской работы, и на одном из снимков Арестант пялил в зал свои глаза. — Ах ты, шут меня побери! Провели, ребятки, провели вы меня! Провели деда Боровикова! Сидя в президиуме, дед попросил у Геннадия Васильевича пригласительный билет и уцепился за него, как за якорь спасения. Он уткнул в белый квадрат бумаги дымчатую свою бороду: «…Дирекция, местный комитет, комсомольская организация и ученический комитет приглашают Вас на юбилейный вечер, посвященный семидесятилетию трудовой жизни и двадцатилетию работы в школе Петра Даниловича Боровикова». Бывает, наверно, в жизни настоящего человека такой особенный день, когда он осознает: не зря прошли годы, славно прожил! Такой день наступил у деда. Распрямилась сутулая, сгорбленная трудом спина, раздались плечи, молодо заблестели глаза: «Эх, знай наших!.. Летчика бы моего сюда да всю боровиковскую поросль… Вот тебе и школьный водовоз!» Правда, дед забылся на минуту, когда со второго ряда ему понимающе подмигнул Назар Ильич, прищелкнув под подбородком: мол, зальем это дело. Дедушкин узловатый палец тоже было потянулся для ответного знака, но суровый взгляд Марфы Ионовны образумил старика. Потом вышел Толя Чернобород он и прочел свои стихи «Дед-патриот»:Недоем и недосплю,
Не могу сидеть на печке:
Дров для школы напилю,
Навезу воды полречки…

— Вот что хочу я сказать. Двадцать лет тому назад были мы со старухой в партизанах. Тогда мы с Ионовной совсем еще молоденькие были — по полсотне лет, и только. — Ну уж, не прибавляй, Данилыч, — не выдержала Марфа Ионовна. — Мне-то всего сорок с лишком было. — Не в том дело, Марфуша, — возразил дед, — хочу я сказать, что смело мы тогда в новый день глядели и верили в то, что доживем, увидим, как родная земля отстроится и сила наша утвердится. — Дед прихватил узловатыми пальцами дымчатую свою бороду, потом опустил руки и а стол и осторожно разгладил морщинку на красном сукне. — Хочу, ребятки, секрет один выдать. Видимо, время пришло. Когда стукнуло мне шестьдесят годов, такая мне мысль в голову запала: «Как же так, годы мои отошли, а самая жизнь в России только начинается!» И даю я себе задание: дожить до конца первой пятилетки. Хорошо. Смотрю, пятилетку в четыре года выполнили. Спасибо, думаю, один год жизни мне подарили. Только жизнь-то в стране куда интересней становится!.. Дал себе второе задание: дожить до конца второй пятилетки… Школьники притихли в ожидании. Совсем по-детски, восторженно смотрела на Боровикова Татьяна Яковлевна. Светло улыбалась Варвара Ивановна. У Шуры Овечкиной был такой вид, словно она сейчас кинется обнимать деда. — Так вот, — досказал свою мысль дед, — даю я теперь новое себе задание: сразу на десяток лет, одним словом, — взмахнул он рукой, — до самого 1950 года… А кто не верит, — под общий смех заключил дед, — того прошу через десять лет в гости на Новые Ключи. …Деда провожали домой шумной толпой. Звездная ночь стояла над рудником. Круглые белые сопки отчетливо виднелись в ясном воздухе. Дед подманил Кешу Евсюкова и ткнул новой своей трубкой в небо: — Это что за звезда? — Большая Медведица, Петр Данилович. — Не Медведица, а Ковш. Эх ты, ученик! Ковш, говорю. Не мое у ковшу чета — небесный. — Он хитро подмигнул. — Как помру, буду на том свете водовозить. Бочку захвачу с собой — она тоже с мое пожила, а ковш уже заготовлен. Спутники Боровикова рассмеялись. На белую бороду деда, на молодые его глаза, на кряжистую его фигуру изливалось сверху звездное сияние. И не о смерти — о жизни думали в это время спутники деда Боровикова.
26. Весна
В апреле с неукротимой яростью, словно нагоняя время, развернула свои силы весна, взламывая льды на Джалинде, очищая Становик, Яблонку и ее отроги от снега, покрывая склоны гор буйной зеленью. Почти весь май стояла дремотная жара. А в середине июня, к концу весенних испытаний, с беспрерывным однообразием пошли невиданные для этого времени года дожди. Лавины воды изо дня в день обрушивались на Новые Ключи. Все двадцать три фоки, окружавшие рудничный поселок, были накрыты низкими тучами. По крутым улочкам поселка стекали к ключу потоки, волоча камни, щепу, листья, ветви подрытых кустарников. Ключ, обычно мирно шумевший меж двух рядов ольшаника, расширил свои владения, и ольшаник оказался посредине бурной воды. Чтобы попасть в школу, ребятам, жившим на левом берегу ключа, надо было обходить весь поселок, подымаясь вверх по течению, или, разувшись, высоко завернув штанишки, итти вброд. Плашкоут, соединявший оба берега Джалинды, сорвало с троса, и Заречье оказалось оторванным от поселка. Вода в реке взбухала, медленно и грозно накапливалась у дамбы. Таких дождей не бывало в Новых Ключах и в окрестностях лет пятьдесят. В классах, где проводились испытания, стоял сумеречный свет; приходилось с утра зажигать электричество, а отвечали школьники под нудную и никому не нужную подсказку дождя, то бормотавшего в отдалении, то приближавшего свой голос к самым стеклам, то сыпавшего частыми горошинами скороговорки в окно. Геннадий Васильевич расхаживал меж парт, заложив руки за спину, и, простреливая и дождь, и тучи, и Джалинду серыми глазками, приговаривал: — Хорошее, братцы, дело! Хорошее, нечего сказать! — Хорошо, что хоть малыши закончили учебу, — отвечала Варвара Ивановна, кутаясь в свою оренбургскую шаль. Кажется, только одна Татьяна Яковлевна не была подвержена действию этих монотонных проливней. Вероятно, потому, что сама Татьяна Яковлевна была переменчива, как погода. — Деточка, — говорила учительница, поднимая сухонькое лицо, — деточка, я тебя слушаю… И здоровенный «деточка» вроде Бориса Зырянова или Вани Гладких пересказывал андерсеновского «Свинопаса», читал наизусть стихи Гейне, спрягал, склонял… Но если «деточка» путался, тогда, по сравнению с суровыми морщинками Татьяны Яковлевны, даже косые морщины дождя казались сияющими и доброжелательными. Правда, этого не было на испытаниях в девятом классе. Класс шел без поражений. В разгар испытаний Захар Астафьев и Толя Чернобородов вывесили на стене школьного зала восьмой номер «Дружбы». Когда они успели его выпустить? Как выкраивали время? В журнале было отражено все, чем жила страна и школа в эту весну:«На фронтах второй мировой войны».
«Переписка со школьниками Луцка».
«Юбилей деда Боровикова».
«О пришкольном учебном участке».
«Лекции Кузьмы Савельевича».
«Новые наглядные пособия для школы».А дожди всё шли. Они обрушивались сплошными потоками, размывая завалины, снося заплоты, образуя на крутых улицах поселка промоины. …Девятому классу предстоял последний экзамен по географии. Большая мальчишечья комната в интернате превратилась в географический музей. Весь земной шар был представлен в картах, развешанных над койками, устилавших тумбочки и даже постели. Печка — и та была прикрыта картой Японии. Возле гигантской темнокоричневой груши Африки Трофим Зубарев разъяснял Зое, как происходил раздел империалистами «черного материка». Возле распластавшейся, подобно крабу, Европы Малыш и Ваня Гладких спорили о причинах разгрома Франции. Зажав руками уши, склонился над учебником Толя Чернобородов. Все это охватил взором Кеша, едва раскрыв дверь комнаты. Юноша тяжело дышал. Непромокаемый плащ, натянутый поверх телогрейки, блестел, вымытый дождем. С капюшона стекала вода. Казалось, что вода лилась из Кешиных глаз, из носа, изо рта. Трофим Зубарев прервал разговор с Зоей и взмахнул указкой в сторону вошедшего. — «Тятя, тятя, наши сети…» — начал он. — Ребята, — нетерпеливо отмахнулся от него Кеша, — ребята, бросайте учебник! Джалинда прорвала дамбу и пошла в разрез… Кеша, Борис, Антон, Малыш, Ванюша Гладких, набросив на себя плащи, куски брезента, а то и просто в телогрейках, бежали во главе интернатцев сквозь дождевые потоки туда, где разбушевалась Джалинда. Вода в ней бешено крутилась и кипела. Рванувшись через дамбу, река вторглась в разрез. Мутные черные потоки стремительно ухватили бутарки, лотки, гребки, черпаки, ведра — весь старательский инструмент, унося все, что могли унести, зарывая в слепой жадности в эфеля и гальку то, что было им не по силам вырвать из разреза. На взгорье ребята увидели Владимирского. Он был без шапки; высокие охотничьи сапоги были забрызганы грязью. Суровое и решительное его лицо было обращено к дамбе. Все собрались здесь: Кухтенков, Брынов, Хромов, дед Боровиков, Назар Ильич, забойщики с горы, обогатители с фабрики, и все смотрели, показывали руками в сторону дамбы. — Слив надо было сделать, — с сожалением оказал кто-то. — Не успели, а теперь поздно — через край хлещет. Владимирский нетерпеливо взглянул в сторону говорившего: все это он уже знал. Дамбу размывало. — Дамбу, дамбу надо заделывать! — решительно произнес Владимирский. — Петр Данилович, наладьте транспорт… Назар Ильич, позаботьтесь насчет инструментов. Через минуту Кухтенков и Хромов спускались вниз к дамбе. Горняки, обогатители, старатели последовали за ними. Достаточно было одного взгляда, чтобы Кеша и Захар поняли друг друга, и еще одного взгляда, чтобы мысли Кеши и Захара передались Зырянову, Трещенко, Ване Гладких, Троше Зубареву, — и школьники присоединились к остальным.

Вода хлестала сверху. Вода была внизу. Вода, бушуя и бесясь, сбивала с ног, сводила руки, леденила тело. Носились туда и сюда таратайки. Дед Боровиков и Назар Ильич нещадно погоняли лошадей. Жены старателей месили башмаками раскисшую почву, перетаскивая на носилках камни, землю, навоз; всем этим заваливали дамбу, укрепляли ее, отстаивая от стихии дождя. — Такая же история, товарищи, была с рекой Хуанхе, — говорил, еле шевеля синими губами, Трофим Зубарев. — Реке надоело старое русло, и она рванулась в сторону. — Малыш, — ехидно заметил Ваня Гладких, выплевывая воду, — сбегай, пожалуйста, в интернат, принеси Троше учебник. Мы будем работать, а он — читать вслух. Но Малыш не отвечал. Он, кажется, и не слышал Ванюшиных слов. Уцепившись руками за камень, стоя на самой вершине дамбы и ежесекундно рискуя быть смытым водой, Тиня Ойкин смотрел в сторону школы. Джалинда была неукротима. Несколько сараев на ее берегу, подмытые водой, опрокинулись набок и превратились в нескладную груду дерева, железа и камня. На крыше боровиковского дома, со всех сторон окруженного водой, сидела, завалившись вещами, Марфа Ионовна. Обеими руками обняла она жалобно блеявшую козу. У погруженного по самые окна дома стояла большая лодка, из которой дед Боровиков и Брынов вели с бабкой переговоры. — Слезь, говорят! — кричал дед. — А то в Амур уплывешь с избой вместе. — Да куда же я, Петр Данилыч, хозяйство свое покину, — причитала старуха. — Слезайте, Марфа Ионовна, — уговаривал Брынов. — Ничего с вашими вещами не будет. Надо вот школу спасать… — Слазь, жена! — рассвирепел дед. — А то развод дам! — Ладно уж, — согласилась Марфа Ионовна, — только и козу забирайте… Без козы не пойду! — Ну уж что с вами делать! — нетерпеливо взмахнул рукой Брынов. — Спускайте свою рогатую. Вода уже снесла заплоты, подобралась к школе и ринулась в первый этаж. — Платон Сергеевич, Андрей Аркадьевич, — распоряжался Владимирский, — тут народу хватит и без вас, идите, пожалуйста, в школу. Кухтенков и Хромов с ребятами бросились к школе. Но они напрасно опасались: школу не забыли. Альбертина Михайловна и Шура Овечкина, по щиколотку в воде, выносили приборы из физического кабинета и экспонаты школьного музея. Подоткнув платье, разъяренная и находчивая, носилась по классам Татьяна Яковлевна, снимая портреты, свертывая дорожки. Геннадий Васильевич и Варвара Ивановна с юными садоводами отстаивали от воды пришкольный участок. Бригаду комсомольцев-школьников возглавила Зоя Вихрева, которая командовала и Митей Владимирским, и Сережей Бурдинским, и Линдой Терновой, и Сеней Мишариным. Встряхивая косичками, она повелительно посылала их то в один, то в другой угол школы. С поселковыми женщинами пришла Клавдия Евсюкова. И Хромов в который раз подивился ловкости этой хрупкой женщины, силе ее маленьких рук и тому, как хорошо она умеет все делать. Они встретились на лестнице. По ней туда и сюда стремительно проносились взрослые и ребята, затаскивая на второй этаж мебель, приборы, книги и спеша обратно. Руки Евсюковой были заняты свертком с картами. — И вы, Клавдия Николаевна! — И я! — в тон ему ответила женщина и с тревогой спросила: — Кешу моего не видали? И Назара? — На дамбе, Клавдия Николаевна… Тяжело там, Джалинда взбесилась: все разносит! Евсюкова мотнула головой, отбрасывая упавшие на лоб волосы: — Отстоят дамбу. А вот вы на вечер выпускной приглашали в пятницу: теперь уж не до него будет. — А ну те-ка, посторонитесь! Тяжело дыша, мокрая, растрепанная, подошла Марфа Ионовна Боровикова. Одной рукой она обняла огромный голубой глобус, в другой за веревку тащила свою козу, казалось вышедшую из морских пучин. — Чуть, милые, от деда не унесло, — сказала Марфа Ионовна. — А стайка какая пропала… Как раз к дедкиному празднику справили!.. Ну, Клавдия, я пойду наперед, а ты Машку мою подгоняй, а то она от воды сдурела. Женщины заторопились. Хромов посмотрел им вслед и подумал: «Как дорога им школа!.. Разве не отстоим? Будет, будет вечер! Как назначили, так и будет!»
Когда Кеша и Захар возвращались с дамбы, школа уже была в безопасности. Измокшие, но радостные подымались друзья по крутой улочке на самое верхотурье Новых Ключей. У дома Евсюковых они, не сговариваясь, обернулись и долго смотрели вниз, в котловину. Весь поселок лежал у ног юношей. Укрощенная Джалинда убирала свои воды с побережья. Кеша и Захар видели, что повреждения, нанесенные вскипевшими водами, исправлены, что опять, подчиненная разуму и воле людей, спешит вода по сплоткам на бутару. Снова готовы были замелькать лопаты и гребки, готов был заблистать драгоценный металл, нужный их стране, их народу… И школа готова была принять их в свои стены… Мокрые, в разбухшей одежде, они обнялись и стояли так, не сводя глаз с поселка. — Итак, весенние испытания мы выдержали, — сказал Кеша и улыбнулся медлительной своей улыбкой. И Захару было понятно, что Кеша имел в виду не только литературу и математику. Ливень прекратился. Тучи над Новыми Ключами разомкнулись, и сквозь черную облачную рвань ринулись к мокрой земле, к сопкам, к соскучившимся по солнцу людям горячие, ослепительные лучи.
27. Всегда вместе!
Прошел еще один год. И вновь наступила весна. Весна 1941 года. И опять по склонам сопок, словно живые существа, поползли лиловые дымки расцветающего багульника. И когда выпускница Зоя Вихрева, стройная девушка, которой только косы, спадавшие опереди на плечи, придавали полудетский вид, — когда Зоя поставила на стол экзаменационной комиссии кувшин с цветами, тогда весна вместе с солнцем вошла в стены школы. Солнце играло в тщательно приглаженных, но таких же огненных вихрах Вани Гладких. Солнечные лучи падали на русую чолку Малыша. Быстрые зайчики пробегали по новому галстуку Трофима Зубарева. Шаловливые блики трепетали на бронзовом лице Иннокентия Евсюкова. Стремительно пролетали последние дни — дни испытаний. Последняя школьная весна!Наступил день выпуска. У дверей учительской Хромов увидел десятиклассников; они громко спорили с дедом Боровиковым. — Петр Данилович, — размахивал молотком Борис Зырянов, — да вы не беспокойтесь, сами все сделаем. — Разве мы маленькие! Нянька, что ли, нам нужна! — тянул недовольно Антон Трещенко. В руках у него была кумачевая лента. — Товарищ Боровиков может безмятежно отдыхать, — говорил Трофим Зубарев: — наш дворец будет прибран, сцена сооружена. Наблюдение за порядком возлагается на специальных дежурных. — У вас же больное сердце, Петр Данилович, — заметил Малыш. — Ну, коли так, — согласился дед, — тогда я пойду маленько отдохну. В учительской царило оживление. Председатель комиссии Геннадий Васильевич заготовлял с директором пригласительные билеты. Учитель математики был неспокоен. — Татьяна Яковлевна, — осведомился он, — вы проверили — наварила Марфа Ионовна бражки? — Ах, Геннадий Васильевич, конечно! Как вы можете сомневаться! Добровольская села на диван между Варварой Ивановной и Альбертиной Михайловной и, застенчиво прикрывая книгой восторженное лицо, прошептала: — Ах, мне кажется, что мне сегодня шестнадцать лет! Я так счастлива… Через секунду она подлетела к Горкину, наклонилась и поцеловала его в лоб: — Ах, Спиренька, деточка! Горкин, немного обескураженный, сконфуженно поглядел на Шуру Овечкину. Девушка добродушно пожала плечами, в черных ее глазах Горкин прочел: «Что поделать, ведь это же Мамочка!» Из-за перегородки, отделяющей учительскую от директорского кабинета, раздался голос Платона Сергеевича: — Варвара Ивановна, Александра Григорьевна! У вас почерки хорошие. Помогите аттестаты писать.
Солнце скрывается за сопками. Огромным костром догорает закат. Стрелки часов в школьном коридоре подходят к восьми. Начинают собираться ребята, родители, рудничные гости. Митя Владимирский приходит в сопровождении отца, Кеша — с Назаром Ильичом и Клавдией Николаевной. Появляются испытанные друзья школы — Семен Степанович, Альбертина Михайловна, Кузьма Савельевич, дед Боровиков. И ребята, и родители, и гости рассматривают развешанные на стенах гостеприимные приглашения, присланные из Москвы, Ленинграда, Томска, Иркутска, Владивостока. Плакаты зовут выпускников в аудитории горных, медицинских, юридических, транспортных, педагогических, текстильных институтов. Десятиклассники толпятся у плакатов, разглядывают картинки, изображающие корпуса заманчиво таинственных вузов, комнаты студенческих общежитий, лаборатории, столовые… Борис Зырянов останавливается сзади девочек, разглядывающих плакат какого-то педагогического института. Борис снисходительно рассматривает картинки: вот вестибюль, вот главный корпус, вот читальный зал, где под абажурами склонились над книгами студенты. — Ну, это не для меня! — вызывающе говорит Борис, уже подавший заявление в военное училище. — Не для тебя, так для нас, — спокойно отвечает Линда. — Эх, Боря, Боря! — говорит Толя Чернобородое. — Разве ты не знаешь, что сказал Маяковский? И, не ожидая ответа, он произносит:
Все работы хороши,
Выбирай на вкус!
Здравствуй, здравствуй, забайкальская весна!
Расцветай, моя родная сторона!

Последние комментарии
5 часов 54 минут назад
11 часов 38 минут назад
12 часов 45 минут назад
13 часов 43 минут назад
13 часов 57 минут назад
23 часов 7 минут назад